Избранные произведения в одном томе [Теодор Драйзер] (fb2) читать онлайн
Книга 522407 устарела и заменена на исправленную
- Избранные произведения в одном томе (пер. Нора Галь, ...) 20.14 Мб скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Теодор Драйзер
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Теодор ДРАЙЗЕР Избранные произведения в одном томе

Теодор Дpaйзер являлся талантливым писателем и активным общественным деятелем. Этот известный американец родился в 1871 г. в Индиане, США. Был девятым ребенком в среднезажиточной семье, отец которой работал в сфере строительства, а мать вела хозяйство. После окончания школы Теодор принял решение продолжить свое обучение в Индианском университете Блумингтона. Но из-за отсутствия возможности оплатить учёбу был вынужден через год его бросить. Работал разнорабочим, клерком, извозчиком при одной из прачечных. С 1892 года Теодор Драйзер занимается журналистской деятельностью, пишет статьи для «Космополитена», «Харперс», «Метрополитена». В 1932 г. кинокомпания «Paramount» заключила с Драйзером контракт о праве на экранизацию его произведения «Дженни Герхардт», а в конце 1944 г. Академия искусств и литературы США наградила автора золотой медалью за выдающиеся достижения в области искусства и литературы. В 1930 г. кандидатура Теодора Драйзера была выдвинута для получения Нобелевской премии в области литературы, но ее получил Синклер Льюис. В 1927 г. Теодор Драйзер посетил по приглашению СССР. Он побывал во многих городах Российской, Украинской и Грузинской ССР, увиделся с огромным количеством известных личностей. В 1938 г. был инициатором поставок продовольствия в Испанию американским правительством, а с 1945 г. являлся членом Коммунистической партии США. В этом же году Теодор Драйзер скончался в Лос-Анджелесском пригороде в 75-ти летнем возрасте.

СЕСТРА КЕРРИ (роман)
Юная девушка приезжает из маленькой деревни в Чикаго, чтобы начать самостоятельную трудовую жизнь, но все пойдет наперекосяк еще в самом начале…
Глава 1
Притягательная сила магнита.
Во власти стихий
Когда Каролина Мибер садилась в поезд, уходивший днем в Чикаго, все ее имущество заключалось в маленьком сундучке, дешевеньком чемодане из поддельной крокодиловой кожи, коробочке с завтраком и желтом кожаном кошельке, где лежали железнодорожный билет, клочок бумаги с адресом сестры, жившей на Ван-Бьюрен-стрит, и четыре доллара. Это было в 1889 году. Каролине только что исполнилось восемнадцать лет. Девушка она была смышленая, но застенчивая, преисполненная иллюзий, свойственных неведению и молодости. Если, расставаясь с родными, она о чем-нибудь и жалела, то уж во всяком случае не о преимуществах той жизни, от которой она теперь отказывалась. Слезы брызнули у нее из глаз, когда мать в последний раз поцеловала ее, в горле защекотало, когда поезд прогрохотал мимо мельницы, где поденно работал отец, глубокий вздох вырвался из груди, когда промелькнули знакомые зеленые окрестности города и навек были порваны узы, которые не слишком крепко привязывали ее к родному дому. Конечно, она могла сойти на ближайшей станции и вернуться домой. Впереди лежал большой город, который связан со всей страной ежедневно прибывающими туда поездами. И не так уж далеко находится городок Колумбия-сити, чтобы нельзя было поехать в родные края даже из Чикаго. Что значит несколько сот миль или несколько часов? Каролина взглянула на бумажку с адресом сестры и невольно задумалась. Она долго следила глазами за зеленым ландшафтом, быстро мелькавшим перед нею; потом первые дорожные впечатления отошли на задний план, и мысли девушки, обгоняя поезд, перенесли ее в незнакомый город, она пыталась представить — какой он, Чикаго? Когда девушка восемнадцати лет покидает родной кров, то она либо попадает в хорошие руки и тогда становится лучше, либо быстро усваивает столичные взгляды на вопросы морали, и становится хуже. Середины здесь быть не может. Большой город с помощью своих коварных ухищрений обольщает не хуже иных соблазнителей, самый опытный из которых микроскопически мал по сравнению с этим гигантом и принесет человеку гораздо меньше разочарований. В городе действуют могучие силы, которые обладают такими способами проникнуть в душу своей жертвы, какие доступны лишь умному и тонкому человеку. Мерцание тысяч огней действует не менее сильно, чем выразительный блеск влюбленных глаз. Моральному распаду бесхитростной, наивной души способствуют главным образом силы, неподвластные человеку. Море оглушающих звуков, бурное кипение жизни, гигантское скопление человеческих ульев — все это смутно влечет к себе ошеломленные чувства. Какой только лжи не нашепчет город на ушко неискушенному существу, если не случится рядом советчика, который сумеет вовремя предостеречь. И ложь эта, пока не раскрытая, обольстительна, — зачастую она незаметно, как музыка, сначала размягчает, потом делает слабым, потом развращает неокрепшее человеческое сознание. Каролина, или сестра Керри, как ее с оттенком ласковости называли в семье, обладала умом, в котором были еще совершенно не развиты способности к наблюдениям и анализу. Она была поглощена собой, и этот эгоизм, хотя и не слишком явный, был тем не менее основной чертой ее характера. Она была мила пресноватой миловидностью переходного возраста, сложение ее обещало в будущем приятную округлость форм, а глаза светились природной сметливостью, к тому же она была полна пылких мечтаний юности, — словом, перед нами прекрасный образец американки среднего класса, которую лишь два поколения отделяют от прадедов — эмигрантов из Европы. Чтение ничуть не увлекало Керри — мир знаний был для нее за семью замками. Она пока совсем еще не знала, что такое интуитивное кокетство. Она не умела игриво откидывать назад головку, часто не знала, куда девать руки, и хоть ножки у нее были маленькие, ступала она тяжело. Однако ей хотелось пленять, она быстро усваивала, в чем заключаются радости жизни, и стремилась к материальным благам. Сестра Керри была плохо вооруженным маленьким рыцарем, который отважно ринулся на огромный, загадочный город, чтобы попытать счастья, лелея безумную мечту о неясной, далекой победе, когда этот город — добыча и раб завоевателя — будет лежать распростертый под женской туфелькой. — Это, — проговорил над ее ухом чей-то голос, — один из красивейших маленьких курортов штата Висконсин. — Вот как? — чуть нервно отозвалась Керри. Поезд уже миновал станцию Вокиша. Керри еще раньше заметила, что позади сидит какой-то мужчина, и чувствовала, что он смотрит на ее пышные волосы. Он не мог спокойно сидеть на месте, и Керри инстинктивно догадывалась, что она вызывает в нем интерес. Девичья скромность и чувство приличия подсказывали ей, что нельзя допускать с его стороны ни малейшей фамильярности и следует держать его на расстоянии, но смелость и притягательная сила ее соседа, выработанные богатым опытом и прошлыми успехами, взяли верх, и Керри откликнулась. Слегка наклонившись вперед, он положил локти на спинку ее сиденья и заговорил, желая показать себя приятным спутником: — Да, прекрасный уголок, отличные отели. Здесь отдыхают чикагцы. Вы, по-видимому, не знакомы с этими местами? — Нет, знакома, — ответила Керри. — Вернее, я живу в Колумбия-сити, а здесь мне еще не приходилось бывать. — Итак, это ваша первая поездка в Чикаго, — заметил он. Во время этого разговора Керри видела своего собеседника лишь краешком глаза. Яркие, румяные щеки, светлые усы, на голове серая фетровая шляпа. Теперь она повернулась и посмотрела ему прямо в лицо; кокетливость боролась в ней сейчас с инстинктом самозащиты. — Я не говорила вам, что это моя первая поездка, — сказала Керри. — О! — приятно улыбнулся он, как бы изумляясь своей ошибке. — Очевидно, я ослышался. Это был типичный коммивояжер крупного торгового дома, принадлежавший к категории людей, которых на жаргоне того времени называли «барабанщиками». К нему вполне подходило также и более позднее название, широко распространившееся в Америке восьмидесятых годов и определявшее людей, одежда и манеры которых рассчитаны на то, чтобы вызывать восхищение впечатлительных молодых женщин. Таких называли «мастак». Его коричневый шерстяной костюм в клетку был в то время еще новинкой, — потом он стал обычным костюмом делового человека. В глубоком вырезе жилета видна была накрахмаленная грудь сорочки в белую и розовую полоску. Из рукавов пиджака выглядывали полотняные манжеты в такую же полоску, застегнутые крупными позолоченными запонками с обыкновенными желтыми агатами, известными под названием «кошачий глаз». На пальцах блестело несколько колец (среди них, конечно, неизменный перстень с печаткой), из карманчика жилета свисала золотая цепочка от часов, на которой болтался жетон тайного ордена Лосей. Костюм сидел почти в обтяжку. Наряд дополняли ярко начищенные коричневые ботинки на толстой подошве и мягкая серая шляпа. Человеку, стоящему на уровне развития Керри, незнакомец мог показаться интересным, и ей достаточно было одного беглого взгляда, чтобы заметить все, что говорило в его пользу. На случай, если люди подобного типа переведутся на земле, я позволю себе обрисовать здесь те приемы и уловки, к которым они прибегали не без успеха. Хорошее платье являлось, разумеется, главным козырем коммивояжера, без него он — ничто. Затем он должен был обладать физически крепкой натурой, главная особенность которой — острое влечение к женщине. И разумом, которому чужды какие-либо размышления о проблемах и силах, управляющих миром; поступками же его руководили не алчность, а ненасытная любовь к разнообразным удовольствиям. Его приемы обычно были очень просты. Прежде всего — смелость, основанная, конечно, на сильном чувственном желании и восхищении прекрасным полом. При встрече с молодой женщиной он начинал ухаживать за нею с добродушной фамильярностью, не лишенной, однако, оттенка мольбы, и в большинстве случаев его ухаживания принимались снисходительно. Если женщина обнаруживала склонность к кокетству, он позволял себе поправить на ней бантик, а заметив, что «клюнуло», тотчас начинал называть ее просто по имени. Зайдя, к примеру, в универсальный магазин, коммивояжер непринужденно облокачивался на прилавок и задавал продавщице несколько наводящих вопросов. В более изысканных кругах, а также в поезде или в зале ожидания он вел себя осторожнее. Но как только на его горизонте появлялся податливый, по его мнению, объект, он становился воплощенным вниманием и любезностью, заводил речь о погоде, галантно открывал дверь вагона, помогал нести чемодан, если же это не удавалось, старался сесть рядом, надеясь до прибытия поезда к месту назначения найти возможность поухаживать. Положить под голову подушечку, предложить книгу, скамеечку под ноги, опустить штору — он успевал подумать обо всем. И, доехав до места, он лишь в том случае не сходил вслед за спутницей, чтобы принять на себя заботу о ее багаже, если считал дело безнадежным. Кому-нибудь из женщин следовало бы написать философский трактат об одежде. Как бы женщина ни была молода, она знает толк в платье. Оценивая мужской костюм, женщина проводит при этом некую едва заметную грань, которая позволяет ей делить мужчин на стоящих и не стоящих ее внимания. Индивидуум, опустившийся ниже этой грани, уже никогда не удостоится ее взгляда. Есть и другая грань, которая заставляет женщину сравнивать одежду мужчины со своей. И к такому сравнению невольно побудил Керри ее сосед. Она внезапно поняла, как они неравны. Ее простое синее платьице с отделкой из черной бумажной тесьмы показалось ей жалким… Она вдруг увидела, как поношенны ее ботинки. — Позвольте, — продолжал ее спутник, — ведь я как будто многих знаю в вашем городке! Хотя бы Моргенрота — магазин готового платья, Гибсона — мануфактурный магазин… — В самом деле? — перебила Керри и сразу взволновалась, вспомнив, сколько томительных минут она пережила, простаивая перед витринами этих магазинов. А он почувствовал, что нашел наконец ключ к ее вниманию. Через несколько минут он уже подсел к ней и принялся рассказывать о заключенных им сделках по продаже готового платья, о своих странствованиях, о Чикаго и городских развлечениях. — Вы получите массу удовольствий, раз вы едете в Чикаго. У вас там есть родные? — Я еду навестить сестру, — ответила Керри. — Вы непременно должны осмотреть Линкольн-парк и бульвар Мичиган, — сказал он. — Вот где строятся гигантские здания! Это в полном смысле слова второй Нью-Йорк. Изумительный город! Там есть на что посмотреть! Театры, огромные толпы народа, красивые дома. О, вам там очень понравится! Стараясь представить себе все, что он описывал, Керри вдруг ощутила глухую тоску. Она казалась себе таким ничтожеством по сравнению со всем этим великолепием, и ей стало не по себе. Она прекрасно понимала, что ее ждут не одни удовольствия, однако было что-то обещающее во всем том, о чем ей рассказывал ее спутник. Ей было приятно внимание этого хорошо одетого человека. Она не могла сдержать улыбки, когда он, заговорив об одной известной актрисе, сказал, что Керри напоминает ее. Девушка отнюдь не была глупа, и все же ей это польстило. — Вы ведь побудете немного в Чикаго? — спросил он в ходе беседы, теперь уже совсем непринужденной. — Право, не знаю, — уклончиво сказала Керри: у нее мелькнула мысль, что она может не найти там работы. — Но уж несколько недель, во всяком случае, поживете? — спросил он, пристально глядя ей в глаза. То, что между ними происходило, было гораздо значительнее произнесенных слов. Он угадал в этой девушке какую-то неуловимую прелесть, заменявшую ей броскую красоту. Керри поняла, что интересна для него лишь с вполне определенной точки зрения, — это обычно пугает женщину и вместе с тем тайно радует. Она держалась очень просто, хотя бы потому, что еще не успела научиться легкому жеманству, которое помогает женщинам скрывать свои истинные чувства. Кое в чем ее поведение могло показаться смелым. Будь у нее, например, умный и опытный друг, он объяснил бы ей, что не следует так упорно смотреть мужчине в глаза. — Почему это вас интересует? — спросила она. — Да просто потому, что я сам пробуду в Чикаго несколько недель. Мне нужно хорошенько ознакомиться с товарами нашей фирмы и запастись новыми образцами. Тем временем я бы показал вам город. — Я не знаю, сможете ли вы… То есть, вернее, не знаю, смогу ли я. Ведь я буду жить у сестры, и… — Ну что ж, если она будет против, мы как-нибудь это уладим. Он достал из кармана маленькую записную книжку и карандаш, точно они уже обо всем договорились. — Какой же ваш адрес? Керри порылась в кошельке, где хранилась бумажка с адресом сестры. Ее спутник засунул руку в задний карман брюк и достал толстенный бумажник с пачкой зеленых ассигнаций и уймой различных записочек и квитанций. Бумажник произвел на Керри большое впечатление: такого не было ни у кого из ее знакомых. Да и вообще никогда еще она не встречала столь опытного путешественника и столь светского щеголя. Бумажник, блестящие коричневые ботинки, изящный, с иголочки, костюм, уверенность в каждом жесте и каждом слове — все это рисовало ее воображению мир несметных богатств, окружавших этого человека. И потому она готова была отнестись благосклонно ко всему, что бы он ни предложил. Он вынул из бумажника красивую визитную карточку своей фирмы с литографированной надписью: «Бартлет, Карио и К°», внизу в левом уголке было добавлено: «Чарльз Друэ». — Вот это я, — сказал он, подавая карточку Керри и указывая на фамилию внизу. — Произносится «Друэ», по отцу я француз. Пока Друэ прятал бумажник, Керри рассматривала карточку. Затем он достал из внутреннего кармана пиджака пачку писем, взял одно из них и, указывая ей на красовавшийся сбоку рисунок, сказал: — Это дом, где помещается наша фирма. На углу Стэйт и Лейк-стрит. Он произнес это с гордостью. Служба в такой фирме что-нибудь да значит, и ему хотелось, чтобы девушка это почувствовала. — Итак, ваш адрес? — снова спросил он и приготовился записывать. — Керри Мибер, — медленно сказала она. — Ван-Бьюрен-стрит на Западной стороне, дом триста пятьдесят четыре, квартира Гансона. Друэ аккуратно записал адрес, снова вынул бумажник и спрятал туда записную книжку. — Если я загляну к вам в понедельник вечером, я вас застану дома? — спросил он. — Думаю, что застанете, — ответила Керри. Как это верно, что слова — лишь бледные тени того множества мыслей и ощущений, что стоит за ними! Слова — это крохотные слышимые звенья звуков, но связывают они большие чувства и стремления — то, что нельзя услышать. Здесь, в вагоне, эти двое перекидывались незначительными фразами, доставали кошелек или бумажник, разглядывали визитную карточку, и каждый не сознавал, как неясны еще его истинные чувства для другого. Ни у него, ни у нее не хватало проницательности, чтобы угадать, что сейчас на уме у собеседника. Он еще не был уверен, удалось ли ему завлечь девушку. Она не понимала, что поддается ему, пока он не заручился ее адресом. И только тогда она почувствовала, что в чем-то ему уступила, а он убедился, что одержал победу. И уже оба поняли, что как-то связаны. И уже он овладел разговором, направляя его так, как ему хотелось. Он болтал с полной непринужденностью. А она стала держаться гораздо свободнее. Они приближались к Чикаго. Замелькали сигнальные огни. Мимо пролетали встречные поезда. Из беспредельных просторов ровных и голых прерий к большому городу шагали по полям шеренги телеграфных столбов. Вдали уже вставали очертания предместий, высоко к небу вздымались фабричные трубы. Часто стали попадаться двухэтажные деревянные строения, одиноко стоящие в открытом поле, не защищенные ни оградой, ни деревьями, словно дозорные надвигающейся армии домов. Ребенку, человеку, одаренному воображением, и тому, кто никогда не путешествовал, момент приближения к большому городу всегда сулит чудеса. Особенно, если это происходит вечером, в тот таинственный час борьбы света с мраком, когда весь живой мир переходит из одного состояния в другое. О, эти обещания надвигающейся ночи! Как много говорит ночь усталому человеку! Сколько былых иллюзий и надежд возрождает она! Душа утомленного труженика говорит: «Скоро я буду свободна! Я примкну к сонмам веселящихся и буду веселиться вместе с ними. Улицы, фонари, ярко освещенные комнаты, где накрыты обеденные столы, — все это для меня! Театры, залы, собрания… пути, что ведут к отдыху, и тропинки, что ведут к веселым песням, — все это с наступлением ночи мое!» Хотя весь род людской еще работает в конторах и на заводах, — трепет предвкушения уже наполняет воздух. Самые апатичные люди, и те испытывают чувство, которое не всегда можно описать или выразить словами, — точно с плеч вдруг свалилось тяжелое бремя. Сестра Керри глядела в окно. Любопытство девушки, словно прилипчивая болезнь, передалось ее спутнику, и он сам по-новому стал смотреть на большой город, рассказывая ей о его чудесах. — Это северо-западная часть Чикаго, — сказал Друэ. — А вот река Чикаго, — добавил он, указывая на мутную реку, где, упираясь носами в усаженные черными столбиками гранитные берега, теснились трехмачтовые гиганты, пришельцы из далеких вод. Свист вырывающегося пара, стук, лязг — и река осталась позади. — Чикаго становится великим городом, — продолжал Друэ, — удивительным городом! Вы найдете там много такого, на что стоит посмотреть. Керри почти не слушала его. Ее вдруг охватил невольный страх при мысли, что она совсем одна, вдали от родного дома, и ее несет прямо в огромное море жизни и дерзаний. Она почувствовала, что ей не хватает воздуха, — сильное сердцебиение вызывало легкую тошноту. Она прикрыла глаза и стала убеждать себя, что все это пустяки, что Колумбия-сити не так уж далеко от Чикаго. — Чикаго! Чикаго! — прокричал проводник, шумно открывая дверь. Поезд врезался в густую сеть рельсов; грохот и гул наполнили воздух. Керри схватила в одну руку свой жалкий чемоданчик, а в другой крепко зажала кошелек. Друэ тоже встал. Привычным движением ног расправив брюки, он взял свой чистенький желтый чемодан. — Вероятно, ваши родные встретят вас? — спросил он. — Разрешите мне донести ваш чемодан. — О нет, не надо! — быстро ответила Керри. — Пожалуйста, не надо! И прошу вас, не стойте рядом, когда подойдет моя сестра. — Хорошо, — нисколько не обижаясь, отозвался он. — Но на всякий случай я буду поблизости, и если вашей сестры на вокзале не окажется, я вас доставлю к ней. — Вы очень добры, — поблагодарила его Керри, чувствуя, как в столь непривычной для нее обстановке ценно подобное внимание. — Чикаго! — снова протяжно прокричал проводник. Медленно продвигаясь вперед, поезд вошел под огромный сумрачный свод вокзала, где только что начали зажигаться огни. Все пассажиры были уже на ногах и толпились у выхода. — Ну, вот мы и приехали, — сказал Друэ, направляясь к двери. — До свиданья, до понедельника. — До свиданья! — ответила Керри и пожала его протянутую руку. — Помните, я не выпущу вас из виду, пока вы не найдете сестру! Она улыбнулась, глядя ему в глаза. Пассажиры один за другим стали покидать вагон. Друэ сделал вид, будто не обращает на Керри внимания. На перроне какая-то невзрачная женщина с изможденным лицом узнала Керри и поспешила к ней навстречу. — А, здравствуй, Керри! — сказала она и небрежно обняла сестру. Керри почувствовала, как мгновенно исчезла атмосфера ласкового внимания. Среди суматохи, шума и новизны она ощутила холодное прикосновение действительности. Какой уж там мир яркого света и веселья! Какой уж там вихрь развлечений и удовольствий! На лице сестры была написана вся история ее тяжелой жизни, полной забот и труда. — Ну, как поживают все наши? — спросила она. — Как отец, как мама? Керри отвечала на вопросы, но глаза ее были устремлены вдаль. В конце перрона, у прохода, который вел в зал ожидания и на улицу, стоял Друэ. Он тоже оглянулся. Убедившись, что она видит его и что она находится под охраной сестры, он слегка улыбнулся ей и двинулся дальше. Одна только Керри заметила это. И тут при виде его удаляющейся фигуры ее охватило такое чувство, словно она чего-то лишилась. Когда же он совсем скрылся из виду, она поняла, что ей недостает его. Она чувствовала себя куда более одинокой в обществе сестры, — и теперь она одна, совсем одна среди бурного, равнодушного моря.Глава 2
Чем грозит нищета.
Гранит и бронза
Квартирка Минни была расположена в третьем этаже дома на Ван-Бьюрен-стрит, где ютятся семьи рабочих и конторских служащих, людей, прибывших и продолжавших прибывать в Чикаго с тем потоком, который ежегодно увеличивал население города на пятьдесят тысяч человек. Две комнаты выходили окнами на улицу, где по вечерам ярко горели витрины гастрономических магазинов и на тротуаре играли дети. Девушке было внове и понравилось треньканье звонков конки, то приближавшееся, то замиравшее вдали. Когда Минни привела сестру в отведенную ей комнатку, Керри подошла к окну и стала смотреть на освещенную улицу, дивясь звукам, движению и рокоту необъятного города, простиравшегося на многие мили во всех направлениях. Дома, после первых же приветствий, миссис Гансон дала Керри нянчить ребенка, а сама принялась готовить ужин. Мистер Гансон, задав Керри несколько вопросов, углубился в чтение вечерней газеты. Это был молчаливый человек, швед по отцу, родившийся в Америке; сейчас он работал на бойне уборщиком вагонов-ледников. К приезду свояченицы он отнесся равнодушно. Внешность девушки не произвела на него особого впечатления. Его интересовало лишь одно — найдет ли Керри работу в Чикаго. — Город велик, — заметил он. — Через несколько дней ты где-нибудь пристроишься. Рано или поздно все пристраиваются. Еще до ее приезда в семье Гансонов молчаливо подразумевалось, что Керри поступит на работу и будет платить за свое содержание. Гансон был по натуре человеком высокопорядочным и бережливым; уже несколько месяцев подряд он выплачивал взносы за два участка земли, купленные далеко, в западной части города. Он мечтал когда-нибудь построить на этой земле дом. Пока шли приготовления к ужину, Керри успела осмотреть квартиру сестры. Девушка не лишена была наблюдательности и вдобавок обладала ценным даром, присущим каждой женщине, — интуицией. Она угадывала, что здесь живут скудной, однообразной жизнью. Стены были оклеены безвкусными обоями. Полы устланы дешевыми дорожками, а в гостиной лежал тонкий лоскутный коврик. И сразу бросалось в глаза, что мебель грубая, кое-как сколоченная, купленная, очевидно, в рассрочку. С ребенком на руках Керри прошла на кухню к Минни и посидела там, пока он не разревелся. Тогда она встала и, что-то напевая, принялась ходить с ним по комнате. Наконец Гансон, которому ее пение мешало читать, пришел и взял у нее малютку. В этом сказалась хорошая черта его характера: он был терпелив. К тому же сразу видно было, что он обожает свое чадо. — Ну, ну! — говорил он, шагая с ребенком по комнате. — Полно, тише! — И в его произношении ясно слышался шведский акцент. — Ты, наверное, захочешь прежде всего посмотреть город, — сказала во время ужина Минни. — Вот мы в воскресенье поедем и покажем тебе Линкольн-парк. Керри заметила, что Гансон ничего на это не ответил. Его мысли, по-видимому, были заняты чем-то другим. — Я завтра же пойду искать работу, — сказала Керри. — Где находится торговая часть города? Минни принялась было растолковывать, как туда попасть, но муж решил объяснения взять на себя. — Вот, — начал он, указывая рукою, — видите, там восток… И Гансон произнес речь на тему о расположении Чикаго — такую пространную, какой, наверно, еще ни разу в жизни не произносил. — Мой совет — побывать на больших фабриках, что на Франклин-стрит и по ту сторону реки, — сказал он в заключение. — Там много девушек работает. И домой добираться легко. Это неподалеку. Керри кивнула в знак согласия и стала расспрашивать сестру о районе, где они живут. Минни отвечала вполголоса, сообщая то немногое, что знала сама. Гансон все еще возился с ребенком, потом вдруг встал и передал его жене. — Мне завтра рано вставать, я пойду лягу, — сказал он и скрылся в маленькой темной спальне, по другую сторону коридора. — Он работает далеко, на бойне, и ему приходится вставать в половине шестого, — пояснила Минни. — Когда же ты встаешь, чтобы успеть приготовить завтрак? — спросила Керри. — Примерно без двадцати пять. Домашнюю работу они закончили вместе. Керри вымыла посуду, а Минни тем временем раздела и уложила ребенка. Во всем, что она ни делала, чувствовалась привычная сноровка, и Керри подумала, что вот так сестра трудится с утра до вечера каждый день. Керри начала понимать, что ей придется отказаться от всякого общения с Друэ. О том, чтобы он приходил сюда, не могло быть и речи. По поведению Гансона, по покорному виду Минни и вообще по атмосфере в доме сестры она чувствовала, что все, выходящее за рамки монотонной жизни труженика, встретит решительный отпор. Если Гансон каждый вечер сидит с газетой в гостиной и ложится спать в девять часов, а Минни чуть позднее, то что же остается делать ей? Разумеется, сперва нужно найти работу, чтобы самой содержать себя, а потом уже думать о знакомствах. Безобидный флирт с Друэ казался, ей теперь чем-то из ряда вон выходящим. «Нет, он не может приходить сюда», — мысленно решила Керри. Она попросила у сестры бумаги и чернил (и то и другое оказалось в столовой на камине) и, когда та ушла к себе спать, достала визитную карточку Друэ с его адресом и написала:«Я не могу принять Вас здесь. Подождите, пока я снова не дам о себе знать. У моей сестры слишком уж крохотная квартирка».Керри задумалась, что бы еще приписать. Ей хотелось как-нибудь упомянуть об их совместном пребывании в поезде, но застенчивость удерживала ее. Она ограничилась лишь неловкой благодарностью Друэ за внимание, а потом снова стала ломать голову над тем, как же ей подписаться. Наконец она решила закончить письмо обычным «с почтением», но в последний миг передумала и заменила на «искренне преданная Вам». Керри запечатала конверт, надписала адрес, прошла в комнатку, где в нише стояла ее кровать, и, придвинув маленькую качалку к открытому окну, присела, в немом восторге вглядываясь в вечерние улицы. Наконец, устав от дум, вялая и сонная, она разделась, аккуратно сложила одежду и легла в постель. Когда Керри утром проснулась, было уже восемь часов и Гансон давно ушел на работу. Сестра сидела в столовой, которая служила и гостиной, и шила. Керри оделась, сама приготовила себе завтрак, потом посоветовалась с Минни, куда идти искать работу. Как сильно изменилась Минни с тех пор, как Керри видела ее в последний раз! Теперь это была худая, хотя и крепкая женщина двадцати семи лет. Ее представления о жизни всецело отражали взгляды мужа, а ее косные понятия о развлечениях и о долге свидетельствовали о кругозоре еще более узком, чем в юности. Минни пригласила к себе сестру вовсе не потому, что тосковала по ней, — просто та была недовольна своей жизнью у родителей, а здесь она, наверное, сумеет найти работу и сможет платить ей за комнату и стол. Минни, пожалуй, была и рада видеть Керри, но относительно работы полностью придерживалась взглядов мужа. Всякая работа хороша, если за нее будут платить, — для начала хотя бы пять долларов в неделю. Фабрика — вот удел, самой судьбою предназначенный для начинающей. Она найдет работу в одной из огромных чикагских мастерских и будет довольствоваться этим, пока… пока что-нибудь не произойдет. Что именно может произойти, этого, конечно, ни одна из них не знала. Они не рассчитывали на повышение. Они не связывали каких-либо надежд с мыслью о браке. Просто жизнь будет идти своим чередом — неясно, впрочем, как именно, — пока поворот к лучшему не вознаградит Керри за то, что она приехала трудиться в этом городе. Вот при каких благоприятствующих обстоятельствах Керри вышла в это утро на поиски работы. Прежде чем последовать за нею, давайте ознакомимся с той обстановкой, в которой будет протекать в дальнейшем ее жизнь. В 1889 году Чикаго отличался всеми особенностями быстро растущего города, в котором отважные паломники, в том числе и молодые девушки, вполне могли рассчитывать на удачу. Он завоевал громкую славу своими многочисленными и неуклонно развивающимися коммерческими предприятиями, открывавшими перед людьми широкие возможности. Он стал магнитом, притягивавшим к себе со всех концов страны и тех, кто был полон надежд, и тех, кто успел потерять их; тех, кому еще предстояло сделать карьеру, и тех, кто уже потерпел крушение где-нибудь в другом месте. Это был большой город с населением свыше полумиллиона, но его честолюбия, дерзновения и кипучей деятельности хватило бы на столицу с миллионом жителей. Уже теперь его улицы и дома были разбросаны на площади в семьдесят пять квадратных миль. Его население было занято не столько давно известными отраслями производства, сколько деятельностью, подготовлявшей приток новых людских масс. Повсюду раздавался стук молотков на лесах воздвигаемых зданий. То и дело возникали огромные новые заводы. Мощные железнодорожные концерны, давно уже предугадавшие большую будущность города, захватили обширные участки земли для организации в нем транспорта и погрузочных станций. Трамвайные линии уходили далеко в открытую прерию — это было сделано в расчете на быстрый рост предместий. Городское самоуправление вымостило камнем многие мили дорог и проложило канализационные трубы в таких местах, где пока что стоял всего один какой-нибудь дом — форпост будущих людных кварталов. Нередко можно было видеть открытые дождям и бурям пустыри, которые, однако, всю ночь освещались длинными мигающими рядами газовых фонарей, которые раскачивались на ветру. Узкие деревянные мостки тянулись, минуя здесь дом, там лавку, и кончались далеко в открытом поле. Центр города был районом огромного скопления торговых контор и фабрик. Сюда обычно и направлялся прежде всего неопытный искатель заработка. Особенностью тогдашнего Чикаго (свойственной далеко не всем большим городам) было то, что все сколько-нибудь заметные фирмы занимали отдельные здания. Обилие свободной земли вполне позволяло это, и потому большинство оптовых фирм, чьи конторы, доступные взорам улицы, помещались в первом этаже, выглядели весьма внушительно. Огромные зеркальные окна, ставшие сейчас обычным явлением, тогда только входили в моду и придавали конторам, расположенным в нижних этажах, изысканный и богатый вид. Прохожий мог видеть за этими окнами ряды перегородок из полированного дерева и матового стекла, множество служащих, углубленных в свою работу, и степенных дельцов в «шикарных» костюмах и белоснежных рубашках, расхаживающих по залам или же сидящих группами. Ярко начищенные бронзовые или никелированные дощечки у подъездов, отделанных квадратными глыбами тесаного камня, сжато и понятно возвещали название предприятия и характер его деятельности. Шагающим по центру города казалось, что они находятся в столице, — такой внушительный у него был вид, рассчитанный на то, чтобы ошеломить простого смертного, вселить в него благоговейный страх и показать всю глубину пропасти, лежащей между бедностью и преуспеванием. В этот солидный торговый район и отправилась робкая Керри. Она шла по Ван-Бьюрен-стрит, в восточном направлении, проходя кварталы, которые с каждым ее шагом постепенно теряли свое великолепие, сменяясь бесконечными рядами амбаров и угольных складов, обрывавшихся у реки. Керри храбро шла вперед, подгоняемая искренним желанием поскорее найти работу, но почти на каждом шагу задерживалась, любуясь развертывавшейся перед ней панорамой и чувствуя свою беспомощность среди столь явных признаков загадочного для нее могущества и силы. Что это за огромные здания? Эти диковинные предприятия — чем там занимаются, что на них производят? Она могла понять, для чего существует маленькая мастерская каменотеса в Колумбия-сити, обрабатывающего небольшие куски мрамора по заказу своих клиентов, но необозримые дворы крупной фирмы по поставке декоративного строительного камня, с множеством рельсов, по которым катились грузовые платформы, с доками со стороны реки и высокими громыхающими подъемными кранами над головой, — все это показалось ей непостижимым, ибо не вмещалось в ее узком мирке. С тем же чувством она смотрела и на бесконечные железнодорожные депо, и сгрудившиеся на реке суда, и огромные фабрики, раскинувшиеся на другом берегу. Через открытые окна она могла разглядеть деловито снующие фигуры мужчин и женщин в фартуках. Длинные улицы были для нее двумя рядами тайн, отгороженных стенами, а обширные конторы — загадочными лабиринтами, где сидят неприступные важные господа. Ей казалось, что люди, имеющие отношение к этим конторам, только и делают, что считают деньги, прекрасно одеваются и разъезжают в экипажах. Чем они торгуют, над чем трудятся, ради какой цели, — об этом она имела весьма смутное представление. Все было для нее так диковинно, необъятно, недоступно! Керри пала духом, и сердце ее сжалось при мысли, что ей придется войти в одно из этих великолепных зданий и попросить какой-нибудь работы, что-нибудь такое, что она сумела бы делать, — все равно что.
Глава 3
Мы испытываем судьбу.
Четыре с половиной доллара в неделю
За рекою, попав в район оптовых фирм, Керри стала осматриваться, решая, в какую бы дверь войти. Разглядывая большие окна и внушительные вывески, она заметила, что на нее обращают внимание, и поняла почему: все догадывались, что она ищет работу! Никогда еще ей не случалось заниматься этим, и мужество покинуло ее окончательно. Чтобы подавить безотчетный стыд от сознания, что все видят, как она бродит в поисках места, Керри зашагала быстрее и постаралась придать своему лицу равнодушное выражение, присущее, как ей казалось, людям, которые спешат по делу. Так она прошла мимо многих фабрик и торговых фирм, не заглянув ни в одну. Наконец, миновав несколько кварталов, она поняла, что таким способом ничего не найдет, и, не замедляя шага, снова стала приглядываться к дверям. Вскоре огромная дверь почему-то привлекла ее внимание. На ней красовалась медная дощечка; видимо, это был вход в громадный шести— или семиэтажный улей. «Возможно, здесь требуются работницы», — подумала Керри. Она перешла улицу и направилась к дверям. Приближаясь к желанной цели, она увидела в окне молодого человека в сером клетчатом костюме. Разумеется, она не знала, имеет ли этот человек какое-либо отношение к данному предприятию, но так как он случайно бросил взгляд в ее сторону, Керри не выдержала и, застыдившись, поспешно прошла мимо. На противоположной стороне улицы высилось шестиэтажное здание с вывеской «Сторм и Кинг». При виде его у Керри зародилась надежда. Это была фирма оптовой продажи мануфактуры, где работали также и женщины. Их фигуры мелькали в окнах верхних этажей. Керри решила во что бы то ни стало войти, Она пересекла улицу и направилась прямо к подъезду. Но как раз в эту минуту оттуда вышли двое мужчин и остановились в дверях. Рассыльный телеграфной конторы в синей форме проскользнул мимо Керри, взбежал по ступенькам и скрылся внутри. Несколько человек из наводнявшей тротуары суетливой толпы обошли девушку. Она стояла, беспомощно оглядываясь, потом вдруг заметила, что за ней наблюдают, и постыдно отступила. Задача оказалась слишком трудной. Она не сумела пересилить себя и пройти мимо стоявших у подъезда людей. Эта тяжелая неудача расстроила Керри. Ноги машинально несли ее вперед, и каждый шаг был новым отступлением, на которое она решилась почти с радостью. Квартал за кварталом оставался позади. На фонарях у перекрестков она читала названия улиц: Медисон, Монро, Ла-Саль, Кларк, Дирборн, Стэйт, — и все шла вперед, и ноги ее уже начали уставать от ходьбы по крупным каменным плитам тротуара. Все же ей было приятно, что город такой яркий и чистый. Утреннее солнце с каждым часом припекало все жарче, но теневая сторона улицы дышала приятной прохладой. Девушка посмотрела на голубое небо над головой и как-то особенно глубоко осознала его прелесть. Керри начала приходить в отчаяние от своей трусости. Повернув назад, она решила снова разыскать фирму «Сторм и Кинг» и зайти туда. На пути ей попалась большая фирма оптовой продажи обуви, и через широкие зеркальные окна Керри увидела кабинет управляющего, скрытый от взоров остальных служащих матовым стеклом; перед этой перегородкой, у самого входа с улицы, сидел за столиком седовласый джентльмен, а перед ним лежала толстая раскрытая книга. Керри в нерешительности прошла несколько раз мимо подъезда и наконец, убедившись в том, что никто не обращает на нее внимания, шмыгнула в дверь и робко остановилась у столика. — Что скажете, барышня? — спросил старый джентльмен и довольно приветливо посмотрел на нее. — Я… то есть вы… я хочу сказать, нет ли у вас работы? — запинаясь, произнесла она. — Сейчас — нет, — с улыбкой ответил тот. — Сейчас — нет. Заходите на будущей неделе. Иногда нам бывают нужны люди. Керри молча выслушала ответ и, неуклюже пятясь, вышла. Ласковый прием несколько удивил ее. Она рассчитывала, что будет гораздо хуже, что она услышит что-нибудь грубое, холодное, — мало ли что могло быть! Уже одно то, что ее не оскорбили, что ей не дали почувствовать унизительность ее положения, казалось удивительным. Несколько воспрянув духом, Керри осмелилась войти в другое огромное здание. Здесь помещалась фирма готового платья. Тут было, по-видимому, еще больше народу; хорошо одетые мужчины лет сорока и старше беседовали о чем-то за медным барьером. К ней тотчас подошел мальчик-рассыльный. — Кого вам угодно? — спросил он. — Я хотела бы видеть управляющего, — сказала она. Мальчик побежал и передал ее просьбу одному из трех джентльменов, беседовавших неподалеку от нее. Тот направился к девушке. — Да? — холодно произнес он. Его тон сразу убил в Керри всю решимость. — Не нужна ли вам работница? — пробормотала она. — Нет! — отрезал он и резко отвернулся. Керри, совершенно растерянная, направилась к выходу, мальчик вежливо распахнул перед нею двери, а она стремилась поскорее слиться с толпою на улице. Ее еще недавно бодрое настроение было испорчено. Некоторое время она бродила без всякой цели, сворачивая то в одну улицу, то в другую, проходя мимо многих роскошных торговых контор, но не находя в себе мужества повторить свое предложение. Настал полдень, а с ним пришел и голод. Выбрав скромный ресторан, Керри вошла, но с испугом убедилась, что цены ей не по карману. Она могла позволить себе лишь тарелку супу. Быстро справившись с ним, она снова вышла на улицу. Все же это несколько подкрепило ее и придало ей смелости продолжать поиски. Пройдя несколько кварталов и не зная, на чем остановить свой выбор, Керри вновь набрела на фирму «Сторм и Кинг» и на этот раз заставила себя войти. Несколько джентльменов о чем-то совещались в двух-трех шагах от нее, но никто из них не обратил внимания на Керри. Она остановилась, нервничая и глядя в пол. Когда она уже совсем было отчаялась, ее окликнул служащий, сидевший у одного из многочисленных столов за барьером. — Кого вам угодно? — спросил он. — Мне все равно кого, — ответила Керри. — Кого-нибудь. Я ищу работу. — Стало быть, вам нужно мистера Мак-Мануса, — ответил служащий. — Присядьте! — добавил он, указывая на стул у стены, и снова принялся неторопливо писать. Наконец с улицы вошел коротенький толстый человечек. — Мистер Мак-Манус! — окликнул его писавший. — Эта молодая особа хочет вас видеть. Низенький джентльмен повернулся в сторону Керри. Она встала и подошла к нему. — Чем могу быть вам полезен, мисс? — спросил он, разглядывая ее с нескрываемым любопытством. — Не найдется ли у вас какой-нибудь работы? — Какой именно? — О, какой угодно! — пролепетала она. — У вас есть какой-нибудь опыт в оптовой торговле мануфактурой? — Нет, сэр. — Но вы, может быть, стенографистка или переписчица? — Нет, сэр. — В таком случае у нас ничего для вас нет, — сказал он. — Мы нанимаем толькоквалифицированных служащих. Керри начала отступать к двери, но жалобное выражение ее лица подействовало на мистера Мак-Мануса. — Вы вообще когда-нибудь служили? — спросил он. — Нет, сэр. — Тогда вы едва ли найдете место в таких оптовых фирмах, как наша. Вы не пробовали обратиться в универсальный магазин? Керри призналась, что не пробовала. — На вашем месте я раньше всего попытал бы счастья в универсальных магазинах. Там часто требуются такие барышни, как вы, — добавил он, дружелюбно глядя на нее. — Благодарю вас! — ответила Керри, сразу ожившая от проблеска дружеского участия. — Да, вы непременно попытайте счастья в универсальных магазинах, — повторил он, когда Керри уже направлялась к выходу, и пошел дальше. В то время универсальные магазины только-только стали пользоваться успехом и было их еще немного. Первые три в Соединенных Штатах открылись в Чикаго приблизительно в 1884 году. Из объявлений в газете «Дейли ньюс» Керри запомнила названия нескольких магазинов и теперь пустилась их разыскивать. Слова мистера Мак-Мануса вновь придали ей бодрости, которая совсем было исчезла: девушка прониклась надеждой, что в этом новом деле найдется кое-что и для нее. Довольно долго она бродила наугад, надеясь случайно очутиться у одного из таких зданий. Как легко удовлетворяется человек, когда он в трудном положении, одной видимостью поисков выхода! Наконец она решила обратиться к полисмену, и тот сказал ей, что надо пройти еще два квартала, там и будет «Базар». Описание этих громадных комбинатов розничной торговли, если они когда-нибудь сойдут со сцены, составит интересную главу в истории экономического развития нашей страны. До сих пор никогда и нигде в мире не наблюдалось такого расцвета этого скромного вида торговли. Подобные комбинаты были созданы с расчетом наиболее эффективно использовать розничную продажу; каждый из них состоял из сотен магазинов, объединенных в одно целое, исходя из самых существенных соображений экономии. И они процветали, эти красивые, шумные магазины, с целой армией продавцов, которыми правил сонм начальников. Керри медленно шла по заполненным покупателями проходам, пораженная необыкновенной выставкой безделушек, драгоценностей, одежды, письменных принадлежностей. Каждый новый прилавок открывал перед нею ослепительное и заманчивое зрелище. Как ни трудно ей было устоять против манящей силы каждой безделушки и каждой драгоценности, все же она не позволила себе задержаться нигде. Все здесь было нужно ей, все ей хотелось иметь. Очаровательные туфельки, чулки, изящные плиссированные юбки, кружева, ленты, гребенки, кошелечки — каждый предмет внушал желание обладать им, и Керри с особой остротой сознавала, что ни один из них ей не по средствам. Она ищет кусок хлеба, она отверженная, без работы, и каждый продавец с первого взгляда может угадать в ней нищую, нуждающуюся в заработке. Впрочем, не следует считать Керри нервной, чересчур впечатлительной девушкой, неожиданно выброшенной в холодный, расчетливый, лишенный поэзии мир. Нет, она, безусловно, не была такой. Но женщины всегда особо чувствительны к вещам, которые могут их украсить. Керри испытывала неодолимое влечение ко всем новым и красивым предметам дамского туалета и со щемящим сердцем наблюдала за нарядно одетыми дамами, которые задевали ее, протискиваясь вперед, и, не обращая на нее ни малейшего внимания, пожирали глазами все, что видели на прилавках. Керри была еще незнакома с внешним обликом своих более счастливых сестер — обитательниц большого города. Не имела она до сих пор представления и о продавщицах большого магазина, по сравнению с которыми она показалась себе очень жалкой. По большей части это были хорошенькие, даже красивые девушки, вид у всех был независимый и равнодушный, что придавало наиболее интересным из них особую пикантность. Одеты они были мило, даже нарядно, и, встречаясь с ними взглядом, Керри тотчас же убеждалась, что они сурово осуждают ее за недостатки туалета и тот особый отпечаток, который, по ощущению Керри, явно доказывал, что она собою ничего не представляет. Пламя зависти вспыхнуло в душе Керри. Она начала смутно понимать, как много заманчивого таит в себе большой город: богатство, изящество, комфорт — все, что может украсить женщину. И ее мучительно потянуло к нарядным платьям и к красивым вещам. Контора универсального магазина находилась во втором этаже, Керри порасспросила, где это, и ей показали, как туда пройти. Там уже ждали несколько девушек, которые, как и она, искали работу. Но, как истые жительницы большого города, они держались более независимо и самоуверенно. Девушки не замедлили подвергнуть Керри мучительному осмотру с ног до головы. Примерно минут через сорок пять она дождалась своей очереди. — Ну, — сказал подвижной молодой еврей с резкими манерами, сидевший у окна за раздвижным письменным столом. — Вы уже служили в магазинах? — Нет, сэр, — призналась Керри. — Значит, не служили! — вслух отметил он, окидывая ее проницательным взглядом. — Нет, сэр, — повторила Керри. — Гм! Видите ли, мы предпочитаем продавщиц с некоторым опытом. Думаю, что вы нам не подойдете. Керри еще постояла с минуту, не зная, считать ли разговор оконченным. — Вы напрасно ждете! — услышала она. — Не забывайте, мы здесь очень заняты. Керри быстро направилась к двери. — Стойте-ка! — окликнул ее молодой человек. — Оставьте нам ваше имя и адрес. Иногда нам бывают нужны девушки. Когда Керри выбралась наконец на улицу, к глазам ее подступили слезы — не столько из-за этого холодного приема, сколько из-за всех удручающих впечатлений дня. Она очень устала и переволновалась. Отказавшись от мысли обратиться в другие магазины, она пошла бродить по улицам, чувствуя себя как-то спокойнее и безопаснее среди толпы. Бесцельно скитаясь по городу, Керри свернула на Джексон-стрит, неподалеку от реки, и медленно пошла по южной стороне этой оживленной улицы. Внезапно в глаза ей бросился клочок оберточной бумаги, приколотый к двери, с надписью, сделанной чернилами: «Требуются упаковщицы и строчильщицы». Керри постояла в нерешительности и вошла. Фирма «Шпайгельхайм и К°», фабрика детских шляп, занимала один этаж в доме. Помещение, шириною в пятьдесят футов и длиною около восьмидесяти, было мрачное, загроможденное машинами и рабочими столами; лишь в самых темных углах горели электрические лампочки. Тут работало много женщин и несколько мужчин. Девушки, все в пыли, с масляными пятнами на лице, были в тонких бесформенных бумажных платьях, большинство — в стоптанных ботинках. Многие засучили рукава, обнажив худые руки, другие из-за духоты расстегнули верхние пуговки платья. Это были типичные работницы из низкооплачиваемых слоев — неряшливые, сутулые, почти все бледные от пребывания в спертом воздухе. Однако застенчивостью они вовсе не отличались — они были неудержимо любопытны, дерзки на язык и сыпали жаргонными словечками. Керри осматривалась в полном смятении, твердо зная одно: здесь работать она не хочет. Если не считать смущавших ее косых взглядов, никто не обращал на девушку ни малейшего внимания. Керри стояла, пока наконец ее присутствие не было замечено всеми, кто находился в мастерской. Лишь тогда кто-то дал знать мастеру, и тот появился в фартуке, без пиджака, в рубашке с засученными до самых плеч рукавами. — Вы хотели меня видеть? — спросил он. — Не нужна ли вам работница? — Керри уже успела понять, что лучше всего действовать напрямик. — Вы умеете прострачивать детские шапочки? — Нет, сэр! — А вообще вам знакома такая работа? Керри ответила, что незнакома. — Гм! — произнес мастер и задумчиво почесал за ухом. — Нам, видите ли, нужна работница. Но мы предпочитаем опытных. У нас нет времени обучать новичков. Он умолк и отвернулся к окну. — Впрочем, — добавил он, подумав, — мы можем поставить вас на отделку. — Сколько вы платите в неделю? — осмелилась спросить Керри; мягкость этого человека и простота общения придали ей немного бодрости. — Три с половиной, — ответил он. — Ох! — чуть было не вырвалось у Керри, но она вовремя сдержалась, и ее возмущение осталось невысказанным. — Мы не особенно нуждаемся сейчас в людях, — небрежным тоном продолжал мастер, глядя на Керри, как на тюк с тряпьем. — Впрочем, можете прийти в понедельник утром, и я вас поставлю на работу, — добавил он. — Благодарю вас, — чуть слышно произнесла Керри. — Если придете, захватите с собой передник, — сказал мастер. И он ушел, оставив Керри возле лифта и не поинтересовавшись даже, как ее зовут. Хотя внешний вид мастерской и нищенская недельная оплата и нанесли удар светлым надеждам Керри, все же ее приободрило сознание, что после многих неудач ей наконец предложили работу. Как ни скромны были притязания девушки, она не могла себе представить, что возьмется за эту работу. Она привыкла все же к лучшему. Привычка к вольному деревенскому воздуху вызывала в ней внутренний протест против этой тесноты и духоты. Она не знала, что такое жить в грязи. Сестра содержала свою квартиру опрятно. Здесь же все засалено, потолки низкие, а девушки сплошь неряхи и, видимо, ожесточены. Они, наверно, испорченные и злые, решила она. А все-таки ей предлагают работу! Право, Чикаго не так уж неприступен, если в первый же день здесь можно найти место. Впоследствии она подыщет себе что-нибудь другое, получше. Однако дальнейшие Поиски не дали ничего утешительного. В местах более приятных или солидных ей отказывали категорически и самым ледяным тоном. В других конторах требовались только опытные работницы. Не раз девушка наталкивалась на крайне грубые приемы, и особенно обидный ответ она выслушала на одной фабрике готового платья, когда, взобравшись на четвертый этаж, решила справиться, нет ли у них работы. — Нет, нет! — крикнул ей мастер, дюжий, коренастый мужчина, хозяйничавший в скудно освещенной мастерской. — Нам никого не нужно. И нечего сюда таскаться! День угасал, а с ним постепенно угасали и надежды Керри, ее решимость и энергия. Девушка проявила изумительную настойчивость. Такие ревностные усилия заслуживали лучшей награды. Огромный торговый район города показался ей, утомленной, таким необъятным, таким черствым, таким застывшим в своем равнодушии к людям. Казалось, для нее закрыты все двери, борьба предстоит слишком жестокая и нет никакой надежды, что она добьется здесь чего-нибудь. Мимо бесконечной вереницей спешили мужчины и женщины. Керри чувствовала вокруг себя могучий пульс жизни с ее многообразными интересами и чувствовала свою беспомощность, почти не сознавая, что в этом потоке она была лишь ничтожною соломинкой. Тщетно осматривалась она, ища, куда бы обратиться, но не находила двери, в которую у нее хватило бы духу войти. Ведь то же самое повторится всюду. Те же унизительные просьбы, а в награду — короткий отрицательный ответ. Измученная душевно и физически, Керри повернула на запад, только и думая, как бы добраться до дома Минни; уныние и безнадежность овладели ею, подобные чувства так часто охватывают в сумерках человека, весь день тщетно искавшего работу. Проходя по Пятой авеню, на пути к Ван-Бьюрен-стрит, где она намеревалась сесть в конку, Керри очутилась перед большой обувной фабрикой; в одном из ее зеркальных окон она увидела джентльмена средних лет, сидевшего за небольшим столом. Повинуясь некоему внезапному импульсу, какие подчас появляются у человека, осознавшего свое поражение, Керри решительно вошла и направилась к джентльмену. Тот посмотрел на нее — усталое лицо девушки явно пробудило в нем интерес. — В чем дело? — Не можете ли вы дать мне какую-нибудь работу? — спросила Керри. — Я, право, не знаю, — довольно любезно отозвался он. — Какую именно работу вы ищете? Вы случайно не переписчица? — Нет, — ответила Керри. — Вот видите, а нам нужны только счетоводы и переписчицы. Но попробуйте обойти кругом, подняться наверх и справиться там. Несколько дней назад наверху нужны были люди. Спросите мистера Брауна. Керри поспешила обойти кругом и в лифте поднялась на четвертый этаж. — Доложи мистеру Брауну, Уилли! — сказал лифтер стоявшему поблизости мальчику. Уилли вскоре вернулся и сообщил Керри, что мистер Браун сказал, пусть она посидит, он скоро будет. Комната, в которой находилась Керри, примыкала к складу, так что девушка не могла составить себе представления ни обо всем помещении, ни о том, чем тут занимаются. — Так вы хотите получить у нас какую-нибудь работу? — спросил мистер Браун, узнав о цели ее прихода. — А вы раньше когда-нибудь работали на обувной фабрике? — Нет, сэр, — призналась Керри. — Как вас зовут? — продолжал он и, когда она ответила, сказал: — Право, не знаю, найдется ли у меня что-нибудь для вас. А вы согласитесь работать за четыре с половиной доллара в неделю? Керри была так подавлена неудачами, что предложение показалось ей заманчивым. Правда, она ожидала, что ей дадут не меньше шести долларов в неделю. И все же она согласилась. Мистер Браун записал ее адрес и на прощанье сказал: — Ну, приходите в понедельник, в восемь часов утра. Я думаю, что подыщу что-нибудь для вас. Он ушел, и Керри несколько ожила от сознания, что нашла наконец работу. Кровь горячей волной разлилась по ее телу. Нервное напряжение ослабело. Она вышла на улицу, кишевшую народом, и почувствовала себя в какой-то новой атмосфере. Как, оказывается, легко шагают люди на тротуарах! Она впервые заметила, что на лицах мелькают улыбки. До ее слуха доносились обрывки разговоров и взрывы смеха. Воздух был мягкий. Из огромных зданий уже выходили люди, окончившие дневную работу. Керри видела их довольные лица и, вспомнив, что у сестры ее ждет обед, ускорила шаг. Керри была утомлена, но больше уже не чувствовала боли в ногах. Интересно, что скажет Минни! А впереди зима, долгая зима в Чикаго — огни, веселая толпа, развлечения!.. В конце концов в этом городе-гиганте приятно жить. Фирма, где она будет работать, по-видимому, солидное предприятие. В окнах такие огромные зеркальные стекла! Ей, наверное, будет там неплохо. Девушка вспомнила о Друэ, о том, что он говорил в поезде. Жизнь начала казаться ей лучше, ярче, радостнее. В самом радужном настроении Керри села в вагон конки, чувствуя, как кровь горячей струей бежит по жилам. Она будет жить в Чикаго — не переставало стучать у нее в мозгу. Она будет жить веселее, чем раньше. Она будет счастлива!Глава 4
Мечты утрачены, действительность глумится
В продолжение двух дней Керри предавалась необузданным мечтаниям. В воображении она окунулась во все те удовольствия и развлечения, которые были бы ей доступны, случись ей родиться богатой. Быстро и не задумываясь, она уже во все стороны разбросала щедрою рукой свои скудные четыре с половиной доллара в неделю. Керри не жалела денег и быстро делала свой выбор. В те часы перед сном, когда она сидела в качалке у окна, любуясь освещенными улицами, будущий заработок прокладывал своей обладательнице дорогу ко всем утехам и безделушкам, какие только может пожелать женское сердце. «И начнется чудесная жизнь», — мечтала Керри. Ее сестра Минни была далека от этих неукротимых полетов фантазии, которой доступны все возможные радости жизни. Жена Гансона была слишком занята мытьем пола в кухне и размышлениями над тем, что можно купить на восемьдесят центов, которые она могла истратить на воскресный обед. Когда Керри вернулась домой, возбужденная первой своей удачей и готовая, несмотря на усталость, без конца обсуждать интересные подробности своих скитаний, завершившихся таким успехом, Минни лишь одобрительно улыбнулась и спросила, сколько из ее заработка уйдет на проезд. Хотя Керри упустила из виду это соображение, оно не могло надолго охладить ее пыл. Девушка была счастлива; она находилась в том настроении, которое позволяет вычитать одну сумму из другой без заметного ущерба для последней. Гансон вернулся домой в семь часов вечера. Он был немного не в духе, как всегда перед обедом. Это обычно проявлялось не столько в его тоне или словах, сколько в его манере безмолвно, с хмурым видом ходить из комнаты в комнату. У него были желтые войлочные туфли, и, вернувшись домой, он тотчас же с наслаждением надевал их вместо тяжелых башмаков, затем мыл лицо куском простого стирального мыла и так тер кожу, что она становилась пунцовой и лоснящейся, — в этом и заключались все его приготовления к вечерней трапезе. А потом он брал газету и в глубоком молчании принимался читать. Мрачное настроение у человека еще молодого неприятно подействовало на Керри. Оно действовало, как водится, и на всю домашнюю атмосферу, и угнетало жену, которая не решалась сказать ему ни слова, боясь, что ответом будет молчание. Когда Гансон узнал об удаче Керри, лицо его несколько прояснилось. — Однако ты не теряла времени зря! — заметил он и при этом даже слегка улыбнулся. — Конечно! — с оттенком гордости отозвалась Керри. Гансон задал еще один-два вопроса, а потом стал играть с ребенком и не возвращался к этой теме до тех пор, пока она вновь не была затронута за столом его женой. Но не так-то просто было заставить Керри проникнуться настроением, которое царило в семье. — Кажется, это очень крупная фирма, — сказала она. — Огромные зеркальные стекла и уйма служащих! Джентльмен, с которым я говорила, сказал, что они нанимают очень много народу. — Теперь не так уж трудно получить работу, если только у человека приличный вид, — вставил Гансон. Минни тоже несколько оттаяла, согретая радостным настроением Керри и, необычной разговорчивостью мужа, и начала рассказывать сестре о достопримечательностях Чикаго, вернее, о том, что может видеть каждый без всяких затрат. — Тебе интересно будет посмотреть Мичиган-авеню. Там такие красивые дома. И вся улица такая красивая! — А где находится театр Джейкобса? — прервала ее Керри. Это был один из театров, в котором ставились мелодрамы. — Не очень далеко отсюда, — ответила ей сестра. — Вернее, даже совсем близко: на Холстед-стрит: — Вот бы пойти в этот театр! Я ведь, кажется, проходила сегодня по Холстед-стрит? Вместо ответа на самый, казалось бы, естественный вопрос последовала маленькая заминка. Мысли человека удивительно окрашивают все его действия. Стоило упомянуть о театре, как настроение за столом тотчас омрачилось. В этом сказалось безмолвное неодобрение всего, что влечет за собою трату денег. И Гансон и Минни оба одновременно подумали об этом. Последняя ответила: «Да», — но Керри сразу почувствовала, что посещение театров здесь не поощряется. Разговор на эту тему не возобновлялся до тех пор, пока Гансон, покончив с едой, не ушел в другую комнату, захватив с собою газету. Сестры принялись мыть посуду. Оставшись одни, они заговорили свободнее, и Керри, то и дело прерывая беседу, начинала тихонько напевать. — Хорошо бы сейчас пройтись немного по городу и взглянуть на Холстед-стрит, если это не очень далеко, — вскоре сказала она. — Давайте сходим сегодня в театр! — Ну, вряд ли Свен захочет куда-нибудь идти, — возразила Минни. — Ему нужно рано вставать. — Но он едва ли будет против. Ведь это доставит ему удовольствие! — Нет, он не очень любит ходить по театрам. — А мне хотелось бы пойти, — сказала Керри. — Давай пойдем вдвоем! Минни задумалась: не о том, пойдет ли она, — на этот вопрос у нее уже был готов отрицательный ответ, — а о том, как бы направить мысли сестры по другому руслу. — Как-нибудь в другой раз, — сказала она наконец, не придумав ничего лучшего. Керри сразу догадалась, в чем тут загвоздка. — У меня есть немного денег, — сказала она. — Пойдем со мною, Минни! Минни покачала головой. — Возьмем и его с собой, — предложила Керри. — Нет, — тихо ответила Минни и загромыхала посудой, чтобы прекратить разговор, — он не пойдет. Сестры не виделись несколько лет, и за это время в характере Керри обнаружилось нечто новое. Она обладала врожденной робостью, которая проявлялась всякий раз, как ей приходилось бороться за свое благополучие, а тем более в тех случаях, когда у нее было недостаточно сил или средств для этой борьбы, но она страстно тянулась ко всяким развлечениям и удовольствиям, и это было одной из основных черт ее характера. Она могла уступить в чем угодно, только не в этом. — Ну, спроси его! — умоляюще прошептала она. А Минни думала о той прибавке к бюджету, которую даст им заработок сестры. Эти деньги пойдут на оплату квартиры, и ей не так тяжело будет каждый раз заводить с мужем разговор о расходах. Но раз Керри уже сейчас начинает гнаться за развлечениями, то, пожалуй, пустит на ветер все свои денежки. Если сестра не захочет подчиняться раз и навсегда установленному распорядку их повседневной жизни, если она не поймет, что нужно усердно работать, не помышляя ни о каких забавах, — тогда какой же прок от того, что она приехала в город? Несмотря на такие мысли, Минни вовсе не была расчетлива и черства по натуре. Это были серьезные раздумья женщины, которая, даже не слишком сетуя на судьбу, всегда приспособлялась к тем жизненным условиям, какие мог обеспечить ей беспрерывный труд. Наконец Минни уступила и решилась спросить Гансона. Но сделала она это скрепя сердце и ничуть не разделяя желания сестры. — Керри предлагает нам сходить в театр, — сказала она, заглядывая в комнату, где сидел муж. Оторвавшись от газеты, Гансон обменялся с Минни взглядом, яснее слов говорившим: «Это вовсе не то, чего мы ожидали». — Мне неохота, — отозвался он. — А что она хочет посмотреть? — Ей хочется побывать в театре Джейкобса. Гансон снова уткнулся в газету и отрицательно покачал головой. Увидя, как супруги отнеслись к ее предложению, Керри отчетливо поняла, как живут эти люди. Это произвело на нее гнетущее впечатление, но не вызвало решительного протеста. — Я спущусь вниз и постою у подъезда, — сказала она. Минни не стала возражать, и Керри, надев шляпу, вышла из квартиры. — Куда ушла Керри? — спросил Гансон, который вернулся в столовую, услышав, как хлопнула дверь. — Она сказала, что сойдет вниз и постоит у подъезда, — ответила Минни. — Наверное, ей захотелось просто подышать свежим воздухом. — Куда ж это годится, сразу деньги на театры тратить, а? — Это она, наверно, просто от любопытства, — осмелилась сказать Минни. — Ей все здесь в новинку. — Гм, не знаю! — проворчал Гансон и, слегка нахмурив лоб, направился к ребенку. Он думал о том, сколь тщеславны и расточительны могут быть молодые девушки, и удивлялся, как это Керри может даже мечтать о подобных вещах при столь ничтожном заработке. В субботу Керри опять пошла в город. Она направилась к реке, которая очень занимала ее, а потом вернулась по Джексон-стрит, застроенной прекрасными домами с зеленой лужайкой перед каждым (впоследствии это позволило превратить улицу в бульвар). Керри была ошеломлена такими доказательствами огромных богатств, хотя на этой улице вряд ли жил хоть один человек, чей капитал превышал бы сто тысяч долларов. Девушка была рада вырваться из квартиры сестры: она уже успела понять, какой убогой и бесцветной жизнью живет эта семья, и убедилась, что радостей и интересных впечатлений нужно искать где-то в другом месте. Голова ее теперь была занята размышлениями на более легкомысленные темы, и она не раз подумывала о том, где-то теперь Друэ. Она далеко не была уверена, что он не явится в понедельник вечером, и хотя мысль о подобной возможности несколько тревожила ее, в глубине души она все же смутно желала, чтобы он пришел. В понедельник Керри встала рано и собралась идти на работу. Она надела старую блузку из синей бумажной ткани в крапинку, выцветшую юбку из коричневой шерсти и маленькую соломенную шляпу, которую все лето проносила в Колумбия-сити. Ботинки на ней были сильно поношенные, а галстук — такой измятый и бесформенный, каким бывает всякая вещь после долгого употребления. Теперь Керри мало чем отличалась от фабричных работниц, но черты ее красивого лица были совсем незаурядны, и она производила впечатление милой, приятной и сдержанной девушки. Не так-то легко встать на заре человеку, который, подобно Керри, привык спать в родном доме до семи-восьми часов утра. Она снова ощутила всю тяжесть жизненного уклада в доме сестры, когда, совсем еще сонная, в шесть часов заглянула в столовую и увидела там Гансона, безмолвно заканчивавшего завтрак. К тому времени, когда она оделась, он уже успел уйти. Керри завтракала вместе с Минни, а ребенок сидел за столом на высоком стуле и размазывал по тарелке кашу. Теперь, когда настало время приступить к своим незнакомым, непривычным обязанностям, настроение Керри сильно упало. От всех ее красивых грез остался только пепел, но и под этим пеплом еще тлели красные угольки надежды. Нервы ее сдали, и она, совсем подавленная, ела молча и старалась представить, что это за обувная фабрика, какая у нее будет работа и как отнесется к ней ее наниматель. Ей уже смутно представлялось, что она будет работать где-то около могущественных владельцев, к которым время от времени приходят солидные, одетые по моде мужчины. — Ну, желаю успеха! — сказала Минни сестре, когда та собралась уходить. Было решено, что Керри пойдет пешком, по крайней мере, в это утро, чтобы выяснить, будет ли она в состоянии ходить так каждый день. Шестьдесят центов в неделю на конку — крупный расход при заработке в четыре с половиной доллара. — Я тебе вечером расскажу, как у меня пойдет работа, — сказала Керри. Она очутилась на залитой солнцем улице, по которой в обе стороны спешили рабочие и мчались вагоны конки, битком набитые мелкими служащими разных оптовых фирм. Из подъездов выходили люди и торопливо расходились в разные стороны. Керри немного приободрилась. Какие страхи могут надолго удержаться при ярком свете утреннего солнца, под голубым небом, при свежем бодрящем ветерке? В четырех стенах ночью — и даже в сумрачные дни — страхи и зловещие предчувствия растут и крепнут, но на воздухе, в солнечную погоду, человек теряет страх даже перед смертью. Керри шагала все дальше, перешла через мост и свернула на Пятую авеню. Улица эта напоминала ущелье с отвесными стенами из бурого известняка и темно-красного кирпича. Огромные зеркальные витрины сверкали чистотой. Шумные подводы с кладью наводняли улицы; во всех направлениях двигались толпы мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Навстречу Керри попадались и девушки одного с нею возраста, которые, казалось, презирали ее за робость. Керри дивилась широкому размаху жизни в этом городе и думала о том, как много нужно уметь, чтобы играть в ней хоть какую-то роль. Она боялась, что окажется ни на что не годной, не сумеет взяться за дело, что ее найдут недостаточно расторопной. Разве не отказывали ей во всех других местах оттого, что она ничего не умеет? А вдруг ее обругают, оскорбят и с позором выгонят на улицу? Чувствуя слабость в коленках, с трудом переводя дыхание, приближалась Керри к огромной обувной фабрике на углу Адамс-стрит и Пятой авеню. Лифт поднял ее на четвертый этаж, но там не оказалось ни души. Кругом одни лишь длинные проходы между нагроможденными до потолка ящиками. Керри стояла испуганная, поджидая, чтобы кто-нибудь вышел к ней. Вскоре показался мистер Браун, но он, очевидно, не узнал ее. — Что вам угодно? — спросил он. У Керри упало сердце. — Вы велели мне прийти сегодня утром… Я насчет работы… — Так, так! — прервал он ее. — Гм! Как вас зовут? — Керри Мибер. — Так! — повторил он. — Ступайте за мной! Они шли между темными рядами ящиков, распространявших запах новой обуви, пока не достигли железной двери, которая вела в мастерские. Керри увидела просторное помещение с низким потолком, где громыхали и щелкали машины, у которых работали мужчины в белых рубахах с засученными рукавами и в синих передниках. Керри, слегка зардевшись и глядя прямо перед собой, робко шла за своим провожатым среди грохочущих автоматов. В дальнем углу мастерской они вошли в лифт и поднялись на шестой этаж. Мистер Браун жестом подозвал мастера, тотчас вышедшего к нему из лабиринта машин и рабочих столов. — Вот та девушка, о которой я говорил, — сказал он и, повернувшись к Керри, добавил: — Идите за ним! Мистер Браун тотчас же ушел, а Керри последовала за своим новым начальником к небольшому столику в углу помещения, отведенного под контору. — Вы никогда не работали в обувной мастерской? — довольно сурово спросил мастер. — Нет, сэр, — ответила Керри. Мастеру, очевидно, не хотелось возиться с неопытной работницей. Но все же он записал ее имя и повел в глубь мастерской, где на табуретках перед щелкающими машинами сидели в ряд девушки. Он положил руку на плечо одной из работниц, которая с помощью машины пробивала отверстия в заготовках башмаков. — Покажи ей, как это делается, — сказал мастер, показывая на Керри. — А потом подойди ко мне! Девушка, к которой он обратился, быстро встала и уступила свое место Керри. — Это совсем не трудно, — сказала она, наклонившись над новенькой. — Берешь кожу вот так, зажимаешь здесь и пускаешь машину. Девушка закрепила маленькими переставными зажимами кусок кожи, из которого должна была выйти правая половина заготовки мужского ботинка, и надавила на небольшой рычажок сбоку. Машина быстро заходила и резкими щелчками начала пробивать вдоль края заготовки дырочки для шнурков, выбрасывая при этом круглые кусочки кожи. Последив за работой Керри и убедившись, что она недурно справляется, девушка ушла. Куски кожи поступали к Керри от соседки, сидевшей у машины справа, она же передавала их соседке слева. Керри сразу поняла, что должна соблюдать известную скорость, иначе возле нее накопится груда заготовок и это задержит работу тех, кто сидит слева от нее. У девушки не было времени оглядываться по сторонам, и она усердно принялась за дело. Соседки понимали, что она смущается и волнуется, и, насколько могли, старались помочь ей, немного замедляя темп работы. Керри ни на секунду не отрывалась от машины; ее однообразный ритм успокаивал нервы, отгонял внушенные воображением страхи. Мало-помалу она заметила, что в мастерской темновато. Спертый воздух был насыщен запахом новой кожи, но это не тяготило ее. Зато она ловила на себе взгляды окружающих и мучилась мыслью, что работает недостаточно быстро. Как-то раз, когда Керри, неправильно вложив заготовку в машину, возилась с зажимом, перед ее глазами показалась огромная рука и помогла ей укрепить зажим. Это был мастер. Сердце Керри заколотилось так сильно, что у нее помутнело в глазах, и она не могла продолжать. — Пускайте же машину! — сказал мастер. — Пускайте машину! Не задерживайте других. Этот возглас привел девушку в себя; еле дыша от волнения, она вновь принялась за работу. И лишь когда исчезла тень, стоявшая за ее спиной, она перевела дух. Время шло, и в помещении становилось все жарче и жарче. Керри томилась по глотку свежего воздуха, ее мучила жажда, но она не смела встать. Табурет, на котором она сидела, не имел ни спинки, ни подножки, и девушка начала испытывать крайне неприятную ломоту во всем теле. Вскоре у нее заныла спина. Керри вертелась, изгибалась, часто меняла положение, но это помогало ненадолго. Она начала уставать. — А ты бы встала, — без лишних вступительных слов посоветовала ей соседка. — Это не запрещено. Керри ответила ей благодарным взглядом. — Пожалуй, я так и сделаю, — сказала она. Поднявшись с табурета, она некоторое время работала стоя, но эта поза оказалась еще более неудобной: заныли шея и плечи. Атмосфера, царившая в мастерской, угнетающе действовала на Керри своей грубостью. Она не осмеливалась оглянуться, но иногда, сквозь щелканье машин, до ее слуха доносились обрывки разговоров, а кое-что она могла заметить краешком глаза. — Ты вчера видела Гарри? — спросила свою соседку работница, сидевшая слева от Керри. — Нет. — Ну, посмотрела б ты его в новом галстуке! До чего ж он был интересный! — Тс-с! — шепнула другая девушка и еще ниже склонилась над работой. Ее подруга тотчас же умолкла и приняла серьезный вид. Мастер медленно прошел мимо, внимательно оглядывая каждую работницу. Но, как только он исчез из поля зрения, разговор возобновился. — Слушай, — снова начала девушка слева от Керри. — Ты знаешь, что он сказал? — А что? — Говорит, будто видел меня с Эдди Гаррисом у «Мартина». — Да ну? Девушки захихикали. Какой-то рыжий молодой детина, которому давно следовало бы подстричься, прошел между машинами, шаркая ногами и прижимая к животу корзину с обрезками кожи. Неподалеку от Керри он быстро протянул руку и схватил за локоть одну из девушек. — Не смей! — сердито огрызнулась та. — Болван! Рыжий детина только осклабился. — Ломака! — бросил он, когда она посмотрела ему вслед. Дело дошло до того, что Керри больше уже не в силах была сидеть. Ноги ее ныли, ей хотелось встать и потянуться. Неужели никогда не наступит полдень? Девушке казалось, что она проработала уже целый день. Голода она совсем не ощущала, зато испытывала ужасную слабость во всем теле. Глаза, которым приходилось напряженно следить за тем, чтобы удар пуансона приходился как раз в намеченную точку, устали. Девушка, сидевшая справа, заметила, что новенькая страдает, и ей стало жаль ее. Керри слишком уж усердствовала, а в действительности ее работа требовала гораздо меньше умственного и физического напряжения. Но ей ничем нельзя было помочь. Груда заготовок непрестанно росла. Сначала у Керри заныли запястья, потом пальцы, и вся она превратилась в сплошную массу наболевших мышц, которым все время нужно было выполнять одно-единственное механическое движение, становившееся все мучительнее и доводившее до тошноты. Когда Керри, не видя конца этой пытки, пришла уже в полное отчаяние, по шахте лифта откуда-то снизу вдруг донеслись глухие удары колокола, и наступил перерыв. Сразу поднялся гул голосов и началась суетня. Вмиг все девушки вскочили с мест и поспешили в смежное помещение. Из отделения справа через мастерскую стали проходить мужчины. Быстро вращающиеся колеса запели на все понижающейся ноте, пока их гудение не замерло совсем. Наступила тишина, в которой голоса звучали как-то необычно. Керри встала и пошла за своим завтраком. Все ее тело одеревенело, голова слегка кружилась, и хотелось сильно пить. По пути к маленькой загородке, где хранилось верхнее платье, Керри столкнулась с мастером, и тот пристально посмотрел на нее. — Ну, — начал он, — как справляетесь с работой? — Ничего, — почтительно ответила Керри. — Гм! — промычал мастер и, не зная, что еще сказать, пошел дальше. В другой обстановке эта работа вовсе не была бы такой тяжелой, но новые идеи о хороших условиях труда в те времена еще не коснулись промышленных компаний. К сильному запаху смазочного масла и кожи примешивались затхлые запахи старого здания, что было не особенно приятно. Пол, который подметали только вечером, был завален отбросами. Об удобствах рабочих никто не заботился; считалось, что прибыль увеличится, если давать им как можно меньше и как можно больше загружать тяжелой, низкооплачиваемой работой. Подножки и выдвижные спинки у стульев, столовые для работниц, чистые передники и приличная гардеробная — обо всем этом тогда никто и не мечтал. Уборные были мрачные, грязные, даже зловонные. Все поражало убогостью. Керри выпила кружку воды из ведра в углу и огляделась, ища места, где бы присесть и позавтракать. Остальные работницы разместились на подоконниках и на рабочих столах тех мужчин, которые вышли из мастерской. Не найдя ни одного свободного местечка, Керри, по натуре слишком робкая, чтобы навязывать кому-либо свое присутствие, вернулась к своей машине и села на табурет. Поставив на колени коробку с завтраком, она открыла ее и стала прислушиваться к разговорам. Болтовня работниц большей частью лишена была всякого содержания и густо уснащена жаргоном. Некоторые из мужчин, оставшихся в мастерской, издали перебрасывались словечками с девушками. — Послушай, Китти! — крикнул один из них, обращаясь к девушке, сделавшей несколько туров вальса на крохотном пространстве возле окна. — Пойдем со мной на танцы, а? — Смотри в оба, Китти! — крикнул другой. — А то он тебе прическу-то попортит! — Ну, уж ты, помалкивай! — отозвалась девушка. Прислушиваясь к этой фамильярной болтовне между мужчинами и девушками, Керри инстинктивно замыкалась в себе. Она не привыкла к подобным разговорам и угадывала в них что-то грубое и гадкое. Керри боялась, как бы кто-нибудь не пристал и к ней с такими шутками. Молодые люди, работавшие в мастерской, казались ей неуклюжими и смешными, как и вообще все мужчины, кроме Друэ. Чисто по-женски она судила о мужчинах по одежде, приписывая элегантному костюму высокие душевные достоинства, а качества неприятные и не заслуживающие внимания оставляла рабочим блузам и грязным комбинезонам. Она даже обрадовалась, когда кончился короткий получасовой отдых и снова зажужжали колеса машин. Как ни устала Керри, она жаждала снова затеряться в массе работниц. Но и это оказалось невозможным: один молодой рабочий, проходя мимо, с самым невозмутимым видом ткнул ее пальцем в бок. Керри порывисто обернулась, в глазах ее вспыхнуло негодование, но обидчик уже пошел дальше и только раз оглянулся, широко осклабившись. Керри стоило больших усилий сдержать слезы. Соседка заметила это. — Ты не обращай внимания! — сказала она. — Этот парень ужасный нахал. Керри ничего не ответила и еще ниже склонилась над машиной. Ей казалось, что она не вынесет подобной жизни. Ее представление о работе было совсем иное. Всю вторую половину дня она думала о городе, лежащем за стенами мастерской, о витринах роскошных магазинов, о толпах народа, о красивых домах. В памяти вставали родные места, вспоминалось все то хорошее, что она оставила дома. В три часа ей казалось, что уже шесть, а в четыре она начала подумывать, что начальство не следит за часами и заставляет всех работать сверхурочно. Мастер стал прямо зверем. Он шнырял по мастерской, ни на минуту не позволяя отвлекаться от ужасной работы. Обрывки разговоров, которые улавливала Керри, убивали в ней желание подружиться с кем-либо из девушек. Когда наконец пробило шесть, она порывисто встала и поспешно вышла. Руки у нее болели, все тело ломило от работы в одном положении. Когда, надев шляпу, она проходила по длинному коридору, ее окликнул какой-то молодой рабочий, которому она приглянулась. — Послушай, милашка, — сказал он, — я провожу тебя, если ты меня обождешь! Было ясно, что эти слова относятся именно к Керри, но она даже не оглянулась. В битком набитом лифте юнец в пыльной и грязной от работы одежде пожирал девушку глазами, пытаясь произвести на нее впечатление. На улице какой-то парень, поджидавший на тротуаре товарища, ухмыльнулся при виде Керри и шутливо бросил: — Нам, случайно, с вами не по дороге? С тяжелым сердцем Керри торопливо прошла мимо. Свернув за угол, она через огромное зеркальное окно увидела столик, возле которого некоторое время тому назад впервые справлялась о работе. По улице, как и раньше, двигались суетливые, шумные толпы бодрых, энергичных людей. Керри почувствовала некоторое облегчение, но оно было вызвано лишь тем, что ей удалось вырваться из мастерской. Ей было стыдно перед встречными, лучше нее одетыми девушками. Она чувствовала, что заслуживает лучшего, и душа ее бунтовала.Глава 5
Сияющий ночной цветок.
Как было упомянуто о Керри
Друэ не пришел в назначенный вечер. Получив письмо Керри, он на время оставил все мысли о ней и всецело отдался развлечениям, — в том духе, в каком он понимал это слово. В этот день он обедал в довольно известном ресторане «Ректор», занимавшем подвальное помещение на углу Кларк и Монро-стрит. После обеда Друэ отправился в бар «Фицджеральд и Мой» на Адамс-стрит, напротив монументального здания муниципалитета. Там он присел у роскошной стойки, проглотил рюмку чистого виски и, купив две сигары, закурил одну из них. Это, по представлению Друэ, входило в обиход жизни «высшего общества» — один из примеров того, какою, наверно, была эта жизнь в целом. Друэ не был пьяницей и не был человеком денежным. Он только жаждал всего, что было лучшим в жизни, — в его представлении, разумеется, — и подобное времяпрепровождение казалось ему частицей этого лучшего. Ресторан «Ректор» со стенами и полом из полированного мрамора, весь залитый светом и уставленный серебром и фарфором, а главное, пользующийся репутацией излюбленного убежища артистов, казался ему наиболее подходящим уголком для преуспевающего человека. Друэ любил хорошо одеться, вкусно поесть, но больше всего он ценил хорошую компанию и знакомство с людьми, добившимися успеха в жизни. Обедая в этом ресторане, он испытывал удовольствие от мысли, что здесь часто бывает Джозеф Джефферсон, что Генри Дикси, другой знаменитый актер того времени, сидит за несколько столиков от него. Это удовольствие всегда можно было получить у «Ректора», где встречались политики, биржевые маклеры, актеры, а также известные всему городу богатые молодые шалопаи и где они пили и ели среди гула банальной болтовни. «Вон сидит такой-то», — подобную фразу можно было нередко услышать из уст того или иного джентльмена, особенно из числа тех, кто еще не достиг (хотя и надеялся в свое время достигнуть) головокружительной высоты, позволяющей тратить деньги на обильный обед у «Ректора». — Да неужели? — следовал обычный ответ. — Ну, конечно! Разве вы не знаете? Он директор Большой оперы. Когда это доносилось до ушей Друэ, он расправлял плечи и ел с еще большим аппетитом. Если ему и без того свойственно было некоторое тщеславие, подобные разговоры могли только усилить его; если он был честолюбив, они могли лишь еще больше разжечь его честолюбие. О, настанет день, когда и он сам будет швырять кредитки целыми пачками! Он и сейчас может обедать там, где обедают эти люди! Предпочтение, которое он отдавал бару «Фицджеральд и Мой» на Адамс-стрит, основывалось на тех же соображениях. Для Чикаго это был роскошный бар. Как и ресторан «Ректор», он был залит мягким электрическимсветом, пол его был выложен пестрыми квадратными плитками, а стены в нижней части облицованы темным полированным деревом, отражавшим огни прекрасных люстр. Цветная лепка в верхней части стен делала зал необычайно роскошным. Длинная стойка бара вся утопала в ярком свете и тоже была облицована полированным деревом. Повсюду сверкали хрусталь, цветное стекло и, конечно, множество бутылок всевозможных затейливых форм. Это был действительно великолепный бар — с огромными пальмами, с дорогими винами и с обилием фруктов, конфет и сигар, лучше которых нельзя было найти нигде. В ресторане «Ректор» Друэ познакомился с мистером Герствудом. Это был управляющий баром «Фицджеральд и Мой». О нем говорили как о человеке преуспевающем и весьма светском. Герствуд вполне оправдывал это мнение. Ему было под сорок, он обладал крепким сложением, деятельной натурой и имел солидный, внушительный вид, отчасти благодаря тому, что носил отличные костюмы, белоснежные рубашки и драгоценные запонки и булавки, но главным образом благодаря сознанию собственной значительности. Друэ тотчас же понял, что это человек, с которым стоит водить дружбу, и потому не ограничился простым знакомством с Герствудом, а стал заходить в бар на Адамс-стрит всякий раз, как у него являлось желание пропустить стаканчик или выкурить сигару. Герствуд представлял собою довольно интересный тип. Он был умен и хитер в мелочах и умел производить на людей выгодное впечатление. Его должность была довольно почетной — нечто вроде директора, но без права распоряжаться финансами. Ценою большого усердия и настойчивости, после долгих лет службы Герствуд сумел подняться от должности буфетчика в дешевеньком салуне до нынешнего положения. У него был при баре свой маленький кабинет, отделанный полированным вишневым деревом, и здесь в своем столе он хранил всю свою весьма несложную бухгалтерию, с помощью которой учитывал товары — нужные, заказанные и полученные. Общее руководство и финансовые функции осуществляли владельцы — Фицджеральд и Мой — и кассир, в ведении которого находилась выручка. Большую часть времени Герствуд расхаживал по бару в элегантном костюме из заграничного материала, сверкая солитером на пальце и великолепной булавкой с голубым алмазом в галстуке, щеголяя изумительным жилетом непременно какого-нибудь нового фасона, массивной золотой цепью, замысловатым брелоком и часами наилучшей марки. Он знал по имени и приветствовал словами «а, здорово, старина!» сотни актеров, коммерсантов, политиков и множество всяких других людей, пользовавшихся известностью в городе, и этим отчасти объяснялись его популярность и успех. У него была точно градуированная шкала приветствий, постепенно повышавшаяся от «добрый день!» по адресу конторщиков и мелких служащих, получавших пятнадцать долларов в неделю (но благодаря частому посещению бара имевших честь знать, кто такой Герствуд), до «здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете?». Это относилось к знаменитостям или богачам, знавшим его и относившимся к нему дружелюбно. Существовал, однако, еще один разряд гостей, слишком богатых или слишком знаменитых; с ними Герствуд даже и не пытался позволить себе фамильярный тон. К таким людям он подходил с профессиональным тактом, оказывая им должное почтение и придавая при этом своему лицу выражение серьезности и собственного достоинства. Это завоевывало ему их благосклонность, а достоинство его при этом нисколько не страдало. И, наконец, было несколько завсегдатаев не богатых, но и не бедных, довольно известных, но не пользовавшихся громкой славой, с которыми Герствуд поддерживал истинно приятельские отношения. С людьми этого сорта он охотнее всего беседовал, к их мнению он серьезнее всего прислушивался. Он любил время от времени доставлять себе удовольствие, то есть посещать бега, театры или спортивные зрелища, устраивавшиеся в каком-либо клубе. У него был хороший выезд; вместе с женой и двумя детьми он жил в красивом особняке на Северной стороне, близ Линкольн-парка, и был представителем нашего американского так называемого «высшего класса» и по жизненному уровню стоял лишь ступенью ниже денежных тузов. Друэ очень нравился Герствуду. Ему по душе были и добродушная общительность этого молодого человека и его нарядный внешний вид. Он знал, что Друэ — всего лишь коммивояжер и притом с весьма небольшим стажем, но «Бартлет, Карио и К°» считалась крупной и процветающей фирмой, и Друэ был там на хорошем счету. Герствуд хорошо знал мистера Карио и порою, когда тот приходил с приятелями, выпивал с ним за компанию бокал, участвуя в общем разговоре. Чарльз Друэ обладал чувством юмора — качеством, весьма полезным в его деле, и при случае с успехом мог рассказать какой-нибудь забавный анекдот. С Герствудом он говорил о бегах, рассказывал ему о своих приключениях с женщинами и о прочих интересных случаях из своей жизни, делился сведениями о состоянии рынка в тех городах, куда ему приходилось ездить, словом, умел быть приятным и интересным собеседником. В этот вечер настроение у Друэ было на редкость хорошее, так как отчет его был одобрен фирмой, новые образцы отобраны удачно и он успел разработать маршрут поездки на ближайшие полтора месяца. — А, Чарли, старина! — приветствовал его Герствуд, когда Друэ часов в восемь вечера появился в баре. — Как дела? Бар в этот час был переполнен. Благодушно улыбаясь, Друэ поздоровался с Герствудом, и они вместе направились к стойке. — Спасибо, недурно. — Я вас месяца полтора не видел. Когда вы приехали? — В пятницу, — ответил Друэ. — Очень удачно съездил. — Рад слышать, — сказал Герствуд. Его черные глаза, в которых обычно таилось холодное равнодушие, засветились неподдельной теплотой. — Что вы будете пить? — спросил он, когда буфетчик в белоснежной куртке и таком же галстуке слегка наклонился вперед в ожидании заказа. — Старую перцовку, — решил Друэ. — И мне капельку того же, — сказал Герствуд. — Вы долго пробудете в городе? — Только до среды. Теперь поеду в Сен-Поль. — В субботу здесь был Джордж Ивенс. Говорил, что видел вас на прошлой неделе в Милуоки. — Да, я видел Джорджа, — подтвердил Друэ. — Верно, славный малый? Мы недурно провели с ним время. Буфетчик поставил перед ними бутылку, и, продолжая разговор, приятели налили каждый себе. Друэ, согласно этикету, наполнил свою рюмку на две трети, а Герствуд налил себе лишь несколько капель и добавил сельтерской. — Куда это девался Карио? — спросил Герствуд. — Уже недели две, как он не показывается. — Говорят, слег, — ответил Друэ. — Ведь у старика подагра! — В свое время немало денежек нажил, а? — Да, денег у него уйма, — согласился Друэ. — Но он долго не протянет. Теперь почти совсем не заглядывает в контору. — У него, помнится, только один сын? — спросил Герствуд. — Да, и притом из тех, что торопятся жить, — рассмеялся Друэ. — Ну, я не думаю, чтобы он мог сильно повредить делу, пока существуют другие компаньоны. — Да, я тоже не думаю, чтобы он мог нанести какой-либо ущерб. Герствуд стоял, прислонившись к стойке, в расстегнутом пиджаке, засунув большие пальцы обеих рук в карманы жилета. Свет ярко переливался в булавке его галстука и перстнях, и это придавало всему его облику приятную изысканность. Он казался воплощением утонченности и благополучия. Человеку непьющему и склонному к серьезным размышлениям этот огромный сверкающий зал, наполненный шумной, говорливой толпой, показался бы какой-то аномалией, странным извращением природы и жизни. Сюда бесконечной вереницей залетали мотыльки, чтобы погреться в теплых лучах яркого света. Судя по долетавшим обрывкам разговора, здешняя обстановка не располагала к интеллектуальным беседам. Мошенники, очевидно, выбрали бы более укромный уголок для обдумывания своих хитроумных махинаций, а политики не стали бы сходиться компанией и обсуждать секретные дела в таком месте, где всякий человек с острым слухом мог бы их подслушать. Пребывание в баре всех этих людей едва ли можно объяснить их пристрастием к вину, так как большинство из тех, кто постоянно посещает эти великолепные места, отнюдь не страдают алкоголизмом. Тем не менее то, что люди собираются именно здесь поболтать, здесь любят заводить знакомства, должно иметь какие-то причины. Несомненно, удивительное переплетение человеческих страстей, неких смутных желаний вызвало к жизни эти учреждения — иначе их не было бы на свете. Друэ, например, влекли сюда в равной степени как жажда удовольствий, так и желание блистать среди людей вышестоящих. Приятели, с которыми он здесь встречался, посещали бар потому, что сами, возможно, того не сознавая, испытывали потребность в том обществе, в том внешнем блеске, какие они тут находили. В конце концов это явление можно было бы, пожалуй, рассматривать как признак, знаменующий улучшение общественных нравов, ибо хотя посетителей и влекли сюда чисто чувственные желания, в этом не было ничего дурного. Никому не может принести вред созерцание богато обставленного зала. В худшем случае это может вызвать в человеке, смотрящем на жизнь с грубо материалистической точки зрения, стремление жить столь же богато. Но и в этом случае надо винить не убранство ресторанов, а врожденные склонности человека. То, что такая атмосфера может побудить кого-то в недорогом костюме во что бы то ни стало перещеголять другого, у которого костюм подороже, вряд ли возможно объяснить чем-либо иным, кроме мелкого честолюбия. Устраните единственное, что вызывает возражение, — алкоголь, — и ни один человек не будет ничего иметь против остающихся достоинств таких заведений. Популярность современных модных ресторанов подтверждает правильность этой точки зрения. И тем не менее освещенный зал, разодетая, алчная толпа, занятая пустой, самодовольной болтовней, где нет и следа сильного ума, глубоких мыслей, — все это преклонение перед мишурным блеском и щегольством показалось бы человеку, находящемуся вне этих стен, под чистым сиянием вечных звезд, чем-то удивительным и странным. Да, если стоять под звездами, где гуляет холодный ночной ветер, и смотреть на освещенный бар, он, должно быть, кажется сияющим ночным цветком — загадочной, издающей одуряющий аромат розой наслаждений, окруженной роем мотыльков… — Видите того субъекта, который только что вошел сюда? — тихо произнес Герствуд, взглянув на джентльмена в цилиндре и длинном двубортном сюртуке; жирные щеки его были красны, как после плотного обеда. — Нет. Где? — спросил Друэ. — Вон там! — Герствуд глазами указал в сторону джентльмена в шелковом цилиндре. — Да, вижу, — сказал Друэ, бегло взглянув на него. — Кто же это? — Это Жюль Уолесс — знаменитый спирит. Друэ поглядел на джентльмена уже внимательнее. — Я бы не сказал, что он похож на человека, имеющего дело с духами! — заметил он. — Право, не знаю, имеет ли он с ними дело или нет, но денежки у него водятся, — отозвался Герствуд, и в глазах его блеснул алчный огонек. — Я не особенно верю в подобные вещи, — сказал Друэ. — А вы? — Как вам сказать, — ответил Герствуд. — Может быть, в этом что-то и есть. Впрочем, я лично не стал бы ломать себе над этим голову. Кстати, — добавил он, — вы сегодня идете куда-нибудь? — Да, иду в театр смотреть «Дыру в земле», — ответил Друэ, называя популярную в то время комедию. — В таком случае вам пора идти. Уже половина девятого, — заметил Герствуд, взглянув на часы. В баре поредело: посетители стали расходиться. Одни направлялись в театр, другие — в свои клубы, а часть — к женщинам, источнику самых увлекательных наслаждений (во всяком случае, для людей того типа, которые бывали здесь). — Да, мне пора, — сказал Друэ. — Заходите после спектакля, — предложил Герствуд. — Я хочу вам кое-что показать. — С удовольствием, — обрадовался Друэ. — Но, может быть, вы чем-нибудь заняты сегодня? — спросил управляющий баром. — Нет, ничем. — Тогда заходите после театра. — В пятницу, по дороге сюда, я познакомился с очаровательной девчонкой, — сказал при прощании Друэ. — Надо будет, черт возьми, непременно навестить ее до отъезда. — На что она вам сдалась! — отозвался Герствуд. — Вы не знаете, какая это красотка, — конфиденциальным тоном сообщил Друэ, стараясь произвести впечатление на приятеля. — Итак, в двенадцать, — напомнил ему Герствуд. — Да, да, — сказал Друэ, выходя из бара. Вот каким образом Керри была упомянута в самом легкомысленном и веселом месте как раз в то время, когда маленькая труженица горько оплакивала свою жалкую участь, которая была почти неизбежна для нее на первых порах новой жизни.Глава 6
Машина и девушка.
Рыцарь наших дней
Вечером, вернувшись к сестре, Керри почувствовала что-то новое в атмосфере, что не замечала раньше. Собственно, никакой перемены не произошло, но сама Керри изменилась, и это позволило ей лучше разобраться во всем, что происходит. После того как Керри вернулась накануне в таком хорошем настроении, Минни ожидала услышать веселый рассказ о ее работе. Гансон тоже предполагал, что Керри будет вполне довольна. — Ну, — начал он, проходя в рабочей одежде из передней в столовую, где была Керри, — как твоя работа? — Очень тяжело, — ответила девушка. — Мне там не понравилось. Выражение ее лица говорило яснее слов, что она устала и разочарована. — А что у тебя за работа? — спросил Гансон, задерживаясь на секунду, перед тем как пройти в ванную. — У машины, — ответила Керри. Чувствовалось, что это занимало его лишь постольку, поскольку имело какое-то отношение к его семейному благополучию. Гансон был слегка раздражен: надо же было так случиться, что Керри недовольна, хотя ей и повезло. Минни возилась на кухне уже с меньшим воодушевлением, чем за минуту до прихода Керри. Шипение мяса на сковородке не доставляло ей удовольствия после жалобы Керри. А между тем единственное, что могло бы порадовать Керри после такого дня, — это возвращение в приветливый дом, сочувствие семьи, уютно накрытый стол и чтобы кто-нибудь догадался сказать: «Ну, ничего! Потерпи немного. Ты еще найдешь что-нибудь получше!» Но все ее надежды на сочувствие разлетелись в прах. Керри стало ясно, что ее сетования кажутся обоим супругам неосновательными. Она должна работать и молчать. Керри знала, что ей придется платить четыре доллара в неделю за свое содержание, и видела, что жизнь с этими людьми не сулит ей ничего, кроме тоски. Минни не годилась ей в подруги: она была намного старше. На все у нее были свои, сложившиеся сообразно с обстоятельствами ее жизни, воззрения. Гансон же, если у него и бывали радостные мысли или приятные моменты, предпочитал скрывать их. По его поведению никогда нельзя было догадаться о каких-либо его переживаниях. Он был безмолвен, как заброшенный дом. В Керри между тем текла горячая кровь юности, и она была не лишена воображения. У нее все было еще впереди: и ухаживания, и любовь с ее тайнами. Ей нравилось думать о том, что она хотела бы сделать, о платьях, которые она хотела бы носить, о местах, где хотелось бы побывать. Вот вокруг чего вертелись все ее мысли; и то, что здесь никто ее не понимал и не сочувствовал ей, она воспринимала как препятствие каждому своему шагу. Перебирая в уме события дня, Керри совсем забыла, что может прийти Друэ. И теперь, убедившись, как неотзывчивы ее родственники, она даже хотела, чтобы он не пришел. Она не знала, что стала бы делать и как стала бы говорить с ним, если он вдруг появится. После ужина Керри переоделась. Стоило ей чуть принарядиться, и она опять стала премиленьким юным существом с большими глазами и грустным ртом. На лице Керри отражались ее чувства — смесь надежды, разочарования и уныния. Когда посуда была убрана со стола, Керри походила по комнате, поболтала немного с Минни, затем решила сойти вниз и постоять в дверях подъезда. Если Друэ придет, она встретит его там. Когда она надевала шляпу, в глазах ее мелькнул проблеск радости. — Видно, Керри не особенно довольна своей работой, — обратилась Минни к мужу, когда тот с газетой в руках зашел в столовую, чтобы посидеть там несколько минут. — Все равно, пока что надо хоть этого держаться, — сказал Гансон. — Она сошла вниз? — Да. — Ты бы сказала — пусть продержится. Может, не одна неделя пройдет, пока удастся найти что-то другое. Минни ответила, что так и сделает, и Гансон снова уткнулся в свою газету. — И будь я на твоем месте, — добавил он через некоторое время, — я не позволил бы ей стоять в подъезде. Это не очень-то прилично. — Хорошо, я ей скажу, — обещала Минни. Жизнь улицы не переставала интересовать Керри. Ей никогда не надоедало думать о том, куда направляются все эти люди в экипажах и как они развлекаются. Ее занимал лишь очень узкий круг интересов: деньги, собственная внешность, наряды и удовольствия. Изредка она мельком вспоминала Колумбия-сити, а иногда ее охватывало раздражение при мысли обо всем пережитом за день, но, в общем, маленький уголок мира вокруг нее приковывал все ее внимание. В первом этаже дома, где жила Минни, находилась пекарня, и Гансон отправился туда за хлебом, в то время как Керри стояла в подъезде. Девушка лишь тогда заметила Гансона, когда он очутился возле нее. — Я за хлебом, — только и сказал Гансон, проходя мимо. И вот пример угадывания мыслей на расстоянии. Гансон и вправду спустился за хлебом, но вместе с тем он хотел проверить, что делает Керри. И не успел он приблизиться к ней, как она уже поняла его намерение. Она не могла бы сказать, как это пришло ей в голову, но впервые в ней шевельнулась настоящая неприязнь к Гансону. Теперь ей стало ясно, что этот человек ей очень неприятен. Он ее в чем-то подозревает. Иногда какая-нибудь мысль способна по-новому осветить окружающее. Спокойные раздумья Керри были нарушены, и вскоре после того, как Гансон вернулся домой, она последовала за ним. Когда прошло четверть часа и еще четверть часа, Керри поняла, что Друэ не придет, и почувствовала себя немного обиженной. Ей казалось, что он ее бросил, что она, видимо, недостаточно хороша для него. В квартире было тихо. Минни сидела за столом и шила при свете лампы. Гансон уже улегся спать. Усталая и разочарованная, Керри тоже заявила, что идет спать. — Да, пора уж, — сказала Минни. — Тебе ведь рано вставать. Утро не принесло ничего радостного. Гансон уже выходил из дому, когда Керри приоткрыла дверь своей комнаты. За завтраком Минни пыталась было занять сестру разговором, но у них не было никаких общих интересов.Как и накануне, Керри отправилась в город пешком, так как уже поняла, что ее четырех с половиной долларов, если вычесть из них плату за стол и квартиру, не хватит даже на конку. Невольно она подумала, что такое распределение заработка не особенно выгодно для нее. Но стоило ей выйти на улицу, как утреннее солнце рассеяло все ее тяжелые мысли. Утреннее солнце обладает такой удивительной способностью. На обувной фабрике Керри провела томительно долгий день, и хотя работать ей было уже не так тяжело, как накануне, зато в ее впечатлениях было гораздо меньше новизны. Главный мастер во время обхода мастерской остановился возле ее машины и спросил: — Вы откуда взялись? — Меня нанял мистер Браун, — ответила Керри. — А, вот как! Ладно! Только смотрите, не задерживайте работу! Девушки, работавшие вместе с Керри, произвели на нее еще более неприятное впечатление, чем в первый день. Казалось, они были довольны своей долей, и все, как одна, какие-то «неотесанные». У Керри было развито воображение куда больше, чем у них. Она не привыкла к их жаргону. Да и одевалась Керри с большим вкусом, чем они. Особенно тяжело действовали на нее разговоры одной из соседок — девушки, ожесточенной жизненной борьбой. — Я сбегу отсюда, — как-то сказала та, обращаясь к своей подруге. — Грошовая плата и длинный рабочий день не для моего здоровья. Керри заметила, что девушки очень свободно держат себя с мужчинами как с молодыми, так и с пожилыми, и перебрасываются с ними грубыми шутками. Вначале это ее шокировало. Несомненно, и ее ждет такое же обращение. — Здравствуй, красотка! — окликнул ее один из рабочих во время обеденного перерыва. — Славная у тебя мордашка! Это было сказано самым безобидным тоном, и парень рассчитывал услышать в ответ обычное: «Ну тебя, проваливай». Поэтому он был настолько удивлен, когда Керри молча отвернулась от него, что, смущенно ухмыльнувшись, поспешил прочь. А дома ее ждал еще более тоскливый вечер. Ей все труднее становилось тянуть это унылое существование. Она уже убедилась, что у Гансонов почти никогда не бывает гостей. Спустившись в подъезд, Керри постояла в дверях, потом, осмелев, решила немного пройтись. Неторопливая походка и праздный вид девушки вызывали обычного рода оскорбительный интерес. Керри была огорошена, когда хорошо одетый мужчина лет тридцати, проходя мимо, внимательно посмотрел на нее, потом замедлил шаг и, обернувшись, сказал: — Вышли на прогулочку, да? Керри в изумлении взглянула на него и попятилась. — Я вас совсем не знаю, — еле нашлась она что ответить. — О, это не важно! — с улыбкой отозвался прохожий. Не ответив ни слова, Керри бросилась назад. До двери своего дома она добралась, еле переводя дух. Во взгляде этого мужчины было что-то, испугавшее ее. Так прошла вся неделя. Раз или два уставшая Керри чувствовала себя не в силах идти домой пешком и тратилась на конку. Керри была не особенно крепка, и оттого, что она весь день сидела на одном месте, у нее ныла спина. Однажды она легла спать даже раньше Гансона. Цветы и девушки не всегда хорошо переносят пересадку на новую почву. Порою требуется почва более богатая, атмосфера более благоприятная для того, чтобы продолжался хотя бы естественный рост. Керри было бы легче, если бы она могла акклиматизироваться постепенно, если бы переход не был так резок. Ей было бы легче, если бы она нашла работу не так скоро и успела бы подробнее ознакомиться с городом, который вызывал в ней тревожное любопытство. В первый же дождливый день выяснилось, что у Керри нет зонта. Минни одолжила ей один из своих, старый и выцветший. Тщеславие Керри воспротивилось этому. Она отправилась в универсальный магазин и купила там зонт, истратив на это целый доллар с четвертью из своих ничтожных средств. — Зачем ты это сделала? — ужаснулась Минни. — Но ведь мне нужен зонт! — ответила Керри. — Глупая девочка! Это обозлило Керри, но она ничего не ответила. Она вовсе не намерена ходить как простая фабричная работница, и пусть сестра на это не рассчитывает. В первую же субботу, вернувшись вечером домой, Керри уплатила сестре четыре доллара за стол и комнату. Принимая деньги, Минни почувствовала легкий укор совести, но она не знала, что сказать Гансону, если возьмет у сестры меньше. Этот достойный человек с довольной улыбкой выдал жене на хозяйство ровно четырьмя долларами меньше обычного. Таким путем он рассчитывал увеличить ежемесячные взносы на свой участок земли. А Керри ломала голову над проблемой, как одеваться и развлекаться на пятьдесят центов в неделю. Она много думала об этом и наконец внутренне взбунтовалась. — Я немного пройдусь по улице, — сказала она после ужина. — Не одна, надеюсь? — спросил Гансон. — Нет, одна, — ответила Керри. — Напрасно, — вмешалась Минни. — Но мне хочется хоть что-нибудь видеть! — сказала Керри. По тону, каким она произнесла последние слова, Гансоны впервые поняли, что она ими недовольна. — Что это с ней? — заметил Гансон, когда Керри вышла надеть шляпу. — Право, не знаю, — ответила Минни. — Гм… Она должна бы понимать, что нельзя вечером разгуливать одной по улице. Однако Керри не пошла далеко. Она вскоре вернулась и постояла в дверях дома. На следующий день все отправились в Гарфилд-парк, но прогулка не доставила Керри никакого удовольствия; она стеснялась, так как была плохо одета. А на другой день на фабрике она услышала восторженные рассказы девушек об их, в сущности, довольно убогих развлечениях. Они были счастливы. Несколько дней подряд шел дождь, и Керри возвращалась домой на конке. Однажды, направляясь к остановке на Ван-Бьюрен-стрит, она сильно промокла. Весь вечер Керри просидела одна в гостиной, задумчиво глядя вниз, где на мокрой мостовой отражались огни фонарей. Она была достаточно впечатлительна, чтобы прийти в скверное настроение. В следующую субботу она снова уплатила сестре четыре доллара и с тоской спрятала свои пятьдесят центов. Из разговоров с некоторыми работницами на фабрике она узнала, что у них куда больше остается из заработка на свои личные нужды. К тому же их постоянно приглашали куда-нибудь поклонники — молодые люди, на которых Керри после знакомства с Друэ смотрела свысока. Ей решительно не нравились эти пустомели — фабричные рабочие. Ни в одном из них не было ни капли утонченности. Она, конечно, видела их только в рабочее время. Наступил день, когда по улицам города загулял холодный ветер — первый вестник приближающейся зимы. Этот ветер нагромоздил облака в небе, растянул в длинные полосы дым из фабричных труб и резкими порывами мчался по улицам и перекресткам. Керри задумалась о зимней одежде. Что ей делать? У нее не было ни теплого жакета, ни шляпки, ни ботинок. Ей очень трудно было заговорить об этом с Минни, но наконец она собралась с духом. — Право, не знаю, что я буду делать зимой, — сказала она как-то вечером, когда они остались одни. — У меня нет теплой одежды. И мне нужна шляпа. Лицо Минни приняло озабоченное выражение. — А ты оставь себе часть заработка и купи шляпку, — предложила она сестре, хотя в душе была немало встревожена сложностями, которые вызовет уменьшение очередного взноса Керри. — Я бы очень этого хотела, если ты позволишь. Дай мне неделю или две, — сказала, набравшись смелости, Керри. — А два доллара ты можешь платить? — спросила Минни. Керри охотно согласилась, радуясь выходу из тяжелого положения и сразу став щедрой. Она была в восторге и тотчас же принялась высчитывать. Прежде всего ей нужна шляпка. Она так и не узнала, как удалось Минни объяснить все Гансону. А тот тоже ничего не сказал свояченице, но в квартире воцарилась атмосфера скрытого недовольства. План Керри, вероятно, удался бы, если бы не вмешалась болезнь. После одного из очередных дождей вдруг наступили холода, а Керри все еще ходила без теплого жакета. В шесть часов вечера она вышла из жаркой мастерской и сразу попала под холодный ветер. Ее охватил озноб. Утром у нее появился насморк, но она все же отправилась на работу. На фабрике у нее весь день ныли кости, в голове была какая-то пустота. К вечеру Керри почувствовала себя совсем больной и, вернувшись домой, почти ничего не ела. Минни заметила, что она как-то сникла, спросила, что с ней. — Я сама не знаю, — ответила Керри. — Мне что-то плохо. Она не отходила от печки, и зубы у нее стучали от озноба. Совсем больная, легла она в постель, а на следующее утро у нее оказался жар. Минни была очень расстроена, но внешне держалась с сестрой ласково. Гансон же заметил, что Керри, пожалуй, лучше всего было бы на время вернуться домой. Когда дня через три Керри встала с постели, можно было не сомневаться, что она потеряла место на фабрике. Зима на носу, у девушки не было теплой одежды, а тут еще она лишилась работы. — Право, не знаю, что делать, — сказала она. — Пойду в понедельник в город и поищу; может быть, что-нибудь подвернется. На этот раз старания Керри увенчались значительно меньшим успехом. Ее одежда не годилась для поздней осени. Последние свои деньги она истратила на шляпку. Три дня девушка бродила по городу, все больше и больше падая духом. Отношения с Гансонами становились все более натянутыми. С тяжелым сердцем Керри возвращалась по вечерам к ним на квартиру. Гансон был холоден, как лед. Керри понимала, что так не может долго продолжаться. Скоро ей придется признать себя побежденной и уехать домой. Весь четвертый день Керри тоже провела в поисках, заняв у Минни десять центов на завтрак. Она тщетно искала работы, хотя бы и совсем низко оплачиваемой. Она даже обратилась в какой-то маленький ресторан, в окошке которого увидела объявление о том, что требуется официантка, но ей ответили, что нужна опытная девушка. Совсем отчаявшись, Керри брела в густой толпе чужих людей. Внезапно чья-то рука взяла ее за локоть и повернула кругом. — Вот так так! — услышала Керри. С первого же взгляда она узнала Друэ. Свежий и румяный, он весь так и сиял. Казалось, он был соткан из солнечных лучей и благодушия. — Как поживаете, Керри? — спросил он. — Вы очаровательны. Где вы пропадали? Керри невольно заулыбалась, тронутая этой неотразимой сердечностью. — Я была дома, — ответила она. — Вы знаете, я еще издали, с той стороны улицы, заметил вас и подумал, что это, должно быть, вы, — сказал Друэ. — А я только собирался было навестить вас. Ну, как же вы поживаете? — Недурно, — с улыбкой ответила Керри. Друэ оглядел ее с ног до головы и пришел к обратному выводу. — Мне очень хотелось бы поговорить с вами, — сказал он. — Вы никуда не спешите? — Нет, сейчас не спешу, — ответила Керри. — Тогда зайдем куда-нибудь перекусить. Боже мой, вы не поверите, как я рад вас видеть! Керри почувствовала такое облегчение в присутствии этого жизнерадостного человека, к тому же обнаруживавшего явное участие к ней, что охотно согласилась, хотя изобразила некоторое колебание. Друэ взял ее под руку. — Ну?.. — сказал он, и в тоне его было столько простого товарищеского чувства, что у девушки сразу потеплело на душе. Они пересекли Монро-стрит и направились в старинный «Виндзор», просторный и уютный ресторан, славившийся в те времена прекрасной кухней и образцовым обслуживанием. Друэ выбрал столик у самого окна, откуда можно было наблюдать за движением на людной улице. Он любил изменчивую панораму уличной жизни, ему было приятно видеть других и самому быть на виду, когда он обедал здесь. — Итак, — начал он, когда они оба удобно уселись, — что вы будете есть? Керри просмотрела поданное официантом меню, не особенно вникая в то, что она читает. Она очень проголодалась, и названия блюд еще более разожгли ее аппетит, но ее испугали высокие цены. Цыпленок, жаренный на вертеле, — семьдесят пять центов. Бифштекс-филе с грибами — один доллар двадцать пять центов. Керри что-то слышала о подобных блюдах, но ей как-то не верилось, что она сама может заказывать их. — Мы вот что сделаем, — сказал Друэ. — Послушайте, официант! Плечистый круглолицый негр приблизился и почтительно склонился. — Бифштекс с грибами и фаршированные помидоры, — сказал Друэ. — Слушсэр! — ответил негр, кивая. — Жареный картофель, ломтиками. — Слушсэр! — Спаржу. — Слушсэр! — И кофе. Друэ повернулся к Керри. — У меня с утра маковой росинки во рту не было. Я только что приехал из Род-Айленда и собирался идти обедать, когда увидел вас. Керри в ответ только улыбнулась. — Что вы все это время делали? — продолжал Друэ. — Расскажите мне подробнее о себе. Как ваша сестра? — Она здорова, — сказала Керри, отвечая лишь на последний вопрос. Друэ пристально посмотрел на нее. — Послушайте, — сказал он, — уж не были ли вы сами больны, а? Керри кивнула. — Вот беда! — воскликнул он. — У вас и сейчас вид далеко неважный. Я сразу подумал, что вы как будто слишком бледны. Что же вы все это время делали? — Работала. — Вот как! Где же? Керри рассказала. — «Родс, Моргентау и Скотт»? Как же, как же, знаю! Это на Пятой авеню, не так ли? О, они прижимистые люди. Что заставило вас пойти туда? — Я не могла найти ничего лучшего, — откровенно призналась Керри. — Но это же настоящее издевательство! — сказал Друэ. — Вам не следовало бы работать у этих господ. У них мастерская сейчас же за магазином, верно? — Да, — подтвердила Керри. — Это не особенно почтенная фирма, — сказал Друэ. — Такая работа вам не подходит. Он без умолку болтал, задавал вопросы, рассказывал о себе, объяснял, что представляет собой ресторан «Виндзор», пока не явился наконец официант с огромным подносом, уставленным горячими, аппетитными блюдами. Друэ сиял и старался услужить Керри. Он очень выигрывал сейчас на фоне белоснежного столового белья и серебряных судков. Когда он стал орудовать ножом и вилкой, разрезая сочное жаркое, кольца на его пальцах казалось, заговорили. Его новый костюм приятно шуршал всякий раз, как он протягивал руку за каким-нибудь блюдом, передавал хлеб или разливал кофе. Он не переставал подкладывать на тарелку Керри, и его душевное тепло согревало ее тело, пока она не почувствовала себя так, будто переродилась. Друэ с обывательской точки зрения был чудесный малый и совершенно пленил девушку. Эта маленькая искательница счастья восприняла свою нежданную удачу довольно легко. Она чувствовала себя чуточку неловко в таком непривычном месте, но огромный зал действовал на нее успокаивающе, а зрелище хорошо одетой толпы на улице наполняло ее восхищением. Ну что за жизнь, когда нет денег. Как хорошо приходить сюда обедать, когда вздумается! Какой счастливец Друэ! Он много разъезжает, хорошо одевается, он такой сильный, он может всегда обедать в таких чудесных ресторанах! Друэ теперь представлялся ей весьма важной особой, и она невольно спрашивала себя, чем объяснить его дружбу и внимание к ней. — Так вы, значит, потеряли работу из-за болезни? — спросил он. — Что же вы собираетесь теперь делать? — Буду искать дальше, — ответила Керри. Но при мысли о том, что за пределами этого прекрасного ресторана ее поджидает нужда, бредущая за ней по пятам, как голодная собака, в глазах девушки мелькнул страх. — Нет, это никуда не годится, — сказал Друэ. — И давно вы ищете? — Четыре дня. — Подумайте только! — воскликнул Друэ, как будто обращаясь к невидимому третьему лицу. — Нет, все это совсем не для вас. Эти девушки, — и он сделал широкий жест рукой, как бы указывая на всех продавщиц и фабричных работниц, — ничего не получают за свой труд. Разве можно жить на такие деньги? Друэ держался с Керри совсем по-братски, но, решительно отвергнув мысль о подобной работе для Керри, он переменил линию поведения. Керри и в самом деле была очень миловидна. Неказистое платье не могло скрыть, что девушка сложена очень недурно, и у нее были такие большие и ласковые глаза. Друэ пристально смотрел на девушку, и она поняла, о чем он думает. Она понимала, что он восхищается ею, об этом убедительно говорила его щедрость, его веселое добродушие. Она чувствовала, что и он ей нравится, и чем дальше, тем больше. И еще нечто другое, более глубокое теплой струей вливалось ей в душу. Они то и дело встречались глазами, и их взгляды ясно говорили о растущей взаимной симпатии. — Почему бы вам не остаться в городе и не пойти со мной вечером в театр? — сказал Друэ, придвигая свой стул ближе. Столик был не очень широк. — Ах, нет, я не могу! — испугалась Керри. — Что вы собираетесь делать сегодня? — Ничего, — уныло ответила Керри. — Вам, видно, не слишком нравится там, где вы живете? — Как вам сказать… — Что вы будете делать, если не найдете работы? — Наверно, уеду домой. При этих словах голос Керри слегка дрогнул: почему-то влияние Друэ на нее оказалось непреодолимым. Они начали понимать друг друга без слов. Ему стало ясно, в каком она находится положении, а ей — что он это понимает. — Нет, это не годится! — с искренним в эту-минуту сочувствием произнес Друэ. — Позвольте мне помочь вам. Возьмите у меня немного денег. — О нет! — воскликнула Керри и даже отшатнулась от него. — Что же вы будете делать? Она задумалась и молча покачала головой. Друэ смотрел на нее с необычной для него нежностью. В жилетном кармане у него лежало несколько ассигнаций; они были мягкие, и ему удалось беззвучно нащупать их пальцами и, скомкав, зажать в руке. — Послушайте, Керри, — снова начал он, — я непременно хочу вас выручить. Купите себе кое-что из платья. Он впервые коснулся этой темы, и Керри сразу вспомнила, как плохо она одета. Друэ подошел к этому довольно грубо, но зато попал в самую точку. Губы Керри задрожали. Одна ее рука лежала на столе. Они были совсем одни в своем уголке, и Друэ накрыл пальцы девушки своей большой теплой рукой. — Ну, полно, Керри! — промолвил он. — Подумайте, что вы можете сделать одна? Разрешите мне помочь вам. Он слегка пожал при этом пальчики Керри, а когда она попыталась высвободить руку, он еще крепче сжал их, и девушка больше не сопротивлялась. Тогда Друэ сунул ей в руку зеленые ассигнации и, прервав протесты Керри, шепнул: — Я вам даю их взаймы, хорошо? Только взаймы! Он заставил Керри взять деньги. Она почувствовала себя связанной с ним узами странной нежности. Они вышли из ресторана и свернули в южном направлении. Друэ проводил ее довольно далеко, до самой Полк-стрит. — Вы, видимо, не хотите жить с ваш-ими родными? — как бы вскользь заметил он во время разговора. Керри слышала вопрос, но не обратила на него внимания. — Давайте завтра встретимся и пойдем на утренник, — предложил Друэ. — Хорошо? Керри начала было отнекиваться, но потом согласилась. — Вы ведь сейчас ничем не заняты. Купите себе красивые ботинки и теплую кофточку. Керри и не подозревала, какие сложные, противоречивые мысли будут терзать ее по уходе Друэ. При нем она проникалась его радужным, беспечным настроением. — И не огорчайтесь из-за людей, с которыми вы живете, — добавил он на прощание. — Я помогу вам. У Керри было такое чувство, точно чья-то могучая рука протянулась к ней, чтобы вытащить ее из беды. Две мягкие и красивые зеленые десятидолларовые ассигнации были зажаты у нее в руке.
Глава 7
Великий соблазн земных благ.
Красота говорит за себя
До сих пор еще никто толком не разъяснил и не понял истинного значения денег. Когда каждый из нас уяснит себе, что деньги прежде всего означают вознаграждение моральное и только так должны восприниматься, что деньги — это возмещение честно затраченной энергии, а не привилегия, добытая незаконным путем, — тогда многие из наших общественных, религиозных и политических неурядиц отойдут в область преданий. Керри Мибер смотрела на деньги так же, как и огромное большинство. В старину говорили: «Деньги — это то, что есть у других и что нужно добыть мне», — это изречение могло бы прекрасно выразить ее представление о деньгах. Вот сейчас она держала их в руке — две мягкие зеленые ассигнации и, обладая ими, уже чувствовала себя неизмеримо сильнее. Эти бумажки сами но себе были силой. Человек ее умственного развития радовался бы, если б его выбросило на необитаемый остров с целым тюком денег, и только долгие муки голода научили бы его, что деньги иногда не имеют никакой ценности. Но и тогда такая вот Керри не стала бы размышлять об относительной ценности денег; она, бесспорно, думала бы лишь о том, как обидно обладать таким могуществом и не иметь возможности им пользоваться. Расставшись с Друэ, бедная девушка в полном смятении чувств продолжала свой путь. Ей было немного стыдно, что она проявила слабость и взяла деньги. Но она так нуждалась, что не радоваться помощи было невозможно. Наконец-то у нее будет красивая новая жакетка! Наконец-то она купит себе красивые ботинки на пуговках! У нее будут чулки, новая юбка… И снова, как и в тот раз, когда она распределяла свой будущий заработок, Керри вдвое переоценила покупную способность своих денег. Что же касается Друэ, то у нее сложилось вполне правильное мнение о нем. В ее глазах, да и в глазах всего света, он был славный, добродушный малый. Он никому не причинял зла. Он дал ей денег только по доброте, только потому, что понимал, в какой она нужде. Правда, он не дал бы такой суммы нуждающемуся мужчине, но следует помнить, что нуждающийся мужчина, естественно, не мог бы тронуть его так, как молодая девушка. Друэ был женолюбом. Он не мог смотреть на женщину без вожделения. В то же время стоило какому-нибудь нищему попасться ему на глаза и сказать: «Мистер, я умираю с голоду», как Друэ охотно дал бы ему столько, сколько, по его мнению, полагалось давать нищим, после чего тотчас же забыл бы об этом. Он не стал бы предаваться размышлениям и философствовать. В его уме не происходило таких процессов, которые были бы достойны хоть одного из этих слов. Нарядный и цветущий, он был подобен беззаботному мотыльку. Если бы он лишился своего положения, если бы он стал жертвой хитроумных и ошеломляющих подвохов, которые судьба иной раз устраивает людям, он был бы столь же беспомощен, как Керри, столь же наивен и, если угодно, жалок. Что же касается влечения Друэ к женщинам, то в его намерениях не таилось зла, ибо, стремясь к сближению с ними, он не видел в этом ничего дурного. Он любил ухаживать за женщинами, любил покорять их своими чарами, но он не был хладнокровным, бессовестным негодяем, — просто природные склонности влекли его к этому, как к высшему наслаждению в жизни. Друэ был тщеславен и хвастлив, красивая одежда кружила ему голову, словно легкомысленной девушке. Прожженный плут обошел бы его с такой же легкостью, с какой Друэ мог бы обольстить хорошенькую фабричную работницу. Его бесспорный успех в качестве коммивояжера объяснялся отчасти его добродушной веселостью, отчасти прекрасной репутацией его фирмы. Беспечным, жизнерадостным мотыльком кружился он среди людей — у него не было ни той духовной силы, которую можно было бы назвать интеллектом, ни единой мысли, которая была бы достойна эпитета «благородная», ни каких-либо чувств, которые могли бы долгое время волновать его. Какая-нибудь современная Сафо назвала бы его «свиньей», Шекспир сказал бы про него «мое резвое дитя», а старый пропойца Карио считал его умным, способным и деловитым человеком. Короче говоря, Друэ был таким, каким он мог быть при своих природных данных. В этом человеке, несомненно, было нечто искреннее и располагающее, и то, что Керри приняла от него деньги, служило тому лучшим доказательством. Коварному совратителю с низкими целями под маской дружеского участия не удалось бы навязать ей хотя бы несколько центов. Люди, не обладающие большимумом, отнюдь не беспомощны. Природа научила диких зверей обращаться в бегство, почуяв скрытую опасность, например, внушила глупой маленькой белке необъяснимый страх перед ядами. «Бог хранит свои создания» — это относится не только к животным. Керри не была умудрена опытом, зато, подобно неразумным овечкам, обладала инстинктом. Но ухаживания Друэ почти не пробудили в ней инстинкта самосохранения, столь сильного в таких непосредственных натурах. Расставшись с Керри, Друэ поздравил себя с успехом, он произвел на нее выгодное впечатление. Черт возьми, это возмутительно, что молодым девушкам приходится так туго! Надвигаются холода, а ей и надеть нечего. Это ужасно! Надо зайти выкурить сигару к «Фицджеральду и Мою». Мысли о Керри окрылили его. Керри вернулась домой в приподнятом настроении, которое она никак не могла скрыть. В то же время полученные деньги ее серьезно смущали. Как она станет покупать обновки, когда Минни знает, что у нее нет ни цента? Прежде чем войти в дом, она уже твердо решила: покупать ничего нельзя. Для этого невозможно придумать никакого объяснения. — Ну, как? — спросила Минни, имея в виду поиски работы. Керри не обладала способностью обманывать и, чувствуя одно, говорить другое. Если порой она и отступала от истины, то уж, по крайней мере, в тех случаях, когда считала это необходимым. Поэтому, вместо того чтобы жаловаться на неудачу в то время, как у нее было так легко на душе, она ответила: — Мне кое-что обещали. — Где? — В универсальном магазине «Бостон». — А это наверняка? — допытывалась Минни. — Вот завтра я узнаю, — ответила Керри, которой вовсе не хотелось лгать больше, чем было необходимо. Минни тотчас же почувствовала хорошее настроение Керри и решила, что сейчас самый удобный момент, чтобы осведомить ее, как относится Гансон к этой рискованной затее — приехать в Чикаго. — Если ты не получишь этого места… Она запнулась, не находя подходящих слов. — Если я не получу ничего в самое ближайшее время, я, наверно, уеду домой, — сказала Керри. Минни подхватила эту мысль. — Свен тоже думает, что это, пожалуй, самое правильное… Во всяком, случае, на зиму. Керри сразу же поняла все: они не желали держать у себя безработную родственницу. Она не осуждала Минни и даже не слишком осуждала Гансона. Но сейчас, сидя рядом с сестрой и обдумывая ее слова, она радовалась, что у нее есть деньги Друэ. — Да, — сказала она, помолчав, — я тоже об этом думала. Керри не сочла нужным добавить, что мысль о возвращении в Колумбия-сити вызывала в ней бурное возмущение. Колумбия-сити! Что хорошего ждет ее там? Она прекрасно знала однообразность и будничность тамошней жизни. Здесь же был огромный таинственный город, все еще притягивающий ее к себе, точно магнит. То, что она успела увидеть, говорило о необъятных возможностях. И что же: опять влачить прежнее существование? При одной этой мысли у Керри чуть не вырвался крик протеста. Сегодня она вернулась домой рано и сейчас прошла в комнатку с окнами на улицу, чтобы посидеть и подумать. Как ей теперь быть? Она не может купить новые ботинки и носить их здесь. И необходимо сохранить часть этих двадцати долларов на обратный проезд. Ей было бы неприятно занимать на дорогу у Минни. При всем том как объяснить, откуда у нее деньги? Если бы она могла хоть сколько-нибудь заработать, чтобы выйти из этого тягостного положения! Снова и снова Керри пробовала разобраться в этой сложной путанице. Завтра утром Друэ будет дожидаться ее, уверенный, что она придет в новой жакетке. А это неосуществимо. Гансоны ждут не дождутся дня, когда она уедет. Она и сама была бы рада расстаться с ними, но ей не хотелось ехать домой. Представив себе, как посмотрят эти люди на то, что она раздобыла деньги не работая, Керри и сама начала приходить в ужас от своего поступка. Ей стало стыдно. Создавшееся положение угнетало ее. Все было так ясно, пока рядом с нею был Друэ. А теперь все так запутано, так безнадежно, — много хуже, чем раньше, как будто бы и есть помощь, а воспользоваться ею нельзя! За ужином Керри совсем приуныла, и Минни подумала, что у сестры, должно быть, опять выдался тяжелый день. А Керри в конце концов решила, что вернет деньги Друэ. Напрасно она взяла их, это нехорошо. Завтра с утра она отправится в город на поиски работы. В полдень, как условлено, она встретится с Друэ и скажет ему все напрямик. Но тут сердце ее екнуло, и она почувствовала себя по-прежнему несчастной. Как ни странно, Керри испытывала чувство облегчения, стоило ей прикоснуться к ассигнациям. Все тягостные размышления, все тревоги отлетали прочь, и тогда эти двадцать долларов казались ей чем-то чудесным и восхитительным. Ах, деньги, деньги, деньги! Как хорошо иметь их! Будь у нее много денег, все ее заботы развеялись бы, как дым! Утром она встала и вышла из дому раньше обычного. Ее решимость найти себе место была не слишком твердой, но оттого, что в кармане у нее лежали деньги, вызвавшие столько волнений, проблема работы казалась уже чуть-чуть менее страшной. Снова Керри очутилась в районе оптовых фирм, но при мысли о том, чтобы предложить где-либо свои услуги, сердце ее замирало. «Какая трусиха», — бранила она себя. Но ведь она уже столько раз просила работы! Теперь, наверное, повторится старая история. И она все шла вперед и вперед, пока наконец не решилась зайти на одну фабрику, где ее встретил очередной отказ. Она вышла оттуда, считая, что судьба против нее. Все бесполезно! Почти сама того не сознавая, она дошла до Дирборн-стрит. Здесь находился знаменитый универсальный магазин «Базар» с заманчивыми витринами, толпами покупателей и множеством фургонов для развозки покупок. Это зрелище быстро изменило ход мыслей Керри, тем более что она уже изнемогала от них. Вот здесь она вчера намеревалась купить нужные ей вещи. Во всяком случае, она может зайти сюда, чтобы хоть сколько-нибудь рассеяться. Она только взглянет на жакеты. Нет в этом мире ничего восхитительнее того состояния неопределенности, когда мы, снедаемые соблазном купить вещь и обладая средствами для этого, все еще медлим, удерживаемые то ли голосом совести, то ли недостатком решимости. Таково было душевное состояние Керри, когда она вошла в магазин и стала бродить среди изумительных вещей, попадавшихся ей на каждом шагу. С того дня, когда она зашла сюда в поисках работы, у нее осталось сильное впечатление от этого магазина. Теперь она останавливалась перед каждой привлекавшей ее взор витриной, мимо которой тогда спешила пройти. Ее женское сердце горело желанием обладать всей этой красотой. Как хорошо сидело бы на ней вот это, какой очаровательной она была бы вон в том! Она остановилась у прилавка с корсетами и замечталась при виде яркой пены из шелка и кружев. Стоит ей только решиться, и один из корсетов будет принадлежать ей. Керри надолго задержалась в ювелирном отделе, рассматривая серьги, браслеты, булавки, цепочки. Чего бы она не дала за обладание всем, что было здесь! Она знала, что была бы обворожительна в этих украшениях. Но главной приманкой для нее были жакеты. Уже при входе в магазин она остановила свой выбор на жакете кофейного цвета с большими перламутровыми пуговицами — крик моды в ту осень. Глядя на жакет, Керри с восторгом убеждалась, что ничего лучшего ей не найти. Она расхаживала среди стеклянных шкафов, в которых были выставлены всевозможные наряды, и радовалась тому, что сразу выбрала самую красивую вещь. И все время она не переставала колебаться, то уверяя себя, что может сейчас же купить этот жакет, то вспоминая свое затруднительное положение. Близился полдень, а она еще ничего не купила. Нет, надо пойти и вернуть деньги! Друэ ждал ее на углу в условленном месте. — А! — приветствовал он ее. — Где же жакет? — спросил он и, взглянув на ее ноги, добавил: — И ботинки? Керри намеревалась толково изложить ему свое решение, но все смешалось у нее в голове, и она уже не помнила ни одной из заранее приготовленных фраз. — Я пришла сказать вам, что… что я не могу взять ваших денег. — А! Вот оно что! — отозвался Друэ. — Хорошо, пойдемте со мной. Мы заглянем к Партриджу. Керри пошла с ним рядом, и всей сложной паутины сомнений и колебаний словно и не бывало. Она уже не сумела бы изложить те доводы, которые казались ей столь серьезными, те обстоятельства, которые она хотела объяснить ему. — Вы еще не завтракали? — спросил вдруг Друэ. — Ну, разумеется, нет! Давайте зайдем сюда. И он вошел с ней в один из изящно обставленных ресторанов на Монро-стрит, близ Стэйт-стрит. — Я не должна брать у вас деньги, — повторила Керри после того, как они расположились в уютном уголке и Друэ заказал завтрак. — Я не могу носить эти вещи там. Мои родные… они спросят, откуда я их взяла. — Что же вы намерены делать? — с улыбкой спросил Друэ. — Ходить раздетой? — Я уеду домой, — грустно ответила она. — Полно, полно! — сказал Друэ. — Вы слишком много думаете об этом. Я вам скажу, что делать. Вы говорите, что не можете носить обновки в квартире сестры? А почему бы вам не снять меблированную комнату и не оставить там эти вещи, скажем, на неделю? Керри покачала головой. Как и все женщины, она должна была протестовать, с тем чтобы потом поддаться уговорам. А задачей Друэ было рассеять ее сомнения и по возможности освободить путь для иных мыслей. — Почему вы уезжаете домой? — спросил он. — Потому, что я не могу найти здесь работу. — Родные не хотят содержать вас? — догадался он. — Они не могут, — ответила Керри. — Я вам скажу, что делать! — воскликнул Друэ. — Не расставайтесь со мной. Я позабочусь о вас. Керри покорно слушала его. В том состоянии, в котором она находилась, слова Друэ были для нее словно свежий воздух, повеявший из распахнутой двери. Друэ, казалось, отлично понимал ее, был ей приятен. Он так красив, аккуратен, хорошо одет и преисполнен сочувствия. Его голос — голос друга. — Что вы будете делать там, в Колумбия-сити? — спросил он, и его слова вызвали в воображении Керри картину той серенькой жизни, от которой она бежала. — Что там хорошего? Чикаго — вот где надо жить! Снимите приличную комнату, оденьтесь как следует, тогда вы и работу найдете. Керри смотрела в окно на сновавшую на улице толпу и думала: «Вот он, этот чудесный, огромный город, такой пленительный для тех, у кого есть деньги!» Мимо промчался экипаж, запряженный парой гнедых; в глубине, среди мягких подушек, сидела молодая женщина. — Что вас ждет, если вы вернетесь в Колумбия-сити? — снова спросил Друэ. Вопрос был задан искренне, без всякой задней мысли. Друэ просто считал, что дома Керри будет лишена всего того, ради чего, по его мнению, стоило жить. Керри сидела неподвижно и смотрела на улицу. Она раздумывала, что ей делать. Ведь Гансоны ждут, что на этой неделе она уедет домой. Друэ снова вернулся к вопросу об одежде. — Почему вы не купите себе красивую теплую жакетку? Ведь это необходимо. Я вам одолжу еще денег, об этом не беспокойтесь. Подыщите себе хорошую комнату, где вы будете жить одна. Меня вам нечего опасаться! Керри ясно понимала, к чему клонится разговор, но не могла высказать свои мысли. Больше чем когда-либо она чувствовала всю безвыходность положения. — Если б мне найти какую-нибудь работу! — пробормотала она. — Возможно, что вы и найдете, если останетесь здесь, — ответил Друэ. — Но если вы уедете, то, конечно, ничего не достигнете. Ваши родные не хотят, чтобы вы оставались у них? Хорошо. Почему же вы не позволите мне снять вам уютную комнату? Я не стал бы вас беспокоить, не бойтесь! А когда вы как следует устроитесь, быть может, найдете и работу. Друэ с живым интересом изучал ее милое личико и раздумывал над сложившейся ситуацией. Ему, несомненно, нравилась Керри. Он угадывал в ней какую-то скрытую силу. Она не была похожа на обычных продавщиц, лишь недавно прибывших из провинции: она была далеко не глупа. Надо признать, что Керри, безусловно, обладала куда большим воображением, чем Друэ, и у нее было больше врожденного вкуса. Вот в этой-то утонченности души и крылась причина ее угнетенного состояния и тоски. Она была одета бедно, но опрятно и, сама того не сознавая, как-то очень грациозно держала голову. — Так вы думаете, я могла бы что-нибудь найти? — с сомнением спросила Керри. — Ну еще бы! — сказал Друэ и наклонился налить ей чаю. — Я вам помогу. Керри взглянула на него, и он беспечно рассмеялся, стараясь подбодрить ее. — Послушайте, мы вот что сделаем. Сходим в магазин Партриджа и выберем все, что вам нужно. Затем мы поищем для вас комнату, и вы оставите там свои вещи. А вечером мы с вами пойдем в театр. Керри покачала головой. — Ну хорошо, вы потом вернетесь на квартиру к сестре. Пожалуй, так будет лучше. Вам вовсе незачем оставаться в новой комнате. Вы только снимите ее и сложите там покупки. Керри ничего не ответила и до конца завтрака мучилась сомнениями. — Ну, идем выбирать жакет! — сказал, наконец, Друэ. Они вместе отправились в магазин, где шелестели и сверкали всевозможные новые вещи, и, разумеется, Керри тотчас же оказалась во власти их магической силы. После вкусного завтрака в обществе жизнерадостного Друэ его план казался ей вполне осуществимым. Она стала присматриваться к вещам и выбрала точно такой жакет, какой раньше облюбовала в «Базаре». Когда Керри взяла его в руки, жакет показался ей еще красивее. Продавщица помогла девушке примерить покупку, которая оказалась как раз впору. Друэ просиял, увидев, как идет эта вещь Керри. Девушка сразу стала элегантной. — Именно то, что вам нужно! — воскликнул он. Керри повертелась перед зеркалом, радостно разглядывая себя со всех сторон. Румянец заливал ей щеки. — Именно то, что вам нужно! — повторил Друэ. — А теперь платите. — Девять долларов! — ужаснулась Керри. — Ну и что ж, берите, — сказал Друэ. Керри порылась в сумочке и вынула одну из ассигнаций. Продавщица спросила, не наденет ли она жакет, и ушла. Через минуту она принесла сдачу, и покупка свершилась. От Партриджа они отправились в обувной магазин, где Керри примерила ботинки. Друэ стоял тут же. Увидев, как красиво новые ботинки облегают ее ноги, он сказал: — Не снимайте их. Но Керри покачала головой. Она думала о том, что должна вернуться домой, к сестре. Друэ тут же купил ей новую сумочку, потом пару перчаток, а чулки предоставил купить ей самой. — А завтра снова походите по магазинам и купите себе юбку, — сказал он. На все это Керри соглашалась не без дурных предчувствий. Чем больше она запутывалась, тем больше пыталась уверить себя, что все будет зависеть именно от того, чего она еще не сделала. Пока она не сделала того-то и того-то, еще возможно отступление. Друэ знал дом на Вобеш-авеню, где сдавались меблированные комнаты. Когда они подошли к цели, он указал Керри на дом и сказал: — Теперь помните, что вы моя сестра. Весело и непринужденно вел он переговоры с квартирной хозяйкой, внимательно все разглядывал, выбирал, критиковал и делился своим мнением. — Вещи сестры прибудут через день-два, — сказал он хозяйке, которая была очарована нанимателем. Когда они остались в комнате одни, Друэ нисколько не изменил своего поведения. Он продолжал болтать, словно они находились на улице. Керри заперла в своей новой комнате купленные вещи. — А почему бы вам не переехать сегодня же? — спросил Друэ. — О нет, я не могу! — ответила она. — Почему? — Я не хочу уходить от своих так сразу. На улице Друэ вернулся к той же теме. Стоял теплый, ясный день. Солнце выглянуло из-за туч, а ветер совсем стих. Из разговора с Керри Друэ составил себе довольно точное представление о той атмосфере, которая царила в квартире ее сестры. — Уходите оттуда поскорее, — посоветовал он девушке. — Они нисколько не будут огорчены. А я вам помогу все наладить. Керри слушала его, и мало-помалу все ее дурные предчувствия рассеивались как дым. Друэ сказал, между прочим, что сперва немного ознакомит ее с городом, а потом поможет найти работу. Он и сам верил в то, что говорил. Скоро он отправится в деловую поездку, а она останется и будет работать. — Вы вот что сделайте, — сказал он. — Сходите к сестре, возьмите там, что вам нужно, а потом уходите. Керри долго обдумывала его слова. Наконец она согласилась. Они условились, что вечером, в половине девятого, Друэ будет ждать ее на углу Пеория-стрит. В половине шестого Керри вернулась домой, а к шести часам принятое ею решение окончательно окрепло. — Значит, не получила? — спросила Минни. Она подразумевала место, которое, по словам Керри, ей обещали в универсальном магазине «Бостон». — Нет, — ответила Керри, искоса взглянув на сестру. — Пожалуй, лучше тебе до весны больше и не искать, — сказала та. Керри ничего не ответила. Когда Гансон вернулся домой, на лице его было обычное непроницаемое выражение. Он молча умылся и сел читать газету. За обедом Керри слегка нервничала. То, что она задумала, было слишком значительно, а ощущение, что она здесь нежеланная гостья, стало еще острее. — Ничего не нашла? — спросил Гансон. — Нет. Он снова принялся за еду, размышляя о том, какой неприятной обузой оказалась свояченица. Надо ей ехать домой, вот и все! А если уедет, так пусть и не воображает, что вернется весною. Керри очень страшило то, что ей предстояло совершить, но ее утешала мысль, что тягостное положение подходит к концу. Им ведь все равно. Особенно Гансон будет рад ее уходу. Он не станет тревожиться за ее судьбу. После обеда Керри ушла в ванную, где никто не мог ей помешать, и написала записку.«Прощай, Минни! Я не еду домой. Я остаюсь в Чикаго и буду искать работу. Не беспокойся обо мне, все будет хорошо».Гансон сидел в гостиной и читал газету. Керри, по обыкновению, помогла Минни вымыть посуду, убрать со стола и привести комнату в порядок. Потом она сказала: — Я, пожалуй, сойду вниз и постою немного в подъезде. Произнося эти слова, она с трудом сдерживала дрожь в голосе. Минни вспомнила про недовольство мужа и сказала: — Свен считает, что не очень-то прилично стоять в подъезде. — Вот как? — удивилась Керри. — Хорошо, это будет в последний раз. Она надела шляпу, потом засуетилась возле столика в маленькой спальне сестры, не зная, куда положить записку. Наконец она сунула ее под щетку для волос, которой пользовалась Минни. Выйдя из квартиры и закрыв за собой дверь, девушка на минуту остановилась, спрашивая себя, что подумают о ней сестра и зять. Необычность этого поступка пугала ее. Медленно спустилась Керри по лестнице. Оглянувшись на освещенный подъезд, она двинулась в путь, делая вид, что просто прогуливается по улице. Дойдя до ближайшего угла, она ускорила шаг. В то время как Керри быстро удалялась от дома, Гансон вышел из гостиной и, окликнув жену, спросил: — Керри опять внизу? — Да, — сказала Минни. — Но она обещала мне, что это в последний раз. Гансон подошел к игравшему на полу ребенку и пощекотал его пальцем. А в это время Друэ в прекрасном настроении ждал на углу. — Ну что, Керри? — сказал он, когда девушка легкой походкой подошла к нему. — Надеюсь, выбрались благополучно? Теперь давайте сядем в конку.
Глава 8
Зима напоминает о себе.
Судьба шлет посла
Человек без житейского опыта — это былинка, увлекаемая бушующими по вселенной ветрами… Наша цивилизация находится еще на середине своего пути. Мы уже не звери, ибо в своих действиях руководствуемся не только одним инстинктом, но еще и не совсем люди, ибо мы руководствуемся не только голосом разума. Тигр не отвечает за свои поступки. Мы видим, что природа наградила его всем необходимым для его жизни, — он бессознательно повинуется врожденным инстинктам и находит в них защиту. И мы видим, что человек далеко ушел от логовища в джунглях, его инстинкты притупились с появлением собственной воли, но эта воля еще не настолько развилась, чтобы занять место инстинктов и безошибочно точно управлять его поступками. Человек становится слишком мудрым, чтобы всегда подчиняться голосу инстинктов и желаний, но он еще слишком слаб, чтобы всегда побеждать их. Пока он был зверем, силы природы влекли его за собой, но и став человеком, он еще не вполне научился подчинять их себе. Будучи в таком переходном состоянии, человек уже не руководствуется слепо инстинктами, и не действует в гармонии с природой, но еще и не настолько мудр, чтобы создать другую гармонию, подвластную его воле. Вот почему человек подобен подхваченной ветром былинке: во власти порывов страстей он действует то под влиянием воли, то инстинкта, он ошибается и исправляет свои ошибки, падает и снова поднимается; он — существо, чьи поступки невозможно предугадать. Нам остается только утешать себя мыслью, что эволюция человека никогда не прекратится, ибо идеал — светоч, который не может погаснуть. Человек не будет вечно колебаться между добром и злом. Когда кончится распря между разумной волей и инстинктом, когда глубокое знание жизни позволит первой из этих сил окончательно занять место второй, человек перестанет быть непостоянным. Стрелка разума тогда твердо, без колебаний будет устремлена на далекий полюс истины. В Керри, как и в каждом человеке, борьба между желанием и разумом не прекращалась ни на минуту. Послушная своим стремлениям, она шла не по твердо намеченному пути, а скорее плыла по течению. Когда наутро после тревожной ночи (впрочем, эта тревога едва ли объяснялась тоскою, горем или любовью) Минни нашла записку, она воскликнула: — Ну, что ты скажешь на это? — В чем дело? — спросил Гансон. — Керри ушла жить в другое место. Гансон вскочил с постели с такой живостью, какой у него до сих пор не наблюдалось, и быстро прочел записку. Единственным признаком того, что он о чем-то думал, было легкое прищелкивание языком — звук, похожий на тот, которым погоняют лошадь. — Как ты думаешь, куда она могла пойти? — спросила обеспокоенная Минни. — А я почем знаю? — отозвался ее муж, и в глазах его блеснул нехороший огонек. — Ушла, так пусть теперь и пеняет на себя. Минни в недоумении покачала головой. — Ох! — вздохнула она. — Керри не понимает, что она наделала. — Ну, что ж, — сказал Гансон, зевая и потягиваясь, — чем ты тут можешь помочь? Женская натура Минни была, однако, благороднее. К тому же она лучше представляла себе возможные последствия такого поступка. — Ох! — снова вырвалось у нее. — Бедная сестра Керри! А в то время, когда происходил этот разговор, — это было часов в пять утра, — наша маленькая искательница счастья спала беспокойным сном одна в своей новой комнате. Новая жизнь радовала Керри; она, казалось, открывала перед ней большие возможности. Керри отнюдь не принадлежала к тем чувственным натурам, которые мечтают лишь сонно нежиться среди роскоши. Она ворочалась в постели, напуганная собственной смелостью, обрадованная освобождением, и думала о том, найдет ли какую-нибудь работу и что будет делать Друэ. А сей достойный джентльмен с такою точностью заранее определил свое будущее, что в нем не могло быть и места случайностям. Он не умел устоять против того, к чему его влекло. Он неспособен был разбираться в явлениях жизни настолько, чтобы понимать, что нужно поступать иначе. Он не мог бы отказать себе в удовольствии насладиться Керри, как не мог бы отказать себе в сытном завтраке. Он был способен иногда испытывать угрызения совести и называть себя негодяем и грешником. Но если и случались у него такие угрызения совести, то можете не сомневаться, что они были чрезвычайно мимолетны. На следующий день он пришел к Керри, и та приняла его у себя в комнате. Он был все такой же веселый и жизнерадостный. — Что это вы нос повесили? — спросил он. — Прежде всего пойдем завтракать. Вам еще нужно купить сегодня кое-что из платья. Керри взглянула на него, и в ее больших глазах отразились мучившие ее мысли. — Мне бы хотелось найти какую-нибудь работу, — сказала она. — Да вы непременно найдете, — отозвался Друэ. — Зачем беспокоиться раньше времени. Сначала приведите себя в порядок. Осмотрите город. Я вам ничего дурного не сделаю. — Я знаю, что не сделаете, — не совсем искренне согласилась Керри. — Вы в новых ботинках? — заметил Друэ. — А ну-ка, покажитесь! Прелестно, черт возьми! А теперь наденьте жакет. Керри повиновалась. — Слушайте, он на вас как влитой! — воскликнул он и дотронулся до ее талии, как бы желая удостовериться, что жакет сидит на ней хорошо. Он отступил на шаг, с восхищением разглядывая Керри. — Теперь вам нужна новая юбка. А пока что пойдем завтракать. Керри надела шляпу. — А где перчатки? — напомнил ей Друэ. — Здесь, — сказала Керри, вынимая их из ящика стола. — Ну, теперь пошли! — сказал Друэ. И дурные предчувствия утренних часов рассеялись окончательно. Так было всякий раз, когда возникали эти предчувствия. Друэ не оставлял ее подолгу одну. У Керри было достаточно времени для одиноких прогулок, но большую часть ее досуга Друэ заполнял всевозможными развлечениями. В магазинах Карсона и Пайри он купил ей красивую юбку и блузку. На его деньги она приобрела разные мелочи туалета и в конце концов совершенно преобразилась. Зеркало подтвердило то, в чем в глубине души она уже давно была уверена. Она была хороша, несомненно хороша! Как идет ей эта шляпа! И разве у нее не прелестные глаза? Прикусив алую нижнюю губку, она смотрела на свое отражение и впервые с трепетом ощущала свое могущество. А Друз был так добр к ней! Однажды вечером они отправились смотреть «Микадо» — оперетту, которая пользовалась в то время огромным успехом. Перед спектаклем они решили зайти в ресторан «Виндзор» на Дирборн-стрит; это было довольно далеко от дома, где теперь жила Керри. Дул холодный ветер, и из окна своей комнаты Керри видела небо, еще розовое на западе, но синевато-стальное в зените, где уже воцарялась ночь. В воздухе чуть алело длинное, тонкое облачко, похожее по форме на пустынный остров в безбрежном океане. Деревья на противоположной стороне улицы качались мертвыми ветвями, напоминая девушке картину, которую она часто наблюдала в декабрьские дни из окна родного дома. Она вдруг остановилась и заломила маленькие руки. — В чем дело? — спросил Друэ. — Ах, я и сама не знаю! — ответила Керри, и губы ее дрогнули. Друэ как будто угадал ее мысли, обнял одной рукой за плечи и нежно погладил ей руку. — Полно! — ласково сказал он. — Все будет хорошо. Керри отвернулась и стала надевать жакет. — Я советовал бы вам надеть сегодня боа, — сказал он. Они пошли по Вобеш-авеню и, дойдя до Адамс-стрит, повернули на запад. Из витрин уже лились потоки золотистого света. Дуговые фонари шипели над головой, и высоко-высоко светились окна гигантских конторских зданий. Дул пронизывающий порывистый ветер. Вокруг толкались и спешили тысячи служащих, возвращавшихся в этот час с работы. Те, на ком было легкое пальто, подняли воротники до ушей и низко надвинули на лоб шляпы. Молоденькие работницы торопливо шли мимо то парами, то вчетвером, смеясь и весело болтая. Город заполнили толпы человеческих существ, в чьих жилах текла горячая кровь. Внезапно Керри встретилась взглядом с чьими-то глазами, показавшимися ей смутно знакомыми. На нее смотрела девушка, которая проходила мимо вместе с другими бедно одетыми работницами. Юбки на них были выцветшие и мешковатые, жакетки сильно поношенные, и вообще выглядели они жалко и неприглядно. Керри сразу узнала эти глаза и девушку. То была одна из работниц обувной мастерской. Девушка тоже, по-видимому, узнала Керри и, когда та прошла мимо, обернулась и посмотрела ей вслед. У Керри было такое ощущение, точно между ними пронеслась гигантская волна и отбросила их в разные стороны. Снова вспомнилось и старое платье, и тяжелый труд, и машина. Она вздрогнула всем телом. Друэ ничего не замечал до тех пор, пока Керри не наткнулась на прохожего, шедшего им навстречу. — Вы, видно, задумались, — сказал Друэ. Они пообедали и отправились в театр. Спектакль очень понравился Керри. Яркие краски и игра артистов произвели на нее глубокое впечатление. Воображение уносило ее в неведомую страну, где могущественные люди боролись за власть. Когда представление окончилось и она вышла с Друэ на улицу, девушка не могла отвести глаз от экипажей и нарядных дам. — Обождем минутку, — сказал Друэ, отводя ее назад, в эффектно отделанный вестибюль. Дамы и джентльмены теснились здесь оживленной толпой, шуршали платья, женские головки в кружевных шарфах кивали одна другой, белые зубы сверкали из-за полуоткрытых губ. — Давайте посмотрим. — Шестьдесят семь! — зычно выкрикнул швейцар номер экипажа, и голос его разнесся под сводами театра. — Шестьдесят семь! — Как хорошо! — сказала Керри. — Здорово! — подтвердил Друэ. На него зрелище нарядной, веселой толпы произвело не меньшее впечатление, чем на нее. Он слегка сжал ее руку. В какую-то минуту она подняла на него глаза, взгляд ее сверкал, она улыбалась, и ее ровные зубы блестели. Когда они двинулись вперед, он наклонился к ней и прошептал: — Вы очаровательны! В эту минуту они поравнялись с швейцаром, который как раз широко распахнул дверцу экипажа, помогая садиться двум дамам. — Держитесь меня, и у нас будет свой экипаж! — смеясь, сказал Друэ. Керри вряд ли расслышала его — такое головокружение вызвал у нее этот водоворот жизни. После театра они зашли в ресторан закусить. Керри мельком подумала о позднем часе, но она теперь не подчинялась законам домашнего распорядка; если бы она успела выработать в себе какие-то привычки, то в эту минуту они дали бы о себе знать. Курьезная вещь — привычка! Только она может вытащить человека, совершенно неверующего, из постели для чтения молитв, в которые он вовсе не верит. Жертвы привычки, забыв сделать что-то, что, по своему обыкновению, проделывают каждый день, ощущают непонятное беспокойство, они словно выбиты из колеи и воображают, что в них говорит голос совести, понуждающий восстановить нарушенный порядок. Если такое нарушение не совсем обычно, сила привычки заставляет покорную жертву вернуться и механически проделать то-то и то-то. «Ну, слава богу, — говорит такой человек, — я выполнил свой долг», — на самом же деле он уже который раз повторил все то же пустяковое, но неизменное дело. Если бы в семье Керри были привиты высокие моральные принципы, она бы куда больше мучилась укорами совести, чем сейчас. Ужин проходил в приподнятом настроении. Под влиянием новых впечатлений, вкусной еды, все еще непривычной для нее ресторанной обстановки, страсти, читавшейся в глазах Друэ, Керри отдалась во власть минуты и безвольно внимала собеседнику. Она снова пала жертвой гипноза большого города. — Ну, — сказал наконец Друэ, — нам, пожалуй, пора идти! Они уже давно сидели над пустыми тарелками, и глаза их часто встречались. Керри не могла не чувствовать той трепетной силы, которую излучал взгляд Друэ. Иногда, объясняя ей что-нибудь, он прикасался к ее руке, как бы для того, чтобы подчеркнуть свои слова. И теперь опять, сказав, что пора идти, он коснулся ее пальцев. Они встали и вышли на улицу. Центральная часть города опустела, и по пути им лишь изредка попадались насвистывающий пешеход, ночной вагон конки или еще открытый, ярко освещенный ресторан. Они шли по Вобеш-авеню, и Друэ продолжал изливать запас своих сведений о Чикаго. Он вел Керри под руку и, рассказывая, крепко прижимал к себе ее локоть. Отпустив какую-нибудь остроту, он поглядывал на свою спутницу, и глаза их встречались. Наконец они дошли до дома, где жила Керри. Она поднялась на первую ступеньку подъезда, и голова ее оказалась на одном уровне с головой Друэ. Он взял ее руку и стал ласково гладить, пристально глядя ей в лицо, а она рассеянно смотрела по сторонам, о чем-то взволнованно думая. Приблизительно в этот же час Минни забылась крепким сном после утомительного вечера, проведенного в тревожном раздумье. Она лежала в неудобной позе, поджав под себя локоть, и ее мучил кошмар. Ей снилось, что она и Керри находятся где-то вблизи старой угольной копи. Она видела высокую насыпь, по которой проходила дорога, и груды отвалов и угля. Обе они стояли и смотрели в зияющую шахту. Им видны были влажные каменные стены, терявшиеся в смутной мгле. На истертом канате висела старая корзина для спуска. — Давай спустимся, — предложила Керри. — Ох, нет, не надо! — возразила Минни. — Да пойдем же! — настаивала младшая сестра. Она потянула к себе корзину и, несмотря на протесты Минни, стала спускаться. — Керри! — крикнула Минни. — Керри, вернись! Но та уже была глубоко внизу, и мрак окончательно поглотил ее. Минни шевельнула рукой, и тотчас все преобразилось. Вместе с Керри она очутилась у воды, — такого количества воды она никогда не видела раньше. Они были не то на полу, не то на каком-то узком мысе, выдававшемся далеко вперед, и на самом конце его стояла Керри. Сестры озирались по сторонам; вдруг то, на чем они стояли, стало медленно погружаться. Минни даже слышала плеск прибывавшей воды. — Иди назад, Керри! — крикнула она, но та шагнула еще дальше: казалось, ее куда-то уносит и голос Минни не долетал до нее. — Керри! — кричала старшая сестра. — Керри!.. Но ее собственный голос звучал словно издалека, — диковинные воды уже затопили все вокруг. Минни пошла прочь с тяжелой болью в душе, какая бывает, когда теряешь что-то очень дорогое. Никогда в жизни ей еще не было так грустно. Видения сменялись одно за другим, в усталом мозгу Минни возникали странные призраки, сливаясь в жуткие картины. И вдруг она дико вскрикнула: перед нею была Керри, которая карабкалась на скалу, цепляясь за камни; внезапно пальцы ее разжались, и на глазах Минни она упала в пропасть. — Минни! Что с тобой? Проснись! Гансон тряс жену за плечо, встревоженный ее криками. — Что случилось? — спросонья отозвалась Минни. — Проснись, — повторил он, — и повернись на другой бок, а то ты разговариваешь во сне!Неделю спустя Друэ, сияющий, одетый с иголочки, вошел в бар «Фицджеральд и Мой». — А, Чарли! — приветствовал его Герствуд, показываясь в дверях своего кабинета. Друэ пересек зал и заглянул к управляющему баром, который снова сел за письменный стол. — Когда опять в дорогу? — спросил Герствуд. — В самом скором времени, — ответил Друэ. — Я почти не видел вас в этот ваш приезд, — заметил Герствуд. — Да, я был очень занят, — пояснил Друэ. Приятели несколько минут поговорили на общие темы. — Послушайте, — сказал Друэ, точно его вдруг осенила гениальная мысль, — я хотел бы как-нибудь вечерком вытащить вас отсюда. — Куда же это? — удивился Герствуд. — Ну, разумеется, ко мне домой, — улыбаясь, ответил Друэ. Глаза Герствуда лукаво блеснули, по губам скользнула легкая усмешка. Он со свойственной ему проницательностью поглядел на Друэ, потом сказал тоном, подобающим джентльмену: — Благодарю! Охотно приду. — Мы чудесно сыграем в картишки. — Можно мне принести с собой бутылочку шампанского? — спросил Герствуд. — Сделайте одолжение! — сказал Друэ. — Я вас кое с кем познакомлю.
Глава 9
В мире условностей.
Зеленые глаза зависти
Дом, где жил Герствуд, на Северной стороне, близ Линкольн-парка, был обычным по тем временам, трехэтажным кирпичным особняком. Первый этаж был расположен чуть ниже уровня улицы. На фасаде второго этажа было большое окно-фонарь, выходившее на зеленую лужайку футов двадцать пять в ширину и десять в длину. За домом находился дворик с конюшней, где Герствуд держал свою лошадь и рессорную двуколку. В доме было десять комнат, их занимали сам Герствуд, его жена Джулия, сын Джордж, дочь Джессика и служанка — то одна, то другая, так как на миссис Герствуд нелегко было угодить. — Джордж, я вчера отпустила Мери. Этими словами нередко начинался разговор за обеденным столом. — Ладно! — отвечал в таких случаях Герствуд, которому давно уже надоело обсуждать эту острую тему. Домашний уют — одно из сокровищ мира; нет на свете ничего столь ласкового, тонкого и столь благоприятствующего воспитанию нравственной силы и справедливости в людях, привыкших к нему с колыбели. Тем, кто не испытывал на себе его благотворного влияния, не понять, почему у иных людей навертываются на глаза слезы от какого-то странного ощущения при звуках прекрасной музыки. Им неведомы таинственные созвучия, которые заставляют трепетать и биться в унисон сердца других. В доме Герствуда едва ли ощущалась приятная атмосфера домашнего очага. Здесь недоставало той терпимости и взаимного уважения, без которых дом — ничто. Квартира была превосходно обставлена в соответствии со вкусами обитателей дома. Тут были мягкие ковры, роскошные кресла и диваны, большой рояль, мраморное изваяние какой-то неизвестной Венеры — творение неизвестного скульптора — и множество бронзовых статуэток, собранных бог весть откуда, — крупные мебельные фирмы продают их вместе с обстановкой, уверяя покупателей, что их необходимо иметь в каждом «хорошем» доме. В столовой буфет сверкал графинами и прочей хрустальной посудой. Все здесь было расставлено в строжайшем порядке, не допускавшем никаких отступлений, — в этом Герствуд знал толк. Он изучал это годами в своем деле. Ему доставляло немалое удовольствие объяснять каждой новой «Мери», вскоре после ее водворения в доме, назначение всех вещей на буфете. Герствуда ни в коем случае нельзя было назвать болтливым. Напротив, в его отношении ко всем домашним чувствовалась сдержанность, подобающая, как принято считать, джентльмену. Он никогда не вступал в пререкания, никогда не говорил лишнего; в нем было что-то педантичное. То, чего он не мог изменить или исправить, он оставлял без внимания, предпочитая держаться в стороне. Было время, когда Герствуд нежно любил свою дочь Джессику, особенно когда был помоложе и еще не достиг успеха в делах. Однако теперь, на семнадцатом году жизни, в характере Джессики появились некоторая замкнутость и независимость. Ни то, ни другое не способствовало излияниям родительской нежности. Она посещала среднюю школу, и ее взгляды на жизнь были бы под стать истинной патрицианке. Джессика любила красивые наряды и не переставала требовать все новых и новых. Она мечтала о любви и собственном роскошном доме. В школе она познакомилась с дочерьми очень богатых людей, владельцев или совладельцев крупных предприятий, а эти девушки держали себя так, как того требовала их среда. Джессика интересовалась только такими подругами. Джордж, которому шел двадцатый год, уже занимал хорошее место в крупном агентстве по продаже недвижимости. Он ничего не платил за свое содержание, так как считалось, что он копит деньги, чтобы со временем приобрести землю. Это был способный и тщеславный молодой человек, которому любовь к наслаждениям пока еще не очень мешала выполнять свои служебные обязанности. Джордж приходил и уходил когда и куда ему было угодно и лишь изредка перекидывался несколькими словами с матерью или рассказывал какой-нибудь забавный случай отцу, но большею частью ограничивался общими фразами. Молодой человек никому не открывал своих желаний. Тем более что в доме никто особенно и не интересовался ими. Миссис Герствуд принадлежала к тем женщинам, которые всю жизнь стремятся блистать в обществе, и искренне огорчалась, если видела, что кто-то преуспевает в этом больше, чем она. Она смотрела на жизнь глазами того косного круга «избранных», куда она не была допущена, но мечтала когда-нибудь попасть. Впрочем, она уже начинала понимать, что для нее это недостижимо, но надеялась на лучшую долю для дочери. Возможно, что благодаря Джессике ей и самой удастся занять более видное положение в обществе, размышляла она. Успех ее сына, пожалуй, когда-нибудь даст ей право гордо называть себя примерной матерью. Ее муж тоже более или менее преуспевал в делах, и она рассчитывала, что мелкие аферы Герствуда с недвижимостью принесут хорошие плоды. Пока его доход был недурен, хотя и скромен, а место управляющего баром «Фицджеральд и Мой» было надежное. Оба владельца бара находились с ним в хороших и совсем неофициальных отношениях. Легко себе представить, что за атмосферу могли создать в доме члены подобной семьи. Она складывалась из тысячи мелких разговоров одного и того же уровня. — Я еду завтра в Фокс-Лейк, — сообщил Джордж-младший за обедом в пятницу вечером. — А что там такое? — спросила миссис Герствуд. — Эдди Фаруэй купил новую паровую яхту и приглашает посмотреть, какова она на ходу. — Много она ему стоила? — О, свыше двух тысяч долларов. Говорят, яхта — первый сорт. — Видно, старик Фаруэй изрядно зарабатывает, — вставил Герствуд. — Ну еще бы! Джек говорит, они стали экспортировать сигары в Австралию. А на прошлой неделе отправили большую партию в Капштадт. — Подумать только! — изумилась миссис Герствуд. — Всего каких-нибудь четыре года назад они арендовали подвал на Медисон-стрит. — Джек говорил мне, что весною они будут строить шестиэтажный дом на Роби-стрит. — Подумать только! — воскликнула Джессика. В тот вечер, когда происходил этот разговор, Герствуд намеревался рано уйти из дому. — Мне нужно сегодня в город, — сказал он, отодвигая стул. — А мы пойдем в понедельник в театр Мак-Викера? — спросила миссис Герствуд, не вставая с места. — Да, — безразличным голосом ответил муж. Семья продолжала обедать, а Герствуд поднялся наверх за пальто и шляпой. Вскоре внизу хлопнула дверь. — Папа ушел, — заметила Джессика. Школьные новости Джессики носили особый характер. — Наши устраивают спектакль в лицее, — однажды сказала она, — и я буду в нем участвовать. — Вот как! — отозвалась мать. — Да, и мне нужно будет новое платье. В спектакле участвуют самые красивые девушки школы. Мисс Пальмер играет Порцию. — Вот как! — повторила миссис Герствуд. — Они опять пригласили эту Марту Гризволд. Она воображает, будто умеет играть. — Ее семья, кажется, ничего собой не представляет? — с интересом осведомилась миссис Герствуд. — У них, я слыхала, ничего за душой нет? — Конечно, нет. Эти люди бедны, какцерковные крысы! Джессика весьма тщательно выбирала знакомства среди учившихся в школе юношей, многие из которых пленялись ее красотой. — Как тебе нравится? — возмущенно заявила она однажды вечером матери. — Этот Герберт Крейн пытается подружиться со мной! — А кто он такой, дорогая? — спросила миссис Герствуд. — О, ровным счетом никто! — ответила Джессика и надула прелестные губки. — Просто студент. А денег ни цента! Совсем другое было дело, когда Джессику однажды проводил домой молодой Блайфорд, сын мыльного фабриканта. Миссис Герствуд в это время читала, сидя в качалке у окна одной из верхних комнат. Случайно она выглянула на улицу. — Кто это был с тобой? — спросила она, как только девушка поднялась к ней. — Это молодой Блайфорд, мама! — Неужели! — только и вымолвила миссис Герствуд. — И он приглашает меня пройтись с ним по парку, — добавила Джессика, разрумянившаяся от быстрого бега по лестнице. — Хорошо, дорогая, иди, — сказала миссис Герствуд. — Только не задерживайся в парке долго. Когда молодые люди вышли на улицу, миссис Герствуд, чрезвычайно заинтересованная, снова выглянула из окна. Это было приятное зрелище, чрезвычайно приятное. В такой атмосфере Герствуд жил много лет, никогда не давая себе труда призадуматься над своей семейной жизнью. Он был не из тех, кого мучит стремление к лучшему, если только это лучшее не находится под рукой и не являет собою резкий контраст с окружающим. В сущности, он не только давал, но и получал. Порою его раздражали мелочные проявления эгоизма и равнодушия в семье, порою он испытывал удовольствие при виде нарядов жены или дочери, считая, что это повышает его престиж и положение в обществе. Он жил только жизнью бара, которым управлял. Там он проводил большую часть своего времени. А когда он возвращался по вечерам, все в доме выглядело приятно. Обед, за редкими исключениями, бывал довольно сносный — такой, какой может приготовить кухарка средней руки. Его в известной мере интересовало то, что рассказывали за столом сын и дочь, — они всегда выглядели так элегантно. Миссис Герствуд из тщеславия даже дома одевалась чересчур нарядно, но Герствуд находил, что это куда лучше, чем ходить неряхой. Любви к друг другу у них уже не было. Не было также и острого взаимного недовольства. Миссис Герствуд никогда не высказывала неожиданных суждений. Кроме того, супруги так мало разговаривали между собой, что у них и не могло возникнуть разногласий. У него, как говорится, были свои понятия, у нее свои. Иногда Герствуд встречал на своем пути какую-нибудь женщину, живую, остроумную и молодую, по сравнению с которой его жена сильно проигрывала. Но преходящее чувство неудовлетворенности, вызванное подобной встречей, уравновешивалось в Герствуде сознанием своего солидного общественного положения и некоторыми соображениями. Ведь семейные неурядицы могли бы вредно отозваться на его отношениях с владельцами бара. Они не потерпели бы скандала. Чтобы занимать такое место, человек должен обладать достойными манерами, безупречной репутацией и образцовой семьей. Вот почему Герствуд был весьма осторожен во всех своих поступках и в общественных местах неизменно появлялся с женой и детьми. Они ездили отдыхать на местные курорты или в находящийся неподалеку штат Висконсин и проводили там чопорно и скучно несколько дней, посещая места, которые полагалось посещать, делая все то, что полагалось делать. Герствуд знал, что это необходимо. Когда случалось, что кто-нибудь из его знакомых, человек со средствами, попадал в неприятную историю, Герствуд скорбно качал головой. О таких вещах не следовало даже говорить. Но если на эту тему все-таки заходил разговор среди людей, которых он считал близкими друзьями, он искренне осуждал провинившегося. — Не в том беда, что он это сделал, — все мужчины делают такие вещи, — но почему он был недостаточно осторожен? Осторожность никогда не повредит. Герствуд тотчас же терял всякое сочувствие к человеку, который совершил проступок и был пойман с поличным. Все эти соображения заставляли Герствуда по-прежнему оказывать некоторое внимание жене и иногда брать ее с собой. Это было бы ему, конечно, довольно тягостно, если бы он в таких случаях не встречался со знакомыми и не позволял себе маленьких развлечений, не зависящих от присутствия или отсутствия жены. Иной раз он с непритворным любопытством наблюдал за ней, так как миссис Герствуд была еще красивая женщина, и мужчины нередко заглядывались на нее. Она была общительна, тщеславна, падка на лесть, и Герствуд понимал, что эти черты характера легко могут привести ее к трагедии. По складу своего ума Герствуд не особенно доверял женской стойкости, а его жена никогда не обладала такими достоинствами, которые внушали бы ему восхищение и доверие. Пока она страстно любила его, он еще способен был, пожалуй, верить ей, но когда исчезла эта связующая цепь, мало ли что могло случиться. За последний год или два расходы семьи сильно возросли: Джессика не переставала требовать все новых нарядов, да и миссис Герствуд, не желавшая, чтобы дочь затмевала ее, тоже частенько освежала свой гардероб. Герствуд долгое время молчал, но потом начал роптать. — Джессике нужен новый костюм, — сказала как-то утром миссис Герствуд. Герствуд стоял перед зеркалом и надевал один из своих умопомрачительных жилетов. — Насколько мне помнится, ей совсем недавно что-то купили, — заметил он. — Совершенно верно, — спокойно подтвердила жена, — но то было вечернее платье. — По-моему, Джессика в последнее время слишком много тратит на туалеты, — сказал Герствуд. — Ну что ж, она теперь чаще бывает в обществе, — невозмутимо ответила жена. Но в голосе мужа она уловила нотки, которых раньше никогда не слыхала. Герствуд разъезжал не особенно много, но, если ему случалось куда-нибудь ехать, он неизменно брал с собой жену. Однажды группа членов муниципалитета задумала устроить увеселительную прогулку в Филадельфию, и Герствуду предложили присоединиться к ним. — В Филадельфии нас никто не знает, — сказал ему один из участников поездки, лицо которого достаточно ярко свидетельствовало о тупости и склонности к плотским удовольствиям, — и мы можем там хорошенько повеселиться. При этом он левым глазом чуть заметно подмигнул Герствуду и слегка склонил набок голову, на которой красовался великолепный шелковый цилиндр. — Непременно поезжайте с нами, Джордж! — добавил он. На следующий день Герствуд сообщил жене о своем намерении. — Я уезжаю на несколько дней, Джулия. — Куда? — спросила та, подняв на него глаза. — В Филадельфию… по делу. Миссис Герствуд пристально смотрела на мужа, точно ожидая еще чего-то. — На этот раз мне не удастся взять тебя с собой, — добавил Герствуд. — Ну, нет так нет, — ответила она. Но мужу было ясно, что она находит это странным. Прежде чем он ушел, она задала ему еще несколько вопросов, и это вызвало у Герствуда раздражение. Он начал подумывать, что его жена — неприятная обуза. Герствуд получил от поездки в Филадельфию большое удовольствие и испытывал сожаление, когда настало время возвращаться. Он не любил лгать, и ему противно было измышлять объяснения. Разговор не пошел дальше замечаний общего характера, но миссис Герствуд еще долго размышляла о нем. Она стала больше выезжать, еще лучше одеваться и чаще посещать театры, чтобы вознаградить себя за перенесенную обиду. Такую атмосферу едва ли можно было назвать приятной семейной жизнью. И текла здесь эта жизнь по привычному, раз и навсегда установленному образцу, повинуясь силе условностей. Но, по мере того как время шло, отношения становились все суше и суше. Рано или поздно должен был произойти взрыв и все разнести в прах.Глава 10
Зима в роли советчика.
Посол фортуны
В свете принятого в обществе отношения к женщине и ее обязанностям душевное состояние Керри заслуживает некоторого пояснения. Чаши весов, на которых измеряются поступки, подобные тому, что совершила она, колеблются чрезвычайно прихотливо. Общество имеет установленное мерило для всех поступков. Все мужчины должны быть честны, все женщины — добродетельны. А потому, о преступница, как смела ты перешагнуть за пределы дозволенного? При всей широте взглядов Спенсера и наших современных философов-натуралистов мы все же находимся на уровне чисто детского восприятия морали. Это значит несколько больше, чем простое подчинение законам, действующим только на земле. Все это гораздо сложнее, чем нам представляется, — по крайней мере, сейчас. Ответьте, например, почему трепещет сердце? Объясните, почему какой-нибудь жалобный напев бродит по всему миру, никогда не умирая? Откройте ту таинственную силу, под воздействием которой распускается навстречу солнцу и дождю алый факел розы? В сокровенной сути этих явлений и таятся первоосновы морали. «О, как сладостна моя победа!» — размышлял Друэ. «Что же я, собственно, потеряла?» — размышляла Керри, терзаемая мрачными предчувствиями. И вот мы, серьезные, пытливые и недоумевающие, стоим перед древней, как мир, проблемой, стараясь установить истинные принципы нравственности, найти точный ответ на вопрос, что есть добро. С точки зрения некоторых слоев общества, Керри теперь была устроена недурно. С точки зрения тех, кто умирал с голоду, кто страдал от порывов холодного ветра, кто мок под дождем, Керри укрылась в тихую гавань. Друэ снял для нее квартиру из трех меблированных комнат на Огден-сквер, на Западной стороне, как раз напротив Юнион-парка. И тогда уже эта площадь, красивее которой не сыскать сейчас в Чикаго, представляла собою сплошной зеленый газон, здесь дышалось легче, чем в густо застроенных кварталах. Из окон открывался чудесный вид, гостиная выходила прямо на просторную лужайку парка, сейчас уже побуревшую, где отливал серебром маленький пруд. Над оголенными ветвями деревьев, покачивавшихся под напором зимнего ветра, высился шпиль церкви конгрегационалистов, вдали виднелись колокольни других церквей. Комнаты были хорошо обставлены. На полу в гостиной лежал ковер богатых темно-красных и лимонных тонов: на нем были изображены жардиньерки с пышными, небывалых размеров цветами. Между двумя окнами сверкало трюмо. В одном углу стоял мягкий широкий плюшевый диван, вокруг — несколько качалок. Две-три картины, маленькие коврики и кое-какие безделушки дополняли убранство этой комнаты. В спальне стоял сундук Керри, подаренный ей Друэ, а в платяном шкафу, вделанном в стену, рядами висели платья, и все они ей шли. Керри никогда в жизни не имела столько платьев. Третьей комнатой можно было пользоваться как кухней; там Друэ посоветовал Керри поставить маленькую переносную газовую плиту, чтобы готовить завтраки и легкую закуску — гренки с сыром, устрицы и прочие любимые его блюда. И, наконец, в квартире была ванная. Все комнаты были приветливые, освещались газом, и, помимо центрального отопления, там еще был маленький камин, вносивший много уюта. Благодаря старательности Керри и ее врожденной любви к порядку квартирка имела чрезвычайно привлекательный вид. Керри жила здесь, не зная затруднений, которые раньше вставали перед ней на каждом шагу, но зато обремененная новыми нравственными проблемами. Ее взаимоотношения с окружающим миром так изменились, что она сама стала как бы иным человеком. Она заглядывала в зеркало и видела там другую Керри, которая была красивее прежней. Она заглядывала себе в душу (зеркало, составленное из представлений своих и чужих) и видела там Керри, которая была хуже прежней. А настоящая Керри колебалась между этими двумя образами, не зная, который из них считать верным. — Какая ты красавица! — неоднократно восклицал Друэ. Керри глядела на него большими сияющими глазами. — Ты это, наверное, и сама знаешь, — продолжал он. — О, ничего я не знаю! — обычно отвечала Керри. Она радовалась, что он такого мнения о ней, и, не решаясь верить, все же верила и упивалась его лестью. Но Друэ, который был заинтересован в том, чтобы льстить ей, не мог быть ее совестью. В душе своей Керри слышала совсем другой голос. С ним она спорила, перед ним она оправдывалась, его она пыталась задобрить. Ее совесть в конечном итоге не была непогрешимым и мудрым советчиком. Это была маленькая заурядная совесть, олицетворявшая ее мирок, ее прежнюю среду, обычаи и условности. Для такой совести глас народа поистине был гласом божьим. «Эх ты, пропащая!» — шептал ей этот голос. «Почему?» — спрашивала Керри. «Посмотри на людей, — шептал голос в ответ. — Посмотри на честных людей. С каким бы презрением они отвернулись, если бы им предложили сделать то, что сделала ты. Посмотри на честных девушек. Все они отвернулись бы от тебя, узнав, какой ты оказалась слабой. Ты даже не пыталась сопротивляться и сразу пала». Керри слышала этот голос в те часы, когда она оставалась дома одна и, сидя у окна, глядела в парк. Он напоминал о себе не так уж часто, разве что в тех случаях, когда возле Керри не было Друз, когда не так открыто бросалась в глаза приятная сторона ее жизни. Вначале голос звучал довольно резко, хотя и не совсем убедительно. У Керри всегда был наготове ответ: надвигалась зима, и так страшили завывания ветра, а она была так одинока, к тому же ей так хотелось увидеть настоящую жизнь. Ее судьбой распорядилась нужда, а не сама она… Едва минуют ясные летние дни, город закутывается в темный серый плащ, который не сбрасывает всю зиму. Серыми кажутся бесконечные ряды зданий, небо и улицы принимают свинцовый оттенок, а оголенные деревья, пыль, вздымаемая ветром, обрывки бумаги, летающие в воздухе, лишь усугубляют неприглядность и мрачность картины. Порывы холодного ветра, проносящегося по длинным узким мостовым, наводят тяжкое уныние, которое ощущают не только поэты или художники, не только люди с высоким складом ума, претендующие на особую душевную утонченность, но даже и подлецы, и вообще все люди. Да, обыкновенные люди чувствуют это уныние не меньше поэтов, хотя не обладают их даром выражать свои чувства. И воробышек, сидящий на телеграфном столбе, и кошка, спрятавшаяся в подъезде, и ломовая лошадь, с трудом влачащая поклажу, — все знают, каково лютое дыхание зимы. Зима наносит удар в сердце всему живому, с ее приходом наступают тяжелые дни и для зверей, и для растений. Если бы не искусственные огни веселья, если бы не суета, создаваемая жаждой развлечений, и не бешеная погоня торговцев за барышами, если бы не роскошные витрины, которыми владельцы украшают свои магазины и внутри и снаружи, если бы не яркие, разноцветные рекламы, которыми изобилуют наши улицы, если бы не толпы снующих туда-сюда пешеходов, — мы, люди, быстро почувствовали бы, как тяжко ледяная рука зимы ложится нам на сердце и как гнетущи те долгие дни, когда солнце не дает нам достаточно света и тепла. Мы сами не сознаем, до какой степени зависим от явлений природы. В сущности, мы те же насекомые, вызванные к жизни теплом и гибнущие без него. И среди уныния таких вот серых дней тайный голос звучал все реже и реже. Нельзя сказать, чтобы Керри была подавлена этим внутренним разладом. Характер ее ни в коем случае нельзя было назвать угрюмым. К тому же она не обладала достаточным умом, чтобы настойчиво добиваться правды. Не находя выхода из лабиринта путаных мыслей, возникавших вокруг какой-нибудь проблемы, она предпочитала совсем выкинуть их из головы. Друэ меж тем — для человека его типа — вел себя безукоризненно. Он всячески развлекал Керри, много тратил на нее и брал ее с собой в деловые поездки. Иной раз она оставалась одна дня на два, на три, пока он колесил по близлежащим городам, но, как правило, они почти не расставались. — Послушай, Керри, — сказал однажды утром Друэ, вскоре после того как они обосновались на новой квартире, — я пригласил моего приятеля Герствуда провести с нами вечерок. — Кто он такой? — насторожилась Керри. — О, это чудеснейший человек. Он управляющий у «Фицджеральда и Моя». — А что это такое? — Очень изысканный бар, один из лучших в городе. Керри была немного озадачена. Она задумалась над тем, что мог сказать о ней Друэ своему другу и как ей следует держать себя в его обществе. — Ты не беспокойся, — сказал Друэ, точно угадывая ее мысли. — Он ничего не знает. Ты теперь миссис Друэ. Его слова показались Керри не совсем тактичными. Она убедилась, что Друэ не обладает чуткостью. — Почему же мы не обвенчаемся? — спросила она, вспомнив о его многоречивых обещаниях. — Подожди, обвенчаемся, — ответил он. — Дай мне только обделать дельце, которым я сейчас занят. Друэ имел в виду несуществующее наследство, с которым якобы была большая возня; дело требовало столько внимания, что каким-то образом мешало его личной жизни. — Вот в январе я вернусь из Денвера, и мы обвенчаемся. Эти слова давали Керри некоторую надежду, служившую целебным бальзамом для ее совести: открывался прекрасный выход из положения. Все еще могло быть исправлено. Ее поступок будет оправдан. Керри не была по-настоящему влюблена в Друэ. Она была гораздо умнее его и смутно догадывалась, что ему многого недостает. Если бы не это обстоятельство, если бы она не могла оценивать его беспристрастно и не разгадала бы его, ее положение было бы гораздо хуже. Она обожала бы его и была бы глубоко несчастной от страха, что не сумеет добиться его любви, что у него может пропасть интерес к ней, что он бросит ее и она останется без всякой опоры. А так Керри лишь вначале слегка тревожилась за свою дальнейшую судьбу, пытаясь завладеть Друэ целиком, но потом стала спокойно выжидать. Она не была уверена, что он таков, каким она его считает, и сама не знала, чего ей хотелось. Когда явился Герствуд, Керри увидела перед собой человека в сто раз умнее Друэ. Он относился к женщинам с тем особым почтением, которое они так ценят. Он не обнаружил ни чрезмерного восхищения, ни излишней смелости. Его обаяние усиливалось исключительной предупредительностью. Он прошел хорошую школу, научившись завоевывать симпатии обеспеченных людей, крупных дельцов и людей искусства, с которыми ему приходилось сталкиваться в баре, и с большим тактом умел очаровывать тех, кто ему нравился. Из хорошеньких женщин больше всего его привлекали те, в ком он замечал некоторую утонченность чувств. Он был мягок, спокоен, уверен в себе, и, казалось, его единственное желание — угождать во всем своей даме. Друэ и сам вел себя так, когда игра стоила свеч, но он обладал слишком большим самомнением, чтобы выработать в себе тот изысканный лоск, который украшал Герствуда. Друэ был слишком жизнерадостен, слишком полон кипучей энергии и слишком самоуверен. Он имел успех у женщин, не особенно изощренных в искусстве любви. Но он терпел жестокие поражения, когда ему случалось столкнуться с женщиной более или менее опытной и обладающей природной утонченностью. В Керри Друэ обнаружил много тонкости, но ни малейшего опыта в искусстве любви. Ему попросту повезло: случай, так сказать, сам привел к нему Керри. Несколькими годами позже, когда Керри приобрела жизненный опыт и добилась пусть даже незначительного успеха, ему не удалось бы даже близко подойти к ней. — Вам следовало бы купить рояль, Друэ, — сказал пришедший к ним в назначенный вечер Герствуд и с улыбкой посмотрел на Керри. — Ваша жена могла бы тогда играть. Эта мысль даже не приходила в голову Друэ. — Да, вы правы, — согласился он. — Но я не играю, — отважилась возразить Керри. — О, это не так уж трудно, — сказал Герствуд. — Вы научились бы в несколько недель. В этот вечер Герствуд был в ударе. Костюм на нем был с иголочки и очень элегантный. Лацканы пиджака из превосходной ткани были в меру приутюжены. На жилете в шотландскую клетку поблескивал двойной ряд круглых перламутровых пуговиц. Шелковый галстук, переливавший разными цветами, не был кричащим, но в то же время его нельзя было назвать неприметным. В отличие от Друэ Герствуд был одет отнюдь не броско, но Керри сразу оценила покрой и качество материала. Ботинки Герствуда из мягкого черного шевро были начищены до блеска, но не слишком ярко, и, хотя Друэ носил лакированную обувь, Керри подумала, что мягкая кожа куда больше подходит к столь изысканной строгости костюма. Почти бессознательно подмечала она все эти мелочи. И это было естественно, так как к внешности Друэ она уже успела привыкнуть. — Не сыграть ли нам партию в покер? — предложил немного погодя Герствуд. Он весьма дипломатично избегал всего, что могло показать, будто он что-нибудь знает о прошлом Керри. Он вообще не касался личностей и говорил только на общие темы. Благодаря этому Керри чувствовала себя вполне непринужденно, внимание и веселые шутки Герствуда привели ее в отличное настроение. К тому же он делал вид, будто его серьезно интересует все, что она говорит. — Я ведь не знаю правил игры, — сказала Керри. — Чарли, вы неисправно исполняете свои обязанности, — шутливо обратился Герствуд к Друэ. — Но, между нами говоря, мы вас можем научить, — добавил он. Со свойственным ему тактом Герствуд дал понять Друэ, что восхищен его выбором. Он держался так, будто пребывание в этом доме доставляло ему огромное удовольствие. Друэ чувствовал, что сблизился с Герствудом еще больше. И к Керри он стал относиться с большим уважением. Одобренная Герствудом, Керри предстала перед ним в новом свете. Атмосфера в гостиной значительно оживилась. — Дайте-ка я посмотрю, что вам досталось, — сказал Герствуд, корректно заглядывая в карты Керри через ее плечо. Несколько секунд он изучал ее карты и наконец сказал: — Совсем не плохо. Вам везет. Сейчас я научу вас, как обыграть вашего мужа. Вы только слушайтесь меня. — Позвольте, — запротестовал Друэ, — если вы вдвоем против меня, то мне, конечно, крышка. Герствуд здорово играет в карты. — Нет, это все ваша жена. Она и мне приносит счастье. Почему бы ей и не выигрывать? Керри бросила благодарный взгляд Герствуду и улыбнулась Друэ. Первый придал своему лицу выражение обыкновенной дружеской симпатии. Он пришел сюда с целью приятно провести вечер. Все, что Керри делает, доставляет ему удовольствие — только и всего. — Так, так, — задумчиво промолвил он и, придержав одну из хороших карт, дал Керри возможность получить лишнюю взятку. — Я бы сказал, что недурно сыграно для начинающей! — добавил он. Керри весело хохотала, забирая взятки. Казалось, помощь Герствуда делала ее непобедимой. А тот лишь изредка смотрел на нее. И когда смотрел, взгляд его светился мягким светом. В нем не отражалось ничего, кроме задушевного и доброго товарищеского отношения. Он далеко запрятал хитрое и жестокое выражение своих глаз, и во взгляде его было лишь самое невинное восхищение. Керри была вправе думать, что ее общество доставляет ему удовольствие. Она чувствовала, что кажется ему привлекательной. — Это несправедливо так играть и совсем даром, — сказал Герствуд и, запустив руку в маленький карманчик жилета, где лежал кошелек для мелочи, добавил: — Давайте играть по десяти центов. — Ладно, — согласился Друэ и полез в карман за деньгами. Но Герствуд опередил его. В руках у него оказалась горсть новеньких десятицентовиков. — Пожалуйста! — сказал он, снабжая каждого из партнеров маленькой стопкой монет. — О, сейчас начнется азартная игра! — с улыбкой сказала Керри. — Это очень дурно! — Ничего подобного, — возразил Друэ. — Это просто забава. Если ты не будешь делать большие ставки, то попадешь прямо в рай. — Не морализируйте, — ласково сказал Герствуд, обращаясь к Керри, — пока не увидите, что будет дальше. Друэ улыбнулся. — Если выигрыш достанется вашему мужу, — продолжал Герствуд, — он объяснит вам, как это дурно. Друэ громко расхохотался. Голос Герствуда звучал так располагающе, а его обаяние было так ощутимо, что и Керри тоже не могла не засмеяться. — Когда вы уезжаете? — спросил Герствуд приятеля. — В среду, — ответил Друэ. — Не легко вам, должно быть, приходится с мужем, который вечно в бегах, — сказал Герствуд, глядя на Керри. — На этот раз мы поедем вместе, — заметил Друэ. — До отъезда вы непременно должны пойти со мной в театр, — сказал Герствуд. — Отлично, — согласился Друэ. — Как ты думаешь, Керри? — Я бы охотно пошла, — ответила она. Герствуд сделал все, что мог, чтобы дать Керри выиграть. Он радовался ее успехам, подсчитывал ее выигрыши, наконец, собрал деньги и положил ей в руку. Когда игра кончилась, Керри накрыла стол и подала легкую закуску с вином, которое принес с собой Герствуд, а после ужина он все с тем же тактом не стал засиживаться. — Помните, — сказал он при прощании, обращаясь сперва к Керри, а затем переводя взгляд на Друэ, — что вы должны быть готовы к половине восьмого. Я заеду за вами. Друэ и Керри проводили гостя до дверей. На улице мягко светились красные фонари поджидавшего его кэба. — Вот что: когда вы уедете и ваша супруга останется одна, — сказал Герствуд тоном доброго приятеля, — вы должны разрешить мне немного развлечь ее, чтобы она не слишком тосковала в ваше отсутствие. — О, конечно! — сказал Друэ, чрезвычайно польщенный вниманием Герствуда. — Вы очень добры, — прибавила со своей стороны Керри. — Нисколько, — сказал Герствуд. — Ваш муж на моем месте, несомненно, сделал бы то же самое. Он улыбнулся и стал спускаться со ступенек. Гость произвел на Керри сильное впечатление; она никогда еще не сталкивалась с таким обаятельным человеком. Что касается Друэ, то и он был очень доволен. — Удивительно милый человек! — сказал он, когда они вернулись в свою уютную гостиную. — И к тому же хороший друг. — Видимо, да, — согласилась Керри.Глава 11
Голос искушения.
Под охраной чувств
Керри быстро знакомилась с жизнью, вернее, с внешними ее формами. Видя какую-нибудь вещь, Керри тотчас спрашивала себя, пойдет ли ей это. Да будет известно, что подобный метод мышления не является признаком мудрости или утонченности чувств. Красивый наряд всегда был для Керри чем-то весьма убедительным — он говорил в свою пользу мягко и вкрадчиво, как иезуит. И желание обладать им заставляло Керри охотно прислушиваться, когда какой-нибудь наряд взывал к ней. Голос так называемого Неодушевленного! Кто сумеет перевести на наш язык красноречие драгоценных камней? «Дорогая моя, — говорил кружевной воротничок, приобретенный ею у Партриджа, — полюбуйся только, до чего я тебе к лицу! Ни в коем случае не отказывайся от меня!» «Ах, какие прелестные ножки! — говорила кожа мягких новых туфель. — Как красиво я их облегаю! Какая жалость, если им будет недоставать меня!» И только лишь когда желанные вещи оказывались у Керри в руках или же на ней, она обретала способность думать о том, что надо отказаться от них. Мысль о том, каким путем они ей доставались, мучила Керри, но она всеми силами старалась прогнать сомнения, потому что не могла бы отказаться от нарядов. «Надень старое платье и стоптанные башмаки!» — тщетно взывал к ней голос совести. Керри еще, пожалуй, могла бы побороть свой страх перед голодом и вернуться к старому. Под давлением совести она еще могла бы внять внутреннему голосу и не побояться тяжести труда, жалкого прозябания и лишений. Но испортить свою внешность? Одеться в отрепья? Снова обрести нищенский вид? Никогда! Друэ всячески укреплял в Керри уверенность в правильности ее поступков и суждений, ослабляя таким образом ее способность к сопротивлению разным соблазнам. А добиться этого совсем не трудно, особенно когда наше мнение сходится с желанием. Со свойственной ему задушевностью Друэ без конца твердил, что она очень хороша, и смотрел на нее восхищенными глазами. А Керри все принимала за чистую монету. При таких обстоятельствах ей не было нужды держать себя так, как обычно держатся хорошенькие женщины, однако она стала быстро усваивать эту премудрость. Друэ обладал свойственной людям его склада привычкой провожать глазами на улице нарядных или хорошеньких женщин и отпускать на их счет замечания. У него было какое-то чисто женское пристрастие к красивой одежде, и благодаря этому он прекрасно разбирался если не в уме, то в туалетах женщин. Друэ внимательно приглядывался к тому, как ходят элегантные дамы, как они ставят ножку, как держат голову, как изгибают свое тело на ходу. Грациозное колыхание бедер распаляло его, как пьяницу мысль о стакане хорошего вина. Он чрезвычайно ценил и любил в женщинах то, что они сами больше всего любят и ценят в себе, — изящество. Перед алтарем изящества он вместе с ними преклонял колена, как горячо верующий. — Ты обратила внимание на ту даму, что сейчас прошла? — спросил он Керри в первый же день, когда они вместе вышли погулять. — Какая у нее походка! Керри внимательно посмотрела на даму, чья грация заслужила его похвалу. — Да, ты прав, — отозвалась она. И у нее мелькнула догадка, что, быть может, ей самой как раз этого и недостает. Если это так красиво, ей надо присмотреться к этим дамам повнимательнее. У нее возникло инстинктивное желание подражать таким женщинам. Без сомнения, и она может ходить не хуже. Когда женщина с умом Керри видит вещи, на которые беспрестанно обращают ее внимание, которыми без конца восхищаются, она делает из этого логический вывод и потом применяет его в жизни. У Друэ не хватало ума понять бестактность своих замечаний. Ему и в голову не приходило, что гораздо лучше было бы внушать Керри, что она должна превзойти самое себя, а не других женщин, которые якобы лучше ее. Он не стал бы так обращаться с более зрелой, более искушенной женщиной, но в Керри он видел только неопытность. Менее умный, чем она, Друэ, естественно, не в состоянии был понять, что обижает ее. Он продолжал воспитывать ее, нанося своей жертве новые душевные раны, а это было неразумно со стороны человека, чье восхищение ученицей росло день ото дня. Керри безропотно выслушивала его наставления. Понимая постепенно, что именно нравится Друэ, она понемногу училась видеть его недостатки. Мужчина сильно теряет во мнении женщины, если он щедро расточает свои восторги перед другими. В глазах женщины только один предмет достоин высшей похвалы — она сама. Чтобы иметь успех у многих женщин, нужно целиком отдавать себя каждой. У себя в квартире Керри тоже черпала немало сведений о том, что якобы необходимо настоящей даме. В одном доме с нею жил некий Фрэнк Гейл, директор театра «Стандард», вместе с женой. Миссис Гейл была миловидной брюнеткой лет тридцати пяти. Супруги Гейл принадлежали к категории людей, весьма многочисленной в современной Америке, — людей, которые живут прилично, хотя и ничего не имеют за душой. Гейл получал сорок пять долларов в неделю. Его жена, обладая привлекательной внешностью, не желала признавать свой возраст, ей не хотелось возиться с хозяйством и воспитывать детей. Как и Друэ с Керри, супруги Гейл занимали три меблированные комнаты, только этажом выше. Керри скоро познакомилась с миссис Гейл и вместе с нею гуляла по городу. Долгое время она была единственной знакомой Керри: болтовня приятельницы служила призмой, сквозь которую Керри смотрела на мир. Всякого рода пошлости, преклонение перед деньгами и избитые представления о морали, таившиеся в пассивном уме миссис Гейл, естественно, оказали свое воздействие на Керри и на какое-то время внесли страшную путаницу в ее взгляды на жизнь. Но, с другой стороны, Керри и сама, руководствуясь каким-то внутренним чутьем, вносила во все это кое-какие коррективы. Ей нельзя было отказать в постоянном стремлении к чему-то лучшему. Те впечатления, что взывают к нашему сердцу, указывали ей правильный путь. В квартире этажом ниже жила молодая девушка с матерью; они приехали из Ивенсвиля, штат Индиана. Это была семья казначея крупной железнодорожной компании. Дочь приехала в Чикаго совершенствоваться в музыке, а мать сопровождала ее, чтобы девушка не скучала. Керри не завела с ними знакомства, но нередко сталкивалась с девушкой, когда та приходила или уходила. Несколько раз Керри видела ее за роялем в гостиной меблированных комнат и часто слышала ее игру. Девушка хорошо одевалась, и когда она садилась за рояль, на ее белых пальчиках сверкали кольца. Музыка имела большую власть над Керри. Нервы молодой женщины отзывались на некоторые мелодии, подобно тому, как вибрируют струны арфы, когда рядом ударяют но клавишам рояля. Керри отличалась тонкостью восприятия, и некоторые аккорды вызывали в ней смутные думы, пробуждая тоску по многому, чего она была лишена. Эти же думы заставляли ее крепко держаться за то, чем она обладала. Одну небольшую вещицу пианистка исполняла особенно трогательно и нежно. Керри услышала ее через открытую дверь своей квартиры. Это было в тот час между сумерками и тьмой, когда для людей праздных, для тех, кто не нашел себя в жизни, все кругом приобретает грустный облик. И человек мысленно уносится в далекие странствия, из которых возвращается опустошенный, с воспоминаниями об угасших, навсегда отлетевших радостях: Керри сидела у окна и глядела на улицу. Друэ ушел еще в десять часов утра. Она развлекала себя сначала прогулкой, потом чтением романа Берты Мак-Клей, оставленного ей Друэ, но книга не доставляла ей особого удовольствия. Чтобы скоротать время, она переоделась в более подходящее для вечера платье, а потом опять села у окна и принялась смотреть в парк, охваченная такой печалью и беспокойством, какие только может испытывать в подобных обстоятельствах натура, жаждущая разнообразия и полноты жизни. Так она сидела, раздумывая над своим новым положением, когда снизу, из гостиной, вдруг полились звуки рояля и спутали ее мысли, придав им новую окраску. Керри вспомнились самые лучшие и самые печальные дни ее короткой жизни. На миг ее охватило раскаяние. В таком настроении застал ее Друэ, — с его появлением в комнату словно ворвалась струя совсем иного воздуха. Сумерки уже сгустились, но Керри не зажигала света. Огонь в камине тоже почти догорел. — Где ты, Кэд? — окликнул ее Друэ, назвав ласкательным именем, которое он для нее придумал. — Я здесь, — ответила она. В ее голосе звучала грусть, но Друэ неспособен был это уловить. Ему недоставало того чутья, которое подсказало бы ему, что надо деликатно подойти к женщине и утешить ее. Он чиркнул спичкой и зажег газ. — Да ты, никак, плакала! — воскликнул он. И, правда, глаза Керри были еще влажны от невольных слез. — Вот так так! — удивился Друэ. — Это не годится! Он взял ее за руку, предполагая в своем добродушном эгоизме, что только его отсутствие было причиною ее тоски и слез. — Полно, полно, Кэд! — продолжал он. — Все будет хорошо. Слышишь музыку? Давай потанцуем! Он вряд ли мог бы предложить ей в эту минуту что-либо более неуместное. Слова Друэ доказали Керри, что ей нечего искать у него сочувствия. Ей трудно было бы определить, в чем именно заключался его недостаток, в чем была разница между ним и ею, но она все же ощущала и этот недостаток и эту разницу. Друэ совершил свою первую крупную ошибку. То, что говорил Друэ о юной музыкантше, когда та по вечерам выходила в сопровождении матери, заставляло Керри с особым вниманием присматриваться к манерам женщин, сознающих свое достоинство. Она смотрелась в зеркало и слегка поджимала губки, чуть откидывая при этом голову назад, как это делала дочь железнодорожного казначея. Она стала легким, небрежным движением подбирать юбку, — разве Друэ не обращал ее внимание на то, как грациозно это проделывает молодая музыкантша да и многие другие женщины? А ведь Керри от природы была переимчива. Она начала усваивать все те мелкие черточки, которые рано или поздно приобретает всякая хорошенькая женщина, не лишенная тщеславия. Короче говоря, ее представления об изяществе значительно расширились и соответственно изменилась ее внешность. Керри стала женщиной с весьма развитым вкусом. Это не укрылось и от Друэ. Он заметил и новый бант в ее волосах, и то, как она по-новому взбила локоны однажды утром. — Тебе очень к лицу эта новая прическа, Кэд! — сказал он. — Ты находишь? — обрадовалась Керри. Его слова заставили ее проверить в тот же день и другие свои успехи. Керри уже не так тяжело ступала при ходьбе, и это опять-таки было подражанием изящной походке дочери казначея. Трудно сказать, как велико было влияние музыкальной соседки, но только Керри многому научилась у нее. И когда Герствуд впервые навестил своего друга, он встретил молодую женщину, во многом отличавшуюся от той Керри, с которой Друэ в свое время заговорил в поезде. В ее одежде давно уже исчезли прежние недостатки, и то же можно было сказать о ее манерах. Она была хороша, изящна и прелестна в своей робости, рожденной неуверенностью в себе. В ее больших глазах было что-то детски-наивное, и вот это-то и пленило накрахмаленного позера Герствуда. Вечное влечение увядающего к юному и свежему! В Герствуде сохранилась еще эта способность ценить все цветущее, все неиспорченное и молодое, и сейчас она вспыхнула с новой силой. Он глядел на миловидную девушку и чувствовал, как от нее исходят нежные волны сияющей юности. Его светская пресыщенность не могла обнаружить в ее больших ясных глазах ничего похожего на притворство. Даже ее легкое тщеславие, подметь он его, понравилось бы ему и показалось бы прелестным. «И как это удалось Друэ пленить ее?» — подумал он, направляясь в своем экипаже домой. С первого же взгляда Герствуду стало ясно, что Керри гораздо утонченнее Друэ. Экипаж катился между двумя рядами убегавших назад газовых фонарей. Герствуд сидел, сложив на коленях затянутые в перчатки руки, и все еще видел перед собой освещенную комнату и личико Керри. Он не переставал думать о юной красоте этой женщины. «Надо послать ей цветов! — решил он. — Друэ не рассердится». Он ни на секунду не скрывал от себя, что Керри ему нравится. Его нисколько не беспокоило то, что Друэ имеет право первенства. Он просто отдался течению легких, как обрывки паутины, мыслей, надеясь, что где-то он ухватится за одну из них и соединит в одно целое. Конечно, он не знал и не мог предвидеть, к чему это приведет. Несколько недель спустя Друэ, по-прежнему разъезжавший по всей стране, вернувшись в Чикаго из поездки в город Омаха, повстречался с одной из своих прежних приятельниц, большой щеголихой. Он намеревался немедленно поехать на Огден-сквер, чтобы устроить сюрприз Керри, не знавшей о его возвращении, но эта встреча заставила его изменить первоначальное решение. — Давайте пообедаем вместе, — предложил он своей знакомой, нисколько не беспокоясь о том, что могут увидеть. — С удовольствием, — согласилась она. Они зашли в один из лучших ресторанов, чтобы поболтать и вспомнить старое. Встретились они в пять часов, обед закончился лишь в половине восьмого. Друэ только что рассказал своей даме какой-то забавный случай, и лицо его уже расплывалось в улыбке, как вдруг он встретился взглядом с Герствудом. Тот вошел в ресторан в сопровождении нескольких друзей и, увидев молодого коммивояжера в обществе какой-то женщины — вовсе не Керри, — сделал соответствующий вывод. «А, шалопай! — подумал он и мысленно добавил, искренне сочувствуя Керри: — Напрасно он так обижает бедную девочку!» Едва Друэ поймал на себе взгляд Герствуда, как мысли его понеслись бешеным галопом, перегоняя одна другую. Впрочем, у него еще не было никаких дурных предчувствий, пока он не заметил, что Герствуд притворяется, будто не видит его. И тут он вдруг вспомнил, какое впечатление произвела Керри на Герствуда. Он подумал о том вечере, который они провели тогда втроем. Черт возьми, придется как-нибудь объяснить это Герствуду. Случайная встреча, полчаса за столиком со старинной приятельницей — стоит ли этому придавать значение? Впервые в жизни Друэ был серьезно озабочен. Он столкнулся с осложнением морального порядка и не в состоянии был предвидеть, чем это может кончиться. Герствуд будет смеяться над ним и назовет его ветрогоном. Ну что ж, он и сам посмеется с Герствудом! Керри ничего не узнает, и точно так же ничего не будет знать его знакомая, которая сейчас сидит с ним за столом. Но как ни старался Друэ успокоить себя, он не мог прогнать овладевшего им неприятного ощущения — на него как будто легло позорное клеймо, а меж тем он ни в чем не виноват. Друэ поспешил закончить обед, усадил свою знакомую в экипаж и направился домой. «Что-то он мне не рассказывал об этих других своих пассиях, — размышлял Герствуд. — Он думает, что я верю, будто он любит ту». «У него нет никаких оснований думать, что я погуливаю на стороне, поскольку я совсем недавно познакомил его с Керри», — размышлял, в свою очередь, Друэ. — А я вас видел! — шутливо заметил Герствуд, когда Друэ некоторое время спустя зашел в его сверкающие владения, ибо не в силах был лишить себя привычного удовольствия. Произнося эти слова, Герствуд наставительно поднял палец, точно отец, разговаривающий с сыном. — А, это старая приятельница, с которой я случайно встретился по дороге с вокзала, — поспешил объяснить Друэ. — В свое время она была недурна. — И все еще немного нравится, а? — так же шутливо сказал Герствуд. — О, что вы! — воскликнул Друэ. — Просто я никак не мог от нее улизнуть. — Долго пробудете в Чикаго? — спросил Герствуд. — Всего несколько дней. — Вы непременно должны пообедать со мной вместе с вашей девочкой, — сказал Герствуд. — Сдается мне, что вы держите ее взаперти. Я возьму ложу на Джо Джефферсона. — О, я вовсе не намерен прятать ее! — ответил коммивояжер. — Мы охотно поедем. Герствуд остался чрезвычайно доволен. Он ничуть не верил, что Друэ питает сильное чувство к Керри. Он завидовал коммивояжеру, и теперь, при взгляде на хорошо одетого, веселого молодого человека, который так нравился ему, в глазах его вспыхнул огонь ревности. Он начал мысленно критиковать Друэ: в нем ни мужского обаяния, ни ума! Он стал видеть его недостатки. Каково бы ни было его мнение о Друэ как о славном малом, он с некоторым пренебрежением смотрел на него как на любовника. Его нетрудно будет убрать с пути, Герствуд был уверен. Да ему достаточно было бы только намекнуть Керри на тот маленький случай, который произошел в четверг, и все было бы кончено!Непринужденно болтая и от души смеясь, Герствуд не переставал думать об одном и том же, а Друэ ничего не замечал. Ему не под силу было разгадать такого человека, как Герствуд. С улыбкой принял он приглашение, меж тем как тот стоял и всматривался в него ястребиным взглядом. А героиня этой запутанной комедии ни о ком из них и думать не думала. Она приспосабливала свои мысли и чувства к новой обстановке и окружению и отнюдь не собиралась страдать из-за Друэ или Герствуда. Однажды вечером Друэ застал ее перед зеркалом: она стояла и прихорашивалась. — Ага! — шутливо воскликнул он, неожиданно входя. — Я начинаю думать, что ты становишься кокеткой. — Ничего подобного, — улыбнувшись, ответила Керри. — Во всяком случае, ты чертовски хороша, — продолжал он, обнимая ее за талию. — Надень синее платье и пойдем в театр. — Ах, как жаль! Я обещала миссис Гейл пойти с ней на выставку, — сказала она виновато. — Вот как, — рассеянно промолвил Друэ, словно что-то обдумывая. — Меня лично выставка не интересует. — Право, не знаю, как и быть, — нерешительно сказала Керри, вовсе не собираясь, однако, нарушить обещание в угоду Друэ. В эту минуту в дверь постучали. Вошла служанка и подала Друэ запечатанный конверт. — Посыльный говорит, ему приказано ждать ответа, — сказала горничная. — От Герствуда, — сказал Друэ, тотчас узнав почерк приятеля. Он вскрыл конверт и принялся читать. «Вы непременно должны пойти со мной сегодня в театр, — гласило письмо. — Играет Джо Джефферсон. На сей раз приглашаю я, как мы условились. Отказа не принимаю». — Что ты скажешь на это? — без всяких задних мыслей спросил Друэ. С языка Керри уже готово было сорваться согласие. — Ты лучше сам реши, Чарли, — все же сдержанно произнесла она. — Я думаю, нам следовало бы пойти, если только ты сумеешь отказаться от приглашения миссис Гейл, — сказал Друэ. — О, это можно будет устроить! — не задумываясь, решила Керри. Друэ взял листок бумаги, чтобы написать ответ, а Керри немедленно пошла переодеваться. Ей и самой не ясно было, почему она предпочла приглашение Герствуда. — Как ты думаешь, сделать мне такую же прическу, как вчера? — спросила, возвращаясь в комнату, Керри; в руках она держала какие-то предметы туалета. — Конечно, — отозвался Друэ. Керри облегченно вздохнула при мысли, что он не сердится. Она отнюдь не считала, что согласилась принять приглашение потому, что Герствуд ей нравится. Просто провести вечер в обществе его и Друэ было самым приятным из всех вариантов, какие были предложены ей в тот день. Она оделась и причесалась с особой тщательностью, и они вышли из дому, предварительно извинившись перед миссис Гейл. — Однако! — воскликнул Герствуд, когда Керри и Друэ показались в вестибюле театра. — Мы сегодня очаровательны! Керри вздрогнула, почувствовав на себе его восхищенный взгляд. — Пойдемте! — сказал он и двинулся вперед, показывая дорогу. Театр блистал нарядами. Это была живая иллюстрация к старому выражению «разодеться в пух и прах». — Вы когда-нибудь видели Джефферсона? — спросил Герствуд, когда они расположились в ложе, и слегка наклонился при этом к Керри. — Нет, никогда, — ответила она. — О, он бесподобен, бесподобен! И он стал рассыпаться в похвалах по адресу актера, повторяя избитые фразы людей своего круга. Герствуд отправил Друэ за программой и снова принялся рассказывать Керри про Джефферсона то, что он о нем слышал. Молодой коммивояжер был несказанно доволен роскошным убранством лож, элегантным видом своего друга. А Керри, когда глаза ее случайно встречались с глазами Герствуда, видела в его взгляде столько чувства, сколько никто и никогда не проявлял по отношению к ней. В ту минуту она даже не могла понять, в чем дело, так как в следующий миг во взгляде Герствуда она обнаруживала кажущееся безразличие, а в его манерах — только любезность и вежливость. Друэ тоже принимал участие в разговоре, но по сравнению с Герствудом казался весьма недалеким. Управляющий баром развлекал и его и Керри, и теперь она отчетливо понимала, насколько Герствуд выше Друэ. Она инстинктивно чувствовала, что он и сильнее и умнее, хоть и держится удивительно просто. К концу третьего действия она окончательно пришла к убеждению, что Друэ всего лишь добрый малый, а во всех других отношениях ему многого недостает. С каждой минутой он все больше терял в ее глазах, не выдерживая опасного сравнения. — Я получила огромное удовольствие, — сказала Керри по окончании спектакля. — Я тоже, — поддержал ее Друэ, и не догадывающийся, что в душе ее разыгралась битва, в которой его позиции сильно пострадали. Он напоминал древнего китайского императора, который восседал на троне, очень довольный собою и своим могуществом, и вовсе не подозревал, что в это время враги отнимают у него лучшие земли. — А вы избавили меня от скучного вечера, — ответил Герствуд. — Спокойной ночи! Он взял маленькую ручку Керри, и их обоих словно пронзил электрический ток. — Я так устала, — ответила Керри, когда Друэ заговорил было с ней в вагоне конки, и откинулась на спинку сиденья. — Тогда посиди, а я пойду покурю. Он встал и вышел на площадку, беспечно предоставив игре идти своим чередом.Глава 12
Яркие огни особняков.
Мольба искусителя
Миссис Герствуд не имела ни малейшего представления о моральной неустойчивости мужа, хотя его наклонности, хорошо ей известные, могли бы заставить ее быть настороже. Трудно было предугадать, на что способна эта женщина, если вывести ее из себя. Герствуд, и тот не мог бы заранее сказать, как поступит его жена при тех или иных обстоятельствах. Миссис Герствуд не принадлежала к тем женщинам, которые позволяют себе приходить в ярость. Прежде всего она слишком мало верила в людей и прекрасно знала, что все не без греха. Затем она была слишком расчетлива и никогда бесполезным шумом не лишила бы себя преимущества знать все до мельчайших деталей. Она никогда не позволила бы своему гневу вылиться сразу в один сокрушительный удар. Она стала бы выжидать, размышлять, тщательно изучать все подробности, накопляя их одну за другой, пока, наконец, ее сила не сравнялась бы с жаждой мести. В то же время она не стала бы мешкать, если бы ей представился случай нанести обидчику рану, все равно — серьезную или легкую, и притом так, чтобы объект ее мести сам не знал, откуда грянула беда. Это была холодная, самовлюбленная женщина, и в голове у нее теснилось немало мыслей, которые никогда не находили себе выражения и которые миссис Герствуд не выдала бы даже мимолетным взглядом. Многое из этих черт Герствуд угадывал в натуре жены, хотя ничто пока не подтверждало его догадок. Они жили мирно, и он отчасти был даже доволен своей семейной жизнью. Он нисколько не опасался своей супруги — для этого не было никаких оснований. Миссис Герствуд все еще слегка гордилась своим мужем, тем более что ей по-прежнему хотелось поддерживать в обществе мнение о сплоченности своей семьи. И все же втайне она была очень довольна, что значительная часть имущества мужа переписана на ее имя. Она склонила Герствуда принять эту меру предосторожности давно, когда домашний очаг обладал для него большей притягательной силой, чем теперь. У жены не было ни малейшего повода предполагать, что в ее домашнем быту может когда-нибудь произойти какой-то неприятный переворот. И все же мрачные тени, которые порою опережают события, заставляли ее иной раз радоваться, что состояние мужа, в сущности, у нее в руках. Поэтому, ничем не рискуя, она всегда имела возможность проявить упорство, а Герствуд держал себя очень осторожно, ибо не знал, как поведет себя жена, если вызвать ее недовольство. И вот в тот вечер, когда Герствуд, Керри и Друэ сидели в ложе театра Мак-Викера, сын Герствуда, оказывается, сидел в шестом ряду партера с дочерью Х.Б.Кармайкла, совладельца крупной мануфактурной фирмы в Чикаго. Герствуд не заметил сына, так как, по обыкновению, держался в глубине ложи; а его можно было увидеть лишь в тех случаях, когда он слегка наклонялся вперед, да и то только из первых шести рядов партера. Он всегда сидел так в театре, стараясь, чтобы его присутствие было по возможности никем не замечено, если, конечно, у него не было оснований поступать иначе. Утром за завтраком молодой Герствуд сказал отцу: — Я видел тебя вчера вечером. — А, ты был вчера в театре Мак-Викера? — самым беспечным тоном спросил Герствуд. — Да, — ответил Джордж. — С кем ты был? — С мисс Кармайкл. Миссис Герствуд испытующе посмотрела на мужа, но выражение его лица ничего не сказало ей. Герствуд мог случайно зайти ненадолго в театр. — Как пьеса? — спросила она. — Превосходная, — ответил Герствуд, — только уж очень старая — «Рип Ван Винкл». — С кем же ты был? — с напускным равнодушием спросила она. — С Чарльзом Друэ и его женой. Это друзья мистера Моя, они наездом в Чикаго. Ввиду особых условий работы Герствуда это обстоятельство не могло вызвать у его жены никаких подозрений. Миссис Герствуд мирилась с тем, что служба вынуждает его иногда бывать в обществе без жены. Но последнее время он уже несколько раз отговаривался служебными обязанностями именно тогда, когда она куда-либо звала его. Так было как раз накануне утром. — А мне помнится, ты говорил, что будешь занят, — заметила миссис Герствуд, осторожно выбирая слова. — Я и был занят! — воскликнул муж. — Но я ничего не мог сделать, пришлось пойти, зато потом я должен был работать до двух часов ночи. Пояснение Герствуда на время прекратило всякие дальнейшие расспросы, но от этого разговора у обоих супругов остался на душе неприятный осадок. Миссис Герствуд трудно было бы найти более неудачное время для того, чтобы предъявлять какие-либо требования. Уже немало лет супруг постепенно охладевал к ней и скучал в ее обществе. Теперь, когда на его горизонте засиял новый свет, старое светило совсем померкло. У него не было ни малейшего желания оглядываться на прошлое, и всякое напоминание о нем раздражало его. Миссис Герствуд, однако, вовсе не собиралась идти на уступки и требовала, чтобы муж свято чтил брачный контракт, даже если этот контракт давно уже стал мертвой буквой. — Мы вечером собираемся в гости, — заметила она несколькими днями позже. — Я хотела бы, чтобы ты пошел с нами к Кинсли и познакомился с супругами Филипс. Они остановились в отеле «Тремонт», и мы решили развлечь их и показать им город. После недавнего инцидента с театром Герствуд не мог отказать ей, несмотря на то, что эти Филипсы были так неинтересны, как только могут быть неинтересны люди тщеславные и невежественные. Он согласился, но не слишком любезно и, уходя из дому, был страшно зол. «Этому надо положить конец, — решил он. — Я вовсе не намерен таскаться по гостям, когда я должен работать!» Вскоре после этого разговора миссис Герствуд выступила с новым предложением. На этот раз речь шла о каком-то утреннике в театре. — Моя милая, — ответил ей муж, — у меня совсем нет свободного времени. Я очень занят. — Однако ты же находишь время, чтобы ходить с другими в театр! — раздраженным тоном возразила ему жена. — Ничего подобного! — рассердился Герствуд. — Я не могу пренебрегать деловыми связями, только и всего. — Очень хорошо! — прошипела миссис Герствуд и плотно сжала губы. Чувство взаимного антагонизма между супругами усилилось. С другой стороны, приблизительно в равной мере усилился и интерес Герствуда к маленькой фабричной работнице, с которой он познакомился у Друэ. А та уже освоилась со своим положением и под влиянием новой подруги успела сильно измениться. Керри обладала приспособляемостью людей, борющихся за свое освобождение. Блеск более яркой жизни не пропал для нее даром. Она не могла бы похвастать, что приобрела много знаний, зато в ней пробудились желания. Разглагольствования миссис Гейл о богатстве и положении в свете научили ее разбираться в степени состоятельности людей. В хорошую погоду миссис Гейл любила кататься, наслаждаясь видом прекрасных, но недоступных для нее особняков, окруженных прелестными лужайками. На Северной стороне в то время появилось много изящных домов — там, где теперь Северная набережная. Ограды из камня и искусственного гранита, что в настоящее время окружает озеро Мичиган, тогда еще не существовало, но уже была проложена отличная дорога, газоны с обеих сторон ласкали взор, а все здания были новые и красивые. Однажды, когда миновала зима и уже наступили первые чудесные весенние дни, миссис Гейл наняла экипаж и пригласила Керри покататься с нею. Проехав через Линкольн-парк, они направились в Ивенстон, в четыре часа повернули назад и около пяти достигли Северной набережной. В это время года дни еще сравнительно коротки, и вечерние тени уже сгущались, окутывая огромный город. Фонари замигали тем мягким светом, который кажется глазу водянистым и прозрачным. В воздухе была разлита нега, которую тонко чувствуют и тело и душа. Керри прониклась красотой весеннего вечера. В ней зрело множество желаний. Время от времени по гладкой мостовой навстречу ей и миссис Гейл катились экипажи. Один из них остановился, с козел соскочил лакей и распахнул дверцу перед джентльменом, видимо, неторопливо возвращавшимся с вечерней прогулки. За широкими, только еще зазеленевшими лужайками тепло светились лампы, освещая богатую обстановку комнат. Иногда глаз различал красивое кресло, или стол, или уютный уголок — подобные зрелища необычайно занимали и восхищали Керри. Казалось, перед нею длинной чередой проходили те сказочные дворцы и замки, о которых она грезила в детских снах. Она готова была поверить, что там, за этими пышными, украшенными резьбой подъездами, где свет из граненых матовых шаров падал на двери с цветными и узорчатыми стеклами, люди не знают забот, не знают неудовлетворенных желаний. Да, там, несомненно, царит счастье! Если бы она могла пройти по этой широкой аллее и подняться по ступеням этого разукрашенного, казавшегося ей таким прекрасным, подъезда, войти в него, очутиться среди роскоши и богатства, которыми она могла бы владеть и распоряжаться, — о, как скоро отлетела бы вся ее грусть, как в одно мгновение исчезла бы боль из сердца!.. Керри смотрела и смотрела кругом, дивясь, восхищаясь, тоскуя и все время слыша манящий голос неутолимых желаний. — Вот бы иметь такой дом! — вздохнув, заметила миссис Гейл. — Какое это счастье! — А говорят, что на свете нет счастливых людей, — промолвила Керри. Она немало наслышалась лицемерных рассуждений лисы на тему о незрелом винограде. — Однако я замечаю, что люди в роскошных особняках как-то мирятся со своим бедственным положением! — иронически заметила миссис Гейл. Когда Керри вернулась домой, ей сразу бросилась в глаза относительная убогость ее квартирки. Молодая женщина была достаточно наблюдательна, чтобы понимать, что это всего лишь три маленькие комнаты в скромном меблированном доме. Она сопоставляла их не с тем, что было у нее раньше, а с тем, что она видела на набережной во время катания с миссис Гейл. Перед ее глазами все еще стояли красивые особняки, а в ушах раздавался звук мягко катящихся экипажей. «Кто такой в конце концов Друэ? И кто я?» — невольно подумала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк, за которым мигали огни Уоррен и Эшленд-стрит. Она была слишком взбудоражена, чтобы пойти поесть, и слишком ушла в свои мысли, чтобы найти себе другое занятие, кроме как покачиваться в качалке и напевать. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска, тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбии-сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец Керри начало казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она, в сущности, так счастлива, как ей никогда уже не быть. И вот, в то время как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Герствуд и спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэ. «Видимо, он не знает, что Чарли нет в городе», — подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем, а главное — он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит, но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Герствуд был, как всегда, элегантен. Он не знал об отсутствии Друэ. Впрочем, он был не слишком разочарован и тут же перевел разговор на общие темы, которые могли представлять интерес для Керри. Поразительно, с какой непринужденностью он овладел разговором. Впрочем, это легко удается людям с богатым жизненным опытом, знающим к тому же, что им симпатизируют. Он не сомневался, что Керри слушает его с удовольствием, и без малейшей напряженности принялся рассказывать о всякой всячине, будоражащей ее воображение. Он придвинулся чуть ближе и порою слегка понижал голос, для того чтобы придать разговору видимость сугубо интимной беседы. Герствуд говорил о том, что ему довелось видеть, о людях, о приятных поездках. Он бывал там-то и там-то, видел то-то и то-то. Постепенно ему удалось внушить Керри желание увидеть описанные им места, и вместе с тем он ни на миг не позволял ей забывать о нем самом. Керри не переставала ощущать обаяние этого человека. Порою Герствуд, желая подчеркнуть какое-нибудь слово, с улыбкой медленно поднимал на нее глаза, и она чувствовала магнетизм его взгляда. Вкрадчивой, почти незаметной ласковостью он добивался ее поощрения. Потом, рассказывая о чем-то, он для вящей убедительности коснулся ее руки, но Керри только и смогла, что улыбнуться в ответ. То, что он здесь, рядом, завораживало ее, все ее существо подчинилось его воле. За всю беседу он не сказал ни одной пустой фразы, и сама Керри благодаря ему становилась как будто умнее. Заразившись его живостью, она повеселела, и ее очарование заиграло яркими красками. Керри и сама чувствовала, что становится интереснее в его присутствии: он находил в ней столько достоинств! К тому же в его обращении не было ничего покровительственного, а именно этим Друэ всегда злоупотреблял. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэ или без него, в их отношениях было так много интимного, так много затаенного чувства, что она ни за что не решилась бы заговорить об этом. По натуре Керри была молчалива и никогда не умела точно передать свои мысли, зато чувствовала сильно и глубоко. Ни разу между нею и Герствудом не было сказано ничего такого, что следовало бы хранить в тайне, а что касается взглядов, которыми они обменивались, и испытываемых чувств, то какая женщина станет укорять себя за них? Ничего похожего в ее отношениях с Друэ не было и, по правде говоря, никогда не могло быть. Керри была подавлена трудностями, когда встретилась с Друэ, и радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить. Теперь же на нее хлынул поток таких чувств, которые были просто недоступны Друэ. В каждом взгляде Герствуда скрывалось не меньше силы, чем в пылких словах любовника, если не больше. Эти взгляды не требовали немедленного ответа — да и как было отвечать на них? Люди привыкли придавать словам слишком большое значение, им кажется, что слова могут сделать многое. На самом же деле слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. И сердце прислушивается только тогда, когда ему перестает мешать язык. Во время беседы с Герствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу, внешность! Как убедительно говорило за пего его общественное положение! Возраставшее в нем с каждой минутой влечение к Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым — и поэтому не пугало Керри; оно было неосязательно — и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собою эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождающему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. — Вы когда-нибудь видели особняки, что тянутся по набережной вдоль Северной стороны озера? — как бы случайно спросил Герствуд. — Я как раз сегодня была там с миссис Гейл. Как же они красивы, эти особняки! — Да, очень, — подтвердил Герствуд. — Как бы мне хотелось жить в таком доме, — задумчиво произнесла Керри. — Вам не повезло, — промолвил он после недолгого молчания. Он медленно поднял глаза и теперь смотрел ей прямо в лицо. Герствуду было ясно, что он затронул в ней слабую струнку. Сейчас ему представился случай замолвить за себя словечко. Он слегка наклонился к Керри и спокойно продолжал смотреть ей в глаза, прекрасно сознавая, что настала критическая минута. Керри невольно сделала чуть заметное движение, словно пытаясь стряхнуть с себя его чары, но тщетно. В своем взгляде Герствуд сосредоточил всю силу мужской воли, — он понимал, что именно теперь должен проявить эту волю. Он неотрывно смотрел на молодую женщину, и положение становилось все более неловким и трудным. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Последние опоры, одна за другой, ускользали у нее из-под рук. — Вы не должны так смотреть на меня, — сказала она наконец. — Я ничего не могу с собой поделать, — ответил Герствуд. Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Герствуду. — Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда? — продолжал он. — Да, — тихо ответила она. Герствуд понял, вернее, почувствовал, что он хозяин положения; низко наклонившись к молодой женщине, он прикоснулся к ее руке. — Не надо! — воскликнула Керри, вскакивая. — Простите, это вышло ненамеренно, — непринужденно ответил Герствуд. Керри могла бы убежать от него, однако она этого не сделала. Она не прекратила разговора, и Герствуд тотчас с готовностью принялся рассказывать ей что-то интересное. Но вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. — Вы не должны сердиться, — ласково сказал он. — Со временем все образуется! Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать. — Мы с вами добрые друзья, да? — сказал Герствуд, прощаясь и протягивая руку. — Да, — ответила Керри. — В таком случае ни слова об этом, пока я снова не увижу вас. Он ненадолго задержал ее руку в своей. — Я не могу обещать, — с сомнением в голосе отозвалась Керри. — Надо быть великодушнее с друзьями, — упрекнул он ее так просто, что она была тронута. — Давайте не будем больше говорить об этом, — сказала она. — Отлично! — просиял Герствуд. Он спустился по лестнице и сел в экипаж. Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который она недавно купила. — Я становлюсь ужасно гадкой! — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. — Что бы я ни делала, все получается нехорошо. Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. — Не знаю, как мне теперь быть, — чуть слышно пробормотала она наконец. А Герствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: «Она меня любит. Я в этом уверен!» И весь оставшийся путь до места его службы — добрых четыре мили — управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже пятнадцать лет.Глава 13
Верительные грамоты приняты.
Вавилонское столпотворение
Не прошло и двух суток после разговора между Керри и Герствудом, как последний снова явился в Огден-сквер. Все это время он не переставал думать о Керри. Ее кротость воспламенила его надежды. Он чувствовал, что добьется успеха, и скоро. Его интерес к Керри — чтобы не сказать влюбленность — основывался не на одном только желании, он был гораздо глубже. Это был расцвет чувств, прозябавших в сухой и бесплодной почве уже много лет. Вполне возможно, что Керри лучше всех тех женщин, которые когда-либо раньше владели его воображением. У него не было ни одного настоящего романа после того, который закончился его женитьбой, и он успел понять, насколько ошибочно и незрело было его тогдашнее решение. Всякий раз, как Герствуду приходилось задумываться над этим, он говорил себе, что, если бы можно было начать жизнь сначала, он ни в коем случае не женился бы на такой женщине, как миссис Герствуд. Собственный опыт значительно поколебал его уважение ко всему прекрасному полу вообще. Он стал относиться к женщинам цинично, и основанием тому были его многочисленные интрижки. Все те, кого он знал до встречи с Керри, были похожи одна на другую: эгоистичные, невежественные, пустые. В женах его друзей не было ничего вдохновляющего, а его собственная жена оказалась по натуре холодной и будничной, что доставляло ему мало радости. То, что Герствуд слышал о злачных местах, где по ночам кутили сластолюбцы из общества (а он знал многих из них), совсем разочаровало его. Он привык смотреть на всех женщин с недоверием, — эти существа только и стремятся извлекать пользу из своей красоты и нарядов. Он провожал их проницательным и двусмысленным взглядом. Вместе с тем он был далеко не так глуп, чтобы не проникнуться уважением к хорошей женщине. Он даже не стал бы раздумывать, откуда берется такое чудо, как добродетельная женщина. Он просто снял бы перед ней шляпу и заставил бы умолкнуть всех болтунов и сквернословов; так ирландец, хозяин ночлежки в Бауэри, смиряется перед сестрой милосердия из католической секты в Дублине и щедрой рукой благоговейно жертвует на благотворительные дела. Но Герствуд даже не задумался бы, почему он так поступает. Человек в положении Герствуда, видавший на своем веку немало никчемных, себялюбивых красоток, столкнувшись с молодой, неиспорченной, открытой натурой, либо держится подальше от нее, сознавая, как велико расстояние между ними, либо же, в восторге от своего открытия, тянется к ней, влекомый непреодолимой силой. Лишь долгим обходным путем такой человек, как Герствуд, может приблизиться к женщине вроде Керри. У подобных людей нет какого-либо определенного метода, они не знают, как завоевать расположение юности — разве только в том случае, когда жертва находится в тяжелом положении. Но если муха, увы, попалась в сети, паук начинает переговоры, диктуя свои условия. И когда наивная девушка, втянутая в водоворот большого города, оказывается в близком соседстве с охотником за легкой добычей, он пускает в ход свое искусство соблазнителя. Когда Герствуд в первый раз явился по приглашению Друэ, он ожидал увидеть красивое платье и смазливое личико. Он вошел в квартиру Друэ и Керри, рассчитывая провести вечер в легкомысленной болтовне и сейчас же забыть о новой знакомой. И вдруг, вопреки ожиданиям, он встретил женщину, юность и красота которой пленили его. В кротком свете ее глаз не было ничего похожего на расчетливость содержанки. Застенчивая манера держаться ничуть не напоминала куртизанок. Он сразу понял, что девушка просто ошиблась, — очевидно, какие-то тяжелые обстоятельства толкнули бедное создание на эту связь. И в Герствуде сразу зажегся интерес к Керри. Он проникся сочувствием к ней — правда, не без некоторой примеси самомнения. Желанию отвоевать Керри сопутствовала мысль, что с ним ей будет лучше, чем с Друэ. Герствуд завидовал молодому коммивояжеру, как не завидовал еще никому за все годы своей сознательной жизни. По своим душевным качествам Керри, несомненно, была лучше Герствуда, точно так же, как по умственным способностям она стояла выше Друэ. Она явилась в Чикаго свежая, как воздух полей, лучи деревенского солнца еще блестели в ее глазах. Тут не могло быть и речи о коварных замыслах или алчности. Правда, если копнуть глубже, то в ней, возможно, нашлись бы задатки и того и другого. Но она была слишком мечтательна, слишком полна неосознанных желаний, чтобы стать жадной. Она пока что глядела изумленными глазами на огромный город-лабиринт, многого еще не понимая. Герствуд ощутил в ней цветение юности. Ему хотелось взять ее, как хочется сорвать с дерева прекрасный, сочный плод. В ее присутствии Герствуд чувствовал себя человеком, для которого томительный летний зной каким-то чудом сменился вдруг свежим дыханием весны. Оставшись одна после описанной сцены с Герствудом, Керри, которой не с кем было посоветоваться, принялась перебирать в уме возможные выходы из положения, один нелепее другого; наконец, обессилев, бросила попытки разобраться в этом. Она считала, что кое-чем обязана Друэ. Ведь словно бы только вчера он оказал ей помощь в такую минуту, когда она была в унынии и тревоге. Она питала к нему самые лучшие чувства. Она отдавала должное его красивой внешности, его великодушию и даже, как ни странно, во время его отсутствия забывала о его эгоизме. Вместе с тем она не чувствовала, что ее связывают с ним какие-либо узы. Возможность прочного союза между ними не подтверждалась поведением Друэ. По правде сказать, привлекательный «барабанщик» все свои связи с женщинами заранее обрекал на недолговечность своим же собственным легкомыслием и непостоянством. Он весело наслаждался жизнью, в полной уверенности, что пленяет всех, что любовь неотступно следует за ним по пятам, что все неизменно будет складываться возможно приятнее для него. Если случалось, что из поля его зрения исчезало чье-либо лицо или какая-нибудь дверь окончательно закрывалась перед ним, он не особенно огорчался. Он был слишком молод и слишком удачлив. Он верил, что будет молод душою до гробовой доски. Что до Герствуда, то сейчас все его помыслы и чувства сосредоточились на Керри. У него не было никакого определенного плана, но он твердо решил, что заставит ее признаться в любви. Ему казалось, что в ее опущенных ресницах, в ее глазах, избегающих его взгляды, во всем поведении он узнает признаки зарождающейся страсти. Ему хотелось находиться подле нее, заставить ее вложить свою руку в его, ему не терпелось узнать, каков будет ее ближайший шаг, в чем выразится ее чувство в дальнейшем. Подобных тревог и радостей он не испытывал уже много лет. Он снова обрел чувства юноши и вел себя, как рыцарь. Должность позволяла ему свободно располагать своими вечерами. Вообще Герствуд был чрезвычайно преданный служащий и пользовался таким доверием хозяев, что они разрешали ему распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Он мог уходить когда угодно, так как всем было известно, что он блестяще выполняет обязанности управляющего, совершенно независимо от времени, которое уделяет делу. Его изящество, такт и элегантность создали в баре особую атмосферу изысканности, что было весьма важно для такого предприятия. В то же время благодаря многолетнему опыту Герствуд стал превосходным знатоком напитков, сигар и фруктов, ассортимент которых в баре не оставлял желать ничего лучшего. Буфетчики, их помощники сменяли один другого, но пока оставался Герствуд, плеяда старых посетителей едва ли замечала перемену. Именно, он, повторяем, давал заведению тот тон, к которому привыкли завсегдатаи. Вполне понятно поэтому, что Герствуд мог располагать своим служебным временем, как ему было угодно, и, случалось, уходил то днем, то вечером, но неизменно возвращался между одиннадцатью и двенадцатью, чтобы быть на месте последний час или два и присутствовать при закрытии бара. — Вы уж последите за тем, чтобы все было убрано в шкафы и чтобы никто не оставался в баре после вас, Джордж! — сказал ему однажды мистер Мой, и ни разу за всю свою долголетнюю службу Герствуд не нарушил этого указания. Владельцы бара годами не заглядывали туда после пяти часов дня, и все же управляющий так же точно выполнял их требование, как если бы они ежедневно приходили проверять его. В пятницу, всего через два дня после визита к Керри, Герствуд решил снова повидаться с ней. Он уже не мог существовать без нее. — Ивенс, — обратился он к старшему буфетчику, — если кто будет спрашивать меня, скажите, что я вернусь к пяти часам. Быстрыми шагами направился он на Медисон-стрит, сел в конку и через полчаса был на Огден-сквер. Керри уже приготовила шляпу и перчатки и, стоя перед зеркалом, прикалывала к платью белый кружевной бант, когда горничная постучала и сообщила, что пришел мистер Герствуд. Услышав это, Керри слегка вздрогнула, но, овладев собой, попросила горничную передать ему, что через минуту выйдет в гостиную, и стала торопливо заканчивать туалет. В эту минуту Керри не могла бы ответить, рада ли она тому, что ее дожидается этот интересный человек. Она чувствовала, как кровь прилила к ее щекам, но то было скорее от волнения, чем от страха или радости. Она не пыталась угадать, о чем он будет говорить, только подумала, что нужно быть осторожнее и что ее непостижимо влечет к этому человеку. Поправив в последний раз бант, Керри вышла в гостиную. Герствуд тоже волновался и нервничал. Он не скрывал от себя цели своего прихода. Он сознавал, что на этот раз должен действовать решительно, однако, едва настал ответственный момент и послышались шаги Керри, смелость покинула его. Он начал колебаться, так как далеко не был уверен в том, как она отнесется к нему. Но едва Керри вошла в комнату, Герствуд снова воспрянул духом при виде красоты молодой женщины. В ней было столько непосредственности и очарования, что всякий влюбленный почувствовал бы прилив отваги. Керри явно волновалась, и это рассеяло тревогу Герствуда. — Как вы поживаете? — непринужденно приветствовал он ее. — День такой прекрасный, что я не мог устоять против искушения пройтись немного. — Да, день чудесный, — сказала Керри, останавливаясь перед гостем. — Я и сама собиралась выйти погулять. — Вот как? — воскликнул Герствуд. — В таком случае, быть может, вы наденете шляпу и мы выйдем вместе? Они пересекли парк и пошли по бульвару Вашингтона; здесь была отличная щебенчатая мостовая, а немного отступя от тротуара тянулись большие особняки. На этой улице жили многие из состоятельных обитателей Западной стороны, и Герствуд слегка нервничал оттого, что идет с дамой у всех на виду. Однако вывеска «Экипажи напрокат» в одном из переулков вывела его из затруднения, и он предложил Керри прокатиться по новому бульвару. Бульвар представлял собою в то время просто-напросто проезжую дорогу. Та часть его, которую Герствуд намеревался показать Керри, находилась тоже на Западной стороне, но значительно дальше и была мало заселена. Бульвар соединял Дуглас-парк с Вашингтонским, или Южным парком; эта аккуратно вымощенная дорога тянулась миль пять по открытой, заросшей высокой травой прерии на юг, сворачивая затем к востоку. Там нечего было опасаться кого-либо встретить, и ничто не могло помешать беседе. Герствуд выбрал смирную лошадь, и скоро он и Керри оказались уже в таких местах, где никто их не видел и не слышал. — Вы умеете править? — спросил Герствуд. — Никогда не пробовала. Он передал Керри вожжи, а сам скрестил руки на груди. — Вот видите, как это просто, — с улыбкой сказал он. — Да, когда лошадь смирная! — ответила Керри. — При некотором навыке вы справитесь с любой, — подбодрил он ее. Герствуд выжидал удобной минуты, чтобы перевести разговор на другую тему и придать ему более серьезный характер. Раза два он совсем умолкал, в надежде, что в молчании мысли Керри потекут по тому же направлению, что и его. Но она как ни в чем не бывало продолжала болтать. Вскоре, однако, его молчаливость стала действовать на нее. Она поняла, о чем он думает. Герствуд упорно смотрел перед собою, точно раздумье его не имело никакого отношения к спутнице. Но его настроение говорило само за себя, и Керри сознавала, что близится критическая минута. — Поверите ли, — задумчиво произнес он, — я уже много лет не был так счастлив, как с тех пор, когда я узнал вас. — Правда? Она произнесла это слово с притворной легкостью, хотя была сильно взволнована убежденностью в его голосе. — Я хотел сказать вам это еще в прошлый вечер, — добавил он, — но не представилось случая. Керри слушала его, даже не пытаясь найти слова для ответа. При всем желании она ничего не могла бы придумать. Вопреки ее представлениям о порядочности и мыслям, тревожившим ее с первой минуты их знакомства, она теперь снова почувствовала сильное влечение к этому человеку. — Я затем и пришел сегодня, — торжественным тоном продолжал Герствуд, — чтобы сказать вам о своих чувствах, то есть узнать, пожелаете ли вы меня выслушать. Герствуд был в некотором роде романтиком, ему не чужды были пылкие чувства — порою даже весьма поэтические, — и под действием сильной страсти он становился красноречив. Вернее, в голосе его появлялась та кажущаяся сдержанность и патетика, которая является сущностью красноречия. — Вы, наверное, и сами знаете… — сказал он, положив свою руку на ее. Воцарилось неловкое молчание, пока он подыскивал нужные слова. — Вы, наверное, и сами знаете, что я люблю вас… Керри даже не шевельнулась, услышав это признание. Она целиком подпала под обаяние этого человека. Ему для выражения своих чувств нужна была церковная тишина, и Керри не нарушала ее. Не отрываясь, смотрела она на развертывавшуюся перед нею панораму открытой, ровной прерии. Герствуд выждал несколько секунд, а затем повторил последние слова. — Вы не должны так говорить, — чуть слышно отозвалась Керри. Это звучало совсем неубедительно. Просто у нее слабо шевельнулась мысль, что надо что-нибудь сказать. Герствуд не обратил внимания на ответ. — Керри, — сказал он, впервые с теплой фамильярностью называя ее по имени, — Керри, я хочу, чтобы вы полюбили меня. Вы не знаете, как я нуждаюсь хоть в капельке нежности. Я, в сущности, совсем одинок. В моей жизни нет ничего светлого и радостного. Одни только заботы и возня с людьми, которые для меня ничего не значат. Произнося эти слова, Герствуд и сам считал, что его доля достойна глубокой жалости. Он обладал способностью увлекаться собственной речью и, глядя на себя словно со стороны, видеть то, что ему хотелось бы видеть. Его голос дрожал от волнения, и слова находили отклик в душе спутницы. — А я-то думала, что вы, должно быть, очень счастливы! — сказала Керри, обращая на него свои большие глаза, полные искреннего сочувствия. — Ведь вы так хорошо знаете жизнь! — В том-то и беда, — сказал Герствуд, и в голосе его послышалась легкая грусть, — в том-то и беда, что я слишком хорошо знаю жизнь! На Керри произвело сильное впечатление то, что это говорит ей человек влиятельный, с хорошим положением в обществе. Она с невольным удивлением подумала, как странно складывается ее судьба. Как же это могло случиться, что в такой короткий промежуток времени вся рутина захолустной жизни, точно плащ, свалилась с ее плеч и вместо нее выступил большой город со всеми его загадками? А сейчас перед нею была самая удивительная загадка: человек с деньгами, с положением, управляющий большим делом — и вдруг ищет ее сочувствия. Ведь стоит только взглянуть на него, и сразу видно, что он живет в довольстве, что он силен, одет изысканно и, несмотря на все это, о чем-то просит ее, Керри! Она не могла найти ни одной разумной фразы и попросту перестала ломать себе голову. Она только нежилась в лучах его горячего чувства, как озябший путник у жаркого костра. Герствуд весь пылал, и огонь его страсти уже растоплял как воск последние сомнения Керри. — Вы думаете, что я счастлив, что мне не на что жаловаться? Если бы вам приходилось каждый день встречаться с людьми, которым совершенно нет до вас дела, если бы вам изо дня в день приходилось бывать там, где царят лицемерие и полное безразличие, если бы вокруг вас не было ни одного человека, с кем вы могли бы поговорить по душам, в ком вы могли бы искать сочувствия, — разве вы не считали бы себя глубоко несчастной? Герствуд сейчас затронул чувствительную струнку в ее душе — ведь она сама испытала все это. Она прекрасно знала, что значит встречаться с людьми, которые к тебе равнодушны, блуждать в толпе, которой нет до тебя никакого дела. Она ли этого не испытала? Разве она не одинока и в настоящую минуту? Разве среди тех, кого она знает, есть хоть кто-нибудь, в ком она могла бы искать сочувствия? Ни одного человека! Она всецело предоставлена своим думам и сомнениям. — Я был бы вполне доволен жизнью, — продолжал Герствуд, — если бы мог приходить к вам, если бы я нашел в вас друга. Теперь же я машинально хожу то в одно место, то в другое, не испытывая ни малейшего удовольствия. Я не знаю, чем мне заполнить свой досуг. Пока не было вас, я ничего не делал и только бесцельно плыл по течению навстречу всяким случайным впечатлениям. Но вот появились вы, и с тех пор я думаю только о вас! И Керри поддалась извечному самообману: ей казалось, что перед ней человек, который истинно нуждается в ней. Она от души жалела одинокого и грустного Герствуда. Подумать только, что, несмотря на свое положение в обществе, он чувствует себя несчастным без нее, он умоляет ее о любви, когда она и сама так одинока и не имеет пристанища в жизни. Нет, это очень печально! — Я далеко не дурной человек, — как бы оправдываясь, продолжал Герствуд, словно он считал своим долгом дать ей на этот счет некоторое разъяснение. — Вы думаете, быть может, что я веду беспутный образ жизни и предаюсь всяким порокам? Не стану скрывать, что бываю порою весьма, весьма легкомыслен, но я без труда мог бы отречься от этого. Вы нужны мне для того, чтобы я вновь мог стать самим собой, если только жизнь моя еще чего-нибудь стоит. Керри посмотрела на него снежностью, которой неизменно проникается добродетель, когда надеется спасти заблудшую душу. Возможно ли, чтобы такой человек нуждался в нравственном спасении? Какие могут быть в нем пороки, которые она могла бы исправить? Они должны быть ничтожны в этом человеке, в котором все так красиво. В худшем случае это маленькие грешки, к которым надо относиться с большой снисходительностью. Герствуд выставил себя в таком свете, что Керри не могла не проникнуться к нему глубокой жалостью. «Неужели это правда?» — думала она. Он обнял ее одной рукой за талию, и у нее не хватило духу отодвинуться. Свободной рукой он слегка сжал ее пальцы. Мягкий весенний ветерок пробежал через дорогу, перекатывая на своем пути прошлогодние сучки и листья. Лошадь, не чувствуя вожжей, бежала ленивой рысцой. — Скажите, что вы любите меня, Керри! — чуть слышно произнес Герствуд. Керри опустила глаза. — Признайтесь, дорогая! — глубоко прочувствованным голосом продолжал он. — Любите, да? Керри не отвечала, но Герствуд нисколько не сомневался в том, что одержал победу. — Скажите «да», — горячим шепотом повторил он и так близко привлек ее к себе, что их губы почти встретились. Он сжал ей руку, но тотчас выпустил и ласково прикоснулся к ее лицу. — Правда? — настаивал он, прижимаясь к ее губам. Ее губы ответили ему. — Теперь вы моя, да? — горячо прошептал Герствуд, и его красивые глаза загорелись. Керри ничего не ответила и только тихонько опустила голову к нему на плечо.Глава 14
Глаза, которые не видят.
Одно влияние исчезает
В этот вечер, сидя в своей комнате, Керри чувствовала себя превосходно и физически и нравственно. Ее радостно волновала любовь к Герствуду, ее взаимность, и она, ликуя, рисовала себе в мечтах предстоящее в воскресенье вечером свидание. Не задумываясь о необходимости соблюдать осторожность, они все же именно по этой причине условились, что Керри встретится с ним в городе. Миссис Гейл из своего окна видела, как Керри возвращалась домой. «Гм, — подумала она. — Ездит кататься с каким-то джентльменом, когда мужа нет в городе! Не мешало бы мистеру Друэ присмотреть за своей женой!» Между прочим, не одна миссис Гейл сделала подобное заключение. Горничная, открывавшая дверь Герствуду, тоже составила себе кой-какое мнение на этот счет. Она не питала особой любви к Керри, считая ее холодной и неприятной особой. Зато ей очень нравился веселый и простой в обращении Друэ, время от времени бросавший приветливое словечко и вообще оказывавший ей то внимание, которое он неизменно уделял всем представительницам прекрасного пола. Герствуд, человек более сдержанный, не произвел такого выгодного впечатления на эту затянутую в корсет девицу. Горничная с удивлением задавала себе вопрос: почему мистер Герствуд является так часто и куда это миссис Друэ отправилась с ним в отсутствие мужа? Она не преминула поделиться своими наблюдениями с кухаркой. По дому пошла сплетня, с таинственным видом передаваемая из уст в уста. Поддавшись обаянию Герствуда и признавшись ему во взаимности, Керри перестала раздумывать насчет их дальнейших отношений. На время она почти забыла о Друэ, целиком занятая мыслями о благородстве и изяществе своего возлюбленного и о его всепоглощающей страсти к ней. В первый вечер она долго перебирала в уме все подробности их прогулки. Впервые в жизни в ней проснулись дотоле не изведанные чувства, и в самом ее характере появились какие-то новые черточки. Она почувствовала в себе энергию, которой раньше за собой не знала, стала более практически смотреть на вещи, и ей уже казалось, что вдали брезжит какой-то просвет. Герствуд представлялся ей спасительной силой, которая выведет ее на путь чести. В общем, ее чувства заслуживали большой похвалы, ибо в последних событиях ее особенно радовала надежда выбраться из бесчестья. Она не имела ни малейшего представления о том, каковы будут дальнейшие планы Герствуда. Но его чувство к ней казалось чем-то прекрасным, и она ожидала больших, светлых перемен. А Герствуд между тем думал только о наслаждении, не связанном с ответственностью. Он вовсе не считал, что чем-то осложняет свою жизнь. Служебное положение у него было прочное, домашняя жизнь если не удовлетворяла, то, по крайней мере, не доставляла ему никаких тревог, и его личная свобода до сих пор ничем не была ограничена. Любовь Керри представлялась ему лишь новым удовольствием. Он будет наслаждаться этим даром судьбы, отпущенным ему сверх обычной доли земных радостей. Он будет счастлив с нею, и это отнюдь не послужит помехой его прочим делам. В воскресенье вечером Керри обедала с ним в одном облюбованном им ресторане на Ист-Адамс-стрит, потом они сели в наемный экипаж и отправились на Коттедж-Гроув-авеню, где находился известный в те времена кабачок. Уже делая признание, Герствуд заметил, что Керри поняла его любовь как весьма возвышенное чувство, чего он, собственно, не ожидал. Она всерьез держала его на определенном расстоянии, позволяя проявлять лишь те знаки нежного внимания, которые к лицу лишь совсем неопытным влюбленным. Ему стало ясно, что овладеть ею будет далеко не так просто, и он решил пока не слишком настаивать. Так как Герствуд с самого начала делал вид, будто считает Керри замужней женщиной, ему необходимо было и сейчас продолжать эту игру. Он понимал, что до полной победы над Керри еще далеко. Как далеко — этого он, разумеется, не мог предвидеть. Когда они возвращались в экипаже на Огден-сквер, Герствуд спросил: — Когда я вас снова увижу? — Право, не знаю, — ответила Керри, немного растерявшись. — Почему бы нам не встретиться во вторник в «Базаре»? — предложил он. — Не так скоро, — покачала она головой. — Тогда мы вот что сделаем, — сказал Герствуд, — я напишу вам «до востребования» по адресу почтамта на Западной стороне, а вы во вторник зайдите туда за письмом. Хорошо? Керри согласилась. По приказанию Герствуда кучер остановился, не доезжая одного дома до квартиры Керри. — Спокойной ночи, — прошептал Герствуд, и экипаж тотчас отъехал. Плавное развитие романа было, увы, нарушено возвращением Друэ. Герствуд сидел за письменным столом в своем изящном маленьком кабинете, когда на другой день после его свидания с Керри в бар заглянул молодой коммивояжер. — Здорово, Чарли! — благодушно окликнул его издали Герствуд. — Уже вернулись? — Да, как видите, — с улыбкой ответил Друэ и, подойдя ближе, остановился в дверях кабинета. Герствуд поднялся ему навстречу. — Такой же цветущий, как всегда, — шутливо заметил он. Они заговорили об общих знакомых и о последних происшествиях. — Дома уже были? — спросил наконец Герствуд. — Нет еще. Но сейчас еду, — ответил Друэ. — Я тут не забывал вашу девочку, — сказал Герствуд. — Даже навестил ее как-то. Думал, вам было бы неприятно, если б она все время сидела одна. — Вы совершенно правы, — согласился Друэ. — Ну, как она поживает? — спросил он. — Отлично, — ответил Герствуд. — Только очень скучает по вас. Вы бы скорее пошли и развеселили ее! — Сейчас иду, — весело заверил его Друэ. — Я хотел бы, чтобы вы в среду поехали со мной в театр, — сказал на прощание Герствуд. — Спасибо, дружище! — поблагодарил его молодой коммивояжер. — Я спрошу у нее и потом сообщу вам, что она скажет. Они сердечно пожали друг другу руки. «Герствуд — очаровательный малый!» — подумал Друэ, сворачивая за угол и направляясь к Медисон-стрит. «Друэ — славный парень! — подумал Герствуд, возвращаясь к себе в кабинет. — Но он совсем не подходит для Керри». При воспоминании о Керри его мысли тотчас приняли приятный оборот. Он стал думать о том, как ему обойти коммивояжера. Очутившись дома, Друэ, по обыкновению, схватил Керри в объятия, но она, возвращая ему поцелуй, слегка дрожала, точно преодолевая внутреннее сопротивление. — Чудесно съездил! — сказал он. — Правда? Ну, а чем кончилось в Ла-Кроссе то дело, о котором ты мне рассказывал? — Прекрасно! Я продал этому человеку полный ассортимент наших товаров. Там был еще один комми, представитель фирмы Бернштейн, но он ничего не сумел сделать. Я его здорово заткнул за пояс! Снимая воротничок и отстегивая запонки, перед тем как пойти умыться и переодеться, Друэ продолжал описывать свою поездку. Керри с невольным любопытством слушала его красочное повествование. — Понимаешь, у нас в конторе все были прямо поражены, — сказал он. — За последнюю четверть года я продал больше всех других представителей нашей фирмы. В одном только Ла-Кроссе я сплавил товару на три тысячи долларов. Он погрузил лицо в умывальный таз с водой и, фыркая и отдуваясь, принялся мыть лицо, шею и уши, а Керри глядела на него, и в голове ее теснился целый рой противоречивых мыслей: воспоминания о прошлом и нынешнее критическое отношение к этому человеку. Взяв полотенце и вытирая лицо, Друэ продолжал: — В июне непременно потребую прибавки. Пусть платят больше, раз я приношу им столько дохода! И я добьюсь своего, можешь не сомневаться! — Надеюсь, — сказала Керри. — А если к тому же закончится благополучно и то маленькое дело, про которое я тебе говорил, мы с тобой обвенчаемся! — с видом неподдельной искренности добавил он. Подойдя к зеркалу, Друэ стал приглаживать волосы. — По правде сказать, я не верю, чтобы ты когда-нибудь женился на мне, Чарли, — грустно сказала Керри. Недавние уверения Герствуда придали ей смелости произнести эти слова. — Нет, что ты… что ты!.. — воскликнул Друэ. — Вот увидишь, женюсь! Откуда у тебя такие мысли? Он перестал возиться у зеркала и, круто повернувшись, подошел к Керри. А ей впервые захотелось отстраниться от него. — Слишком уж давно ты говоришь об этом! — сказала она, подняв к нему красивое личико. — Но я это сделаю, Керри! Только для того, чтобы жить, как я хочу, нужны деньги. Вот получу прибавку, тогда можно будет устроиться и зажить на славу. И мы с тобой сразу поженимся. Брось тревожиться, детка! Он ласково потрепал ее по плечу, но Керри лишний раз почувствовала, как тщетны ее надежды. Очевидно, этот ветреник не собирался и пальцем шевельнуть ради ее душевного покоя. Он попросту предоставлял событиям идти своим чередом, так как предпочитал свободную жизнь всяким законным узам. Герствуд, напротив, казался Керри положительным и искренним человеком. У него не было этой манеры отмахиваться от важных вопросов. Он глубоко сочувствовал ей во всем и каждым словом давал понять, как высоко ее ценит. Он действительно нуждался в ней, а Друэ не было до нее никакого дела. — О нет, этого никогда не будет! — повторила она. Она произнесла это тоном упрека, но в голосе ее чувствовалась прежде всего растерянность. — Вот обожди еще немного, тогда увидишь, — сказал Друэ, как бы заканчивая разговор. — Раз я сказал — женюсь, значит, женюсь! Керри внимательно посмотрела на него, убеждаясь в своей правоте. Она искала, чем бы успокоить свою совесть, и нашла себе оправдание в беспечном и пренебрежительном отношении Друэ к ее справедливым требованиям. Ведь он обещал жениться на ней, и вот как он выполняет свое обещание! — Слушай, — сказал Друэ после того, как, по его мнению, с вопросом о женитьбе было покончено, — я видел сегодня Герствуда, он приглашает нас в театр! При звуке этого имени Керри вздрогнула, но быстро овладела собой. — Когда? — спросила она с деланным равнодушием. — В среду. Пойдем, а? — Если ты хочешь, пожалуйста! — ответила Керри с такой ненатуральной сдержанностью, которая могла бы вызвать подозрение. Друэ что-то заметил, но приписал ее тон разговору насчет женитьбы. — Он сказал, что навестил тебя однажды. — Да, — подтвердила Керри, — он заходил вчера вечером. — Вот как? А я понял из его слов, будто он был здесь с неделю назад, — удивился Друэ. — Да, он был и около недели назад, — сказала Керри. Не зная, о чем говорили между собою ее любовники, она растерялась, боясь, что ее ответ может вызвать какие-нибудь осложнения. — Значит, он был здесь дважды? — спросил Друэ, и на лице его впервые мелькнула тень сомнения. — Да, — простодушно подтвердила Керри, хотя теперь ей стало ясно, что Герствуд, должно быть, говорил лишь об одном визите. Друэ подумал, что не понял приятеля, и не придал этой маленькой путанице никакого значения. — А что, собственно, ему было нужно? — спросил он; в нем шевельнулось любопытство. — Он сказал, что пришел проведать меня, думая, что мне должно быть очень скучно одной. Ты, по-видимому, давно не был у него в баре, и он справлялся, куда ты пропал. — Джордж на редкость славный малый, — сказал Друэ, весьма польщенный вниманием приятеля. — Ну, пойдем обедать! Когда Герствуд узнал, что Друэ вернулся в Чикаго, он сел за стол и написал Керри:«Дорогая, я сказал ему, что был у Вас в его отсутствие. Я не упомянул, сколько раз я заходил к Вам, но он, вероятно, думает, что только один раз. Сообщите мне все, о чем Вы говорили с ним. Ответ на это письмо пришлите с посыльным. Я должен Вас видеть, моя дорогая! Дайте знать, удобно ли Вам встретиться со мною в среду, в два часа, на углу Джексон и Трупп-стрит. Мне очень хотелось бы поговорить с Вами прежде, чем мы увидимся в театре».Керри получила это письмо в почтовом отделении Западной стороны, куда зашла во вторник утром. Она тотчас же написала ответ:
«Я сказала ему, что Вы приходили дважды. Он, по-моему, не рассердился. Постараюсь быть на Трупп-стрит, если ничто не помешает. Мне кажется, я становлюсь дурной женщиной. Нехорошо поступать так, как я поступаю сейчас».Встретившись с Керри в условленном месте, Герствуд сумел успокоить ее. — Вы не должны тревожиться, дорогая! — сказал он. — Как только Чарли уедет из Чикаго, мы с вами что-нибудь придумаем. Устроим все так, чтобы вам не приходилось никого обманывать. Керри вообразила, что Герствуд сейчас же на ней женится, хотя он этого прямо не сказал. Она воспрянула духом и решила, что нужно как-нибудь протянуть до тех пор, пока не уедет Друэ. — Не обнаруживайте большего интереса ко мне, чем раньше, — напомнил ей Герствуд, имея в виду предстоящее посещение театра. — А вы не должны смотреть на меня так пристально! — ответила Керри, знавшая, какую власть имеет над нею его взгляд. — Хорошо, не буду, — обещал он. Но, пожимая ей на прощание руку, он посмотрел на нее тем взглядом, которого так боялась Керри. — Ну вот, опять! — воскликнула Керри, шутливо погрозив ему пальцем. — Но ведь спектакль еще не начался! — возразил Герствуд. Он долго с нежностью глядел ей вслед. Ее юность и красота сильнее вина опьяняли его. В театре все складывалось в пользу Герствуда. Если он и раньше нравился Керри, то теперь ее влекло к нему со всевозрастающей силой. Его обаяние стало еще более действенным, ибо нашло для себя благоприятную среду. Керри восхищенно следила за каждым его движением. Она почти забыла о бедном Друэ, который не переставал болтать, словно хозяин, старающийся занять своих гостей. Герствуд был слишком умен, чтобы хоть намеком обнаружить перемену в своем отношении к Керри. Пожалуй только, он стал еще внимательнее к своему приятелю и ни разу не позволил себе тонко подтрунить над ним, как мог бы это сделать счастливый соперник в присутствии возлюбленной. Он превосходно сознавал бесчестность своей игры и не был настолько мелок, чтобы допустить хоть малейшую насмешливость по отношению к Друэ. Только один эпизод создал ироническую ситуацию, и то лишь благодаря одному Друэ. В пьесе «Договор» есть сцена, когда жена в отсутствие мужа поддается сладким речам соблазнителя. Позже, когда жена уже всеми силами старается искупить свою вину перед мужем, Друэ сказал: — И поделом ему! Вот уж мне ни капельки не жаль мужа, который может быть таким ослом! — В таких случаях очень трудно судить, — мягко возразил Герствуд. — Ведь он, наверное, считал себя безукоризненным супругом. — Ну, знаете ли, муж должен быть гораздо внимательнее к жене, если хочет удержать ее! Они вышли из вестибюля и стали пробираться сквозь густую толпу зрителей у подъезда. — Мистер, мистер, — послышался возле Герствуда чей-то голос. — Не откажите дать бездомному на ночлег! Герствуд в это время о чем-то рассказывал Керри. — Богом клянусь, мистер, мне негде спать! Это молил невероятно тощий мужчина лет тридцати, который мог бы служить живым олицетворением человеческого горя и лишений. Друэ первый обратил на него внимание и с чувством глубокой жалости подал ему десять центов. Герствуд едва ли даже заметил этот инцидент, а Керри быстро забыла о нем.
Глава 15
Гнет старых уз.
Магическое действие юности
По мере того, как росла любовь Герствуда, он уделял своему дому все меньше и меньше внимания. Ко всему, что касалось семьи, он относился весьма небрежно. Сидя за завтраком с женой и детьми, он погружался в думы, уносившие его далеко от сферы их интересов. Он читал газету, которая казалась тем содержательнее, чем пошлее были темы, обсуждавшиеся его сыном и дочерью. Между ним и женою образовалось море холодного равнодушия. С тех пор как в жизнь Герствуда вошла Керри, он ступил на путь, ведущий к блаженству. Он с наслаждением отправлялся теперь по вечерам в город. Когда он в сумерках шел по улицам, уличные фонари, казалось, весело подмигивали ему. Он снова испытывал то почти забытое чувство, которое ускоряет шаги влюбленного. Он глядел на свой элегантный костюм глазами Керри, а глаза у нее были такие юные. И когда среди наплыва подобных чувств он вдруг слышал голос жены, когда настойчивые требования семейной жизни пробуждали его от грез и возвращали к тоскливым будням, сердце Герствуда начинало больно ныть. Он понимал тогда, какие крепкие путы связывают его. — Джордж, — заметила однажды миссис Герствуд тоном, который давно уже неизбежно ассоциировался в его уме с какой-нибудь очередной просьбой, — мы хотели бы иметь сезонный билет на бега. — Неужели вы собираетесь постоянно бывать на бегах? — спросил он, в раздражении повышая голос. — Да, — кратко ответила миссис Герствуд. Бега, о которых шла речь, должны были вскоре открыться в Вашингтон-парке на Южной стороне, и посещение их входило в программу развлечений тех кругов общества, которые не слишком выставляли напоказ свою религиозную нравственность и приверженность к старым правилам. Миссис Герствуд никогда раньше не претендовала на сезонный билет, но в этом году особые соображения склоняли ее к мысли обзавестись собственной ложей. Во-первых, ее соседи, некие мистер и миссис Рамси, люди с большими деньгами, нажитыми на угольном деле, имели на бегах свою ложу. Во-вторых, домашний врач Герствудов, доктор Билл, джентльмен, относящийся с большим пристрастием к лошадям и тотализатору, говорил с миссис Герствуд о бегах и сообщил ей о намерении пустить на состязания своего двухлетнего жеребца. В-третьих, миссис Герствуд хотелось вывозить в свет Джессику, которая была уже в возрасте и хорошела с каждым днем. Мать надеялась выдать ее за богатого человека. Да и желание самой участвовать в этой ярмарке суеты и блистать среди знакомых и друзей немало возбуждало миссис Герствуд. Ее супруг несколько секунд обдумывал это требование, не произнося ни слова. Они сидели в гостиной на втором этаже, ожидая ужина. Это было в тот самый вечер, когда Герствуд собирался идти в театр с Керри и Друэ, и лишь необходимость сменить костюм заставила его зайти домой. — А почему бы тебе не брать разовых билетов? — спросил он, сдерживаясь, чтобы не сказать что-либо более резкое. — Я не хочу, — нетерпеливо возразила миссис Герствуд. — Во всяком случае, незачем злиться, — сказал Герствуд, оскорбленный ее тоном. — Я только спросил. — Я и не думаю злиться, — отрезала жена. — Я только прошу взять мне сезонный билет. — А я тебе скажу, что это не так легко устроить, — ответил муж, глядя ей в лицо ясным, холодным взглядом. — Я не уверен в том, что директор ипподрома даст мне сезонный билет. В уме он все же прикидывал, кто из беговых заправил мог бы оказать ему подобную услугу. — Ты можешь и купить билет! — воскликнула миссис Герствуд, повышая голос. — Тебе легко говорить, — ответил Герствуд. — Семейный сезонный билет стоит полтораста долларов. — Я не желаю вступать с тобой в пререкания, — решительным тоном заявила миссис Герствуд. — Я хочу получить билет. Вот и все! Она встала и, разъяренная, вышла из комнаты. — Ладно, получишь свой билет! — угрюмо произнес ей вслед Герствуд, все же понизив голос. Как это нередко случалось, за вечерней трапезой недоставало одного человека… На следующее утро обиженный муж значительно остыл. Билет был своевременно приобретен, но это уже не могло поправить дела. Герствуд охотно отдавал семье приличную долю заработка, но его возмущали траты, к которым его принуждали силой. — Знаешь, мама, — сказала однажды Джессика, — Спенсеры готовятся к отъезду. — Вот как! А куда именно? — В Европу. Я вчера встретилась с Джорджиной, и она мне рассказала. Конечно, она страшно важничает. — Она тебе говорила, когда они едут? — Как будто в понедельник, — ответила Джессика. — И, наверное, об этом сообщат в газетах — о них всегда пишут. — Ничего, — утешала ее миссис Герствуд, — мы тоже как-нибудь выберемся в Европу. Услышав этот разговор, Герствуд только поднял глаза от газеты, но ничего не сказал. — «Из Нью-Йорка мы отплываем в Ливерпуль, — продолжала Джессика, подражая голосу подруги, — но большую часть лета думаем провести во Франции». Задавака! Подумаешь, какая важность: едет в Европу! — Вероятно, большая важность, если ты ей так завидуешь! — вставил Герствуд. Его раздражала суетность дочери. — Полно огорчаться, дорогая! — поспешила утешить ее миссис Герствуд. В другой раз был такой разговор. — Джордж уже уехал? — спросила Джессика, обращаясь к матери. Только из ее слов Герствуд узнал, что в семейном быту произошло какое-то событие. — Куда же это уехал Джордж? — спросил он, взглянув на дочь. Это был первый случай, чтобы он не знал, что кто-то из членов его семьи уехал. — Он поехал в Уитон, — ответила Джессика, не догадываясь, как близко отец принимает это к сердцу. — А что там, в Уитоне? — спросил он, втайне раздраженный и огорченный тем, что ему приходится об этом допытываться. — Теннисный матч, — ответила Джессика. — Он мне ничего не сказал, — произнес Герствуд. Ему трудно было скрыть свою досаду. — О, наверно, забыл, — примирительным тоном вставила миссис Герствуд. В прошлом Герствуд пользовался в своем доме известным уважением, объяснявшимся отчасти чувством привязанности, отчасти признанием его главенства. Простоту обращения, которая до некоторой степени сохранилась еще между ним и дочерью, он сам поощрял. Но, очевидно, простота была лишь в словах. За ними всегда оставалась сдержанность, и, как бы то ни было, в их отношениях не хватало теплоты, а теперь он убедился, что его все меньше посвящают в дела детей. Он уже не знал подробностей их жизни. Иногда он встречал их за столом, а иногда и нет. Случайно он узнавал, что кто-либо из них делал то-то и то-то, но порою он в недоумении прислушивался к их разговору, не в состоянии даже догадаться, о чем идет речь. Многое в доме происходило в его отсутствие. Джессика все больше преисполнялась сознания, что ее дела касаются лишь ее самой и больше никого. Джордж-младший вел себя точно совсем зрелый мужчина, который ни перед кем не обязан отчитываться в своих поступках. Все это Герствуд замечал, и все это огорчало его, ибо он привык, чтобы с ним считались, — по крайней мере, так было на службе. Он мысленно твердил себе, что не должен допускать подрыва своего авторитета в доме. Хуже всего было то, что он видел то же безразличие и ту же независимость и в своей жене. С каждым днем это проявлялось все больше и больше, а он только терпел да платил по счетам. Герствуд утешал себя мыслью, что он все же не совсем лишен любви. Пусть себе дома делают, что им угодно, у него есть Керри! Он мысленно переносился в ее квартирку на Огден-сквер, где он так чудесно провел несколько вечеров, и думал о том, как хорошо будет, когда они окончательно отделаются от Друэ и Керри по вечерам будет поджидать его где-нибудь в уютном гнездышке. Он тешил себя надеждой, что у Друэ никогда не будет повода рассказывать Керри о том, что он, Герствуд, женат. Все шло так гладко, что он не ожидал никаких перемен. В скором времени ему удастся уговорить Керри, и тогда все разрешится к его полному удовольствию. После того, как они вместе были в театре, Герствуд начал регулярно писать ей. Каждое утро он отправлял Керри по письму и просил ее ответить. Герствуд не обладал литературным талантом, но жизненный опыт и любовь, возраставшая с каждым днем, придавали его посланиям некоторую выразительность. Он мог спокойно заниматься этим у себя в кабинете. Герствуд купил коробку красивой надушенной почтовой бумаги с монограммой и хранил ее в одном из ящиков письменного стола; друзья с удивлением посматривали на управляющего баром, обязанности которого требовали такой обширной переписки. Пятеро буфетчиков, работавших за стойкой, стали с большим уважением относиться к человеку, которого долг службы вынуждал так часто прибегать к перу. Герствуд и сам изумлялся непрерывному потоку своих писем. По закону природы, который управляет всеми действиями человека, содержание его писем отражалось и на нем самом. Найденные им прекрасные слова вызывали в нем соответствующие чувства. И они крепли и росли в нем с каждым вновь найденным выражением. Он оказался во власти тех сокровенных душевных движений, которые описывал словами. И он считал, что Керри вполне достойна той любви, о которой он писал ей в своих письмах. Керри и вправду была достойна любви, если молодость, изящество и красота в полном своем расцвете дают на это право. Жизненный опыт еще не лишил ее той душевной свежести, которая так украшает человека. Кроткий взгляд красивых глаз говорил о том, что она еще незнакома с чувством разочарования. Она испытала душевную тревогу, тоску и сомнения, но это не оставило в ней глубокого следа, разве лишь более вдумчивым стал ее взгляд, более осторожной речь. Губы Керри, говорила она или молчала, складывались порою так, что, казалось, она вот-вот расплачется, и это не от горя. Просто когда она произносила некоторые звуки, рот ее принимал страдальческое выражение, и в этом было что-то трогательное. В ее манерах не было ничего вызывающего. Жизнь не научила ее властности, тому высокомерию красоты, в котором таится сила многих женщин. Она жаждала заботы и внимания, но желание это не было настолько сильно, чтобы сделать ее требовательней. Ей все еще недоставало самоуверенности, но она уже столкнулась с жизнью и потому была далеко не такой робкой, как раньше. Керри жаждала удовольствий, положения в обществе и вместе с тем вряд ли отдавала себе отчет в том, что значит и то и другое. В области чувств Керри, как и следовало ожидать, была натурой необычайно отзывчивой. Многое из того, что ей приходилось видеть, вызывало в ней глубокую грусть и сострадание ко всем слабым и беспомощным. Она болела душой при виде бледных, оборванных, отупевших от горя людей, которые с безнадежным видом брели мимо нее по улицам, или бедно одетых работниц, которые, тяжело дыша, проходили вечером мимо ее окон, спеша домой с фабрики где-нибудь на Западной стороне. Она закусывала губы, грустно качала головой и погружалась в раздумье. «Как мало получают они от жизни! — думала Керри. — Как грустно быть бедным, оборванным!» Вид отрепьев гнетуще действовал на нее. «И притом им приходится так тяжело работать!» — мысленно добавляла она. На улице Керри присматривалась к тому, как работают мужчины. Ирландцы с тяжелыми кирками, возчики угля, орудовавшие огромными лопатами, — все, кому приходилось заниматься тяжелым физическим трудом, волновали ее воображение. Теперь, когда она жила праздно, тяжелый труд казался ей еще более страшным, чем в то время, когда она сама работала. Ее воображение, затуманенное призрачными мечтами о возвышенной жизни, рисовало жизнь этих людей в мрачных красках. Порою чье-то промелькнувшее в окне лицо напоминало ей о старике отце, вечно с ног до головы осыпанном мукой с жерновов. Сапожник, колотивший изо всех сил молотком, лудильщики, которых она видела сквозь узенькое окошко расположенной в подвале мастерской, слесарь у верстака — без пиджака, с засученными рукавами, — все они будили в ней воспоминания о старой мельнице. Она редко делилась с кем-либо своими мыслями, но почти всегда мысли ее были грустными. Она искренне сочувствовала труженикам, ей легко было понять их, ведь она сама недавно была среди них. Герствуд и не знал, какие тонкие, деликатные чувства наполняют душу молодой женщины, которую он полюбил. Он сам не сознавал, что именно это и влекло его к ней. Он никогда не пытался разобраться в причинах возникшей любви. С него достаточно было и того, что во взгляде Керри сквозила нежность, в ее манерах — женственность, в мыслях — доброта и доверие к жизни. Его влекло к прекрасной лилии, чья чистая восковая красота и аромат родились в таинственных водных глубинах, которые были недоступны Герствуду. Его влекло к цветку, потому что тот был красив и свеж, потому что пробуждал лучшие чувства в его душе и скрашивал его утренние часы мечтами. Физически Керри тоже развилась. От ее неловкости остался чуть заметный след, то есть она стала столь же приятной глазу, как, скажем, чья-то совершенная грация. Маленькие туфельки на высоких каблуках красиво сидели на ноге. Керри уже отлично разбиралась во всяких кружевах и галстучках, так украшающих женскую внешность. Она немного пополнела, и ее тело приобрело восхитительную округлость. Однажды утром она получила письмо от Герствуда, который просил ее встретиться с ним в Джефферсон-парке, на Монро-стрит. Он считал теперь неудобным приходить к ней, даже когда Друэ бывал дома. На следующий день, ровно в час, Герствуд явился в маленький парк и выбрал деревянную скамью под зеленой листвой сирени, окаймлявшей одну из дорожек. Было то время года, когда еще чувствуется свежесть и обаяние весны. У маленького пруда неподалеку играли дети, пускавшие лодочки с белыми парусами. В тени зеленой пагоды стоял застегнутый на все пуговицы блюститель порядка. Руки его были скрещены на груди, у пояса висела дубинка. Старый садовник возился у лужайки, подстригая огромными ножницами какие-то кусты. Высоко над головой сияло голубое небо, а в яркой гуще листвы прыгали и чирикали суетливые воробьи. Герствуд вышел из дому с тем чувством досады, которое давно уже донимало его. Какое-то время он послонялся в баре без дела, так как в этот день ему незачем было писать. Зато в парк он пришел с той легкостью на сердце, которая так свойственна людям, умеющим оставлять неприятности позади. Сидя в прохладной тени сиреневых кустов, он смотрел вокруг глазами влюбленного. Он слышал, как на соседних улицах громыхали повозки, но этот гул большого города лишь смутно доносился до него, а дребезжание случайного колокольчика отдавалось музыкой в его ушах. Герствуд смотрел на окружающее и предавался грезам, не имевшим никакого отношения к его нынешней жизни. Он вспомнил свою молодость, когда он еще не был женат и не имел еще прочного места в жизни. Вспомнил, как, бывало, встречался со знакомыми девушками, как беззаботно танцевал, провожал их домой, беседовал с ними через калитку. Ему хотелось вернуть прошлое, — эти мечты вызывала приятная обстановка, в которой он чувствовал себя вновь свободным. В два часа на дорожке показалась Керри, розовая и свежая. Она совсем недавно купила новую шляпу с большими полями и лентой из красивого голубого шелка в белую крапинку. Ее юбка была из хорошего синего сукна, блузка — белая, в тончайшую синюю полоску. На ней были изящные коричневые туфельки. В руках она держала перчатки. Герствуд с восхищением смотрел на нее. — Вы пришли, дорогая! — взволнованно сказал он и, встав ей навстречу, взял ее за руки. — Ну, конечно! — с улыбкой ответила она. — Вы что же, думали, что я не приду? — Я не был уверен, — ответил Герствуд. Он взглянул на ее лоб, еще влажный от быстрой ходьбы, и, достав из кармана мягкий надушенный шелковый платок, осторожно прикоснулся к ее вискам. — Ну вот, теперь все хорошо! — сказал он с нежностью. Они были счастливы, что находятся вместе и могут смотреть друг другу в глаза. Наконец, когда миновал первый порыв восторга, Герствуд спросил: — Когда уезжает Чарли? — Не знаю, — ответила Керри. — Он говорит, что у него есть кое-какие дела здесь. Герствуд слегка нахмурился и погрузился в глубокое раздумье. Через некоторое время он поднял глаза и сказал: — Уходите от него! Он отвернулся и посмотрел в ту сторону, где резвились ребятишки, точно эта просьба была сущим пустяком. — А куда? — в тон ему спросила Керри, теребя перчатки и глядя на ближайшее дерево. — Где бы вы хотели жить? — спросил он. Что-то в его тоне побудило ее высказать протест против жизни в Чикаго. — Мы не можем оставаться здесь, — сказала она. Герствуд не предвидел ничего подобного, ему и в голову не приходила мысль, что необходимо будет куда-то уехать. — Почему же? — мягко спросил он. — О, потому… я не хочу. Герствуд слушал, лишь смутно сознавая, что означают слова Керри. Ее голос звучал не слишком серьезно, да вопрос и не требовал немедленного ответа. — Мне пришлось бы тогда отказаться от места, — сказал он. По его интонации можно было подумать, что это для него не так уж важно. Керри помолчала, любуясь парком. — Я не хотела бы жить в Чикаго, в одном городе с ним, — промолвила она, имея в виду Друэ. — Чикаго — огромный город, дорогая моя, — сказал Герствуд, — стоит переехать на Южную сторону — и уже ты словно бы в другой части Америки. Герствуд, по-видимому, успел остановить свой выбор именно на Южной стороне. — Как бы то ни было, — сказала Керри, — я не хотела бы выходить замуж, пока он здесь. Мне не хочется бежать от него. Упоминание о женитьбе было ударом для Герствуда. Ему стало ясно, к чему она стремится, он понял, что обойти этот вопрос будет нелегко. На миг в затуманенных мыслях сверкнуло слово «двоеженство». Он не мог представить себе, чем все это кончится, и сейчас думал только о том, что ни на шаг не подвинулся вперед, разве лишь в своем уважении к ней. Герствуд посмотрел на Керри, и она показалась ему еще очаровательнее. Какое счастье быть любимым ею, хотя бы это и вело к осложнениям! Сопротивление Керри еще больше возвысило ее в его глазах. За эту женщину нужно бороться, и в этом было особое удовольствие. Как не похожа она на тех женщин, которые сами вешаются на шею. Он брезгливо отогнал самую мысль о них. — Так вы не знаете, когда он уезжает? — спокойно спросил Герствуд. Керри покачала головой. Герствуд вздохнул. — Ведь вы решительная женщина, Керри, правда? — обратился он к ней некоторое время спустя и пристально посмотрел ей в глаза. Волна горячего чувства затопила Керри. Тут была и гордость, вспыхнувшая от сознания, что ею восхищаются, и огромная нежность к человеку, который так высоко ее ставил. — Не думаю, — робко ответила она. — Но скажите, что, по-вашему, я должна сделать? Герствуд сжал руки и снова устремил взгляд через лужайку вдаль. — Я хочу, — патетически произнес он, — чтобы вы ушли от него ко мне. Я не могу жить без вас. Что пользы ждать? Ведь вы не станете счастливее от этого. — Счастливее! — тихо повторила Керри. — Вы сами знаете, что нет. — Ну, так вот, — продолжал он тем же тоном, — мы попусту теряем время. Вы думаете, я могу быть счастлив, зная, что вы несчастливы? Большую часть дня я провожу за письмами к вам. Послушайте, Керри, — воскликнул Герствуд, вкладывая в свой голос весь пыл, на какой он был способен, и пронизывая ее взглядом, — я не могу жить без вас, вот и все! Теперь скажите, что мне делать? — закончил он, беспомощно разводя холеными белыми руками. Керри понравилось, что Герствуд тем самым как бы возложил на нее всю тяжесть решения. Эта видимость бремени, хотя и невесомого, тронула ее женское сердце. — Разве вы не можете подождать еще немного? — нежно спросила она. — Я постараюсь узнать, когда он уезжает. — Что пользы в том? — воскликнул Герствуд все с той же пылкостью. — Может быть, нам удастся куда-нибудь уехать. В сущности, положение не стало яснее для Керри, но постепенно в ее сознании происходил тот сдвиг, который заставляет женщину уступить из любви к мужчине. Герствуд не понял этого. Он думал лишь о том, как ее убедить, какими доводами заставить ее бросить Друэ. Он спрашивал себя, как далеко решится зайти Керри в своей любви к нему, и старался подыскать такой вопрос, который заставил бы ее сказать об этом откровенно. Наконец у него мелькнул в голове один из таких удачных, вопросов, которые, часто маскируя наши истинные желания, позволяют уяснить стоящие на нашем пути препятствия и тем подсказывают какой-то выход. Слова, которые он произнес, отнюдь не совпадали с его намерениями и вырвались у него раньше, чем он успел обдумать их. — Керри, — начал он, глядя ей прямо в лицо и напуская на себя глубокую серьезность, которой сейчас в нем вовсе не было, — Керри, если бы я пришел к вам, скажем, на будущей неделе или даже на этой, хотя бы даже сегодня, и сказал, что мне необходимо уехать, что я не могу больше оставаться здесь ни одной минуты и никогда уже не вернусь, — пошли бы вы тогда за мной? Его возлюбленная посмотрела на него взглядом, исполненным преданности, и ответ ее был готов прежде, чем Герствуд успел договорить. — Да, — сказала она. — Вы не стали бы спорить, не стали бы отговаривать меня? — настаивал он. — Если бы вы не могли ждать? Нет, не стала бы! Герствуд улыбнулся, поняв, что она приняла его слова совершенно всерьез. Ему рисовалась возможность очень приятно провести неделю или две. Он мельком подумал, не сказать ли ей, что он шутит, и таким образом рассеять ее милую серьезность, но слишком уж очаровательна она была в эту минуту. И он не стал ее разубеждать. — А если, предположим, у нас не хватило бы времени обвенчаться здесь? — спросил он, ухватившись за вдруг блеснувшую мысль. — Если мы обвенчаемся, как только прибудем на место, все будет в порядке. — Я именно так и думал, — сказал Герствуд. — Да. День теперь казался Герствуду еще более светлым и радостным. Он сам удивлялся: как пришла ему в голову такая мысль? При всей своей несбыточности она была столь удачна, что он не мог сдержать улыбки. Благодаря ей Керри доказала, как она любит его. Теперь у него не оставалось никаких сомнений. Он найдет способ овладеть ею! — Хорошо, — шутливо сказал Герствуд, — в один из ближайших вечеров я приеду и украду вас! И он весело рассмеялся. — Но только я не останусь с вами, если мы не обвенчаемся, — с задумчивым видом произнесла Керри. — Я и не стал бы требовать этого, — нежно ответил он и взял ее за руку. Теперь, когда все стало ясно, Керри почувствовала себя бесконечно счастливой. Она еще сильнее полюбила Герствуда, увидев в нем своего спасителя. Что же касается ее поклонника, то вопрос о женитьбе не тревожил ее. Герствуд думал лишь о том, что при такой сильной любви не должно быть препятствий к его будущему счастью. — Давайте пройдемся, — предложил он, вставая и обводя парк довольным взглядом. — С удовольствием! — отозвалась Керри. Они прошли мимо какого-то молодого ирландца, проводившего их завистливым взглядом. «Хороша парочка, ничего не скажешь! И, наверное, очень богаты…» — заметил тот про себя.Глава 16
Неразумный Аладдин.
Ворота в мир
Вернувшись в Чикаго, Друэ решил уделить некоторое внимание тайному ордену Лосей, к которому он принадлежал. Дело в том, что в дороге он получил новое доказательство могущества своего ордена. — Вы не представляете себе, как полезно быть масоном! — сказал ему в разговоре другой коммивояжер. — Взгляните-ка на Газенштаба. Он звезд с неба не хватает. Конечно, он представитель солидной фирмы, но одного этого далеко недостаточно. Я вас уверяю, что главное тут — его высокое положение в ордене. Он один из самых видных масонов, а это много значит. У него есть тайный знак — штука немаловажная. Друэ тут же решил, что ему следует побольше интересоваться подобными делами, поэтому, вернувшись в Чикаго, он тотчас же посетил главную квартиру тайного ордена Лосей. — Слушайте, Друэ, вы пришли очень кстати! — сказал мистер Гарри Квинсел, видный член местного отделения ложи. — Вот вы-то и сможете нам помочь. Разговор происходил после делового заседания, и в зале стоял гул голосов. Друэ переходил с места на место, обмениваясь приветствиями и шутками с десятком знакомых. — Какое такое у вас дело? — добродушно спросил он, с улыбкой глядя на своего собрата по ложе. — Мы хотим устроить через две недели спектакль. Не знаете ли вы какой-нибудь молодой женщины, которая согласилась бы принять в нем участие? Роль очень легкая. — Конечно, найдется! — ответил Друэ. Он даже не потрудился вспомнить, что среди его знакомых не было ни одной женщины, которую он мог бы привлечь к этой затее. Просто его врожденное добродушие подсказало утвердительный ответ. — Так вот, послушайте, я расскажу вам, в чем дело, — продолжал мистер Квинсел. — Нам необходимо приобрести новую мебель для ложи, а денег в кассе сейчас маловато. Мы и подумали, что можно раздобыть деньги, устроив спектакль. — Ну, конечно! — поддержал его Друэ. — Отличная мысль. — У нас есть несколько весьма талантливых молодых людей. Взять, например, Гарри Бэрбека — он прекрасно имитирует негров. Мак-Льюис совсем неплохой трагик. Вы когда-нибудь слыхали, как он декламирует «Над холмами»? — Нет, не приходилось. — Ну, так поверьте мне, читает великолепно! — И вы хотите, чтобы я нашел вам женщину для участия в спектакле? — спросил Друэ. Разговор уже наскучил ему, и он хотел отделаться от собеседника. — А что вы будете ставить? — «Под фонарем», — сказалмистер Квинсел. Это знаменитое произведение Августина Дэйли успело уже пережить дни успеха на большой сцене и перейти в репертуар любителей, причем наиболее трудные места были вычеркнуты, а число действующих лиц сведено к минимуму. Друэ когда-то видел эту пьесу. — Очень хорошая вещь! — одобрил он. — Она должна иметь успех. Вы загребете уйму денег. — Мы тоже надеемся, что пьеса будет иметь успех, — сказал мистер Квинсел. — Смотрите, не забудьте найти кого-нибудь для роли Лауры, — закричал он, видя, что Друэ обнаруживает некоторое нетерпение. — Будьте спокойны! Я позабочусь об этом. Друэ ушел, тотчас же позабыв о словах Квинсела, как только тот умолк. Он даже не позаботился спросить, где и когда состоится спектакль. Но день или два спустя он получил напоминание в виде письма, в котором сообщалось, что первая репетиция пьесы «Под фонарем» назначена на пятницу, а потому мистера Друэ просят срочно сообщить адрес его знакомой, чтобы препроводить ей роль. — О, черт! — вырвалось у молодого коммивояжера. «Кто же из моих знакомых годится для такой роли? — подумал он, почесывая розовое ухо. — Я вообще не знаю никого, кто бы хоть что-нибудь понимал в любительских спектаклях!» Он стал перебирать в памяти знакомых женщин и остановился на одной из них лишь потому, что та жила неподалеку, на Западной стороне. Выйдя в тот вечер из дому, он решил первым делом отправиться к ней. Но стоило ему очутиться на улице и сесть в конку, как все это мгновенно вылетело у него из головы. О своем упущении он вспомнил, лишь прочитав краткую заметку в «Ивнинг Ньюс», где говорилось, что местная ложа ордена Лосей устраивает шестнадцатого числа спектакль в Эвери-холл, причем будет исполнена пьеса «Под фонарем». — Вот те на! — воскликнул Друэ. — Опять забыл! — Что такое? — поинтересовалась Керри. Они сидели за маленьким столиком в комнате, где находилась переносная газовая плитка. Иногда Керри готовила дома, и как раз в этот вечер ей захотелось устроить домашний ужин. — Да вот спектакль в моей ложе! Они ставят пьесу и просили меня найти кого-нибудь для женской роли. — Что же они собираются ставить? — «Под фонарем». — А когда? — Шестнадцатого. — Почему же ты не исполнил их просьбы? — спросила Керри. — Потому, что я никого не знаю, — признался Друэ. Вдруг он поднял глаза и взглянул на Керри. — Послушай, — сказал он, — хочешь играть на сцене? — Я? — изумилась Керри. — Но ведь я не умею. — А откуда ты знаешь, что не умеешь? — задумчиво произнес Друэ. — Но ведь я никогда не играла, — ответила Керри. И все же ей было приятно, что он подумал о ней. Она просияла, ибо ничто на свете не привлекало ее так, как сценическое искусство. А Друэ, верный своей натуре, ухватился за эту мысль, найдя столь легкий выход из положения. — Пустяки! — сказал он. — Ты великолепно справишься с ролью. — Нет, где уж мне! — слабо протестовала Керри. Предложение Друэ и манило и пугало ее. — А я говорю, что справишься! Почему бы тебе не попробовать? Ты выручишь их, а тебе самой это доставит большое удовольствие. — Нет, едва ли, — серьезно сказала Керри. — О, тебе понравится! — настаивал Друэ. — Я убежден, что понравится. Сколько раз я видел, как ты вертишься перед зеркалом и подражаешь заправским актрисам. Вот потому-то я и предложил тебе эту роль. Ты ведь способная. — Да вовсе нет, — робко возразила Керри. — Ты вот что сделай: сходи и посмотри, как там пойдет дело. Тебе будет интересно. Остальные исполнители вряд ли чего-нибудь стоят. У них нет никакого опыта. Что они понимают в театральном искусстве! Друэ даже нахмурился при мысли о том, до чего невежественны эти люди. — Налей мне кофе, — добавил он. — Не думаю, чтобы я сумела играть, Чарли! — стояла на своем Керри. — Неужели ты это говоришь всерьез? — Ну, конечно, всерьез, — ответил он. — И сомнений быть не может. Я убежден, что тебя ожидает успех. И ты ведь хочешь играть, я знаю! Я сразу подумал об этом. Потому-то я и предложил тебе. — Что, ты говорил, ставят? — «Под фонарем». — И какую роль хотят мне поручить? — Вероятно, одной из героинь, — ответил Друэ. — Я, право, точно не знаю. — А что это за пьеса? — М-м, видишь ли, — начал Друэ, не обладавший особой памятью на такие вещи, — речь идет об одной девушке, которую похищают преступники — мужчина и женщина, живущие в трущобах. У девушки, кажется, есть деньги… Что-то в этом роде, и эти люди хотят ограбить ее. Я уж не помню точно, что там дальше. — Так ты не знаешь, какую роль мне придется играть? — снова спросила Керри. — Нет, по правде сказать, не знаю. Друэ на минуту задумался. — Обожди, вспомнил! — воскликнул он. — Лаура! Да, да, ты будешь Лаурой! — Может быть, ты вспомнишь, в чем заключается роль Лауры? — допытывалась Керри. — Хоть убей меня, Кэд, не могу! — ответил он. — А меж тем мне следовало бы помнить. Я несколько раз видел эту пьесу. Там все дело вертится вокруг одной девушки: ее украли еще ребенком — похитили прямо на улице, если не ошибаюсь, и вот за ней-то и охотятся те двое бродяг, о которых я тебе говорил. Он умолк, держа перед собой на вилке огромный кусок пирога. — Ее, кажется, чуть не утопили… — немного погодя продолжал он. — Нет, впрочем, не то… Знаешь что, — сказал он, безнадежно махнув рукой, — я тебе достану эту пьесу, а то я ничего больше не могу вспомнить. — Да, но я, право, не знаю, как быть, — сказала Керри. Интерес к театру и желание блеснуть на сцене боролись в ней с природной застенчивостью и робостью. — Пожалуй, — добавила она, — я схожу туда, если ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет. — Ну, разумеется, выйдет! — подхватил Друэ. Стараясь заинтересовать Керри, он и сам воодушевился. — Неужели ты думаешь, что я стал бы уговаривать тебя, если бы не был уверен, что тебя ожидает успех? Я убежден, что ты очень способная. И тебе это будет только полезно. — А когда мне идти? — задумчиво спросила Керри. — Первая репетиция в пятницу вечером, — сказал Друэ. — Я вечером же раздобуду тебе твою роль. — Хорошо, — с покорным видом согласилась Керри. — Я попробую. Но смотри, если я провалюсь, вина будет твоя. — Ты не можешь провалиться, — заверил ее Друэ. — Веди себя на сцене точно так, как здесь, когда ты начинаешь играть шутки ради. Будь сама собой. О, ты справишься! Я не раз думал о том, что из тебя выйдет превосходная актриса. — Правда? — живо спросила Керри. — Разумеется, правда! — подтвердил он. Не знал Друэ, выходя в этот вечер из дому, какое пламя он зажег в груди женщины, с которой только что расстался. Керри обладала восприимчивой, участливой натурой — залогом блестящего драматического таланта. Она отличалась пассивностью души, которая делает ее зеркалом, отражающим в себе весь активный мир. Она также обладала даром тонко подражать всему, что видела и слышала. Не имея ни малейшего опыта, она иногда чрезвычайно удачно воспроизводила отрывки из виденных ею спектаклей, имитируя перед зеркалом участников какого-нибудь эпизода. Она любила придавать своему голосу тембр и интонации, характерные для драматических примадонн, и повторяла отрывки из патетических монологов, находивших отклик в ее душе. В последнее время она не раз присматривалась к воздушной грации одной инженю, игравшей в нескольких хороших пьесах, и у нее нередко появлялось желание подражать жестам и мимике актрисы; она посвящала этому немало времени, когда оставалась одна в своей комнате. Несколько раз Друэ заставал ее за этим занятием, но он думал, что она просто любуется собой перед зеркалом; на самом же деле она пыталась повторить какую-либо позу или жест, подмеченные ею у исполнительницы той или иной роли. Выслушивая его шутливые попреки, Керри сама стала упрекать себя в кокетстве, хотя в действительности это были лишь первые робкие проявления артистической натуры, жаждавшей воспроизвести виденное. Всякому должно быть известно, что в подобных стремлениях воссоздавать жизнь и таится основа драматического искусства. И теперь, когда Керри услыхала из уст Друэ похвалу своим драматическим способностям, она вся затрепетала от радости. Подобно огню, сваривающему отдельные частицы металла в единую крепкую массу, его слова соединили в одно целое те смутные обрывки чувств, которые возникали в ее душе всякий раз, как она задумывалась над своими способностями, никогда, однако, не доверяя им, и вселили в нее надежду. Как и всем людям, Керри не было чуждо некоторое самомнение. Она верила, что могла бы многое сделать, если бы ей представилась возможность. Сколько раз, бывало, она глядела на разодетых актрис на сцене и думала о том, какой она была бы на их месте и какое это доставило бы ей наслаждение. Эффектность поз, огни рампы, красивые наряды, аплодисменты — все это постепенно захватывало ее, и в конце концов она стала думать, что сама могла бы выступить перед публикой и добиться признания своих способностей. И вот нашелся человек, который уверил ее, что она и вправду могла бы играть, что те попытки подражания, которые он видел, когда она упражнялась перед зеркалом, заставили его поверить в ее способности. Керри пережила поистине радостную минуту. Когда Друэ ушел из дому, она села в свою качалку у окна и задумалась. Воображение, как обычно, рисовало ей все в преувеличенном виде: как если бы судьба дала ей в руки пятьдесят центов, а Керри строила бы планы на тысячу долларов. Она уже слышала свой взволнованный голос и видела себя в десятках драматических поз, в которых все ее существо выражало страдание. Перед нею проносились сцены, рисовавшие роскошную, утонченную жизнь. Сама она неизменно была в них предметом всеобщего восхищения, все глаза устремлены были только на нее. Покачиваясь в качалке, Керри переживала то острую горечь покинутой, то гордый гнев обманутой, то томление и тоску потерпевшей поражение. В памяти вставали все красивые женщины, каких она когда-либо видела на сцене, и подобно волне, возвращающейся с приливом к берегу, на нее нахлынуло сейчас все, что имело какое-либо отношение к театру, все, что она когда-либо наблюдала. В ней возникали чувства и зрели решения, которые очень далеки были от реальных возможностей. Отправившись в город, Друэ зашел в ложу ордена Лосей и принялся с важным видом расхаживать по залу, пока не столкнулся с Квинселом. — Где же та молодая особа, которую вы обещали нам найти? — тотчас спросил он. — Я уже нашел ее. — Вот как! — Квинсел весьма был удивлен подобной исполнительностью молодого коммивояжера. — Чудесно! Дайте-ка мне ее адрес. Он достал из кармана записную книжку и карандаш, чтобы, не мешкая, отправить по адресу роль. — Вы хотите послать ей роль? — спросил Друэ. — Разумеется. — А вы дайте роль мне. Я прохожу каждое утро мимо дома этой дамы. — Хорошо, но вы все-таки сообщите мне ее адрес. Нам необходимо знать его на случай, если бы понадобилось послать ей какое-либо уведомление. — Огден-сквер, двадцать девять. — А как зовут даму? — допытывался Квинсел. — Керри Маденда, — наобум ответил Друэ. Это имя случайно пришло ему в голову. Следует заметить, что в ложе он был известен как холостяк. — Керри Маденда? — повторил Квинсел. — Имя прямо как с театральной афиши. — Совершенно верно! — согласился Друэ. Он захватил роль с собою и по возвращении домой вручил ее Керри с таким видом, словно оказывал ей большую услугу. — Мистер Квинсел сказал, что это самая лучшая роль. Как думаешь, справишься ты с нею? — Я ничего не могу сказать, пока не просмотрю ее, — ответила Керри. — Знаешь, теперь, когда я согласилась на эту затею, она начинает меня пугать. — Полно! Ну чего тебе бояться? Вся труппа ничего в общем не стоит. Остальные, я уверен, будут играть куда хуже! — Хорошо, посмотрим, — сказала Керри. Несмотря на пугавшие ее предчувствия, она была рада, что роль у нее в руках. Друэ начал одеваться и долго возился, пока наконец не высказал то, что его беспокоило. — Видишь ли, Керри, они собирались печатать программу, и я сказал, что тебя зовут Керри Маденда. Ты ничего не имеешь против? — Нет, почему же, — ответила она, подняв на него глаза. Тем не менее у нее мелькнула мысль, что это несколько странно. — Это на всякий случай… если у тебя не выйдет, — добавил Друэ. — Конечно, конечно, — согласилась Керри, очень довольная такой предусмотрительностью. — Это очень умно с твоей стороны. — Я не хотел выдавать тебя за жену, тебе было бы неловко, если бы роль не удалась. Меня там все хорошо знают. Но я уверен, что ты великолепно сыграешь. Так или иначе, ты, возможно, больше никогда и не встретишься ни с кем из этих людей. — О, мне все равно! — храбро сказала Керри. Она теперь твердо решила попробовать свои силы на этом заманчивом поприще. Друэ облегченно вздохнул. Он опасался, что ему снова грозит разговор о браке. Роль Лауры, как, едва познакомившись с ней, убедилась Керри, состояла сплошь из страданий и слез. Автор, Августин Дэйли, написал ее в духе священных традиций мелодрамы, еще властвовавших в ту пору, когда он начинал свою карьеру. Тут было все: и позы, проникнутые грустью, и тремоло в музыке, и длинные пояснительные монологи. «Бедняга! — читала Керри, заглядывая в текст и с чувством растягивая слова. — Мартин, непременно дай ему стакан вина перед уходом». Керри была изумлена краткостью роли. Она не знала, что должна оставаться на сцене, пока говорят другие, и не просто оставаться, но играть соответственно происходящему на сцене и игре других артистов. «Я, кажется, справлюсь!» — в конце концов решила она. На следующий вечер, когда Друэ пришел к ней, он обнаружил, что Керри чрезвычайно довольна проделанной за день работой. — Ну, как у тебя продвигается дело, Кэд? — спросил он. — Очень хорошо! — смеясь, ответила она. — Мне кажется, что я уже знаю все наизусть. — Вот славно! — сказал Друэ. — Ну-ка, я послушаю что-нибудь, — предложил он. — О, я право, не знаю… Сумею ли я так вдруг встать и начать? — застенчиво спросила она. — А почему же нет? — удивился Друэ. — Ведь здесь тебе будет легче, чем там. — Я в этом не уверена. Кончилось тем, что она выбрала эпизод в бальном зале и начала читать свой текст с большим чувством. Чем больше Керри входила в роль, тем меньше помнила она о присутствии Друэ. — Хорошо! — воскликнул тот. — Великолепно! Блистательно! Ну и молодец же ты, Керри, скажу я тебе! Он был растроган ее превосходной игрой и всей ее трогательной фигуркой, особенно в последний момент, когда героиня ее едва держится на ногах и потом, согласно роли, падает в обмороке на пол. Тут Друэ подскочил, поднял Керри и, смеясь, заключил в объятия. — А ты не боишься разбиться? — спросил он. — О, нисколько! — Ты настоящее чудо! Вот уж не знал, что ты сумеешь так играть! — Я и сама не знала! — весело отозвалась Керри и покраснела от удовольствия. — Ну, теперь можешь не сомневаться, что все сойдет великолепно! — сказал Друэ. — Верь моему слову. Ты не провалишься.Глава 17
Дверь приоткрылась.
Во взоре загорается надежда
К спектаклю, так много значившему для Керри, решено было привлечь гораздо больше внимания, чем предполагалось вначале. Юная дебютантка написала Герствуду об этом событии на другое же утро после того, как получила роль. «Право, я говорю серьезно, — писала она, опасаясь, что он примет это за шутку. — Честное слово! У меня даже роль есть!» Герствуд снисходительно улыбнулся, прочтя эти строки. «Интересно знать, что из этого выйдет! Обязательно надо будет посмотреть!» — решил он и тотчас же ответил, что нисколько не сомневается в ее успехе. «Непременно приходите завтра утром в парк и расскажите мне обо всем», — писал он. Керри охотно согласилась и сообщила ему все, что знала сама. — Ну, что ж, хорошо! — сказал Герствуд. — Я очень рад. Я уверен, что вы прекрасно сыграете. Вы же умница! Никогда раньше он не видел Керри такой воодушевленной. Ее обычная меланхоличность сейчас исчезла. Когда она говорила, щеки ее разгорелись, глаза блестели. Она вся сияла от предвкушаемого удовольствия. Несмотря на все страхи — а их было достаточно, — она чувствовала себя счастливой. Она не могла подавить в себе восторга, который вызывало в ней это маленькое событие, столь незначительное в глазах всякого другого. Герствуд пришел в восхищение, обнаружив в Керри такие качества. Нет ничего отраднее, чем наблюдать в человеке пробуждение честолюбивых желаний, стремления достичь более высокого духовного уровня. От этого человек делается сильнее, ярче и даже красивее. Керри радовалась похвалам обоих своих поклонников, хотя, в сущности, ничем этих похвал не заслужила. Они были влюблены, и потому все, что она делала или собиралась делать, естественно, казалось им прекраснее, чем на самом деле. Неопытность позволила ей сохранить пылкую фантазию, готовую ухватиться за первую подвернувшуюся соломинку и превратить ее в магический золотой жезл, помогающий находить клады в жизни. — Позвольте, — сказал Герствуд, — мне кажется, я кое-кого знаю в этой ложе. Ведь я сам масон. — О, вы не должны говорить ему, что я вам все рассказала! — Ну разумеется, — успокоил ее Герствуд. — Мне было бы приятно, если б вы пришли на спектакль, при условии, конечно, что вы сами этого хотите. Но я не знаю, как это сделать, разве что Чарли пригласит вас. — Я буду там, — нежно заверил ее Герствуд. — Я устрою так, что он и не догадается, от кого я узнал об этом. Предоставьте все мне. Интерес, вызванный в Герствуде сообщением Керри, сам по себе имел большое значение для предстоящего спектакля, так как управляющий баром занимал среди Лосей видное положение. Он уже строил планы, как бы совместно с несколькими друзьями приобрести ложу и послать Керри цветы. Уж он постарается превратить этот спектакль в настоящее торжество и обеспечить девочке успех. Дня через два Друэ заглянул в бар, и Герствуд тотчас же заметил его. Было часов пять вечера, в баре собралось много коммерсантов, актеров, управляющих всевозможными предприятиями, политических деятелей — уйма круглолицых джентльменов в цилиндрах, в крахмальных сорочках, с кольцами на руках, с бриллиантовыми булавками в галстуках. У одного конца сверкающей стойки стоял в группе франтовато одетых спортсменов знаменитый боксер Джон Салливен; компания вела оживленную беседу. Друэ в новых желтых ботинках, скрипевших при каждом шаге, беспечной, праздничной походкой прошел через бар. — А я-то ломал себе голову, не понимая, что могло стрястись, сэр! — шутливо приветствовал его Герствуд. — Я решил, что вы снова уехали. Друэ только рассмеялся в ответ. — Если вы не будете показываться более регулярно, придется вычеркнуть вас из списка постоянных клиентов! — Ничего не поделаешь, — ответил коммивояжер. — Я был очень занят. Они вместе направились к стойке, пробираясь сквозь шумную толпу, разных знаменитостей. Элегантный управляющий то и дело пожимал завсегдатаям руки. — Я слышал, ваша ложа устраивает спектакль, — самым непринужденным тоном заметил Герствуд. — Да. Кто вам сказал? — спросил Друэ. — Никто не говорил, — ответил Герствуд. — Мне прислали два билета, по два доллара. Будет что-нибудь интересное? — Право, не знаю, — ответил молодой коммивояжер. — Знаю только, что ко мне прислали с просьбой раздобыть кого-нибудь для женской роли. — Я едва ли пойду, — равнодушно произнес Герствуд. — Но, конечно, внесу свою лепту. А как там вообще дела? — Ничего как будто. На вырученные от спектакля деньги они хотят обновить мебель. — Ну, что ж, будем надеяться, что все сойдет успешно. Хотите еще стаканчик? Больше Герствуд ничего не намеревался говорить. Теперь, если он явится на спектакль с несколькими друзьями, можно будет сказать, что его уговорили пойти. Что же касается Друэ, то он, со своей стороны, вознамерился предупредить возможность недоразумения. — Похоже, что моя девочка тоже будет участвовать, — отрывисто произнес он, предварительно обдумав свои слова. — Неужели? Как так? — Видите ли, им недоставало одной артистки, и они просили меня найти кого-нибудь. Я передал об этом Керри, и она как будто не прочь попытать счастья. — Превосходно! — воскликнул управляющий баром. — Я очень рад за нее! А она когда-нибудь выступала на сцене? — Никогда в жизни! — В конце концов это не такой уж серьезный спектакль, — заметил Герствуд. — Ну, Керри справится! — заявил Друэ, протестуя против всякого умаления ее способностей. — Она очень быстро входит в роль. — Скажите пожалуйста! — счел нужным вставить Герствуд. — Да, сэр! Она буквально изумила меня вчера своей игрой. Честное слово! — Надо будет устроить ей маленькое подношение, — сказал Герствуд. — Я позабочусь о цветах. Друэ ответил благодарной улыбкой. — А после спектакля поедем куда-нибудь вместе и уютно поужинаем. — Я думаю, что Керри сыграет хорошо, — ради собственного успокоения снова сказал Друэ. — Надо будет посмотреть на нее, — промолвил Герствуд. — Я тоже думаю, что она сыграет хорошо. Она должна. Мы заставим ее! Последние слова управляющий баром произнес со своей обычной улыбкой, благодушной и лукавой. Керри в это время была на первой репетиции. Здесь распоряжался мистер Квинсел, которому помогал некий мистер Миллис, молодой человек со сценическим стажем, чего, к сожалению, никто толком не оценил. Тем не менее он был очень деловит и очень высоко ставил свою опытность, доходя почти до грубости и совершенно забывая, что имеет дело с добровольными любителями, а не с платными подчиненными. — Да послушайте же, мисс Маденда! — крикнул он, обращаясь к Керри, когда та вдруг остановилась, не зная, куда двинуться. — Что вы застряли на месте? Придайте своему лицу подобающее выражение! Помните, что вы сильно встревожены появлением чужого человека. Вот как вы должны ходить! И мистер Миллис, ссутулясь, побрел по сцене. Это не особенно понравилось Керри, но новизна положения, готовность исполнить что угодно, лишь бы не провалиться, присутствие на спектакле чужих, не менее взволнованных людей — все это вызывало в ней сильную робость. Она прошлась по сцене, как требовал ее наставник, чувствуя в душе, что это совсем не то. — Теперь вы, миссис Морган, — обратился режиссер к молодой даме, которой предстояло играть роль Пэрл, — садитесь вот сюда! А вы, мистер Бамбергер, становитесь сюда, вот так! Ну, теперь говорите! — «Объяснитесь!» — чуть слышным шепотом произнес мистер Бамбергер. Он играл роль Рэя, поклонника Лауры, светского человека, который, узнав, что она сирота и бесприданница, колеблется, не решаясь жениться на ней. — Нет, тут что-то не так, — заметил режиссер. — Как там сказано у вас в роли? — «Объяснитесь!» — тем же голосом повторил мистер Бамбергер, не отрывая глаз от бумажки с ролью. — Да, но здесь сказано также, что вы ошеломлены! — загорячился режиссер. — Повторите еще раз и постарайтесь изобразить на лице изумление. — «Объяснитесь!» — оглушительно рявкнул мистер Бамбергер. — Нет, нет, так никуда не годится! Вот послушайте, скажите так: «Объяснитесь!» — «Объяснитесь!» — повторил мистер Бамбергер с несколько иным выражением. — Вот так, пожалуй, лучше, — сказал режиссер. — Теперь дальше! — «Однажды вечером, — начала миссис Морган свою реплику, — отец с матерью направлялись в оперу. Когда они переходили Бродвей, их, по обыкновению, окружила толпа детей, просивших милостыню…» — Стойте! — крикнул режиссер и, вытянув вперед руку, кинулся к миссис Морган. — Больше чувства, больше чувства! — заявил он. Миссис Морган взглянула на него так, точно ожидала, что он сейчас ее ударит. Ее глаза вспыхнули негодованием. — Вы должны помнить, миссис Морган, — пояснил режиссер, игнорируя яростный блеск ее глаз, но все же несколько сбавляя тон, — вы должны помнить, что передаете трогательную повесть. Ваш рассказ связан для вас с горькими воспоминаниями. Тут нужно чувство, сдержанное напряжение, вот так: «…их, по обыкновению, окружила толпа детей, просивших милостыню». — Хорошо, — отчеканила миссис Морган. — Теперь продолжайте! — «И когда мать опустила руку в карман за мелочью, ее пальцы коснулись холодной, дрожащей ручонки, схватившей ее кошелек». — Очень хорошо, — прервал режиссер, одобрительно кивая. — «Карманная воровка! — выпалил мистер Бамбергер. — Вот оно что!» — Нет, нет, мистер Бамбергер, так не годится, — подскочил к нему режиссер. — Вот как надо: «Карманная воровка?.. Вот оно что!» — Не думаете ли вы, — робко промолвила Керри, — что лучше будет, если мы хоть раз попросту пройдем наши реплики, чтобы убедиться, насколько мы их знаем. Это нам было бы очень полезно. Она заметила, что далеко не все участники спектакля знают свои роли, уж не говоря о том, какое выражение следует придать лицу при той или иной реплике. — Очень хорошая мысль, мисс Маденда! — вмешался мистер Квинсел. Он сидел сбоку и с серьезным видом наблюдал за происходившим, вставляя иногда замечания, на которые режиссер почти не обращал внимания. — Пожалуй! — согласился режиссер, чуть смутившись. — Может быть, это принесет пользу. Потом, вдруг просветлев, он авторитетным тоном заявил труппе: — Давайте сейчас пройдем быстро наши роли, только старайтесь по возможности вкладывать больше чувства в слова! — Прекрасно, — одобрил мистер Квинсел. — «Моя мать, — продолжала миссис Морган, поглядывая то на мистера Бамбергера, то на тетрадку со своей ролью, — схватила эту ручонку и так сжала ее, что послышался тихий стон; мать посмотрела и увидела перед собой маленькую оборванную девочку». — Очень хорошо! — с безнадежным видом произнес режиссер, которому теперь нечего было делать. — «Карманная воровка!» — воскликнул мистер Бамбергер. — Громче! — вставил режиссер, не в состоянии хоть временно воздержаться от замечаний. — «Карманная воровка!» — завопил бедный Бамбергер. — «Да, воровка, но которой не было еще и шести лет и к тому же с лицом ангелочка!» — «Что ты делаешь?» — крикнула ей моя мать. «Я хотела украсть», — ответила девочка. «А ты разве не знаешь, что красть нехорошо?» — обратился к ней мой отец. «Нет, не знаю, — отозвалась девочка. — Зато я знаю, как страшно быть голодной!» — «А кто велел тебе красть?» — спросила мать. «Вот она, вон она там! — Девочка указала на подъезд, в котором стояла жуткого вида женщина, кинувшаяся вдруг бежать. — Мы зовем ее «Иуда»! — добавила девочка.» Миссис Морган произнесла все это довольно бесцветно, и режиссер был в отчаянии. Он нервно расхаживал по эстраде и, наконец, подошел к мистеру Квинселу. — Ну, как вы находите, мистер Квинсел? — спросил он. — О, я думаю, мы их вымуштруем, — ответил тот без особой уверенности в голосе. — Не знаю, не знаю, — сказал режиссер. — Этот Бамбергер слишком уж мямля для любовника. — Никого другого нет, — сказал Квинсел, возводя очи к небу. — Гаррисон в последнюю минуту надул меня. Где же нам теперь достать кого-нибудь взамен? — Не знаю, не знаю, — снова повторил режиссер. — Но я боюсь, что он никуда не годится. Как раз в эту минуту Бамбергер воскликнул: — «Вы смеетесь надо мной, Пэрл!» — Вот полюбуйтесь! — зашептал режиссер, прикрывая ладонью рот. — Боже мой! Что можно сделать с человеком, который то орет, то цедит слова? — Сделайте, что можете, — стараясь утешить его, произнес Квинсел. Репетиция продолжалась, и, наконец, настал момент, когда Лаура-Керри входит в комнату, чтобы объясниться со своим возлюбленным. Последний, выслушав рассказ Пэрл, успел написать письмо, в котором он отказывается от Лауры, но еще не отправил его. Бамбергер только что закончил реплику Рэя: — «Я должен уйти, пока она не вернулась. Ее шаги! Поздно!» Он комкает письмо, торопясь засунуть его в карман, а в это время Керри нежным голосом начинает: — «Рэй!» — «Мисс… мисс Кортленд!» — запинаясь, чуть слышно выдавливает из себя Бамбергер. Керри посмотрела на него и сразу забыла обо всех окружающих. Она начала входить в роль. Равнодушно улыбаясь, как того требовала авторская ремарка, Керри повернулась к окну и отошла от своего возлюбленного с таким видом, точно его и не было в комнате. Все это она проделала так грациозно, что нельзя было не залюбоваться ею. — Кто такая эта женщина? — спросил режиссер, с интересом наблюдавший за сценой между Керри и Бамбергером. — Мисс Маденда, — ответил Квинсел. — Я знаю, как ее имя, — сказал режиссер. — Но кто она такая, чем занимается? — Не знаю, — произнес Квинсел. — Она знакомая одного из членов нашей ложи. — Гм, как бы то ни было, у нее больше чутья, чем у всех остальных, вместе взятых. Она хоть проявляет интерес к тому, что делает! — И притом хорошенькая, а? — добавил Квинсел. Режиссер отошел, не ответив на это замечание. Во второй сцене, в бальном зале, где Лаура встречается лицом к лицу с враждебно настроенным обществом, Керри играла еще лучше и заслужила одобрительную улыбку режиссера. Он даже соблаговолил подойти и заговорить с ней. — Вы уже когда-нибудь выступали на сцене? — как бы вскользь спросил он. — Нет, никогда, — ответила Керри. — Вы так хорошо играете, что я думал, уж нет ли у вас некоторого сценического опыта? Керри только смущенно улыбнулась. Режиссер отошел от нее и стал слушать Бамбергера, который бездушным голосом бубнил очередную реплику. Миссис Морган заметила эту сценку и сверкнула на Керри завистливыми черными глазами. «Наверное, какая-нибудь захудалая актриса!» — решила она, находя удовлетворение в этой мысли и проникаясь презрением и ненавистью к Керри. Репетиция кончилась, и Керри отправилась домой, чувствуя, что не ударила лицом в грязь. Слова режиссера все еще звучали у нее в ушах, и она горела желанием поскорее рассказать обо всем Герствуду. Пусть он знает, как хорошо она играла! Друэ тоже мог бы служить объектом для ее излияний, и она еле сдерживалась, дожидаясь, когда же он наконец спросит ее. И тем не менее сама она не заговаривала об этом. А Друэ в тот вечер думал о чем-то другом, и то, что казалось Керри столь важным, не имело большого значения в его глазах. Он не стал поддерживать разговор на эту тему, выслушав лишь то, что рассказала — не очень умело — сама Керри. Он сразу же решил, что Керри прекрасно со всем справится, и тем самым заранее избавил себя от всяких тревог. Керри была несколько раздражена и подавлена этим. Она остро ощутила безразличие Друэ и томилась желанием увидеться с Герствудом. Он казался ей единственным другом на земле. На следующее утро Друэ все же проявил интерес к сценическим успехам Керри, но впечатления от вчерашнего разговора с ним уже нельзя было исправить. Керри получила письмо от Герствуда, извещавшего ее, что, когда она получит его послание, он уже будет ждать ее в парке. Когда она явилась, Герствуд встретил ее, сияя, точно утреннее солнце. — Ну, дорогая, — сразу начал он, — как у вас сошло? — Недурно, — сдержанно ответила Керри, помня о равнодушии Друэ. — Расскажите мне все, как происходило, — попросил Герствуд. — Это было интересно? Керри стала описывать ему во всех подробностях вчерашнюю репетицию, все больше и больше воодушевляясь. — Ну просто великолепно! — воскликнул Герствуд, выслушав ее. — Очень рад за вас. Непременно приду посмотреть, как вы играете. Когда у вас следующая репетиция? — Во вторник, — ответила Керри. — Но посторонних туда не пускают, — добавила она. — Я все же думаю, что мне как-нибудь удастся пройти, — многозначительно сказал Герствуд. Керри была в восторге от его внимания. Она снова обрела душевное равновесие. Тем не менее она заставила его дать слово, что он не будет приходить на репетиции. — Тогда вот что, — вы должны хорошенько постараться, чтобы я остался доволен! — сказал Герствуд, желая поощрить ее. — Помните, я многого жду от вас. Мы, со своей стороны, приложим все усилия, чтобы спектакль удался на славу. А вы тоже сделайте, что можете. — Я постараюсь, — сказала Керри, преисполненная восторга и любви. — Ну вот, молодец! — похвалил ее Герствуд. Он с отеческой нежностью погрозил ей пальцем и повторил: — Смотрите, сделайте все, что можете! — Непременно! — весело отозвалась Керри. В это утро, казалось, вся земля тонула в солнечном сиянии. Керри шла домой, и чистое небо, прозрачное и синее, словно вливалось в ее душу. Блаженны дерзающие, исполненные бодрой надежды; блаженны и те, кто взирает на них с улыбкой одобрения.Глава 18
По ту сторону.
Беглые приветствия
К вечеру шестнадцатого числа незримая рука Герствуда успела показать свою силу. Стоило ему пустить слух среди своих друзей (а они были многочисленны и влиятельны), что стоит пойти туда-то, и мистер Квинсел, к великому своему удивлению, продал значительно больше билетов, чем предполагал. Во всех ежедневных газетах появились небольшие заметки. И это опять-таки устроил не кто иной, как Герствуд, с помощью одного из своих приятелей-газетчиков, мистера Гарри Мак-Гаррена, главного редактора «Таймса». — Послушайте, Гарри, — сказал ему как-то вечером Герствуд у стойки бара, когда редактор допивал последний стаканчик, готовясь держать запоздалый путь домой, — вы могли бы оказать кое-кому большую услугу. — А в чем дело? — спросил мистер Мак-Гаррен, которому было приятно, что этот представительный управляющий обращается к нему с просьбой. — Местная ложа ордена Лосей устраивает маленький спектакль в свою пользу, и им очень пригодилась бы заметочка в прессе. Вы понимаете, что я имею в виду всего несколько строк, в которых говорилось бы что, где и когда. — С удовольствием, — ответил мистер Мак-Гаррен. — Конечно, я это сделаю для вас, Джордж! Сам Герствуд держался в тени. Члены ложи не могли понять, почему их маленькая затея привлекла такое внимание. На мистера Квинсела стали смотреть как на гениального организатора. Когда наступило шестнадцатое, друзья Герствуда явились, подобно римлянам, послушным зову сенатора. С той минуты, как он решил помочь Керри, она смело могла рассчитывать на хорошо одетую, благодушную и благосклонную публику. Молодая дебютантка успела вполне овладеть ролью и была очень довольна собой, хотя и дрожала, думая о том, что вскоре ей придется предстать в ярком свете рампы перед многочисленной толпою зрителей. Она пыталась утешить себя мыслью, что и остальные участники, человек двадцать мужчин и женщин, волнуются за исход спектакля, не зная, к чему приведут их усилия. Но при всем желании она никак не могла выбросить из головы свои личные страхи. То ее пугало, что она забудет какую-нибудь реплику или не сумеет проникнуться чувствами своей героини, то она начинала жалеть, что вообще взялась за это дело. Она дрожала, представляя себе, что, возможно, будет стоять бледная, задыхающаяся, парализованная страхом, не зная, что сказать и что сделать. Она еще, пожалуй, испортит все представление. Что касается остальных участников, то мистер Бамбергер выбыл из труппы. Он был безнадежен и пал жертвой режиссерской критики. Миссис Морган все еще была тут. Она сгорала от зависти и твердо решила, хотя бы в пику Керри, сыграть не хуже ее. Для роли Рэя был приглашен какой-то слонявшийся без дела актер-профессионал. Правда, артист он был весьма посредственный, но его хоть не терзали страхи, переживаемые людьми, никогда не выступавшими перед публикой. Он с таким небрежным и самоуверенным видом расхаживал по сцене (между прочим, ему строго-настрого было наказано не упоминать о своей причастности к театральному миру), что по одним лишь «косвенным уликам» всякий легко мог сообразить, кто он такой. — Какие пустяки! — с театральной аффектацией обратился он к миссис Морган. — Стану я волноваться из-за публики! Дух роли — вот что важно, хорошенько вжиться в нее — вот в чем вся трудность! Весь его внешний облик был неприятен Керри, но она была в достаточной степени актрисой, чтобы суметь скрыть свою антипатию и примириться с его качествами, тем более что в этот вечер ей предстояло мириться с его фиктивной любовью. В шесть часов вечера она была совсем готова. Все, что требуется для сцены, было заранее и даже в изобилии закуплено. Керри с утра училась накладывать грим, к часу она уже успела прорепетировать и приготовить все необходимое для спектакля, после чего стала дожидаться наступления вечера, лишь изредка заглядывая в свою роль. Ради такого торжественного случая ложа ордена Лосей прислала за ней экипаж, и Керри вместе с Друэ отправилась в театр. Впрочем, он проводил ее только до дверей, а сам пошел искать хорошую сигару. Новоиспеченная актриса нервной поступью прошла в свою уборную и приступила к тем волнующим таинствам, которые должны были превратить ее, простую девушку, в Лауру — светскую красавицу. Яркий свет газовых рожков, открытые сундуки с костюмами, наводящие на мысль о путешествиях, разбросанные повсюду орудия гримера — румяна, пудра, белила, жженая пробка, тушь, карандаши для век, парики, ножницы, зеркала — все эти бесчисленные принадлежности маскарада создавали совсем особую атмосферу. С того дня, как Керри приехала в большой город, многое произвело на нее впечатление, но это всегда бывало как бы издалека. Эта новая атмосфера дышала теплом. Она была так непохожа на высокомерие пышных особняков, которые холодно гнали бедную девушку прочь, позволяя ей только проникнуться благоговейным страхом и любоваться ими на расстоянии. У нее было такое чувство, будто кто-то ласково взял ее за руку и сказал: «Войди, дорогая!» Этот мир открылся перед нею сам собой. Она дивилась напечатанным гигантскими буквами афишам, подробным заметкам в газетах, красоте нарядов на сцене, прекрасным экипажам, обилию цветов и витавшему над всем приглушенному веселью. Это не было иллюзией. Перед Керри распахнулась дверь, и она увидела свет. Керри случайно наткнулась на эту дверь, подобно человеку, вдруг нащупавшему в темноте потайной ход. И вот она очутилась в роскошном зале, залитом огнями и сулившем блаженство! Керри торопливо одевалась в маленькой артистической уборной, прислушивалась к голосам снаружи, видела, как суетился мистер Квинсел, а миссис Морган и миссис Хогленд нервно готовились к выходу на сцену, и с большим интересом наблюдала за всеми остальными членами труппы: они слонялись за кулисами, тревожась за исход спектакля… А Керри невольно мечтала о том, как было бы чудесно, если б все это могло продолжаться без конца! Вот бы ей справиться как следует с ролью, а потом поступить куда-нибудь на сцену, стать настоящей актрисой. Эта мысль заполонила Керри и звучала в ее ушах, как мелодия старинной песни. А за пределами ее комнатки, в маленьком фойе, в это время можно было наблюдать другие картинки. Без вмешательства Герствуда небольшой зал едва ли был бы полон, ибо члены ложи обнаружили весьма умеренный интерес к этой затее. Но слово Герствуда успело оказать свое влияние. На спектакль рекомендовалось явиться в парадном виде. Все четыре ложи были разобраны. Одну взял доктор Норман Мак-Нил-Гейл с женой, а это уже кое-что значило. Мистер Уокер, торговец мануфактурой с состоянием по меньшей мере в двести тысяч долларов, тоже взял отдельную ложу. Купить третью ложу уговорили одного известного угольного дельца, а четвертую приобрел Герствуд с друзьями. Среди последних находился и Друэ. Публика, валом валившая в зал, не состояла ни из знаменитостей, ни даже из местных богачей. Это были представители определенного круга — зажиточные люди и члены ордена Лосей. Все господа Лоси прекрасно знали, какое положение тот или иной из них занимает в свете. Они с большим уважением относились ко всякому, кто сумел накопить состояние, приобрести красивый дом, содержал экипаж, со вкусом одевался и пользовался доверием в торговом мире. Естественно, что Герствуд, достаточно умный, чтобы не считать этот уровень жизни пределом человеческих достижений, сочетавший с деловою сметкой умение прекрасно держать себя, занимавший довольно видную должность и завоевавший всеобщее расположение врожденным тактом в обращении с людьми, — Герствуд был здесь довольно крупной фигурой. Он был известнее многих в этом кругу, а его сдержанность объясняли тем, что вдобавок к солидному финансовому положению он пользуется еще и большим влиянием. В этот вечер Герствуд был в своей стихии. Он приехал в экипаже, вместе с несколькими приятелями, прямо из ресторана «Ректор». В фойе он встретил Друэ, который только что вернулся, купив сигары, и между ними завязалась оживленная беседа, во время которой перемывались косточки присутствующих и обсуждались дела ордена. — Кого я вижу! — воскликнул Герствуд. Он уже успел пройти в зрительный зал, где ярко горели люстры и оживленно болтала веселая компания джентльменов. — А, как поживаете, мистер Герствуд? — отозвался джентльмен, к которому обратился с приветствием управляющий баром. — Рад вас видеть, — сказал Герствуд, слегка пожимая протянутую ему руку. — Надо полагать, спектакль будет блестящий. — Да, можно надеяться, — согласился Герствуд. — По-видимому, ложа пользуется большой поддержкой своих членов, — заметил собеседник. — Так оно и должно быть, — сказал Герствуд. — Я лично очень рад, что это так. — Здорово, Джордж! — окликнул его плотный джентльмен, крахмальная рубашка которого горой вздымалась на груди. — Как дела? — Великолепно! — Что привело вас сюда? Ведь вы, насколько я знаю, не член этой ложи. — Только доброта душевная, — отозвался Герствуд. — Приятно, знаете ли, повидать старых друзей! — Жена с вами? — Нет, она сегодня не могла прийти, — сказал Герствуд. — Не совсем здорова. — Жаль, жаль! Надеюсь, ничего серьезного? — Нет, легкое недомогание. — Я помню миссис Герствуд… Она однажды сопровождала вас в Сент-Джо. И толстяк пустился в какие-то скучные воспоминания, которым, к счастью, положило конец прибытие новых знакомых Герствуда. — А, здорово, Джордж! Как поживаете? — поздоровался с ним какой-то добродушный член муниципалитета, житель Западной стороны и тоже член ложи. — Очень рад васвидеть. Ну как дела? — Очень хорошо, благодарю вас. Вы, я слышал, избраны в олдермены?[1] — Да, мы без всякого труда разбили противников, — подтвердил политический деятель. — Что станет теперь делать Хеннеси? — О, ведь у него кирпичный завод! Вернется, надо полагать, к своим кирпичам. — Вот как? Я этого не знал, — сказал Герствуд. — Воображаю, как он злился, когда потерпел поражение. — Да, по всей вероятности, — согласился новый олдермен, лукаво подмигивая Герствуду. Мало-помалу начали прибывать в экипажах более близкие друзья Герствуда, которых он пригласил сам. Они, шаркая ногами и выставляя напоказ свои отличные костюмы, входили в зал, исполненные сознания собственного достоинства и весьма довольные собой. — А, вот и мы! — воскликнул Герствуд, обращаясь к одному из вновь прибывших, мужчине лет сорока пяти. — Вы не ошиблись, — в тон ему ответил тот. Потом он наклонился к уху Герствуда и, добродушно притянув приятеля за плечо поближе к себе, шепнул: — Если мы сегодня не увидим здесь ничего интересного, я вам голову оторву! — При чем тут спектакль? — отозвался Герствуд. — Разве не стоило заплатить за возможность повидать старых друзей? Одному из гостей, обратившемуся к управляющему баром с вопросом, действительно ли будет что-нибудь интересное, Герствуд ответил: — Я и сам не знаю. Едва ли! Затем он сделал рукой красивый жест и добавил: — Но для масонской ложи… — А народу набралось, однако, порядочно! Что вы скажете? — М-да!.. Кстати, мистер Шэнехен только что справлялся о вас; непременно разыщите его. Вот как случилось, что маленький театр огласился беспечной болтовней богатых людей, шелестом шелка, хрустом крахмальных сорочек, благодушно-банальными фразами, — и все лишь потому, что этого захотел один человек. Стоило посмотреть на Герствуда в те полчаса, которые предшествовали поднятию занавеса, когда он беседовал с компанией в пять-шесть человек, из тех, чьи внушительные фигуры, туго накрахмаленные сорочки и бриллиантовые булавки в галстуках свидетельствовали об их преуспеянии! Джентльмены, прибывшие с женами, не упускали случая окликнуть Герствуда и пожать ему руку. Билетеры учтиво кланялись гостям, откидные сиденья стульев хлопали, а Герствуд довольным взором обводил зал. Он был здесь светилом, воплощавшим в своей персоне честолюбивые стремления всех приветствовавших его. Он был признан обществом, ему льстили, считали чуть ли не светским львом. По всему видно было, что этот человек занимает солидное положение. Он был, если хотите, даже по-своему велик в тот вечер.Глава 19
Час в стране грез.
Чуть слышная жалоба
Наконец все приготовления были закончены, и занавес готов был взвиться. Артисты успели наложить последние штрихи грима и в ожидании присели кто где. Дирижер многозначительно постучал палочкой по пюпитру, и нанятый для этого случая маленький оркестр заиграл вступление. Герствуд умолк и вместе со своими друзьями направился в ложу. — Ну, теперь посмотрим, как справится девочка! — шепнул он Друэ так, чтобы никто другой не слышал его. На сцене уже находилось шесть актеров, открывавших первое действие сценой в гостиной. Друэ и Герствуд, тотчас удостоверившись, что Керри между ними нет, шепотом продолжали беседу. В первом акте участвовали миссис Морган, миссис Хогленд и выступавший вместо Бамбергера артист-профессионал Пэттон. Последний мало чем мог похвастать, за исключением уверенности, но именно это в данную минуту и было самым необходимым. Миссис Морган в роли Пэрл буквально стыла от ужаса. Миссис Хогленд произносила реплики хриплым голосом. У всех дрожали колени, и свои роли актеры попросту читали, — ничего больше. Нужна была вся снисходительность публики, все ее благодушное настроение и вера в то, что артисты постепенно разыграются, чтобы удержаться от сожалеющего ропота, что обычно предшествует провалу спектакля. Герствуд хранил полное спокойствие. Он заранее был уверен, что эта затея с пьесой ничего не стоит. Ему важно было только, чтобы все сошло более или менее сносно, тогда можно было бы сделать вид, что Керри заслуживает похвалы, и поздравить ее с успехом. Когда первый приступ страха миновал, актеры как будто немного ожили и стали кое-как передвигаться по сцене, вяло произнося свои реплики и наводя на зрителей скуку. Вскоре на сцену вышла Керри. Как только Герствуд и Друэ взглянули на нее, они сразу поняли, что у нее трясутся поджилки. Еле волоча ноги, прошла она по сцене со словами: — «А! Вот и вы, сэр! Мы уже с восьми часов ждем вас». Она произнесла их так бесцветно и так тихо, что ее друзьям стало больно за нее. — Боится, — прошептал Друэ. Герствуд ничего не ответил. В роль входила одна реплика, которая должна была немного рассмешить зрителей. Она гласила: «Это все равно, что называть меня спасительной пилюлей!» Но и это вышло у нее до ужаса безжизненно. Друэ заерзал на стуле, а Герствуд чуть заметно шевельнул носком ботинка. В другом месте Лаура, чувствуя надвигающуюся опасность, должна была встать и с грустью произнести: «О, лучше бы вы этого не говорили, Пэрл! Вы прекрасно знаете, что все мы любим красивый обман». В голосе Керри до смешного не хватало чувства. Ей не удавалось войти в роль. Казалось, она говорит во сне. Она как будто заранее была уверена, что провалится. Керри играла еще хуже, чем миссис Морган, которая успела немного прийти в себя и, по крайней мере, внятно произносила слова. Друэ отвел глаза от сцены и окинул взглядом зрителей. Публика хранила молчание, надеясь, что вот-вот произойдет какая-то перемена. Герствуд пристально смотрел на Керри, точно стараясь загипнотизировать ее и заставить играть лучше. Он хотел влить в нее частицу своей воли. Ему было бесконечно жаль ее. Через некоторое время Керри предстояло прочесть анонимное письмо, полученное ею от неизвестного негодяя. Публика чуть оживилась во время диалога между актером-профессионалом и маленьким человечком, который не без юмора играл роль однорукого, выжившего из ума солдата по прозвищу «Храпун», ставшего ради куска хлеба посыльным. Он с таким азартом выкрикивал слова, что они невольно вызывали в публике смех, хотя и не тот, на который рассчитывал автор пьесы. Но вот Храпун уходит, и опять на сцену возвращается Керри в качестве главного действующего лица. Однако она все еще не овладела собой и в продолжение всей сцены между нею и интриганом вяло бродила по сцене, злоупотребляя последней каплей терпения публики. Когда она наконец ушла, все облегченно вздохнули. — Она слишком волнуется, — сказал Друэ, прекрасно сознавая, что говорит неправду. — А вы бы сходили, подбодрили ее, — посоветовал Герствуд. Друэ рад был сделать что угодно, лишь бы сколько-нибудь помочь делу. Он быстро пробрался к боковой двери, служившей входом за кулисы; добродушный страж пропустил его. Керри стояла за кулисами, дожидаясь следующего своего выхода. Вся ее живость, весь огонь, трепетавший в ней раньше, исчезли без следа. — Послушай, Керри, зачем ты так волнуешься? — сказал Друэ, пристально глядя на нее. — Очнись, наконец! Не такая уж это публика, чтобы стоило так бояться ее! — Я и сама не знаю, в чем дело, — ответила Керри. — Просто мне кажется, я не способна играть. Все же она была рада приходу Друэ. Видя, как волнуется вся труппа, она тоже совсем пала духом. — Да полно, Керри! — сказал Друэ. — Возьми себя в руки. Чего ты боишься? Покажи им, как нужно играть! Керри несколько ожила, наэлектризованная словами изрядно взволнованного коммивояжера. — Я очень скверно играла? — Ничего подобного! Тебе только нужно прибавить немного «перцу»! Играй так, как ты мне показывала. Постарайся откинуть голову, как ты это делала вчера. Керри вспомнила, с каким подъемом она играла дома. Она пыталась убедить себя, что может сыграть хорошо и сегодня. — Что сейчас будет? — спросил Друэ, заглядывая в роль, которую Керри держала в руках. — Диалог между мной и Рэем, когда я отказываю ему. — Ну, вот, — сказал Друэ, — побольше огня, побольше жизни! Играй так, точно тебе ни до кого дела нет. — Ваш выход, мисс Маденда! — сказал суфлер. — О боже! — вырвалось у Керри. — Как глупо с твоей стороны так бояться! — сказал Друэ. — Возьми же себя в руки, Керри! Я отсюда буду следить за тобой. — Правда? — Да, да, иди! И не бойся! Суфлер подал ей знак. Керри двинулась вперед, испытывая все ту же слабость, что и раньше, но вдруг какая-то доля решимости вернулась к ней. Она вспомнила о том, что Друэ смотрит на нее. — «Рэй», — начала она ласковым и более спокойным голосом. Это была как раз та сцена, которая понравилась режиссеру во время репетиции. «Она, кажется, приходит в себя!» — подумал Герствуд. Керри провела эту сцену не так хорошо, как на репетиции, но все же играла лучше, чем вначале. Ее присутствие на сцене не вызывало, по крайней мере, раздражения у публики. Вся труппа теперь подтянулась, и, таким образом, внимание зрителей уже не сосредоточивалось на одной Керри. Актеры недурно справлялись со своими ролями, и можно было надеяться, что пьеса кое-как пройдет, за исключением, разумеется, особенно трудных мест. Керри покинула сцену, разгоряченная и взволнованная. — Ну, что? — спросила она, глядя на Друэ. — Теперь немножко лучше? — Еще бы! Вот так и надо! Побольше жизни! Ты играла сейчас в тысячу раз лучше, чем в предыдущей сцене. Теперь дай им жару. Ты можешь. Пусть все ахнут. — Я в самом деле играла лучше? — повторила Керри. — Лучше? Несравненно! А что теперь? — Сцена на балу. — Ну, с этим ты справишься шутя! — сказал Друэ. — Я не уверена, — отозвалась Керри. — Полно, полно! — воскликнул Друэ. — Ты же прекрасно играла тогда — для меня! Вот иди теперь и играй так же. Держись так, будто ты в своей комнате, и если провернешь эту сцену не хуже, уверяю тебя, успех будет блестящий. Готов биться об заклад на что угодно. Ты справишься! Друэ, как обычно, вкладывал в слова всю пылкость и все добродушие своей натуры. Он и вправду считал, что Керри особенно удается эта сцена, и хотел, чтобы она блеснула перед публикой. Этим и объяснялся его энтузиазм. До следующего выхода Керри Друэ удалось внушить ей уверенность в своих силах. Он заставил ее поверить, что она играет хорошо. Слушая его, она снова стала проникаться жаждой успеха, и мало-помалу к ней вернулся прежний подъем. — Я думаю, что справлюсь! — Ну, конечно! Только не робей! На сцене между тем артистка, игравшая роль миссис ван Дэм, жестоко клеветала на Лауру. Керри прислушивалась, и что-то в ней вдруг вспыхнуло — ноздри слегка раздулись. — «Общество страшно мстит за нанесенные ему оскорбления, — говорил актер, игравший Рэя. — Вам приходилось слышать про сибирских волков? Когда один из стаи падает, остальные пожирают его. Сравнение не особенно приятное, но в обществе таится что-то волчье. Лаура своим маскарадом бросила вызов обществу, и общество, которое само по себе сплошной маскарад, отомстит за насмешку!» Услышав свое сценическое имя, Керри вздрогнула. Она стала проникаться горечью ситуации. На нее нахлынули чувства, которые испытывает отверженная. Она стояла за боковой кулисой, поглощенная потоком гневных мыслей. Она не слышала ничего кругом, только кровь с шумом билась у нее в висках. — «Вот что, милочки, надо хорошенько присматривать за нашими вещами, — мрачно произнесла миссис ван Дэм. — Они отнюдь не в безопасности, пока среди нас находится такая ловкая воровка!» — Реплика! — произнес суфлер, стоявший рядом с Керри. Но Керри даже не слышала его. Она двинулась вперед с уверенной грацией, рожденной вдохновением. Гордая и прекрасная, появилась она перед публикой, постепенно превращаясь, как того требовал ход действия, в застывшее, бледное, несчастное создание, тогда как группа бездушных светских людей презрительно отодвигалась от нее все дальше. Герствуд часто замигал глазами, зараженный ее волнением. Горячая волна чувства и искренности уже докатилась до самых дальних уголков зала. Магическое действие страсти, способной затопить мир, сказывалось во всей своей силе. Публика, которая до сих пор была не особенно внимательна, теперь с неослабевающим интересом следила за тем, что происходит на сцене. — «Рэй! Рэй! Почему вы к ней не подходите?» — раздался возглас Пэрл. Взоры всех были устремлены на Керри, по-прежнему гордую и презрительную. Все с напряженным вниманием следили за каждым ее движением и поворачивали головы в ту сторону, куда она переводила взгляд. Пэрл — миссис Морган подошла к ней. — «Поедем домой!» — «Нет, — ответила Лаура — Керри, и впервые ее голос обрел ту проникновенность, которой недоставало ему раньше. — Оставайтесь с ним!» Она обличающим жестом указала на своего возлюбленного, а потом произнесла с пафосом, который потрясал до глубины души своей неподдельной искренностью: — «Он недолго будет страдать!» Герствуд понял, что перед ним на редкость хорошая актерская игра. Это подтвердили и бурные аплодисменты публики, раздавшиеся, когда упал занавес. Управляющий баром думал теперь только о том, как прекрасна Керри. К тому же она ведь добилась успеха на таком поприще, которое было много выше сферы его деятельности. Он испытывал острое наслаждение при мысли, что она будет принадлежать ему. — Превосходно! — воскликнул он. Повинуясь внезапному порыву, он встал и направился к двери, которая вела за кулисы. Когда управляющий баром вошел в уборную Керри, Друэ все еще был там. Сейчас Герствуд чувствовал, что до безумия влюблен в Керри, — он был ошеломлен глубиной и страстностью ее игры. Он жаждал расхвалить ее, выразить свой восторг влюбленного, но тут находился Друэ, чей интерес к Керри тоже быстро возрастал. Пожалуй, молодой коммивояжер был очарован еще больше Герствуда, — по крайней мере, в силу обстоятельств он мог высказать это в более бурной форме. — Ну и ну! — не переставал он повторять. — Ты играла изумительно! То есть прямо великолепно! Я с самого начала знал, что ты справишься с ролью. Ну и славная же ты девочка! Глаза Керри сверкали от радости. — Ты вправду говоришь, что я хорошо играла? — Хорошо играла?! Еще бы! Разве ты не слыхала аплодисментов? В зрительном зале еще раздавались восторженные хлопки. — Мне и самой казалось, что я сумела передать все так… как я это переживала. В эту минуту и вошел Герствуд. Он инстинктивно угадал какую-то перемену в Друэ, и в груди его вспыхнула жгучая ревность, когда он увидел, что тот чуть ли не обнимает Керри. Он не мог простить себе, что сам надоумил Друэ пойти за кулисы, и уже ненавидел своего приятеля, как человека, посягавшего на его права. С великим трудом Герствуд взял себя в руки и поздравил Керри просто, как друг. Это была с его стороны огромная победа над самим собой. В глазах его даже загорелся былой лукавый огонек. — Мне хотелось сказать вам, что вы дивно играли, миссис Друэ! — сказал он, пристально глядя на нее. — Вы доставили всем большое наслаждение. Керри, прекрасно все понимавшая, ответила ему в тон: — О, благодарю вас, мистер Герствуд! — Вот и я как раз говорил ей, что, по-моему, она играла превосходно! — вставил Друэ, в восторге от сознания, что обладает таким сокровищем. Керри весело рассмеялась. — Это, несомненно, так, — подтвердил Герствуд, и в его взгляде Керри могла прочесть больше, чем говорили слова. — Если вы и впредь будете так играть, то заставите нас думать, что родились актрисой. Керри только улыбнулась в ответ. Она сознавала, в каком мучительном положении находился сейчас Герствуд, ей до боли хотелось остаться с ним наедине, но она не понимала перемены в Друэ. Герствуд был настолько угнетен, что не смог больше продолжать разговор. Ненавидя Друэ за одно его присутствие, он откланялся с достоинством Фауста и, выйдя из уборной Керри, в бешенстве стиснул зубы. — Будь он проклят! — прошипел Герствуд. — Долго еще он будет стоять мне поперек пути? С угрюмым видом Герствуд побрел, назад в ложу и долго не разжимал губ, размышляя о своем злосчастном положении. Когда занавес снова поднялся и началось второе действие, Друэ наконец вернулся в ложу. Он был весьма оживлен и тотчас же начал что-то шептать Герствуду, но тот сделал вид, будто поглощен игрой актеров. Герствуд ни на минуту не спускал глаз со сцены, хотя Керри сейчас там не было. Разыгрывался комический пассаж, предшествовавший ее выходу. Но Герствуд ничего не видел. Он был занят своими горькими мыслями. Пьеса продолжала развертываться, отнюдь не улучшая его настроения. Керри теперь была в центре всеобщего внимания. Публика, которая успела было прийти к убеждению, что от подобной труппы нельзя ожидать ничего хорошего, теперь ударилась в другую крайность и готова была видеть отличную игру там, где ее вовсе не было. Общее настроение, естественно, отразилось и на Керри. Она недурно справлялась со своей ролью, хотя в ее игре теперь далеко не было той глубины, которая так потрясла зрителей в конце первого действия. Герствуд и Друэ наблюдали за изящной фигуркой маленькой актрисы с всевозрастающей страстью. То, что у нее оказались такие способности, то, что они стали свидетелями ее успеха в такой эффектной обстановке, где словно в массивной золотой раме вдруг засияла ее индивидуальность, — все это усиливало ее очарование. Для Друэ она уже не была прежней простенькой Керри. Он жаждал очутиться дома, наедине с нею, чтобы там высказать ей свои восторги. Он с нетерпением ждал конца, когда они, наконец, останутся одни и поедут домой. А Герствуд, напротив, в том, что Керри стала еще привлекательней, чем прежде, видел весьма грустное для себя предзнаменование. Он проклинал сидящего рядом приятеля. Черт возьми, он даже не мог аплодировать с таким жаром, как ему хотелось. Он вынужден был все время притворяться, и это было крайне неприятно. В последнем действии Керри играла на редкость хорошо, и оба ее возлюбленных ни на мгновение не отводили от нее глаз. Герствуд прислушивался к тому, что происходило на сцене, думая лишь о том, когда же наконец появится Керри. Ему не пришлось долго ждать. Автор спровадил всю веселую компанию на прогулку, и теперь Керри была одна. Герствуд впервые видел ее одну лицом к лицу с публикой, — до сих пор на сцене всегда находился еще кто-то из незадачливых актеров. Как только она вошла, он почувствовал, что прежнее воодушевление, та сила, которая захватила ее в конце первого действия, не покинула Керри. Она как будто вдохновлялась все больше и больше, по мере того как пьеса близилась к развязке и исчерпывалась возможность показать свою игру. — «Бедняжка Пэрл! — с неподдельным состраданием говорила она. — Как грустно не ведать счастья, но еще ужаснее видеть, как другой слепо ищет его, тогда как ему надо лишь протянуть за ним руку!» Она стояла, прислонившись к косяку двери, и печально смотрела вдаль, на море. Герствуду стало бесконечно жаль и ее, и самого себя. Ему казалось, что она разговаривает именно с ним. Он весь растворился в этом потоке горячих чувств, в звуках проникновенного голоса, способного оказывать на человека такое же действие, как трогательная музыка. В этом и кроется исключительное свойство истинного актерского пафоса: каждому зрителю кажется, что говорящий обращается только к нему. — «А между тем она может быть очень счастлива с ним, — продолжала маленькая актриса. — Ее жизнерадостность, ее веселое личико украсят всякий дом…» Керри медленно повернулась и окинула публику отсутствующим взглядом. В ее движениях было столько простоты и безыскусственности, что казалось, она совершенно забыла о зрителях, затем она подсела к столу и принялась перелистывать какие-то книги. — «Не тоскуя по тому, что мне недоступно, — тихо сказала она, и это было почти как вздох, — я скрою свое существование от всех на свете, кроме двух людей, и буду лишь радоваться счастью этой невинной девушки, которая скоро станет его женой». Герствуд был искренне огорчен, когда некая мисс Блосом прервала Керри. Он раздраженно повернулся на стуле, — ему хотелось, чтобы Керри продолжала говорить. Он был очарован ее бледным лицом, изящной фигуркой в платье светло-серого цвета, крученой ниткой жемчуга на шее. Казалось, Керри очень устала и нуждается в защите. И так велика была сила иллюзии, что взволнованный Герствуд, забыв о том, что это лишь игра, готов был встать и броситься к ней на помощь. Вскоре Керри снова осталась одна и с воодушевлением продолжала: — «Я вернусь в город, что бы мне там ни грозило! Я должна ехать. Если удастся — тайком, не удастся — открыто». За сценой раздался топот конских копыт и голос Рэя: — «Нет, я сегодня больше не поеду. Можете отвести лошадь в конюшню». Вошел Рэй. Началась сцена, которой суждено было сыграть большую роль и в любви Герствуда, ставшей для него трагедией, и во всей его необычной и сложной судьбе. Ибо Керри заранее внушила себе, что эта сцена должна быть для нее решающей, и после первой же реплики ею овладело вдохновение. И Герствуд и Друэ заметили, что она играет с нарастающей выразительностью. — «Я думала, что вы уехали с Пэрл», — сказала Лаура, обращаясь к своему бывшему возлюбленному. — «Я проехал со всей компанией около мили, но затем вернулся». — «Уж не поссорились ли вы с Пэрл?» — «Нет… то есть да. Мы с ней всегда ссоримся. Наш барометр неизменно показывает «пасмурно» или «туманно». — «И кто же в этом виноват?» — непринужденно спросила она. — «Только не я, — капризно сказал Рэй. — Я делаю все, что в моих силах… а она…» Пэттон произнес все это довольно вялым тоном, но живые интонации Керри искупали слабость партнера. — «Но она ваша жена, — продолжала Керри, пристально глядя на умолкшего актера и смягчая голос, пока он снова не зазвучал тихо и мелодично. — Рэй, друг мой, ухаживание за женой — это текст, который служит темой всей проповеди брачной жизни. Пусть не будет в вашем браке недовольства и несчастья». Керри умоляюще сложила свои маленькие ручки и прижала к груди. Герствуд глядел, чуть приоткрыв губы. Друэ от удовольствия задвигался на стуле. — «Моя жена, да…» — продолжал актер, казавшийся особенно бесцветным по сравнению с Керри. К счастью, теперь уже ничто не могло испортить той тонкой атмосферы, которую Керри создала и сумела сохранить. По-видимому, она даже не замечала, как беспомощен Пэттон. Едва ли она провела бы эту сцену хуже, если бы ей пришлось обращаться к деревянному чурбану. Все, что нужно для этой сцены, было заложено в ней самой, и игра остальных исполнителей не имела для нее никакого значения. — «И вы уже раскаиваетесь?» — медленно и с укоризной произнесла Лаура. — «Я потерял вас, — ответил Рэй, схватив ее маленькую руку, — и попался в сети первой легкомысленной девчонки, которая вздумала поманить меня пальцем. Во всем виноваты… вы… Почему вы покинули меня?» Керри медленно отвернулась и, казалось, напрягла всю свою волю, чтобы удержать порыв чувств. Потом она снова повернулась к своему возлюбленному. — «Рэй, — начала она, — я радовалась, что вы навсегда отдали свою любовь женщине хорошей, во всех отношениях равной вам. Каким страшным откровением являются для меня сейчас ваши слова! Объясните же мне, что вынуждает вас постоянно противиться собственному счастью?» Она задала этот последний вопрос так просто, что каждому из зрителей показалось, будто он обращен непосредственно к нему. И наконец наступил момент, когда бывший возлюбленный Лауры воскликнул: — «Станьте для меня тем, чем были раньше, Лаура!» На что Керри с бесконечной нежностью ответила: — «Нет, Рэй, я уже не могу быть для вас тем, чем была. Но я могу говорить от имени прежней Лауры, которая навсегда умерла для вас». — «Будь по-вашему!» — сказал Пэттон. Герствуд наклонился вперед. Весь зрительный зал настороженно слушал, храня глубокое молчание. — «Пусть та женщина, на которой остановился ваш взор, мудра или суетна, — продолжала Керри, с глубокой грустью глядя на возлюбленного, в отчаянии упавшего в кресло, — прекрасна или безобразна, богата или бедна, — у нее есть лишь одно, что она может отдать вам и в чем она может отказать вам: ее сердце». Друэ почувствовал, что у него защекотало в горле. — «Она может продать вам свою красоту, все свои совершенства, но ее любовь — это сокровище, которое нельзя купить ни за какие деньги, которому нет цены». Герствуд глубоко страдал, точно слова Керри относились непосредственно к нему. Ему представлялось, что он наедине с ней, и ему стоило огромного труда сдержать слезы, которые вызывали в нем трогательные и нежные слова любимой женщины. Друэ тоже с трудом владел собой. Он мысленно решил, что отныне станет для Керри тем, чем никогда не был. Он женится на ней, честное слово! Она вполне этого заслуживает. — «И взамен, — продолжала Керри, едва ли даже расслышав реплику своего возлюбленного, и голос ее звучал в полной гармонии с грустной музыкой, сопровождавшей эту сцену, — она просит от вас лишь немногого: чтобы в вашем взоре отражалась преданность, чтобы в голосе вашем при обращении к ней звучала нежность, чтобы вы не позволяли презрению или пренебрежению проникать в ваше сердце, даже если она и не так быстро усваивает ваши мысли и честолюбивые стремления. Ибо если случится, что рок разобьет ваши замыслы и фортуна повернется к вам спиной, у вас для утешения останется любовь… Вы смотрите на деревья и восхищаетесь их величием и силой. Но не презирайте маленькие цветочки за то, что они не могут дать ничего, кроме нежного аромата…» Герствуд слушал, с огромным усилием сдерживая обуревавшие его чувства. — «Помните, — мягко закончила Керри, — любовь — это единственное, что дарит вам женщина. — Эти слова она произнесла с каким-то особым, ласковым оттенком. — Но это единственное не подвластно даже смерти». Управляющий баром и коммивояжер с мучительной нежностью смотрели на молодую актрису. Они почти не слыхали заключительных слов и только видели перед собой предмет своего обожания. Керри двигалась по сцене с трогательной грацией, исполненной силы, — это было для них откровением. Герствуду, так же как и Друэ, приходили в голову тысячи решений. Оба с равным усердием присоединились к буре аплодисментов, вызывавших Керри. Друэ хлопал до тех пор, пока у него не заныли руки. Потом он вскочил и выбежал из ложи. Как раз в этот миг Керри снова показалась на сцене и, увидев, что навстречу ей несут огромную корзину цветов, замерла в ожидании. Цветы были от Герствуда. Керри подняла глаза на ложу, где он сидел, поймала его взгляд и улыбнулась. Герствуд чуть не выскочил из ложи, чтобы заключить возлюбленную в объятия. Он забыл, что ему, женатому человеку, следовало быть крайне осторожным. Он почти забыл, что рядом с ним сидят люди, которые хорошо его знают. Нет, эта женщина будет принадлежать ему, даже если бы ради этого пришлось пожертвовать всем! Он не станет медлить. Пора устранить этого Друэ. Прочь его! Он не станет ждать ни одного дня. Коммивояжер не должен обладать Керри. Герствуд так разволновался, что не мог усидеть на месте. Он вышел в вестибюль, потом на улицу, погруженный в свои мысли. Друэ все еще не возвращался из-за кулис. Через несколько минут пьеса должна была окончиться. Герствуд жаждал остаться вдвоем с Керри, он проклинал судьбу, вынуждавшую его улыбаться, раскланиваться, лицемерить, когда у него было лишь одно желание: говорить ей о своей любви, шептать ей наедине нежные слова. Со стоном подумал он, что все его надежды тщетны. Он не мог даже пригласить Керри поужинать, не прибегая к притворству… Наконец Герствуд решился пройти за кулисы, чтобы спросить Керри, как она себя чувствует. Спектакль кончился, артисты одевались и болтали, торопясь поскорее уйти. Друэ говорил без умолку, весь во власти своего настроения и возродившейся страсти. Управляющий баром усилием воли взял себя в руки. — Мы, конечно, поедем ужинать? — спросил он голосом, отнюдь не соответствовавшим его переживаниям. — С удовольствием, — ответила Керри и ласково улыбнулась ему. Маленькая актриса была бесконечно счастлива. Теперь она понимала, что значит быть любимой, что значит быть обласканной. Ею восхищались, с ней искали знакомства. Впервые она смутно ощутила независимость, которую приносит успех. Роли переменились, и теперь она могла смотреть на своего поклонника сверху вниз. В сущности, она сама почти не сознавала, что это так, и все же в ней уже заметна была мягкая и деликатная снисходительность. Как только Керри была готова, они сели в поджидавший их экипаж, и отправились в ресторан ужинать. И только раз, когда Герствуд, опередив Друэ, садился рядом с нею в экипаж, Керри улучила минуту, чтобы выразить ему свои чувства. Прежде чем Друэ успел занять свое место, она порывисто и нежно сжала руку управляющего баром. Герствуд был взволнован до крайности. Он готов был душу продать, чтобы только остаться наедине с Керри. «Боже, какая пытка!» — чуть не вырвалось у него. Друэ, разумеется, не отставал от них ни на шаг, считая себя героем дня. Ужин был испорчен его болтливостью. Герствуд отправился домой, твердя себе, что умрет, если его страсть не будет удовлетворена. Он успел горячим шепотом бросить «до завтра», и Керри поняла его. Распрощавшись и оставив Друэ с его добычей, Герствуд ушел, и в ту минуту ему казалось, что он без малейшего раскаяния мог бы убить этого человека. Керри тоже была подавлена. — Спокойной ночи! — сказал Герствуд, стараясь придать своему голосу дружески непринужденный тон. — Спокойной ночи! — нежно ответила ему Керри. «Болван! — мысленно выругался Герствуд, почувствовав вдруг глубокую ненависть к Друэ. — Идиот! Я еще расправлюсь с ним, и весьма скоро! Посмотрим завтра — кто кого!» — Право же, ты чудо, Керри! — безмятежно говорил в это время Друэ, ласково сжимая ее руку. — Ты чудеснейшая девочка.Глава 20
Влечение духа. Вожделение плоти
У таких людей, как Герствуд, страсть всегда проявляется бурно. Она не выражается в задумчивости или мечтательности. Не бывает и серенад под окном возлюбленной или тоскливого томления и горестных сетований на непреодолимые препятствия. Ночью различные мысли долго не давали Герствуду заснуть, а утром, проснувшись рано, он с прежней силой и рвением вновь принимался думать о дорогом его сердцу предмете. Он и духовно и физически был полностью выбит из колеи, ибо разве не восхищался он совсем по-новому своей Керри и разве на пути его не стоял Друэ? Никогда и никто не изводил себя так, как Герствуд, не переставая думавший о том, что его любимой владеет легкомысленный и развязный коммивояжер. Герствуд отдал бы все на свете, лишь бы положить конец осложнениям и уговорить Керри на такой шаг, который навсегда устранил бы Друэ. Но что делать? Герствуд одевался в глубокой задумчивости. Он ходил по комнате, где в это время находилась его жена, и даже не замечал ее присутствия. За завтраком у него совсем не было аппетита. Мясо, которое он положил себе на тарелку, осталось нетронутым. Его кофе остыл, пока он рассеянно проглядывал столбцы газет. Иногда в глаза ему бросалась какая-нибудь заметка, но он не понимал даже, о чем читает. Джессика еще не спустилась в столовую, а миссис Герствуд сидела на другом конце стола, тоже погруженная в молчаливые думы. Новая горничная, совсем недавно поступившая к ним, забыла положить, салфетки, и молчание в конце концов было нарушено раздраженным голосом миссис Герствуд. — Я уже говорила вам об этом, Мэгги, и больше повторять не желаю! — сказала она. Герствуд лишь мельком взглянул на жену. Она сидела нахмуренная. Ее манера держаться вызывала в нем сейчас крайнее раздражение. — Ты уже решил, Джордж, когда ты возьмешь отпуск? — вдруг обратилась к нему миссис Герствуд. В это время года они обычно обсуждали планы летнего отдыха. — Нет еще, — ответил он. — Я страшно занят. — Не мешало бы тебе поскорее прийти к какому-то решению, если мы собираемся куда-либо ехать. — Но, по-моему, у нас еще много времени впереди, — возразил ей муж. — Этак можно прождать до конца лета! — с досадой пожала плечами миссис Герствуд. — Опять старая песня! Послушать тебя, так выходит, как будто я ничего не делаю. — Я хочу знать окончательно! — так же раздраженно повторила миссис Герствуд. — У тебя еще много времени впереди, — стоял на своем муж. — Ведь ты же не поедешь до конца бегового сезона. Его злило, что этот разговор зашел именно сейчас, когда ему хотелось думать совсем о другом. — Может быть, и поедем! Джессика не хочет ждать так долго. — Зачем же в таком случае понадобился тебе сезонный билет? — спросил Герствуд. — Уф! — вырвалось у миссис Герствуд, постаравшейся вложить в этот звук все свое возмущение. — Я вовсе не желаю вступать с тобой в пререкания! С этими словами она поднялась с места, намереваясь выйти из-за стола. — Послушай, что это с тобой происходит в последнее время? — произнес Герствуд, тоже вставая, и тон его был так решителен, что жена невольно остановилась. — Неужели с тобой разговаривать нельзя? — Разговаривать со мной можно, — ответила миссис Герствуд, напирая на первое слово. — Я бы этого не сказал! А теперь, если ты хочешь знать, когда я могу уехать с вами, изволь: не раньше чем через месяц. Впрочем, может быть, и позже. — Тогда мы поедем без тебя. — Вот как? — насмешливо произнес Герствуд. — Да, поедем! Управляющий баром был изумлен решительным тоном жены, но вместе с тем это еще больше обозлило его. — Ну, это мы еще посмотрим! — воскликнул он. — Я нахожу, что в последнее время ты что-то слишком уж стала командовать! Ты, кажется, собираешься решать все дела за меня. Но этого не будет. Я не позволю тебе командовать там, где дело касается только меня лично. Хочешь — поезжай, но меня такими разговорами спешить не заставишь! Герствуд был разъярен. Его темные глаза сверкали. Он скомкал газету и швырнул ее на стол. Миссис Герствуд не добавила больше ни слова. При последних словах мужа она повернулась и вышла из комнаты. А он постоял в нерешительности еще несколько секунд, потом снова сел, отхлебнул кофе, затем встал и отправился на первый этаж за шляпой и перчатками. Миссис Герствуд вовсе не предвидела подобной сцены. Правда, она вышла к завтраку несколько не в духе; к тому же все мысли ее были заняты обдумыванием одного плана. Джессика обратила ее внимание на то, что бега далеко не оправдали их ожиданий. Они не давали в этом году особых возможностей в смысле выгодных знакомств. Красивая девушка вскоре убедилась, что бывать каждый день на бегах чрезвычайно скучно, а в этом году, как назло, публика рано стала разъезжаться на курорты и в Европу. Несколько молодых людей, интересовавших Джессику, уехали в Вокишу. Она тоже стала подумывать о поездке на этот курорт, и мать соглашалась с ней. Миссис Герствуд решила обсудить вопрос о Вокише с мужем. Садясь за стол, она обдумывала план, предложенный дочерью, но почувствовала, что атмосфера для такого разговора мало благоприятна. Миссис Герствуд и сама не знала, из-за чего началась ссора. Все же она решила, что ее муж — зверь и тиран и что подобную выходку ни в коем случае нельзя оставить безнаказанной. Он должен обращаться с ней, как с леди, не то она ему покажет. Герствуд тоже находился под тягостным впечатлением ссоры, пока не пришел в бар; оттуда он направился на свидание с Керри, и тут им овладели совсем другие чувства: любовь, страсть, протест. Мысли, словно на крыльях, опережали одна другую. Он не мог дождаться минуты, когда, наконец, увидит Керри. Что ему ночь, что день, если нет ее? Керри должна и будет принадлежать ему. А Керри, с тех пор как рассталась накануне со своим возлюбленным, жила в мире чувств и мечтаний. Она прислушивалась к пылким разглагольствованиям Друэ, пока он говорил о ней, но была весьма невнимательна к тому, что он говорил о себе. Насколько это было возможно, она старалась держать его на расстоянии, а мысли ее полны были пережитым успехом. Страсть Герствуда казалась ей чудесным дополнением к тому, чего она сумела достичь, и ей хотелось поскорее узнать, что он скажет ей при свидании. Она жалела его той особой жалостью, которая находит нечто лестное для себя в страдании другого. Керри впервые смутно ощутила едва уловимую перемену, которая происходит с человеком, попадающим из рядов просителей в ряды дарующих блага. В общем, она была очень счастлива. На следующий день, когда выяснилось, что газеты ни словом не обмолвились о спектакле, вчерашний успех, потонув в потоке повседневных мелочей, утратил значительную долю своего блеска. Даже Друэ говорил теперь не столько о ней, сколько для нее. Он инстинктивно чувствовал, что ему необходимо как-то перестроить свои отношения с Керри. — Я надеюсь еще в этом месяце покончить со своими делами, и тогда мы обвенчаемся, — сказал он на следующее утро, снуя из комнаты в комнату и прихорашиваясь перед тем, как отправиться в город. — Как раз вчера я говорил об этом с адвокатом. — О, это одни слова! — сказала Керри. Она чувствовала себя теперь настолько сильной, что решила подтрунить над ним. — Нет, не слова! — воскликнул Друэ с необычным для него жаром и тут же добавил умоляющим тоном: — Почему ты мне не веришь, Керри? Та лишь рассмеялась в ответ. — Отчего же — верю! — сказала она через некоторое время. На сей раз самоуверенность ничем не могла помочь Друэ. Хотя он и был человеком весьма мало наблюдательным, он все же чувствовал, что в последнее время вокруг него происходит что-то непонятное, не поддающееся его разумению. Керри по-прежнему была с ним, но она стала уже не такой беспомощной, как раньше. В ее голосе звучали теперь совсем новые нотки. Она больше не смотрела на него глазами зависимого существа. У молодого коммивояжера было такое ощущение, словно на него надвигается туча. Это придало новую окраску его чувствам и заставило его осыпать Керри знаками внимания и ласковыми словечками, чтобы как-то защититься от беды. Вскоре после ухода Друэ Керри начала готовиться к свиданию с Герствудом. Она поспешила привести себя в порядок и, быстро покончив с этим, сбежала с лестницы. На ближайшем перекрестке она прошла мимо Друэ, но они не видели друг друга. Друэ забыл захватить какие-то счета, которые ему необходимо было представить в контору, и потому вернулся домой. Быстро поднявшись наверх, он влетел в комнату, но нашел там только горничную, занятую уборкой. — Гм! — удивился он. — Куда же девалась Керри? Ушла, что ли? — добавил он, обращаясь больше к самому себе. — Ваша жена? Она ушла минут пять назад. «Странно! — подумал Друэ. — Она мне ничего не сказала. Куда же она могла пойти?» Он порылся в чемодане, нашел нужные ему бумаги и сунул их в карман. Затем обратил свое благосклонное внимание на горничную. Это была хорошенькая девушка, к тому же весьма расположенная к Друэ. — Ну, а вы — что тут делаете? — с улыбкой спросил Друэ. — Убираю комнату, как видите, — кокетливо ответила она, остановившись и накручивая на руку пыльную тряпку. — Устали? — Нет, не особенно. — Хотите, я покажу вам что-то интересное? — добродушным тоном предложил Друэ. Подойдя к горничной, он достал из кармана маленькую литографию, которую в виде рекламы выпустила одна крупная табачная фирма. На открытке была изображена красивая девица с полосатым зонтиком в руках, цвета которого можно было менять с помощью помещенного сзади диска. При вращении этого диска в маленьких прорезях показывались то красные, то желтые, то зеленые, то синие полоски. — Правда, остроумно? — спросил Друэ, подавая горничной открытку и объясняя, как с ней обращаться. — Вы, наверное, такого еще не видели. — Прелесть какая! — воскликнула горничная. — Можете оставить ее себе, если хотите, — сказал молодой коммивояжер. — У вас хорошенькое колечко, — добавил он, помолчав, и указал на простое кольцо, украшавшее палец девушки. — Вам нравится? — Очень даже, — ответил Друэ. — Очень красивое кольцо! Пользуясь случаем, он взял руку девушки, делая вид, будто заинтересован дешевеньким перстнем. Лед был сломан. Друэ продолжал болтать, как будто совсем забыв, что ее пальцы по-прежнему лежат в его руке. Горничная, однако, высвободила руку и, отступив на несколько шагов, оперлась на подоконник. — Я вас давно не видела, — игривым тоном заметила она, увертываясь от жизнерадостного коммивояжера. — Вы, наверно, уезжали? — Уезжал, — ответил Друэ. — И далеко ездили? — Да, довольно далеко. — Вам нравится разъезжать? — Нет, не особенно. Это скоро приедается, должен вам сказать. — А мне хотелось бы попутешествовать! — сказала девушка, уставясь в окно. — А куда это девался ваш друг, мистер Герствуд? — вдруг спросила она, вспомнив об управляющем баром, который, по ее мнению, был отличным объектом для злословия. — Он здесь, в городе, — ответил Друэ. — А почему вы о нем спрашиваете? — Да просто так… Он ни разу не был здесь с тех пор, как вы вернулись. — А откуда вы его знаете? — Вот тебе раз! — воскликнула девушка. — Разве я не докладывала о нем раз десять за один только прошлый месяц? — Бросьте, — небрежно возразил Друэ. — За все время, что мы тут живем, он у нас и пяти раз не был. — Вы так думаете? — улыбнулась девушка. — Много же вы знаете! Друэ принял более серьезный тон. Он не мог решить, шутит ли горничная или говорит правду. — Плутовка! — сказал он. — Почему вы так улыбаетесь? Что это значит? — О, ничего особенного! — А вы в последнее время видели его? — Нет, не видела с тех пор, как вы приехали. И с этими словами горничная звонко расхохоталась. — А раньше? — Ну, еще бы! — И часто? — Да почти каждый день! Девушка была страстной сплетницей, и ей очень хотелось знать, какое действие произведут ее слова. — К кому же он приходил? — недоверчиво спросил Друэ. — К миссис Друэ. Услышав этот ответ, Друэ тупо уставился на горничную. Однако чтобы спасти положение и не показаться смешным, он добавил: — Ну, и что же отсюда следует? — Ровно ничего, — в тон ему ответила горничная и кокетливо склонила голову набок. — Мистер Герствуд— мой старый друг, — продолжал Друэ, все глубже увязая в болото. За несколько минут до того он не прочь был немножко пофлиртовать, но теперь у него пропала всякая охота. Он даже облегченно вздохнул, когда снизу кто-то окликнул горничную. — Я должна идти, — заявила девушка, весело побежав к двери. — Мы еще увидимся, — ответил Друэ, делая вид, будто очень недоволен внезапной помехой. Когда горничная ушла, он дал волю своим чувствам. На лице его, которым, кстати, он никогда не умел владеть, отразились растерянность и недоумение. Возможно ли, чтобы Керри так часто принимала Герствуда и ничего об этом не сказала ему? Неужели Герствуд лгал? И что, собственно, имела в виду горничная?.. Ведь он и сам заметил, что в манерах Керри появилось что-то странное. Почему она так смутилась, когда он спросил ее, сколько раз был у нее Герствуд? Черт возьми, теперь он вспомнил! Тут что-то неладное, во всей этой истории! Друэ сел в качалку у окна, чтобы лучше обдумать положение. Он закинул ногу на ногу и свирепо нахмурился. Мысли с бешеной скоростью проносились у него в голове. Нет, размышлял он, в поведении Керри нет ничего необыкновенного. Не может быть, черт возьми, чтобы она его обманывала! Она не так вела себя, чтобы ее можно было заподозрить в чем-либо подобном. Ведь еще только вчера она была так мила с ним… И Герствуд тоже. Друэ не мог поверить, что его обманывают. Нет, этого никак не может быть! Его мысли нашли, наконец, выход в словах: — Иной раз она и впрямь ведет себя как-то странно. Вот, например, сейчас оделась и ушла, не сказав мне ни слова. Друэ почесал затылок и встал, решив идти в город. Он все еще хмурился. В передней он снова встретился с горничной, которая убирала теперь другую комнату. На голове у нее была изящная белая наколка, подчеркивающая добродушную смазливость ее личика. Она улыбнулась молодому коммивояжеру, и Друэ забыл все свои тревоги. Как бы приветствуя ее, он мимоходом фамильярно положил ей руку на плечо. — Перестали сердиться? — спросила девушка, которая все еще не прочь была попроказничать. — И не думал сердиться. — А я думала — сердитесь, — сказала она и опять улыбнулась. — Бросьте дурить, — произнес Друэ, стараясь говорить возможно более непринужденно. — Вы все сказали всерьез? — Конечно! — не задумываясь, ответила девушка. И добавила с видом человека, не имеющего ни малейшего намерения причинить кому-либо неприятность: — Я думала, что вы знаете. Он приходил сюда много раз. Все ясно — его обманывают. Друэ больше не пытался даже изображать равнодушие. — И он проводил здесь вечера? — спросил коммивояжер. — Иной раз. А иногда они вместе уходили из дому. — Тоже вечером? — Да. Но все-таки вы не должны из-за этого глядеть так сердито. — Я вовсе не сержусь, — сказал Друэ. — А кроме вас, его видел кто-нибудь еще? — Ну, конечно! — ответила девушка таким тоном, точно во всем этом не было ничего особенного. — И давно он был в последний раз? — Перед самым вашим возвращением. Друэ нервно закусил губу. — Не болтайте об этом! Хорошо? — попросил он, дружески пожимая локоть горничной. — Не буду, — согласилась та. — На вашем месте я не стала бы из-за всего огорчаться, — добавила она. — Ладно, — сказал Друэ, расставаясь с ней. Он ушел, весьма озадаченный. Впрочем, это не помешало ему вскользь подумать и о том, что он, видимо, произвел очень выгодное впечатление на хорошенькую горничную. «Мы с Кэд поговорим об этом! — решил он, чувствуя, что ему нанесли совершенно незаслуженную обиду. — Черт возьми! Мы еще посмотрим, осмелится ли она и дальше так вести себя!»Глава 21
Влечение духа.
Вожделение плоти (продолжение)
Когда Керри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Кровь его кипела, нервы были взвинчены. Ему хотелось поскорее увидеть женщину, которая накануне сумела так глубоко взволновать его. — Наконец-то! — вырвалось у него при виде Керри. Он с трудом сдерживал себя, но в груди у него расцветала весна, и он испытывал необычайный подъем, не лишенный, впрочем, трагизма. — Да, это я, — весело отозвалась Керри. Они пошли по аллее, словно направляясь к заранее намеченной цели. Герствуд упивался близостью молодой женщины. Шуршание ее нарядного платья звучало музыкой в его ушах. — Вы довольны? — спросил он, подразумевая ее вчерашний успех. — А вы? — в свою очередь спросила Керри. Герствуд вспыхнул при виде улыбки, которой она наградила его. — Это было изумительно, — ответил он. Керри радостно засмеялась. — Я давно уже не видел такой игры! — добавил Герствуд. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Керри в эту минуту с ним. А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся засияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней. — Благодарю вас за цветы, — сказала она, помолчав. — Они прекрасны! — Я очень рад, что они вам понравились, — просто ответил Герствуд. Его не покидала мысль о том, как он еще далек от цели. Ему хотелось говорить о своем чувстве. Казалось, почва была вполне подготовлена. Его Керри шла рядом с ним. Он с радостью немедленно приступил бы к решительному разговору, но, увы, сейчас у него почему-то не хватало слов, и он не знал, с чего начать. — Вы благополучно добрались до дому? — довольно угрюмо спросил он вдруг. В его голосе теперь звучала жалость к самому себе. — О да! — беспечно ответила Керри. Герствуд пристально посмотрел на нее; замедлив шаг, он поистине сверлил ее взглядом. Волна страсти нахлынула на нее. — А как будет со мной? — спросил Герствуд. Этот вопрос смутил Керри. Она поняла, что наступает решительная минута, но не знала, что отвечать. — Право, не знаю, — сказала она. Герствуд прикусил губу. Он остановился и стал рассеянно водить по траве носком ботинка. Подняв глаза, он с мольбой и нежностью посмотрел на Керри. — Неужели вы не уйдете от него? — взволнованно спросил он. — Не знаю, — ответила Керри, которой казалось, что она бездумно плывет куда-то по воле волн и ей не за что ухватиться. Надо сказать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень, нравился, который имел на нее сильное влияние, — такое сильное, что заставил ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Керри по-прежнему находилась в его власти — его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Друэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжера? Собирается ли он жениться на ней? Даже слушая его, тая от его слов и глядя на него светившимся нежностью взглядом, она не переставала думать о том, говорил ли ему Друэ, что они не женаты? Никогда нельзя предусмотреть, что скажет или сделает Друэ. Однако любовь Герствуда не доставляла ей никаких огорчений. Знал он что-либо или нет, но она никогда не замечала даже тени упрека. Очевидно, он искренен. Страсть его горяча и неподдельна. В его словах чувствовалась сила. Но что же ей делать? Керри не переставала размышлять об этом, не приходя ни к какому определенному решению, наслаждаясь любовью Герствуда и беспомощно барахтаясь во власти потока, уносившего ее в безбрежное море неизвестности. — Почему вы не уходите от него? — с нежностью сказал Герствуд. — Я обеспечу вас так, что… — О, не надо! — прервала она его. — Не надо чего? — спросил он. — Что вы хотите этим сказать, Керри? На ее лице отразились смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то «обеспечении» вне крепкой ограды брака. Герствуд тоже понял, что у него вырвалась чрезвычайно неудачная фраза. Он тщетно пытался взвесить ее последствия, но ничего не мог предугадать. Он продолжал говорить, разгоряченный близостью Керри, и в то же время напряженно обдумывал план действий. — Почему вы не хотите? — снова спросил он, придавая своему голосу особую почтительность. — Ведь вы знаете, что я не могу жить без вас… Вы это знаете… Так больше не может продолжаться… Я думаю, вы и сами это видите. — Да, не может, — согласилась Керри. — Я не стал бы просить вас, если бы… я не стал бы уговаривать вас, если бы я мог побороть себя. Взгляните на меня, Керри! Поставьте себя на мое место! Ведь вы не захотите расставаться со мной, правда? Керри в глубоком раздумье покачала головой. — В таком случае почему бы не покончить с этим раз навсегда? — Не знаю, — тихо произнесла Керри. — Вы не знаете! Ах, Керри, что заставляет вас так говорить! Не мучайте меня! Говорите серьезно. — Я говорю серьезно, — ласково отозвалась Керри. — Нет, этого не может быть, иначе вы бы так не сказали… тем более что вы знаете, как я люблю вас. Вспомните вчерашний вечер. Герствуд произнес последние слова самым спокойным тоном. Он сейчас прекрасно владел собой. Лишь в глазах его заметно было беспокойство, они горели ярким, всепожирающим огнем. В них сосредоточилось все его внутреннее напряжение. Керри все еще молчала. — Как вы можете так относиться к этому, моя радость? — снова начал Герствуд немного спустя. — Ведь вы любите меня, правда? В голосе его слышалась такая бурная страсть, что Керри была ошеломлена. На миг все ее сомнения рассеялись. — Да, — искренне и нежно ответила она. — Тогда уйдем со мной. Хорошо? — горячо заговорил Герствуд. — Сегодня же! Несмотря на всю свою растерянность, Керри отрицательно покачала головой. — Я не могу больше ждать! — настаивал Герствуд. — Если не сегодня, то хотя бы в субботу. — А когда мы обвенчаемся? — робко спросила Керри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Друэ. Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. Но он ничем не выдал тех мыслей, которые с молниеносной быстротой возникли у него в уме. — Когда хотите, — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе. — В субботу? — продолжала Керри. Герствуд кивнул. — Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами, — сказала Керри. Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Его страсть достигла тех пределов, когда человек уже не подчиняется рассудку. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины. Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В ту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там — будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценою отречения от чести и правды. Керри с нежностью посмотрела на него. Все устраивалось как нельзя лучше. Ей хотелось положить голову ему на плечо — все это казалось ей таким счастьем. — Я постараюсь быть готовой к тому времени, — сказала она. Герствуд любовался ее милым личиком, по которому еще пробегали тени боязни и сомнения, и невольно думал при этом, что никогда не видел более очаровательного создания. — Мы еще завтра встретимся и поговорим о наших планах, — весело сказал он. Герствуд шел рядом с ней по дорожке, радуясь тому, что произошло. Говорил он мало, но не из слов слагалась та длинная повесть о его радости и нежности, которую он ей поведал. Только через полчаса он вспомнил, что пора расставаться, так как жизнь неумолимо призывала его к исполнению определенных обязанностей. — До завтра! — сказал он на прощанье, стараясь держаться бодро и непринужденно. — До завтра! — отозвалась Керри и весело пошла прочь. Последний час принес ей бездну блаженства, и она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Она даже вздохнула, вспоминая своего красивого поклонника. Да, она будет готова к субботе, она уйдет с ним, и они будут счастливы!Глава 22
Последняя вспышка.
Семейные неурядицы
Неприятности в семье Герствуда объяснялись тем, что ревность, рожденная любовью, не умерла вместе с нею, а продолжала жить в душе миссис Герствуд и при соответствующих условиях могла в любую минуту обратиться в ненависть. По своим физическим данным Герствуд все еще был достоин той любви, которую жена когда-то питала к нему, хотя в характере его она и разочаровалась. Что касается его, то он перестал быть внимателен к ней, а это для женщины хуже, чем явное прегрешение. Любовь к себе подсказывает нам, как следует расценивать другого человека, что должно в нем считать хорошим и что дурным, и миссис Герствуд начала видеть в равнодушии мужа многое такое, чего на самом деле вовсе не было. Ей чудились какие-то козни в его поступках и словах, которые объяснялись лишь тем, что он утратил к ней интерес. В конце концов она стала злопамятной и подозрительной. Ревность побуждала ее отмечать малейшее невнимание со стороны мужа, по-прежнему блиставшего элегантностью и непринужденностью манер. По тому, с какой тщательностью и вниманием он следил за своей внешностью, легко было понять, что он отнюдь не потерял интереса к жизни. В каждом его движении, в каждом взгляде сквозили отблески той радости, что доставляла ему Керри, а борьба за эту новую радость придала его жизни приятную остроту. И миссис Герствуд почуяла перемену, подобно тому, как зверь издалека чует опасность. Это ощущение усиливалось благодаря поведению Герствуда, натуры прямой и, конечно, более сильной. Мы уже видели, с каким раздражением он уклонялся от обычных возлагаемых на мужа мелких обязанностей, не находя в них теперь ничего приятного, и как в последнее время он начал просто огрызаться в ответ на язвительные замечания жены. Эти мелкие стычки питались тем взаимным недовольством, которым была насыщена домашняя атмосфера. Вполне понятно, что с неба, застланного такими грозными тучами, рано или поздно должен был хлынуть ливень. Однажды утром миссис Герствуд, взбешенная явным и полным равнодушием мужа к ее планам, отправилась из столовой к Джессике, которая сидела у себя в комнате перед зеркалом и лениво расчесывала волосы. Герствуд уже успел уйти из дому. — Я очень просила бы тебя не запаздывать так к завтраку! — сказала миссис Герствуд, усаживаясь в кресло с корзиночкой для шитья в руках. — На столе уже все остыло, а ты еще не ела. Обычно весьма сдержанная, миссис Герствуд была сильно возбуждена, и Джессике суждено было ощутить на себе последние порывы шторма. — Я не голодна, мама, — спокойно ответила она. — В таком случае ты могла бы раньше сказать об этом! — отрезала миссис Герствуд. — Горничная убрала бы со стола вместо того, чтобы ждать тебя все утро! — Она на меня не сердится, — сухо бросила Джессика. — Зато я сержусь! — повысила голос мать. — И вообще мне не нравится твоя манера разговаривать со мной! Ты еще слишком молода, чтобы говорить с матерью таким тоном! — О мама, ради бога, не кричи, — сказала Джессика. — Что с тобой сегодня? — Ничего! И я вовсе не кричу. А ты не думай, что если я иной раз потакаю тебе, то тебя все обязаны ждать! Я этого не допущу! — Я никого не заставляю ждать! — резко ответила Джессика, переходя от пренебрежительного равнодушия к энергичной самозащите. — Я же сказала — я не голодна и не желаю завтракать. — Не забывай, с кем ты разговариваешь! — в бешенстве крикнула миссис Герствуд. — Я не потерплю такого тона, слышишь? Не потерплю! Последние слова донеслись до Джессики уже издалека, так как она тут же вышла из комнаты, шурша юбками, гордо откинув голову и всем своим видом показывая, что она человек независимый и ей нет никакого дела до настроения матери. Спорить с ней дочь не желала. В последнее время такие размолвки участились. Они были неизбежны при совместной жизни слишком эгоистичных и самоуверенных натур. Сын проявлял еще большую щепетильность в вопросах личной независимости и старался на каждом шагу показать, что он взрослый мужчина, а это, конечно, было в высшей степени необоснованно и глупо, так как ему шел лишь двадцатый год. Герствуд привык к общему уважению, и его, человека довольно тонкого, очень раздражало, что он окружен людьми, для которых его авторитет перестал существовать и которых он с каждым днем понимал все меньше и меньше. И теперь, когда стали возникать всякие мелкие недоразумения, вроде размолвки, например, которая произошла из-за желания миссис Герствуд выехать в Вокишу пораньше, он яснее осознал свое положение. Теперь уже не он руководил, а им руководили, и когда к тому же он то и дело сталкивался со вспышками раздражения, когда он видел, что на каждом шагу стараются умалить его авторитет и вдобавок награждают его моральными пинками — пренебрежительной усмешкой или ироническим смехом, — тогда он тоже переставал владеть собой. Его охватывал с трудом сдерживаемый гнев, и он мечтал развязаться со своим домом, который казался ему раздражающей помехой на пути его желаний и планов. Но несмотря на все, он сохранял видимость главенства и контроля, хотя жена всячески старалась бунтовать. Впрочем, миссис Герствуд устраивала сцены и открыто восставала против мужа лишь потому, что считала это своим правом. У нее не было никаких фактов, которыми она могла бы оправдать свои поступки, никаких точных сведений, которые она могла бы использовать как козырь против мужа. Недоставало лишь явного, неопровержимого доказательства, холодного дуновения, чтобы нависшие тучи подозрений разразились ливнем безудержного гнева. Однако вскоре миссис Герствуд случайно напала на след тайных похождений мужа. Доктор Биэл, красивый мужчина, живший по соседству с Герствудами, встретил миссис Герствуд у ее дома спустя несколько дней после того, как управляющий баром катался с Керри в экипаже по бульвару Вашингтона. Доктор Биэл, случайно проезжавший той же дорогой, узнал Герствуда, лишь когда они уже разъехались в разные стороны. Что же касается Керри, то он не разглядел ее и думал, что это жена Герствуда или его дочь. — Вы что же, перестали здороваться со знакомыми, когда встречаете их на прогулке? — шутливо обратился он к миссис Герствуд. — Если я их замечаю, то здороваюсь, — ответила миссис Герствуд. — Где же вы меня видели? — На бульваре Вашингтона, — произнес доктор Биэл. Он ожидал, что в ее глазах мелькнет воспоминание. Но она лишь покачала головой. — Около Гойн-авеню, — пытался напомнить ей доктор. — Вы были с мужем. — Мне кажется, что вы ошиблись, — ответила миссис Герствуд. Но когда он упомянул о ее муже, у нее сразу зародились подозрения, которые она, впрочем, ничем не выдала. — Я уверен, что видел вашего мужа, — продолжал доктор. — Но, возможно, это были не вы, а ваша дочь. Тут я не совсем уверен. — Вполне возможно, что это была она, — поспешила согласиться миссис Герствуд, отлично зная, что такого случая не было: Джессика уже несколько недель никуда не выезжала без нее. Миссис Герствуд успела настолько овладеть собой, что тут же попыталась выведать какие-нибудь подробности. — Когда же это было? Днем? — спросила она, искусно разыгрывая равнодушие и делая вид, будто кое-что знает об этом. — Да, часа в два или три. — В таком случае это была Джессика, — сказала миссис Герствуд, не желая показывать, что придает какое-либо значение этому инциденту. Доктор Биэл, со своей стороны, тоже сделал кое-какие выводы, но прекратил разговор, считая, что продолжать его не стоит. А миссис Герствуд в течение нескольких часов и даже дней ломала голову над полученными сведениями. Она нисколько не сомневалась, что доктор Биэл в самом деле встретил ее мужа, который с кем-то катался в экипаже по бульвару, — по-видимому, с посторонней женщиной. А своей жене между тем он говорил, что страшно занят. Миссис Герствуд с нарастающим гневом принялась вспоминать, сколько раз муж отказывался сопровождать ее в гости или участвовать в тех или иных развлечениях, разнообразивших ее жизнь. Его видели в театре с какими-то людьми, которые, по его словам, были друзьями владельцев бара. Теперь его видели, когда он катался по бульвару с какой-то женщиной, и, надо полагать, у него и для этого готово какое-нибудь объяснение! Возможно даже, что были и другие женщины, о которых она не слыхала, иначе чем же объяснить, что он в последнее время все отговаривается делами и проявляет такое равнодушие к событиям семейной жизни? За последние несколько недель он стал страшно раздражителен и все время норовит куда-нибудь уйти, нисколько не интересуясь, все ли благополучно дома. В чем же дело? Миссис Герствуд вспомнила также — и немало была взволнована этой мыслью, — что Герствуд больше не смотрел на нее так, как бывало раньше, и в его взгляде уже не бывало удовлетворения или одобрения. Очевидно, помимо всего прочего, он находил, что она стареет и становится неинтересной. Быть может, он стал замечать ее морщинки. Она увядает с каждым днем, между тем как он сохранил еще всю элегантность и молодость. Он по-прежнему остался душой общества во всевозможных развлечениях, а она… Миссис Герствуд больше не хотела думать об этом. Она только сознавала, что находится в весьма печальном положении, и потому еще больше ненавидела мужа. Инцидент с доктором Биэлом не повлек за собой пока никаких последствий, так как миссис Герствуд не имела никаких доказательств, которые дали бы повод завести разговор с мужем. Но атмосфера недоверия и взаимной неприязни все сгущалась и время от времени порождала легкие шквалы раздражения и вспышки гнева. Вопрос о поездке на курорт Вокиша был лишь звеном в длинной цепи подобных столкновений. На следующий день после выступления Керри в клубе общества Лосей миссис Герствуд и Джессика поехали на бега с молодым Тэйлором, сыном крупного поставщика мебели. Они выехали рано и случайно повстречали знакомых Герствуда, тоже «Лосей», двое из которых присутствовали накануне на спектакле. Не будь Джессика так увлечена своим молодым спутником, вопрос о спектакле, возможно, вовсе не был бы поднят. Но так как юный Тэйлор не обращал никакого внимания на миссис Герствуд, последняя вынуждена была вступить в короткий разговор с раскланивавшимися с нею знакомыми, а короткий разговор превратился в длинный, и она услышала весьма интересную новость. — Жаль, что вас не было вчера на нашем маленьком спектакле, — сказал джентльмен в красивом спортивном костюме и с биноклем через плечо. — Очень жаль! Миссис Герствуд в недоумении уставилась на него. О чем он говорит? Она не была на каком-то спектакле? На спектакле, о котором она даже не слыхала! С ее уст чуть было не сорвалось: «А что там было?» — но тут ее собеседник добавил: — Вашего мужа я там видел. Недоумения как не бывало, — ее охватили жгучие подозрения. — Да, — осторожно сказала она. — И что же, было интересно? Муж лишь вкратце рассказал мне об этом. — Очень интересно! Один из лучших любительских спектаклей, на которых я когда-либо присутствовал. Там выступала одна артистка, которая нас всех поразила. — Вот как! — произнесла миссис Герствуд. — Да, жаль, что вы не могли прийти. Я был огорчен, когда узнал, что вы плохо себя чувствуете. «Плохо себя чувствую!» Миссис Герствуд была так ошеломлена, что чуть не повторила эти слова вслух. Она с трудом подавила желание опровергнуть ложь и расспросить собеседника и почти проскрежетала: — Да, мне тоже очень жаль. — По-видимому, сегодня на бегах будет много народу, — продолжал человек с биноклем, переводя разговор на другую тему. Жена управляющего баром очень хотела бы продолжить расспросы, но ей больше не представилось удобного случая. Миссис Герствуд совсем растерялась. Ей хотелось все как следует обдумать, она не могла понять, что заставило мужа объявить ее больной, когда она была совершенно здорова. Вот-еще одно доказательство, что ее общество нежелательно Герствуду и он придумывает всевозможные причины для объяснения ее отсутствия. Она твердо решила подробнее разузнать об этом деле. — Вы были вчера на спектакле? — спросила она одного из друзей Герствуда, который подошел поздороваться с нею, когда она уже сидела в ложе. — Да, — ответил тот. — Очень жаль, что вас не было. — Я себя неважно чувствовала, — пояснила миссис Герствуд. — Да, ваш муж говорил мне. Очень интересный спектакль. Играли гораздо лучше, чем я ожидал. — Было много народу? — Полным-полно! — воскликнул собеседник. — Настоящее празднество «Лосей». Я видел многих из наших общих знакомых. Миссис Гаррисон, миссис Барнс, миссис Коллинс. — Весь цвет общества. — Совершенно верно. Моя жена получила большое удовольствие. Миссис Герствуд прикусила губу. «Вот оно что! — подумала она. — Так-то он поступает. Рассказывает друзьям, что я больна и не могу прийти». Миссис Герствуд задумалась. Что могло побудить ее мужа пойти без нее? Тут что-то неладно. Она тщетно ломала голову над этой загадкой. Вечером, когда Герствуд вернулся домой, она была в том мрачном состоянии, когда хочется лишь одного — допытаться и мстить. Она во что бы то ни стало решила узнать, что означает его странное поведение. Миссис Герствуд была убеждена, что за всем этим таится гораздо больше, чем она слышала. К недоверию и злости, еще не утихшей в ней после утренней ссоры, прибавилось ядовитое любопытство. Олицетворением надвигающейся катастрофы ходила она по дому, с глазами, обведенными темными тенями, и гневной складкой у жесткого рта. А Герствуд, что вполне понятно, пришел домой в самом радужном настроении. Под впечатлением свидания с Керри и ее согласия он готов был петь от радости. Он гордился собою, гордился своим успехом, гордился своей Керри. Он готов был обнять весь мир и в эту минуту не испытывал ни малейшей неприязни к жене. Ему хотелось быть добрым, забыть о ее присутствии и жить в атмосфере вновь возвращенной молодости и радости. Поэтому дом показался в этот вечер Герствуду каким-то особенно светлым и приятным. В передней он нашел вечернюю газету, — горничная положила ее на место, а жена забыла ее взять. В, столовой сверкал покрытый белоснежной скатертью стол, уставленный фарфором и хрусталем. Через открытую дверь Герствуд заглянул на кухню, где в плите трещал огонь и готовился ужин. На маленьком дворике Джордж-младший возился с щенком, которого он недавно приобрел. Джессика играла на рояле в гостиной, и звуки веселого вальса отдавались в каждом уголке комфортабельной квартиры. Герствуду казалось, что все обитатели дома, как и он сам, в хорошем настроении, что все склонны радоваться и веселиться. Ему хотелось сказать каждому что-нибудь приятное. Он с удовольствием оглядел накрытый стол и полированную мебель, затем поднялся в гостиную, чтобы сесть в удобное кресло у открытого окна и просмотреть газету. В гостиной он застал миссис Герствуд, которая поправляла прическу и, видимо, была всецело поглощена своими думами. Герствуд хотел загладить то неприятное впечатление, которое, возможно, осталось у его жены после утренней ссоры, и ждал лишь случая, чтобы сказать несколько ласковых слов или же дать согласие на то, что от него потребуют. Но миссис Герствуд упорно молчала. Ее муж сел в большое кресло, устроился поудобнее, развернул газету и приступил к чтению. Через несколько секунд он уже улыбался, увлекшись забавным описанием бейсбольного матча между командами Чикаго и Детройта. А пока он читал, миссис Герствуд украдкой наблюдала за ним в висевшем напротив зеркале. Она заметила благодушное настроение мужа, его веселую улыбку, и это вызвало в ней еще большее раздражение. Как он смеет вести себя так в ее присутствии после такого циничного равнодушия и пренебрежения, с каким он относился к ней и будет относиться до тех пор, пока она станет это терпеть! Она заранее предвкушала удовольствие, думая о том, как она выложит ему все, что накопилось у нее на душе, как будет отчеканивать каждое слово своего обвинительного акта, как будет бичевать виновного, пока не получит полного удовлетворения! Сверкающий меч ее гнева висел на волоске над головой мужа. А он тем временем наткнулся на потешную заметку об одном иностранце, который прибыл в город и попал в какую-то историю в игорном притоне. Это развеселило Герствуда, и, повернувшись в кресле, он рассмеялся. Ему очень хотелось как-то привлечь внимание жены, чтобы прочесть ей заметку. — Ха-ха-ха! Вот это здорово! — воскликнул он. Но миссис Герствуд продолжала приглаживать волосы и не обращала на мужа ни малейшего внимания. Герствуд переменил позу и стал читать дальше. Наконец он почувствовал, что должен что-то сказать или сделать, как-то излить свое хорошее настроение. Джулия, очевидно, еще не в духе из-за утренней размолвки. Ну, это легко уладить. Конечно, она не права, но это несущественно. Пусть себе едет в Вокишу хоть сейчас, если ей так хочется, и чем скорее — тем лучше. Он так и скажет ей при первом же удобном случае, и все пройдет. — Ты обратила внимание, — начал он, пробежав другую заметку в газете, — против железной дороги «Иллинойс-Сентрал» начат процесс: хотят заставить ее очистить набережную. Ты читала, Джулия? Миссис Герствуд стоило большого труда ответить. — Нет, — резким тоном произнесла она. Герствуд насторожился. В голосе жены ему послышалась какая-то опасная нотка. — Давно пора! — продолжал он, обращаясь больше к самому себе, нежели к жене, ибо в ее поведении ему почудилось что-то неладное. Он снова взялся за чтение, в то же время прислушиваясь к малейшему звуку в комнате и стараясь угадать, что будет дальше. По правде говоря, человек, столь умный, наблюдательный и чуткий, как Герствуд, не стал бы вести себя подобным образом с раздраженной женой, не будь он всецело поглощен другими мыслями. Если бы не Керри, если бы не его восторженное состояние от ее согласия, он не видел бы свой дом в таком приятном свете. Вовсе не дышал его дом в этот вечер уютом и весельем. Просто Герствуд глубоко заблуждался, и ему гораздо легче было бы бороться с надвигавшейся грозой, вернись он домой в обычном настроении. Почитав еще несколько минут, Герствуд решил, что надо так или иначе сдвинуть дело с мертвой точки. Жена, по-видимому, не намерена так легко идти на мировую. Поэтому он сделал первый шаг. — Откуда у Джорджа взялся этот пес, с которым он играет во дворе? — спросил он. — Не знаю, — отрезала миссис Герствуд. Герствуд опустил газету на колени и стал рассеянно глядеть в окно. «Не надо выходить из себя, — мысленно решил он. — Нужно быть настойчивым и любезным и как-нибудь подипломатичнее наладить отношения». — Ты все еще сердишься из-за того, что произошло утром? — сказал он наконец. — Не стоит из-за этого ссориться. Ты можешь поехать в Вокишу, когда тебе будет угодно. Миссис Герствуд круто повернулась к нему. — Чтобы ты мог остаться здесь и кое за кем увиваться, не так ли? — со злобой выпалила она. Герствуд оцепенел, словно получив пощечину. Все его примирительное настроение мигом испарилось, и он занял оборонительную позицию, подыскивая слова для ответа. — Что ты хочешь этим сказать? — произнес он, наконец, выпрямляясь и пристально глядя на преисполненную холодной решимости жену. Но миссис Герствуд, как будто ничего не замечая, продолжала приводить себя в порядок перед зеркалом. — Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать, — ответила она таким тоном, точно у нее был в запасе целый ворох доказательств, которые она пока еще не считала нужным приводить. — Представь себе, что не знаю, — упрямо стоял на своем Герствуд, насторожившись и нервничая. Решительный тон жены лишил его чувства превосходства в этой битве. Миссис Герствуд ничего не ответила. — Гм! — пробормотал Герствуд, склоняя голову набок. Это беспомощное движение только показало его неуверенность в себе. Жена повернулась к нему, точно разъяренный зверь, готовясь нанести решительный удар. — Я требую денег на поездку в Вокишу завтра же утром! — заявила она. Герствуд в изумлении смотрел на нее. Никогда еще не видел он в глазах жены такой холодной, стальной решимости, такого жестокого равнодушия к нему. Она отлично владела собой и, по-видимому, твердо решила вырвать власть в доме из его рук. Герствуд почувствовал, что у него не хватит сил для обороны. Он должен немедленно перейти в атаку. — Что это значит? — воскликнул он, вскакивая. — Ты требуешь?! Что с тобой сегодня? — Ничего! — вспыхнула миссис Герствуд. — Я желаю получить деньги. Можешь потом распускать хвост перед кем хочешь. — Это еще что такое?! Ничего ты от меня не получишь! Изволь объяснить, что значат твои намеки? — Где ты был вчера вечером? — выкрикнула миссис Герствуд, и слова ее, точно горячая лава, полились на голову Герствуда. — С кем ты катался по бульвару Вашингтона? С кем ты был в театре, когда Джордж видел тебя в ложе? Что же, ты думаешь, я дура? Меня можно водить за нос? Уж не полагаешь ли ты, что я по целым дням буду сидеть дома и мириться с твоим «я занят» и «мне некогда», в то время как ты веселишься и рассказываешь всем, будто я нездорова и не выхожу из дому? Так позволь тебе вот что сказать: довольно с меня дипломатических разговоров! Я не позволю тебе тиранить меня и детей. У меня с тобой счеты покончены раз навсегда! — Все это ложь! — крикнул Герствуд. Он был загнан в тупик и не знал, что сказать. — Ложь, да? — в бешенстве повторила миссис Герствуд, но тотчас же несколько овладела собой. — Можешь называть это ложью, если тебе угодно, но я знаю, что это правда! — А я говорю — ложь! — глухим и хриплым голосом огрызнулся муж. — Ты, видно, месяцами рыскала по городу в поисках гнусных сплетен и теперь воображаешь, что поймала меня. Хочешь пустить в ход подобную выдумку и таким способом забрать меня в руки? Но я тебе говорю, что этого не будет! Пока я нахожусь в этом доме, я здесь хозяин. Поняла? И я не позволю собой командовать. Он медленно надвигался на жену; в глазах его горел зловещий огонь. В этой женщине было что-то до того бездушное, наглое и заносчивое, такая уверенность в конечной победе, что Герствуд на миг ощутил желание задушить ее. А миссис Герствуд смотрела на него в упор холодным, саркастическим взглядом, словно удав на свою жертву. — Я не командую тобой, — ответила она. — Я говорю тебе, чего я хочу. Эти слова были произнесены таким ледяным тоном, с такой заносчивостью, что Герствуд опешил. Он был не в силах перейти в наступление и требовать у нее доказательств. Он чутьем догадывался, что доказательства у нее есть, что закон будет на ее стороне, вдобавок враждебный взгляд жены напомнил ему о том, что все его состояние переписано на ее имя. В эту минуту Герствуд напоминал могучий и грозный корабль, лишившийся парусов и отданный во власть волн. — А я тебе говорю, — сказал он, овладев собой, — что ты этого не добьешься! — Ну, это мы еще посмотрим! — произнесла миссис Герствуд. — Я выясню свои права. Если ты не хочешь говорить со мной, то, может быть, поговоришь с моим адвокатом. Миссис Герствуд великолепно играла свою роль, и ее слова оказали свое действие. Герствуд чувствовал, что потерпел полное поражение. Он понял, что имеет дело отнюдь не с пустой похвальбой. Ему стало ясно, что он попал в чрезвычайно сложную ситуацию. Он не знал, как продолжать разговор. Вся сегодняшняя радость исчезла. Герствуд был встревожен, озлоблен и глубоко несчастлив. Что же теперь делать? — Поступай, как тебе угодно, — сказал он наконец. — Я не желаю иметь с тобой ничего общего. И с этими словами он вышел из комнаты.Глава 23
Душевные муки.
Еще одна ступень позади
К тому времени, когда Керри добралась домой, ее снова стали терзать сомнения и опасения, всегда возникающие при недостатке решимости. Она никак не могла убедить себя, что поступила правильно, дав Герствуду обещание, и не знала, должна ли теперь сдержать свое слово. В его отсутствие она перебрала в уме все случившееся и обнаружила много таких препятствий, которые раньше, во время пылких объяснений Герствуда, не приходили ей в голову. Сейчас она сообразила, в какое двусмысленное положение поставила себя, согласившись выйти замуж за Герствуда, хотя он должен был считать ее замужней женщиной. Вспомнила она и многое из того, что сделал для нее в свое время молодой коммивояжер, и подумала, что с ее стороны было бы очень некрасиво уйти от него, не сказав ни слова. А кроме того, что будет дальше? Сейчас она живет в уюте и комфорте, а это весьма убедительный аргумент для человека, который боится жизни. «Ведь ты не знаешь, что тебя ждет, — шептал ей внутренний голос. — На свете много бедствий. За стенами этого дома много несчастных женщин. Там люди ходят, протягивая руку за куском хлеба. Никогда нельзя знать, что случится с тобою. Вспомни-ка время, когда ты, голодая, бродила по городу. Не упускай того, что у тебя есть!» Как ни странно, но, несмотря на чувства, которые Керри питала к Герствуду, ему не удалось подчинить ее себе. Она слушала, улыбалась, одобряла его намерения и все же окончательно не соглашалась. Очевидно, Герствуду не хватало силы воли, а страсти его — той мощи, которая отметает в сторону разум, разбивает вдребезги все теории и доводы и на время отнимает всякую способность логического мышления. Почти каждому мужчине дано раз в жизни зажечься такой могучей страстью, но обычно это бывает лишь в молодости, и тогда возникает счастливый союз. Герствуд, человек уже зрелый, не сохранил огня юности, хотя и был сейчас охвачен пылкой, безрассудной страстью. Эта страсть была достаточно сильна, чтобы вызвать в Керри влечение к нему, пожалуй, даже чтобы заставить ее вообразить, будто она любит его. Такое нередко случается с женщинами, и причиной тому служит их склонность к любви и жажда сознавать, что они любимы. Желание быть под надежной защитой, стать предметом нежных забот, встречать во всем сочувствие — неотъемлемая черта женского характера. А если к этому примешивается еще природная эмоциональность, то женщине бывает трудно отказать мужчине, и поэтому ей кажется, что она влюблена. Вернувшись домой, Керри переоделась и стала приводить в порядок комнату, так как уборка, которую производила горничная, не удовлетворяла ее. Особенно манера горничной расставлять мебель. Например, она неизменно задвигала в угол комнаты качалку, которую Керри любила ставить у окна. Сегодня она, поглощенная своими мыслями, не сразу заметила, что качалка не на своем месте. Часов около пяти пришел Друэ. Он был в весьма возбужденном состоянии. Твердо решив узнать правду об отношениях между Керри и Герствудом, Друэ весь день ломал над этой загадкой голову и потому чувствовал себя усталым и хотел поскорей покончить с ней. Он не предвидел каких-либо серьезных осложнений, но все-таки не решался начать разговор. Керри, утомленная собственными раздумьями, сидела у окна и, покачиваясь в качалке, глядела на улицу. — Что ты сегодня так мечешься? — невинным тоном спросила она, удивленная торопливыми движениями и плохо скрываемым волнением Друэ. Друэ все еще колебался. Сейчас, в присутствии Керри, он не мог решить, как ему держать себя. Он не был дипломатом. Он не умел читать чужие мысли и вообще не был наблюдателен. — Когда ты пришла домой? — с глупым видом спросил он. — С час назад, — ответила Керри. — А почему ты спрашиваешь? — Мне пришлось вернуться утром, и я не застал тебя, — продолжал Друэ. — Значит, ты куда-то уходила. — Да, я вышла погулять, — просто ответила Керри. Друэ смотрел на нее рассеянно. Несмотря на то, что самолюбие его в подобных случаях обычно молчало, он все же не решался начать разговор. Однако он так пристально глядел на Керри, что та, наконец, не выдержала. — Почему ты так уставился на меня? — спросила она. — Что случилось? — Ничего, — ответил Друэ. — Я только думал… — Что ты думал? — с улыбкой спросила она, удивленная его странным поведением. — Нет, ничего, ничего особенного. — Почему же ты так странно смотришь на меня? — снова спросила она. Друэ стоял у туалетного столика, и вид у него был очень комичный. Он повесил шляпу, положил перчатки и теперь перебирал всевозможные вещицы на туалете, не зная, как начать разговор. Ему не хотелось верить, что эта красивая женщина замешана в столь неприятной для него истории. Он склонен был думать, что в конце концов ничего плохого не произошло. И все же в голове у него крепко засели слова горничной. Ему хотелось начать разговор без обиняков, но он не знал, как это сделать. — Куда же ты ходила утром? — нерешительно спросил он. — Я уже говорила тебе, что вышла погулять, — ответила Керри. — Это правда? — Ну, конечно, правда! А почему ты спрашиваешь? Керри стала догадываться, что Друэ кое-что знает. Она внутренне насторожилась, и щеки ее слегка побледнели. — Я думал, что это, может быть, и не так, — произнес Друэ, которому никак не удавалось хотя бы на йоту продвинуться к цели. Керри глядела на него, и постепенно к ней возвращалась смелость, которая на время совсем было покинула ее. Она видела, что Друэ в затруднении, и чисто женской интуицией поняла, что оснований для особой тревоги нет. — Почему ты так разговариваешь со мной? — спросила она, наморщив хорошенький лобик. — Ты так смешно ведешь себя сегодня! — Я и чувствую себя в смешном положении, — отозвался он. Секунду они молча смотрели друг другу в глаза. Наконец Друэ набрался храбрости и сделал решительный шаг. — Что у тебя с Герствудом, хотел бы я знать? — спросил он. — У меня с Герствудом? — спросила Керри. — Что ты хочешь этим сказать? — А разве он не приходил сюда без конца, когда меня не было в городе? — Без конца?! — дрогнувшим голосом повторила Керри. — Нет, я тебя совершенно не понимаю. — Мне сказали, что ты с ним ездила кататься, что он приходил сюда каждый вечер. — Ничего подобного! — воскликнула Керри. — Это неправда! Кто тебе это сказал? Она покраснела до корней волос, но сумерки мешали разглядеть ее лицо. Видя, что Керри только отпирается, он вновь обрел уверенность. — Не все ли равно кто, — заявил он. — Правда ли, что этого не было? — Разумеется! — ответила она. — Ты же знаешь, сколько раз он был здесь. Друэ снова задумался. — Я знаю только то, что ты мне говорила, — ответил он наконец. Он нервно зашагал по комнате, а Керри в смятении следила за ним. — Но я тебе не говорила ничего подобного, — сказала она, немного овладев собой. — На твоем месте, — продолжал Друэ, оставляя без внимания ее последние слова, — на твоем месте я не стал бы связываться с ним. Ведь он женат. — Кто… кто женат? — запинаясь, переспросила Керри. — Как кто? Герствуд, конечно, — ответил Друэ. От него не укрылось то впечатление, которое произвели его слова. — Герствуд!.. — воскликнула, вскакивая, Керри. Она то краснела, то бледнела. Ошеломленная, она не в состоянии была разобраться в том, что происходит у нее в душе; комната ходуном ходила перед ее глазами. — Кто тебе сказал, что он женат? — спросила Керри, совсем забывая о том, что выдает себя, проявляя к этому такой интерес. — Да я сам знаю, — ответил Друэ. — Мне это очень давно известно. Керри тщетно пыталась собраться с мыслями. Вид у нее был жалкий и растерянный, но вместе с тем в душе ее шевелились чувства, ничего общего не имеющие с гибельной трусостью. — Мне казалось, я говорил тебе об этом, — добавил Друэ. — Нет, ты мне ничего подобного не говорил! — возразила Керри, вновь обретая дар речи. — Ты ничего подобного не говорил! — еще раз повторила она. Друэ в изумлении слушал ее. Это было что-то новое. — А мне казалось, я говорил, — сказал он. Керри угрюмо обвела глазами комнату и подошла к окну. — Ты не должна была заводить с ним шашни после всего, что я для тебя сделал, — обиженным тоном произнес Друэ. — Ты? — воскликнула Керри. — Ты?! А что ты такое для меня сделал? В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства. И стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друэ, сделавшего ее посмешищем в собственных глазах. Одно было ясно: во всем виноват Друэ. В этом не могло быть никакого сомнения. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Но не о Герствуде и о его вероломстве надо сейчас думать, — а вот почему Друэ так поступил с нею? Почему он вовремя не предостерег ее? И теперь он, обманувший ее доверие, смеет еще стоять перед ней и говорить о том, что он для нее сделал! — Вот это мне нравится! — воскликнул Друэ, далеко не отдавая себе отчета в том, какую бурю вызвали его слова в душе Керри. — По-моему, я очень многое для тебя сделал. — По-твоему? Вот как? — отозвалась Керри. — Ты обманул меня — вот что ты сделал. Ты приводишь сюда своих приятелей и выставляешь их передо мной в ложном свете. А меня выдаешь за… О! Голос Керри сорвался, и она трагическим жестом сжала руки. — Но все-таки я не вижу, какая между всем этим связь? — сказал Друэ, окончательно растерявшись. — Ты не видишь? — сказала Керри, овладев собой и крепко стиснув зубы. — Конечно, ты не видишь! — продолжала она. — Ты вообще ничего не видишь. Ты не мог вовремя предупредить меня, да? Ты молчал до тех пор, пока не стало поздно. А теперь ты еще шпионишь за мной, собираешь сплетни и еще говоришь, что ты для меня много сделал! Друэ и не подозревал, что Керри способна на подобные вспышки. Она пылала от негодования, глаза ее метали искры, губы дрожали, и все тело трепетало от обиды, которая, по ее мнению, была ей нанесена. — Кто за тобой шпионит? — пробормотал Друэ; он смутно сознавал, что виноват, но в то же время был вполне уверен, что с ним поступили очень нехорошо. — Ты! — бросила ему в ответ Керри. — Ты отвратительный, самовлюбленный трус, вот ты кто! Будь в тебе хоть что-то от настоящего мужчины, тебе бы и в голову не пришло так поступать! Друэ даже рот раскрыл от изумления. — Я не трус! — ответил он. — И я желаю знать, почему ты шляешься по городу с другими мужчинами. — С другими мужчинами! — воскликнула Керри. — С другими мужчинами! Ты прекрасно знаешь, с каким мужчиной! Я часто выходила с мистером Герствудом, но кто в этом виноват? Разве не ты привел его сюда? Разве не ты предлагал ему навещать и развлекать меня, когда ты уезжаешь? А теперь, после всего этого, ты приходишь и заявляешь, что я не должна выходить с ним, что он женатый человек! Произнеся последние два слова, Керри внезапно прервала свою речь и снова заломила руки. Мысль о коварстве Герствуда ранила ее, как острый нож. — О!.. — всхлипнула она, но прекрасно справилась с собой и не пролила ни слезинки. — Вот уж не думал, что ты начнешь шляться с ним, когда меня нет в городе! — сказал Друэ. — Ты не думал! — язвительным тоном повторила Керри, до глубины души возмущенная поведением этого человека. — Конечно, ты не думал! Ты ни о чем другом, кроме своего удовольствия, не думал. Ты полагал, что тебе удастся сделать из меня игрушку, что я буду для тебя приятной забавой! Так вот я тебе докажу, что этого не будет! С этой минуты я не желаю иметь с тобой ничего общего! Можешь получить назад свои дрянные подарки и хранить их на память! Сорвав с груди маленькую брошку, Керри с силой швырнула ее на пол и забегала по комнатам, собирая кое-какие вещицы, которые принадлежали ей. Друэ, несмотря на свою злость, смотрел на Керри, как зачарованный. — Не пойму, почему ты бесишься? — наконец, сказал он изумленно. — Вся правда на моей стороне, а уж никак не на твоей! Ты не должна была так некрасиво вести себя после всего, что я для тебя сделал! — А что такое ты сделал для меня? — пылая гневом, спросила Керри. Она гордо откинула голову и чуть приоткрыла губы. — По-моему, я сделал совсем не мало, — ответил Друэ, многозначительно обводя глазами комнату. — Разве я не покупал тебе все, что только тебе хотелось? Разве я не водил тебя повсюду, куда только тебе хотелось пойти? Ты получала столько же удовольствий, сколько и я, пожалуй, даже больше. Можно было сказать про Керри что угодно, но неблагодарной она не была. По ее понятиям за полученные блага она платила достаточной признательностью. Она не нашлась, как ответить Друэ, однако ее гнев далеко не утих. Ей казалось, что коммивояжер нанес ей непоправимую обиду. — Разве я тебя об этом просила? — сказала она. — Во всяком случае, я давал, а ты принимала, — парировал Друэ. — Можно подумать, что я тебя уговаривала! — воскликнула Керри. — Чего ты вздумал хвалиться тем, что ты для меня сделал? Наряды твои мне не нужны! Я их не стану больше надевать! Можешь хоть сегодня получить их и делать с ними все, что угодно! Я ни одной минуты больше не останусь здесь! — Это мне нравится! — воскликнул в свою очередь Друэ, обозленный предчувствием грозящей утраты. — Использовать меня, а потом оскорбить и уйти! Что ж, это очень по-женски. Я приютил тебя, когда у тебя ничего за душой не было, а теперь вдруг является другой, и я уже нехорош! Впрочем, я всегда думал, что этим рано или поздно кончится. Он был глубоко уязвлен тем, как отнеслась к нему Керри, и сознанием, что ему уже не удастся добиться справедливости. — И вовсе это не так, — сказала Керри. — Ни к кому я не ухожу. А ты вел себя грубо, гадко и эгоистично, как, впрочем, и следовало ожидать! Я тебя ненавижу, слышишь, ненавижу, и ни одной минуты больше не останусь с тобой! Ты просто подлый… Керри запнулась и не добавила слова, которое готово было сорваться с ее губ. — Иначе ты не посмел бы так говорить! — закончила она. Керри взяла шляпу, накинула жакет на скромное вечернее платье, поправила волнистые пряди, выбившиеся из прически на разгоряченные щеки. Она была озлоблена, раздавлена горем, уничтожена. В ее больших глазах стояли слезы, но веки были сухими. Она рассеянно и неуверенно двигалась по комнате, бесцельно перекладывая вещи с места на место, принимая какие-то смутные решения и совсем не представляя себе, во что выльется их ссора. — Хорош конец, что и говорить! — сказал Друэ. — Уложила вещи — и адью, не так ли? Право, тебе следует за это выдать приз! Уж конечно, ты сошлась с Герствудом — не то вела бы себя иначе. Мне эти комнатенки не нужны, можешь не выезжать из-за меня. Оставайся здесь — мне все равно. Но, черт возьми, ты со мной скверно поступила! — Я не стану жить с тобой, — спокойно сказала Керри. — Я не хочу жить с тобой. Ничего, кроме бахвальства, я от тебя не слыхала за все время, что мы были вместе. — Вот уж ничего подобного, — возразил Друэ. Керри направилась к двери. — Куда ты? — крикнул Друэ. Он сорвался с места и загородил ей дорогу. — Дай мне пройти! — Куда ты? — повторил он. Друэ был человек мягкосердечный, и, несмотря на горечь обиды, ему стало жаль Керри, уходившую неизвестно куда. Керри, ничего не ответив, дергала ручку двери. Однако напряженность этого разговора оказалась ей не под силу. Она сделала еще одну тщетную попытку открыть дверь и вдруг разрыдалась. — Будь же благоразумна, Кэд, — ласково сказал Друэ. — Зачем тебе убегать отсюда? Тебе же некуда идти. Оставайся здесь и успокойся. Я не стану беспокоить тебя, я и сам не хочу здесь больше оставаться. Керри, всхлипывая, отошла от двери к окну. Она была так измучена, что не могла произнести ни слова. — Будь же благоразумна, — повторил Друэ. — Я вовсе не намерен удерживать тебя силой. Если уж тебе так хочется, можешь уйти, но прежде обдумай все хорошенько. Бог видит, я тебе препятствовать не стану. Ответа не последовало, но мало-помалу, под действием его теплых слов, Керри стала успокаиваться. — Оставайся здесь, а я уйду, — сказал наконец Друэ. Керри слушала его с самыми разноречивыми чувствами. Мысли ее точно шквалом отнесло от маленького причала логики, которой все же не был лишен ее разум. Ее тревожило одно, сердило другое, она терзалась собственной несправедливостью, и несправедливостью Герствуда и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Все это вместе превратило ее в клубок трепещущих нервов, в потерявшее якорь, исхлестанное штормом утлое суденышко, способное лишь беспомощно нестись по волнам. — Послушай, Керри! — сказал вдруг Друэ, которого, видимо, осенила какая-то новая мысль. — Не трогай меня! — прошептала Керри, отшатываясь, но не отнимая платка от заплаканных глаз. — Не огорчайся из-за нашей ссоры, Керри, ну ее! — снова начал Друэ. — Оставайся здесь до конца месяца, а тем временем ты решишь, как быть дальше. Ладно? Керри не отвечала. — Право, так будет лучше, — продолжал Друэ. — Какой смысл сейчас укладываться? Тебе же некуда идти! Его слова по-прежнему остались без ответа. — Если ты сделаешь, как я говорю, мы больше не будем толковать об этом, и я уйду. Керри отняла от глаз платок и посмотрела в окно. — Ты согласна? — снова спросил он. По-прежнему никакого ответа. — Согласна? — повторил он. Керри молчала и только рассеянно смотрела на улицу. — Да полно, Керри! — настаивал Друэ. — Ну, скажи, ты согласна? — Я не знаю, — тихо произнесла она, вынужденная что-то ответить. — Обещай мне, что ты так и сделаешь, и бросим об этом говорить, — снова сказал Друэ. — Ведь лучшего сейчас не придумаешь. Керри слушала его, но не могла собраться с мыслями, чтобы дать разумный ответ. Этот человек был ласков с нею, его привязанность к ней нисколько не ослабела, и ее стали мучить угрызения совести. Она была в состоянии полной беспомощности. Что касается Друэ, то он сейчас переживал то, что переживает ревнивый любовник. В чувствах его царил полнейший сумбур — тут была и ярость обманутого, и боль утраты, и горькое чувство поражения. Ему хотелось так или иначе отстоять свои права, но для этого он должен был удержать Керри и заставить ее понять свою ошибку. — Ну что, обещаешь? — торопил он ее. — Я подумаю, — ответила Керри. Вопрос, таким образом, остался открытым, но и это было уже кое-что. Казалось, буря пронесется мимо, лишь бы только им снова найти общий язык. Керри стало стыдно, а Друэ был огорчен. Он сделал вид, будто принимается укладывать свои вещи в чемодан. Керри исподтишка следила за ним, и в голове у нее начали зарождаться трезвые мысли. Правда, этот человек совершил ошибку, но разве не была виновата и она? При всем своем эгоизме Друэ был добр и ласков. Во время их ссоры он не сказал ей ни одного оскорбительного слова. С другой стороны, Герствуд оказался еще большим обманщиком, чем Друэ. Он делал вид, будто влюблен в нее, он разыгрывал страсть и все время лгал и притворялся. О, коварство мужчин! Она любила его!.. Но теперь с ним все кончено. Она никогда больше не увидит Герствуда. Она напишет ему и выложит все, что о нем думает… Ну, а потом что она будет делать? Тут у нее, по крайней мере, есть квартира, Друэ, умоляющий ее остаться. Очевидно, все может идти по-старому, если только как-то уладить все дело. Во всяком случае, это лучше, чем улица, лучше, чем остаться без крова. А пока она размышляла, Друэ рылся в ящиках, собирая сорочки и воротнички, потом долго и усердно искал запонку. Он, по-видимому, не особенно торопился. Влечение к Керри у него не исчезло. Он не мог себе представить, что вот он уйдет, и все будет кончено. Должно же найтись какое-то иное решение, какое-то средство заставить Керри признать, что он прав, а она не права! Тогда можно было бы заключить мир и навсегда захлопнуть двери перед носом Герствуда… Друэ был возмущен бесстыдной двуличностью этого человека. — А ты не думаешь попытать счастья на сцене? — спросил Друэ после продолжительного молчания. Его интересовало, что она намеревается делать. — Я еще ничего не решила, — сказала Керри. — Если хочешь попытаться, я помогу тебе. У меня много друзей в театральном мире. Керри ничего не ответила. — Не вздумай только уходить без денег, — сказал он. — Позволь мне помочь тебе. Здесь, в Чикаго, на свои силы нечего полагаться. Керри сидела в качалке и молча раскачивалась взад и вперед. — Я бы не хотел, чтобы тебе снова пришлось тяжко, — продолжал Друэ. Он опять принялся возиться с вещами, а Керри все продолжала раскачиваться. — Ты бы взяла да рассказала мне все, как есть, — немного погодя начал Друэ. — И больше мы к этому не возвращались бы. Ты что, в самом деле любишь Герствуда? — Зачем ты опять начинаешь сначала? — сказала Керри. — Ты сам во всем виноват. — Ничего подобного! — запротестовал Друэ. — Нет, именно ты виноват, — стояла она на своем. — И ты не должен был передавать мне эти сплетни. — Надеюсь, ты не зашла с ним слишком далеко? — продолжал Друэ, горя желанием успокоиться, получив отрицательный ответ. — Я не желаю говорить об этом, — заявила Керри, удрученная тем, что их примирение приняло такой комический оборот. — Что толку вести себя так, Кэд? — не унимался Друэ. Он даже перестал собираться и выразительным жестом поднял руку. — Ты могла бы, по крайней мере, внести какую-то ясность в мое положение. — Не хочу! — буркнула Керри, видя в гневе единственное свое прибежище. — Что бы там ни было, во всем виноват только ты. — Значит, ты в самом деле любишь его? — произнес Друэ. В приливе негодования он бросил упаковывать чемодан. — Ах, перестань! — воскликнула Керри. — Нет, не перестану! — рассвирепел Друэ. — Я не позволю тебе дурачить меня! Ты можешь сколько угодно играть им, но себя я не дам водить за нос! Хочешь говорить — говори, не хочешь — не надо, как тебе угодно, но я не желаю, чтобы ты делала из меня дурака! Друэ запихал последние вещи в чемодан и захлопнул его, словно вымещая на нем свою злость. Потом он схватил пиджак, который снял, чтобы удобнее было собираться, взял перчатки и двинулся к выходу. — Можешь отправляться ко всем чертям! — крикнул он, подойдя к двери. — Я тебе не мальчишка. Он с силой рванул дверь и шумно захлопнул ее за собой. Керри продолжала сидеть у окна, скорее пораженная, нежели оскорбленная этим внезапным взрывом ярости. Она не верила своим ушам: Друэ всегда был такой добродушный и покладистый. Где ей было разбираться в источниках человеческих страстей! Истинная любовь — вещь очень тонкая. Ее пламя мерцает, как блуждающий болотный огонек, и, танцуя, уносится в сказочные царства радостей. Оно же бушует, как огонь в печи. Увы, как часто оно питается ревностью!Глава 24
Остывшая зола.
Лицо в окне
В эту ночь Герствуд не ночевал дома. Вместо того, чтобы после закрытия бара вернуться к себе, он отправился в отель «Палмер», где снял номер. Его мозг работал с лихорадочной быстротой; поведение жены ставило под удар все его будущее. Он точно не знал, какую силу имеют ее угрозы, но в то же время нисколько не сомневался, что жена способна причинить ему множество неприятностей, если она будет продолжать свою линию. Очевидно, она приняла какое-то твердое решение и к тому же в стычке с ним сумела одержать весьма серьезную победу. Что будет дальше? Об этом-то и размышлял Герствуд, шагая взад и вперед сперва по своей маленькой конторе, а потом по комнате в отеле, и не мог прийти ни к какому выводу. А миссис Герствуд, наоборот, решила не уступать выигранных позиций и не сидеть сложа руки. Теперь, когда она как следует запугала мужа, ей легко будет диктовать ему условия, а это, в свою очередь, приведет к тому, что ее слово станет законом. Отныне он вынужден будет давать ей столько, сколько она потребует, не то — берегись! Как Герствуд будет себя вести, — до этого ей не было никакого дела. Ее очень мало интересовало, вернется ли он домой. Жизнь в доме будет протекать без него даже более приятно. Она, миссис Герствуд, может теперь поступать как ей угодно, ни у кого не спрашивая совета. Вместе с тем она решила повидаться с адвокатом, а также нанять сыщика. Она должна, не мешкая, выяснить, каких преимуществ она может добиться. Герствуд шагал из угла в угол, обдумывая свое положение. «Все имущество записано на имя жены!» — не переставал он твердить себе. Как это было глупо с его стороны, черт возьми! Как он мог быть таким ослом? Подумал он и о том, как все это отразится на его положении управляющего баром. «Если жена затеет скандал, я лишусь места. Владельцы бара не станут держать меня, если мое имя попадет в газеты. А друзья… ох!» Герствуда охватил новый прилив злобы при мысли о том, какие пересуды вызовет поведение его жены. Что будут печатать газеты? Все знакомые будут любопытствовать. Он должен будет что-то объяснять, отрицать, — словом, станет центром всеобщего внимания. А потом явится мистер Мой, выразит желание «побеседовать» с ним, и черт знает во что это выльется. От этих беспокойных мыслей на лице Герствуда появилось много мелких морщинок, а на лбу выступила холодная испарина. Он не мог себе представить, чем кончится эта передряга, и не видел для себя ни малейшей лазейки. Среди этих тревог Герствуд вдруг вспомнил о Керри и об их уговоре на субботу. Как ни запутаны были теперь его дела, обещание, данное Керри, нисколько не тревожило его. Свидание с ней было единственным просветом на темном фоне неприятностей. Вопрос об их отъезде он уладит к обоюдному удовлетворению — ведь она охотно подождет, если ему понадобится. Посмотрим, что покажет завтра, а там можно будет и поговорить с нею… Они условились встретиться в обычном месте. Герствуд видел перед собой хорошенькое личико Керри, ее изящную фигурку и с горечью спрашивал себя, почему так нелепо устроена жизнь, что радость, которую он испытывает в присутствии этой женщины, не может длиться вечно. Насколько приятнее было бы тогда жить!.. Но тут же он снова вспоминал об угрозе жены, и лоб его опять покрывался испариной, и около глаз появлялись морщинки. Утром он пришел на службу прямо из отеля и тотчас сел просматривать корреспонденцию, но почта не принесла ему ничего необычного. Почему-то у него было предчувствие, что он должен получить что-то с этой почтой, и он облегченно вздохнул, не найдя ничего подозрительного. К нему даже вернулся аппетит, которого не было, когда он встал, и он решил перед встречей с Керри зайти в кафе «Гранд-Пасифик» и выпить кофе со сдобными булочками. Опасность, правда, не миновала, но она и не приняла пока что никакой определенной формы, а для Герствуда отсутствие новостей было равносильно хорошим новостям. Если бы только у него было время как следует все обдумать, тогда, несомненно, нашелся бы какой-то выход. Нет, нет, не может быть, чтобы все это вылилось в катастрофу и чтобы он так и не нашел пути к спасению! Однако он пал духом, когда, явившись в парк, он ждал бесконечно долго, а Керри так и не пришла. Час с лишним сидел он на обычном месте, потом встал и принялся нервно расхаживать по аллее. Что могло задержать Керри? А вдруг его жена добралась до нее? Нет, этого не может быть! Что касается Друэ, то Герствуд не принимал его в расчет; ему даже в голову не пришло, что тот может что-нибудь узнать. Чем больше думал Герствуд, тем сильнее нервничал, но в конце концов решил, что ничего, вероятно, не случилось, а просто Керри почему-либо неудобно было уйти сегодня из дому. Поэтому от нее и письма не было утром. Но письмо, наверное, еще будет, возможно даже, что оно уже ждет его в конторе. Надо сейчас же сходить туда. Герствуд подождал еще немного, потом решил, что ждать больше не стоит, и уныло поплелся к конке на Медисон-стрит. Вдобавок ко всему ясное до сих пор небо покрылось пухлыми облаками, скрывшими солнце. Ветер изменил направление, и к тому времени, когда Герствуд достиг бара, уже собрался дождь, угрожавший затянуться на весь день. Герствуд тщательно просмотрел все письма, но от Керри не было ничего, хорошо еще, что не нашлось ничего и от жены. Управляющий баром мысленно возблагодарил судьбу за то, что ему не приходилось ничего решать сейчас, когда нужно было о стольком подумать. Он снова заходил взад и вперед по комнате, внешне спокойный, но в душе чрезвычайно встревоженный. В половине второго он отправился завтракать в ресторан «Ректор», а вернувшись, застал мальчика-посыльного, дожидавшегося его в конторе. С тяжелым предчувствием взглянул Герствуд на мальчугана. Тот протянул ему письмо и сказал: — Мне приказано ждать ответа. Герствуд узнал почерк жены. Он быстро вскрыл конверт и принялся читать, ничем не выказывая своих чувств. Письмо было написано самым официальным тоном и притом в крайне холодных и резких выражениях.«Прошу немедленно прислать деньги, о которых я говорила. Они нужны мне для выполнения моих планов. Можешь, если хочешь, не жить дома, — это меня нимало не интересует. Но деньги мне нужны немедленно. Поэтому не откладывай и пришли с мальчиком».Герствуд прочел письмо и стоял, держа его в руках. От этой наглости у него перехватило дыхание. Он был разгневан и глубоко возмущен. Первым его порывом было написать в ответ лишь четыре слова: «Убирайся ко всем чертям!» Но он вовремя овладел собой и, избрав полумеру, сказал мальчику, что ответа не будет. Затем он опустился на стул и, глядя перед собой невидящим взглядом, стал думать о том, к чему приведет этот шаг. Что теперь сделает жена? Какая гадина! Неужели она думает, что ей удастся запугать его и добиться полной покорности? Он сейчас же поедет домой и объяснится с ней, да! Слишком уж она зазналась! Таковы были первые мысли Герствуда. Однако вскоре к нему вернулась былая осторожность. Необходимо что-то предпринять. Близится минута развязки: жена, надо полагать, не будет сидеть сложа руки. Он достаточно хорошо знал ее и не сомневался, что, задумав что-либо, она уже ни перед чем не остановится. Возможно даже, что она сразу передаст дело в руки адвоката. — Будь она проклята! — пробормотал Герствуд, стиснув зубы. — Я проучу ее, если только она вздумает мне вредить. Пусть даже силой, но я заставлю ее заговорить другим тоном! Герствуд встал и, подойдя к двери, принялся глядеть на улицу. Заморосил дождь и, очевидно, затяжной. Пешеходы подняли воротники пальто, некоторые подвернули брюки. У тех, кто шел без зонтов, руки были засунуты в карманы. Над головами остальных реяли зонты, и улица напоминала собой колышущуюся, извивающуюся реку круглых черных матерчатых крыш. По мостовой с грохотом тянулась вереница телег и фургонов; и всюду люди старались возможно лучше укрыться от дождя. Но Герствуд почти не замечал этой картины. Перед его глазами неотступно стояла сцена его будущего разговора с женой. Он мысленно требовал, чтобы она изменила свое поведение, угрожая в противном случае переломать ей все кости. В четыре часа снова пришло письмо, в котором просто говорилось, что, если до вечера деньги не будут доставлены, она, миссис Герствуд, завтра же обо всем расскажет мистеру Фицджеральду и мистеру Мою, а помимо того, предпримет еще и другие шаги. Герствуд чуть не взвыл от злости, до такой степени разъярила его настойчивость жены. Ладно, он пошлет ей деньги! Он сам отвезет их ей… Он немедленно отправится к ней и как следует поговорит. Герствуд надел шляпу и стал искать зонтик. Сейчас он покончит с этим делом! Он кликнул кэб и под унылый шум дождя отправился домой, на Северную сторону. По дороге, обдумывая все подробности дела, он несколько остыл. Что знает его жена? Неужели она уже что-то предприняла? Может быть, ей удалось найти Керри или… или… Друэ? Что если у нее есть какие-нибудь улики и она готовится нанести удар из-за угла? О, эта женщина хитра! Она не стала бы его пугать, если бы не была уверена в своих силах. Герствуд уже начал жалеть о том, что он не пошел на какой-нибудь компромисс, что не послал ей требуемых денег. Но, может быть, еще не поздно? Он увидит, что можно сделать. Скандала она не хочет. К тому времени, когда Герствуд доехал до своего дома, он успел прочувствовать всю серьезность этой ситуации и мучительно надеялся, что решение придет само собой и он найдет выход. Он вышел из кэба и поднялся по ступенькам подъезда, но сердце его билось учащенно. Герствуд достал ключ и хотел было сунуть его в замочную скважину, но изнутри торчал другой ключ. Герствуд несколько раз дернул ручку, но дверь была на запоре. Он позвонил — ответа не последовало. Герствуд позвонил вторично, на этот раз настойчивее, — никто не отзывался. Он несколько раз бешено дернул звонок, но безуспешно. Тогда он спустился вниз. В доме, под лестницей, была еще одна дверь, которая вела на кухню. От воров она была защищена железной решеткой. Герствуд, подойдя к этой двери, тотчас же убедился, что она заперта изнутри, а окна кухни закрыты. Что это могло значить? Он позвонил и стал дожидаться. Наконец, убедившись, что никто не идет открывать, он отошел и вернулся к кэбу. — По всей вероятности, никого нет дома, — сказал он, словно извиняясь перед возницей, который сидел, спрятав красное лицо в просторный брезентовый дождевик. — Я видел молодую девушку вон в том окне, — заметил тот. Герствуд посмотрел вверх, но в окне уже никого не было. Он угрюмо уселся в кэб, испытывая одновременно и облегчение и досаду. Так вот в чем их игра! Выгнать его из дому и заставить платить! Поистине это уже переходит все границы.
Глава 25
Остывшая зола.
Почва уходит из-под ног
Герствуд вернулся в контору в еще большем смятении, чем раньше. Боже, в какую историю он попал! Как случилось, что дело приняло такой ужасный оборот, да еще так быстро! Он не мог толком уяснить себе, как все это произошло. Положение казалось ему чудовищным, неестественным, ничем не оправданным, и сложилось как-то вдруг само собой, помимо него. То и дело он вспоминал о Керри. Что могло там стрястись? Ни слова, ни записки от нее, и сейчас уже поздний вечер, а ведь они условились встретиться утром. Завтра они должны были встретиться вновь и уехать. Куда? Только теперь он осознал, что среди тревог и волнений последних дней забыл обдумать, как быть дальше с Керри. Он был безгранично влюблен и при обычных обстоятельствах охотно пошел бы на большой риск, лишь бы добиться взаимности. Но теперь… что же будет теперь? Вдруг и она что-нибудь узнала? Вдруг она тоже напишет ему, что ей все известно и она с ним порывает. Судя по тому, как все складывалось, можно было ожидать и этого. Время шло, а денег жене он все не посылал. Герствуд шагал взад и вперед по ярко натертому паркету своей конторы, засунув руки в карманы, нахмурив лоб и стиснув зубы. Хорошая сигара немного утешила его, но отнюдь не была панацеей против всех бед, обрушившихся на его голову. Время от времени он сжимал кулаки и принимался постукивать носком ботинка по полу, что было признаком волнения и напряженной работы мысли. Все это явилось для него чудовищным потрясением, и он только дивился, где же предел выносливости человеческого сердца. В тот вечер он выпил коньяку с содовой больше, чем когда-либо позволял себе раньше. Словом, Герствуд мог бы сейчас служить олицетворением тяжелого душевного кризиса. Сколько Герствуд ни размышлял в тот вечер, ни к какому выводу он не сумел прийти. Он сделал лишь одно: отправил жене деньги. После продолжительной душевной борьбы, после двух или трех часов мучительных пререканий с самим собой он в конце концов достал конверт, вложил в него необходимую сумму и медленно запечатал его. Затем Герствуд позвал Гарри, мальчика при баре. — Отнеси вот это по указанному здесь адресу, — сказал он, подавая ему конверт, — и передай лично миссис Герствуд. — Слушаю, сэр. — Если ее не будет, принеси назад. — Слушаю, сэр. — Ты когда-нибудь видел мою жену? — из осторожности спросил Герствуд, когда мальчик уже собрался идти. — О да, сэр. Я знаю ее. — Ну ладно. Возвращайся скорее! — Ответ будет? — Не думаю. Мальчик ушел, а управляющий баром снова вернулся к своим невеселым думам. Ну вот, дело сделано. Не стоило столько времени ломать над этим голову! Он потерпел сегодня полный крах, и ему остается только примириться с этим. Но как отвратительно стать жертвой подобного вымогательства! Он рисовал себе, как его жена встречает мальчика у дверей и ехидно улыбается. Она возьмет в руки конверт, торжествуя свою победу. Если б можно было вернуть этот конверт, он бы вернул и оставил его у себя. Тяжело дыша, он вытер со лба пот. Чтобы хоть немного отвлечься, Герствуд присоединился к группе приятелей, беседовавших у стойки за стаканчиком виски. Он прилагал все усилия, чтобы заинтересоваться тем, что происходило вокруг, но это ему не удавалось. Его мысли то и дело возвращались к дому, и он воображал разыгравшиеся там сцены. Из головы у него не выходил вопрос: что сказала его жена, когда мальчик-посыльный вручил ей конверт с деньгами. Часа через полтора мальчик вернулся. Очевидно, он передал конверт по назначению, так как, входя, он не полез за ним в карман. — Ну? — спросил Герствуд. — Передал, сэр. — Моей жене? — Да, сэр. — Она что-нибудь сказала? — Она сказала: «Давно пора!» Герствуд гневно сдвинул брови. В этот вечер больше ничего сделать было нельзя. Герствуд до полуночи ломал голову над тем, как ему теперь быть, а потом, как и накануне, отправился в отель «Палмер». «Что принесет с собою утро?» — думал он. Эта мысль долго не давала ему уснуть. На следующий день он снова отправился в бар и стал рассматривать почту, томимый опасениями и надеждами. От Керри — ни слова. Ни слова и от жены, что было очень приятно. То, что он уже отправил деньги и что миссис Герствуд приняла их, почти успокоило его: дело сделано, гнев постепенно утихал, и появились даже надежды на мир. Сидя за столом у себя в кабинете, он размышлял о том, что в ближайшую неделю-две его жена, вероятно, ничего не предпримет, а он тем временем успеет все обдумать. «Обдумывание» началось с того, что мысли его снова вернулись к Керри и к тому плану, который ему предстояло разработать, чтобы увезти ее от Друэ. Как же теперь быть? Чем больше он старался угадать, почему она не пришла на свидание и даже не написала ему ни слова, тем больше это огорчало его. Он решил сам написать ей «до востребования» на почтамт Западной стороны, попросить у нее объяснений и назначить новое свидание. Но мысль, что это письмо едва ли дойдет до Керри раньше понедельника, чрезвычайно беспокоила его. Надо придумать какой-то более быстрый способ, но какой? Не менее получаса Герствуд размышлял только об этом. Отправить к ней посыльного? Или самому съездить? Нет, этим он только разоблачит себя. Видя, что время уходит зря, он набросал письмо и вновь предался своим мыслям. Час шел за часом, и постепенно таяли надежды на соединение с Керри, к чему он так стремился. Еще так недавно он надеялся, что в это время будет радостно помогать ей устраивать новую жизнь, а тут уже близится вечер, и еще ничего не сделано. Часы пробили три, четыре, пять, шесть, — письма все не было. Управляющий баром мрачно шагал по кабинету, переживая свое жестокое поражение. Миновала хлопотливая суббота, наступило воскресенье, а он все еще ничего не сделал. По воскресеньям бар был закрыт, и Герствуд весь день пробыл наедине со своими мыслями, вдали от дома, лишенный возбуждающего шума бара, разлученный с Керри и бессильный хоть сколько-нибудь изменить свое положение. Так скверно он не проводил еще ни одного воскресенья в своей жизни. В понедельник со второй почтой пришел конверт весьма официального вида, и Герствуд некоторое время с любопытством разглядывал его. На конверте был штемпель конторы юристов «Мак-Грегор, Джеймс и Гэй». Письмо начиналось холодным «Милостивый государь, настоящим доводим до Вашего сведения», и так далее. Из письмо явствовало, что миссис Джулия Герствуд обратилась в контору с просьбой урегулировать некоторые вопросы, касающиеся ее содержания и права на собственность, и его, мистера Герствуда, просят срочно зайти для переговоров по этому поводу. Герствуд несколько раз подряд внимательно прочел письмо и только покачал головой. Похоже было на то, что его семейные неурядицы только еще начинаются! — Да-а! — вслух произнес он некоторое время спустя. — Только этого недоставало! Сложив письмо, он спрятал его в карман. В довершение неприятностей от Керри по-прежнему ничего не было. Теперь у Герствуда не оставалось никаких сомнений. Она узнала, что он женат, и возмущена его обманом. Утрата была тем мучительнее, что именно теперь он больше всего нуждается в Керри. Он подумывал о том, чтобы пойти к ней и настоять на свидании, если в самом скором времени она не пришлет ему письма. Мысль, что Керри покинула его, глубоко угнетала Герствуда. Он страстно любил ее, и теперь, когда ему грозила опасность потерять ее, она казалась ему еще более желанной. Ему мучительно хотелось услышать хотя бы одно ее слово. Он с грустью вызывал в воображении лицо Керри. Что бы она ни думала, он не может, да и не хочет терять ее, он не позволит ей ускользнуть: что бы ни случилось, он должен уладить этот вопрос как можно скорее. Да, он пойдет к ней и расскажет о разладе в своей семье. Он скажет ей, как нуждается в ее любви. Не может быть, чтобы она отвернулась от него в такую минуту. Нет, это невозможно! Он будет умолять ее, пока ему удастся смягчить ее гнев, пока она не простит его. И вдруг он подумал: «А если ее там нет? Если окажется, что она ушла оттуда?» Он вскочил на ноги. Было невыносимо сидеть сложа руки и думать. Тем не менее его волнение не повлекло за собой никаких действий. Во вторник продолжалось то же самое. Ему удалось уговорить себя пойти к Керри, но, когда он дошел до Огден-сквер, ему показалось, что за ним следят, и он немедленно повернул обратно. Он не дошел целого квартала до дома Керри. Однако дорога доставила Герствуду неприятные минуты. Он сел в вагон конки, которая повезла его обратно по Рэндолф-стрит, и неожиданно очутился перед зданием фирмы, в которой работал его сын. Сердце его болезненно сжалось: он неоднократно заходил сюда проведать Джорджа. А теперь тот и не подумает повидаться с ним. Очевидно, никто из детей даже не заметил его отсутствия. Да, таковы превратности судьбы. Герствуд вернулся в бар и, присоединившись к группе приятелей, принял участие в общей беседе. Ему казалось, что праздная болтовня притупляет душевную боль. Пообедав в этот вечер в ресторане «Ректор», Герствуд поспешил обратно в бар. Только там, среди блеска и суеты, он находил некоторое облегчение. Он занимался всякими мелочами и останавливался поболтать с каждым знакомым. Еще долго после того, как все разошлись, Герствуд продолжал сидеть у себя в кабинете и покинул его, лишь когда ночной сторож, совершая обход своего участка, дернул с улицы дверь, проверяя, хорошо ли она заперта. В среду Герствуд снова получил вежливое письмо от фирмы «Мак-Грегор, Джеймс и Гэй». Оно гласило:«Милостивый государь! Настоящим сообщаем, что нам предложено ждать Вашего ответа до завтра (четверг), до часа дня, прежде чем подавать в суд о разводе и о назначении содержания Вашей жене. Если до того времени мы не получим от Вас ответа, мы будем считать, что Вы не желаете идти на какое-либо соглашение, и будем вынуждены принять соответствующие меры. С глубоким почтением…»— Идти на соглашение! — с горечью воскликнул Герствуд. — Идти на соглашение! Он снова скорбно покачал головой. Теперь все стало ясно. По крайней мере он знал, чего ему ждать. Если он не пойдет к адвокатам, те сейчас же начнут бракоразводный процесс. Если же он пойдет к ним, ему предложат такие условия, от которых вся кровь закипит у него в жилах. Герствуд сложил письмо и присоединил его к первому, уже лежавшему у него в кармане. Затем он надел шляпу и вышел на улицу, чтобы немного освежиться.
Глава 26
Павший посланник судьбы.
В поисках выхода
Друэ ушел, и Керри долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось. Она только сознавала, что он ушел разъяренный, и прошло некоторое время, прежде чем она задалась вопросом, вернется ли Друэ, — если не сейчас, то вообще. Она медленно обвела взглядом утопавшую в сумерках комнату и подумала о том, что чувствует себя здесь совсем не так, как раньше. Затем она встала, подошла к туалету и, чиркнув спичкой, зажгла газ. Потом вернулась к своей качалке и принялась размышлять… Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею: она, Керри, осталась совсем одна. Что, если Друэ больше не вернется? Что, если больше не даст даже знать о себе? Ведь тогда конец этим уютным комнатам! Ей придется уйти отсюда. Надо отдать Керри справедливость — ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь! И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик, и манеры… Только один этот поступок казался таким странным и гадким! Он так резко противоречил всему, что она умом и сердцем знала об этом человеке. Итак, она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену?.. Да, да! Друэ говорил ей об этом. Но есть ли там для нее хоть какая-нибудь надежда? Керри покачивалась в качалке взад-вперед, углубившись в свои мысли, перескакивавшие с одного на другое, минута бежала за минутой, и вскоре наступила ночь. Керри еще ничего не ела; тем не менее она сидела и все думала и думала. Наконец она вспомнила, что давно уже голодна, и, поднявшись с качалки, направилась к буфету в задней комнате, где еще оставалось кое-что от завтрака. С каким-то странным чувством смотрела Керри на эти остатки: еда значила для нее сегодня больше, чем обычно. Керри принялась за ужин, и тут у нее внезапно возникла мысль: сколько у нее денег? Эта мысль показалась ей очень важной, и, не медля ни минуты, она встала и пошла за сумочкой, которая лежала на туалете. В ней оказалось семь долларов и немного мелочи. Сердце Керри болезненно сжалось, как только она убедилась, какой ничтожной суммой она располагает. В то же время она порадовалась, что за квартиру уплачено до конца месяца. Невольно задумалась она и над тем, что стала бы делать, если бы, поддавшись порыву, ушла на улицу в самом начале ссоры с Друэ. Если вообразить, в каком положении она могла бы оказаться, то действительность казалась даже приятной. Сейчас, по крайней мере, у нее еще было впереди немного времени, а потом — кто знает? Может быть, все еще уладится в конце концов. Правда, Друэ ушел, но что ж из этого? Судя по всему, едва ли он серьезно рассердился. Скорее всего, он просто вспылил. Он еще вернется, о, он, без сомнения, вернется! Вон там, в углу, стоит его трость, а вот валяется один из его воротничков. В шкафу висит его летнее пальто. Керри окинула взглядом комнату и, увидев другие вещи Друэ, попыталась убедить себя, что он вернется, но, увы, то и дело мелькала прежняя мысль: ну, положим, он придет, а что дальше? Вот тут-то возникала еще одна проблема, почти столь же для нее тревожная. Ведь ей придется говорить с ним и что-то ему объяснять. Он захочет, чтобы она признала его правоту. Нет, жить с ним она не сможет. В пятницу Керри вспомнила о свидании с Герствудом, которое было назначено на этот день. В тот час, когда, согласно своему обещанию, Керри должна была встретиться с ним, она особенно ясно и остро почувствовала всю тяжесть постигшего ее несчастья. Она была в таком нервном напряжении, что ей казалось необходимым что-то делать, что-то предпринять. В одиннадцать часов утра, надев скромное коричневое платье, она отправилась в деловую часть города. Она должна найти себе работу. Дождь, собиравшийся уже с полудня, полил в час дня и заставил Керри вернуться домой и выждать лучшей погоды, а Герствуду навесь остаток дня вконец испортил настроение. На следующий день была суббота, и многие предприятия заканчивали работу в двенадцать часов. Утро выдалось ясное, воздух благоухал, а деревья и трава сверкали яркой зеленью после прошедшего накануне дождя. Керри вышла из дому; ее встретил веселый хор чирикающих воробьев. Глядя на чудесный парк, она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы, и ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен ни Друэ, ни его деньги, она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор, — ведь в конце концов она все же была счастлива, во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни. Было одиннадцать часов, когда Керри очутилась в торговой части города, и до окончания рабочего дня оставалось уже немного времени. Она не сразу подумала об этом, подавленная суровой, изнуряющей атмосферой этих мест, воспоминаниями о злоключениях, пережитых когда-то. Она шла медленно, стараясь уверить себя, что ищет работу, но в то же время думала, что, пожалуй, и нет особой необходимости так спешить. Свободные места попадаются не очень-то часто, да она могла и обождать несколько дней. Она далеко еще не была уверена, что ей и впрямь придется стать лицом к лицу с ненавистной проблемой заботы о куске хлеба. Так или иначе, — вдруг подумала Керри, — хоть одно изменилось к лучшему: она знала, что много выиграла в смысле внешности. Ее манеры значительно изменились. Одета она была к лицу, и мужчины — которые раньше с равнодушным видом оглядывали ее из-за полированных стоек и внушительных перегородок, — теперь смотрели на нее ласково, и в глазах у них вспыхивали огоньки. Конечно, это придавало ей сознание своей силы и радовало, но не успокаивало окончательно. Впрочем, — размышляла Керри, — она ищет только того, что может достаться ей прямым и законным путем, и не примет ничего, похожего на личное одолжение. Да, ей нужен заработок, но ни один мужчина не купит ее подачками и лживыми уверениями. Она будет честно зарабатывать на жизнь. «Магазин закрывается по субботам в час дня» — гласила надпись на одной из дверей, возле которой Керри остановилась с намерением войти и справиться о работе. Эта надпись доставила молодой женщине большое удовольствие, так как несколько оправдывала ее перед самой собой. Заметив целый ряд подобных надписей на дверях различных предприятий, Керри решила, что на этот раз нет никакого смысла продолжать поиски, так как часы показывали уже четверть первого. Она села в конку и отправилась в Линкольн-парк. Там всегда было на что посмотреть — цветы, зверюшки, маленькое озеро. Она успокаивала себя мыслью, что в понедельник встанет рано и как следует займется поисками работы. До понедельника многое еще может случиться… Воскресный день прошел в таких же сомнениях, тревогах, надеждах и невесть каких еще, сменявших одно другое, настроениях. Каждые полчаса Керри вновь и вновь вспоминала, что нужно действовать, действовать немедленно, и эта мысль была для нее точно жгучий удар бича. Порою же, глядя вокруг, она пыталась уверить себя, что положение не так уж скверно, что так или иначе все кончится благополучно. В такие минуты она задумывалась над советом Друэ идти на сцену, и ей начинало казаться, что на этом поприще ее ждет успех. Она твердо решила на следующий день отправиться на поиски работы именно в театры. Итак, в понедельник Керри встала рано и тщательно оделась. Она не имела ни малейшего представления о том, куда нужно обращаться, чтобы поступить на сцену, но решила, что скорей всего следует обратиться прямо в театр. Нужно войти в какой-нибудь театр, узнать, где принимает директор, и спросить насчет работы. Если свободное место есть, она, возможно, получит его, в противном случае директор, до крайней мере, скажет ей, где искать. Керри никогда не сталкивалась с театральной средой и не имела понятия о чудачествах актерской богемы и о свободе царящих там нравов. Она знала, что мистер Гейл занимал видный пост в театре, но, будучи в дружбе с его женой, ни за что не хотела обращаться к нему с просьбой. В то время особое одобрение публики снискала Чикагская опера, и о директоре ее, Дэвиде Гендерсоне, шла хорошая слава. Керри видела там две-три эффектных постановки, слышала и о других. Она не знала, кто такой Гендерсон, не имела понятия о том, как следует обращаться с подобной просьбой, но инстинктивно чувствовала, что у него может найтись для нее что-нибудь подходящее. Поэтому она и отправилась туда. Керри храбро вошла в подъезд, оттуда — в роскошный, раззолоченный вестибюль, где висели в рамках фотографии сцен из последних спектаклей, и уже направилась было к тихой билетной кассе, но вдруг решимость покинула ее, и она не могла заставить себя идти дальше. Известный опереточный комик служил в ту неделю приманкой для публики, и театр был так разукрашен широковещательными афишами, что Керри вдруг прониклась благоговейным ужасом, очутившись в этой атмосфере величия и блеска. Что тут может быть для нее? Она даже вздрогнула при мысли о своей дерзости, за которую ее могли просто выгнать. У нее хватило духу лишь на то, чтобы постоять и посмотреть броские фотографии. Потом она поспешила уйти. Ей казалось, что она счастливо избегла опасности, и она решила, что приходить с улицы в театр и надеяться на работу — сущее безумие. В тот день этим маленьким испытанием и закончились ее поиски. Она еще немного побродила по улицам, оглядывая небольшие театрики, — но только снаружи, — потом постояла возле запомнившихся ей театров Мак-Викера и Большой оперы, которые пользовались тогда большим успехом, — и пошла прочь. Она сильно упала духом, ее снова стало мучить сознание величия недоступной ей жизни и ничтожность ее попыток соприкоснуться с тем, что в ее понимании было «обществом». Вечером зашла миссис Гейл, и завязавшаяся между ними болтовня помешала Керри поразмыслить над тем, что готовила ей судьба. Но, перед тем как лечь спать, она снова очутилась во власти самых мрачных дум и предчувствий. Друэ не показывался. Ни от него, ни от Герствуда не было никаких известий. Она истратила из своего драгоценного запаса целый доллар на еду и конку. Ясно, что так долго тянуться не может, тем более что работы она никакой не нашла. Невольно ее мысли перенеслись на Ван-Бьюрен-стрит, к сестре, которую она не видела ни разу со дня своего бегства, и к родному дому в Колумбия-сити, куда, казалось, ей уже нет возврата. Впрочем, она не собиралась искать там пристанища. О Герствуде она вспоминала беспрестанно, но мысли эти не приносили ей ничего, кроме горя. Как жестоко было с его стороны так обмануть ее! Наступил вторник, а с ним — опять нерешительность и раздумье. После неудачи, которую она потерпела накануне, Керри не особенно торопилась снова пускаться на поиски работы. Тем не менее она горько упрекала себя в малодушии и в конце концов вышла из дому с целью еще раз заглянуть в Чикагскую оперу. У нее едва хватило смелости войти в вестибюль театра. Все же она заставила себя подойти к кассе и спросить, где можно видеть директора? — Директора труппы или директора театра? — переспросил франтоватый молодой кассир, которому, видно, понравилась внешность Керри. — Я и сама не знаю, — ответила Керри, озадаченная его вопросом. — Директора театра вы сегодня уже не увидите, — сообщил ей молодой человек. — Его нет в городе. Заметив растерянность Керри, он добавил: — А зачем вам директор? — Я хотела спросить его, не найдется ли для меня какой-нибудь работы, — ответила Керри. — В таком случае вам следует обратиться к директору труппы, — посоветовал кассир. — Но и его сейчас нет. — Когда же он будет? — спросила Керри, несколько ободренная добытыми сведениями. — Пожалуй, вы застанете его между одиннадцатью и двенадцатью. Иногда он бывает также и после двух. Керри поблагодарила и быстро вышла из вестибюля, а молодой человек посмотрел ей вслед из окошечка своей золоченой клетки. — Недурна! — решил он, и воображение начало рисовать ему весьма лестные знаки внимания, которые могла бы оказать ему молодая посетительница. В Большой опере гастролировала одна из известных опереточных трупп того времени. Здесь Керри хотела поговорить с директором труппы. Она не имела понятия о том, как узки полномочия этой персоны, не знала и того, что на вакантное место в труппе сейчас же прислали бы кого-нибудь из Нью-Йорка. — Его кабинет наверху, — сказал ей кассир. В кабинете директора оказалось несколько человек. Двое стояли у окна, третий беседовал с кем-то, сидевшим за шведским бюро. Это и был директор. Сильно волнуясь, Керри обвела взглядом комнату, и ей стало страшно при мысли, что придется изложить свою просьбу в присутствии стольких людей, тем более что двое у окна уже внимательно разглядывали ее. — Ничего не могу поделать! — услышала она слова директора. — Мистер Фроман установил твердое правило — посторонних за кулисы не пускать. Нет, нет! Керри робко стояла в ожидании. В кабинете были стулья, но никто и не подумал предложить ей сесть. Посетитель, с которым разговаривал директор, ушел с унылым видом. Театральный сановник углубился в какие-то лежавшие перед ним бумаги, точно это были документы необычайной важности. — Читал сегодня в «Геральде» про Ната Гудвина, Геррис? — обратился один актер к другому. — Нет, — ответил тот. — А что такое? — Вчера в театре Гулли он обратился к публике с целой речью. Вот посмотри сам! Геррис подошел к столу и стал рыться в газетах, разыскивая упомянутый номер «Геральда». — В чем дело? — спросил директор, поднимая глаза на Керри и, очевидно, впервые заметив ее. Он подумал, что она пришла просить контрамарку. Керри собрала все свое мужество, которого осталось совсем немного. Она понимала, что ее, совсем неопытную в этом деле, неизбежно ждет отказ. Она была настолько уверена в этом, что сделала вид, будто пришла лишь за советом. — Не можете ли вы мне сказать, как можно поступить на сцену? В конце концов это был, пожалуй, самый лучший подход к делу. Своим вопросом Керри до некоторой степени заинтересовала важную персону, восседавшую в кресле за столом. Наивная просьба и манеры молодой женщины понравились директору. Он улыбнулся. Улыбнулись и остальные двое, стараясь, впрочем, скрыть, что им смешно. — Не знаю, право, что вам сказать, — отозвался директор, бесцеремонно разглядывая стоявшую перед ним посетительницу. — А у вас есть какой-нибудь сценический опыт? — Очень маленький, — ответила Керри. — Я участвовала лишь в любительских спектаклях. Своим ответом Керри хотела как-нибудь поддержать интерес, который ей удалось пробудить в директоре. — И вы никогда не обучались драматическому искусству? — продолжал тот, напуская на себя важный вид с целью произвести должное впечатление как на Керри, так и на своих приятелей. — Нет, сэр! — Гм! В таком случае я, право, не знаю, — ответил он, лениво откидываясь назад вместе с креслом и не смущаясь тем, что Керри продолжает стоять. — А почему вам так хочется попасть на сцену? Керри растерялась от дерзости этого человека. Все же она улыбнулась в ответ на его наглую, но не лишенную приветливости усмешку и ответила: — Должна же я как-то существовать? — Ах, вот что! — отозвался тот, заинтересованный красивой просительницей, и тут же подумал о возможности завязать многообещающее знакомство. — Конечно, это вполне уважительная причина, но Чикаго, видите ли, не место для начинающих. Вам нужно ехать в Нью-Йорк, там больше возможностей. Здесь нечего и надеяться на то, что вам дадут ход. Керри улыбнулась в знак благодарности за то, что он снизошел до разговора с нею. Директор, заметивший улыбку, истолковал ее несколько иначе. Он решил, что ему представляется удобный случай для маленького флирта. — Присядьте, пожалуйста, — сказал он, придвигая стул поближе к своему креслу и еле заметно понижая голос, чтобы другие присутствующие не могли расслышать его. Двое у окна перемигнулись. — Ну, я ухожу, Барни! — сказал один из них, обращаясь к директору. — Увидимся после обеда. — Ладно, — отозвался директор. Актер, оставшийся в кабинете, взял газету и сделал вид, будто читает ее. — И вы уже решили, какие роли хотели бы играть? — вкрадчиво спросил директор. — Нет, — созналась Керри, — но я согласилась бы для начала на что угодно. — Понимаю! — произнес директор. — Вы живете здесь, в городе? — Да, сэр. Директор улыбнулся любезнейшей улыбкой. — А вы не пытались поступить в статистки? — с конфиденциальным видом спросил он. Керри начинала ощущать неприятную слащавость в манерах этого человека. — Нет, — ответила она. — С этого начинает большинство актрис, — продолжал директор. — Прекрасный способ приобрести сценический опыт. Произнося эти слова, он ласково и убеждающе глядел на Керри. — Я этого не знала, — сказала она. — Попасть в статистки тоже трудно, — продолжал директор. — Но иногда может помочь случай. — Потом, как будто что-то вспомнив, он вытащил часы и взглянул на них. — У меня в два часа деловое свидание, — сказал он, — а потому мне нужно идти, чтобы успеть позавтракать. Может быть, вы составите мне компанию? Закусим и поговорим о деле. — Ах, нет! — воскликнула Керри, которой стало сразу ясно поведение этого человека. — Мне самой нужно кое-кого повидать. — Очень жаль! — сказал директор, поняв, что действовал чересчур поспешно и что теперь Керри, по всей вероятности, уйдет. — Заходите в другой раз. Возможно, я услышу о чем-нибудь подходящем для вас. — Благодарю вас, — с дрожью в голосе отозвалась Керри и поспешно вышла. — Хорошенькая девчонка! — заметил молодой человек, не уловивший всех подробностей разыгравшейся на его глазах сцены. — Мм-м, ничего! — согласился директор, огорченный тем, что, видимо, игра проиграна. — Но, должен вам сказать, актрисы из нее никогда не выйдет. Разве что статистка, не больше! Это маленькое приключение убило в Керри всякую охоту идти в Чикагскую оперу. Но в конце концов она все же решилась на это. Там директор оказался человеком более степенным и напрямик заявил, что никаких вакансий у него нет, и явно считал ее поиски глупой затеей. — Чикаго не место для начинающих, — заявил он. — Начинать нужно в Нью-Йорке. Однако Керри не сдавалась и побывала еще в театре Мак-Викера. Но там она никого не застала. В этом театре шла пьеса «Старое пепелище», но режиссера, к которому направили Керри, ей так и не удалось разыскать. Эти небольшие странствия отняли у Керри почти весь день, и было уже четыре часа, когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки где только можно, но слишком уж много разочарований принесли с собою ее хлопоты. Керри села в конку и через три четверти часа была уже на Огден-сквер, однако решила доехать до почтамта на Западной стороне, где она обычно получала письма от Герствуда. Там оказалось для нее письмо, отправленное в субботу. Керри быстро вскрыла его и прочла, обуреваемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Керри не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее — это ясно! Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым. Подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено. Дома Керри тотчас же занялась письмом. Оно отняло у нее немало времени: задача была не из легких.«Едва ли я должна Вам объяснять, почему я не пришла на свидание. Как могли Вы так обмануть меня? Вы понимаете, что теперь я не хочу иметь с Вами ничего общего. Нет, ни при каких обстоятельствах! О, как могли Вы так нехорошо поступить со мной? Вы причинили мне больше горя, чем можете вообразить. Надеюсь, Вы скоро преодолеете свое чувство ко мне. Мы никогда не должны больше встречаться. Прощайте!»Наутро Керри, дойдя до первого перекрестка, нехотя опустила письмо в почтовый ящик, далеко не уверенная, что она правильно поступает. А затем снова направилась в торговую часть города. В универсальных магазинах, куда Керри обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья, но изящную и привлекательную молодую женщину выслушивали более внимательно, чем других просительниц. И снова ей задавали вопросы, которые были ей так хорошо знакомы: — Что вы умеете делать? Работали ли раньше в магазинах? Есть ли у вас опыт? В «Базаре», как и в других крупных магазинах, было то же самое. Повсюду она слышала один и тот же ответ: сейчас мертвый сезон, пусть она наведается через некоторое время, возможно, что она им понадобится. Когда к концу дня Керри, усталая и павшая духом, вернулась домой, она обнаружила, что Друэ в ее отсутствие побывал в квартире. Его зонтик и летнее пальто исчезли. Керри показалось, что недостает еще кое-каких его вещей, но она не была в этом уверена. Во всяком случае, Друэ не все забрал с собой. Все же его уход, видимо, не был временным. Как же ей теперь быть? Через день-два ей снова, как раньше, придется одной бороться со всем миром. Опять ее одежда примет жалкий вид. Керри со свойственной ее жестам выразительностью сложила руки и крепко переплела пальцы. Крупные слезы навернулись ей на глаза и покатились по щекам. Она была одинока, бесконечно одинока. Друэ действительно приходил, но совсем не с той целью, какую вообразила себе Керри. Он ожидал застать ее дома и решил объяснить свое появление тем, что пришел за вещами, а перед уходом надеялся помириться с ней. Вполне понятно, что, не застав Керри дома, Друэ был сильно разочарован. Он долго возился в квартире, надеясь, что Керри вышла куда-нибудь недалеко и скоро вернется. Каждую минуту он прислушивался, не раздадутся ли на лестнице ее шаги. Он хотел сделать вид, будто только что вошел и очень смущен, что его застали врасплох. А потом он сказал бы, что ему понадобились кое-какие вещи, и попутно выяснил бы, как настроена Керри. Его ожидания были напрасны. Керри не возвращалась. Друэ перестал рыться в ящиках, подошел к окну, поглядел на улицу и, наконец, уселся в качалку. Керри все не было. Друэ начал нервничать, закурил сигару. Немного спустя он встал и принялся ходить взад и вперед по комнате. Взглянув в окно, Друэ заметил, что на небе собираются тучи. Вспомнив, что в три часа у него деловое свидание, он решил, что больше ждать, пожалуй, не стоит. Захватив зонтик и пальто, Друэ собрался уходить, мысленно твердя себе, что все равно он намеревался взять эти вещи. Возможно, что это испугает Керри, понадеялся он. Завтра он вернется за остальным и увидит, как она настроена. Друэ направился к двери, искренне огорченный тем, что не дождался ее. На стене висела ее небольшая фотография: на Керри был жакет — первый его подарок. Лицо у нее было грустное — куда грустнее, чем в последнее время. Это его искренне растрогало, и он посмотрел в глаза Керри на карточке с необычной для него нежной грустью. — Нехорошо ты со мной поступила, Кэд! — пробормотал он, словно обращаясь к ней самой. Он подошел к двери, еще раз обвел комнату взглядом и вышел.
Глава 27
Когда нас поглощает пучина,
мы тянем руки к звезде
Когда Герствуд, мрачный, расстроенный вторичным напоминанием адвоката из конторы «Мак-Грегор, Джеймс и Гэй», вернулся, побродив по улицам, в бар, там его ждало письмо Керри. Трепет прошел по его телу, едва он узнал ее почерк. Он быстро вскрыл конверт и принялся читать. «Значит, она меня любит, — подумал он. — Иначе она не стала бы мне писать!» Прочитав письмо, он в первые минуты был несколько подавлен его содержанием, но вскоре воспрянул духом. «Если бы она меня не любила, то не стала бы писать!» — повторял он про себя. Он был так угнетен, что только эта мысль и поддерживала его. Из слов Керри мало что можно было извлечь, но Герствуду казалось, что он угадывает ее истинное настроение. Было что-то очень человеческое — если не сказать трогательное — в том, что слова упреков принесли ему такое облегчение. Он, за столько лет привыкший к внутренней независимости, теперь жаждал утешения извне — и от кого? Таинственные нити чувства, как крепко они нас опутывают! На лице Герствуда снова заиграл румянец. Он на время забыл о письме адвоката. Если бы только Керри была с ним, возможно, ему удалось бы выпутаться из создавшегося положения, возможно, тогда это вообще перестало бы иметь для него какое-либо значение. Ему нет дела до того, что затевает его жена, лишь бы только не потерять Керри. Герствуд встал и зашагал по кабинету, рисуя себе в сладких мечтах жизнь с прелестной владычицей его сердца. Однако заботы вскоре нахлынули вновь, и Герствуда охватила ужасная усталость. Он опять задумался о завтрашнем дне и о предстоящем бракоразводном процессе. Герствуд ничего еще не предпринял, а между тем часы приема у адвоката истекали. Теперь без четверти четыре, в пять контора «Мак-Грегор, Джеймс и Гэй» закроется, и юристы разойдутся по домам. Останется лишь завтрашнее утро до двенадцати часов. Пока Герствуд раздумывал, прошло еще четверть часа — и пробило четыре. Тогда он отказался от мысли повидаться в этот день с адвокатами и снова стал думать о Керри. Нужно заметить, что Герствуд даже и не пытался оправдываться перед самим собой. Этот вопрос нисколько его не тревожил. Он думал лишь о том, как бы уговорить Керри уйти с ним. Что в этом плохого? Ведь он горячо любит ее. От ее «да» зависит их взаимное счастье. О, только бы Друэ не оказалось в Чикаго! Герствуд внезапно очнулся от восторженных дум о Керри, вспомнив, что завтра ему понадобится чистое белье. Поэтому на пути в отель он купил несколько сорочек и полдюжины галстуков. Когда Герствуд входил в отель «Палмер», ему показалось, что он видит вдали Друэ, поднимающегося по лестнице с ключом в руках. Нет, не может быть! Потом он подумал, что Друэ и Керри, по всей вероятности, временно переехали из квартиры в отель. Он направился прямо к столику портье. — Скажите, пожалуйста, не живет ли здесь некий Друэ? — Как будто есть такой, — ответил портье, пробегая взглядом книгу записей. — Да, живет. — Да неужели? — воскликнул Герствуд, стараясь, впрочем, по возможности скрыть свое изумление. — И один? — добавил он. — Да, один, — подтвердил портье. Герствуд отвернулся и сжал губы, чтобы не выдать охватившего его волнения. «Чем же это объяснить? — размышлял он. — Очевидно, они поссорились!» Герствуд поспешил к себе в номер уже в значительно лучшем настроении и быстро переоделся. Он решил немедленно отправиться к Керри и узнать, продолжает ли она жить одна у себя на квартире или же куда-нибудь переехала. «Вот что я сделаю, — подумал он. — Подойду к двери, позвоню и спрошу, дома ли мистер Друэ. Таким образом я узнаю, живет ли он еще там и где находится Керри». При мысли об этом Герствуд весь даже как-то подтянулся. Он твердо решил пойти туда тотчас же после ужина. В шесть часов вечера Герствуд вышел из своего номера, посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, нет ли поблизости Друэ, и направился в ресторан. Но ему так не терпелось скорее поехать к Керри, что он с трудом заставил себя что-то съесть. Однако прежде чем тронуться в путь, Герствуд решил проверить, где Друэ, и вернулся в отель. — Мистер Друэ не выходил? — спросил он у портье. — Нет, он у себя в номере, — сообщил тот. — Вы, может быть, хотите послать ему наверх свою карточку? — Нет, благодарю, я зайду позже, — ответил Герствуд и вышел из отеля. На Медисон-стрит он сел в вагон конки и поехал прямо на Огден-сквер. На этот раз он смело подошел к двери. Ему открыла горничная. — Мистер Друэ дома? — вежливо спросил он. — Его нет в городе, — ответила девушка, слыхавшая, что Керри говорила так миссис Гейл. — А миссис Друэ? — Нет, она ушла в театр. — Вот как! — Герствуд несколько растерялся, затем, сделав вид, будто пришел по важному делу, спросил: — А вы не знаете, в какой именно? Горничная не имела ни малейшего понятия о том, куда ушла Керри, но она недолюбливала Герствуда и рада была причинить ему какую-нибудь неприятность. — В театр Гулли, — ответила она. — Благодарю вас, — сказал управляющий баром и, слегка притронувшись к шляпе, удалился. «Я загляну в театр Гулли», — решил он, но так и не заглянул. По дороге в центр он все обдумал и пришел к заключению, что это не имеет смысла. Как ни хотелось ему видеть Керри, он понимал, что она будет в театре не одна и что нелепо вторгаться туда со своей мольбой. Лучше немного обождать — скажем, до утра. Но утром ему предстояло встретиться с адвокатами жены… Эта мысль подействовала на радостно возбужденного Герствуда, как ушат холодной воды. Он снова весь ушел в прежние тревоги и, добравшись до бара, мечтал только о том, чтобы хоть немного забыться. В зале собралась довольно большая компания, наполнявшая помещение гулом оживленных голосов. За круглым вишневого дерева столом в глубине бара сидели группой политики из округа Кук и о чем-то совещались. У стойки столпилась компания молодых гуляк, собиравшихся, несмотря на поздний час, посетить театр. Одетый с претензией на франтоватость красноносый джентльмен в поношенном цилиндре цедил из своего стакана эль, Герствуд на ходу кивнул знакомым и прошел к себе. Часов около десяти в кабинет заглянул один из друзей Герствуда, некий Фрэнк Тэйнтор, местный любитель скачек и всякого рода спорта, и, увидев, что у Герствуда никого нет, зашел к нему. — Здорово, Джордж! — приветствовал он управляющего. — Как поживаете, Фрэнк? — отозвался Герствуд, почувствовав при виде приятеля некоторое облегчение. — Присядьте! — предложил он, указывая на стул. — Что с вами, Джордж? — спросил Тэйнтор. — Что-то вы сегодня невеселый! Уж не продулись ли на бегах? — Нет, просто неважно себя чувствую. Должно быть, немного простудился. — Выпейте виски, Джордж! — посоветовал Тэйнтор. — Вам-то надо бы знать, что это — прекрасное средство! Герствуд только усмехнулся в ответ. Пока они беседовали, в баре появилось еще несколько знакомых Герствуда, а в двенадцатом часу, после разъезда из театров, стали собираться актеры, и среди них несколько знаменитостей. И тогда завязалась одна из тех бессодержательных бесед, которые столь обычны в американских барах и ресторанах, где те, кто жаждет проникнуть в круг избранных, стараются хотя бы потереться возле тех, кто уже причислен к нему. Если у Герствуда и была какая-то слабость, так это тяготение к «видным людям». Себя он тоже относил к их числу. Он был слишком горд, чтобы заискивать перед кем бы то ни было, слишком умен, чтобы забывать о своем месте в присутствии тех, кто недостаточно ценил его. Но в обществе, подобном сегодняшнему, он мог блистать как истый джентльмен, и сознание, что люди с громкими именами принимали его как друга и как равного, приводило Герствуда в восторг. Если и бывало, что иной раз он пропускал лишний стаканчик, то именно в таких случаях. Когда в баре собиралось интересное общество, он даже позволял себе пить наравне со всеми, причем аккуратно соблюдал свою очередь платить, точно был здесь посторонним, как прочие. И если Герствуд когда-либо и начинал хмелеть, вернее, ощущать дурманящую теплоту и приятную разнеженность, предшествующие более возбужденному состоянию, то именно в тех случаях, когда он бывал окружен такими людьми, как сейчас, когда вокруг него весело острословили знаменитости. В тот вечер он, взволнованный и угнетенный, обрадовался этому обществу и, отогнав на время прочь все свои тревоги, примкнул к общему веселью. Скоро вся компания была уже навеселе. Один за другим посыпались анекдоты — эти никогда не приедающиеся смешные истории, из которых главным образом состоят беседы американцев в подобной обстановке. Но вот пробило двенадцать — час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Обычно в кассе денег не оставалось, если не считать выручки, накопившейся после закрытия банков, да и это немногое кассир прятал в сейф, — секрет замка знали лишь он и владельцы бара. Тем не менее каждую ночь перед уходом Герствуд смотрел, плотно ли закрыты ящики кассы и дверцы сейфа. Затем он запирал свой маленький кабинет, зажигал специальную лампочку возле сейфа и лишь тогда отправлялся домой. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. «Надо будет завтра сделать замечание Мэйхью», — решил он. Кассир, уходя из бара за полчаса перед этим, не сомневался, надо полагать, что повернул ручку дверцы так, чтобы защелкнулся замок. Никогда не случалось, чтобы он делал это небрежно. Но сегодня у Мэйхью были и другие заботы, которые поглощали все его внимание. Он обдумывал план открытия собственного дела. «Надо посмотреть, что там», — подумал Герствуд, выдвигая один из ящиков. Он и сам не знал, почему ему захотелось заглянуть туда. Это было совсем непроизвольное движение, которого в другое время он, возможно, и не сделал бы. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по тысяче долларов, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что Фицджеральд и Мой оставляют такие деньги! — мелькнуло у него в уме. — По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай!» — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в пятьдесят и сто долларов. Он насчитал около десяти пачек. «Почему же я не запираю сейфа? — мысленно спросил себя Герствуд. — Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: «А у тебя когда-нибудь было на руках десять тысяч долларов наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше сорока тысяч, но все теперь должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению: Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и спустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт! — шептал ему тот же голос. — Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. О, если б у него были эти деньги и Керри! Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. «Ну так как же?» — спросил внутренний голос. Вместо ответа управляющий баром только поднял руку и задумчиво почесал затылок. Герствуд вовсе не был глупцом, и он не позволил бы себе слепо ринуться в столь дикую авантюру. В его крови все еще играло вино. Оно ударило в голову и в розовых тонах рисовало положение вещей. Оно делало эти десять тысяч долларов вполне досягаемыми. А имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха! Он может завоевать Керри, да, да, вне всякого сомнения! Он избавится от жены. В кармане лежит письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо! Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Керри многие годы. Боже! Что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого! Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Тем, кто никогда не колебался, не зная, как поступить, трудно понять мучения людей менее сильных, которые, трепеща, мечутся между долгом и желанием. Те, кто никогда не слыхал жуткого тиканья призрачных часов, с ужасающей четкостью выстукивающих: «Сделай!», «Не делай!», «Сделай!», «Не делай!» — не могут судить таких людей. Подобная душевная борьба возможна не только у натур чувствительных и щепетильных. Самый толстокожий представитель рода человеческого и тот слышит голос совести в ту минуту, когда желание толкает его на дурное, и голос этот звучит тем громче, чем серьезнее преступление. Между прочим, это не всегда объясняется сознанием аморальности поступка, ибо отнюдь не это, а инстинкт побуждает и животных воздерживаться от зла. Люди тоже поступают, повинуясь прежде всего инстинкту, а уж потом доводам рассудка. Именно инстинкт останавливает преступника, именно инстинкт (в тех случаях, когда человек не может здраво рассуждать) внушает преступнику страх перед опасностью, страх перед дурным делом. Но затем, при первой же попытке человека неискушенного совершить преступное дело, его охватывают сомнения. Мысли его мечутся вслед за призрачным маятником, отстукивающим то приказание, то запрет. Для тех, кто никогда не знал подобной дилеммы, дальнейшее представляет чисто познавательный интерес. Едва Герствуд поставил ящик с деньгами на место, к нему снова вернулись самообладание и смелость. Никто не видел его, он был совсем один. Никто не мог сказать, что он намеревался сделать минуту назад. Он мог основательно все взвесить. Хмель еще не прошел, и, хотя на лбу у Герствуда выступила испарина, а руки его дрожали от пережитого необъяснимого страха, винные пары продолжали еще оказывать свое действие. Он едва ли замечал, что время идет. Снова и снова обдумывал он свое положение. При этом он мысленно все время видел перед собой кучу денег, и воображение не переставало рисовать ему, что можно будет сделать с ними. Герствуд направился было в свой кабинет, потом подошел к двери, потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они — деньги! Право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них! Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести! Удивительно, право, как мало места они занимают! Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их! Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж! Он вспомнил, что у него есть тут же, в кабинете, маленький саквояж. Туда деньги свободно войдут. Да, как это удачно, что у него есть саквояж! Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Герствуд прошел в свой кабинет и достал с полки в углу саквояж. Поставив его на стол, он вышел за дверь и подошел к сейфу. Почему-то ему не хотелось класть деньги в саквояж в большом помещении бара. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все! Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Колебания человеческого ума при подобных обстоятельствах — явление почти необъяснимое, однако вполне достоверное. Герствуд не мог заставить себя действовать решительно. Ему хотелось без конца думать об этом, думать, и соображать, и решать, как лучше всего поступить. Его с такою силой влекло к Керри и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится, не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, он этого не сделает! Ни за что! Подумать только, какой он вызовет скандал!.. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам! Он вынужден будет бежать, но куда? О, какой это ужас — бежать от правосудия! Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал! Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась! Неужели это он сам?.. Герствуд быстро схватился за ручку и стал с силой дергать дверцу. Сейф был на запоре! Боже! Теперь он попался. Кончено! Как только он понял, что сейф захлопнулся накрепко, на лбу у него выступил холодный пот, и его бросило в дрожь. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. «Если я даже положу деньги на сейф и уйду, — подумал Герствуд, — все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда ухожу последним. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь!» Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться!» — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. — Напрасно я это сделал, — прошептал он. — Это было ошибкой! Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города, как можно скорее! «Первым делом необходимо узнать, какие сейчас есть поезда», — решил он. Герствуд вынул часы и взглянул на стрелки. Было около половины второго. У ближайшей аптеки он остановился, увидев через окно телефонную будку. Это была известная аптека, и в ней была установлена одна из первых телефонных будок общего пользования. — Разрешите мне воспользоваться телефоном? — обратился он к дежурному фармацевту. Тот кивнул в знак согласия. — Шестнадцать сорок три, — попросил Герствуд, отыскав в книге абонентов вокзал Мичиган-Сентрал. Вскоре его соединили с кассиром. — Когда отходит поезд в Детройт? — спросил Герствуд. Кассир стал перечислять поезда. — Значит, сегодня поезда уже нет? — прервал его Герствуд. — Поезда со спальным вагоном нет, — ответил тот, но тотчас же добавил: — Впрочем, есть почтовый поезд, который отходит в три часа утра. — Очень хорошо, — сказал Герствуд. — А когда этот поезд прибывает в Детройт? «Только бы добраться до Детройта, — подумал он, — переправиться через реку в Канаду, а там уже можно будет спокойно доехать до Монреаля!» Поэтому он облегченно вздохнул, услышав, что поезд прибывает в Детройт к полудню. «Раньше десяти кассир не откроет сейфа, — пронеслось у него в уме. — Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след!» Потом он вспомнил про Керри, — чтобы увезти ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним! Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэб. — Огден-сквер! — крикнул он. — Если поедете быстро, получите доллар на чай! Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила как могла быстро. По дороге Герствуд обдумывал, что делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. — Дома миссис Друэ? — спросил он. — Да, — ответила изумленная горничная. — Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть. Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду. — Что? — воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем. — С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть, — повторила горничная. — Внизу дожидается кэб. Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная. — Друэ расшибся, — быстро проговорил Герствуд. — Он хочет видеть вас. Едем скорее! Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету. — Садитесь! — сказал Герствуд, подсаживая ее и вскакивая в кэб следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. — Вокзал Мичиган-Сентрал! — привстав, сказал ему Герствуд так тихо, что Керри не могла его слышать. — И гоните вовсю!Глава 28
Переселенец и беглец.
Плененный дух
Кэб успел проехать лишь несколько домов, когда Керри, собравшись смыслями и окончательно проснувшись на холодном ночном воздухе, спросила: — Что же с ним случилось? Он сильно расшибся? — Нет, ничего серьезного, — угрюмо ответил Герствуд. Он был немало встревожен своим положением и теперь, когда Керри сидела рядом, думал лишь о том, чтобы поскорее оказаться подальше от цепких лап закона. У него не было ни малейшего желания разговаривать, и потому он говорил лишь то, что было необходимо для выполнения его планов. Керри отнюдь не забыла, что в ее отношениях с Герствудом был один нерешенный вопрос, но волнение оттеснило эту мысль на задний план. Прежде всего пусть кончится это странное путешествие. — Где он? — Там, на Южной стороне, — неопределенно ответил Герствуд. — Нам придется ехать поездом. Так будет скорее. Керри ничего не ответила. Лошадь бежала быстрой рысцой. Призрачная картина ночного города завладела вниманием Керри. Она смотрела на уходившие назад ряды фонарей и вглядывалась в безмолвные темные дома. — Как же он все-таки расшибся? — спросила она, обеспокоенная состоянием Друэ. Герствуд понял ее. Ему было неприятно лгать больше, чем это казалось необходимым, но в то же время лучше не допускать никаких протестов до той минуты, пока он не очутится вне опасности. — Я точно не знаю, — ответил он. — Мне позвонили и попросили немедленно поехать за вами. Сказали, что нет оснований пугаться, но что я непременно должен доставить вас. Серьезный тон Герствуда убедил Керри, и она, умолкнув, задумалась. Герствуд взглянул на часы и поторопил кэбмена. Несмотря на всю щекотливость положения, он сохранял удивительное хладнокровие. Он думал только о том, чтобы поспеть на поезд и спокойно выбраться из города. Керри была послушна, и Герствуд уже поздравлял себя с успехом. Наконец они прибыли на вокзал. Герствуд сунул кэбмену бумажку в пять долларов, помог Керри сойти и поспешил с ней вперед. — Посидите здесь, — сказал он, проводив ее в зал ожидания. — Я схожу за билетами. — Сколько осталось до отхода поезда в Детройт? — обратился он к дежурному кассиру. — Четыре минуты, — последовал ответ. Герствуд уплатил за два билета, стараясь по возможности не привлекать к себе внимания. — Далеко нам ехать? — спросила Керри, когда Герствуд, запыхавшись, вернулся к ней. — Нет, не очень, — ответил он. — Но нам нужно торопиться. Когда они подошли к выходу на перрон, Герствуд пропустил Керри вперед и стал между нею и контролером, проверявшим билеты, так, чтобы она не могла увидеть их; затем они поспешили дальше. У платформы стояла длинная вереница багажных и пассажирских вагонов. Среди последних было два обычных дневных с сидячими местами. Этот поезд стал курсировать лишь недавно, и администрация дороги не рассчитывала на большой приток пассажиров, а потому на весь поезд было только два кондуктора. Герствуд и Керри вошли в один из дневных вагонов и сели. Почти тотчас же с платформы раздалось: «Готово!» — и поезд тронулся. Керри казалось немного странным, что понадобилось почему-то тащиться на вокзал, но она промолчала. Все это происшествие настолько выходило из рамок обычного, что она старалась не придавать значения смущавшим ее мелочам. — Как вы себя чувствуете? — ласково спросил Герствуд, вздохнув свободнее. — Очень хорошо, — коротко ответила Керри. Она была так встревожена, что еще не могла решить, как держаться с Герствудом. Она волновалась и хотела лишь одного: поскорее добраться до Друэ и узнать, что с ним. Герствуд смотрел на нее и читал ее мысли. Его нисколько не беспокоило, что сейчас она думала о Друэ. Это было естественно и вполне соответствовало ее добросердечию. А именно это свойство ее характера и нравилось ему. Его смущало лишь предстоявшее с нею объяснение. Но и это не было сейчас главным. Гораздо больше угнетало его сознание совершенного преступления и это бегство. «Как это было глупо, как глупо! — твердил он про себя. — Какую я сделал ошибку!» Сейчас, размышляя трезво, Герствуд с трудом мог представить себе, что оказался способным на такой шаг. В его сознании все еще никак не укладывалось, что он — беглец, скрывающийся от правосудия. Ему не раз приходилось читать о таких случаях, и он всегда ужасался про себя. Но теперь, когда такое произошло с ним самим, он мог лишь сидеть и думать о том, что было. Будущее для Герствуда связывалось с канадской границей. Он жаждал поскорее добраться до нее. Но главным образом он раздумывал о событиях минувшего вечера, считая все свои действия в целом огромной оплошностью. «А все-таки, — говорил он себе, — что же мне было делать?» Тут он решил, что нужно примириться со случившимся, и начинал с того, что снова и снова перебирал в памяти все события прошедшего дня. Это был бесплодный и мучительный круговорот мыслей, очень плохо подготовивший его к разговору с Керри. Поезд с грохотом несся мимо сортировочных станций на берегу озера, затем замедлил ход у Двадцать четвертой улицы. За окном мелькали сигнальные вышки и стрелки. Паровоз издавал короткие предупредительные свистки, и часто звонил колокол.[2] По вагону прошли проводники с фонарями в руках. Они запирали двери площадок, готовясь к продолжительному перегону. Вскоре поезд прибавил ходу, и перед глазами Керри быстрой чередой замелькали безмолвные улицы. Паровоз все чаще и чаще подавал сигналы, предостерегавшие о приближении к опасным перекресткам. — Это далеко? — снова спросила Керри. — Нет, не очень, — ответил Герствуд. Он с трудом сдерживал улыбку, думая о наивности своей спутницы. Ему хотелось скорее объясниться с нею и добиться примирения, но приходилось ждать, пока они отъедут от Чикаго. Прошло еще полчаса, и Керри начала понимать, что Герствуд везет ее куда-то далеко. — А это где — в Чикаго? — с беспокойством спросила она. Поезд уже давно выбрался за черту города и мчался теперь по полям штата Индиана. — Нет, не в Чикаго, — ответил Герствуд. Что-то в интонации его голоса заставило Керри мгновенно насторожиться. Она нахмурила красивый лоб и спросила: — Разве мы едем не к Чарли? Герствуд понял, что наступил решительный момент. Рано или поздно он вынужден будет объясниться. Поэтому он нежно взглянул на Керри и еле заметно покачал головой. — Что?! — воскликнула Керри. Она была ошеломлена, обнаружив, что они направляются совсем не туда, куда она предполагала. Герствуд молчал и только смотрел на нее кротким, умоляющим взглядом. — Куда же вы меня везете? — спросила Керри, и в голосе ее послышался страх. — Я скажу вам, Керри, если вы посидите спокойно. Я хочу увезти вас в другой город. — О! — вырвалось у Керри. — Оставьте меня! Я не желаю ехать с вами! Она была поражена дерзостью этого человека. Ничего подобного не могло прийти ей в голову. Единственной мыслью ее было — бежать, скорее бежать! Если бы только можно было остановить мчавшийся поезд, она расстроила бы весь этот гнусный замысел. Керри встала и хотела было выйти в коридор. Она понимала, что должна немедленно что-то сделать. Герствуд ласково дотронулся до ее руки. — Сидите спокойно, Керри, — сказал он. — Сидите спокойно! Вам некуда торопиться. Выслушайте меня, и я объясню вам свои намерения. Обождите минутку! Керри все еще пыталась протиснуться мимо его колен, но Герствуд легонько потянул ее назад, и она села на место. Никто не заметил этого маленького препирательства, так как в вагоне было мало пассажиров, да и те, что были, клевали носом. — Я не хочу! — протестовала Керри, все же подчиняясь. — Оставьте меня! — воскликнула она. — Как вы смеете! Ее глаза наполнились слезами. Только теперь Герствуд вполне осознал все возникшие перед ним трудности и перестал думать о себе и своем положении. Надо как-то уговорить девушку, иначе она доставит ему много неприятностей. Он призвал на помощь все свое красноречие. — Послушайте, Керри, — начал он, — не надо так. Я вовсе не собираюсь оскорблять вас. Я не сделаю ничего такого, что было бы вам неприятно. — О! — рыдала Керри. — О! О! — Полно, перестаньте, — уговаривал ее Герствуд. — Не надо плакать! Отчего вы не выслушаете меня! Я вам скажу, почему я вынужден был так поступить. Иначе нельзя было. Уверяю вас! Ну, послушайте же меня! — снова и снова повторял он. Его встревожили рыдания Керри. Она, конечно, не слышит ни одного его слова… — Ну, послушайте же, Керри! — Не хочу! — вспыхнула Керри. — Выпустите меня отсюда, не то я позову кондуктора! Я не желаю ехать с вами! Стыдно вам!.. И снова вызванные страхом рыдания не дали ей договорить. Герствуд был несколько ошеломлен. Он понимал, что возмущение Керри справедливо, но все же нужно успокоить ее как можно скорее. Вот-вот придет кондуктор проверять билеты. Не надо никакого шума, никаких осложнений. Прежде всего он должен как-то уговорить ее. — Вы все равно не выйдете отсюда, пока поезд не остановится, — сказал он. — Обождите немного, мы скоро доедем до какой-нибудь станции. Если захотите, вы там сойдете. Я не стану вас удерживать… Я только прошу вас выслушать меня. Позвольте мне объяснить, почему я это сделал. Керри, казалось, не слушала его. Она отвернулась к окну, за которым чернела ночь. Поезд быстро и плавно скользил между полей и перелесков. Протяжно и уныло заливался паровозный свисток каждый раз, как поезд приближался к шлагбаумам на пустынных лесных дорогах. Кондуктор вошел в вагон, выдал билеты двум пассажирам, занявшим места перед самым отходом поезда, потом стал проверять билеты у остальных. Он подошел к Герствуду, и тот протянул ему два билета. Керри, несмотря на все свое негодование, не шевельнулась. Она даже не подняла глаз. Когда кондуктор ушел, Герствуд облегченно вздохнул. — Вы сердитесь на меня за то, что я вас обманул, — сказал он. — Но у меня не было такого намерения, Керри! Клянусь, я этого не хотел. Я просто не мог бороться с собой. Я не могу жить без вас с той минуты, как я впервые вас увидел. О последнем своем обмане Герствуд даже не упомянул, как о мелочи, не имевшей никакого значения. Он спешил убедить Керри, что его жена больше не может явиться препятствием для них. А что касается украденных денег, то Герствуд старался выкинуть из головы всякую мысль о них. — Не смейте разговаривать со мной! — отозвалась Керри. — Я ненавижу вас. Оставьте меня в покое! Я сойду на ближайшей станции. Она вся дрожала от возмущения. — Хорошо, — сказал Герствуд. — Но только выслушайте меня. После всего, что вы говорили о вашей любви ко мне, вы могли бы меня выслушать! Я не хочу причинять вам зло. Я дам вам денег, чтобы вы могли вернуться домой, когда вы решите со мной расстаться. Я только хочу вам сказать одно, Керри: вы не можете запретить мне любить вас, что бы вы обо мне ни думали! Он посмотрел на нее с нежностью, но она не удостоила его ответом. — Вы, конечно, думаете, что я поступил некрасиво, обманув вас, но вы не правы. Я не хотел вас обманывать. С женою я порвал. Она не имеет никаких прав на меня. Я никогда больше не увижу ее. Вот почему я сегодня здесь, с вами. Вот почему я увез вас. — Вы сказали мне, что Чарли расшибся! — в бешенстве крикнула Керри. — Вы снова обманули меня. Вы все время обманывали меня, а теперь еще хотите силой заставить меня бежать с вами! Она пришла в такое возбуждение, что вскочила с места и снова попыталась пройти мимо Герствуда. На этот раз он не стал удерживать ее, и она пересела на другую скамью. Он последовал за ней. — Не уходите от меня, Керри! — ласково сказал он, подсаживаясь к ней. — Позвольте, я объясню вам. Выслушайте меня, и вы все поймете. Повторяю вам: я окончательно порвал с женой. Мы чужие уже много лет, иначе я не стал бы искать сближения с вами. Я скоро добьюсь развода. Я больше никогда не увижу ее. У меня с ней все кончено. Вы — единственная женщина, которая мне дорога. Если только вы будете со мной, я никогда не стану думать ни о ком другом. Керри слушала его, возбужденная и растерянная. Вопреки всему, что Герствуд сделал, его слова звучали искренне. В его голосе и жестах чувствовалась сейчас убежденность, которая не могла не подействовать на нее. Но она не желала никакой близости с ним. Он был женат, и он однажды уже обманул ее; а теперь снова увез ее обманом. Он ужасный человек… И все же в его смелости и силе воли было нечто такое, что чарует каждую женщину, особенно когда ей внушают, что все это только из любви к ней. Немалую роль в разрешении запутанной проблемы играло и беспрестанное движение поезда. Быстро вращались колеса — пейзаж менялся, и Чикаго все дальше и дальше уплывал назад. Керри чувствовала, что ее несет вперед непреодолимая сила, что паровоз без единой остановки мчится к какому-то далекому городу. Порой ей хотелось закричать и устроить громкий скандал, чтобы кто-нибудь прибежал к ней на помощь; потом начинало казаться, что это бесполезно… теперь никто и ничем не мог ей помочь. А Герствуд тем временем старался взывать к ее сердцу такими словами, которые могли бы найти у Керри отклик и пробудить в ней сочувствие к нему. — Поймите же, Керри, я очутился в таком положении, что у меня не было иного пути. Керри и виду не подала, что слушает его. — Когда я убедился, что вы не поедете со мной, пока я не смогу жениться на вас, я решил бросить все и увезти вас. Я еду в другой город. Я рассчитываю ненадолго задержаться в Монреале, а потом мы поедем, куда только вы захотите. Если пожелаете, мы поедем в Нью-Йорк и поселимся там. — Я не хочу никуда ехать с вами, — повторила Керри. — Я сойду на ближайшей станции. Куда идет этот поезд? — В Детройт! — О! — вырвалось у Керри, и она в ужасе всплеснула руками. От дальности расстояния ее положение казалось еще более трудным. — Неужели вы не поедете со мной? — продолжал Герствуд таким тоном, будто над ним нависла страшная угроза, что она не последует за ним. — Вам не придется ничего делать, вы только будете путешествовать со мной. А я ничем не стану вам мешать. Вы увидите Монреаль и Нью-Йорк, а потом если вы не захотите остаться со мной, вернетесь назад. Это куда лучше, чем возвращаться сейчас, ночью! Впервые Керри начала понимать, что его предложение не таит в себе никакого подвоха. В нем было много заманчивого, хотя она боялась, что все будет не так, как обещал Герствуд. Увидеть Монреаль и Нью-Йорк! Сейчас она уже на пути к этим чудесным гигантским городам, и она увидит их, если только пожелает. Она задумалась, ничем, впрочем, не выдавая своих мыслей. Герствуду показалось, что он уловил намек на согласие, и он удвоил усилия. — Подумайте только, что я бросил ради вас! — сказал он. — Я уже не могу больше вернуться в Чикаго. Если вы не поедете со мной, мне суждено остаться навеки одиноким. Не может быть, чтобы вы покинули меня, Керри! — Я запрещаю вам разговаривать со мной! — с трудом произнесла она. На некоторое время Герствуд умолк. Вдруг Керри почувствовала, что поезд замедляет ход. Настало время действовать, если она и впрямь намерена что-то предпринять. Она сделала движение, чтобы встать. — Не покидайте меня, Керри! — молил Герствуд. — Если вы когда-нибудь хоть немного любили меня, поезжайте со мною, и мы начнем новую жизнь. Я сделаю для вас все, что вы захотите. Я женюсь на вас или же отпущу вас обратно. Не торопитесь и хорошенько подумайте. Если бы я не любил вас, зачем понадобилось бы мне увозить вас с собой? Клянусь, Керри, я не могу жить без вас! Не могу и не хочу! Столько решимости и отчаяния звучало в словах этого человека, что слова его глубоко проникли в душу Керри. Это был голос всепоглощающей страсти. Он слишком сильно любил Керри, чтобы отказаться от нее в такую тяжелую минуту. Он схватил ее руку и с горячей мольбой сжал ее пальцы. Поезд медленно шел мимо вагонов, стоявших на запасном пути. За окном было темно и мрачно. Несколько капель брызнуло на стекло, — начинался дождь. Керри переживала острую душевную борьбу, то решая уйти, то снова колеблясь. Поезд остановился, а она все еще выслушивала мольбы Герствуда. Паровоз чуть-чуть осадил назад, и настала тишина. Керри беспомощно сидела на месте. Минута проходила за минутой, она все медлила, а он все упрашивал ее. — И вы отпустите меня обратно, если я захочу? — спросила Керри, точно она была хозяйкой положения, а ее спутник всецело зависел от нее. — Конечно! — ответил Герствуд. — Вы же знаете, что я не посмею вас задерживать. Керри слушала его с видом владычицы; даровавшей лишь условное помилование. Ей теперь казалось, что в дальнейшем ход событий всецело в ее руках. Поезд тронулся и вскоре снова помчался полным ходом. Герствуд переменил тему разговора. — Вы, наверно, очень устали? — спросил он. — Нет, — бросила Керри. — Разрешите мне достать вам место в спальном вагоне? — предложил Герствуд. Керри отрицательно покачала головой. Но, несмотря на все свое смятение, несмотря на коварство Герствуда, она снова стала замечать в нем то, что всегда так ценила: его заботливость. — Но я прошу вас! — настаивал он. — Там вам будет гораздо лучше. Керри снова покачала головой. — Тогда хоть позвольте положить вам под голову мое пальто, — сказал Герствуд. Он встал и свернул свое легкое летнее пальто так, чтобы голова Керри удобно покоилась на нем. — Ну вот, — нежно сказал он, — теперь попробуйте немного отдохнуть. Герствуд готов был расцеловать Керри за ее уступчивость. Усевшись возле нее, он задумался. — Вероятно, будет сильный дождь, — сказал он после паузы. — Да, похоже на то, — отозвалась Керри, понемногу начиная успокаиваться под мягкий стук дождевых капель, бросаемых ветром в окна поезда, который бешено мчался во мгле к новому миру. Герствуд был рад, что ему удалось до некоторой степени успокоить Керри, но для него это было лишь временной передышкой. Теперь, когда ее сопротивление было сломлено, он мог отдаться мыслям о совершенной им ошибке. На душе у него была невыносимая тяжесть. Он украл эту жалкую сумму, которая, в сущности, ему не нужна. Он не хотел быть вором. Никакие деньги — ни эта сумма, ни какая-либо иная — не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью, даже Керри — такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго, сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя, он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Чем больше Герствуд думал, тем нестерпимее становилась для него эта мысль. Не попытаться ли восстановить свое прежнее положение? Что, если он вернет эти несчастные несколько тысяч, украденные прошлой ночью, и все объяснит? Быть может, мистер Мой поймет. Быть может, владельцы бара простят его и позволят ему вернуться? К полудню поезд подъехал к Детройту, и Герствуд стал нервничать. Полиция уже, наверно, ищет его. Надо полагать, что во всех больших городах полиция извещена о пропаже и теперь сыщики будут его выслеживать. Ему невольно вспомнились описания поимки преступников, и грудь его стала высоко вздыматься, а лицо побледнело. Руки Герствуда конвульсивно задергались, словно ища, за что ухватиться. Он притворялся, будто его интересует вид за окном, и нервно постукивал ногой об пол. Керри заметила волнение Герствуда, но ничего не сказала. Она не имела ни малейшего представления о его причине и о том, как эта причина важна. А Герствуд вдруг спохватился, что даже не спросил, идет ли этот поезд прямо до Монреаля или до какого-нибудь другого пункта в Канаде. Возможно, что ему удастся выиграть время. Он тотчас вскочил и пошел разыскивать кондуктора. — Скажите, пожалуйста, не идет ли часть вагонов прямо в Монреаль? — спросил он. — Да, ближайший спальный идет в Канаду. Герствуд хотел было продолжить расспросы, но решил, что это будет неосторожно и что правильнее навести справки на вокзале. Поезд, пыхтя и громыхая, подкатил к станции. — Я думаю, что нам лучше всего ехать прямо до Монреаля, — сказал он, обращаясь к Керри. — Я пойду узнаю, есть ли туда поезд и когда он отходит. Герствуд волновался, но внешне старался казаться возможно спокойнее. А Керри только смотрела на него большими тревожными глазами. Все ее мысли перепутались, и она не могла прийти ни к какому решению. Едва поезд остановился, Герствуд помог ей сойти и пошел вперед. Он с опаской оглядывался на каждом шагу, делая вид, что смотрит, не отстает ли Керри. Но он не заметил ничего подозрительного. Никто, очевидно, и не думал следить за ним, а потому он направился прямо к кассе. — Когда отходит поезд в Монреаль? — спросил он. — Через двадцать минут, — ответил кассир. Герствуд взял два спальных места и тотчас поспешил назад к Керри. — Мы сейчас же едем дальше, — сказал он, не обращая внимания на ее усталый, измученный вид. — О, хоть бы все это скорее кончилось! — воскликнула она. — В Монреале вы сразу почувствуете себя лучше, дорогая! — У меня ничего нет с собой, — сказала Керри. — Даже носового платка! — Вы купите все, что вам нужно, как только мы приедем на место, — успокаивал ее Герствуд. — Там вы сможете пригласить к себе портниху. Они заняли места в поезде; вскоре дежурный по станции дал сигнал к отправлению. Когда поезд тронулся, Герствуд облегченно вздохнул. Сперва небольшой пробег до реки, потом поезд перешел на паром, а когда они очутились в Канаде, Герствуд откинулся на спинку дивана и впервые свободно перевел дыхание. — Теперь уже недолго! — сказал он, на радостях вспомнив и об утомлении Керри. — Рано утром мы будем в Монреале. Керри ничего не ответила. — Я пойду узнаю, нет ли тут вагона-ресторана, — добавил Герствуд. — Мне хочется есть.Глава 29
Путевые развлечения.
Морские корабли
Для человека, который никогда не путешествовал, всякое новое место, сколько-нибудь отличающееся от родного края, выглядит очень заманчиво. Если не говорить о любви, больше всего радости и утешения приносят нам путешествия. Все новое кажется нам почему-то очень важным, и под наплывом впечатлений мы отключаемся от грустных мыслей, ведь разум наш подчинен восприятию чувств прежде всего. В пути забывается горе, разлука с любимым, уходят прочь думы о смерти. Всего в двух словах — «я уезжаю» — кроется целый мир противоречивых чувств. Керри смотрела на мелькавший за окном пейзаж, почти забыв, что ее хитростью, против воли, заставили уехать, что у нее нет с собой и самого необходимого для долгой дороги. Иногда, с любопытством разглядывая фермерские домики и уютные коттеджи, она вовсе забывала о Герствуде. Перед ней был новый интересный мир, жизнь будто снова начиналась. Она вовсе не чувствовала себя побежденной, ее надежды не были разбиты. Большой город сулил так много! Может, она вырвется из рабства. Кто знает? Может, она еще найдет счастье! Эти мысли окрыляли ее. В оптимизме было ее спасение. На следующее утро поезд благополучно прибыл в Монреаль, и путешественники вышли из вагона: Герствуд, радуясь, что теперь он вне опасности, а Керри, дивясь незнакомому северному городу. Герствуд бывал здесь раньше и теперь вспомнил об отеле, в котором обычно останавливался. Когда они выходили из здания вокзала, водитель автобуса как раз назвал этот отель. — Мы поедем прямо туда и снимем номер, — сказал Герствуд. В отеле Герствуд придвинул к себе книгу для записи приезжих и стал перелистывать ее в ожидании, пока освободится портье. Он лихорадочно придумывал себе фамилию. Когда портье подошел, нельзя было медлить ни секунды. По дороге сюда Герствуд из окна экипажа увидел на вывеске фамилию, которую нашел достаточно благозвучной. И он размашисто написал «Дж. У.Мердок, с женой». Чужая фамилия — вот на что вынудили его обстоятельства! Но от своих инициалов он ни в коем случае не откажется. Когда им показали комнаты, Керри увидела, что Герствуд снял для нее прелестный номер. — Там у вас есть ванна, — сказал он, — и вы можете сейчас же выкупаться. Керри подошла к окну и выглянула на улицу. А Герствуд посмотрел на себя в зеркало. Он был весь в пыли, и ему хотелось поскорее вымыться. У него не было с собою ни смены белья, ни даже щетки для волос. — Я позвоню и попрошу принести мыло и полотенце, а также пришлю вам щетку для волос, — сказал он. — Вы можете, не торопясь, купаться до завтрака. Я побреюсь и вернусь за вами, а потом мы пойдем и что-нибудь вам купим. При последних словах он добродушно улыбнулся. — Хорошо, — согласилась Керри. Она уселась в качалку, а Герствуд стал дожидаться слугу, который вскоре постучал в дверь. — Пожалуйста, мыло, полотенце и графин холодной воды. — Слушаю, сэр! — А теперь я пойду, — сказал Герствуд и, подойдя к Керри, протянул ей руки. Но она не проявила ни малейшего желания взять их в свои. — Вы все еще сердитесь на меня, Керри? — ласково спросил он. — Нет, не сержусь, — равнодушно ответила она. — Неужели вы меня ни капельки не любите? Керри не отвечала, упорно глядя в окно. — Неужели вы никогда не полюбите меня хоть немного? — молил Герствуд, беря ее за руку, но Керри попыталась вырвать ее. — Вы когда-то говорили, что любите меня! — не сдавался он. — Почему вы меня обманули? — спросила Керри. — Я ничего не мог с собой поделать, — сказал Герствуд. — Я слишком люблю вас. — Вы не имели права влюбляться в меня, — колко заметила она. — Полно, Керри, — отозвался Герствуд. — Теперь уже поздно. Я здесь, с вами. Попробуйте немного полюбить меня! Он стоял перед нею с таким видом, будто это он был обманутым. Керри отрицательно покачала головой. — Позвольте мне снова просить вас, — продолжал Герствуд. — Будьте с этого дня моей женой, Керри! Он все еще держал ее руку. Керри встала и повернулась, словно собираясь уйти. Тогда Герствуд обнял ее за талию. Керри пыталась обороняться, но тщетно. Он крепко прижал ее к себе. И в нем тотчас вспыхнула непреодолимая страсть. Он весь пылал. — Пустите меня, — пробормотала Керри, когда Герствуд крепко прижал ее к груди. — Неужели вы не полюбите меня? — умолял он. — Почему вы не хотите быть моей? Керри никогда не питала неприязни к Герствуду и всего минуту назад довольно благосклонно прислушивалась к его словам, вспоминая свое былое увлечение им. Этот человек был так красив, так смел! Теперь это чувство сменилось постепенно нараставшим чувством протеста. Оно на миг овладело ею, но, когда Герствуд обнял ее, начало испаряться. Что-то иное заговорило в ней. Этот человек, прижавший ее к груди, был такой сильный, в нем пылала страсть, он любил ее, а она была так одинока! Если она не захочет опереться на него, не ответит на его любовь — куда же ей тогда деваться? Сопротивление ее уже наполовину растаяло под напором его сильного чувства. Она внезапно почувствовала, как он взял ее за подбородок и, приподняв ей голову, заглянул в глаза. Керри никогда не могла понять, что за магнетическая сила была в его взгляде. В этот миг она забыла все его прегрешения. Еще крепче прижав ее к себе, Герствуд начал страстно целовать ее, и Керри поняла, что дальнейшее сопротивление бесполезно. — Вы обвенчаетесь со мной? — спросила она, совсем не думая о том, возможно ли это. — Сегодня же! — восторженно отозвался Герствуд. Тут в дверь постучали, и Герствуд с большой неохотой выпустил Керри из объятий. Коридорный принес мыло, полотенце и воду. — Вы скоро будете готовы? — спросил Герствуд; направляясь к двери. — Да, — ответила Керри. — Я вернусь меньше чем через час. Герствуд спустился в вестибюль и стал оглядываться, ища глазами парикмахерскую. На душе у него было легко и радостно. Победа, только что одержанная над Керри, сулила награду за все, что он вынес в последние несколько дней. Жизнь стоила того, чтобы за нее бороться. Это бегство от всего, к чему он привык, к чему был привязан, быть может, вело к счастью. Гроза кончилась, и на небе появилась радуга, быть может, одним концом своим указывающая на золотой клад. Герствуд собрался было подойти к двери, возле которой красовался столбик в красную и белую полоску[3], как вдруг кто-то фамильярно окликнул его. Сердце у него мгновенно сжалось. — Здорово, Джордж, старина! — услышал он. — Что вы поделываете в этих краях? Герствуд узнал одного из своих приятелей, биржевого маклера, по фамилии Кении. — Я здесь по небольшому частному делу, — ответил Герствуд. Его мозг заработал с лихорадочной быстротой: «Очевидно, Кении ничего не знает: он еще не читал утренних газет!» — Как странно встретить вас так далеко от дома, — добродушно продолжал мистер Кенни. — Вы остановились в этом отеле? — Да, — неохотно ответил Герствуд, вспомнив о своей записи в книге приезжих. — Надолго приехали? — Нет. Денька на два. — Вот как! А вы уже завтракали? — Да, — солгал Герствуд. — Я иду бриться. — Не зайдете со мной в бар? — Сейчас не могу. После — пожалуй! — ответил Герствуд. — Мы еще увидимся. Вы тоже остановились здесь? — Да, — ответил мистер Кении. — Как дела в Чикаго? — добавил он. — Все по-старому, — с улыбкой отозвался Герствуд. — Жена с вами? — Нет. — Ну, мы непременно должны еще встретиться с вами сегодня. Я сейчас пойду позавтракаю, а потом заходите ко мне, как только освободитесь. — Непременно, — обещал Герствуд, и они разошлись. Весь этот разговор был для него сплошною пыткой. Каждое слово Кении, казалось, лишь усложняло и без того запутанное положение. Он пробудил в Герствуде тысячу воспоминаний. Он олицетворял собою все, что управляющий баром оставил позади: Чикаго, жену, роскошный бар — обо всем этом упомянул Кении в своих приветствиях и расспросах. Надо же было Кенни остановиться именно в этом отеле! Теперь он, наверное, будет рассчитывать на общество Герствуда! С минуты на минуту прибудут газеты из Чикаго, да и местные газеты сегодня же напечатают обо всем. Мысль о том, что в глазах этого человека он будет вором, взломавшим сейф, заставила Герствуда совсем забыть о победе над Керри. Он чуть не застонал, открывая дверь парикмахерской. Надо бежать отсюда, найти какой-то более уединенный отель! Герствуд обрадовался, когда, выйдя из парикмахерской, увидел, что в вестибюле нет ни души. Он быстро направился к лестнице. Он сейчас же возьмет с собой Керри, они выйдут с другого хода и позавтракают в более укромном месте. Однако на другом конце вестибюля он заметил какого-то субъекта, внимательно наблюдавшего за ним. Это был типичный ирландец, небольшого роста и довольно бедно одетый, с лицом, которое можно было назвать удешевленным изданием лица крупного политического интригана. По-видимому, этот человек только что разговаривал с портье и теперь устремил все свое внимание на бывшего управляющего баром. Герствуд почувствовал на себе пристальный взгляд и тотчас догадался, к какой категории людей принадлежит этот субъект. Инстинктивно он понял, что сыщик следит за ним. Он быстро прошел мимо, делая вид, будто ничего не заметил, но в голове у него вихрем кружился поток мыслей. Что теперь будет? Что могут сделать с ним здесь? Он вспомнил, что существует закон о выдаче преступников, и заволновался, не зная в точности положений этого закона. Что, если его арестуют? О, если Керри узнает! Нет, в Монреале земля горела у него под ногами. Ему захотелось поскорее бежать отсюда. Когда Герствуд вернулся в номер, Керри уже успела выкупаться и теперь ждала его. Она посвежела и казалась еще прелестнее, но вела себя в высшей степени сдержанно. В ней чувствовался прежний холодок. Во всяком случае, любовь не пылала в ее сердце. Герствуд почувствовал это, и на душе у него стало еще тревожнее. Он не смог схватить ее в объятия, он даже не пытался сделать это. Что-то в ее поведении удерживало его. Да и сам он еще не отделался от мыслей и ощущений, нахлынувших на него в вестибюле. — Вы готовы? — ласково спросил он. — Да. — Пойдемте куда-нибудь завтракать. Здешний ресторан мне не очень понравился. — Мне все равно, — сказала Керри. Они вышли из номера и спустились вниз. На ближайшем углу стоял тот же ирландец, который наблюдал за Герствудом в вестибюле. Управляющий баром еле сдержал себя, — так трудно было ему притворяться, что он ничего не замечает. Его злил наглый взгляд ирландца. Они прошли мимо, и Герствуд принялся рассказывать Керри про Монреаль. Вскоре они увидели ресторан и вошли туда. — Какой странный город! — заметила Керри, которую Монреаль удивлял, в сущности, лишь потому, что не был похож на Чикаго. — Просто жизнь здесь не кипит, как в Чикаго, — сказал Герствуд. — Вам тут не нравится? — Нет, — ответила Керри, уже свыкшаяся с великой столицей Запада и полюбившая ее. — Да, пожалуй, Монреаль менее интересен, — согласился Герствуд. — А что он собой представляет? — полюбопытствовала Керри. Она никак не могла понять, почему Герствуд повез ее именно в этот город. — Ничего особенного, — ответил Герствуд. — Это своего рода курорт с очень живописными окрестностями. Керри слушала его со смутной тревогой. Странность ее положения отравляла удовольствие, которое могла бы доставить ей эта поездка. — Но мы здесь долго не останемся, — продолжал Герствуд, который теперь был даже рад, что Керри не одобрила Монреаля. — Как только мы позавтракаем, вы купите нужные вам вещи, и мы сразу двинемся в Нью-Йорк. Там вам понравится! Чикаго и Нью-Йорк — самые интересные города в Соединенных Штатах. Герствуд только и думал о том, как бы скорее убраться отсюда подобру-поздорову. Надо будет только сперва посмотреть, что сделают сыщики, что предпримут его бывшие хозяева в Чикаго, а потом улизнуть, хотя бы в Нью-Йорк, где можно скрыться без особого труда. Он был достаточно хорошо знаком с этим городом и знал, какие источники питают здешнюю бездумную расточительность. Но чем больше он об этом размышлял, тем ужаснее казалось ему положение, в котором он находился. Герствуду стало ясно, что бегство в Монреаль отнюдь не решало задачи. Надо полагать, что его хозяева наймут сыщиков, которые неотступно будут следить за ним, — для этого существуют агентства Пинкертона, Муни и Боланда. Как только он попытается покинуть Канаду, его тотчас же арестуют. Возможно, ему придется прожить здесь долгие месяцы и в каком состоянии! Вернувшись, Герствуд решил как можно скорее просмотреть утренние газеты. Его тянуло к ним, и в то же время он боялся взять их в руки. Ему хотелось узнать, как далеко успела распространиться весть о совершенном им преступлении. Сказав Керри, что вернется через несколько минут, он отправился за газетами. В вестибюле не оказалось ни одного знакомого или подозрительного лица, тем не менее Герствуд не хотел читать здесь. Поэтому он поднялся во второй этаж и уселся с газетами у окна общей гостиной. Его преступлению было уделено очень мало места, но о нем было упомянуто во всех газетах среди всевозможных телеграфных сообщений о несчастных случаях, убийствах, ограблениях, венчаниях и прочем. «И зачем только я сделал это!» — с горечью размышлял Герствуд. С каждой минутой пребывания в этом далеком убежище в нем крепло мучительное сознание, что он совершил большую оплошность. Наверное, существовал другой, более легкий выход из положения, выход, которого он не знал. Не желая, чтобы газеты попались на глаза Керри, он оставил их в гостиной. — Ну, как вы себя чувствуете? — спросил он, входя в номер. Керри сидела у окна и смотрела на улицу. — Ничего, — ответила она. Герствуд подошел к ней и только собрался заговорить, как вдруг раздался стук в дверь. — Это, вероятно, мои покупки, — сказала Керри. Герствуд отпер дверь. В коридоре стоял все тот же неприятный субъект, в котором он уже давно заподозрил сыщика. — Вы мистер Герствуд, не так ли? — спросил ирландец, принимая решительный и самоуверенный вид. — Да, — спокойно ответил Герствуд. Он так хорошо знал, чего стоят подобные люди, что к нему даже вернулась доля прежнего самообладания. У него в баре таких господ принимали весьма холодно. Выйдя в коридор, Герствуд закрыл за собой дверь. — Надо полагать, что вы знаете, зачем я здесь? — понизив голос, спросил сыщик. — Да, догадываюсь, — так же тихо ответил Герствуд. — Ну и что же? Намерены вы вернуть деньги? — Это мое личное дело, — угрюмо отозвался Герствуд. — Вы отлично знаете, что вам не удастся улизнуть, — сказал сыщик, невозмутимо глядя на него. — Послушайте, милейший, — пренебрежительным тоном начал Герствуд. — Вы ровно ничего не понимаете во всем этом деле, и я не намерен объясняться с вами. Как бы я ни собирался поступить, я сделаю это без вашего или чьего бы то ни было совета. Прошу прощения! — Странно вы рассуждаете! — заметил сыщик. — Ведь вы, в сущности, уже сейчас в руках полиции. Если мы пожелаем, то можем причинить вам много неприятностей. Вы записались здесь под вымышленным именем, и с вами вовсе не ваша жена. Но газеты еще не знают, что вы здесь, и я советовал бы вам быть благоразумнее. — Что вы хотите знать? — Только одно: отошлете вы назад деньги или нет. Герствуд молча глядел в пол. — Мне незачем давать вам объяснения, — сказал он наконец. — А вам незачем меня допрашивать. Поверьте, я не дурак. Я прекрасно знаю, что вы можете сделать и чего не можете. Вы можете причинить мне неприятности, против этого я не спорю, но этим вы не вернете денег. Я уже решил, как поступить, и написал об этом Фицджеральду и Мою. Больше мне нечего вам сказать. Ждите, пока не получите от них новых указаний. Продолжая говорить, Герствуд все дальше и дальше отходил от двери, увлекая таким образом за собой своего собеседника, чтобы Керри не услышала разговора. Наконец они очутились в самом конце коридора, у двери в общую гостиную. — Значит, вы отказываетесь вернуть деньги? — сказал сыщик, когда Герствуд умолк. Эти слова вызвали у Герствуда крайнее раздражение. Кровь горячей волной ударила ему в голову, мысли быстро сменяли одна другую. Да неужели он вор? Он вовсе не хотел их денег. Если бы только он мог объяснить все толком владельцам бара, дело, пожалуй, уладилось бы благополучно. — Послушайте вы, я вовсе не желаю больше обсуждать с вами этот вопрос! — заявил он. — Я признаю вашу силу, но предпочитаю иметь дело с людьми, которые более осведомлены в этом деле. — Вам не выбраться из Канады с деньгами! — стоял на своем сыщик. — Я и не собираюсь уезжать из Канады, — отозвался Герствуд. — А когда я улажу это дело, никто и не подумает задерживать меня. Он повернулся и пошел обратно, все время чувствуя на себе пристальный взгляд ирландца. Это было невыносимо, но тем не менее Герствуд заставил себя спокойно идти дальше, пока не дошел до номера. — Кто это был? — спросила Керри. — Один мой чикагский знакомый. Разговор с сыщиком был для Герствуда большим потрясением, тем более что произошел он сразу же после мучительных тревог последней недели. Герствуд погрузился в мрачное уныние. Вся эта история вызвала в нем сильнейшее отвращение. Больше всего его мучило сознание, что его преследуют, как вора. Он начал понимать, сколь несправедливо так называемое общественное мнение, которое видит только одну сторону вопроса и судит о длительной трагедии подчас по какому-нибудь отдельно взятому эпизоду. Все газеты отметили только одно: что он захватил чужие деньги. Но почему и как — уже не играло для них никакой роли. Их нисколько не интересовало, какие осложнения в жизни привели человека к подобному шагу. И теперь его обвиняли, так и не поняв, что побудило его так поступить. В тот же день, сидя в номере вместе с Керри, Герствуд решил вернуть деньги. Да, он напишет Фицджеральду и Мою, объяснит им все и телеграфом перешлет деньги. Возможно, что они простят его. Быть может, они даже предложат ему вернуться. Кстати, будет оправданно и его заявление сыщику, будто он уже написал своим бывшим хозяевам. А затем он покинет этот город. Целый час он раздумывал над этим как будто приемлемым разрешением проблемы. Ему хотелось написать хозяевам о своих отношениях с женой, но на это он не мог решиться. И в конце концов он написал лишь, что, выпив в компании друзей и случайно найдя сейф открытым, вынул оттуда деньги, а потом нечаянно захлопнул дверцу. Теперь он очень сожалеет о своем поступке и о том, что причинил мистерам Фицджеральду и Мою столько беспокойства. Он постарается возместить нанесенный ущерб, вернув деньги, то есть большую часть того, что он взял. Остальную сумму он вернет при первой же возможности. В конце письма он намекнул на то, что не прочь был бы вернуться к исполнению прежних обязанностей, если мистеры Фицджеральд и Мой найдут это возможным. Уже само содержание письма Герствуда достаточно ясно свидетельствовало о том, в каком смятении пребывал этот человек. Он даже забыл, как мучительно было бы для него вернуться в бар, если бы владельцы и пошли на это. Он забыл, что отсек от себя прошлое, словно ударом меча. Если бы даже ему каким-то образом и удалось восстановить связь с этим прошлым, на месте разреза навсегда остался бы заметный рубец. Впрочем, Герствуд теперь то и дело о чем-нибудь забывал: то о жене, то о Керри, то о нужде в деньгах. Сейчас он просто не способен был трезво рассуждать. Все же он отправил письмо, отложив посылку денег до получения ответа. А пока он решил примириться с создавшимся положением и радоваться тому, что Керри с ним. Среди дня выглянуло солнце, его золотые лучи залили комнату. За открытыми окнами чирикали воробьи, слышались смех и пение. Герствуд не мог оторвать глаз от Керри. Она казалась ему единственным светлым лучом среди всех его бедствий. О, если бы только она любила его! Только бы она хоть раз обняла его и стала опять такой нежной и радостной, какой он видел ее в маленьком парке в Чикаго! Как он был бы счастлив! Это вознаградило бы его за все пережитое! Тогда он знал бы, что не все еще потеряно. Ему не было бы тогда никакого дела до всего остального… — Керри! — сказал он, поднимаясь с места и подходя к ней. — Керри, останешься ли ты со мной? Она взглянула на него чуть насмешливо, но в глазах ее мелькнуло искреннее сочувствие, как только она увидела выражение его лица. Это была любовь, горячая, страстная любовь, еще более возросшая от всевозможных затруднений и тревог. И Керри невольно улыбнулась ему. — Я хочуотныне быть для тебя всем, — продолжал Герствуд. — Не причиняй мне больше горя? Я буду предан тебе. Мы поедем в Нью-Йорк и наймем там уютную квартирку. Я снова займусь делом, и мы будем счастливы. Ты хочешь быть моей? Керри слушала его серьезно. Конечно, она не пылала страстью к этому человеку, но его близость и само стечение обстоятельств пробудили в ней некоторое подобие чувства. Ей было искренне жаль Герствуда, — и это была жалость, которую породило недавнее восхищение этим человеком. Настоящей любви к нему она никогда не питала. Она сама убедилась бы в этом, если бы пожелала хорошенько разобраться в своих чувствах. Но то, что она испытывала сейчас под влиянием его сильной страсти, все же разрушило преграду между ними. — Ты останешься со мной, да? — снова повторил Герствуд. — Да, — ответила Керри, слегка кивнув. Герствуд привлек ее к себе и стал покрывать ее лицо поцелуями. — Но ты должен жениться на мне, — сказала Керри. — Я сегодня же раздобуду разрешение на брак, — ответил Герствуд. — Каким образом? — Под чужим именем, — ответил Герствуд. — Я приму новое имя и начну новую жизнь. С сегодняшнего дня моя фамилия Мердок. — О, только не эта! — воскликнула Керри. — Почему? — Она мне не нравится. — Какую же ты хочешь? — спросил Герствуд. — Какую угодно, только не эту! Все еще не выпуская Керри из объятий, Герствуд подумал и предложил: — А что ты скажешь насчет фамилии Уилер? — Это ничего, — согласилась Керри. — Ладно! В таком случае меня зовут Уилер, — заявил Герствуд. — Я сегодня же достану разрешение. Они обвенчались у первого попавшегося пастора-баптиста. Наконец пришел ответ из Чикаго за подписью мистера Моя. Он писал, что поступок Герствуда чрезвычайно удивил его и что он искренне скорбит о случившемся. Если Герствуд вернет деньги, они не станут затевать против него дела, так как отнюдь не питают к нему каких-либо враждебных чувств. Но что касается его возвращения на прежнее место, то они еще окончательно не решили этого вопроса, так как трудно сказать, какие последствия это может иметь для бара. Они еще подумают и сообщат ему позднее, возможно, даже очень скоро… И так далее. Смысл письма был вполне ясен: больше Герствуду надеяться не на что. Владельцы бара хотят вернуть свои деньги, по возможности избегая огласки. В ответе мистера Моя Герствуд прочел свой приговор. Он решил передать доверенному лицу, которое обещали прислать владельцы бара, девять с половиной тысяч долларов, оставив себе тысячу триста. Герствуд телеграфом известил об этом своих бывших хозяев, вручил явившемуся в тот же день доверенному лицу деньги и, получив от него расписку, предложил Керри укладываться. Сначала он был несколько угнетен новым оборотом дела, но постепенно оправился. Его и теперь еще не покидал страх перед возможностью ареста и выдачи американским властям. Поэтому, как это ни трудно было, Герствуд постарался уехать незаметно. Он распорядился отправить сундук Керри на вокзал и там сдал его в багаж на Нью-Йорк. Никто, по-видимому, не обращал на него никакого внимания, но все-таки он покинул отель глубокой ночью. Герствуд волновался, ему казалось, что на первой же станции по ту сторону границы или на вокзале в Нью-Йорке его встретят представители закона и арестуют. А Керри, которая не имела ни малейшего понятия ни о совершенной им краже, ни о его страхах, радовалась тому, что едет в Нью-Йорк. И утром, приближаясь к гигантскому городу, она залюбовалась зелеными холмами, окаймляющими широкую долину Гудзона. Она была очарована красотой местности, по которой мчался поезд, следуя изгибам реки. Она уже слыхала о Гудзоне и об огромном Нью-Йорке и теперь наслаждалась развертывавшейся перед нею чудесной панорамой. Когда поезд, повернув, помчался вдоль восточного берега реки Харлем, Герствуд, сильно нервничая, сообщил своей спутнице, что они находятся на окраине города. Знакомая с чикагскими вокзалами, Керри ожидала увидеть длинные ряды вагонов и гигантское переплетение рельсовых путей, но здесь ничего подобного не было. Вместо этого она увидела большие суда на реке — предвестники близости океана. Дальше показалась обыкновенная улица с пятиэтажными кирпичными домами, и затем поезд вошел в туннель. — Нью-Йорк! Грэнд-Сентрал! — возвестил кондуктор, когда поезд после нескольких минут пребывания в мраке и в дыму снова вылетел на свет. Герствуд встал и уложил свой маленький чемодан. Нервы его были взвинчены до предела. Он постоял вместе с Керри у дверей и вышел из вагона. Никто не подошел к нему, но, направляясь к выходу на улицу, он все же боязливо озирался по сторонам. Он был настолько взволнован, что совсем забыл про Керри, которая отстала от него и дивилась рассеянности своего спутника. Как только они покинули здание Грэнд-Сентрал, Герствуд несколько успокоился. Они вышли на улицу — никто, кроме кэбменов, и не думал заговаривать с ним. Только тогда Герствуд глубоко вздохнул и, вспомнив наконец про Керри, обернулся к ней. — А я уж думала, что ты собираешься убежать и оставить меня одну, — сказала она. — Я стараюсь вспомнить, как доехать до отеля «Джилси», — ответил Герствуд. Керри была так захвачена видом шумного города, что почти не расслышала его ответа. — Сколько жителей в Нью-Йорке? — спросила она. — Свыше миллиона, — ответил Герствуд. Он окликнул кэб, но далеко не с тем видом, с каким делал это раньше. Впервые за многие годы в голове его мелькнула мысль, что теперь нужно быть более расчетливым даже в мелких расходах. И мысль эта была весьма неприятна. Герствуд решил, не теряя времени, снять квартиру, чтобы не тратить денег на отели. Он сказал об этом Керри, и та вполне согласилась с ним. — Мы поищем сегодня же, если хочешь, — предложила она. Тут Герствуд вдруг вспомнил о неприятной встрече со знакомым в Монреале. В крупных нью-йоркских отелях он наверняка столкнется с кем-нибудь из тех, кто знал его в Чикаго. Приподнявшись с сиденья, он обратился к кэбмену. — Отвезите нас в «Бельфорд», — сказал он. Это была скромная гостиница, где редко останавливались приезжие из Чикаго. — В какой части Нью-Йорка расположены жилые кварталы? — спросила Керри. Она не могла представить себе, чтобы за этими стенами пятиэтажных домов, тянувшимися по обе стороны улицы, жили люди со своими семьями. — Да повсюду, — ответил Герствуд, довольно хорошо знакомый с городом. — В Нью-Йорке нет особняков с лужайками. Все это жилые дома. — Ну, тогда этот город мне не нравится, — тихо произнесла Керри, которая начала высказывать собственные мнения.Глава 30
В царстве величия.
Путник мечтает
Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. В Чикаго, хотя его население в то время уже равнялось полумиллиону, крупных капиталистов было немного. Богачи не были еще столь богаты, чтобы затмевать своим блеском людей со средним достатком. Внимание жителей не было столь поглощено местными знаменитостями в драматической, художественной, социальной и других областях, чтобы человек, занимающий независимое положение, оставался совсем в тени. В Чикаго существовало лишь два пути к известности — политика и коммерция. В Нью-Йорке таких путей было с полсотни, на каждом из них подвизались сотни людей, и, таким образом, знаменитости не были редкостью. Море здесь кишело китами, а потому мелкая рыбешка совсем исчезала из виду и даже не смела надеяться, что ее заметят. Иными словами, в Нью-Йорке Герствуд был ничто. Есть и более опасная сторона в таком положении вещей. Ее не всегда принимают во внимание, но она-то и порождает трагедии. Великие мира сего окружают себя атмосферой, дурно действующей на малых. Это ее влияние легко ощутить. Пройдитесь среди великолепных особняков, изумительных экипажей, ослепительных магазинов, ресторанов, всевозможных увеселительных заведений; вдохните аромат цветов, шелковых нарядов, вин; почувствуйте опьянение от смеха, рвущегося из груди блаженствующих в роскоши, от взглядов, сверкающих, словно дерзкие копья, ощутите, чего стоят эти разящие, как лезвие меча, улыбки и эта надменная поступь, — и вы поймете, что представляет собой мир, в котором живут могущественные и великие. Нет смысла доказывать, что не в том истинное величие. Пока все тянутся к этим благам, пока человеческое сердце ставит их достижение главной своей целью, до тех пор эта атмосфера будет разрушать душу человека. Она как химический реактив. Один день ее действия — подобно одной капле химического вещества — так меняет и обесценивает наши понятия, желания и стремления, что на них остается неизгладимый след. День такого воздействия для ума неискушенного то же, что опиум для неискушенного тела. Начинается мука желаний, которые, если им поддаться, неизменно ведут к безумным грезам и смерти. Ах, несбывшиеся мечты! Они снедают нас и томят, эти праздные видения, они манят и влекут, манят и влекут, пока смерть и разложение не сокрушат их власти и не вернут нас, слепых, в лоно природы. Человек возраста и темперамента Герствуда не подвержен иллюзиям и жгучим желаниям юности, зато в нем нет и того оптимизма, который брызжет фонтаном из юного сердца. Нью-Йорк не мог вызвать в нем тех вожделений, которые загораются в душе восемнадцатилетнего мальчика. Но отсутствие надежды когда-либо приобщиться к этой роскоши усугубляло горечь его неудач. Герствуд раньше бывал в Нью-Йорке и прекрасно знал, какие возможности открываются в этом городе для тех, кто может вкушать жизнь во всей ее полноте. Нью-Йорк вызвал в нем отчасти благоговейный страх, ибо здесь сосредоточивалось все, что он уважал и почитал: богатство, положение и слава. Большинство знаменитостей, с которыми он неоднократно чокался в те дни, когда управлял баром, выдвинулось именно в этом величественном многолюдном городе. Рассказывали самые захватывающие истории о роскоши здешних дворцов и о жизни их обитателей. Он понимал, что здесь человек, сам того не замечая, живет всю жизнь бок о бок с богатством; что здесь, имея сто или даже пятьсот тысяч долларов, можно жить лишь более или менее прилично. Для того, чтобы блистать в обществе, для того, чтобы не отставать от моды, здесь нужны несравненно большие капиталы, а для бедного человека тут вообще нет места. Очутившись в этом городе, отрезанный от друзей, лишившийся не только своего скромного состояния, но и имени, вынужденный заново начать борьбу за существование, Герствуд с особенной остротой отдавал себе во всем этом отчет. Он не был стар, но был достаточно умен, чтобы понимать, что скоро начнет стареть. И как-то сразу это зрелище красивых нарядов, уверенности и силы приобрело в его глазах особое значение. Уж очень велика была разница между этой роскошью и его собственным плачевным положением. А положение его и вправду было плачевное. Герствуд вскоре увидел, что отсутствие страха перед арестом не является Sine qua non[4]. Едва миновала одна опасность, на сцену выступила другая — нужда. Жалкая сумма в тысячу триста долларов, которую им с Керри придется растянуть на несколько лет, чтобы покрывать свои расходы на жилище, одежду, пищу и развлечения, вряд ли могла успокоить человека, привыкшего тратить в пять раз больше за один лишь год. Герствуд много думал об этом в первые же дни по приезде в Нью-Йорк и пришел к выводу, что нужно действовать решительно. Ознакомившись с коммерческими предложениями в утренних газетах, он принялся за поиски работы. Однако прежде он вместе с Керри обосновался в квартире на Семьдесят восьмой улице, близ Амстердам-авеню. Дом был пятиэтажный, а их квартира расположена на третьем этаже. Благодаря тому, что улица еще не была плотно застроена, на востоке видны были зеленые вершины деревьев Сентрал-парка, а на западе — широкие воды Гудзона. Квартирка с ванной обходилась в тридцать пять долларов в месяц, что для того времени было средней ценой, но все же очень чувствительной для Герствуда. Керри обратила внимание на разницу в размере здешних и чикагских комнат. Она поделилась своими наблюдениями с Герствудом. — Ничего лучшего мы не найдем, дорогая, — сказал он ей. — Разве только если будем искать квартиру в одном из старых домов, а там ты не будешь иметь тех удобств, что здесь. Квартирка привлекла внимание Керри тем, что была заново отделана и находилась в одном из новых домов с центральным отоплением. Это было большое преимущество. Хорошая плита, горячая и холодная вода, грузовой лифт и даже рупор для переговоров со швейцаром — все это очень понравилось молодой женщине. В ней был достаточно развит хозяйственный инстинкт, чтобы вполне оценить эти усовершенствования. Герствуд вошел в соглашение с одной мебельной компанией, которая обставила квартиру за взнос в пятьдесят долларов наличными при условии выплаты остальной суммы частями, по десять долларов в месяц. Затем он заказал медную дощечку, на которой было выгравировано «Дж. У.Уилер», и прикрепил ее в вестибюле над своим почтовым ящиком. Сперва Керри казалось очень странным, когда швейцар называл ее «миссис Уилер», но мало-помалу она привыкла и стала относиться к этому имени, как к своему собственному. Покончив с хлопотами по устройству квартиры, Герствуд отправился по нескольким объявлениям, рассчитывая приобрести долю в каком-нибудь преуспевающем баре. После роскошного заведения на Адамс-стрит ему не по душе были жалкие кабаки, которые он теперь посетил; он только зря потратил несколько дней на их осмотр: все они были очень неприглядны. Зато он извлек много ценных сведений из бесед с владельцами баров. Он узнал о неограниченном влиянии Таммани-холла[5] на деловую жизнь города и о том, как важно быть в хороших отношениях с полицией. Он обнаружил, что наиболее процветающие бары, в противоположность «Фицджеральду и Мою», ведут свои дела, далеко отступая от предусмотренных законом норм. Наиболее доходные заведения имели во втором этаже шикарно обставленные отдельные кабинеты и потайные комнаты для свиданий. По самодовольным лицам владельцев этих заведений, по бриллиантам, сверкавшим на запонках их сорочек, и по элегантному покрою их одежды видно было, что торговля алкоголем здесь, как и везде в мире, — золотое дно. После долгих поисков Герствуд нашел человека, который владел на Уоррен-стрит баром, как будто обещавшим в будущем большие барыши. Тут, казалось, можно было ввести кое-какие усовершенствования, внешний вид заведения был довольно приличный, а владелец хвастал, что дела идут прекрасно, и, по-видимому, оно так и было. — Наша клиентура состоит из людей зажиточных, — сказал он Герствуду. — Это коммерсанты, коммивояжеры, люди всяких профессий. Проходимцев мы сюда не пускаем. Герствуд постоял, прислушиваясь к частым звонкам кассы, и некоторое время последил за торговлей. — И вы думаете, что доходов с вашего предприятия вполне хватит на двоих? — спросил он. — Если вы понимаете в деле, то можете убедиться сами, — ответил владелец. — У меня есть еще один бар на улице Нассау, и у меня нет времени для обоих. Если бы я нашел подходящего человека, знающего дело, я был бы не прочь взять его в долю и предоставить ему управление этим баром. — У меня есть опыт, — небрежно ответил Герствуд. Однако он воздержался от упоминания о том, что был управляющим бара «Фицджеральд и Мой» в Чикаго. — В таком случае слово за вами, мистер Уилер! — сказал владелец бара. Он предлагал только третью долю в деле, включая наличный товар и обстановку, за что Герствуд должен был внести тысячу долларов и, кроме того, работать управляющим. О недвижимом имуществе договариваться не приходилось, так как владелец бара лишь арендовал помещение. Предложение показалось Герствуду весьма заманчивым. Вопрос был лишь в том, даст ли одна треть дохода бара, расположенного в таком месте, те полтораста долларов в месяц, которые, по его приблизительному подсчету, необходимы были на домашние расходы. Впрочем, ввиду неудач во всех других местах сейчас не время было долго колебаться. Во всяком случае, Герствуд мог надеяться, что уже сейчас будет зарабатывать долларов сто в месяц, а если разумно вести дело и кое-что усовершенствовать, то и больше. Он согласился на предложение, внес свою тысячу долларов и решил на следующий день приступить к исполнению своих обязанностей. Вначале он был в восторге от заключенной сделки и говорил Керри, что, по-видимому, вложил деньги в очень выгодное предприятие. С течением времени, однако, обнаружилось много такого, что заставило его призадуматься. Во-первых, оказалось, что его партнер — человек очень сварливый, к тому же он выпивал и тогда начинал скандалить. К этому Герствуд совсем не привык. Во-вторых, доходность бара сильно колебалась. Здесь не было ничего похожего на ту постоянную клиентуру, с которой Герствуд имел дело в Чикаго. Он понял, что пройдет немало времени, прежде чем ему удастся завести друзей среди своих посетителей. Сюда, в этот бар, люди заходили наспех и уходили, нисколько не интересуясь чьей-либо дружбой. Это не было место, куда приходили посидеть и поболтать. Мелькали дни и недели, а Герствуд ни от кого не слышал тех сердечных приветствий, какие привык слышать каждый день в Чикаго. Кроме того, Герствуду недоставало общества знаменитостей, тех элегантных людей, которые задают тон даже в барах средней руки, принося с собой вести о том, что делается в наиболее изысканных и замкнутых кругах. Он месяцами» не видел ни одного выдающегося, по его понятиям, человека. По вечерам, во время пребывания в баре, Герствуд неоднократно находил в газетах заметки о прославленных людях, которых он знал и с которыми неоднократно выпивал стаканчик-другой, о людях, которые посещали такие бары, как «Фицджеральд и Мой» или «Гофман»; но здесь, он прекрасно понимал это, ему никогда не придется встретиться с ними. К тому же предприятие не приносило ожидаемого дохода. Правда, дела несколько оживились, но Герствуду было ясно, что придется быть очень и очень экономным в своих расходах, а это унижало его. В первое время для него было наслаждением, вернувшись поздно домой, увидеть поджидающую его Керри. Он распределил свое время так, чтобы между шестью и семью часами вечера уходить домой обедать, а утром оставаться дома до девяти часов. Но мало-помалу это потеряло прелесть новизны, и Герствуд начал тяготиться однообразием своих обязанностей. Не прошло и месяца со дня приезда в Нью-Йорк, как Керри заметила однажды таким тоном, каким говорят о вещах маловажных: — Я собираюсь сходить на этой неделе в город и купить себе платье. — Какое именно? — спросил Герствуд. — О, какое придется, лишь бы можно было выходить в нем на улицу. — Хорошо, — с улыбкой сказал Герствуд, но при этом подумал, что для его финансов было бы лучше, если бы она воздержалась от покупки. На следующий день об этом больше не упоминалось, но на третий день утром Герствуд осведомился: — Ты уже купила себе платье? — Нет еще, — ответила Керри. Герствуд помолчал, как будто что-то соображая, а затем сказал: — Ты не можешь повременить несколько дней с этой покупкой? — Могу, — ответила Керри, еще не уловив, к чему он клонит, так как Герствуд никогда не давал ей повода думать о денежных затруднениях. — Но почему? — поинтересовалась она. — Видишь ли, я вложил все наличные деньги в дело и пока что очень стеснен в средствах. Но я надеюсь в самом ближайшем времени вернуть весь вложенный капитал. — Ах, вот оно что! — воскликнула Керри. — Ну, конечно, дорогой! Почему же ты мне раньше не сказал об этом? — Раньше в этом не было необходимости, — ответил Герствуд. Согласившись с такой готовностью, Керри все же не преминула отметить какое-то сходство между словами Герствуда и отговорками Друэ, все время собиравшегося покончить с каким-то дельцем. Это была лишь мимолетная мысль, и все же она положила начало чему-то новому. Керри начала несколько иначе смотреть на Герствуда. Мало-помалу стали накопляться и другие мелочи такого же рода, которые в общей сложности явились для Керри большим откровением. Она вовсе не была глупа. К тому же два человека, прожив долгое время под одним кровом, не могут не узнать друг друга. Беспокойство одного открывается другому, независимо от того, желает он сознаться в нем или нет. Воздух насыщен тревогой, и мрачное настроение говорит само за себя. Герствуд по-прежнему хорошо одевался, но костюмы его были все те же, что он носил еще в Канаде. Керри заметила, что он не обновлял своего крайне скромного гардероба. От нее не укрылось и то, что он весьма редко предлагал ей какие-либо развлечения, что он ни разу не похвалил ее кулинарных способностей и как будто с головой ушел в свое дело. Это был уже не тот беспечный, щедрый, богатый Герствуд, которого она знала в Чикаго. Перемена была столь разительна, что не могла оставаться незамеченной. Вскоре Керри почувствовала и другую перемену — он перестал делиться с ней своими мыслями. Он стал скрытным и советовался лишь с самим собою. Ей приходилось самой расспрашивать его о всяких мелочах, а это весьма неприятно для каждой женщины. Иногда сильная любовь вынуждает мириться с этим, но только мириться, не больше. А там, где сильной любви нет, напрашиваются более определенные, но весьма неутешительные выводы. Герствуд же отважно боролся с затруднениями, которые возникли у него на новом пути. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Кроме того, его постоянно мучил страх встретить кого-нибудь из прежних приятелей. Этот страх особенно усилился после одной неприятной встречи, которая произошла вскоре по прибытии Герствуда в Нью-Йорк. Он шел по Бродвею и вдруг увидел, что навстречу ему идет знакомый. Притворяться и делать вид, будто он не узнал чикагца, было уже поздно. Они успели обменяться взглядами, и было слишком ясно, что оба узнали друг друга. Знакомый, представитель крупной чикагской фирмы, счел своим долгом остановиться. — Ну, как живете? — спросил он, протягивая Герствуду руку, но ни в интонации его, ни в жесте не было ничего похожего на искренний интерес. — Благодарю вас, хорошо, — ответил Герствуд, не менее смущенный, чем тот. — А вы как? — Ничего. Я приехал кое-что закупить для фирмы. А вы что же, теперь живете здесь постоянно? — Да, — ответил Герствуд. — У меня свое дело на Уоррен-стрит. — Вот как! Очень рад слышать. Как-нибудь загляну к вам. — Заходите, — сказал Герствуд. — Ну, всего доброго, — сказал тот с любезной улыбкой и попрощался. «Он даже не спросил номера дома, — подумал Герствуд. — Так он и зайдет!» Герствуд вытер вспотевший лоб и от всего сердца понадеялся, что никого больше не встретит. Все эти мелочи стали сказываться на характере Герствуда, который до сих пор был человеком добродушным. Единственная его надежда была на скорую перемену в материальном положении. Керри была с ним. Долг за мебель он аккуратно погашал. У него было более или менее доходное место. Что же касается развлечений, то Керри должна довольствоваться тем, что он может предложить ей. Только бы ему продержаться, и тогда все будет хорошо. Но он забывал о неустойчивости человеческой натуры, о трудностях семейной жизни, Керри была молода. У них обоих часто менялось настроение. В любую минуту могла произойти вспышка, хотя бы за обеденным столом, как это часто бывает в самых благополучных домах. Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни. А там, где такой любви нет, обе стороны скоро разочаровываются друг в друге и неизбежно сталкиваются с тяжелой проблемой: как избежать семейных дрязг.Глава 31
Любимица фортуны.
Бродвей блещет богатством
Если на Герствуда Нью-Йорк действовал угнетающе, то Керри, напротив, вполне спокойно относилась к новой обстановке. Несмотря на то, что вначале она отозвалась о Нью-Йорке неодобрительно, этот город заинтересовал ее чрезвычайно. Прозрачный воздух, шумные площади и перекрестки… и полное равнодушие к человеку — все здесь поражало ее. Она никогда еще не видела таких крохотных комнат, как те, в которых жила сейчас, но это не помешало ей полюбить их. Новая мебель выглядела нарядно, а сервант, на котором Герствуд все расставил по своему вкусу, сверкал красивой посудой. Каждая комната была обставлена соответствующим образом — в гостиной стояло взятое напрокат пианино, так как Керри выразила желание учиться музыке… Она наняла служанку и быстро усваивала премудрость ведения домашнего хозяйства. Впервые в жизни она жила в узаконенном положении жены и, стало быть, была оправдана в глазах общества. И мысли ее были просты и невинны. Долгое время ее занимало устройство нью-йоркских домов, где десять семейств могли жить годами и оставаться чужими и безразличными друг к другу. Дивилась она также гудкам сотен судов в порту, этому пронзительному и долгому вою, которым обмениваются в тумане океанские пароходы и паромы. Уже одно то, что эти звуки доносились с моря, представлялось ей чудесным. Она могла без конца любоваться видневшейся из окон полоской Гудзона и кипевшим кругом строительством огромных зданий. Здесь было много такого, о чем можно пораздумать, новых впечатлений хватило бы на целый год, и все это нисколько не приедалось. Кроме того, Герствуд был чрезвычайно предан ей. Как ни мучили его всякие тревоги, он никогда не говорил о них Керри. Он держал себя с прежним достоинством, мирился с новым положением, радовался обществу Керри, ее способностям и маленьким успехам. Каждый вечер он вовремя являлся к обеду и находил уютно убранную столовую. Малые размеры комнаты лишь придавали ей больший уют: казалось, здесь есть абсолютно все, что только требуется для столовой. Стол, покрытый белой скатертью, был уставлен красивыми тарелками, а канделябр с четырьмя ветвями, увенчанными маленькими красными абажурами, бросал мягкий свет вокруг. С помощью служанки Керри отлично справлялась с бифштексами и котлетами, а в остальном ее очень выручали всевозможные консервированные продукты. Она овладевала искусством печь бисквиты и вскоре уже с гордостью ставила на стол блюдо с воздушным, тающим во рту печеньем. Так они прожили второй месяц, третий, четвертый. Пришла зима, а с нею ощущение, что приятнее всего сидеть дома. О посещении театров заговаривали редко. Герствуд прилагал все усилия, чтобы покрывать расходы по дому, стараясь при этом ничем не выдавать своих тревог. Он говорил Керри, что ему приходится то и дело вкладывать в предприятие деньги, чтобы в будущем иметь больше доходов. Для себя лично он довольствовался самой скромной суммой, но и очень редко предлагал что-либо приобрести для Керри. Так миновала первая зима. На второй год дело под управлением Герствуда несколько оживилось и стало давать ему те сто пятьдесят долларов в месяц, на которые он рассчитывал. К сожалению, Керри к этому времени успела сделать для себя некоторые выводы, а Герствуд, со своей стороны, обзавелся кое-какими знакомыми. Керри, бывшая по натуре скорее пассивной и покорной, чем активной и требовательной, мирилась с положением, которое представлялось ей довольно сносным. Иногда они посещали театр, иногда — довольно редко — ездили на побережье океана, в разные концы Нью-Йорка, но знакомых у них совсем не было. В своих отношениях с Керри Герствуд, естественно, утратил прежнюю изысканность и галантность манер и постепенно перешел на простой дружеский тон. Недоразумений между ними не бывало, не было и особых расхождений во взглядах. Не имея свободных денег, не навещая никаких друзей, Герствуд, вполне понятно, вел жизнь, которая не могла вызвать у Керри ни ревности, ни недовольства. Она сочувственно относилась к его трудной работе и нисколько не скорбела о том, что лишилась тех развлечений, в которых у нее не было недостатка в Чикаго. Нью-Йорк в целом и ее домашняя жизнь в частности пока что удовлетворяли ее. Но по мере расширения дела Герствуд, как уже было сказано, стал постепенно заводить знакомства. Он также стал уделять больше внимания своему гардеробу. Он уверял себя, что очень дорожит семейной жизнью, но что это отнюдь не лишает его права иной раз не явиться домой к обеду. Когда это случилось впервые, он отправил к Керри посыльного, поручив ему передать, что задержится. Керри пообедала одна. Она надеялась, что это больше не повторится. Во второй раз он также предупредил ее, но лишь в последнюю минуту. А в третий раз Герствуд и совсем забыл известить ее и лишь потом уже, по возвращении домой, извинился. Правда, между этими случаями были промежутки в несколько месяцев. — Где же ты пропадал, Джордж? — спросила Керри, когда он не пришел в первый раз. — Был занят в баре, — добродушно отозвался он. — Нужно было оформить кое-какие счета. — Очень жаль, что ты не пришел, — ласково упрекнула она его. — Я приготовила такой чудесный обед! Во второй раз он ограничился той же отговоркой, а в третий раз Керри была уже немало рассержена его поведением. — Пойми, что я не мог уйти домой, — оправдывался Герствуд. — Я был очень занят. — Неужели ты не мог дать мне знать, что не придешь? — стояла на своем Керри. — Я хотел предупредить тебя, но как-то случилось, что я забыл об этом и вспомнил, когда было уже поздно. — А я приготовила такие вкусные вещи! — вздохнула Керри. Наблюдая за Керри, Герствуд решил, что она по натуре домоседка и ее главное призвание — дом и хозяйство. К этому странному выводу он пришел после года совместной жизни, хотя видел ее выступление на сцене в Чикаго и прекрасно знал, что теперь она привязана к квартире и к нему в силу созданных им условий и полного отсутствия друзей. Его радовало, что у него есть жена, которая довольствуется столь малым. Такой взгляд на семейную жизнь привел к естественным последствиям: вообразив, что Керри всем довольна, Герствуд счел себя обязанным давать лишь то, что может обеспечить ей подобное удовлетворение жизнью. Иными словами, он заботился о мебели, об украшении квартиры, о необходимой одежде и средствах для пропитания, но все меньше и меньше думал о том, чтобы сколько-нибудь развлечь Керри, приобщить ее к блеску и веселью большого города. Сам он испытывал сильное тяготение к миру, лежавшему за стенами их квартиры, но почему-то думал, что Керри было бы неинтересно сопровождать его. Однажды он отправился в театр один. В другой раз уехал на весь вечер играть в покер со своими новыми друзьями. Постепенно у него опять завелись деньги, и он снова ожил, но, конечно, это было далеко не то, что в Чикаго. К тому же он всячески избегал таких увеселительных заведений, где рисковал встретиться с людьми, с которыми встречался раньше. Все это Керри стала как-то инстинктивно угадывать, но по натуре она не принадлежала к женщинам, которых подобное поведение могло бы встревожить. Не пылая сильной любовью к Герствуду, она не могла особенно терзаться и ревностью. Собственно говоря, она и вовсе не ревновала. А Герствуд был вполне доволен ее спокойствием и не трудился вникнуть в его причины. И если теперь случалось, что он не приходил к обеду, это уже не казалось Керри ужасным. Она оправдывала все тем, что на его пути стоят обычные соблазны, которых не может избежать ни один мужчина: друзья, с которыми хочется побеседовать, всякие места, куда интересно заглянуть, знакомые, с которыми надо посоветоваться. Керри ничего не имела против того, чтобы он по-своему развлекался. Она только не хотела, чтобы он забывал о ней. Положение казалось ей более или менее терпимым, и она только замечала, что Герствуд стал совсем не тот, каким был раньше. На втором году их пребывания в Нью-Йорке рядом с ними освободилась квартира, и вскоре туда переехала очень красивая молодая женщина с мужем. Керри познакомилась с этой четой. Знакомству способствовало то, что обе квартиры обслуживались одним грузовым лифтом. Это полезное сооружение служило для подачи наверх присылаемых из магазинов покупок и для отправки вниз всяких хозяйственных отбросов. Всякий раз, когда швейцар подавал свисток, хозяйки обеих квартир подходили к дверцам лифта и встречались лицом к лицу. Однажды утром, когда Керри подошла взять из лифта газету, новая соседка, красивая темноволосая женщина лет двадцати трех, вышла из своей квартиры, очевидно, с той же целью. На ней был пеньюар, накинутый поверх ночной сорочки, волосы ее были растрепаны, но она казалась такой хорошенькой и такой симпатичной, что сразу понравилась Керри. Соседка лишь смущенно улыбнулась, но этого было вполне достаточно. Керри сейчас же подумала, что было бы очень приятно познакомиться с нею, та же мысль мелькнула и у этой женщины, которая пришла в восхищение от наивного личика Керри. — Рядом с нами поселилась очень красивая женщина с мужем, — заметила Керри, садясь с Герствудом завтракать. — Кто такие? — поинтересовался он. — Я, право, не знаю, — сказала Керри. — Над звонком у них написано «Вэнс». Я только знаю, что кто-то из них прекрасно играет на рояле; полагаю, что это миссис Вэнс. — Гм! — промычал Герствуд. — В таком городе, как Нью-Йорк, никогда не знаешь, что за люди живут рядом с тобой. В этих немногих словах отразилось обычное отношение жителей Нью-Йорка к своим соседям. — Подумай только, Джордж! — сказала Керри. — Вот я больше года живу в этом доме среди десятка других семей и не знаю ни души. Новые соседи, о которых я тебе сейчас говорила, уже больше месяца здесь, а я только сегодня утром впервые увидела эту самую миссис Вэнс. — Что ж, это, пожалуй, к лучшему, — стоял на своем Герствуд. — Никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Порою можно натолкнуться на очень неприятных людей. — Конечно, — согласилась с ним Керри. Разговор перешел на другие темы, и Керри перестала думать об этом, пока снова не столкнулась с миссис Вэнс, когда два-три дня спустя выходила из дому, отправляясь на рынок. Та как раз возвращалась домой и, узнав соседку, кивнула ей. Керри ответила улыбкой. Таким образом, создалась почва для знакомства. Не будь этого мимолетного приветствия, они, по всей вероятности, никогда не узнали бы друг друга ближе. Снова прошло несколько недель, и Керри больше не встречала миссис Вэнс. Но через тонкую стенку, разделявшую их гостиные, доносились звуки рояля. Керри нравился и выбор музыкальных пьес, и блеск их исполнения. Сама она играла посредственно, и поэтому игра миссис Вэнс граничила в ее представлении с виртуозностью. Все, что ей до сих пор случалось видеть и слышать, — конечно, это были самые отрывочные и туманные сведения, — указывало на то, что соседи очень культурные и вполне обеспеченные люди. И потому Керри, естественно, с нетерпением дожидалась случая завязать наконец знакомство. Однажды утром в квартире Керри раздался звонок. Служанка, находившаяся в кухне, нажала кнопку, автоматически открывающую парадную дверь внизу. Когда Керри вышла на площадку, чтобы узнать, кто это к ним направляется, она увидела поднимавшуюся по лестнице миссис Вэнс. — Надеюсь, вы простите меня, — сказала та. — Уходя, я забыла захватить с собою ключ, а потому и позволила себе позвонить к вам. К этой уловке нередко прибегали и другие жильцы, когда по рассеянности забывали дома ключи, но никто не находил нужным извиняться. — Я очень рада, что могла быть вам полезна, — сказала Керри. — Я сама часто пользуюсь этим способом. — Чудесная погода сегодня! — заметила миссис Вэнс, задерживаясь на минуту. Так после ряда незначительных фраз завязалось наконец их знакомство, и в миссис Вэнс Керри обрела очень милую собеседницу и приятельницу. Керри часто заходила после этого к соседке, и та, в свою очередь, навещала ее. Обе квартирки были уютные, но жилище супругов Вэнс было обставлено несколько богаче. — Не зайдете ли вы вечером к нам? — предложила однажды миссис Вэнс. — Мне хотелось бы познакомить вас с мужем. — Этот разговор произошел вскоре после того, как между обеими женщинами завязалась дружба. — Мой муж тоже очень хочет познакомиться с вами. Вы играете в карты? — добавила миссис Вэнс. — Немного, — ответила Керри. — Вот мы и составим маленькую партию. А если ваш муж к тому времени вернется, непременно захватите его с собой! — Он сегодня не придет к обеду, — сказала Керри. — Что ж, мы позовем его, когда он вернется. Керри согласилась и в тот же вечер познакомилась с тучным мистером Вэнсом. Он был несколькими годами моложе Герствуда. Тем, что у него была такая красивая и приятная жена, он был обязан больше своим деньгам, нежели внешности. Керри понравилась ему с первого же взгляда, и он всячески изощрялся, стараясь быть с ней полюбезнее: он научил ее новой игре в карты, много рассказывал о Нью-Йорке и о том, какие развлечения есть в этом городе. Затем миссис Вэнс поиграла на рояле, а вскоре пришел и Герствуд. — Очень рад познакомиться с вами, — сказал он миссис Вэнс, когда Керри представила его. И в его манерах вновь появилась та изысканность, которая в свое время пленила Керри. — Вы не подумали, что ваша жена сбежала? — спросил мистер Вэнс, протягивая руку. — Да, я уж решил, что она нашла себе более подходящего мужа, — в тон ему ответил Герствуд. После этого Герствуд перенес все свое внимание на миссис Вэнс, и Керри мгновенно вновь увидела то, чего ей в последнее время подсознательно недоставало в Герствуде: лоск и галантность светского человека. Увидела она и то, что была неважно одета — куда ей до нарядной миссис Вэнс. У Керри, словно завеса пала с глаз. Она почувствовала, что не живет, а прозябает, и этого сознания было вполне достаточно, чтобы испортить ей настроение. К ней вернулась прежняя благотворная, пробуждавшая мечты грусть, заставившая Керри задуматься о своих возможностях. Это пробуждение не имело каких-либо немедленных последствий, ибо Керри была человеком не очень инициативным. Тем не менее, если жизнь сулила какую-то новизну, Керри охотно плыла по течению. Герствуд ничего не заметил. Так и остались скрытыми для него те явные контрасты, на которые обратила внимание Керри. Он не уловил даже тени грусти, появившейся в ее глазах. А хуже всего было то, что теперь Керри стала чувствовать себя дома одинокой и постоянно искала общества миссис Вэнс, которая искренне к ней привязалась. — Давайте пойдем сегодня на дневной спектакль! — предложила миссис Вэнс, заглянув однажды утром к Керри. На гостье был бледно-розовый капот, который она накинула, встав с постели. Герствуд и Вэнс уже с час назад разошлись каждый по своим делам. — Хорошо, — согласилась Керри, любуясь холеной внешностью своей изящной приятельницы. Достаточно было взглянуть на миссис Вэнс, чтобы стало ясно, что каждое ее желание исполняется, что ее горячо любят. — А что сегодня идет? — поинтересовалась Керри. — О, мне очень хочется посмотреть Ната Гудвина! — сказала миссис Вэнс. — По-моему, он лучший комик в мире. Газеты очень хвалят этот спектакль. — А когда нам нужно будет выйти из дому? — спросила Керри. — Давайте выйдем в час и пройдемся по Бродвею, — сказала миссис Вэнс. — Это прекрасная прогулка. Театр — на Медисон-сквер. — Я с удовольствием пойду, — сказала Керри. — А почем билеты? — спросила она. — Я думаю, не больше доллара, — ответила миссис Вэнс. Миссис Вэнс ушла к себе и к часу появилась снова. На ней было элегантное темное платье и очаровательная шляпка, в тон. Керри тоже приоделась и выглядела очень мило, но при виде приятельницы она с болью в сердце почувствовала, как велика между ними разница. У миссис Вэнс было много прелестных мелочей, которые дополняли ее туалет и которых недоставало Керри: золотые вещицы, изящная сумочка из зеленой кожи, с монограммой, премилый шелковый платочек, обшитый кружевом, и тому подобное. Керри понимала, что ее гардероб слишком скуден и прост, чтобы она могла выдержать сравнение с этой женщиной. Она подумала, что, взглянув на них, всякий отдаст предпочтение миссис Вэнс, плененный ее нарядом. Это была неприятная и не совсем справедливая мысль, ибо теперь фигура Керри стала тоже прелестно округлой, а лицо было красиво красотой определенного типа. Разница была лишь в качестве свежести наряда, и нельзя сказать, чтобы эта разница уж очень бросалась в глаза. Но так или иначе это еще больше укрепило в душе Керри недовольство своим положением. Прогулка по Бродвею в те дни (как и сейчас, впрочем) составляла одну из главных приманок Нью-Йорка. Здесь можно было встретить не только хорошеньких женщин, любящих показать себя, но и мужчин, любящих восхищаться ими. Это была яркая процессия красивых лиц и туалетов. Женщины появлялись в своих лучших шляпах, в изящной обуви и перчатках и шли парно, рука об руку, в роскошные магазины и театры, разбросанные по всему Бродвею от Четырнадцатой до Тридцать четвертой улицы. Точно так же щеголяли мужчины, разодетые по последней моде. Любой портной мог бы выбрать здесь модели мужских костюмов, сапожник получил бы урок, какую обувь нужно шить, а шляпный мастер узнал бы, какие головные уборы больше всего нравятся мужчинам. Недаром говорилось, что если щеголь сошьет себе новый костюм, он прежде всего непременно «проверит» его на Бродвее. Все это было столь достоверно и общеизвестно, что спустя несколько лет все мюзик-холлы обошла весьма популярная песенка о бродвейском параде перед началом утренних спектаклей. В песенке, между прочим, говорилось и о человеке, неважно одетом. Она называлась «Имеет ли он право на Бродвей?». За все свое пребывание в Нью-Йорке Керри никогда еще не слыхала об этом параде, об этой выставке туалетов. И ей ни разу не приходилось бывать на Бродвее в те часы, когда можно было все это увидеть. Что же касается миссис Вэнс, то для нее это зрелище было привычным. Она не только неоднократно видела его, но и сама принимала в нем участие, вызывая одобрительный шепот своим туалетом и внешностью. Она приходила сюда не только, чтобы посмотреть на других и самой показаться, но и затем, чтобы лишний раз убедиться, что не отстала от моды. Выйдя у Тридцать четвертой улицы из трамвая, Керри с довольно непринужденным видом пошла рядом с подругой не в силах оторвать взгляда от сновавшей вокруг наряднойтолпы. Она вдруг заметила, что походка и манеры миссис Вэнс стали какими-то искусственными и натянутыми под пытливыми взглядами красивых мужчин и изысканно одетых женщин. По-видимому, здесь считалось вполне приличным глядеть на человека в упор. Керри внезапно обнаружила, что и ее рассматривают и изучают десятки глаз. Мужчины в безупречных пальто и цилиндрах, держа в руках трости с серебряными набалдашниками, то и дело проходили вплотную мимо женщин и заглядывали им в глаза, ловя ответные взгляды. Дамы шуршали шелками, расточая деланные улыбки и запах духов. Здесь добродетель стушевывалась перед пороком. Сколько было здесь надушенных волос, нарумяненных и напудренных лиц, накрашенных губ, томных подведенных глаз! Внезапно Керри поняла, что очутилась в центре выставки самого шикарного и модного, и какой выставки! Витрины ювелиров сверкали на каждом шагу. Цветочные магазины, меховые ателье, магазины мужского и дамского платья и белья следовали один за другим. Улица была запружена колясками и каретами. У подъездов стояли величественные швейцары в каких-то фантастических ливреях с золотыми перевязями и пуговицами. Кучера в коричневых гетрах, белых рейтузах и синих куртках покорно ждали занятых покупками владелиц экипажей. На всем Бродвее царила атмосфера богатства и внешней эффектности, и Керри сознавала, что она не принадлежит к этому миру. При всем желании она не могла держаться здесь так уверенно, как миссис Вэнс. Керри казалось, что каждому встречному бросается в глаза огромная разница в их туалетах, и это задевало ее за живое. Она решила больше не показываться здесь, пока у нее не будет дорогих вещей. В то же время она жаждала испытать это наслаждение — продефилировать на этом параде равной среди равных! О, тогда она почувствовала бы себя счастливой!Глава 32
Пир Валтасара.
Провидец-толкователь
Чувства, вызванные у Керри прогулкой по Бродвею, сделали ее чрезвычайно восприимчивой к пьесе, которую она видела в тот день. Актер, исполнявший главную роль, приобрел популярность в веселых комедиях, где к сценам, полным юмора, подмешано для контраста несколько сцен человеческого горя. Для Керри, как мы уже знаем, театр всегда имел большую притягательную силу. Молодая женщина не забыла своего памятного выступления в Чикаго, оно жило в ее душе и занимало ее мысли в те долгие вечера, когда качалка и модный роман были ее единственными развлечениями. И если ей случалось побывать в театре, она тотчас вспоминала о своем актерском даровании. Нередко какой-нибудь эпизод вызывал в ней страстное желание выступить на сцене и выразить те чувства, которые она испытывала бы на месте того или иного действующего лица. И почти каждый раз она уносила с собой яркие впечатления, дававшие пищу для раздумий на весь следующий день. Этим она жила больше, чем реальными событиями, наполнявшими ее повседневное существование. Не часто бывало, чтобы она приходила в театр, взволнованная виденным в жизни. Но сегодня в ее душе тихо зазвучала песня желаний, пробужденных зрелищем роскоши, веселья и красоты. О, эти женщины, которые сотнями и сотнями проходили мимо нее, — кто они? Откуда эти богатые, изящные туалеты, эти ткани изумительной окраски, серебряные и золотые безделушки? Где обитают эти прелестные женщины? Среди каких обтянутых шелком стен, среди какой узорной мебели и пышных ковров проводят они свои дни? Где их роскошные жилища, наполненные всем, что можно купить за деньги? В каких конюшнях отдыхают эти лоснящиеся нервные лошади и стоят великолепные экипажи, где живут лакеи в богатых ливреях? О, эти особняки, этот яркий свет, этот тонкий аромат, уютные будуары, столы, ломящиеся под тяжестью яств! Нью-Йорк, должно быть, полон таких дворцов, иначе не было бы и этих прекрасных, самоуверенных, надменных созданий! Их выращивают где-нибудь в оранжереях. Керри было больно от сознания, что она не принадлежит к их числу, что ее мечты, увы, не осуществились. И она поражалась своему одиночеству в последние два года, своему равнодушию к тому, что так и не достигла положения, на которое надеялась. У пьесы был банальный сюжет из жизни светских салонов, где среди раззолоченной мебели разодетые дамы и кавалеры терзаются муками ревности и любви. Такие пьесы всегда приводят в восторг людей, всю жизнь тщетно мечтавших о подобной роскоши. Здесь показано страдание в идеальных жизненных условиях. Кто не согласился бы погоревать, сидя в золотом кресле? Кто не захотел бы погрустить среди надушенных гобеленов, мягких пуфов и слуг в ливреях? Горе в таких условиях становится заманчивым. Керри жаждала приобщиться к нему. Ей хотелось переносить страдания, каковы бы они ни были, именно в такой обстановке, или если это невозможно, то хотя бы изображать их на сцене, в чудесных декорациях. Она была настолько захвачена всем виденным, что пьеса показалась ей необычайно прекрасной. Она унеслась мечтой в этот искусственный мир и была бы рада никогда не возвращаться к действительности. В антракте Керри разглядывала элегантную публику первых рядов и лож и пополняла свои представления о Нью-Йорке. Теперь она знала, что до сих пор не видела его целиком, что этот город — сплошной вихрь веселья и радостей. А когда они вышли из театра, тот же Бродвей снова преподнес ей еще более наглядный урок. Картина, которую она наблюдала по дороге в театр, стала еще эффектнее и в своей яркости достигла апогея. Керри не могла прийти в себя от всей этой безумной роскоши. Какой контраст с ее положением! Да, она не живет, она даже не имеет права утверждать, что живет, пока на ее долю не выпадет хотя бы малая частица вот такой жизни! Здесь женщины тратили деньги, не считая: стоило лишь заглянуть в любой магазин, мимо которого они проходили, чтобы убедиться в этом. Цветы, драгоценности, сласти — вот что, казалось, наполняло жизнь всех этих элегантных дам. А она! У нее едва хватало карманных денег на то, чтобы раза два в месяц позволить себе прогуляться здесь и посидеть в театре. В тот вечер уютная маленькая квартирка показалась Керри будничной и заурядной. Это было совсем не то, чем наслаждался весь остальной мир. Равнодушным Взглядом следила она за служанкой, готовившей обед. В голове то и дело вставали сценки из виденной комедии. Больше всего она вспоминала очаровательную актрису, исполнявшую роль недоступной красавицы, которая лишь после долгих ухаживаний сдалась возлюбленному. Керри покорило изящество этой женщины. Ее туалеты были настоящим шедевром, ее страдания были так правдивы! Тоска, которую она изображала, была понятна Керри. Керри была уверена, что и сама могла бы сыграть не хуже. Некоторые места она провела бы даже лучше этой актрисы. Она повторяла вслух отдельные фразы… О, если бы попасть на сцену, если бы и ей дали такую роль, — какой интересной, какой полной стала бы ее жизнь! Ведь она тоже могла бы волновать зрителей своей игрой. Герствуд застал Керри в унылом настроении. Она сидела у окна в качалке и тихонько покачивалась, погруженная в свои думы. Не желая расставаться со своими фантазиями, она отвечала скупо или старалась промолчать. — Что с тобой, Керри? — немного погодя спросил Герствуд, заметив ее грустную молчаливость. — Ничего, — бросила она. — Я себя неважно чувствую. — Ты не больна, надеюсь? — спросил Герствуд, близко подойдя к ней. — Да нет! — почти с раздражением отозвалась Керри. — Просто мне не по себе. — Очень жаль, — сказал Герствуд, отходя и одергивая на себе чуть топорщившийся жилет. — А я думал пойти сегодня в театр. — Мне не хочется, — сказала Керри. Ей было досадно, что приход Герствуда нарушил и развеял ее чудесные видения. — Я уже была сегодня на утреннике, — добавила она. — Вот как! — сказал Герствуд. — Что же ты смотрела? — «Золотые россыпи». — Ну и как? Понравилось тебе? — Очень. — И тебе не хотелось бы пойти вечером еще раз? — Пожалуй, нет, — сказала Керри. Все же, очнувшись от своей меланхолии и усевшись за стол, она передумала. Тарелка супа иногда творит чудеса. Керри пошла с Герствудом в театр и тем самым на время вернула себе душевное равновесие. Однако толчок к пробуждению был дан. Как бы она ни старалась забыть об этом, чувство неудовлетворенности почти не покидало ее. Время и постоянство — о, какая это сила! Так капля воды долбит камень, и он в конце концов распадается на куски. Примерно через месяц после описанного нами утренника миссис Вэнс снова пригласила Керри в театр. Она слышала от Керри, что Герствуд не придет к обеду домой. — Почему бы вам не пойти с нами? Не готовьте сегодня обеда. Мы пообедаем у «Шерри», а потом отправимся в «Лицей». Непременно пойдемте с нами! — Благодарю вас, я, пожалуй, пойду, — согласилась Керри. Она уже с трех часов начала одеваться, чтобы к половине шестого быть готовой отправиться в известный ресторан, в ту пору конкурирующий с «Дельмонико». В наряде Керри, несомненно, сказывалось влияние изысканной миссис Вэнс. Та постоянно обращала ее внимание на всевозможные новинки дамского туалета. «А вы не хотите купить такую-то или такую-то шляпку?», или «Вы видели новые перчатки, которые теперь носят — с овальными перламутровыми пуговками?» — такие вопросы Керри постоянно слышала от своей подруги. — Когда вы в следующий раз будете покупать себе ботинки, дорогая моя, — наставляла ее миссис Вэнс, — непременно купите на пуговицах, с лакированным носком и на толстой подошве. Это самая модная обувь нынешней осенью. — Спасибо, я так и сделаю, — говорила Керри. — Ах, дорогая моя, вы заметили, какие блузки появились у Альтмана? — сказала ей в другой раз миссис Вэнс. — Изумительные фасоны! Я присмотрела там одну блузку, которая, я уверена, очень пошла бы вам. Я тотчас подумала об этом, как только увидела ее. Керри с большим интересом прислушивалась к советам приятельницы, ибо в отношении миссис Вэнс к ней чувствовалось гораздо больше искреннего Дружелюбия, чем бывает между двумя хорошенькими женщинами. Миссис Вэнс искренне полюбила Керри за ее мягкий и ровный нрав, и ей доставляло удовольствие указывать соседке на модные новинки. — Почему вы не купите себе юбку из синей саржи, какие продают сейчас у «Лорда и Тэйлора», — сказала однажды миссис Вэнс. — Такую — колоколом. Они как раз входят в моду; к тому же темно-синий цвет так идет вам! Керри жадно ловила ее слова. О подобных вещах ей никогда не приходилось беседовать с Герствудом. Постепенно она начала высказывать желание купить то одно, то другое, а он соглашался, ничем не проявляя своего мнения. Разумеется, он заметил новые наклонности Керри и, слыша на каждом шагу похвалы по адресу миссис Вэнс, сообразил, откуда дует ветер. Пока он вовсе не собирался в чем-либо препятствовать Керри, но вскоре убедился, что ее потребности растут. Это, конечно, не могло быть ему особенно по душе, но он все еще по-своему любил ее, а потому предоставил событиям идти своим чередом. Однако Керри заметила, что Герствуд, удовлетворяя ее желания, не обнаруживает при этом ни малейшего признака удовольствия. Он никогда не восхищался ее покупками, и она пришла к выводу, что он становится равнодушен к ней. Так в их отношения был вбит новый клин. Как бы то ни было, но указания миссис Вэнс не пропали даром, и Керри была вполне прилично одета в тот день, когда она собралась со своими новыми друзьями в театр. Керри надела лучшее свое платье и с удовольствием думала, что хотя ей и приходится ограничивать свой запас нарядов одним «лучшим» платьем, оно, по крайней мере, ей к лицу и хорошо сидит. У нее, несомненно, был вид холеной женщины двадцати одного года, и миссис Вэнс сделала ей комплимент, от которого на пухлых щеках Керри выступила краска, а в больших глазах вспыхнул огонек удовольствия. Собирался дождь, и мистер Вэнс по просьбе жены вызвал экипаж. — А ваш муж не поедет с нами? — спросил мистер Вэнс, когда Керри вошла в уютную маленькую гостиную. — Нет, — ответила она. — Он предупредил меня, что не придет к обеду. — В таком случае вы бы оставили ему записку, чтобы он знал, где Мы находимся. Быть может, он еще успеет присоединиться к нам позже. — Вы правы, — сказала Керри. — Сейчас напишу. Сама она об этом не подумала. — Напишите ему, что мы до восьми будем у «Шерри», — добавил мистер. Вэнс. — Впрочем, он и сам, верно, догадается. Шурша платьем, Керри прошла через площадку к себе в квартиру и, не снимая перчаток, набросала записку. Когда она вернулась к приятельнице, там оказался какой-то гость. — Миссис Уилер, разрешите представить вам моего двоюродного брата, мистера Эмса, — сказала миссис Вэнс. — Он поедет с нами. Правда, Боб? — Очень рад познакомиться, — сказал Эмс, почтительно кланяясь Керри. Керри с первого же взгляда успела заметить, что он очень высок и статен, тщательно выбрит, молод и недурен собой, но не более того. — Мистер Эмс приехал в Нью-Йорк на несколько дней, — сказал Вэнс, — и мы стараемся немного развлечь его. — А, вы приезжий? — спросила Керри, снова оглядывая молодого человека. — Да, — ответил тот. — Я только что приехал из Индианаполиса и пробуду здесь с неделю. Он присел на стул в ожидании, пока миссис Вэнс закончит свой туалет. — Я думаю, Нью-Йорк показался вам прелюбопытным городом: тут есть что посмотреть, — отважилась заметить Керри, чтобы избежать неловкого молчания. — Нью-Йорк слишком велик, чтобы его можно было обойти в одну неделю, — любезно сказал Эмс. Молодой человек был, по-видимому, весьма благодушного нрава и ничуть не рисовался. Керри показалось, что он еще не совсем преодолел остатки юношеской робости. Он вряд ли умел вести блестящую беседу: достоинства его заключались в том, что он был хорошо одет и довольно храбро держался в обществе. Керри решила, что с этим человеком ей нетрудно будет поддерживать разговор. — Ну, теперь мы, кажется, готовы, — сказал Вэнс. — Экипаж у подъезда. — Да, пойдем, — сказала миссис Вэнс, входя в гостиную. — Боб, тебе придется позаботиться о миссис Уилер! — Постараюсь, — улыбнувшись, ответил Боб и подошел ближе к Керри. — Мне кажется, вы не потребуете особого надзора? — добавил он, как бы прося у нее благожелательности и снисхождения. — Надеюсь, что нет, — отозвалась она. Они спустились по лестнице, и вскоре вся компания разместилась в экипаже. — Поехали, — сказал Вэнс, усаживаясь последним и захлопывая дверцу. Экипаж тронулся в путь. — А что сегодня идет? — поинтересовался Эмс. — «Лорд Чомли», — ответил Вэнс. — С Созерном в главной роли. — О, Созерн бесподобен, — воскликнула миссис Вэнс. — Он такой забавный. — Да, газеты его очень хвалят, — вставил Эмс. — Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы получим большое удовольствие, — сказал Вэнс. Эмс сидел рядом с Керри и потому считал своим долгом уделять ей известное внимание. Его заинтересовала эта совсем еще молодая и уже замужняя женщина, такая хорошенькая к тому же, но этот интерес был только почтительным. Молодой человек отнюдь не был ловеласом. Он с большим уважением относился к брачным узам и помышлял только о хорошеньких индианаполисских девицах на выданье. — Вы уроженка Нью-Йорка? — спросил он, обращаясь к своей соседке. — О нет, я здесь всего два года, — ответила Керри. — Значит, у вас было достаточно времени ознакомиться с городом. — Я бы не сказала, — ответила Керри. — Нью-Йорк мне и сейчас такой же чужой, как в первый день. — Вы не из западных ли штатов? — Да, из Висконсина, — подтвердила Керри. — У меня такое впечатление, что большинство жителей Нью-Йорка поселились здесь лишь недавно, — заметил Эмс. — Мне уже назвали много людей из Индианы, работающих по моей специальности. — А какая у вас специальность? — спросила Керри. — Служу в одной электрической компании, — ответил молодой человек. Они продолжали болтать, перескакивая с одной темы на другую, разговор их прерывался лишь замечаниями, которые время от времени вставляли супруги Вэнс. Несколько раз беседа становилась общей и довольно оживленной, и, наконец, они подъехали к ресторану. Керри успела заметить веселое оживление на улицах, по которым они проезжали. Во, все стороны двигались люди в поисках развлечений. Пешеходы наводняли тротуары, по мостовым мчались экипажи, а по Пятьдесят девятой улице ползли переполненные вагоны трамвая. На углу Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню ярко горели огни нескольких новых отелей, окаймлявших Плаза-сквер, и наводили на мысль о том, в какой роскоши, должно быть, живут там люди. Пятая авеню — улица богачей — была еще больше запружена экипажами, толпа джентльменов во фраках была там еще гуще. У ресторана «Шерри» внушительный швейцар распахнул дверцу экипажа и помог всем выйти. Когда они поднимались по ступенькам, Эмс поддерживал Керри под локоть. Они вошли в вестибюль, где уже толпились завсегдатаи, сняли пальто и накидки и направились в богато отделанный главный зал. Керри в жизни не видела ничего подобного. За все время их пребывания в Нью-Йорке Герствуд в силу стесненных обстоятельств ни разу не мог позволить себе повести ее в такой ресторан. Здесь царила та не поддающаяся описанию атмосфера, которая тотчас же говорила каждому посетителю, что он попал в совершенно особое место. Высокие цены ресторана ограничивали круг его посетителей. Здесь можно было встретить либо людей богатых, либо принадлежащих к классу охотников за развлечениями. Керри неоднократно читала в газетах заметки о балах, банкетах, обедах и ужинах, для которых тот или иной представитель «высшего общества» избирал ресторан «Шерри». «Миссис такая-то устраивает в среду вечером званый ужин у «Шерри» маленькому кружку друзей». Подобные избитые заметки о развлечениях «света», которые Керри любила ежедневно просматривать, помогли ей составить себе довольно ясное представление о пышности и великолепии этого удивительного храма чревоугодия. И вот, наконец, она сама очутилась здесь! Рослый дородный швейцар охранял двери в вестибюль, внутри стоял другой рослый дородный джентльмен, а услужливые мальчики в форменной одежде принимали у гостей трости, пальто, шляпы. Глазам Керри открылся красивый зал, изысканно обставленный, залитый ярким светом, зал, где ели богатые мира сего. Счастливая эта миссис Вэнс! Она молода, хороша и богата, во всяком случае, достаточно богата, чтобы ездить сюда в экипаже. Как это чудесно — быть богатым! Вэнс шел впереди, между рядами столиков с ослепительной сервировкой, за которыми небольшими группами сидели обедающие. Новичку тотчас же бросались в глаза достоинство и уверенность, с какими держались посетители этого ресторана. От множества электрических лампочек, лучи которых отражались в хрустале, от блеска позолоты на стенах все сливалось в одном слепящем сверкании; проходит несколько минут, прежде чем глаз привыкает и начинает различать отдельные предметы и лица. Белоснежные сорочки джентльменов, светлые наряды дам, бриллианты, пышные перья — все это являло собой чрезвычайно эффектное зрелище. Керри шла по залу с горделивым видом, ничуть не уступавшим осанке миссис Вэнс, и, подойдя к столику, опустилась на стул, предложенный, ей метрдотелем. Она подмечала каждую мелочь окружавшей их обстановки, вплоть до подобострастных поклонов официантов, за которые так охотно платят американцы. Выражение лица метрдотеля, пододвигавшего каждому по очереди стул, и жест, которым он приглашал сесть, — уже одно это стоило несколько долларов! Едва они уселись, на сцену выступила излюбленная богатыми американцами показная, расточительно-дорогая и нездоровая гастрономия — предмет изумления и недоумения всего культурного мира. Пространное меню предлагало вниманию посетителей бесконечное разнообразие всяких блюд, которых хватило бы на прокорм целой армии, а цены сразу показывали, что думать о благоразумных тратах более чем смешно. Десятки разных супов от пятидесяти центов до доллара за порцию, сорок сортов устриц, по шестьдесят центов за полдюжины, закуски, рыбные и мясные блюда, — и все по таким ценам, что простому смертному вполне достаточно было бы этой суммы, чтобы заплатить за ночлег в приличном отеле. Доллар пятьдесят и два доллара наиболее часто встречались в этом изящно отпечатанном прейскуранте. Конечно, Керри заметила это, и, увидев цену жареного цыпленка, она вдруг вспомнила другое меню и другой день, когда она впервые обедала в хорошем ресторане в обществе Друэ. Это воспоминание мелькнуло на миг, точно грустная мелодия забытой песни, и тотчас же исчезло. Но даже в этот краткий миг она успела увидеть другую Керри — бедную, голодную, потерявшую всякое мужество, для которой Чикаго был холодным, неприступным миром, где она бродила в тщетных поисках работы. Стены зала представляли собой зеленовато-голубые прямоугольники в пышных золоченых рамах с замысловатой лепкой по углам: над фруктами и цветами из гипса безмятежно витали жирные купидоны. По потолку раскинулся сложнейший золотой узор, сходившийся в центре к бросавшей целый сноп огней люстре из электрических лампочек, перемежающихся со сверкающими призмами и золочеными гипсовыми подвесками. Паркет, вощенный и натертый, был красноватого оттенка; куда ни посмотри — всюду зеркала, высокие, светлые, с граненой кромкой; зеркала отражали мебель, лица, огни — десятки и сотни раз. Столики сами по себе не представляли ничего особенного, но на скатерти и на салфетках красовалось «Шерри», на серебре — «Тиффани», на фарфоре — «Хэвиленд», а маленькие лампочки под красными абажурами на каждом столике отбрасывали розовый свет на лица, на туалеты и на стены и удивительно украшали зал. Официанты придавали ресторану еще большую элегантность и изысканность своей манерой кланяться, бесшумно приходить и уходить, обмахивать столик и ставить тарелки. Каждому гостю они оказывали исключительное внимание. Слегка согнувшись, склонив голову набок и отставив локти, официант повторял за гостем: — Черепаший суп, так. Одну порцию, слушаю. Устрицы, полдюжины, так. Спаржа, слушаю. Оливки… Та же процедура повторилась бы с каждым в отдельности, если бы Вэнс не заказал сразу для всех, предварительно выслушав советы и пожелания каждого. Керри, широко раскрыв глаза, смотрела на собравшееся в зале общество. Так вот она, жизнь нью-йоркского высшего света! Вот как проводят богатые люди дни и вечера! Ее бедный маленький ум не мог не распространять отдельные увиденные ею сцены на все общество. Каждая шикарная леди, должно быть, днем бывает среди толпы на Бродвее или в театре, а вечером в ресторане. Она, должно быть, окружена роскошью и блеском, у подъезда ее ожидает экипаж с лакеем у дверцы. А ей, Керри, это не дано. За два долгих года она ни разу не была в таком месте, как это. Зато Вэнс был здесь в своей стихии, как был бы и Герствуд в прежние дни. Не стесняясь ценами, он заказал суп, устрицы, жаркое, гарнир и потребовал также несколько бутылок вина, которые официант поставил возле столика в плетеной корзинке. Эмс довольно равнодушно разглядывал толпу, повернувшись к Керри в профиль. У него было красивое лицо: высокий лоб, довольно крупный нос и мужественный подбородок. Рот, тоже большой, но хорошей формы, свидетельствовал о доброте, темно-каштановые волосы были разделены сбоку пробором. Керри угадывала в нем что-то мальчишеское, и все-таки это был вполне взрослый человек. — Знаете, — сказал вдруг Эмс, поворачиваясь к ней после довольно долгого задумчивого молчания, — мне иногда кажется, что стыдно тратить столько денег подобным образом. Керри взглянула на него, слегка удивленная его серьезным тоном. Этот человек, по-видимому, задумывался о вещах, которые ей никогда не приходили в голову. — Почему же? — спросила она, заинтересованная его словами. — Потому что здесь платят больше, чем все это на самом деле стоит. Платят за показной шик. — А я не понимаю, почему бы людям не тратить деньги, если они у них есть, — сказала миссис Вэнс. — Во всяком случае, это никому не приносит вреда, — поддержал ее Вэнс. Он все еще изучал меню, хотя уже передал официанту обильный заказ. Эмс опять смотрел в сторону, и Керри снова загляделась на него. Ей казалось, что этот молодой человек думает о странных вещах. Было что-то мягкое во взгляде, каким он обводил ресторан. — Взгляните-ка на туалет вон той женщины, — сказал он, вновь поворачиваясь к Керри и легким кивком указывая направление. — Где? — спросила Керри, следя за его взглядом. — Вон там, в углу, довольно далеко от нас. Вы видите ее брошку? — Боже, какая огромная! — воскликнула Керри. — Я давно не видел такого безвкусного нагромождения бриллиантов, — сказал Эмс. — Да, пожалуй, брошка слишком велика, — согласилась Керри. Ей почему-то захотелось понравиться молодому человеку, — этому предшествовало смутное сознание, что он намного образованнее ее и, наверное, умнее. Керри, надо отдать ей справедливость, понимала, что люди могут стоять в умственном отношении выше ее. За свою жизнь она мало встречала людей, походивших, по ее представлению, на ученых. А этот сидевший рядом с нею сильный молодой человек с ясным, открытым взглядом, очевидно, хорошо разбирался в вещах, которые она не совсем понимала, хотя и относилась к ним одобрительно. «Как хорошо для мужчины быть таким!» — подумала она. Разговор перешел на книгу «Воспитание девушки» Альберта Росса, которая пользовалась в то время большим успехом. Миссис Вэнс читала книгу, а ее муж видел рецензии в газетах. — Сколько шуму может наделать роман! Об этом Россе говорят без конца, — заметил Вэнс, глядя на Керри. — А я о нем никогда не слыхала, — честно призналась Керри. — Я читала его, — сказала миссис Вэнс. — Он написал много интересных вещей. Но лучше всего его последний роман. — Ваш Росс ровным счетом ничего не стоит, — вдруг произнес Эмс. Керри посмотрела на него, как на оракула. — Все его вещи бездарны, так же как «Дора Торн», — заключил Эмс. Керри восприняла это как личный упрек. Она как-то читала «Дору Торн», и книга показалась ей тогда «ничего себе», но ей думалось, что другие считают ее превосходной. И вот является юноша с ясными глазами и тонким профилем, чем-то напоминающий студента, и высмеивает нашумевший роман. По его словам, он ничего не стоит и не заслуживает даже того, чтобы тратить на него время. Керри опустила глаза. Впервые ей стало стыдно за свое невежество. Вместе с тем в словах Эмса не было ни скрытого сарказма, ни высокомерия. Нет, этого не было и в помине! Керри почувствовала, что просто ему свойственно мышление более высокого порядка, мышление, приводящее к правильным взглядам, и она невольно задумалась над тем, что же, с точки зрения этого человека, хорошо и что дурно. А он, заметив, что Керри внимательно и, по-видимому, сочувственно прислушивается к его словам, стал обращаться главным образом к ней. Пока официант возился у стола, раскладывая ложки, вилки, ножи, проверял, достаточно ли горячи тарелки, и выказывал всяческие иные знаки заботливости, рассчитанные на то, чтобы угодить гостям и вызвать у них ощущение комфорта, Эмс, слегка наклонясь к Керри, стал рассказывать про жизнь в Индианаполисе. Этот молодой человек в самом деле обладал недюжинным умом, способности его нашли применение главным образом в электротехнике. В то же время он интересовался и другими отраслями науки, да и люди сами по себе интересовали его. В розовом отсвете абажура волосы его отливали медью, и в глазах играли веселые искорки. Керри подмечала все это, когда он наклонялся к ней, и чувствовала себя совсем юной. Ей было ясно, что он намного во всем опередил ее. Он казался умнее Герствуда, рассудительнее и образованнее Друэ и вместе с тем, по-видимому, обладал детски чистой душой. Керри подумала, что, в общем, он на редкость приятный человек. От нее, однако, не ускользнуло, что интерес Эмса к ней был в высшей степени отвлеченным. Она не входила в круг его жизни, не имела никакого отношения к интересовавшим его вопросам. И все же ей было приятно, что он обращается к ней, и его слова находили в ней отклик. — Меня нисколько не влечет к богатству, — сказал он, когда обед шел своим чередом, и от обильной еды он несколько разгорячился. — А тем более нет у меня желания тратить деньги вот таким путем. — В самом деле? — спросила Керри, впервые в жизни чувствуя, что новый взгляд на вещи производит на нее сильное впечатление. — Почему? — Как почему?! Какая от этого польза? Разве это нужно человеку, чтобы быть счастливым? — воскликнул Эмс. Последние его слова вызвали некоторое сомнение у Керри, но, как и все, что исходило от него, они показались ей заслуживающими уважения. «Он, верно, мог бы быть счастлив и в полном одиночестве, — мелькнуло у нее в уме. — Ведь он такой сильный!» Мистер и миссис Вэнс почти непрерывно болтали, и таким образом Эмсу лишь изредка представлялась возможность вставить несколько фраз, производивших на Керри большое впечатление. Однако и этого было ей достаточно, так как не только слова, но даже та атмосфера, которая невольно создавалась присутствием юноши, была впечатляющей. В молодом человеке — а может быть, в том мире, в котором он жил, — было что-то, находившее отклик в ее душе. Эмс порою вызывал в памяти Керри ту или иную сцену, виденную в театре, — напоминал о печалях и жертвах, которые неизбежны в человеческой жизни. Своими словами он сумел несколько сгладить для нее горечь контраста между ее жизнью и той, которую она сейчас наблюдала вокруг себя, и объяснялось это главным образом тем спокойным безразличием, с которым он относился к окружающему. Когда они вышли из ресторана, Эмс взял Керри под руку, помог ей сесть в экипаж, и они всей компанией отправились в театр. Во время спектакля Керри внимательно прислушивалась к тому, что говорил ей Эмс. Он часто обращал ее внимание именно на те места пьесы, которые особенно нравились и ей, которые глубоко ее волновали. — Вы не находите, что чудесно быть актером? — спросила она. — Да, — ответил он. — Но только хорошим актером. Ведь театр — великая вещь! Достаточно было его одобрения, чтобы сердце Керри затрепетало. О, если бы она могла стать актрисой, и хорошей актрисой к тому же! Этот человек так умен, он все знает и с уважением относится к театру. Будь она хорошей актрисой, ее уважали бы такие люди, как Эмс. Ее охватило чувство признательности за его слова, хотя они вовсе не относились к ней. Она и сама не знала, чем была вызвана эта признательность. По окончании спектакля вдруг выяснилось, что Эмс не намерен сопровождать компанию обратно. — О, неужели вы не поедете с нами? — вырвалось у Керри. — Нет, благодарю вас, — ответил он. — Я остановился в отеле на Тридцать третьей улице, здесь неподалеку. Керри больше ничего не сказала, но эта неожиданность почему-то огорчила ее. Она жалела, что приятный вечер близится к концу, но все-таки надеялась, что он продолжится еще хоть полчаса. О, эти часы, эти минуты, из которых составляется жизнь! Сколько печали и страданий вмещается в них! Она пожала Эмсу руку с напускным равнодушием. Не все ли ей равно, собственно говоря! Однако экипаж без Эмса показался ей опустевшим. Вернувшись домой, Керри стала перебирать в уме впечатления вечера. Она не знала, встретит ли еще когда-нибудь этого человека. Впрочем, не все ли это равно для нее? Не все ли равно? Герствуд был уже дома и успел лечь в постель. Его одежда была небрежно разбросана по комнате. Керри подошла к двери спальни, увидела его и повернула назад. Спать совершенно не хотелось. Ее мучили сомнения, над многим хотелось подумать. Она вернулась в столовую, села в свою качалку и задумалась, крепко сжав маленькие руки. Постепенно сквозь дымку грез и противоречивых желаний Керри стала различать будущее. О вы, сонмы надежд и разочарований, горя и страданий! Она покачивалась в качалке и… начинала прозревать.Глава 33
За стенами города.
Годы уплывают
Никаких прямых последствий это, впрочем, не дало. В таких случаях последствия обнаруживаются нескоро. Утро приносит другое настроение — привычная жизнь всегда берет свое. Редко-редко мы замечаем, сколь жалко наше существование. Мы испытываем душевную боль, столкнувшись с теми, кто выше и лучше нас, но нет их рядом — и боль стихает. Полгода или даже больше Керри жила той же жизнью, что и раньше. Эмса она больше не встречала. Он еще раз заходил к Вэнсам, но Керри только потом от приятельницы узнала об этом. Молодой инженер уехал на Запад, и мало-помалу оставленное им впечатление стало стираться, исчезало влечение, которое Керри почувствовала к нему. Но отнюдь не исчезло его моральное влияние на Керри, и можно было смело сказать, что оно никогда не исчезнет. Теперь у Керри появился идеал. С ним она сравнивала всех других мужчин, особенно Друэ и Герствуда, которые были близки ей. Все это время, уже почти три года, Герствуд жил тихой, размеренной жизнью. Он не катился вниз по наклонной плоскости, но о подъеме уже не могло быть и речи, вот что сказал бы о нем случайный наблюдатель. Психологическая перемена совершилась — и настолько явная, что по ней можно было довольно точно определить дальнейшую судьбу Герствуда. И главную роль здесь сыграл отъезд из Чикаго, ведь он оборвал его карьеру. В росте делового человека есть много общего с его физическим ростом. Либо он становится сильнее, здоровее и мудрее, как юноша на пороге зрелости, либо — слабее, дряхлее и пассивнее, как зрелый муж, приближающийся к старости. Других состояний не существует. Бывают периоды, когда прерывается юношеское накопление сил и чувствуется (мы говорим о человеке средних лет) тенденция к упадку, — когда оба процесса почти уравновешивают друг друга и мало проявляются вовне. Но проходит некоторое время, и весы перетягивают в сторону могилы: сначала медленно, потом все быстрее, пока нисходящий процесс не достигнет полного развития. То же самое часто происходит с состоянием богатого человека. Если прирост капитала не прекращается, если никогда не наступает период равновесия доходов и расходов, то не будет и краха. В наши дни богачи нередко спасают свои состояния благодаря умению привлечь к себе на службу молодые умы. Эти молодые умы заинтересованы в прочности состояния, как если бы оно было бы их собственным, и потому прилагают все старания, чтобы оно постоянно возрастало. Если бы каждый богач должен был сам заботиться о своем состоянии и при этом дожил бы до глубокой старости, то оно растаяло бы, как и сила и воля его владельца. И сам он и все, чем он владел, превратилось бы в прах и было бы развеяно ветрами на все четыре стороны. Но теперь проследим, как нарушается параллельность судеб человека и его капитала. Состояние, как и человек, представляет собою организм, которому уже не хватает ума и сил одного своего владельца. Кроме молодых умов, заинтересованных крупным заработком, у него появляются еще союзники — молодые силы, которые поддерживают его существование, когда силы и ум владельца начинают иссякать. Состояние может сохраниться при росте и развитии сообщества или государства. Оно станет необходимым в этом процессе развития, если связано с производством чего-то такого, на что растет спрос. И тогда отпадает необходимость в попечениях владельца. Тогда требуется не столько дальновидность, сколько управление. Человек начинает угасать, а спрос на его богатства не падает или даже возрастает, и, в чьи бы руки это состояние фактически ни перешло, оно продолжает существовать. Поэтому некоторые владельцы порой не замечают спада своих способностей. И только в тех случаях, когда они вдруг лишаются богатства или успеха, они убеждаются, что теперь уж не способны действовать, как прежде. Герствуд, попав в новые условия, мог бы заметить, что он уже немолод. Если он этого не видел, то лишь потому, что находился в состоянии такого равновесия, когда постепенное ухудшение происходит незаметно. Не привыкший рассуждать или разбираться в самом себе, Герствуд не мог постичь той перемены, которая происходила в его сознании, а стало быть, и в теле, но он ощущал подавленность. Постоянно сравнивая свое прежнее положение с нынешним, Герствуд пришел к выводу, что его жизнь изменилась к худшему, а это влекло за собой мрачное или, по крайней мере, угнетенное настроение. Экспериментальным путем доказано, что длительная подавленность порождает в крови особые яды — катастаты, тогда как благодетельные чувства радости и удовольствия способствуют выделению полезных химических веществ — анастатов. Яды, возникающие от самобичевания, вредят организму и часто вызывают заметное физическое разрушение. Вот это и происходило теперь с Герствудом. С течением времени это сказалось на его характере. Взгляд потерял былую живость и проницательность, походка стала не так тверда и уверенна, как раньше, а хуже всего было то, что Герствуд без конца думал, думал и думал. Его новые знакомые не были знаменитостями. Это были люди более низкого уровня, которых интересовали более низменные и грубые удовольствия. Их общество не могло радовать его так, как радовало когда-то общество элегантных завсегдатаев чикагского бара. Да, ему ничего не оставалось, кроме бесконечных и бесплодных размышлений. Мало-помалу желание приветствовать посетителей заведения на Уоррен-стрит, ублажать их, создавать для них атмосферу уюта покинуло Герствуда. И мало-помалу он стал понимать значительность брошенного им места. В свое время там, на Адамс-стрит, то, что он делал, не казалось ему таким уж чудесным. Как легко, думал он тогда, подняться по службе, зарабатывать на все необходимое и иметь еще свободные деньги, но как далеко позади теперь все это было! Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами, а он — он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходило на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он неоднократно видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны возили их по всей стране, газеты в лестных заметках упоминали их имена, роскошные вестибюли отелей и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, с которыми он еще так недавно чокался, — видные люди, а он… он забыт. Кто такой мистер Уилер? Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха! Если кто-либо из читателей думает, что подобные мысли не приходят на ум рядовому человеку, что такие переживания доступны только людям более высокого умственного развития, то я хочу обратить их внимание на то, что только высокое умственное развитие и порождает такую философию, такую стойкость духа, которые не позволяют сосредоточиваться на подобных вещах — и страдать из-за них. Только умы заурядные способны придавать столь большое значение материальному благополучию и убиваться из-за утраты сотни долларов. А Эпиктет только улыбается, когда исчезают последние остатки материальных благ. Наступил момент (приблизительно к концу третьего года), когда эти думы и мрачное настроение начали отражаться на делах бара на Уоррен-стрит. Клиентов заметно поубавилось по сравнению с тем, сколько народу посещало бар в дни наибольшего его процветания, и это сильно раздражало и тревожило Герствуда. Как-то вечером он признался Керри, что дела в этом месяце идут хуже, чем в предыдущем. Это было сказано в ответ на заявление Керри, что ей нужно купить кое-какие мелочи. Керри не преминула мысленно отметить, что Герствуд никогда не находил нужным советоваться с нею, когда покупал что-нибудь из одежды для себя. Впервые у нее мелькнула мысль, что он хитрит и хочет, чтобы она у него ничего не просила. Она ответила довольно мягко, но в душе была возмущена. Герствуд совсем не думает о ней. Если у нее когда-нибудь и выдается веселый часок, то лишь благодаря Вэнсам. А они вдруг объявили, что уезжают из Нью-Йорка. Близилась весна, и они намеревались поехать на Север. — Да, — сказала в разговоре с Керри миссис Вэнс, — нам, пожалуй, лучше отказаться от квартиры, а вещи сдать на хранение. Мы уедем на все лето. Какой же смысл платить за квартиру? Кроме того, по возвращении, мы, наверно, поселимся ближе к центру. Керри слушала ее с искренним огорчением. Общество миссис Вэнс доставляло ей огромное удовольствие, и во всем доме она больше не знала ни души. Теперь она опять останется совсем одна. Плохое настроение Герствуда из-за понижения доходов от бара как раз совпало с отъездом супругов Вэнс. На долю Керри сразу выпали и угрюмость мужа и невыносимое одиночество. И то и другое угнетало ее. Она стала нервничать, постоянно была недовольна, и не столько Герствудом, думала она, сколько всей своей жизнью. Какова она, эта жизнь? Кругом сплошная тоска. Что Керри получила от жизни? Ничего, кроме этой тесной квартирки. Супруги Вэнс могут путешествовать, им доступно так много интересного, а она тут сидит одна-одинешенька. Неужели она только для этого создана? Печальные мысли сменяли одна другую, а потом явились и слезы — единственное, что приносило хоть некоторое облегчение. Такое положение продолжалось довольно долго. И Керри и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила маленькая перемена, увы, к худшему. Однажды вечером, желая как-нибудь умерить пристрастие Керри к новым туалетам и дать ей понять, что ему не так-то легко справляться с расходами, Герствуд сказал: — Я начинаю думать, что едва ли сумею долго ладить с моим компаньоном. — Почему? — спросила Керри. — О, этот ирландишка так туп и так жаден! Он не соглашается ни на какие усовершенствования в баре, а в таком виде, как сейчас, дело не может давать прибыль. — И тебе не удается убедить его? — Нет, я уж сколько раз пытался. Единственный выход, насколько я понимаю, это основать свое дело. — И что же? — Видишь ли, все мои деньги в настоящее время вложены в этот бар. Будь у меня возможность некоторое время жить бережливо, пожалуй, удалось бы открыть другой бар, который давал бы нам приличный доход. — Почему же не быть более бережливым? — сказала Керри,невольно подумав при этом, что и так ничего лишнего не тратит. — Надо бы попытаться, — ответил Герствуд. — Я уже думал о том, чтобы снять квартирку поменьше и пожить экономнее хотя бы год. Мы собрали бы достаточно, чтобы с этой суммой и деньгами, вложенными в дело на Уоррен-стрит, открыть хороший бар. Тогда мы могли бы зажить так, как тебе хочется. — Что ж, ничего не имею против, — сказала Керри. В душе, однако, ей было больно, что дело дошло до этого. Уже один разговор о меньшей квартире наводил на мысль о бедности. — В районе Шестой авеню за Четырнадцатой улицей есть сколько угодно прелестных маленьких квартир. Там можно было бы найти что-нибудь подходящее. — Если хочешь, я могу посмотреть, — сказала Керри. — Я убежден, что через год сумел бы порвать с моим компаньоном, — повторил Герствуд. — Из дела в том виде, в каком оно находится сейчас, ничего путного не выйдет. — Хорошо, я схожу и посмотрю квартиры, — сказала Керри, решив, что предложенный Герствудом переезд, по-видимому, имеет для него огромное значение. Вскоре после этого разговора они переселились на другую квартиру, причем Керри по этому поводу впала в глубокое уныние. Из всех событий последнего времени ни одно так сильно не задевало ее. Она уже начала смотреть на Герствуда не как на любовника, а как на настоящего мужа, и считала себя неразрывно связанной с ним. Что бы ни случилось, ее судьба неотделима от сто судьбы. К сожалению, она замечала, что он становится все более хмурым и молчаливым, что он нисколько не похож больше на прежнего сильного, жизнерадостного и энергичного мужчину. Морщинки в углах рта и около глаз говорили о надвигающейся старости. О том же говорили и многие другие признаки. Керри стала понимать, что совершила ошибку, и вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд, в сущности, силой заставил ее бежать с ним. Новая квартира находилась на Тринадцатой улице, близ Шестой авеню, и состояла из четырех комнатушек. Район не нравился Керри. Здесь совсем не было зелени, из окон уже не видно было реки. Улица была сплошь застроена и густо заселена. В новом доме обитало двенадцать семей — люди, видимо, почтенные, но не выдерживавшие никакого сравнения с супругами Вэнс. Такие люди, как Вэнсы, жили в лучших квартирах. В своей маленькой квартирке Керри обходилась без служанки. Она обставила ее очень мило, но это не доставляло ей ни малейшей радости. В душе Герствуд отнюдь не был доволен, что ему пришлось спуститься ступенью ниже, но он уверял себя, что ничего другого ему не остается. Надо до поры до времени примириться с этим, и пока что пусть будет так, как есть. Желая показать Керри, что нет оснований считать их материальное положение особенно тревожным и что нужно, напротив, лишь радоваться, — ведь через год он получит возможность поправить свои дела, — Герствуд стал чаще ходить с ней в театр и давал ей больше на хозяйство. Но все это было лишь временным явлением. Он постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова: живи и мирись с жалким прозябанием. Дорога вниз имеет мало остановок. Душевное состояние Герствуда все расширяло пропасть между ним и его компаньоном, пока и тот не стал подумывать о том, как бы отделаться от Герствуда. Но дело разрешилось быстрее, чем мог предполагать тот или другой, и случилось это с легкой руки владельца дома, в котором помещался бар. — Вы читали? — спросил как-то утром Шонеси, показывая Герствуду заметку в «Геральде», в отделе «Недвижимых имуществ». — Нет, не читал, — ответил Герствуд. — А в чем дело? — спросил он, заглядывая в газету. — Наш домовладелец кому-то продал свой участок земли. — Неужели? — вырвалось у Герствуда. Он взял газету и прочел: — «Мистер Август Вил продал вчера мистеру Слосону за пятьдесят семь тысяч долларов принадлежащий ему участок земли размером двадцать пять на семьдесят пять футов, на углу Уоррен и Гудзон-стрит». — Когда истекает срок нашей аренды? — задумчиво спросил Герствуд. — Как будто в феврале? — Совершенно верно, — подтвердил его компаньон. — Здесь ничего не говорится о планах нового владельца, — заметил Герствуд и снова взял газету. — Надо полагать, что мы вскоре услышим от него о его планах! — ответил Шонеси. И в самом деле вскоре выяснилось, что Слосон, владевший и смежным участком, собирался построить по последнему слову техники новый дом, специально под конторы. Старый дом, в котором помещался бар, предполагалось снести. На строительство нового здания должно было уйти года полтора. Все эти подробности выплывали постепенно, и Герствуд стал понимать, чем это все ему грозит. Однажды он завел об этом речь со своим компаньоном. — Вы не думаете открыть новый бар где-нибудь поблизости? — спросил он. — Какой в этом смысл? — отозвался Шонеси. — Углового помещения мы нигде по соседству не найдем. — А в другом месте, по-вашему, не стоит? — Я лично не стал бы рисковать, — ответил тот. Да, эта неожиданная перемена несла Герствуду новые и весьма серьезные затруднения! Расторжение контракта означало для него потерю тысячи долларов, а за время, оставшееся до истечения срока договора, нечего было и надеяться собрать другую тысячу. Он догадывался, что его компаньону надоело их сотрудничество; когда новый дом будет построен, Шонеси, наверное, арендует в нем угловое помещение один. Итак, нужно было найти что-то иное, ибо надвигался полный финансовый крах. В таком настроении Герствуду было не до того, чтобы наслаждаться уютом новой квартиры или обществом Керри, и дома у них воцарилось уныние. Весь свой досуг Герствуд уделял теперь поискам нового дела, но ничего подходящего не попадалось. Мало того, он уже не обладал той импонирующей внешностью, как три года назад, когда он только прибыл в Нью-Йорк. Тревожные мысли придали какую-то растерянность его взгляду, и это производило неблагоприятное впечатление. Не было у него на руках и тысячи трехсот долларов, на которые он раньше опирался в своих переговорах. А примерно месяц спустя Шонеси, не видя улучшения в состоянии Герствуда, сказал, что новый домовладелец будто бы наотрез отказался продолжить аренду углового помещения. — По-видимому, нашему бару пришел конец, — добавил он, стараясь придать своему лицу озабоченное выражение. — Ну, что ж, конец так конец, — угрюмо отозвался Герствуд. Нет, он не позволит этому человеку читать его мысли. Этого удовольствия он ему не доставит. Через день или два Герствуду стало ясно, что необходимо так или иначе предупредить Керри о случившемся. — Мне, кажется, грозит большая неприятность в деле, — осторожно начал он. — Что случилось? — встревожилась она. — Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок, а новый хозяин отказывается возобновить контракт на аренду. Таким образом, делу, вероятно, придет конец. — А разве нельзя открыть другой бар? — Едва ли найдется подходящее место, — ответил Герствуд. — К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща. — И ты теряешь деньги, которые ты вложил в дело? — Да, — с каменным лицом подтвердил ей Герствуд. — Как обидно! — воскликнула Керри. — Это жульнический трюк, — пояснил ей Герствуд. — Вот и все. Шонеси наверняка откроет бар в том же месте, как только будет готово новое помещение. Керри пристально посмотрела на Герствуда, и по всему его виду ей стало ясно, что положение очень серьезное. — Как ты думаешь, удастся тебе найти что-нибудь другое? — робко спросила она. Герствуд немного помолчал. Теперь уже незачем было придумывать басни насчет экономии и открытия нового дела. Керри прекрасно понимала, что Герствуд, как говорят, «вылетел в трубу». — Право, не знаю, — угрюмо отозвался он наконец. — Я попытаюсь.Глава 34
Между жерновами.
Былинка во власти ветров
Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Прошло несколько дней, прежде чем она вполне осознала, что если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, то это повлечет за собою лишения и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, вспоминались Гансоны и их квартирка, и душа ее бунтовала. Это ужасно! Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход! Месяцы, проведенные в обществе супругов Вэнс, совсем лишили ее способности здраво относиться к своему положению. Блеск веселой нью-йоркской жизни, которую ей благодаря любезности этой четы удалось увидеть краешком глаза, завладел ее душой. Ее научили хорошо одеваться, ей показали, куда стоит ходить, а денег у нее ни на то, ни на другое не было. Но соблазны постоянно напоминали ей о себе. Чем неблагоприятнее были обстоятельства, тем больше привлекала Керри та, другая, жизнь, вкус которой она уже успела узнать. И вот нищета грозит окончательно забрать ее в свои лапы и навсегда отдалить от нее мир мечтаний, который станет для нее недоступен, как небо, к которому нищий Лазарь тщетно воздевает руки. Вместе с тем то, что она узнала от Эмса о высоких идеалах, глубоко запало ей в душу. Сам Эмс ушел из ее жизни, но в ушах Керри звучали его слова о том, что деньги еще не все в жизни, что в мире есть много ценного, о чем Керри не имеет и представления, что театр — великое искусство и что читала она до сих пор только вздор. Этот человек был сильный и честный, гораздо сильнее и лучше Герствуда и Друэ. Ей не хотелось сознаваться даже самой себе, но разница между ними была мучительной. Она намеренно закрывала на это глаза. В последние три месяца существования бара на Уоррен-стрит Герствуд частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти — и как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. А тогда уже нечего будет вкладывать в дело и придется искать службу. Все, что в газетах попадалось по части баров, было либо слишком дорого, либо слишком уж мизерно. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и, судя по общему настроению, наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщения о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, — все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «Уорлд» выступила однажды с сенсационным известием: «Зимою в Нью-Йорке будет восемьдесят тысяч безработных». Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. «Восемьдесят тысяч! — думал он. — Какой ужас!» Для Герствуда такие мысли были весьма необычны. В дни его преуспеяния все в мире шло как будто благополучно. Подобные сообщения ему случалось видеть и на столбцах чикагской «Дейли ньюс», но он никогда не обращал на них внимания. Теперь же эти вести казались ему серыми тучами, обложившими в ясную погоду горизонт. Они грозили закрыть собою все небо и омрачить дальнейшую жизнь Герствуда. Чтобы сколько-нибудь подбодрить себя, он порою мысленно восклицал: «Э, зачем так тревожиться? Ведь я еще не вышел из игры, у меня еще полтора месяца впереди! А на худой конец сбережений все же хватит на полгода». Как ни странно, но сейчас, преисполненный тревоги за будущее, Герствуд часто возвращался в думах к жене и детям. В первые три года он по возможности избегал этих мыслей. Он ненавидел миссис Герствуд и отлично обходился без нее. Да ну ее! Он еще выбьется на дорогу! Но теперь, когда фортуна повернулась к нему спиной, он все чаще и чаще стал задумываться над тем, что поделывает жена, как живут его сын и дочь. Им-то, наверное, так же хорошо, как и раньше. Вероятно, они занимают тот же уютный дом и пользуются его, Герствуда, добром! «Черт возьми! Ну разве не возмутительно, что все досталось им? — часто негодовал он. — Что же такое я сделал в конце концов?» Оглядываясь на прошлое и разбираясь в событиях, которые привели его к похищению денег, Герствуд теперь находил для себя смягчающие обстоятельства. Что он сделал особенного? Почему он оказался выброшенным за борт? Откуда все эти напасти? Казалось, только вчера он был состоятельным человеком и жил в полном комфорте. И вдруг у него все вырвали из рук. «Уж она-то, во всяком случае, не заслужила того добра, что ей досталось от меня! — думал он, вспоминая про жену. — Если бы люди знали правду, все единодушно решили бы, что я ничего особенного не сделал». Из этого вовсе не следует, что у Герствуда было желание изложить кому-нибудь все факты. Это было лишь стремлением морально оправдать себя в собственных глазах. В борьбе с надвигавшейся нуждой ему необходимо было сознавать себя честным человеком. Однажды под вечер, недель за пять до закрытия бара на Уоррен-стрит, Герствуд отправился по трем или четырем объявлениям, которые он нашел в «Геральде». Один бар находился на Голд-стрит. Герствуд доехал до этого места, но даже не вошел внутрь. Это был простой кабак, до того жалкий, что ему стало противно. В другом месте, на Бауэри, он нашел красиво обставленный бар. Здесь, неподалеку от Грэнд-стрит, был расположен целый ряд подобных заведений. Три четверти часа Герствуд беседовал о своем вступлении в товарищество с владельцем бара, который утверждал, что решил взять компаньона только из-за слабого здоровья. — Сколько же потребуется денег, чтобы приобрести половинную долю? — спросил Герствуд. Он прекрасно знал, что располагает самое большее семьюстами долларами. — Три тысячи, — последовал ответ. Лицо Герствуда вытянулось. — Наличными? — спросил он. — Наличными. Герствуд сделал вид, будто размышляет над выгодностью предложения и, возможно, еще согласится, но во взгляде его сквозило уныние. Он поспешил закончить разговор, сказав, что еще подумает, и тотчас же ушел. Владелец бара более или менее разгадал его мысли. «Едва ли это серьезный покупатель, — сказал он себе. — Что-то он не так разговаривает». День был свинцово-серый и холодный. Пронизывающий ветер напоминал о близости зимы. Герствуд направился еще в одно место, близ Шестьдесят девятой улицы. Было уже пять часов, когда он прибыл туда. Сумерки быстро сгущались. Владельцем бара оказался толстый немец. — Я к вам по поводу вашего объявления в газете, — сказал Герствуд, которому не понравились ни бар, ни его хозяин. — Уже все! — ответил немец. — Я решил не продавать. — Вот как? — удивился Герствуд. — Да, и кончен разговор. Уже все. Немец больше не обращал на него внимания, и Герствуд обозлился. — Ладно! — отозвался Герствуд, поворачиваясь к двери. — Проклятый осел! — процедил он сквозь зубы. — На кой же черт помещает он объявления в газете? Крайне угнетенный, направился он домой, на Тринадцатую улицу. Керри хлопотала на кухне, и только там горел свет. Герствуд чиркнул спичкой, зажег газ и уселся в столовой, даже не поздоровавшись с Керри. Она подошла к двери и заглянула в комнату. — Это ты, Джордж? — спросила она. — Да, я, — отозвался Герствуд, не поднимая глаз от вечерней газеты, которую он купил по дороге. Керри поняла, что с ним творится что-то неладное. В угрюмом настроении Герствуд был далеко не красив: морщинки возле глаз обозначались резче, а смуглая кожа принимала какой-то нездоровый сероватый цвет. Вид у него в такие минуты был непривлекательный. Керри накрыла на стол и поставила еду. — Обед готов, — заметила она, проходя мимо Герствуда. Он ничего не ответил и продолжал читать. Керри села за стол на свое место, чувствуя себя глубоко несчастной. — Ты разве не будешь есть? — спросила она. Герствуд сложил газету и перешел к столу. Молчание лишь изредка прерывалось отрывистыми «передай, пожалуйста…». — Сегодня, кажется, очень скверная погода? — заметила через некоторое время Керри. — Да, — ответил Герствуд. Он только ковырял вилкой еду. — Ты все еще думаешь, что бар придется закрыть? — спросила Керри, пытаясь навести разговор на тему, часто обсуждавшуюся за столом. — Не думаю, а знаю! — бросил он с ноткой раздражения в голосе. Его ответ рассердил Керри. У нее и без того был невеселый день. — Ты мог бы и не говорить со мной таким тоном, — сказала она. — Ох! — вырвалось у Герствуда. Он отодвинулся вместе со стулом от стола, собираясь, видимо, что-то добавить, но промолчал и снова принялся за газету. Керри поднялась, с трудом сдерживая себя. Герствуд понял, что она обиделась. — Не уходи, Керри! — сказал он, видя, что она направляется в кухню. — Доешь хотя бы. Керри, ничего не ответив, прошла мимо него. Герствуд еще некоторое время почитал газету, потом поднялся и стал надевать пальто. — Я немного пройдусь, Керри, — сказал он, заходя на кухню. — Мне что-то не по себе. Керри молчала. — Не сердись, — продолжал Герствуд. — Завтра опять все будет хорошо. Он смотрел на нее, но она мыла посуду, не обращая на мужа ни малейшего внимания. — До свиданья, — сказал он, наконец, и вышел. В этой стычке впервые обнаружились их натянутые отношения, а по мере того как близился день закрытия бара, настроение в доме становилось все более и более мрачным. Герствуд не в силах был скрывать то, что в нем происходило, а Керри непрестанно спрашивала себя, куда это все ее приведет. Дошло до того, что они почти перестали разговаривать друг с другом, причем не Герствуд чуждался Керри, а, напротив, она сама сторонилась его. И Герствуд заметил это. Его возмущало, что она с таким равнодушием стала относиться к нему. Он прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить дружеские отношения, — как ни трудно это ему давалось при таких обстоятельствах, — но затем с горечью убедился, что Керри своим поведением сводит на нет все его старания. Наконец приблизился последний день. Когда он настал, Герствуд, который довел себя до такого состояния, что ожидал бури, грома и молний, с облегчением убедился, что этот день ничем не отличается от всякого другого, а в небе даже сияет солнце, и погода довольно теплая. Выходя в это утро к завтраку, он подумал, что в конце концов дело обстоит не так скверно, как ему кажется. — Ну, сегодня мой последний день на земле, — сказал он, обращаясь к Керри. Та улыбнулась этой шутке. Герствуд в довольно веселом настроении стал просматривать газету. Ему казалось, что с его плеч свалился тяжелый груз. — Я схожу на несколько минут в бар, а потом пущусь в поиски, — сказал он, покончив с едой. — Завтра я буду искать целый день. Теперь, когда у меня больше свободного времени, мне кажется, легче будет что-нибудь найти. С улыбкой вышел он из дому и отправился в бар на Уоррен-стрит. Шонеси был уже там, и компаньоны поделили общее имущество пропорционально своим долям. Герствуд провел в баре несколько часов, часа на три он выходил куда-то, и когда вернулся, от прежнего приподнятого настроения не осталось и следа. Бар порядком опротивел ему, но теперь, когда он прекращал свое существование, Герствуд искренне жалел об этом. Ему было грустно, что дело приняло такой оборот. Шонеси держал себя холодно и деловито. Когда пробило пять часов, он заметил: — Ну вот, я думаю, нам пора подсчитать кассу и поделить выручку. Так они и сделали. Обстановка бара была уже распродана раньше, и вырученная за нее сумма поделена между компаньонами. — Ну, будьте здоровы! — сказал, наконец, Герствуд, делая над собой усилие, чтобы в последнюю минуту сохранить вежливость. — Прощайте, — ответил Шонеси, не удостоив его даже взглядом. Так прекратил свое существование бар на Уоррен-стрит. Керри приготовила хороший обед, но Герствуд вернулся домой задумчивый и угрюмый. — Ну? — пытливо взглянула на него Керри. — Все кончено, — сказал Герствуд, снимая пальто. Глядя на него, она старалась угадать, каковы же его денежные дела. Приступили к обеду, за которым они почти не разговаривали. — А у тебя хватит денег, чтобы приобрести долю где-нибудь в другом месте? — спросила Керри. — Нет, — ответил Герствуд. — Придется пока заняться чем-нибудь другим и скопить немного. — Было бы очень хорошо, если бы тебе удалось найти службу, — сказала Керри, подстрекаемая тревогой и надеждой. — Надеюсь, что найду, — задумчиво проговорил Герствуд. Несколько дней после этого Герствуд каждое утро надевал пальто и уходил из дому. Во время поисков он вначале утешал себя мыслью, что с семьюстами долларов в кармане он может найти что-нибудь подходящее. Он подумал было обратиться на какой-нибудь пивоваренный завод и заручиться там поддержкой: он знал, что такие заводы часто сдают в аренду пивные, сохраняя в своих руках контроль над ними. Но потом сообразил, что в таком случае пришлось бы истратить несколько сот долларов на обстановку, и тогда у него не осталось бы ничего на текущие расходы. На жизнь уходило около восьмидесяти долларов в месяц. — Нет, — решал он в минуты просветления, — из этого ничего не выйдет. Я должен поступить на работу и скопить денег. Проблема достать работу казалась ему тем сложнее, чем больше он думал над нею. Искать место управляющего баром? Но где же он найдет это место? По газетным объявлениям никто не искал управляющих. Только долголетней службой или же купив половину или треть пая, можно было добиться такого места. Но денег на то, чтобы купить себе долю в совладении баром, который нуждался бы в особом управляющем, у него было слишком мало. Тем не менее Герствуд приступил к поискам. Одет он был все еще хорошо, внешность у него была импонирующая, и она вводила людей в заблуждение. При виде этого холеного, полного, уже не молодого джентльмена каждый думал, что это, должно быть, вполне обеспеченный человек, от которого простому смертному может что-нибудь перепасть. Герствуду исполнилось сорок три года, он слегка располнел, и много ходить ему было не так-то легко. Он уже несколько лет не занимался никакими физическими упражнениями. Ноги у него уставали, плечи ныли, ступни к концу дня горели, хотя он везде, где можно, пользовался трамваем. Вставать и садиться без конца и то было утомительно. От него не укрылось, что люди принимают его за человека состоятельного. Ему было ясно, что это только затрудняет его поиски. Конечно, он не жалел о том, что у него такой представительный вид, но ему было стыдно, что эта внешность так не соответствует его положению. Подумал он и об отелях, но тотчас же вспомнил, что у него нет никакого опыта в этой области и, что еще важнее, друзей, к которым он мог бы обратиться. Правда, у него были знакомые владельцы крупных отелей в разных концах Соединенных Штатов, включая и Нью-Йорк, но они знали о том, что произошло у Фицджеральда и Моя. Он не мог пойти к ним. Что же касается какой-либо другой работы — в оптово-бакалейной или москательной торговле, в страховых обществах и так далее, — то опять-таки у него не было опыта. Идти куда-то и просить работы, дожидаться очереди в приемных, а потом ему, элегантному и солидному, признаться, что он ищет место, — нет, это невозможно. Его передергивало при одной мысли об этом. Бесцельно слонялся Герствуд по городу, а так как настали холода, то как-то раз он зашел в вестибюль крупного отеля. Он знал, что всякий, кто прилично одет, может сколько угодно сидеть в мягких креслах вестибюлей. Отель «Бродвей-Сентрал» был одним из лучших в Нью-Йорке. С мучительным чувством Герствуд опустился в кресло. Подумать только, что он дошел до этого! В свое время он слышал, как бездельников, торчащих весь день в вестибюлях отелей, называют «грелками для кресел». И он так называл их в свое время. А теперь сам сидит здесь, несмотря на опасность встречи с кем-нибудь из старых знакомых, сидит, спасаясь от холода и усталости! «Нет, так не годится! — сказал он себе. — Какой смысл уходить по утрам из дому, не подумав заранее, куда идти? Нужно сперва наметить определенные места и наведаться туда». Ему пришло в голову, что он мог бы, пожалуй, найти место буфетчика в баре. Такие вакансии нередко попадаются. Но Герствуд поспешил отогнать от себя эту мысль. Буфетчиком! Он, бывший управляющий баром! Ему надоело сидеть в вестибюле отеля, и около четырех часов он отправился домой. Входя в квартиру, Герствуд постарался придать себе деловой вид, но это была довольно жалкая попытка. Качалка в столовой так и манила к себе. Он тотчас опустился в нее с несколькими газетами, которые захватил по дороге, и погрузился в чтение. Керри, занятая приготовлением обеда, проходя мимо Герствуда, заметила вскользь: — Сегодня приходили за квартирной платой. — Вот как, — отозвался Герствуд. На лбу у него залегла маленькая морщинка: он вспомнил, что сегодня второе февраля и, значит, пора вносить квартирную плату. Герствуд опустил руку в карман за кошельком и впервые познал, что такое необходимость платить, когда нет никаких видов на будущее. Он посмотрел на пачку зеленых ассигнаций, как смотрит больной на единственное лекарство, еще способное спасти его. Потом медленно отсчитал двадцать восемь долларов. — Вот возьми! — сказал он, подавая деньги Керри, когда та снова прошла мимо. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. О, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум! Потоки телеграфной информации были для него водами Леты. Они помогали ему хоть отчасти забыть о своих тревогах. Вот молодая женщина, красивая, если верить газетному портрету, подала в суд, требуя развода у своего богатого толстого мужа, владельца шоколадной фабрики в Бруклине. Вот другая заметка — об аварии судна среди льдов Принцева залива. Вот пространный и живой отдел новостей театрального мира: рецензии на состоявшиеся спектакли, отзывы о новых актерах, сообщения режиссеров о намеченных постановках… У Фанни Дэйвенпорт будет свой театр на Пятой авеню. Августин Дэйли ставит «Короля Лира». Герствуд прочел о том, что Вандербильты со своими друзьями отправляются во Флориду, открывая тем самым весенний сезон. В горах Кентукки произошла перестрелка между местными жителями. И Герствуд все читал и читал, покачиваясь в качалке возле радиатора и дожидаясь обеда.Глава 35
Усилия слабеют.
Лицом к лицу с заботой
Утром Герствуд просмотрел газеты, внимательно проштудировал объявления торговых фирм и сделал несколько отметок у себя в записной книжке. Затем он принялся за отдел «Спрос на мужскую рабочую силу», но с весьма и весьма неприятным чувством. К его услугам был целый день, очень долгий день, в течение которого можно было что-нибудь найти, и газета должна в этом помочь. Он пробегал глазами длинные столбцы объявлений, где главным образом упоминались пекари, грузчики, повара, наборщики, возчики и так далее. Только два объявления показались ему более или менее интересными: требовались кассир для мебельного магазина и агент для фирмы, производящей виски. О таких фирмах он почему-то раньше не подумал и теперь решил тотчас же наведаться по указанному адресу. Фирма, о которой шла речь, называлась «Олсбери и К°. Производство виски». Герствуда тотчас же провели к управляющему конторой. — Доброе утро, сэр! — приветствовал его тот, предполагая, что перед ним иногородний заказчик. — Доброе утро! — ответил Герствуд. — Если я не ошибаюсь, вы давали объявление, что вам требуется агент. — А! — вырвалось у управляющего, который только сейчас понял, в чем дело. — Да, да, мы давали такое объявление. — Я решил зайти к вам, — с достоинством продолжал Герствуд, — так как у меня есть некоторый опыт работы в этой отрасли. — Гм. Вот как? — промычал управляющий. — А какой у вас опыт, разрешите узнать? — Я, видите ли, управлял раньше крупным баром, а в последнее время был владельцем бара на углу Уоррен и Гудзон-стрит. — Так, так, — произнес управляющий. Герствуд молчал и дожидался ответа. — Да, нам нужен агент, но я не думаю, чтобы наше предложение могло заинтересовать вас. — Я понимаю, — сказал Герствуд. — Но, видите ли, сейчас мне не приходится выбирать. И если место свободно, я охотно возьму его. Управляющий фирмой не слишком тепло отнесся к этому «мне не приходится выбирать». Ему нужен был человек, который не стал бы думать о выборе или о чем-то лучшем, а главное, не такой пожилой. Он имел в виду какого-нибудь молодого, расторопного юношу, который рад был бы усердно работать за самое скромное вознаграждение. Герствуд совсем не понравился ему. У него был более важный вид, чем у самих владельцев фирмы. — Что ж, — заявил управляющий, — мы с удовольствием обсудим вашу кандидатуру. Окончательно мы решим лишь через несколько дней. А пока что я предложил бы вам предоставить нам рекомендации. — Хорошо, — согласился Герствуд. Кивнув на прощанье, он вышел из кабинета управляющего. Дойдя до угла, он заглянул в записную книжку, где у него был записан адрес мебельной фирмы. Это оказалось на Двадцать третьей улице, и Герствуд немедленно отправился туда. Фирма была маленькая, контора неказистая, служащие сидели без дела и, судя по всему, получали ничтожное жалованье. Герствуд посмотрел в окно и прошел мимо, решив, что сюда обращаться не стоит. «Наверно, им нужна барышня, которой будут платить долларов десять в неделю», — подумал он. В час дня он вспомнил, что не ел с утра, и зашел в ресторан на Медисон-сквер. Там он принялся размышлять, куда бы еще пойти в этот день. Он устал. Было холодно, ветер нагнал тучи. По другую сторону Медисон-сквер высились огромные отели, окна которых выходили на оживленную улицу. Герствуд решил зайти в один из этих отелей и посидеть в вестибюле. Там было тепло и светло. Накануне он был в отеле «Бродвей-Сентрал» и не встретил там никого из знакомых. Он надеялся, что и здесь никого не встретит. Найдя свободное место на одном из красивых плюшевых диванов, у окна, выходившего на кипевший жизнью Бродвей, Герствуд сел и задумался. И снова положение показалось ему не таким уж безнадежным. Удобно сидя на диване и глядя на улицу, он находил утешение в тех нескольких сотнях долларов, которые еще оставались у него в бумажнике. Здесь, в вестибюле роскошного отеля, можно было на время забыть об утомительных поисках и-негостеприимных улицах. Но, конечно, это было лишь бегством от более тяжелого к менее тяжелому. Тяжесть на душе и отчаяние не проходили. Медленно тянулись минуты. Час казался бесконечно долгим. Герствуд заполнял его наблюдениями над обитателями отеля, которые то приходили, то уходили, и теми пешеходами за окном на Бродвее, чье благополучие сразу можно было угадать по их одежде и настроению. Пожалуй, впервые в Нью-Йорке у него было достаточно досуга, чтобы созерцать все это. Оставшись поневоле праздным, он с любопытством следил за деятельностью других. Как веселы эти молодые люди, и как хороши женщины! Как они прекрасно одеты! И у каждого, очевидно, есть какая-то цель, к которой он торопился. Он подмечал кокетливые взгляды, которые бросали по сторонам девушки ослепительной красоты. О, какие деньги нужны для того, чтобы поддерживать с ними знакомство! Об этом Герствуд был отлично осведомлен. Когда-то он мог себе это позволить. Как давно это было! Где-то часы пробили четыре. Рановато еще, но все же Герствуд решил идти домой. Возвращение на квартиру было связано с мыслью, что Керри заподозрит его в безделье, если он будет приходить чересчур рано. Он и не думал, что так скоро пойдет домой, но уж слишком томительно тянулось время. Там, дома, он был у себя. Он мог сидеть в качалке и читать. Там у него перед глазами не было соблазнительной картины шумного, хлопотливого Бродвея. Там у него были газеты. И Герствуд отправился домой. Керри была одна; она читала при скудном свете угасавшего дня. — Ты испортишь себе глаза, — сказал Герствуд, увидев ее. Сняв пальто, он счел необходимым рассказать ей о событиях дня. — Я был на одном оптовом складе виски, — сказал он. — Возможно, что я получу там место. — Вот было бы славно! — Да, это было бы неплохо, — согласился с нею Герствуд. Каждый вечер, проходя мимо киоска на углу, он брал у газетчика две газеты — «Ивнинг уорлд» и «Ивнинг сан». И теперь, с газетами в руках, он, не останавливаясь, прошел мимо Керри. Придвинув качалку поближе к батарее отопления, он зажег свет. Дальше все пошло, как накануне. Опять его затруднения и тревоги растворились в газетных заметках, которыми он жадно упивался. Следующий день оказался еще более тягостным, так как Герствуд не мог придумать, куда бы ему пойти. Все, что он видел в отделе объявлений (а читал он их до десяти часов утра), не подходило ему. Герствуд чувствовал, что отправиться на поиски необходимо, но уже самая мысль об этом вызывала в нем содрогание. Куда же идти? — Не забудь оставить мне денег на хозяйство, — спокойно сказала Керри. У них было заведено, что он каждую неделю выдавал ей двенадцать долларов на хозяйство. Услышав слова Керри, Герствуд подавил легкий вздох и полез в карман за кошельком. И страх снова охватил его. Он все черпает и черпает из своего скудного запаса, а поступлений — никаких! «Боже, — сказал он про себя. — Так дальше не может продолжаться». Однако Керри он ничего не сказал. Та и сама чувствовала, что напоминание о деньгах расстроило его. Вскоре каждый расход будет равносилен катастрофе. «Но чем же я виновата? — со своей стороны, спрашивала она себя. — Почему я должна так мучиться?» Герствуд вышел и снова направился к Бродвею. Нужно было придумать, куда идти. Но вскоре он очутился у «Грэнд-отеля» на Тридцать первой улице. В этом отеле был чрезвычайно уютный вестибюль. Герствуд продрог, так как прошел пешком около двадцати кварталов. «Надо зайти в парикмахерскую», — решил он. Таким образом, он нашел повод посидеть здесь после бритья. Опять время потянулось бесконечно медленно, и Герствуд рано вернулся домой. Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в отель, где он часами просиживал без дела. А потом три дня подряд свирепствовала снежная буря, и Герствуд вовсе не выходил из дому. Началось с того, что однажды под вечер повалил большими рыхлыми хлопьями снег. Утром он все еще падал, но подул сильный ветер, и газеты предупреждали о надвигающемся буране. Сидя в столовой у окна, Герствуд смотрел на устилавший улицу мягкий белый покров. — Я, пожалуй, сегодня не пойду в город, — сказал он за завтраком Керри. — В газетах пишут, что будет метель. — Мне сегодня опять не привезли угля, — сказала Керри, заказывавшая топливо мешками. — Я пойду и узнаю, в чем дело, — вызвался Герствуд, впервые предлагая ей свою помощь. Его услужливость объяснялась тем, что он хотел как-то оправдать свое желание остаться дома. Снег падал целые сутки, и город начал страдать от того, что почти весь транспорт вышел из строя. Газеты в ярких красках описывали безвыходное положение нью-йоркской бедноты. А Герствуд сидел возле теплой батареи в углу и читал. Он старался даже не думать о поисках работы. Ужасная метель, остановившая все дела, избавляла его от этой необходимости. Уютно сидя в качалке, Герствуд грел ноги и читал. Его благодушие вызывало у Керри тревогу. Как бы ни был силен буран, она все же далеко не была уверена, что Герствуд правильно поступает, нежась в полном безделье. Слишком философски он относится к своему положению! А Герствуд все читал и читал, почти не обращая внимания на Керри, которая хлопотала по дому и почти не разговаривала, чтобы не беспокоить его. На следующий день все еще валил снег, на третий день тоже, и притом сильно похолодало. Считаясь с предупреждениями газет, Герствуд сидел дома. Однако он вызывался теперь кой-чем помочь Керри. Раз он пошел вместо нее в мясную лавку, в другой раз — в зеленную. Эти маленькие услуги нисколько не тяготили его. Они создавали у него ощущение, что он не совсем бесполезен; напротив, шутка ли — ходить по лавкам в такую погоду! На четвертый день прояснилось, и газеты сообщили, что буран миновал. И все же Герствуд по-прежнему сидел дома, оправдываясь тем, что улицы непроходимо грязны. Лишь в полдень он наконец расстался с газетами и двинулся в путь. Слегка потеплело, и снег на тротуарах развезло. Герствуд направился к Четырнадцатой улице, сел в трамвай и взял пересадочный билет на Бродвей. Он нашел в газете объявление об одном питейном заведении на Перл-стрит. Однако, подъезжая к отелю «Бродвей-Сентрал», Герствуд вдруг передумал. «Какой смысл ехать туда, — рассуждал он, глядя на снег и слякоть. — В долю я все равно не могу вступить. Тысяча шансов против одного, что все это будет напрасно. Выйду, пожалуй». И вышел. В вестибюле отеля он сел в кресло и опять задумался над тем, что бы предпринять. В то время, как Герствуд сидел, углубившись в свои мысли, довольный тем, что находится в тепле, в вестибюле показался хорошо одетый джентльмен, остановился, пристально посмотрел на Герствуда, точно желая проверить свою память, и подошел ближе. Герствуд сразу узнал Карджила, владельца больших скаковых конюшен в Чикаго. В последний раз он видел этого человека в день выступления Керри в любительском спектакле. Он вспомнил, как этот самый Карджил вместе с женой подошел поздороваться с ним. Герствуд был чрезвычайно смущен. По выражению его глаз чувствовалось, что он переживает тяжелые минуты. — Да ведь это Герствуд! — воскликнул Карджил. Он узнал своего бывшего приятеля, но искренне пожалел, что не узнал его раньше, ибо тогда мог бы избежать неприятной встречи. — Да, это я, — сказал Герствуд. — Как поживаете? — Очень хорошо, — ответил Карджил, стараясь придумать, о чем бы заговорить. — Вы остановились в этом отеле? — Нет, я только назначил здесь свидание одному человеку. — Я слышал, что вы покинули Чикаго. Я все удивлялся, куда это вы пропали. — О, я уже давно живу здесь, — ответил Герствуд, думая лишь о том, как бы поскорее отделаться от своего собеседника. — Дела идут хорошо, надеюсь? — Прекрасно. — Очень рад слышать, — сказал Карджил. Несколько секунд они смущенно разглядывали друг друга. — Ну, я пойду наверх. Меня там ждут, — сказал наконец Карджил. — Будьте здоровы! Герствуд кивнул на прощание. — Проклятие! — пробормотал он, направляясь к двери. — Я так и знал, что это случится! Герствуд прошел несколько кварталов и посмотрел на часы. Было только еще половина второго. Он старался придумать, куда бы пойти, где бы еще поискать работы. Погода была скверная, и Герствуду хотелось поскорее очутиться дома. Наконец, почувствовав, что ноги у него озябли и промокли, он сел в трамвай, который доставил его на Пятьдесят девятую улицу. Куда ехать, ему было безразлично. Выйдя из вагона, он направился в обратную сторону по Седьмой авеню. Но слякоть была совершенно невозможная, и бродить без всякой цели стало невыносимо. Герствуду казалось, что он простудился. Подойдя к углу, он стал дожидаться трамвая, направлявшегося на Южную сторону. Нет, в такой день нельзя ходить по улицам. Он поедет домой. Керри была изумлена, увидя его уже в четверть третьего дома. — Погода мерзкая, — только и сказал он. Потом он снял пиджак и переобулся. Ночью у Герствуда начался сильный озноб, и он принял хинин. Его лихорадило до утра, и он, естественно, сидел весь день дома, а Керри ухаживала за ним. Во время болезни он становился беспомощным; к тому же вид у него на сей раз был весьма неприглядный: он лежал нечесаный, в каком-то бесцветном халате. Тусклые глаза глядели мрачно, и он казался теперь почти стариком. Керри все видела, и, конечно, это не могло ей нравиться. Ей хотелось проявить доброту и сочувствие, но что-то в нем удерживало ее на расстоянии. К вечеру у Герствуда был такой ужасный вид, что Керри сама предложила ему лечь в постель. — Ложись-ка ты сегодня один, — посоветовала она. — Ты будешь лучше себя чувствовать. Я сейчас постелю тебе. — Хорошо, — согласился Герствуд. А Керри возилась с постелью и в отчаянии спрашивала себя: «Что же будет? Что это за жизнь?» Еще днем, когда Герствуд сидел, сгорбившись, у батареи и читал газеты, Керри прошла мимо и, взглянув на него, нахмурилась. Она вышла в гостиную, где было не так тепло, как в столовой, опустилась на стул у окна и расплакалась. Неужели жизнь кончена? Неужели ей суждено до гроба оставаться с человеком, который бездельничает и к тому же совсем равнодушен к ней? Всю свою молодость провести взаперти в этих клетушках? Ведь в конце концов она превратилась просто в служанку Герствуда! От слез у нее покраснели глаза, и, когда, приготовив постель, она зажгла газ и позвала Герствуда, тот обратил на это внимание. — Что с тобой, Керри? — спросил он, пристально вглядываясь в нее. Его голос звучал хрипло, волосы были взлохмачены, и это придавало ему крайне неприглядный вид. — Ничего, — чуть слышно ответила Керри. — Ты плакала? — И не думала даже! Он догадывался, что ее слезы вызваны отнюдь не любовью к нему. — Не надо плакать, — сказал он, укладываясь в постель. — Вот увидишь, все еще уладится! Дня через два Герствуд был уже снова на ногах, но, так как погода все еще была отвратительная, он остался дома. Газетчик-итальянец приносил ему утренние газеты, и Герствуд прилежно прочитывал их. После этого он несколько раз бывал в городе, но, повстречавшись снова с кем-то из старых друзей, уже не чувствовал себя уютно в вестибюлях отелей. Теперь он стал рано возвращаться домой и в конце концов перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима не подходящее время для таких поисков. Сидя почти весь день дома, Герствуд, конечно, видел, как Керри ведет хозяйство. В роли домашней хозяйки она далеко не была совершенством, и ее мелкие отступления от принципа бережливости привлекли внимание Герствуда. Раньше, пока просьбы о деньгах не стали для Герствуда мукой, он ничего не замечал. Теперь же, сидя дома без дела, он с удивлением думал о том, как быстро мчатся недели. А Керри каждый вторниктребовала денег. — Ты думаешь, что мы живем достаточно экономно? — спросил он в один из таких вторников. — Я делаю все, что могу, — ответила Керри. На этом разговор окончился. Но на следующий день Герствуд снова спросил: — Ты когда-нибудь ходила на рынок Гензевурт? — Я даже и не знала, что такой существует, — ответила Керри. — Вот видишь, а между тем говорят, что там продукты значительно дешевле. Керри не обратила никакого внимания на это указание. Такие вещи не интересовали ее. — Сколько ты платишь за фунт мяса? — как-то спросил Герствуд. — Разные бывают цены, — ответила Керри. — Филейная часть для бифштекса стоит, например, двадцать два цента фунт. — А ты не находишь, что это очень дорого? В том же духе продолжал он расспрашивать ее и о других продуктах, пока это не превратилось у него в какую-то манию. Герствуд узнавал цены и хорошенько запоминал их. Вместе с тем он стал проявлять все большие способности в качестве посыльного. Началось, конечно, с мелочей. Однажды, когда Керри надевала шляпу, Герствуд остановил ее: — Куда ты идешь, Керри? — В булочную, — ответила она. — Давай-ка я схожу, — предложил он. Керри охотно согласилась, и Герствуд пошел за хлебом. Каждый день под вечер, отправляясь на угол за газетами, он спрашивал ее: — Тебе, может, что-нибудь нужно? Постепенно Керри привыкла пользоваться его услугами. Но зато она лишилась своих еженедельных двенадцати долларов. — Дай мне сегодня на хозяйство, — сказала она как-то утром, во вторник. — Сколько тебе нужно? — спросил Герствуд. Керри великолепно поняла смысл этого вопроса. — Долларов пять, — ответила она. — Я задолжала за уголь. Несколько позже, в тот же день, Герствуд заметил: — Итальянец на углу продает уголь как будто дешевле, кажется, по двадцать пять центов за бушель. Я буду покупать у него. Керри отнеслась к этому с полным равнодушием. — Хорошо, — сказала она. А потом уже пошло: — Джордж, у нас весь уголь вышел. Или: — Джордж, сходи принеси мяса к обеду. Герствуд узнавал во всех подробностях, что именно требуется, и отправлялся за покупками. Но следом за экономией пришла скаредность. — Я купил только, полфунта говядины, — сказал он, как-то возвращаясь с газетами. — По-моему, мы никогда всего не съедаем. Эта отвратительная мелочность изводила Керри. Она омрачала ее существование, наполняла тоской ее душу. О, как страшно изменился этот человек! Целый день он сидел дома на одном и том же месте и все читал и читал свои газеты. Казалось, мир потерял для него всякий интерес. Лишь изредка он выходил из дому, если была хорошая погода, — иногда часа на четыре, на пять, обычно между одиннадцатью и четырьмя. Керри со всевозрастающей неприязнью и презрением наблюдала за ним. Герствудом овладела полная апатия, так как он не видел выхода из создавшегося положения. С каждым месяцем его денежные запасы таяли. Теперь у него оставалось лишь пятьсот долларов, и он так цеплялся за них, словно эта сумма могла до бесконечности отдалять нужду. Сидя все время дома, он решил, что не стоит носить хорошее платье, и надевал какой-нибудь старенький костюм. Впервые это случилось, когда наступила плохая погода, но тогда он счел нужным извиниться перед Керри. — Сегодня такая отвратительная погода, что я решил надеть что-нибудь из старых вещей, — сказал он. А потом это уже вошло в привычку. Раньше он имел обыкновение платить пятнадцать центов за бритье и десять оставлять мастеру «на чай». В первом порыве отчаяния он сразу урезал чаевые до пяти центов, а затем и совсем свел их на нет. Через некоторое время, однако, он решил побриться в более дешевой парикмахерской, где брали лишь десять центов. Убедившись, что там бреют вполне удовлетворительно, он стал ходить туда. Вскоре он перестал бриться каждый день. Сперва брился через день, потом через два дня, потом — лишь раз в неделю. К субботе он весь обрастал щетиной. И, конечно, по мере того как этот человек терял к себе уважение, теряла уважение к нему и Керри. Она не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще оставалось немного денег, у него был в запасе вполне приличный костюм, и, когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Керри ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго, но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления. И наконец у нее однажды вырвалось то, о чем она думала постоянно. — Для чего ты кладешь так много масла в жаркое? — спросил как-то Герствуд, околачивавшийся на кухне. — Чтобы оно было вкуснее, — ответила Керри. — Масло нынче чертовски дорого, — пробормотал он. — О, ты не стал бы обращать внимания на это, если бы работал! — возразила Керри. Герствуд тотчас умолк и вернулся к своим газетам. Но ответ Керри еще долго сверлил его мозг. Ему впервые случилось услышать от нее такую резкую отповедь. В тот вечер Керри приготовила себе постель в гостиной. Это было необычно. Войдя в спальню, Герствуд, по своему обыкновению, улегся, не зажигая света. И только тогда обнаружил, что Керри нет. «Как странно! — подумал он. — Может быть, она читает и еще не ложилась?» Больше он не думал об этом и тотчас заснул, а наутро убедился, что Керри нет рядом с ним. Как ни странно, но этот инцидент не вызвал никаких разговоров. На другой день с приближением ночи Керри заметила: — У меня сегодня что-то голова болит. Я лучше буду спать одна. — Как хочешь, — сказал Герствуд. На третью ночь Керри уже без всяких объяснений приготовила себе постель в гостиной. Это было жестоким ударом для Герствуда, но он все-таки не сказал ни слова. «Ладно, пусть спит одна», — решил он, но при этом невольно нахмурился.Глава 36
По наклонной плоскости.
Призрак удачи
Супруги Вэнс, возвратившиеся в Нью-Йорк еще к рождеству, не забыли Керри, но они, вернее, миссис Вэнс, не навестили ее по той причине, что она не сообщила им своего адреса. Керри переписывалась с миссис Вэнс лишь до тех пор, пока они с Герствудом жили на Семьдесят восьмой улице, — таков уж был ее характер. Но когда они были вынуждены переселиться на Тринадцатую улицу, она стала думать, как бы ей не давать нового адреса. Она боялась, что ее приятельница догадается по этому переезду о той перемене к худшему, которая произошла в их положении. И, ничего не придумав, Керри с сожалением оборвала переписку с миссис Вэнс. А та, не зная, чем объяснить молчание приятельницы, решила, что Керри, по всей вероятности, уехала из Нью-Йорка и что едва ли они когда-нибудь увидятся. Велико было поэтому ее удивление, когда она столкнулась с Керри на Четырнадцатой улице, куда случайно отправилась за покупками. Керри пришла туда с той же целью. — Как, миссис Уилер, это вы? — воскликнула миссис Вэнс, окидывая Керри быстрым взглядом. — Где же вы пропадали? Почему вы ни разу не зашли ко мне? Я не переставала спрашивать себя, что могло с вами статься. Право, я… — Я очень рада вас видеть, — сказала Керри, обрадовавшись и вместе с тем сильно смутившись. Вот уж не вовремя встретила она миссис Вэнс! — Мы живем здесь неподалеку. Я все время собиралась побывать у вас. Где же вы сейчас обитаете? — На Пятьдесят восьмой улице, дом двести восемнадцатый, — ответила миссис Вэнс. — Это почти на углу Седьмой авеню. Так вы зайдете к нам? — снова спросила она. — Непременно зайду, — обещала Керри. — Поверьте, мне тоже хотелось повидать вас. Я знаю, что давно уже следовало это сделать, мне даже стыдно, честное слово. Но, знаете ли… — А вы где живете? — перебила ее миссис Вэнс. — Тринадцатая улица, сто двенадцать, на Западной стороне, — неохотно ответила Керри. — О, ведь это совсем близко отсюда! — воскликнула ее приятельница. — Да, — подтвердила Керри. — Вы должны как-нибудь зайти ко мне. — Ну и хороши же вы! — снова попрекнула ее миссис Вэнс и рассмеялась. Однако во время разговора она успела заметить, что Керри как-то изменилась внешне. И к тому же этот новый адрес… Все же она очень любила Керри и, как всегда, хотела покровительствовать ей. — Зайдемте со мной на минутку сюда, — сказала она, потянув Керри в универсальный магазин. Когда Керри вернулась домой, Герствуд, по обыкновению, сидел в качалке и читал. К своему положению он, видимо, относился с исключительной беспечностью. Он не брился уже, по крайней мере, четыре дня. «А вдруг зашла бы миссис Вэнс и застала его в таком виде!» — подумала Керри. Она горестно покачала головой. Положение становилось совершенно невыносимым. В порыве отчаяния она спросила за обедом: — Что слышно о том оптовом складе, где тебе обещали место? Помнишь, ты мне как-то рассказывал? — Ничего из этого не вышло, — ответил Герствуд. — Им не нужен человек, не имеющий опыта. Керри прекратила разговор, чувствуя, что не в силах ничего больше сказать. — Я встретила сегодня миссис Вэнс, — промолвила она через некоторое время. — Вот как? — отозвался Герствуд. — Да. Они снова в Нью-Йорке. У нее очень элегантный вид. — Что ж, она может себе это позволить, пока у ее мужа есть деньги, — сказал Герствуд. — У него доходное местечко. Он снова уткнулся в газету и не заметил бесконечно усталого и разочарованного взгляда, который бросила на него Керри. — Миссис Вэнс обещала зайти к нам, — сказала Керри. — Однако она что-то долго собиралась. Ты не находишь? — заметил Герствуд с некоторым сарказмом. Он не питал особой симпатии к миссис Вэнс, считая ее мотовкой. — Как сказать, — ответила Керри, рассерженная его тоном. — Быть может, я сама не хотела, чтобы она приходила. — Уж больно она легкомысленна, — многозначительно произнес Герствуд. — За нею может угнаться лишь тот, у кого уйма денег. — Насколько я вижу, мистеру Вэнсу это совсем не в тягость, — парировала Керри. — Сейчас, может, и нет, — упрямо сказал Герствуд, прекрасно понявший намек Керри. — Но его жизнь еще не кончена. Мало ли что может случиться. Он тоже может сесть на мель, да еще как. На его лице появилось гаденькое выражение, он ехидно подмигнул, как бы злорадно предвкушая крах всех этих счастливцев. А его собственное положение — это совсем другое дело; тут все образуется. В этом сказывались последние остатки его прежней самоуверенности и независимости. Проводя все дни дома, читая о деятельности других людей, Герствуд временами вновь ощущал прилив энергии и былой самонадеянности. Тогда он забывал о том, как томительно шататься без толку по улицам, каким чувством унижения сопровождаются поиски работы. Он вдруг гордо выпрямлялся, словно говоря себе: «О, я еще на что-то гожусь. Я не совсем пропащий человек. Стоит мне только захотеть, и я многого могу достигнуть». В такие минуты он тщательно одевался, брился, натягивал перчатки и пускался в путь, испытывая жажду какой-нибудь деятельности. Но брел он без всякой определенной цели. Он выходил из дома под влиянием настроения. Он просто чувствовал потребность выйти на улицу и что-то делать. Но в таких случаях у него уплывали деньги. Он знал несколько мест, где играли в покер. У него были знакомые в барах поблизости от ратуши. Повидаться с кем-нибудь из них и поболтать — это уже вносило какое-то разнообразие в его жизнь. Когда-то Герствуд довольно удачно играл в покер. Случалось, что в кругу друзей он выигрывал сотню долларов, а то и больше. В те времена, однако, такая сумма была лишь чем-то вроде острой приправы к самой игре, ибо не в выигрыше было дело. И теперь Герствуду снова пришла в голову мысль о покере. «Я мог бы, пожалуй, выиграть сотню-другую долларов. Ведь я еще не разучился играть!» — подумал он. Надо отдать ему справедливость: эта мысль приходила ему в голову много раз, прежде чем он решился ее осуществить. Первый игорный зал, в который он попал, находился над каким-то кабачком на Уэст-стрит, неподалеку от одной из переправ. Герствуд уже не раз бывал здесь. Играли за несколькими столами, и Герствуд некоторое время довольствовался ролью наблюдателя. Он заметил, что в банке, несмотря на мелкие ставки, набралась сравнительно крупная сумма. — Сдайте-ка и мне, — сказал он перед раздачей. Он придвинул себе стул и посмотрел в карты. Остальные партнеры исподтишка внимательно изучали новичка. Вначале Герствуду не везло. Ему досталось пять разных карт, не оставлявших даже надежды что-либо прикупить. Игра между тем завязалась. — Я пасую, — сказал он. При таких картах невольно приходилось жертвовать первоначальной ставкой. Но потом ему шла приличная карта, и в конце концов он ушел, унося в кармане выигрыш в несколько долларов. На другой день Герствуд вернулся, ища развлечения и наживы. На этот раз он, на свою беду, получил при сдаче карт трех королей. Напротив него сидел молодой ирландец воинственного вида, из тех, что околачиваются в Таммани-холл. Ему досталась лучшая карта. Герствуд был удивлен настойчивостью, с какой его противник повышал ставки, и его хладнокровием. «Если этот субъект решился на блеф, он делает это очень искусно», — подумал Герствуд. Он начал сомневаться в своей карте, но внешне сохранял или старался сохранять полную невозмутимость, помогавшую ему в прежние времена обманывать иных психологов игорного стола, которые не руководствуются реальными данными, а предпочитают читать чужие мысли и угадывать настроения. Он не мог побороть в себе трусливую мысль, что карта у противника, возможно, лучше, чем у него, что тот будет упорствовать до конца и вытянет у него все до последнего доллара, если он сам вовремя не отступит. А все-таки почему не сорвать большой куш — ведь карта превосходная? Почему не повысить еще? — Ставлю еще три, — сказал молодой ирландец. — Пусть уж будут все пять, — отозвался Герствуд, пододвигая в банк стопочку фишек. — И еще столько же! — сказал его противник, в свою очередь, прибавляя в банк стопочку красных фишек. — Разрешите мне еще фишек, — попросил Герствуд, обращаясь к крупье, и протянул ему ассигнацию. Молодой ирландец насмешливо осклабился, когда Герствуд, получив фишки, покрыл ставку. — Еще пять! — сказал ирландец. У Герствуда на лбу выступила испарина. Игра все больше и больше втягивала его, и он зашел в ней слишком далеко, особенно если учесть состояние его финансов. В банке было уже шестьдесят долларов его кровных денег. По натуре Герствуд далеко не был трусом, но при мысли, что может сразу столько потерять, он почувствовал какую-то слабость во всем теле. В конце концов он сдался. Он больше не доверял своей хорошей карте. — Что у вас? — спросил он у партнера, закрывая игру. — Тройка и пара, — ответил тот, показывая карты. Руки Герствуда бессильно опустились. — А я уж думал, что поймал вас, — еле слышно пробормотал он. Молодой человек загреб все фишки, а Герствуд вышел из комнаты. Спускаясь по лестнице, он остановился и пересчитал деньги. — Триста сорок долларов, — прошептал он. Как много денег ушло у него с тех пор, как закрылся бар! Вернувшись домой, он принял твердое решение больше не играть в карты. Керри не забыла обещание миссис Вэнс навестить ее и попыталась еще раз воздействовать на Герствуда. Дело было в его внешности. В этот день, придя домой, он, по обыкновению, переоделся в старый костюм, в котором проводил теперь все время. — Ну, скажи, пожалуйста, зачем только ты надеваешь это старье? — спросила Керри. — А какой смысл носить дома хороший костюм? — вопросом же ответил Герствуд. — Мне кажется, что в приличном костюме ты и сам чувствовал бы себя лучше. И ведь к нам может кто-нибудь зайти, — добавила она. — Кто, например? — Да хотя бы миссис Вэнс. — Ей незачем видеть меня, — угрюмо отозвался Герствуд. Подобное отсутствие самолюбия и интереса к чему бы то ни было, кроме газет, вызвало в Керри возмущение, граничащее с ненавистью. «Вот так и сидит целыми днями! — подумала она. — «Ей незачем видеть меня!» Да как ему не стыдно?» Но наибольшую горечь Керри испытала в тот день, когда миссис Вэнс в самом деле зашла проведать свою бывшую приятельницу. Она ходила по магазинам и решила заглянуть к Керри. Поднявшись по довольно жалкой лестнице, она постучалась. К ее огорчению, Керри не оказалось дома. Герствуд отпер дверь, предполагая, что это она возвращается домой. При виде миссис Вэнс он растерялся. Потухшая было гордость снова вспыхнула в нем. — А, миссис Вэнс! — насилу произнес он. — Здравствуйте! — Здравствуйте! — отозвалась миссис Вэнс, не веря своим глазам. Она сразу заметила, как сильно он смутился. Он мялся, не зная, предложить ли гостье войти или нет, и та продолжала стоять в дверях. — Ваша супруга дома? — спросила она. — Нет, Керри куда-то вышла, — ответил он. — Вы, может быть, зайдете? Она скоро вернется. — Н-нет, я очень тороплюсь, — ответила миссис Вэнс, поняв, как изменилась жизнь ее друзей. — Я хотела заглянуть на минутку, так как была поблизости, но остаться я никак не могу. Пожалуйста, передайте вашей супруге, что я очень прошу ее навестить меня. — Передам, — сказал Герствуд, отступая назад. Он почувствовал большое облегчение, когда гостья ушла. Ему было так стыдно, что, усевшись в качалку, он слабо сжал переплетенные пальцы и задумался. Керри подходила к дому с противоположной стороны, и ей показалось, что она издали видит удаляющуюся миссис Вэнс. Но, как ни напрягала она зрение, она все же не была уверена в этом. — Кто-нибудь заходил к нам сейчас? — был первый вопрос, который она задала Герствуду. — Да, — с виноватым видом ответил он, — заходила миссис Вэнс. — И она видела тебя? — спросила Керри тоном, в котором выразилось все овладевшее ею отчаяние. Этот тон обжег Герствуда, как удар хлыста. Он насупился. — Если у нее есть глаза, то она меня видела, — ответил он. — Я открывал ей дверь. — О! — вырвалось у Керри, и она нервно сжала пальцы в кулак. — Она что-нибудь просила передать? — Нет, ничего, — ответил Герствуд. — Она не могла остаться, сказала, что у нее нет времени. — И ты показался ей в таком виде? — воскликнула Керри, отбросив свою обычную сдержанность. — Ну, и что же из этого? — в свою очередь, обозлился Герствуд. — Откуда я мог знать, что она вздумает прийти? — Ты прекрасно знал, что она может прийти! — сказала Керри. — Я тебя предупреждала, я говорила тебе, что она обещала зайти! Сколько раз я просила тебя надевать другой костюм! О, какой ужас! — Да оставь, пожалуйста! — проворчал Герствуд. — Что за беда? Ты все равно не можешь водить знакомство с нею: она слишком богата. — А кто тебе говорил, что я этого хочу? — вспылила Керри. — Ну, ты так ведешь себя: устраиваешь сцены из-за того, как я одет. Можно подумать, что я совершил… Керри не дала ему кончить. — Да, ты прав! Я не могла бы дружить с нею… даже если бы мне этого очень хотелось. Но кто в том виноват? Хорошо тебе, сидя тут в полном безделье, указывать, с кем мне водить знакомство и с кем не водить! Ты бы лучше пошел искать работу! Это было как гром среди ясного неба. — А тебе-то что за дело? — почти выкрикнул Герствуд, вставая. — Я плачу за квартиру, не так ли? Я доставляю… — Да, ты платишь за квартиру, — спокойно ответила Керри. — Послушать тебя, так можно подумать, что на свете только и радости, что сидеть здесь, в квартире! Вот уже три месяца, как ты сидишь тут, и за это время ты палец о палец не ударил, чтобы сделать хоть что-нибудь, — только суешься вечно не в свое дело на кухне! И зачем понадобилось тебе жениться на мне? — Я вовсе не женился на тебе! — огрызнулся Герствуд. — То есть как не женился? А что же в таком случае было в Монреале? — с изумлением спросила Керри. — Что бы там ни было, можешь забыть об этом, — ответил Герствуд. — Факт тот, что никакой женитьбы не было. Будто ты сама не знаешь! Несколько секунд Керри смотрела на него широко раскрытыми глазами. Она была уверена, что связана с Герствудом самым настоящим браком. — Зачем же ты лгал мне? — спросила она. — Зачем ты силой заставил меня бежать с тобой? Последние слова прозвучали почти как рыдание. — Заставил бежать! — повторил Герствуд, презрительно кривя губы. — Кто тебя заставлял? — О! — только вскрикнула Керри, не выдержав. — О! О! — снова вырвалось у нее из груди, и она выбежала в гостиную. А Герствуд был разгорячен и окончательно стряхнул с себя оцепенение. Это была для него изрядная встряска, моральная и физическая. Он потер лицо и растерянно оглянулся. Затем вышел и стал переодеваться. Из комнаты, где находилась Керри, не доносилось ни звука. Услышав, что Герствуд одевается, она подавила рыдания. У нее мелькнула тревожная мысль, что он уйдет и оставит ее без гроша; но мысль о том, что она может потерять его навсегда, не тревожила ее ни секунды. Она слышала, как он открывал шкаф, доставая с верхней полки шляпу, потом дверь хлопнула, и стало ясно, что он ушел. Керри сейчас же встала, глаза ее были сухи. Она выглянула в окно. Герствуд уже шагал по направлению к Шестой авеню. Он пошел по Тринадцатой улице, затем пересек Четырнадцатую и повернул к Юнион-сквер. — Искать работу, — беззвучно шептали его губы. — Искать работу. Она велит мне искать работу. Он пытался защищать себя от обвинения, которое бросал ему собственный разум, не перестававший твердить, что Керри совершенно права. «И принесло же эту миссис Вэнс! — сердился он. — Как она меня оглядела с головы до ног! Я прекрасно знаю, что она подумала». Он вспомнил те несколько случаев, когда видел миссис Вэнс на Семьдесят восьмой улице. У нее всегда был вид богатой дамы, и Герствуд в ее присутствии старался держать себя как человек того же круга. Подумать только, что теперь она застала его в таком виде! Герствуд страдальчески наморщил лоб. — О дьявол! — то и дело повторял он. Когда он уходил из дому, было уже четверть пятого. Он оставил Керри в слезах, и, значит, сегодня нечего было рассчитывать на обед. «Какого черта! — мысленно твердил он, стараясь скрыть от самого себя свой позор. — Не так уж я плох! Я еще не вышел в тираж!» Он оглянулся и, заметив, что находится неподалеку от крупных отелей, решил зайти в один из них и пообедать. Там он возьмет газеты и устроится как-нибудь поудобнее. Герствуд поднялся в роскошную гостиную отеля «Мортон», считавшегося в то время одной из лучших гостиниц Нью-Йорка, расположился в мягком кресле и принялся читать. Мысль, что средства его быстро тают и что он не вправе позволить себе такую роскошь, нисколько не смущала его сейчас. Подобно морфинисту, он мало-помалу становился рабом временного забвения. Что угодно, лишь бы облегчить боль в душе и побыть в уюте и покое! Без этого он уже не мог жить. К черту все думы о завтрашнем дне! «Завтра» было таким же страшным, как всякая беда. Он всеми силами пытался отогнать мысль, что вскоре останется без гроша, как мы гоним от себя мысль о неизбежности смерти, и это ему почти удавалось. Хорошо одетые посетители, проходившие по толстым коврам, заставили его перенестись мыслью в прошлое. Герствуду понравилась какая-то жившая в отеле молодая дама, которая играла в нише на рояле, и он пересел со своей газетой поближе. Обед обошелся ему в полтора доллара. В восемь часов вечера Герствуд покончил с едой. Он заметил, что посетители расходятся, а толпа искателей развлечений на улице становится гуще. Он тоже вышел на улицу, думая о том, куда бы пойти. Только не домой! Керри еще не легла спать. Нет, сейчас он ни за что не пойдет домой. Он проведет время так, как это может позволить себе человек независимый, сохранивший свое положение в обществе. Герствуд закурил сигару и остановился на ближайшем углу, где стояли группами десятки таких же праздношатающихся, как и он — агентов, скаковых маклеров, актеров — его собратьев по духу. Невольно вспомнился ему Чикаго. Сколько раз он проводил вечера за картами с друзьями… Его мысли вернулись к покеру. «В прошлый раз я сглупил, — подумал он, вспомнив о том, как проиграл шестьдесят долларов. — Напрасно сдался, в конце концов я бы запугал того парня. Просто я был не «в ударе», вот это и погубило меня». Он стал перебирать в уме разные возможности, которые открываются в игре, мысленно представляя себе, как бы он обыграл того или иного противника, если бы только блефовал посмелее. «Я достаточно опытен в игре и должен этим воспользоваться. Надо еще раз попытать сегодня счастья». Ему мерещились огромные ставки. Вдруг он выиграет сотню-другую долларов. Вот это была бы удача! Он знал многих, живших игрой в карты, и живших притом весьма недурно. «А у них было вначале не больше денег, чем у меня», — размышлял он. Герствуд отправился в один из ближайших игорных залов, чувствуя себя почти так же хорошо, как в былые дни. Сначала гнев на Керри, а потом хороший обед, коктейль и ароматная сигара заставили его забыть о своем плачевном состоянии, и на несколько часов он снова стал почти тем самым Герствудом, каким был когда-то. И все-таки это не был прежний Герствуд, это был человек, спорящий со своей совестью и влекомый миражем. Игорный зал ничем не отличался от того, в котором Герствуд побывал в прошлый раз. Разница была лишь в том, что этот помещался при несколько лучшем баре. Некоторое время Герствуд наблюдал за игрой, а потом и сам присоединился к ней. Как и в тот раз, сперва все шло довольно гладко. Герствуд несколько раз выигрывал, что подбадривало его, потом проигрывал, что еще больше его затягивало. Его охватил азарт. Он наслаждался риском и как-то, имея в руках совершенно ничтожную карту, решился на блеф, чтобы сорвать крупный куш. К величайшему удовольствию Герствуда, это ему удалось. Победа вскружила ему голову, и он решил, что сегодня счастье на его стороне. Никто не выиграл больше. Ему попалась посредственная карта, и он попробовал открыть «праздник». Но его партнерами были наблюдательные игроки, которые почти что читали его мысли. «У меня на руках тройка; буду держаться до конца», — подумал про себя один из них. Началось повышение ставок. — Ставлю еще десять, — заявил Герствуд. — Ответил, — сказал партнер. — Еще десять. — Ответил. — Еще десять. — Ответил. Дошло до того, что в банке набралось уже много денег, в том числе семьдесят пять долларов Герствуда. Его противник серьезно призадумался. «А вдруг, — мелькнула у него мысль, — у этого субъекта сильная карта?» Поэтому он решил открыться. — Что у вас? — спросил он. Герствуд открыл. Его карта была бита. Неприятное открытие, что он потерял одним махом семьдесят пять долларов, привело Герствуда в отчаяние. — Еще одну сдачу? — угрюмо предложил он. — Идет! — согласился партнер. Некоторые из игроков покинули свои места, и их сменили любопытные. Время шло, и вскоре часы пробили двенадцать. Герствуд выигрывал и проигрывал небольшие суммы. Он сильно устал и при самой последней сдаче проиграл еще двадцать долларов. На душе у него кошки скребли. Лишь в четверть второго вышел он из игорного зала. Пустые, холодные улицы, казалось, издевались над ним. Герствуд медленно направился домой, почти забыв о своей ссоре с Керри. Он поднялся по лестнице и вошел в квартиру с таким видом, словно ничего и не случилось. Он думал только о своем проигрыше. Присев на кровать, Герствуд пересчитал деньги. Теперь у него оставалось всего сто девяносто долларов и немного мелочи. Он спрятал деньги в карман и начал раздеваться. «Что это со мной в самом деле?» — растерянно подумал он. Утром Керри почти не разговаривала с ним, и Герствуд чувствовал, что ему лучше снова уйти из дому. Он сознавал, что скверно обошелся с Керри, но не мог заставить себя сделать первый шаг к примирению. Им овладело отчаяние. Несколько дней подряд он уходил из дому и вел жизнь джентльмена, вернее, жил так, как, по его представлениям, должен жить джентльмен, а это стоило денег. После такого времяпрепровождения он еще хуже чувствовал себя и физически и морально, не говоря уже о том, что содержимое его кошелька уменьшилось на тридцать долларов. Лишь тогда Герствуд как будто протрезвел и снова стал самим собой. — Сегодня должны прийти за квартирной платой, — сказала Керри. Это были ее первые слова за последние три дня. — Вот как? — удивился Герствуд. — Сегодня второе число, — подтвердила она. Герствуд нахмурил брови и с безнадежным чувством полез в карман за кошельком. — Ужасно много денег приходится платить за квартиру! — сказал он. Приближалась очередь последних ста долларов.Глава 37
Воля пробуждается.
Снова в поисках выхода
Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних пятидесяти долларов. При той легкости, с какой Герствуд обращался с деньгами, его семисот долларов хватило до июня. Но еще раньше, чем начать последнюю сотню, он стал поговаривать о приближающейся катастрофе. — Право, не понимаю, почему у нас так много уходит денег, — сказал он однажды, придравшись к сумме, израсходованной на мясо. — Я вовсе не нахожу, что мы много тратим, — возразила ему Керри. — Мои деньги почти на исходе, — продолжал он. — Понять не могу, на что только они ушли! — Ты хочешь сказать, что у тебя ушли все семьсот долларов? — воскликнула Керри. — Да, осталось всего лишь сто. У него был такой безутешный вид, что Керри испугалась. Она стала понимать, что и сама беспомощно плывет по течению. Впрочем, она все время чувствовала это. — Но, Джордж, почему же ты не поищешь работы? — воскликнула она. — Ты, наверное, мог бы что-нибудь найти! — Я искал, — ответил он. — Не могу же я заставить людей дать мне работу! Керри некоторое время пристально глядела на него и, наконец, сказала: — Что же ты намерен делать? Ведь ста долларов нам хватит ненадолго. — Не знаю, — ответил он. — Я могу только искать. Другого ничего не остается. От слов Герствуда Керри стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую ее, сверкающую позолотой жизнь, и теперь, как и в свое время в Чикаго, она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз совсем одной. Керри раздумывала о том, как же, собственно, попадают на сцену. Поиски актерской работы в Чикаго убедили ее, что она выбрала тогда неправильный путь. Наверное, есть люди, которые тебя выслушают, испытают и дадут возможность показать свои способности. Как-то за завтраком, два дня спустя, Керри упомянула об афишах, извещающих о приезде в Америку Сары Бернар. Герствуд тоже знал об этом из газет. — Как люди попадают на сцену, Джордж? — самым невинным тоном спросила Керри. — Право, не знаю, — ответил он. — Надо полагать, что для этого существуют специальные театральные агентства. Керри прихлебывала кофе, не поднимая глаз от чашки. — И там подыскивают места желающим? — Да, я так думаю, — ответил он. Тут Герствуд вдруг обратил внимание на какую-то особую нотку в голосе Керри и тотчас спросил: — Неужели ты все еще подумываешь о сцене? — Нет, мне просто любопытно, — ответила она. Не отдавая себе в том ясного отчета, Герствуд был почему-то против подобной затеи. Ему не верилось, что Керри, за которой он имел возможность наблюдать в течение трех лет, способна сделать карьеру на сцене. Слишком уж она простодушна, слишком уступчива по натуре! В его представлении искусство требовало большей помпезности. Если Керри попытается попасть на сцену, она, того и гляди, очутится в лапах какого-нибудь мошенника-антрепренера и станет такой же, как «все они». Герствуд прекрасно знал, что он подразумевает под словами «все они». Керри недурна собой. Что ж, она, пожалуй, неплохо устроится. Но что тогда будет с ним? — На твоем месте я выкинул бы из головы всякую мысль о сцене. Это гораздо труднее, чем ты себе представляешь. Керри усмотрела в его словах пренебрежение к своим артистическим способностям. — Тогда, в Чикаго, ты говорил мне, что я играла очень хорошо, — возразила она. — Это верно, — согласился с ней Герствуд, заметив, что она собирается спорить. — Но Чикаго — это не Нью-Йорк. Керри ничего не ответила. Она была обижена. — Сцена очень хороша для первоклассных актеров, — продолжал Герствуд. — Но не для мелких сошек. А для того, чтобы пробиться и приобрести известность, нужно много времени. — Не знаю, не знаю… — задумчиво произнесла Керри, которую этот разговор немного взволновал. А Герствуду с внезапной ясностью представилось, что из всего этого может выйти. Теперь, когда его положение стало критическим и близится катастрофа, Керри всеми правдами и неправдами проберется на сцену, а его бросит на произвол судьбы. У Герствуда было ложное представление о моральных качествах Керри. И все потому, что он не понимал величия чувств. Он никогда не знал, что великим человек может быть и благодаря своим чувствам — не только уму. Что же касается любительского спектакля в масонской ложе, то он был слишком давно, и воспоминание об этом спектакле уже значительно поблекло. Герствуд слишком долго жил с этой женщиной, чтобы преклоняться перед нею. — А я знаю, — настаивал он. — На твоем месте я и думать не стал бы об этом. Да и вообще это не профессия для женщины. — Во всяком случае это лучше голода, — сказала Керри. — Если ты не хочешь, чтобы я пошла на сцену, почему ты не подыщешь себе какой-нибудь работы? На это у Герствуда не было ответа. Но к таким напоминаниям он уже привык. — Ах, оставь! — отмахнулся он. После этого разговора Керри все же втайне решила осуществить свою мечту. Герствуду до этого нет дела. Она не позволит ему вовлечь ее в нищету лишь потому, что ему так нравится. У нее, несомненно, есть талант. Она поступит в какой-нибудь театр и постепенно добьется успеха. Что он тогда скажет? Она уже вообразила, что выступает в каком-нибудь замечательном спектакле на Бродвее. Каждый вечер она входит в свою артистическую уборную и гримируется. По окончании спектакля, покидая театр, она видит множество экипажей, дожидающихся на улице. Ей, в сущности, сейчас было совершенно безразлично, станет она знаменитостью или нет. Только бы проникнуть на сцену, зарабатывать достаточно на жизнь, одеваться по своему вкусу, идти, куда хочешь, и делать, что хочешь, — о, как это было бы прекрасно! Весь день она не переставала думать об этом, и еще ярче казалась Керри красота этой жизни, когда она видела опустившегося Герствуда. Как ни странно, ее идея стала постепенно укореняться и в сознании Герствуда. Быстро таявшие деньги напоминали о том, что в скором времени он будет нуждаться в поддержке. Почему бы Керри и не помочь ему, пока он не найдет работы? Однажды он вернулся домой, поглощенный этой мыслью. — Я встретил сегодня Джона Дрэйка, — начал Герствуд. — Он осенью открывает здесь отель и обещает дать мне какое-нибудь место. — А кто это такой? — Он владелец отеля «Грэнд Пасифик» в Чикаго. — Вот как! — Я получал бы у него тысячи полторы в год. — Что ж, это было бы очень недурно, — сочувственно отозвалась Керри. — Только бы продержаться до осени, и опять все будет хорошо, — продолжал Герствуд. — Я снова установил связь с некоторыми старыми друзьями. Керри доверчиво проглотила эту басню. Ей искренне хотелось помочь Герствуду как-то пережить лето. Он стал таким растерянным и беспомощным. — Сколько у тебя осталось денег? — спросила она. — Всего пятьдесят долларов. — О боже! — вырвалось у Керри. — Что же мы будем делать? Через три недели снова надо будет платить за квартиру. Герствуд опустил голову на руки и тупо уставился в пол. — Может быть, ты поищешь что-нибудь в театрах? — мягко произнес он наконец. — Да, пожалуй, — согласилась Керри, обрадовавшись, что хоть кто-то одобрил ее идею. — А я возьмусь за любую работу, какая попадется, — добавил Герствуд, заметив, что Керри просияла от его слов. — Я наверняка что-нибудь найду. В один из ближайших дней Керри, после ухода Герствуда, убрала квартиру, принарядилась, насколько позволял ее скудный гардероб, и направилась к Бродвею. Она была еще плохо знакома с этой улицей, которая представлялась ей средоточием всего грандиозного и чудесного. Если здесь, на Бродвее, расположены театры, то где-нибудь поблизости должны быть и театральные агентства. Она решила зайти в театр на Медисон-сквер и узнать там, где находятся агентства. Это казалось ей наиболее разумным. Войдя в вестибюль, Керри обратилась к сидевшему за окошком кассиру. — Что? Театральные агентства? — повторил он, выглядывая из окошечка. — Право, не знаю. Но, может быть, вы найдете нужные вам сведения в «Рекламе». Там публикуются адреса подобных учреждений. — А что это такое? — спросила Керри. — Газета, журнал? — Газета, — ответил кассир, дивясь такому невежеству. — Вы достанете ее в любом киоске, — вежливо добавил он, разглядев, что перед ним хорошенькая женщина. Керри купила «Рекламу» и тут же у киоска принялась искать в ней адреса агентств. Это оказалось не так-то легко. До Тринадцатой улицы было далеко, но Керри все-таки отправилась домой, крепко зажав в руке драгоценную газету и жалея о потерянном времени. Герствуд уже успел вернуться и сидел на своем обычном месте. — Где ты была? — спросил он. — Я пыталась найти какое-нибудь театральное агентство. Он не решился расспрашивать, чем кончились ее поиски, но газета у нее в руках привлекла его внимание. — Что это у тебя? — «Реклама», — ответила Керри. — Мне сказали, что в этой газете я найду адреса театральных агентств. — И только ради этого ты ходила на Бродвей? Я и сам мог бы тебе сказать это. — Почему же ты не сказал? — спросила Керри, не поднимая глаз от газеты. — Ты меня не спрашивала, — ответил Герствуд. Взгляд Керри бесцельно скользил по мелкому шрифту. Сейчас она думала лишь о том, как равнодушен к ней этот человек. Все, что он делал и говорил, еще больше огорчало ее. В душе Керри росла жалость к себе. Слезы задрожали у нее на ресницах. Герствуд что-то почувствовал. — Дай-ка я посмотрю, — предложил он. Чтобы немного успокоиться, Керри ушла в другую комнату и не выходила, пока Герствуд просматривал объявления. Вскоре она вернулась в столовую. Герствуд что-то писал карандашом на старом конверте. — Вот тебе три адреса, — сказал он. Керри взяла у него конверт, на котором значились: миссис Бермудес, мистер Маркус Дженкс и третий — Перси Уэйл. Подумав, она тотчас же направилась к двери. — Пойду по адресам, — на ходу бросила она, даже не оглянувшись на Герствуда. А тот смотрел ей вслед со смутным ощущением стыда, в нем пробудились остатки мужской гордости, но тотчас исчезли. Посидев немного, Герствуд не вытерпел, встал и надел шляпу. «Надо погулять!» — решил он, чувствуя потребность куда-нибудь пойти. Он вышел на улицу и побрел куда глаза глядят. Керри же направилась по самому ближнему адресу — к миссис Бермудес. Контора занимала часть старинного особняка — две комнаты, видимо, раньше их использовали как запасную спальню и как переднюю. На двери одной из них красовалось: «Без доклада не входить». Керри вошла в приемную, где дожидались очереди несколько мужчин. Они сидели, почти не разговаривая. Вскоре дверь отворилась, и в приемную вышли две мужеподобные женщины в облегающих костюмах с белыми воротничками и манжетами. Следом за ними показалась дородная дама лет сорока пяти, со светлыми волосами и проницательным взглядом. Судя по внешности, она была довольно добродушна. По крайней мере, она улыбалась. — Так вы, пожалуйста, не забудьте, — сказала ей на прощание одна из женщин. — Нет, не забуду, — ответила дородная дама и тотчас добавила: — Погодите-ка, где вы будете в начале февраля? — В Питсбурге. — Хорошо, я вам напишу туда. — Отлично, — согласилась клиентка и вышла вместе со своей спутницей. В то же мгновение улыбка на лице полной дамы сменилась выражением сухой деловитости. Она оглядела присутствующих и остановила испытующий взгляд на Керри. — Ну, сударыня, чем могу вам служить? — спросила она. — Вы миссис Бермудес, не так ли? — Да. — Так вот, скажите мне, пожалуйста, — начала Керри, не зная, как приступить к делу, — вы устраиваете актеров на сцену? — Да. — Не могли бы вы подыскать что-нибудь для меня? — А у вас есть какой-нибудь опыт? — Очень незначительный, — призналась Керри. — В какой труппе вы играли? — О, ни в какой, — начала объяснять Керри. — Это был просто спектакль, устроенный… — А, понимаю! — прервала ее миссис Бермудес. — Нет, в данную минуту я ничего не могу вам предложить. У Керри вытянулось лицо. — Вам нужно сначала поработать в Нью-Йорке, — сказала в заключение «добродушная» миссис Бермудес. — Но я на всякий случай попрошу вас оставить нам свой адрес. Керри не двигалась с места, провожая взглядом дородную даму, поплывшую к себе в кабинет. — Где вы живете? — обратилась к Керри молодая девица, сидевшая за письменным столом, продолжая прерванный полной дамой разговор. — Я миссис Джордж Уилер, — сказала Керри, подходя к ней ближе. Девица записала имя и адрес и кивком дала понять, что больше от Керри ничего не требуется. Приблизительно то же самое произошло и в конторе мистера Дженкса, с той только разницей, что на прощание этот джентльмен сказал: — Если бы вы выступали в каком-нибудь из местных театров или у вас была программа с вашим именем, я мог бы что-нибудь для вас придумать. А в третьем месте ее сразу спросили: — Какого рода работу вы ищете? — Я вас не совсем понимаю, — сказала Керри. — Ну, где, например, хотели бы вы выступить: в комедии, в водевиле? Или, может быть, хористкой? — Я хотела бы получить роль в какой-нибудь пьесе, — ответила Керри. — Гм! — промычал театральный агент. — Это вам будет кое-что стоить. — Сколько? — спросила Керри, которая, какэто ни смешно, никогда раньше не думала о подобной возможности. — А это предоставляется решить вам самой, — с лукавым видом ответил тот. Керри в изумлении уставилась на него. Она положительно не знала, как продолжать разговор. — А если бы я вам заплатила, вы устроили бы меня? — спросила она. — Обязательно! В противном случае вы получили бы свои деньги обратно. — Ах, вот как! — сказала Керри. Агенту было ясно, что он имеет дело с человеком совершенно неопытным, поэтому он продолжал: — Вам нужно оставить залог долларов в пятьдесят, не меньше. Никто не станет возиться с вами за меньшую сумму. Керри начала понимать. — Благодарю вас, — сказала она. — Я подумаю. И она направилась к двери, но вдруг, вспомнив о чем-то, остановилась. — А скоро вы могли бы подыскать для меня место? — спросила она. — Ну, на это трудно ответить! — отозвался агент. — Может пройти неделя, а то и месяц. Во всяком случае, вам была бы предоставлена первая подходящая вакансия. — Понимаю, — сказала Керри и, застенчиво улыбнувшись, вышла из конторы. Театральный агент несколько секунд смотрел ей вслед, потом произнес про себя: «Просто умора, как эти женщины стремятся на сцену!» Последнее предложение заставило Керри задуматься. «А вдруг у меня возьмут деньги и ничего не дадут взамен?» — подумала она. У нее были кое-какие драгоценности: колечко с бриллиантом, брошка и несколько безделушек. Если пойти в ломбард, то она, пожалуй, получит за все это пятьдесят долларов. Герствуд был уже дома. Он не думал, что Керри так долго будет бегать по конторам. — Ну, что слышно? — начал он, не решаясь прямо спросить, к чему привели ее поиски. — Я еще ничего не нашла, — сказала Керри, снимая перчатки. — Все они требуют денег и только тогда берутся достать место. — А сколько они просят? — поинтересовался Герствуд. — Пятьдесят долларов. — Однако и аппетиты же у них! — О, они не хуже других, — ответила Керри. — И даже нельзя знать заранее, достанут ли тебе работу после того, как ты дашь деньги. — Да, я не стал бы давать пятьдесят долларов за одни обещания! — сказал Герствуд, точно деньги были у него в руках и от него зависело решение вопроса. — Не знаю, — задумчиво произнесла Керри. — Пожалуй, попытаю счастья у кого-нибудь из антрепренеров. Герствуд спокойно выслушал это: до его сознания даже не дошло, как ужасен этот план. Он тихо раскачивался взад и вперед и грыз ногти. Все казалось ему приемлемым при создавшемся положении. Впоследствии он постарается исправить дело.Глава 38
В стране грез.
Кругом — суровый мир
На следующий день Керри возобновила поиски. Она отправилась в «Казино», но оказалось, что поступить в хористки так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой. К тому же она убедилась, что театры обращают внимание только на внешность тех, кто ищет работу. Мнение же последних о своих сценических способностях никого не интересует. — Могу я видеть мистера Грея? — обратилась Керри к угрюмому швейцару, охранявшему в «Казино» вход за кулисы. — Нет. Он сейчас занят. — А вы не скажете, когда я могла бы увидеть его? — Он вам назначил прийти сегодня? — Нет. — Тогда обратитесь к нему в канцелярию. — Боже мой! — вырвалось у Керри. — Где же находится его канцелярия? Швейцар сообщил ей номер комнаты. Керри понимала, что сейчас идти туда не стоило, поскольку мистера Грея все равно там не было. Оставалось лишь употребить свободное время на дальнейшие поиски. Но везде повторялась одна и та же история. Мистер Дэйли, например, принимал лишь тех, кто был в тот день назначен к нему на прием. Но Керри целый час прождала в грязной приемной, прежде чем услышала об этом от методичного и равнодушного секретаря: — Вам придется написать ему и попросить принять вас. Керри ушла ни с чем. В театре «Эмпайр» она наткнулась на уйму удивительно невнимательных и равнодушных людей. Повсюду пышная, мягкая мебель, роскошная отделка и неприступный тон. В «Лицее» она попала в один из тех маленьких кабинетов, утопающих в коврах и укрытых портьерами, где сразу чувствуешь «величие» восседающей там особы. Здесь все были одинаково высокомерны и кассир, и швейцар, и клерк — все одинаково кичились своими должностями. «Ну-с, склонись теперь пониже — да, да, как можно ниже! Рассказывай, что тебе надо. Говори быстро, отрывисто и без всякого там собственного достоинства. Если это нас не затруднит, мы так и быть посмотрим, что для тебя можно сделать!» Такова была атмосфера в «Лицее», но так же относились к подобного рода просителям и все антрепренеры города. Эти мелкие предприниматели чувствовали себя царьками в своих владениях. Керри устало поплелась домой, удрученная столь неудачным исходом своих попыток. Герствуд вечером выслушал все подробности ее утомительных и бесплодных поисков. — Мне так и не удалось никого повидать! — сказала она в заключение. — Я только ходила и ходила и дожидалась без конца. Герствуд молча глядел на Керри. — Очевидно, без знакомств никуда не проберешься, — с безутешным видом добавила она. Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания. И все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. «Керри устала и огорчена, но это ничего. Теперь она отдохнет!» Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день. И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра. Наконец Керри удалось увидеть директора «Казино». — Загляните к нам в начале будущей недели, — сказал он. — Возможно, что у нас произойдут кое-какие перемены. Это был крупный мужчина, франтоватый и ожиревший от чрезмерного количества еды. На женщин он смотрел так, как любитель бегов смотрит на породистых лошадей. Эта молоденькая особа хороша и изящна; она пригодится даже в том случае, если не имеет никакого опыта. Кстати, один из владельцев театра недавно выразил недовольство тем, что среди кордебалета что-то мало хорошеньких. До «начала будущей недели» оставалось еще несколько дней. Между тем первое число приближалось, а с ним и срок уплаты за квартиру. Керри волновалась, как никогда раньше. — Ты в самом деле ищешь работу, когда уходишь из дому? — спросила она однажды утром Герствуда. — Разумеется, ищу! — обиженным тоном ответил тот, не слишком смущенный, впрочем, унизительностью подобного подозрения. — Тебе бы следовало взять пока первое попавшееся место, — сказала она. — Ведь скоро уже опять первое число. Керри была воплощенным отчаянием. Герствуд отложил газету и пошел переодеваться. «Да, конечно, надо искать работу, — подумал он. — Загляну-ка я на пивоваренный завод, может быть, там меня куда-нибудь пристроят! В крайнем случае придется, пожалуй, пойти в буфетчики». Снова повторилось то же паломничество, какое он неоднократно совершал и раньше. Один или два не слишком вежливых отказа — и вся решимость Герствуда, вернее, вся его бравада, исчезла. «Все это ни к чему, — решил он. — Я с таким же успехом могу идти домой». Теперь, когда деньги его были уже на исходе, Герствуд начал присматриваться к своей одежде и заметил, что даже его лучший костюм принимает довольно ветхий вид. Это очень огорчило его. Керри вернулась домой значительно позже Герствуда. — Я сегодня обошла несколько театров-варьете, — уныло сказала она. — Надо иметь готовый репертуар, без этого нигде не принимают. — А я видел кой-кого из местных пивоваров, — сказал Герствуд. — Один из них обещал устроить меня недели через две-три. Видя, что Керри так расстроена, Герствуд считал нужным хоть ложью прикрыть свою праздность: лень просила извинения у энергии. В понедельник Керри снова отправилась в «Казино». — Разве я предлагал вам прийти сегодня? — удивился директор, оглядывая стоящую перед ним просительницу. — Вы сказали: в начале будущей недели, — ответила Керри, пораженная его словами. — Вы когда-нибудь работали в театре? — почти сурово спросил он. Керри откровенно призналась в своей неопытности. Директор еще раз оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины. — Приходите в театр завтра утром, — сказал он. Сердце Керри подскочило от радости. — Хорошо, — с трудом произнесла она и, повернувшись, направилась к двери. Она видела, что этот человек готов дать ей работу. Неужели он действительно примет ее в труппу? О боже, возможно ли такое счастье! Грохот большого города, доносившийся сквозь открытые окна, сразу показался ей приятной музыкой. И, словно в ответ на ее мысли, раздался резкий голос, положивший конец сомнениям Керри. — Смотрите, приходите вовремя! — довольно грубо сказал директор. — Если опоздаете, останетесь за бортом. Керри поспешила выйти из кабинета. Ее радость была так велика, что теперь у нее пропало всякое желание упрекать Герствуда в безделье. У нее есть место! У нее есть место! Эти слова ликующей песнью раздавались в ее ушах. От избытка восторга ей даже захотелось поскорее поделиться радостной вестью с Герствудом. Но по мере приближения к дому она все больше и больше задумывалась над тем печальным обстоятельством, что она нашла работу в несколько недель, а он вот уже сколько месяцев околачивается без дела и ровно ничего не предпринимает. «Почему он не хочет работать? — открыто задала она себе вопрос. — Если я могла найти работу, то он подавно мог бы. В сущности, мне это далось без больших усилий». Она забывала о своей молодости и красоте. Охваченная восторженным настроением, она не учитывала препятствий, которые ставит на пути человека надвигающаяся старость. Таково, увы, всегда влияние удачи! Все же Керри не сумела сохранить свою тайну. Она старалась казаться спокойной и безразличной, но ее притворство было слишком очевидно. — Ну, — спросил Герствуд, заметив, что лицо Керри посветлело. — У меня есть место! — Вот как? — произнес Герствуд с явным облегчением. — Да! — А какое место? — спросил Герствуд, которому сразу показалось, что теперь, наверное, и он найдет что-нибудь хорошее. — Артистки кордебалета. — Это не в «Казино» ли, как ты мне говорила? — Да, — ответила Керри. — Я завтра же начинаю репетировать. Керри была так рада, что охотно пустилась в подробные объяснения. — А ты знаешь, сколько будешь получать? — спросил через некоторое время Герствуд. — Нет, мне не хотелось спрашивать, — ответила Керри. — Но они, кажется, платят долларов двенадцать или четырнадцать в неделю. — Да, я тоже так думаю, — подтвердил Герствуд. В этот день тревога, нависшая над маленькой квартиркой, несколько рассеялась, и это обстоятельство было ознаменовано вкусным обедом. Герствуд вышел побриться и вернулся с порядочным куском мяса для бифштекса. «Ну, завтра я тоже отправлюсь искать работу!» — подумал он и с ожившей надеждой поднял свои вечно потупленные глаза. Керри вовремя явилась на следующий день в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера. Керри глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места! Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она — частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь, как радостно потекли бы тогда ее дни! — Как вас зовут? — спросил режиссер, руководивший репетицией. — Маденда, — ответила Керри, мгновенно вспомнив имя, выбранное для нее Друз еще в Чикаго. — Керри Маденда. — Так вот, мисс Маденда, станьте вон туда! — весьма любезно, как показалось Керри, предложил ей режиссер. Затем он вызвал молодую особу, которая уже некоторое время состояла в труппе. — Мисс Кларк, вы будете в паре с мисс Маденда! Мисс Кларк сделала шаг вперед, и, таким образом, Керри узнала, где ей нужно стать. Репетиция началась. Вскоре Керри убедилась, что, хотя обучение актеров, в общем, и было похоже на то, как их учили в Чикаго, здесь режиссер вел себя совсем иначе. Ее и тогда поражала настойчивость и самоуверенность мистера Миллиса, теперешний же режиссер был не только настойчив, но и порядком груб. По мере того как репетиция подвигалась вперед, он становился все раздражительнее, вскипал из-за пустяков и орал во всю глотку. Было очевидно, что он с величайшим презрением относится ко всякому проявлению чувства собственного достоинства или скромности со стороны подчиненных ему молодых женщин. — Кларк! — кричал он, подразумевая, конечно, мисс Кларк. — Почему вы идете не в ногу? — По четыре направо! Направо! Направо, говорю я! Не спите же, черт вас возьми! Его голос переходил при этом в оглушительный рев. — Мейтленд! Мейтленд! — внезапно крикнул он. Маленькая, хорошо одетая девушка, волнуясь, выступила вперед. Сердце Керри наполнилось жалостью и страхом за нее. — Да, сэр! — сказала мисс Мейтленд. — Что у вас, уши заложило? — Нет, сэр! — Вы знаете, что значит, «колонна, налево»? — Да, сэр! — Почему же вы кидаетесь направо, когда я командую налево? Хотите испортить всю репетицию? — Я только… — Мне нет никакого дела до ваших «только»! Откройте уши шире! Керри уже не только жалела девушку, но и дрожала за себя. Еще одна молодая особа навлекла на себя гнев режиссера. — Стоп! — гаркнул он, вскидывая в отчаянии обе руки; вид у него был разъяренный. — Элверс! Что это у вас во рту? — закричал он. — Ничего, сэр! — ответила мисс Элверс, между тем как остальные девушки смущенно улыбались, нервно переступая с ноги на ногу. — Вы разговариваете во время репетиции? — Нет, сэр! — В таком случае не шевелите губами!.. А теперь все вместе еще раз! Пришла наконец и очередь Керри. Ее старание исполнять возможно лучше все, что требовалось, как раз и навлекло на нее беду. — Мейсон! — раздался голос режиссера. — Мисс Мейсон! Керри оглянулась, желая узнать, к кому это относится. Девушка, стоявшая позади, слегка подтолкнула Керри, но та все еще не понимала. — Вы! Вы! — рявкнул режиссер. — Оглохли вы, что ли? — О! — вырвалось у Керри. Она густо покраснела, и ноги у нее подкосились. — Разве ваша фамилия не Мейсон? — спросил режиссер. — Нет, сэр, меня зовут Маденда. — Так вот скажите, что такое делается с вашими ногами? Неужели вы совсем не умеете танцевать? — Умею, сэр! — ответила Керри, давно уже овладевшая этим искусством. — Почему же вы не танцуете? Почему вы волочите ноги, точно мертвая? Мне нужны девушки, в которых жизнь бьет ключом. Лицо Керри пылало. Губы ее слегка дрожали. — Слушаю, сэр! — сказала она. Три часа продолжались беспрестанные окрики раздражительного и неугомонного режиссера. Керри ушла из театра, утомленная физически, но слишком возбужденная, чтобы обращать на это внимание. Она хотела поскорее добраться домой, чтобы попрактиковаться в пируэтах, как это было ей ведено. Впредь она постарается ни в чем не ошибаться. Герствуда не было дома. «Очевидно, он отправился искать работу!» — догадалась Керри. Она лишь слегка закусила и сейчас же стала упражняться, окрыленная надеждами на освобождение от материальных забот. «И славы звон звучал в ее ушах…» Герствуд вернулся домой далеко не в том радостном настроении, в каком он покинул квартиру. Керри вынуждена была прервать упражнения и приняться за стряпню. Это вызвало в ней сильное раздражение. Разве мало ей работы? Неужели она будет одновременно играть в театре и заниматься хозяйством? «Нет, я на это не согласна, — решила она. — Как только я начну играть, ему придется обедать где-нибудь в другом месте!» Каждый день приносил новые заботы. Керри убедилась, что быть статисткой далеко не такая радость, как ей казалось. Узнала она также, что ей назначили всего двенадцать долларов в неделю. Через несколько дней она впервые узрела «сильных мира сего» — артистов и артисток, игравших первые роли. Сразу бросалось в глаза, что это привилегированные особы, к которым все относились с уважением. Она же ничто, просто ничто! А дома Керри ждал Герствуд, который не доставлял ей ничего, кроме огорчений. Он, по-видимому, и не думал искать работу. Тем не менее он позволял себе расспрашивать Керри о ее успехах в театре. Судя по тому, с какой настойчивостью он задавал ей одни и те же вопросы, можно было заподозрить, что он и в дальнейшем собирается жить на ее счет. И теперь, когда у Керри появились собственные средства существования, поведение Герствуда особенно раздражало ее. Этот человек готов был позариться на ее жалкие двенадцать долларов! — Ну, как дела, справляешься? — участливо спрашивал он. — О, вполне, — отвечала Керри. — Тебе не очень трудно? — Я думаю, что привыкну. И Герствуд снова углублялся в газету. — Я купил по дороге немного масла, — сказал он как-то, словно случайно вспомнив об этом. — Может быть, ты захочешь испечь печенье? Спокойствие, с каким этот человек относился к своему положению, изумляло Керри. Забрезжившая перед нею независимость сделала ее более смелой в своих наблюдениях, и у нее часто возникало желание высказать Герствуду несколько неприятных истин. И тем не менее она не могла разговаривать с ним так, как говорила в свое время с Друэ. Что-то в этом человеке всегда внушало ей особое уважение. Казалось, в нем еще таилась какая-то скрытая сила. Однажды, приблизительно через неделю после первой репетиции, выплыло то, что Керри давно уже ждала. Вернувшись домой и положив на стол мясо, Герствуд заметил: — Нам придется экономить. Ведь ты еще не скоро получишь жалованье? — Нет, — ответила Керри, возившаяся у плиты. — У меня осталось всего тринадцать долларов сверх квартирной платы, — добавил он. «Вот и начинается! — подумала Керри. — Теперь я должна буду отдавать свой заработок». Она вспомнила, что рассчитывала приобрести кое-какие вещи, в которых очень нуждалась. Ей почти нечего было надеть. Старая шляпка имела жалкий вид. «Разве может хватить моих двенадцати долларов на хозяйство и на квартиру? — думала она. — Мне одной с этим не справиться. Почему он не возьмется за какую-нибудь работу?» Настал наконец вечер первого представления. Керри даже не предложила Герствуду пойти посмотреть спектакль, да и у него самого не явилось подобного желания. Это было бы лишь ненужной тратой денег, а роль у Керри была ничтожная. В газетах уже появились объявления о премьере, повсюду были расклеены афиши с именами примадонны и других артистов. Керри была ничто. Как и в Чикаго, Керри охватил страх сцены, когда настало время выхода кордебалета. Но постепенно она пришла в себя. Явная и обидная незначительность ее роли отогнала прочь страх. Керри чувствовала себя каплей в море. Не все ли равно, как она будет держать себя? Хорошо еще, что ей не пришлось выйти в трико. Она была в числе двенадцати девушек, одетых в красивые золотистые юбочки, на дюйм не доходившие до колен. То стоя на месте, то расхаживая по сцене и время от времени присоединяя свой голос к общему хору, Керри имела возможность мельком наблюдать за публикой и понимала, что оперетта имеет большой успех. Зрители не скупились на аплодисменты, но Керри прекрасно видела, как плохо играют некоторые из признанных актрис. «Я сыграла бы несравненно лучше!» — не раз отмечала она про себя. И надо отдать Керри справедливость: она была права. Едва спектакль кончился, она быстро переоделась. Режиссер дал нагоняй нескольким девушкам, но Керри он не тронул, и она поняла, что удовлетворительно справилась со своей ролью. Ей хотелось поскорее уйти из театра; она почти никого там не знала, а «звезды» принялись сплетничать между собой. На улице перед театром вытянулся ряд экипажей, у подъезда толпились расфранченные юнцы. Керри сразу заметила, что к ней присматриваются. Стоило ей только мигнуть, и у нее оказался бы спутник. И тем не менее, когда она прошла мимо, не обращая на них внимания, один из ловеласов все же решил рискнуть. — Надеюсь, вы не собираетесь ехать домой одна? — сказал он. Но Керри только ускорила шаг и, дойдя до Шестой авеню, села в трамвай. Голова ее была так полна впечатлениями вечера, что она ни о чем, кроме театра, даже и думать не могла. В конце недели Керри как бы вскользь спросила Герствуда, желая хоть немного расшевелить в нем желание действовать: — Что слышно о месте, которое тебе обещали на пивоваренном заводе? — Там пока еще ничего нет, — ответил он. — Но я все-таки надеюсь, что это дело выгорит. Керри ничего не сказала. Мысль, что ей придется отдавать свой заработок, возмущала ее, но она чувствовала, что все идет к этому. Видя приближение кризиса, Герствуд решил сыграть на чувствах Керри. Он давно уже убедился в ее доброте и знал, как долго можно испытывать ее терпение. Правда, ему было немного стыдно, что приходится прибегать к подобным методам, он оправдывал себя тем, что, несомненно, скоро найдет какую-нибудь работу. Случай поговорить представился ему, когда наступил срок уплаты за квартиру. — Ну, вот, — сказал он, отсчитывая деньги. — Это почти все, что у меня осталось. Придется спешно подыскивать работу. Керри искоса взглянула на него, смутно подозревая, что за этим последует просьба. — Если бы я мог продержаться еще хоть немного, я, наверное, что-нибудь нашел бы. Дрэйк непременно откроет здесь отель в сентябре. — В самом деле? — протянула Керри, невольно подумав при этом, что до сентября оставался еще целый месяц. — Ты не могла бы поддержать меня до тех пор? — умоляющим тоном продолжал Герствуд. — Я уверен, что тогда сумею стать на ноги. — Конечно! — ответила Керри, с грустью думая о том, что судьба ставит ей ловушки на каждом шагу. — Мы как-нибудь проживем, если будем бережливы. А потом я тебе все верну. — О, я охотно помогу тебе! — повторила Керри, упрекая себя в черствости. Ей было совестно, что она заставляет его так унизительно просить, но все-таки желание употребить заработок на свои личные нужды вынудило ее к легкому протесту. — Почему ты не возьмешься за какую-нибудь работу, Джордж, хотя бы временную? — сказала она. — Не все ли равно, что делать? А потом ты, возможно, нашел бы что-нибудь получше. — Я возьмусь за любую работу, — сказал Герствуд, облегченно вздохнув, но невольно понурив голову от ее упрека. — Я согласился бы хоть канавы рыть! Ведь меня здесь никто не знает. — Ну, до этого дело еще не дошло! — воскликнула Керри, которой сразу стало жаль его. — Но ведь не может быть, чтобы не было какой-нибудь другой работы! — Я обязательно что-нибудь найду! — повторил Герствуд, стараясь придать себе решительный вид. И снова взялся за газету.Глава 39
Свет и тени.
На разных путях
Теперь в Герствуде еще больше окрепла уверенность, что поиски работы нужно начинать когда угодно, только не сегодня, — и это было единственным последствием принятого им решения. А в душе Керри все эти тридцать дней происходила непрерывная борьба. Необходимость приобрести себе приличное платье (уж не говоря о желании купить кое-какие украшения) становилась все острее, а между тем было ясно, что, сколько ни работай, она ничего не сможет потратить на себя. Потребность быть одетой прилично постепенно вытеснила ту жалость, которую она почувствовала к Герствуду, когда он просил поддержать его. Он не повторял этой просьбы, а желание становилось все настойчивее, и Керри все больше досадовала, что Герствуд ей мешает. Когда Герствуд дошел до последних десяти долларов, он решил оставить их себе, чтобы не зависеть от Керри в мелких расходах — на трамвай, на бритье и тому подобное. Поэтому, еще имея на руках эту небольшую сумму, он заявил, что у него больше ничего нет. — У меня в кармане пусто, — сказал он однажды. — Я сегодня уплатил за уголь, и теперь у меня осталось десять или пятнадцать центов. — У меня в кошельке есть немного денег. Герствуд взял их и отправился за банкой томатов. Керри смутно сознавала, что это было началом нового порядка. Герствуд взял из кошелька пятнадцать центов — ровно столько, сколько ему было нужно на покупку. С тех пор так и повелось, что он стал покупать всякого рода мелочи. Как-то утром Керри вдруг вспомнила, что вернется домой лишь к самому обеду. — У нас вышла вся мука, — обратилась она к Герствуду. — Ты бы сходил в лавку. Мяса тоже нет. Может, возьмем печенки и свиной грудинки? — Ничего не имею против, — отозвался Герствуд. — Тогда возьми полфунта или даже три четверти фунта того и другого, — распорядилась она. — Хватит и полфунта, — отозвался Герствуд. Керри открыла кошелек, достала оттуда полдоллара и положила на стол. Герствуд сделал вид, будто не замечает денег. Вскоре он отправился в лавку и купил муку, продававшуюся в кульках по три с половиной фунта, а также печенку и свиную грудинку. Все эти покупки он положил на кухонный стол вместе со сдачей. Керри заметила, что счет сходится в точности, и у нее сердце сжалось при мысли, что в конце концов этот человек ничего от нее не требует, кроме еды. И она подумала, что, быть может, слишком строго судит его. Пороков у Герствуда не было никаких. Может быть, он еще найдет себе работу. Но в тот же вечер, когда Керри входила в здание театра, мимо нее прошла одна из артисток кордебалета, нарядно одетая, с букетиком фиалок на груди и, очевидно, в прекрасном расположении духа. Она ласково улыбнулась Керри, показав красивые, ровные зубы. Керри ответила ей такою же улыбкой, невольно подумав при этом: «Она может позволить себе хорошо одеваться. И я могла бы быть такой же нарядной, если бы тратила все деньги на себя. А сейчас у меня нет даже приличного бантика к блузке». Выставив вперед ногу, Керри задумчиво поглядела на свою обувь. «Будь что будет, но в субботу я непременно куплю себе туфли!» — решила она. С ней подружилась одна из самых хорошеньких и милых девушек в труппе, которая почувствовала, что от Керри можно не ждать каверз. Это была веселая маленькая Манон, не признававшая суровых требований общества в вопросах морали, зато обладавшая отзывчивым сердцем и всегда готовая помочь другому. Кордебалету почти не разрешалось переговариваться, но все же девушкам иногда удавалось обменяться несколькими фразами. — Жарко сегодня, правда? — сказала маленькая актриса, обращаясь к Керри. Она была в розовом трико, с золотым шлемом на голове. В руке она держала сверкающий щит. — Да, жарко, — ответила Керри, радуясь тому, что хоть кто-нибудь захотел поболтать с нею. — Я прямо вся изжарилась, — продолжала девушка. Керри взглянула на ее очаровательное личико с большими голубыми глазами и заметила, что на лбу у девушки выступили мелкие капли пота. — Мне никогда еще не приходилось так маршировать, как в этой оперетте! — сказала девушка в золотом шлеме. — А вы и раньше играли? — спросила Керри, удивленная тем, что у этой крохотной особы уже есть кое-какой сценический опыт. — Очень много! А вы? — Нет, я впервые. — Вот как? А мне казалось, что я вас уже видела однажды, когда ставили «Друга королевы». — Нет, — покачала головой Керри. Их разговор был прерван громом оркестра и шипением магния, зажженного за боковыми кулисами. Кордебалет должен был быстро построиться для нового выхода. Другого случая поговорить им в этот день не представилось, но в следующий вечер, одеваясь для сцены, маленькая девушка снова очутилась возле Керри. — Я слышала, что наша труппа через месяц выезжает в турне, — сообщила она. — Неужели? — испугалась Керри. — Да. А вы поедете? — Не знаю. Вероятно, поеду, если меня возьмут. — О, конечно, возьмут! А я вот не поеду. Во время турне больше платить не будут, а в дороге все уходит на жизнь. Я никогда не уезжаю из Нью-Йорка: тут для меня вполне достаточно театров. — И вы всегда находите другое место? — Разумеется! А в этом месяце как раз открывается новый театр на Бродвее. Как только наша труппа уедет, я постараюсь устроиться там. Керри с интересом слушала ее. Очевидно, не так уж трудно получить место в театре. Может быть, она тоже устроится где-нибудь, когда труппа уедет из города. — Скажите, платят везде более или менее одинаково? — спросила она. — Да, — ответила маленькая девушка. — Иногда немного больше. У нас тут, между прочим, платят неважно. — Я получаю двенадцать, — сказала Керри. — Да что вы? — изумилась та. — Я получаю пятнадцать. А вы, я замечаю, стараетесь куда больше моего! На вашем месте я бы этого не потерпела. Вам платят меньше, пользуясь вашей неопытностью. Вы тоже должны были бы получать пятнадцать. — Но мне не дают, — сказала Керри. — Уверяю вас, что вы получите больше в другом месте, если только захотите, — продолжала маленькая девушка, которой Керри очень нравилась. — Вы прекрасно справляетесь с делом, и режиссер это знает. Надо сказать правду: Керри, сама того не сознавая, держала себя на сцене с достоинством и грацией, выделявшими ее среди других. Этим она была обязана естественности своих движений и полному отсутствию самомнения. — И вы думаете, что в театре на Бродвее я могла бы зарабатывать больше? — спросила она. — Безусловно! — ответила ее новая приятельница. — Вот мы вместе пойдем и узнаем. А говорить уж буду я! Керри слушала ее, исполненная благодарности. Этот маленький воин рампы очень нравился ей. Девушка в золотом шлеме и воинском облачении казалась такой опытной, такой уверенной в себе! «Если бы я тоже могла так находить работу, мне нечего было бы беспокоиться за будущее», — размышляла Керри. Зато по утрам, когда на нее обрушивались всякие хозяйственные обязанности, а Герствуд, по обыкновению, сидел и всем своим видом заставлял ее думать, какое он тяжкое бремя, Керри горько сетовала на судьбу. Правда, благодаря расчетливости Герствуда прокормиться им было нетрудно и, пожалуй, могло бы хватить и на квартиру. Но сверх того не оставалось ни цента. И когда Керри купила себе туфли и еще кое-какие необходимые мелочи, проблема квартирной платы весьма осложнилась. За неделю до рокового дня Керри вдруг сообразила, что их средства на исходе. — Мне кажется, у меня не хватит денег, чтобы внести плату за квартиру! — воскликнула она во время завтрака, заглядывая в сумочку. — Сколько у тебя есть? — спросил Герствуд. — У меня осталось двадцать два доллара, но надо еще всю неделю покупать продукты. А если я истрачу на это деньги, которые получу в субботу, то ничего не останется на следующую неделю. Скажи, пожалуйста, Джордж, этот друг твой, Дрэйк, не скоро еще откроет отель? — Нет, думаю, скоро, — ответил Герствуд. — По крайней мере, он уверял меня в этом. Через некоторое время он добавил: — Ничего, не тревожься! Лавочник, наверное, согласится обождать. Мы столько времени покупаем у него, что на неделю или две он не откажет нам в кредите. — Ты думаешь, он согласится ждать? — Я в этом уверен. В тот же день, зайдя в лавку за фунтом кофе, Герствуд сказал, глядя прямо в глаза лавочнику: — Вы бы не согласились, мистер Эслодж, рассчитываться за все сразу в конце недели? — Пожалуйста, пожалуйста, мистер Уилер! — ответил тот. — Отчего же нет? Герствуд, даже в тяжелые времена продолжавший держаться с известным тактом, больше ничего не добавил. Все оказалось так просто. Он захватил свою покупку и отправился домой. Началось отчаянное метание человека, очутившегося в тупике. Квартирная плата была внесена, и на очереди был расчет с лавочником. Герствуд уплатил ему из своих десяти долларов, а в конце недели получил деньги от Керри. В следующий раз он отложил расчет с лавочником и таким образом сохранил свои десять долларов, а Эслодж получил в четверг или пятницу по субботнему счету. Эти неурядицы заставили Керри искать каких-нибудь новых впечатлений. Герствуд, очевидно, не понимал, что у нее могут быть еще и иные потребности. Он мысленно распределял ее заработок так, чтобы его хватило на все насущные расходы, но, видимо, и не собирался вносить что-либо сам. «И он еще говорит мне: «Не тревожься!» — размышляла Керри. — Если бы он хоть немного тревожился, он не сидел бы тут целыми днями, дожидаясь моего возвращения! Он нашел бы себе какую-нибудь работу. Не может быть, чтобы мужчина за семь месяцев не сумел, при желании, подыскать себе какое-то занятие!» Вид Герствуда, всегда неряшливо одетого и хмурого, побуждал Керри искать развлечений вне дома. Два раза в неделю в театре бывали утренники, и тогда Герствуду приходилось довольствоваться холодной закуской, которую он сам себе готовил. Были еще два дня, когда репетиции начинались в десять утра и кончались в час. А помимо того, Керри стала навещать некоторых подруг из кордебалета, в том числе голубоглазого маленького воина в золотом шлеме. Это вносило разнообразие в ее скучную, тоскливую жизнь в уединенной квартире, где сидел и бездельничал ее угрюмый муж. Голубоглазого воина звали Лола Осборн. У нее была комната на Девятнадцатой улице, близ Четвертой авеню, в районе, теперь сплошь застроенном конторскими зданиями. Окна комнатки выходили во двор, где росло несколько тенистых деревьев. — Разве ваша семья живет не в Нью-Йорке? — спросила однажды Керри свою подругу. — Да, но я не могу ужиться с родителями, — ответила та. — Они хотят, чтобы я делала то, что им нравится… А вы постоянно живете здесь? — Да. — С вашей семьей? Керри было стыдно сказать, что она замужем. Она столько раз жаловалась Лоле на то, что очень мало получает, и так часто делилась с подругой своими тревогами за будущее, что теперь ей было неприятно говорить о муже. — Нет, я живу у родственников, — солгала она. Мисс Осборн считала само собой разумеющимся, что Керри тоже вольна распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Она постоянно зазывала ее к себе, предлагала маленькие совместные прогулки, и в конце концов Керри перестала вовремя приходить домой. Герствуд заметил это, но его положение не позволяло ему ссориться с ней. Несколько раз Керри возвращалась домой так поздно, что, едва успев приготовить что-нибудь на скорую руку, тотчас же мчалась в театр. — Разве во второй половине дня у тебя тоже бывают репетиции? — осведомился как-то Герствуд. При этом он постарался скрыть свою горечь и сомнения, побудившие его задать этот вопрос. — Нет, но я подыскиваю себе другое место, — ответила Керри. Так оно в действительности и было, но все-таки это лишь с большой натяжкой могло сойти за объяснение. Мисс Осборн побывала с Керри у режиссера, собиравшегося ставить на Бродвее новую оперетту, а когда от него подруги вернулись в комнату Лолы, было только три часа дня. Вопросы Герствуда Керри поняла как покушение на ее личную свободу. Она совсем упускала из виду, что уж и так пользовалась большой свободой. Но человек всегда дорожит последними своими достижениями и бдительно охраняет то, что ему удалось завоевать. Герствуд прекрасно понимал создавшееся положение. Он был для этого достаточно умен. В то же время в нем сохранилась еще известная доля порядочности, не позволявшая ему открыто протестовать. Находясь в состоянии необъяснимой апатии, Герствуд все глубже и глубже погружался в какое-то оцепенение и спокойно взирал на то, как Керри постепенно уходит из его жизни, — точно так же он добровольно выпускал из рук все возможности вновь выбраться на поверхность. Все же он не мог удержаться от мягких, бесполезных и надоедливых замечаний, которые с каждым днем все более и более расширяли пропасть, образовавшуюся между ним и Керри. Однажды, глядя из-за кулис на ярко освещенную сцену, где кордебалет, сверкая бутафорией, занимался упражнениями, главный режиссер спросил балетмейстера: — Кто эта девушка, четвертая справа? Вот та, что поворачивается сейчас к нам лицом? — Ее зовут мисс Маденда, — ответил балетмейстер. — Хорошенькая, — сказал главный режиссер. — Почему бы вам не поставить ее во главе цепи? — Хорошо, поставлю, — согласился тот. — Да, непременно так и сделайте! Она несравненно лучше той, которая сейчас ведет цепь. — Отлично, я так и сделаю. На следующий день Керри вызвали из ряда. Похоже было, что ее ждет выговор. — Сегодня вы поведете колонну, — сказал ей балетмейстер. — Слушаю, сэр, — ответила Керри. — Постарайтесь вложить побольше жизни в ваши движения, — добавил он. — Побольше огня. — Слушаю, сэр. Керри была изумлена. Она подумала было, что девушка, возглавлявшая кордебалет, внезапно заболела, но, убедившись, что та стоит тут же, в ряду, и с явной враждебностью глядит на нее, все поняла: эта честь предоставлена ей за «заслуги». Керри умела красиво склонить голову набок и при этом изящно держала руки, так что они не висели у нее плетьми. И теперь, оказавшись во главе колонны, она постаралась очень эффектно использовать свое уменье. — Эта девчонка знает, как держаться на сцене! — заметил в другой раз режиссер. У него даже мелькнула мысль побеседовать с ней лично. Если бы он не придерживался неизменного правила не заводить никаких дел с артистками кордебалета, он уже давно заговорил бы с ней. — Поставьте ее во главе белой колонны! — снова посоветовал он балетмейстеру. Белая колонна состояла из двадцати с лишним девушек в белоснежных, с голубой каймой, фланелевых костюмах, отделанных серебром. На девушке, возглавлявшей колонну, был роскошный костюм тех же цветов, но в отличие от остальных на ней были эполеты и серебряный поясок, а сбоку болталась коротенькая шпага. Керри снабдили всеми этими доспехами, и несколько дней спустя она появилась в них на сцене, гордясь своими лаврами. Но приятнее всего было то, что ей повысили жалованье с двенадцати до восемнадцати долларов. Герствуд так и не узнал об этой перемене. «Не стану отдавать ему все деньги! — решила Керри. — Достаточно и того, что я плачу за все. Мне нужно купить столько вещей!» Следует заметить, что за второй месяц службы в театре Керри накупила немало всевозможных вещей, нисколько не считаясь с тем, какие это будет иметь последствия. Пусть себе Герствуд изворачивается, как знает, с квартирной платой, пусть ищет кредита в соседних лавках. Ей необходимо больше следить за собой! Первым ее шагом была покупка блузки, и при этом она убедилась, как мало можно приобрести на то, что у нее остается, и как много — если тратить весь заработок на себя. Керри совсем забывала о том, что, живя одна, она все равно вынуждена была бы платить за стол и квартиру и не могла бы тратить все восемнадцать долларов на наряды. А однажды Керри остановила свой выбор на платье, которое не только съело всю прибавку к жалованью, но и заставило ее взять из неприкосновенных двенадцати долларов. Она понимала, что заходит слишком далеко, но женская любовь к нарядам одержала верх. На следующий день Герствуд сказал: — Мы должны лавочнику пять долларов сорок центов. — Неужели так много? — слегка нахмурившись, произнесла Керри. Она взялась за кошелек, чтобы оставить Герствуду денег. — У меня всего только восемь долларов двадцать центов. — И за молоко мы задолжали шестьдесят центов, — напомнил Герствуд. — Да ведь и за уголь еще не уплачено, — добавила Керри. Герствуд ничего не сказал. Он видел, что она покупает много вещей в ущерб хозяйству и рада всякой возможности уйти из дому и прийти попозже. Все это, чувствовал он, не кончится добром. И вдруг Керри выпалила: — Право, не знаю, как и быть. Я не могу платить за все. Я слишком мало для этого зарабатываю. Это было уже прямым вызовом, и Герствуду пришлось поднять перчатку. Но он старался сохранять спокойствие. — Я вовсе не хочу, чтобы ты платила за все, — сказал он. — Я только прошу немного помочь мне до тех пор, пока я не найду работы. — Ну конечно, как будто я слышу это в первый раз! — ответила Керри. — Ты пойми, что моего заработка не может хватить на все. Просто не знаю, как быть дальше. — Но ведь я старался найти работу! — воскликнул Герствуд. — Что же ты прикажешь мне еще делать? — Ты, видно, мало старался, — стояла на своем Керри. — Я вот нашла! — А я тебе говорю, что сделал все от меня зависящее! — ответил он, рассерженный ее словами. — И незачем тебе попрекать меня своими успехами! Я только просил немного поддержать меня, пока я не подыщу работу. Я еще не вышел в тираж! Я еще стану на ноги. Он пытался говорить с достоинством, но голос его слегка дрожал. Гнев Керри мгновенно утих. Ей стало стыдно. — Вот, возьми, — сказала она и высыпала на стол содержимое кошелька. — Здесь не хватит на все, но если можно обождать до субботы, — то я уплачу и остальное. — Можешь это оставить себе, — грустно сказал Герствуд, отодвигая часть денег. — Я хочу только уплатить лавочнику. Керри спрятала деньги и рано принялась за стряпню, — ей хотелось, чтобы обед поспел вовремя. Она чувствовала себя виноватой после этой маленькой вспышки. Вскоре, однако, каждый из них снова задумался о своем. «Керри зарабатывает больше, чем она мне говорит, — размышлял Герствуд. — Она хочет уверить меня, будто получает только двенадцать долларов, но разве на эти деньги можно накупить столько вещей? Впрочем, мне все равно. Пусть делает со своими деньгами, что ей угодно. Вот я подыщу какое-нибудь занятие, и тогда пусть проваливает ко всем чертям!» Сейчас его мысли были вызваны гневом, но это могло предопределить отношение Герствуда к Керри в будущем. «Ну и пусть сердится, — думала Керри. — Надо напоминать, чтобы он искал работу. Я не могу его содержать, это несправедливо». Как раз тогда Керри и познакомилась с несколькими молодыми друзьями мисс Осборн. Эти молодые людиоднажды заехали к Лоле и пригласили ее покататься в экипаже. В это время у нее была Керри. — Поедем с нами! — предложила Лола подруге. — Нет, не могу. — Да полно, Керри, поедем! Ну, скажи, пожалуйста, чем ты так занята? — настаивала та. — К пяти часам мне необходимо быть дома, — ответила Керри. — А зачем? — К обеду. — О, не беспокойся, нас угостят обедом, — возразила Лола. — Нет, нет, я не могу! — противилась Керри. — Я не поеду. — Ну, пожалуйста, Керри! Это такие славные мальчики! Вот увидишь, мы вовремя доставим тебя домой. Ведь мы только прокатимся по Сентрал-парку. Керри подумала и, наконец, сдалась. — Но помни, Лола, — сказала она, — в половине пятого я должна быть дома. Эта фраза вошла в одно ухо мисс Осборн и вышла в другое. После знакомства с Друэ и Герствудом Керри с оттенком цинизма относилась к молодым людям вообще и особенно к таким, которые казались ей ветреными и беспечными. Она чувствовала себя значительно старше их. Их комплименты казались ей пошлыми и глупыми. И все же она была молода душой и телом, а юность тянется к юности. — Не беспокойтесь, мисс Маденда, — почтительно заметил один из молодых людей, — мы вернемся вовремя. Неужели вы можете предполагать, что мы задержим вас насильно? — Кто вас знает! — улыбнулась Керри в ответ. Они отправились на прогулку в коляске: Керри разглядывала нарядно одетую публику, прогуливавшуюся в парке, и слушала глупые комплименты и незамысловатые остроты, которые в некоторых кружках сходили за юмор. Она упивалась видом этой вереницы экипажей, тянувшихся от ворот у Пятьдесят девятой улицы, мимо Музея изящных искусств до ворот на углу Сто десятой улицы и Седьмой авеню. Она вновь подпала под чары окружавшей ее роскоши — элегантных костюмов, пышной упряжи, породистых лошадей — всего этого изящества и красоты. Снова сознание собственной бедности мучительно кольнуло ее, но Керри постаралась забыть об этом — хотя бы настолько, чтобы не думать о Герствуде. А тот ждал и ждал. Часы пробили четыре, пять, наконец, шесть. Уже темнело, когда он поднялся с качалки. — Как видно, она сегодня не собирается приходить домой! — угрюмо произнес он. «Да, так всегда бывает, — мелькнуло у него в уме. — Она идет в гору, и для меня в ее жизни уже нет места!» Керри же спохватилась, что опаздывает, когда на часах уже было четверть шестого. Экипаж в это время находился далеко, на Седьмой авеню, близ набережной реки Харлем. — Который час? — спросила она. — Мне нужно домой. — Четверть шестого, — ответил один из ее спутников, взглянув на изящные часы без крышки. — О боже! — воскликнула Керри. Но она тотчас откинулась на подушки экипажа и, вздохнув, добавила: — Что ж, упущенного не воротишь! Теперь уже поздно. — Ну, конечно, поздно! — поддержал ее один из юнцов, мысленно рисовавший себе интимный обед и оживленную беседу, которая могла привести к новой встрече после театра. Керри чрезвычайно понравилась ему. — Давайте поедем в «Дельмонико» и подкрепимся немного! — предложил он. — Что ты скажешь на это, Орин? — Идет! — весело отозвался тот. Керри подумала о Герствуде. До сих пор она ни разу еще не пропускала обеда без уважительной причины. Экипаж повернул назад, и лишь в четверть седьмого компания села обедать. Снова повторилось все то, что было в свое время в ресторане «Шерри», и на Керри нахлынули тяжелые думы. Она вспомнила миссис Вэнс, которая так и не показывалась после оказанного ей Герствудом приема, подумала об Эмсе, образ которого особенно ярко запечатлелся в ее памяти. Ему нравились более интересные книги, чем те, что она читала, более интересные люди, чем те, с кем она встречалась. Его идеалы находили отзвук в ее сердце. «Хорошо быть выдающейся актрисой!» — вспомнила она высказанную им мысль. А какая актриса она?.. — О чем вы задумались, мисс Маденда? — спросил один из ее спутников. — Хотите, я угадаю? — О нет, и не пытайтесь! — отозвалась Керри. Она принялась за еду. Ей удалось несколько забыться и разделить общее веселье. Но когда, после обеда молодые люди завели речь о том, чтобы снова встретиться после спектакля, Керри покачала головой. — Нет, — твердо заявила она, — я не могу. У меня уже назначена встреча после театра. — О, полно, мисс Маденда! — умоляющим голосом произнес молодой человек. — Нет, нет, не могу! Вы были очень милы ко мне, но я прошу меня извинить. Молодой человек был в отчаянии. — Не падай духом, старина! — шепнул ему товарищ. — Попытаемся после спектакля: авось она передумает.Глава 40
Общественный конфликт.
Последняя попытка
Надежды молодых людей на ночное развлечение не оправдались. По окончании спектакля Керри отправилась домой, думая о том, как бы объяснить свое отсутствие Герствуду. Он уже спал, но проснулся и поднял голову, когда она проходила мимо к своей кровати. — Это ты, Керри? — окликнул он ее. — Да, я, — ответила она. Наутро, за завтраком, Керри захотелось сказать что-то в свое оправдание. — Я не могла вчера вырваться к обеду, — начала она. — Да полно, Керри! — отозвался Герствуд. — Зачем заводить об этом разговор? Мне это безразлично. И напрасно ты оправдываешься. — Но я никак не могла прийти! — воскликнула она и покраснела. Заметив выражение лица Герствуда, как будто говорившее: «О, я прекрасно все понимаю!» — она добавила: — Как тебе угодно! Мне это тоже безразлично. С этого дня ее равнодушие к дому еще больше возросло. У нее уже не оставалось никаких общих интересов с Герствудом, им совершенно не о чем было говорить. Она заставляла его просить у нее на расходы, ему же это было ненавистно. Он предпочитал избегать булочника и мясника, а долг в лавке Эслоджа довел до шестнадцати долларов, сделав запас всяких консервированных продуктов, чтобы некоторое время ничего не покупать. После этого Герствуд стал покупать в другом бакалейном магазине и такую же штуку проделал с мясником. Керри, однако, ничего так и не знала. Герствуд просил у нее ровно столько, на сколько с уверенностью мог рассчитывать, и постепенно запутывался все больше и больше, так что развязка могла быть лишь одна. Так прошел сентябрь. — Когда же наконец мистер Дрэйк откроет свой отель? — несколько раз спрашивала Керри. — Скоро, должно быть, — отвечал Герствуд. — Но едва ли раньше октября. Керри почувствовала, что в ней зарождается отвращение к нему. «И это мужчина?» — часто думала она. Керри все чаще и чаще ходила в гости и все свои свободные деньги — что составляло не такую уж большую сумму — тратила на одежду. Наконец было объявлено, что через месяц труппа отправляется в турне. «Последние две недели!» — значилось на афишах и в газетах. — Я не поеду с ними! — заявила мисс Осборн. Керри отправилась с нею в другой театр, решив поговорить там с режиссером. — Где-нибудь играли? — был его первый вопрос. — Мы и сейчас играем в «Казино», — ответила за обеих Лола. — А, вот как! И обе тотчас были ангажированы. Теперь Керри стала получать двадцать долларов в неделю. Керри была в восторге. Она начала проникаться сознанием, что не напрасно живет на свете. Таланты рано или поздно находят признание! Жизнь ее так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат. А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору, — об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел сложа руки и ждал, но чего — этого он и сам бы не мог сказать. В конце концов жизнь стала совсем невозможной. Преследования кредиторов, равнодушие Керри, мертвое безмолвие в квартире и зима за окном — все это, вместе взятое, неминуемо должно было привести к взрыву. Он наступил в тот день, когда Эслодж собственной персоной явился на квартиру и застал Керри дома. — Я пришел получить по счету, — заявил лавочник. Керри не проявила особого удивления. — Сколько там? — спросила она. — Шестнадцать долларов, — ответил Эслодж. — Неужели так много?! — воскликнула Керри. — Это верно? — обратилась она к Герствуду. — Да, — подтвердил тот. — Странно, я понятия об этом не имела, — сказала Керри. У нее был такой вид, точно она подозревала Герствуда в каких-то ничем не оправданных тратах. — Все это в самом деле было взято, — сказал Герствуд и, обращаясь к Эслоджу, добавил: — Сегодня я ничего не могу вам уплатить. — Гм! — буркнул Эслодж. — А когда же? — Во всяком случае, не раньше субботы, — ответил Герствуд. — Вот как! — рассердился лавочник. — Хорошенькое дело! Мне нужны деньги. Я хочу получить по счету! Керри стояла в глубине комнаты и слушала. Она была ошеломлена. Как это некрасиво, как гадко! Герствуд тоже был немало раздосадован. — Говорить сейчас об этом все равно без толку, — сказал он. — Приходите в субботу, и вы получите часть денег. Лавочник ушел. — Как же мы расплатимся с ним? — спросила Керри, которая все еще не могла прийти в себя от невероятных размеров счета. — Я не могу заплатить столько денег. — Да и незачем, — ответил Герствуд. — На нет и суда нет. Придется ему обождать. — Но я не могу понять, как же мог набежать такой счет? — недоумевала Керри. — Что ж, мы все это съели, — сказал Герствуд. — Странно, — не сдавалась Керри, все еще терзаемая сомнениями. — Ну, скажи на милость, зачем ты так говоришь? — воскликнул Герствуд. — Разве я один ел продукты? Ты говоришь так, словно я эти деньги присвоил! — Я знаю только, что это ужасно много, — стояла на своем Керри. — Нельзя меня заставлять столько платить. Это гораздо больше, чем у меня сейчас есть. — Ну, будет тебе, — сказал Герствуд, опускаясь в кресло. Керри ушла, а он сидел, обдумывая, что бы предпринять. В то время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Как и всегда, рабочие с целью воздействовать на хозяев и заставить их идти на уступки выбрали почему-то холодное зимнее время. Герствуд читал газеты и думал о том, что забастовка может блокировать все движение в городе. Она разразилась за день или за два до его размолвки с Керри. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице и с сообщениями о паническом настроении на денежном рынке; он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше, когда они получали по два доллара в день, так как в последнее время управление дорог начало усиленно пользоваться «разовыми» и одновременно увеличило рабочий день постоянных служащих до десяти, двенадцати и даже четырнадцати часов в сутки. «Разовыми» называли людей, которых управление нанимало для того, чтобы обслуживать вагоны в самое горячее время, то есть в часы наибольшего наплыва пассажиров. За каждый рейс «разовому» платили двадцать пять центов. Как только кончалась горячая пора, этих людей отпускали на все четыре стороны. Хуже всего было то, что никто не знал, когда ему предоставят работу; тем не менее нужно было являться в парк с утра и в хорошую и в дурную погоду и ждать у ворот, пока ты не понадобишься трамвайному управлению. Средний заработок при системе «разовых» редко превышал пятьдесят центов в день, то есть плату за два рейса. Иными словами, платили только за три с лишним часа работы, а ожидание в счет не шло. Трамвайные служащие утверждали, что эта система все шире и шире входит в практику и недалеко то время, когда из семи тысяч трамвайных работников только немногие будут получать регулярно по два доллара в день. Они требовали, чтобы эта система была отменена, чтобы рабочий день, не считая случайных задержек, не превышал десяти часов и чтобы плата была не ниже двух с четвертью долларов в день. Они настаивали на немедленном удовлетворении всех своих требований. Но трамвайные компании ответили решительным отказом. Герствуд вначале сочувствовал рабочим и признавал справедливость их требований. Можно даже утверждать, что он до конца сочувствовал забастовщикам, каковы бы ни были в дальнейшем его действия. Читая почти все известия, он обратил внимание на тревожные заголовки, которыми начинались газетные заметки о забастовке. Он прочел их от начала и до конца и запомнил названия всех семи трамвайных компаний, а также точное число бастующих. «Как глупо бастовать в такие холода, — размышлял он. — Впрочем, от души желаю им победы». На следующий день газеты пестрели уже более подробными сообщениями. «Бруклинцы ходят пешком! — писала газета «Уорлд». — Рыцари труда блокировали движение трамваев через мост! Семь тысяч человек бросили работу!» Герствуд читал все это и пытался предсказать исход забастовки. Он верил в силу трамвайных компаний. «Забастовщики едва ли возьмут верх, — думал он. — У них нет денег. Полиция, конечно, будет оказывать помощь трамвайным компаниям. Публике необходим трамвай». Он отнюдь не сочувствовал владельцам трамвайных линий, но сила была на их стороне. К тому же трамваи нужны населению. «Нет, этим ребятам не выиграть!» — решил он в конце концов. Среди всяких других заметок Герствуд прочел циркуляр одной трамвайной компании, гласивший:«Трамвайная линия Атлантик-авеню. Ко всеобщему сведению. Ввиду того, что вагоновожатые, кондукторы и другие служащие нашей компании внезапно бросили работу, мы предлагаем всем лояльным служащим, бастующим против воли, вернуться на свои места, о чем следует заявить до двенадцати часов 16 января. Этим лицам будет предоставлена работа под надлежащей охраной, в порядке поступления заявлений, и сообразно с этим они будут направлены на разные маршруты. Все, не подавшие подобного заявления, будут считаться уволенными, а вакантные места будут предоставляться новым служащим по мере найма их компанией»Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу»:Директор-распорядитель Бенджамен Нортон.
«Требуется 50 опытных вагоновожатых, знакомых с системой Вестингауза, для управления только почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется».От него не ускользнули слова об охране в обоих объявлениях. В этом сказывалась неприступная мощь трамвайной компании. «Полиция на стороне компании, — снова подумал он. — Забастовщики ничего не добьются!» Впечатление от прочитанного было еще свежо в уме Герствуда, когда в присутствии Керри произошел инцидент с лавочником. И без того многое раздражало Герствуда, а это послужило последним толчком. Никогда еще Керри не обвиняла его в воровстве, а ведь сейчас ее слова, в сущности, были почти равносильны этому. Она усомнилась в том, что такой счет мог вырасти естественным путем. А он так старался сократить расходы, чтобы они не казались ей обременительными! Он обманывал мясника и булочника, лишь бы поменьше тревожить Керри. К тому же он лично ел очень мало, почти голодал. — Черт! — вырвалось у него. — Я еще могу найти работу! Я еще не выбыл из строя! Он решил, что теперь уж и впрямь необходимо за что-то приняться. Слишком унизительно сидеть тут и выслушивать подобные оскорбления! Ведь если так будет дальше, то ему вскоре бог весть что придется сносить! Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет? — подсказывал ему разум. — Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать два доллара в день!» «А как насчет забастовщиков? — шептал какой-то голос. — Тебя могут изувечить». «О, это маловероятно! — отвечал самому себе Герствуд. — Трамвайные компании поставили на ноги всю полицию. Всякий, кто пожелает вести вагон, найдет должную защиту». «Но ведь ты не умеешь водить вагон», — говорил голос сомнения. «Незачем и наниматься вагоновожатым, — отвечал рассудок. — Уж билеты-то я, наверное, сумею выдавать». «Но там нужны главным образом вагоновожатые». «О, они охотно возьмут кого угодно». Несколько часов Герствуд дискутировал сам с собой, перебирая все «за» и «против» и чувствуя, что нет особой необходимости спешить в таком верном деле. А наутро он надел свой лучший костюм (который тем не менее имел довольно жалкий вид) и стал готовиться в путь. Он завернул в бумажку немного хлеба и холодного мяса. Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. — Куда ты идешь? — спросила она наконец. — В Бруклин, — ответил Герствуд. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: — Я думаю, что найду там работу. — Трамвайщиком? — изумилась Керри. — И ты не боишься? — Чего же бояться? — отозвался Герствуд. — Все трамвайные служащие — под охраной полиции. — В газетах пишут, что вчера избили четырех штрейкбрехеров. — Это так, — согласился Герствуд, — но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить. У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Керри стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного. Небо было затянуто тучами, и в воздухе носились редкие хлопья снега. «Не особенно приятная погода для путешествия в Бруклин!» — невольно подумала Керри. Герствуд ушел раньше ее, и это уже само по себе было знаменательным событием. Дойдя до угла Четырнадцатой улицы и Шестой авеню, он сел в трамвай. Герствуд читал в газете, что десятки людей являются с предложением своих услуг в конторы Бруклинской трамвайной компании и всех принимают на службу. Герствуд, молчаливый и мрачный, добирался туда сначала конкой, потом на пароме. Дальше путь предстоял нелегкий, так как трамвай не шел, а день был холодный, но Герствуд упрямо шагал вперед. Стоило ему очутиться в Бруклине, как он сразу почувствовал, что находится в районе забастовки. Это сказывалось даже в поведении людей. На некоторых путях не было ни одного трамвайного вагона. На перекрестках стояли небольшие группы. Мимо Герствуда проехало несколько открытых фургонов с расставленными на них табуретками. На фургонах были надписи: «Флэтбуш» или «Проспект-парк. Плата 10 центов». Герствуд заметил, какие холодные и угрюмые лица у рабочих. Они вели здесь войну. Добравшись до конторы трамвайной компании, Герствуд увидел возле здания нескольких человек в штатском, а также группу полицейских. Вдали, у перекрестка, стояли другие люди, очевидно, забастовщики, и наблюдали за тем, что происходит. Все дома кругом были маленькие, деревянные, а улицы плохо вымощены. После Нью-Йорка Бруклин производил весьма убогое впечатление. Герствуд пробрался в самый центр маленькой группы, за действиями которой наблюдали и полисмены и прочие стоявшие поблизости люди. Один из полицейских обратился к нему: — Что вы ищете? — Я хочу спросить, не найдется ли тут работы. — Контора вот здесь, наверху, — ответил синий мундир. Судя по выражению лица этого блюстителя порядка, он относился безучастно к тому, что происходит, но в глубине души явно сочувствовал бастующим и потому сразу возненавидел пришедшего штрейкбрехера. С другой стороны, по долгу службы он был обязан поддерживать порядок. Над истинной ролью полиции в человеческом обществе ему никогда не приходило в голову задумываться. Не того склада он человек, чтобы задаваться подобными вопросами. В нем смешались два чувства, которые уравновешивали друг друга. Он стал бы защищать этого человека, как самого себя, но лишь потому, что это ему приказано. А скинув синюю форму, он переломал бы ребра всем скэбам[6]. Герствуд поднялся по грязной лестнице и очутился в маленькой, не менее грязной комнате, где находилось несколько конторских служащих. Они сидели за длинным, отгороженным барьером столом. — Что вам угодно, сэр? — обратился к нему человек средних лет, поднимая глаза от бумаг. — Вам нужны люди? — спросил, в свою очередь, Герствуд. — А вы кто же будете? Вагоновожатый? — Нет, я никогда не работал трамвайщиком, — ответил Герствуд. Он нисколько не был смущен. Он знал, что трамвайные компании нуждаются в людях. Если одна контора его не возьмет, то наймет другая. И ему было совсем безразлично, как отнесется к нему этот служащий. — Гм! — пробормотал клерк. — Мы, конечно, предпочитаем людей с некоторым опытом… Видя, однако, что Герствуд равнодушно улыбается, он добавил: — Ну, я думаю, вы скоро научитесь управлять вагоном. Как ваша фамилия? — спросил он. — Уилер. Клерк написал распоряжение на маленькой карточке. — Идите вот с этим в парк и передайте мастеру. Он покажет вам, что нужно делать. Герствуд вышел, спустился с крыльца и снова очутился на улице. Он пошел в указанном направлении, а полицейские глядели ему вслед. — Еще одному охота попытать счастья! — заметил полицейский Кийли, обращаясь к полицейскому Мепси. — Я думаю, уж намнут ему шею! — спокойно отозвался его товарищ. Они уже видели немало забастовок.
Глава 41
Забастовка
Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей: там распоряжались, в сущности, всего три человека. За работой явилось много новичков, это были большей частью опустившиеся, изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Герствуд прошел сквозь депо в глубь парка и очутился на просторном огороженном дворе с целой сетью рельсовых путей и разветвлений. Здесь двигалось несколько вагонов, которыми управляли ученики под наблюдением инструкторов. Другие ученики дожидались своей очереди у задних ворот одного из огромных сараев. Герствуд молча наблюдал за этой сценой и ждал. Он мельком оглядел своих будущих коллег, хотя, в сущности, они интересовали его не больше, чем вагоны. В общем, это была не особенно приятная на вид компания. Среди них были и люди тощие, изможденные, попадались и толстяки, было и несколько жилистых субъектов с нездоровым цветом лица, побывавших, видимо, во всяких переделках. — Вы читали, что управление дорог собирается вызвать на помощь полицию? — услышал Герствуд неподалеку от себя. — И вызовут! — отозвался кто-то другой. — В подобных случаях всегда так поступают. — Вы думаете, нам грозят неприятности? — спросил штрейкбрехер, лица которого Герствуд не мог различить. — Нет, не думаю, — последовал ответ. — Этот шотландец, что отправился с последним вагоном, рассказал мне, будто ему в голову запустили куском угля, — вставил чей-то голос. В ответ послышался нервный смешок. — Одному из наших, который ездил по Пятой авеню, очень не поздоровилось, как пишут в газетах, — произнес кто-то, растягивая слова. — У него в вагоне разбили все стекла, а его самого вытащили на улицу раньше, чем подоспела полиция. — Все это верно, но сегодня дежурит больше полицейских. Герствуд слушал, не особенно вдумываясь в слова штрейкбрехеров. Все эти люди, казалось ему, были изрядно напуганы, болтали они лихорадочно и с единственной целью — успокоить собственную тревогу. Он равнодушно смотрел на курсировавшие по двору вагоны и ждал. Двое из дожидавшихся очереди подошли ближе и стали за его спиной. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. — Вы не трамвайщик? — спросил один из них. — Я? Нет, я работал на бумажной фабрике, — отозвался другой. — А я до октября работал в Ньюарке, — в тон ему сказал первый. Они понизили голоса, и Герствуд некоторое время ничего не мог разобрать. Но вскоре оба заговорили громче. — Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа. — Вот и мне тоже, — живо подхватил второй. — Найдись какая-нибудь работенка в Ньюарке, я и не подумал бы соваться сюда! — Да, подлая стала жизнь! — согласился с ним первый. — Бедняку теперь совсем некуда деваться. Хоть среди улицы околевай, и никто тебе не поможет. — Это вы правильно сказали! Я потерял место на фабрике, потому что она закрылась. Хозяева наготовили большой запас товару, а потом и прикрыли лавочку. Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак, он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать. «Бедняги!» — подумал он. И в этом слове проявилось то пренебрежение к бедным людям, которое было свойственно ему в дни его процветания. — Следующий! — крикнул один из инструкторов. — Ваша очередь, — сказал кто-то, притрагиваясь к рукаву Герствуда. Герствуд выступил вперед и поднялся на площадку вагона. Инструктор прямо приступил к делу, считая лишними всякие предварительные слова. — Вот видите эту рукоятку? — сказал он, указывая на рубильник в потолке вагона. — Она служит для включения тока. Если вы хотите осадить вагон, перекиньте ее в эту сторону. Если хотите ехать вперед, поверните ее сюда. Если вам нужно выключить ток, толкните ее на середину. Герствуд с легкой усмешкой слушал эти незамысловатые объяснения. — Вот эта ручка регулирует скорость мотора. Если повернете ее сюда, вот до этого места, у вас получится скорость шесть километров в час. До этого места — двенадцать. А если повернете до отказа — все двадцать. Герствуд спокойно слушал его. Ему и раньше нередко случалось наблюдать за работой вагоновожатых, и он нисколько не сомневался, что, немного поупражнявшись, справится с этим делом. Инструктор разъяснил ему еще некоторые подробности и затем сказал: — Теперь я отведу вагон назад. Герствуд безмятежно ждал, пока вагон не вкатился задним ходом в депо. — Запомните одно, — продолжал инструктор, — трогать с места надо потихоньку. Дайте вагону пройти на первой скорости. Большая часть новичков норовит сразу повернуть ручку до отказа. Так нельзя. Это опасно. И мотор изнашивается. Вы так не делайте, понятно? — Понятно, — сказал Герствуд. Он терпеливо ждал, а инструктор все говорил и говорил. — Ну, теперь давайте сами, — сказал он наконец. Бывший управляющий баром взялся за ручку и, как ему казалось, легонько повернул ее. Ручка подалась значительно легче, чем Герствуд ожидал. От этого вагон с такой силой рванулся вперед, что Герствуда швырнуло к двери. Сконфуженно улыбнувшись, Герствуд выпрямился, а инструктор налег на тормоз и остановил вагон. — Надо быть осторожней, — только и сказал он. Герствуд вскоре обнаружил, что регулировать скорость хода и пользоваться тормозом далеко не так просто, как он думал. Раза два он чуть было не пролетел вместе с вагоном сквозь ограду: к счастью, его вовремя выручал инструктор. Последний был вообще очень терпелив, но ни разу не улыбнулся. — Привыкайте работать обеими руками одновременно, — сказал он. — Тут надо попрактиковаться. Пробило уже час, а Герствуд все еще занимался с инструктором на передней площадке вагона. Скоро его стал мучить голод. К тому же повалил снег, и он сильно продрог. Ему дьявольски надоело гонять вагон взад и вперед по короткой колее. Наконец вагон был отведен в тупик на конце ветки. Инструктор, а следом за ним и Герствуд сошли с него. Герствуд вошел в депо, уселся на подножку вагона и достал свой скудный завтрак, завернутый в газетную бумагу. Воды поблизости не оказалось, а хлеб был довольно черствый, и все же Герствуд с наслаждением ел его. Тут было не до обеденных ритуалов. Он сидел, жуя хлеб, и наблюдал, как люди выполняют эту нудную, тяжелую работу. Она была неприятна — ужасно неприятна во всех своих стадиях. Не потому, что казалась ему унизительной, а потому, что была тяжела. «Всякому другому она тоже далась бы не легче!» — утешал он себя. Поев, Герствуд поднялся и снова стал в очередь. Предполагалось, что он будет практиковаться целый день, но большая часть времени ушла на ожидание. Настал вечер, а с ним пришел и голод. Надо было подумать о том, где провести ночь. Половина шестого… пора было бы поесть. Если отправиться домой, то ему придется потратить на это два с половиной часа: сначала идти в такой собачий холод пешком, а потом ехать. Кроме того, Герствуду было приказано явиться на работу в семь часов утра, и если бы даже он добрался домой, ему пришлось бы встать ни свет ни заря. В кармане у Герствуда было всего лишь доллар и пятнадцать центов — деньги, взятые у Керри на покупку двухнедельного запаса угля. «Наверное, здесь есть какое-нибудь место, где можно будет переночевать, — подумал Герствуд. — Где, например, ночует этот парень из Ньюарка?» Он решил спросить у кого-нибудь. Неподалеку от него у ворот депо дожидался очереди молодой паренек. Это был почти мальчик, лет двадцати, не больше, долговязый и тощий, с лицом, свидетельствовавшим о годах лишений. Стоило подкормить как следует этого юношу, и он быстро бы принял цветущий, самоуверенный вид. — Тут что-нибудь дают, если у человека нет ни гроша? — дипломатично осведомился Герствуд. Юноша повернулся и испытующе посмотрел на него. — Вы это насчет еды? — спросил он. — Да, и спать мне тоже негде. Я не могу на ночь возвращаться в Нью-Йорк. — А вы поговорите с мастером. Я думаю, он это устроит. Меня, например, он устроил. — Вот как? — Да. Я просто сказал ему, что у меня ни гроша за душой. Не могу же я добираться домой, когда живу я у черта на куличках. Герствуд ничего не сказал и только откашлялся. — Насколько я понимаю, у них тут наверху есть комната для ночлега, — продолжал молодой человек. — Не знаю, что она собой представляет, но, надо полагать, местечко дрянное. Мастер дал мне и билетик на обед. Воображаю, чем там кормят! Герствуд улыбнулся. Юноша громко рассмеялся. — Плохие шутки, а? — добавил он, тщетно ожидая услышать успокоительный ответ. — Да, пожалуй, — согласился Герствуд. — Я на вашем месте сейчас же поговорил бы с мастером, а то он еще уйдет. Герствуд последовал его совету. — Не найдется ли здесь местечка, где можно было бы переночевать? — спросил он. — Если мне возвращаться в Нью-Йорк, то, боюсь, я никак не успею вернуться… — Наверху есть несколько коек, — прервал его мастер. — Можете занять одну, если хотите. — Благодарю вас, — сказал Герствуд. Он намеревался попросить и талон на обед, но не мог улучить для этого подходящую минуту и примирился с тем, что в этот вечер придется поесть за собственный счет. «Попрошу завтра», — решил он. Герствуд закусил в дешевом ресторанчике по соседству, а так как было очень холодно и его томило одиночество, он тотчас же отправился искать указанное ему пристанище. Трамвайная компания по совету полиции решила не пускать вагонов после наступления сумерек. Помещение, где очутился Герствуд, очевидно, предназначалось для дежурных ночной смены. Тут было девять коек, два или три табурета, ящик из-под мыла и маленькая пузатая железная печка, в которой пылал огонь. Как ни рано пришел Герствуд, кто-то уже опередил его и грел у печки озябшие руки. Герствуд тоже подошел к печке и протянул руки к огню. Он пал духом от скудости и убожества всего, что связано с этой его затеей, но крепился, внушая себе, что должен выдержать до конца. — Холодно, а? — спросил человек, сидевший у огня. — Изрядно. Воцарилось продолжительное молчание. — Неважное, я бы сказал, место для ночлега. Как, по-вашему? — снова заметил человек, сидевший у печки. — Все же лучше, чем на улице, — ответил Герствуд. Снова молчание. — Пожалуй, пора и на боковую! — послышался тот же голос. Человек встал и направился к одной из коек; вскоре он растянулся на ней, сняв только башмаки, и завернулся в засаленное одеяло, а голову обмотал старым, грязным шерстяным шарфом. Это зрелище было отвратительно Герствуду, и он отвел глаза и стал смотреть в огонь, стараясь думать о другом. Вскоре он тоже решил лечь и, выбрав себе койку, стал снимать башмаки. В это время вошел знакомый ему молодой человек и, увидев Герствуда, по-видимому, захотел поговорить. — Лучше, чем ничего! — заметил он, озираясь вокруг. Герствуд решил, что эти слова не относятся непосредственно к нему, а выражают лишь удовлетворение тощего юноши, и потому промолчал. Юноша же подумал, что Герствуд не в духе, и принялся потихоньку насвистывать. Но, заметив, что кто-то уже спит, он тотчас прекратил свист и погрузился в молчание. Герствуд постарался устроиться возможно лучше: он лег не раздеваясь и загнул грязное одеяло так, чтобы оно не касалось его лица. Вскоре, однако, усталость взяла свое, и он задремал. Одеяло приятно согревало его, и он, отбросив всякую брезгливость, натянул его до подбородка и уснул. Утром его приятные сновидения нарушил топот: несколько человек двигались по холодной, безрадостной комнате. А Герствуду снилось, что он в Чикаго, в своей уютной квартирке. Джессика собиралась куда-то идти, и он, Герствуд, разговаривал с ней. Он так отчетливо видел эту сцену, что, пробудившись, был ошеломлен представившимся ему контрастом. Он приподнял голову, и горькая действительность заставила его быстро очнуться. «Пожалуй, лучше встать», — подумал он. Воды в помещении не было. Герствуд обулся и встал, расправляя застывшее тело. Его костюм был сильно помят, волосы всклокочены. — А, черт! — пробормотал он, надевая шляпу. Внизу уже пробуждалась жизнь. Герствуд нашел водопроводный кран над желобом, из которого, очевидно, поили лошадей. Но полотенца у него не было, а носовой платок был грязен со вчерашнего дня. Герствуд ограничился тем, что промыл глаза ледяной водой. Потом отправился разыскивать мастера, который оказался уже на месте. — Завтракали? — спросил тот. — Нет, — ответил Герствуд. — Тогда поторопитесь! Впрочем, у вас есть еще время. Ваш вагон не готов. Герствуд колебался. — Не можете ли вы дать мне талон в столовую? — попросил он, делая над собой огромное усилие. — Получите, — сказал мастер, протягивая талон. Герствуд позавтракал так же скудно, как обедал накануне, — кусочек жареного мяса и чашка скверного кофе — и затем вернулся в парк. — Ну вот, — сказал мастер, подзывая его пальцем, — через несколько минут можете выводить вагон! Герствуд взобрался на переднюю площадку вагона, стоявшего в полутемном депо, и стал ждать сигнала. Он волновался, но все же испытывал некоторое облегчение: что угодно, лишь бы не оставаться дольше в этом депо. Шел четвертый день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, сдавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только человек пять или шесть пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Они видели, что с каждым днем число курсирующих вагонов все возрастает, а заправилы трамвайных компаний не перестают громко кричать, что сопротивление стачечников сломлено. Это приводило бастующих в отчаяние. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. По-видимому, мирные методы борьбы шли только на пользу трамвайным магнатам. Страсти быстро разгорались, и бастующие начали нападать на вагоны, набрасываться на штрейкбрехеров, затевать побоища с полицией и разбирать рельсы. Наконец стали даже раздаваться выстрелы. Уличные бои участились, и город был наводнен полицией. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих. — Выводите вагон! — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой. Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал два звонка — сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись два дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. У дверей депо раздался звук гонга. Кондуктор снова дал два звонка, и Герствуд повернул рукоятку. Полицейские спокойно осматривались вокруг. — Здорово морозит сегодня! — пробасил полисмен, стоявший по левую руку Герствуда. — Хватит с меня и вчерашнего, — угрюмо отозвался второй. — Не хотелось бы мне иметь такую работу постоянно. — Мне тоже. Ни тот, ни другой не обращали ни малейшего внимания на Герствуда, который стоял на холодном ветру, пронизывавшем его насквозь, и вспоминал последние наставления мастера. «Ведите вагон ровным ходом, — сказал тот. — Ни в коем случае не останавливайтесь, если человек, который просит взять его, не похож на настоящего пассажира. А главное, не останавливайтесь там, где толпа». Полицейские немного помолчали, потом один из них заметил: — Наверное, последний вагон прошел благополучно: его нигде не видать. — А кто из наших был там? — спросил второй полисмен, подразумевая своих товарищей, приставленных для охраны вагоновожатого. — Шефер и Райян. Снова водворилось молчание. Вагон ровно катился по рельсам. Эта часть города была еще мало заселена, и Герствуду попадалось немного встречных. Если бы не такой сильный ветер, пожалуй, не на что было бы и жаловаться. Но его благодушному настроению пришел конец, когда доехали до поворота, которого Герствуд заранее не заметил. Он тотчас выключил ток и сильно налег на тормоз, но все же опоздал, и поворот получился неестественно быстрым. Герствуд был взволнован и хотел было сказать что-нибудь в свое оправдание, но воздержался. — Надо быть поосторожней с этими штуками! — снисходительным тоном произнес полисмен, стоявший слева. — Правильно, — стыдясь за себя, согласился Герствуд. — На этой линии много таких крутых поворотов, — вставил полисмен, стоявший справа. За углом начинался более людный район. Сперва показались один или два пешехода, потом из ворот вышел мальчик с бидоном молока. Он-то и послал вдогонку Герствуду первый нелестный эпитет. — Скэб! — крикнул он. — Скэб! Герствуд слышал, конечно, это приветствие, но постарался пропустить его мимо ушей и даже не думать о нем. Он знал, что еще неоднократно услышит это слово, а возможно, и что-нибудь похуже. Несколько поодаль, на перекрестке, стоял человек, который, увидев трамвай, замахал, требуя, чтобы он остановился. — Не обращайте на него внимания, — посоветовал один из полисменов. — Он что-то замышляет. Герствуд послушался и, достигнув перекрестка, убедился, насколько прав был полисмен. Едва человек понял, что Герствуд хочет проехать мимо, он потряс кулаком и завопил: — Ах ты, подлый трус! Группа людей, стоявших на углу, не преминула послать вслед вагону несколько сочных ругательств. Герствуд слегка нахмурился. Действительность оказывалась значительно хуже, чем он вначале предполагал. Когда они проехали еще три или четыре квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. — А! Они уже успели тут поработать, — заметил один из полицейских. — Пожалуй, у нас с ними будет крупный разговор, — сказал другой. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих. — Сойди с вагона, приятель, — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно. — Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных? Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел. — Выключи мотор! — заорал один из полисменов, высовываясь с площадки вагона. — Назад! Прочь с дороги! Не мешайте человеку делать свое дело! — Послушай, приятель, — сказал тот, который возглавлял бастующих, не обращая ни малейшего внимания на полицейского и разговаривая только с Герствудом, — мы все такие же рабочие, как и ты. Будь ты настоящим вагоновожатым и с тобой обращались бы, как с нами, тебе тоже, полагаю, было бы обидно, если бы кто-то занял твое место, не так ли? И ты бы не хотел, чтобы кто-то лишал тебя возможности добиваться своих прав. Верно, друг? — Прочь с дороги! Прочь с дороги! — грубо крикнул полисмен. — Пошли прочь отсюда! Он соскочил с площадки и, став перед толпой, стал оттеснять ее от трамвайного полотна. Второй полисмен в то же мгновение очутился рядом с ним. — Назад! Назад! — кричали оба. — Отойдите! Довольно дурить! Прочь отсюда, говорят вам! Казалось, что это гудит и волнуется маленький улей. — Нечего меня толкать, — возмущенно крикнул один из бастующих. — Я ничего дурного не делаю! — Пошел прочь отсюда! — взревел полисмен, размахивая дубинкой. — Прочь, не то я тебя сейчас по башке! Прочь, говорю! — К черту! — крикнул другой бастующий и ссилой оттолкнул полисмена, сопровождая все это крепкой бранью. Трах! Дубинка полисмена опустилась на голову рабочего. Тот часто-часто замигал, покачнулся, вскинул руки вверх и, зашатавшись, отступил. В ответ на это чей-то кулак мгновенно обрушился на затылок полицейского. Взбешенный полисмен ринулся в самую гущу толпы, яростно нанося направо и налево удары дубинкой. Ему умело помогал его собрат, который при этом поливал разъяренную толпу отборной бранью. Серьезных повреждений никто не получил, так как бастующие с изумительной ловкостью увертывались от ударов. И теперь, столпившись на тротуаре, они осыпали полисменов бранью и насмешками. — А где же кондуктор? — крикнул один из полицейских. Оглянувшись, он увидел, что тот, нервничая, стоит рядом с Герствудом. Герствуд, не столько испуганный, сколько пораженный, наблюдал за разыгравшейся на его глазах сценой. — Почему вы не сходите и не убираете камней с пути? — крикнул полицейский. — Уснули там, что ли? Собираетесь весь день простоять тут? Живо слезайте! Тяжело дыша от волнения, Герствуд соскочил на землю вместе с нервным кондуктором, хотя полисмены звали только последнего. — Смотрите поторапливайтесь! — сказал полисмен. Несмотря на холод, полисменам было очень жарко. Вид у них был свирепый. Герствуд приступил к делу: вместе с кондуктором он убирал с пути булыжник за булыжником, согреваясь работой. — Ах ты, скэб проклятый! — кричала толпа. — Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка, мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите! Эти возгласы неслись со всех сторон. Каждое замечание сопровождалось аккомпанементом брани и проклятий. — Ладно, работайте, мерзавцы! — грубо крикнул кто-то. — Делайте свое подлое дело! Из-за вас, кровопийц, и душат бедняка. — Чтоб вы подохли голодной смертью! — крикнула какая-то старая ирландка, открывая окошко и высовываясь на улицу. — И ты тоже, гад! — добавила она по адресу одного из полисменов. — Подлый убийца! Я тебе покажу бить моего сына дубинкой по голове! Гнусный, кровожадный дьявол! Ах ты!.. Полисмен сделал вид, будто ничего не слышит, и только пробормотал про себя: — Пошла ты к черту, старая ведьма! Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемый хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор дважды дернул веревку. Дзинь! Бум! В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло. — Полный ход! — крикнул один из полисменов, и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. — Этот сукин сын треснул меня по шее! — заметил один из полисменов. — Но я здорово угостил его за это по башке! — Наверно, и я оставил кой-кому память о себе! — похвастался другой полисмен. — Я, между прочим, знаю того парня, который назвал меня подлой рожей, — сказал первый. — Я еще посчитаюсь с ним! — Я сразу подумал, что будет драка, как только увидел толпу, — сказал его товарищ. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный. Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. Он совсем перестал думать о Нью-Йорке и о своей квартире. На этом пробеге по Бруклину, казалось, сосредоточились все его мысли. Вагон катился теперь по торговой части Бруклина, не встречая препятствий. Публика смотрела на разбитые стекла и на вагоновожатого не в форменной одежде. Время от времени вдогонку неслось «скэб» и тому подобное, но никто не делал попытки остановить вагон. Когда они прибыли к конечному пункту, один из полисменов вызвал по телефону свой участок и донес о случившемся. — Там и сейчас еще засада, — услышал Герствуд. — Вы бы послали кого-нибудь очистить это место! Обратный путь вагон прошел более спокойно. Правда, вслед неслись камни и брань, но прямых нападений больше не было. Герствуд облегченно вздохнул, завидев вдали трамвайный парк. — Ну, — сказал он про себя, — на первый раз все сошло благополучно. Вагон был введен в депо, и Герствуду дали передохнуть, но вскоре вызвали снова. На этот раз его сопровождала другая пара полисменов. Герствуд, теперь несколько более уверенный в себе, полным ходом гнал вагон по невзрачным улицам, не испытывая уже прежнего страха. Погода была скверная, все время сыпал снежок, и прямо в лицо бил порывистый ледяной ветер. От быстрого движения вагона стужа чувствовалась еще сильнее. Одежда Герствуда вовсе не подходила для такой работы. Он дрожал от холода, топал ногами, потирал руки, но молчал. Новизна и опасность положения несколько умерили отвращение и горечь от того, что он вынужден делать такую работу, но не настолько, чтобы прогнать уныние и тоску. «Собачья жизнь! — размышлял он. — Докатиться до такого — как это тяжело!» Только одно поддерживало в нем решимость — память об оскорблении, которое нанесла ему Керри. Не так уж он низко пал, чтобы сносить обиды! Он еще кое на что способен и может временно выдержать даже такую работу. Потом дела поправятся. Он скопит немного денег. Какой-то мальчишка запустил в него комом мерзлой земли, угодившим ему в плечо и причинившим довольно острую боль. Это особенно обозлило Герствуда. — Щенок негодный! — пробормотал он. — Он вас не поранил? — осведомился полисмен. — Нет, пустяк! На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара: — Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона! Помни, что мы боремся только за кусок хлеба, — это все, чего мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить. Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое. Так прошло утро и большая часть дня. Герствуд сделал три рейса. Обед, который он съел, был весьма скуден для такой работы, и холод все сильнее пробирал его. В конце пути он каждый раз слезал с вагона, чтобы хоть сколько-нибудь размяться и согреться, но от боли еле сдерживал стоны. Какой-то служащий парка из жалости одолжил ему теплую шапку и меховые рукавицы, и Герствуд был бесконечно благодарен ему. Во время второго послеобеденного рейса Герствуд был вынужден остановить вагон в пути, так как толпа бросила поперек дороги старый телеграфный столб. — Убрать это с пути! — одновременно закричали оба полисмена, обращаясь к толпе. — Еще чего! Ого! Убирайте сами! — неслось в ответ. Полисмены соскочили с площадки, и Герствуд собрался было последовать за ними. — Нет, вы лучше оставайтесь на месте! — крикнул ему полисмен. — Не то кто-нибудь угонит вагон. Посреди гула возбужденных голосов Герствуд вдруг услышал почти над самым ухом: — Сойди, приятель! Будь мужчиной! Нехорошо бороться против бедняков. Предоставь это богачам! Герствуд тотчас же узнал забастовщика, окликнувшего его на перекрестке, и опять сделал вид, будто ничего не слышит. — Сойди, дружище, — доброжелательным тоном повторил тот. — Нехорошо идти против всех. И лучше бы тебе совсем в это дело не вмешиваться! Вагоновожатый, очевидно, отличался философским складом ума, его голос звучал убедительно. Откуда-то на помощь первым двум появился третий полисмен и побежал к телефону вызывать подкрепление. Герствуд озирался вокруг, исполненный решимости, но вместе с тем и страха. Кто-то схватил его за рукав и попытался силой стащить с площадки вагона. — Сходи отсюда! — услышал Герствуд и в то же мгновение чуть не полетел кувырком через решетку. — Пусти! — в бешенстве крикнул он. — Я тебе покажу, скэб проклятый! — ответил какой-то молодой ирландец, вскакивая на площадку. Он нацелился кулаком Герствуду в челюсть, но тот наклонился, и удар пришелся в плечо. — Пошел вон! — крикнул полисмен, спеша на помощь Герствуду и уснащая свою речь бранью. Герствуд уже успел прийти в себя, но был бледен и дрожал всем телом. Дело принимало серьезный оборот. Люди смотрели на него полными ненависти глазами и издевались над ним. Какая-то девчонка строила ему гримасы. Решимость его начала убывать, но в это время подкатил полицейский фургон, и из него выскочил отряд полисменов. Путь был живо расчищен, и вагон мог двигаться дальше. — Ну, теперь живо! — крикнул один из полицейских, и вагон снова помчался вперед. Финал был на обратном пути, когда на расстоянии двух или трех километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Уже за несколько кварталов Герствуд увидел, что люди тащат что-то к трамвайным рельсам. — Опять они тут! — воскликнул один из полисменов. — На этот раз я им покажу! — отозвался второй, начиная терять терпение. Когда вагон подъехал ближе к тому месту, где волновалась толпа, у Герствуда подступил ком к горлу. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. — Оставьте меня в покое! — только успел он крикнуть, падая на бок. — Ах ты, паршивец! — заорал кто-то. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться. — Да перестаньте! — раздался голос полисмена. — Никто вас не трогает! Вставайте! Герствуд пришел в себя и узнал полицейских. Он чуть не падал от изнеможения. По подбородку его струилось что-то липкое. Герствуд прикоснулся рукой: пальцы окрасились красным. — Меня ранили, — растерянно произнес он, доставая носовой платок. — Ничего, ничего! — успокоил его один из полисменов. — Пустячная царапина! Мысли Герствуда прояснились, и он стал озираться по сторонам. Он находился в какой-то лавочке. Полисмены на минуту оставили его одного. Стоя у окна и вытирая подбородок, он видел свой вагон и возбужденную толпу. Вскоре подъехал один полицейский фургон, и за ним второй. В эту минуту подоспела также и карета «скорой помощи». Полиция энергично наседала на толпу и арестовывала нападавших. — Ну, выходите, если хотите попасть в свой вагон! — сказал один из полисменов, открывая дверь лавчонки и заглядывая внутрь. Герствуд неуверенно вышел. Ему было холодно, и к тому же он был очень напуган. — Где кондуктор? — спросил он. — А черт его знает, — ответил полисмен. — Здесь его, во всяком случае, нет, — добавил он. Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подыматься на площадку. В тот же миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо. — Кто стрелял? — услышал он голос полисмена. — Кто стрелял, черт возьми?! Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов; Герствуд помедлил и сошел на землю. — Нет, это уж слишком! — пробормотал он. — Ну их к черту! В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. — Уф! — произнес он, глубоко переводя дух. Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его. — Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда! — посоветовала она. Герствуд побрел домой среди слепящей глаза метели и к сумеркам добрался до переправы. Пассажиры на пароходике с нескрываемым любопытством смотрели на него. В голове Герствуда был такой сумбур, что он еле отдавал себе отчет в своих мыслях. Волшебное зрелище мелькавших среди белого вихря речных огней пропало для него. Едва пароходик причалил, Герствуд снова побрел вперед и, наконец, добрался до дому. Герствуд вошел. В квартире было натоплено, но Керри не оказалось дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина — ничего более. Он, все еще в мрачном раздумье, вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом! Герствуд сидел, задумчиво поглаживая подбородок, забыв в эту минуту даже про газеты. — Н-да! — произнес он через некоторое время, успев несколько прийти в себя. — Ну и жаркое же там заварилось дело! Слегка повернув голову, он заметил газеты и с легким вздохом взялся за «Уорлд». «Забастовка в Бруклине разрастается, — гласил один из заголовков. — Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина!» Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.Глава 42
Веяние весны.
Пустая раковина
Всякий, кто считает бруклинские приключения Герствуда ошибкой, тем не менее должен признать, что безуспешность его усилий не могла не повлиять на него отрицательно. Керри, конечно, не могла этого знать. Герствуд почти ничего не рассказал ей о том, что произошло в Бруклине, и она решила, что он отступил перед первым грубым словом, бросил все из-за пустяков. Просто он не хочет работать! Она выступала теперь в группе восточных красавиц, которых во втором акте оперетты визирь проводит парадом перед султаном, производящим смотр своему гарему. Говорить им ничего не приходилось, но как-то раз (в тот самый вечер, когда Герствуд ночевал в трамвайном парке) первый комик, будучи в игривом настроении, взглянул на ближайшую девушку и произнес густым басом, вызвавшим легкий смех в зрительном зале: — Кто ты такая? Совершенно случайно это была именно Керри, делавшая в это время низкий реверанс. На ее месте могла оказаться любая другая девушка. Первый комик не ожидал никакого ответа, но Керри набралась смелости и, присев еще ниже, ответила: — Ваша покорная слуга! В ее реплике не было ничего особенного, но что-то в ее манере понравилось публике — уж очень смешон был свирепый султан, возвышавшийся над скромной рабыней. Первый комик остался доволен ответом, тем более что от него не укрылся смех в зале. — А я думал, ты просто Смит, — изрек комик, желая продлить шутку. Керри, однако, испугалась своего поступка. Все в труппе были предупреждены, что всякая отсебятина в словах или жестах может повлечь за собою штраф, а порой даже увольнение. Но когда перед началом следующего акта Керри стояла за кулисами, известный комик, проходя мимо, узнал ее в лицо, остановился и сказал: — Можете и впредь отвечать так же. Но больше ничего не прибавляйте! — Благодарю вас, — робко ответила Керри. Когда комик ушел, она вся дрожала от волнения. — Ну, и повезло же тебе, — заметила одна из ее подруг. — У нас у всех немые роли. Против этого ничего нельзя было возразить. Каждому ясно было, что Керри сделала первый шаг к успеху. На следующий день за ту же реплику ее опять наградили аплодисментами, и она отправилась домой, ликуя и твердя себе, что эта маленькая удача должна принести какие-нибудь плоды. Но едва она увидела Герствуда, вся ее радость улетучилась, все приятные мысли испарились, и их место заняло желание положить конец этой невозможной жизни. Утром она спросила его, чем окончилась его затея. — Там теперь не решаются пускать вагоны иначе, как под управлением полисменов, — ответил ей Герствуд. — Сказали, что до будущей недели им никто не понадобится. Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела крайняя апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером — на представление, и только читал и читал. Несколько раз он ловил себя на том, что смотрит на какую-нибудь заметку, а мысли его витают где-то далеко. Впервые он заметил это, когда ему попалось описание какого-то веселого вечера в одном из чикагских клубов, к которому он в свое время принадлежал. Герствуд сидел, опустив глаза, и в ушах его раздавались давно забытые голоса и звон бокалов. «Да вы просто молодчина, Герствуд!» — услышал он слова своего друга Уокера. Воображение перенесло его в кружок ближайших друзей. Вот он стоит, отлично одетый, и с улыбкой выслушивает возгласы одобрения, которыми его награждают за хорошо рассказанный анекдот… Вдруг Герствуд поднял глаза. В комнате было так тихо, что ясно слышалось тиканье часов. Герствуд подумал, что, по всей вероятности, задремал. Но он все еще держал газету прямо перед собой и понял, что это ему не приснилось. «Как странно!» — подумал он. Когда это повторилось еще раз, он уже не удивился. Иногда к нему являлись с требованием об уплате по счету мясники, зеленщики, угольщики, булочники, постоянно менявшиеся, так как ради получения кредита Герствуд то и дело переходил из одного магазина в другой. Он любезно принимал кредиторов, всячески изворачивался, но в конце концов просто перестал открывать двери, делая вид, что в квартире никого нет. Или же выпроваживал «гостей» самым бесцеремонным образом. «Из пустого кармана ничего не выжмешь, — размышлял он. — Будь у меня деньги, я бы уплатил им». Маленький солдат рампы Лола Осборн, видя успех Керри на сцене, сделалась как бы спутником будущего светила. Она понимала, что сама никогда ничего не добьется, и поэтому инстинктивно, точно котенок, уцепилась за Керри бархатными лапками. — О, ты пойдешь в гору! — не переставала она твердить, с восхищением глядя на подругу. — Ты такая способная! Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Нежные слова мужчин перестали кружить ей голову. Она теперь знала, что мужчины могут изменяться и не оправдывать ее ожиданий. Лесть потеряла над нею всякую силу. Только умственное превосходство, превосходство благожелательного человека могло бы еще тронуть ее душу, но для этого нужен был такой человек, как Эмс. — Терпеть не могу актеров нашей труппы, — сказала она однажды Лоле. — Они все так влюблены в себя! — А ты не находишь, что мистер Баркли очень мил? — возразила Лола, которой тот накануне снисходительно улыбнулся. — О, да, он, конечно, мил, — согласилась Керри, — но он человек неискренний. Все у него напускное. Вскоре Лоле представился случай убедиться в том, что и Керри порядком привязалась к ней. — Ты платишь за квартиру там, где ты живешь? — как-то спросила Лола. — Конечно, плачу, — ответила Керри. — Почему ты меня об этом спрашиваешь? — Потому что знаю одно место, где можно дешево получить прелестную комнату с ванной. Для меня одной она слишком велика, а вот на двоих была бы как раз. И платить придется всего шесть долларов в неделю. — Где это? — спросила Керри. — На Семнадцатой улице. — Я, право, не знаю, стоит ли менять, — ответила Керри, прикидывая в то же время, что это выходило бы всего по три доллара на каждую. Подумала она и о том, что если бы ей не приходилось содержать никого, кроме самой себя, у нее оставалось бы целых семнадцать долларов в неделю. Впрочем, за этим разговором пока ничего не последовало, и все оставалось по-прежнему до того дня, когда на долю Керри выпал первый маленький успех с придуманной ею репликой. Это совпало с бруклинскими злоключениями Герствуда. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Но он вел себя подчас так странно, что Керри опасалась, как бы он не воспрепятствовал ее уходу. Чего доброго, он начнет преследовать ее и разыскивать в театре! Правда, она не верила, что он способен на такое, но все-таки как знать?.. Подобная возможность была для нее крайне неприятна, и эта мысль, естественно, сильно беспокоила ее. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. — Сколько же ты будешь получать? — был первый вопрос Лолы Осборн, услыхавшей об этой удаче. — Я и не спросила, — призналась Керри. — А ты непременно узнай. Боже! Пойми, что ты никогда ничего не добьешься, если не будешь требовать. Проси не меньше сорока долларов в неделю. — О, что ты! — воскликнула Керри. — Ну, конечно! — стояла на своем Лола. — Во всяком случае, попытайся. Керри сдалась на уговоры, но выждала некоторое время, и только, когда режиссер сказал ей, в каком туалете она должна будет выступать, она набралась духу и спросила: — А сколько я буду теперь получать? — Тридцать пять долларов, — ответил тот. Керри была так ошеломлена этим и пришла в такой восторг, что и не подумала просить больше. Она была вне себя от радости и чуть не задушила Лолу, которая, выслушав эту новость, кинулась ей на шею. — Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать, — сказала Лола. — Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей. Услышав это, Керри вздрогнула. Где же взять на них денег? У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. «Не стану платить, вот и все! — решила она, вспомнив о своих нуждах. — Мне эта квартира и не нужна вовсе. Не буду отдавать своих денег. Перееду, — и кончено!» И как раз в это время Лола еще настойчивее стала наседать на подругу. — Давай поселимся вместе, Керри! — умоляла она. — У нас будет чудесная комнатка, а стоить будет сущие пустяки. — Мне это улыбается, — откровенно призналась Керри. — Так за чем же дело стало? — воскликнула Лола. — Нам будет так весело вместе, вот увидишь! Керри задумалась. — Пожалуй, я перееду, — сказала она. — Только не сейчас. Я еще должна подумать. Мысль о свободе не оставляла ее. К тому же приближался срок уплаты за квартиру, а в самом ближайшем времени необходимо будет заказывать новые платья. Чтобы оправдать себя в собственных глазах, Керри достаточно было вспомнить о бесконечной лени Герствуда. С каждым днем он становился все молчаливее, с каждым днем все больше опускался. А Герствуд по мере приближения срока уплаты за квартиру тоже стал задумываться над тем, что комнаты стоят слишком дорого. Слишком уж его донимали кредиторы, то и дело являвшиеся за деньгами. Двадцать восемь долларов — большие деньги! «Керри тяжело столько платить, — рассуждал он. — Мы могли бы найти что-нибудь подешевле». Поглощенный этой мыслью, он сказал Керри за завтраком: — Ты не находишь, что эта квартира слишком дорога для нас? — Конечно, нахожу, — ответила Керри, не догадываясь, однако, к чему он клонит. — Мне кажется, что нам хватило бы квартиры и поменьше, — продолжал Герствуд. — Нам не нужно столько комнат. Если бы Герствуд посмотрел на нее внимательнее, он по выражению ее лица понял бы одно: она была очень встревожена тем, что он явно намерен оставаться с нею. И, предлагая ей еще более нищенскую жизнь, он, по-видимому, не видел в этом ничего недостойного. — Право, не знаю, — сказала она, сразу насторожившись. — Наверное, есть дома, где сдаются квартиры в две комнаты, этого для нас было бы вполне достаточно. Керри инстинктивно возмутилась. «Ни за что! — решила она. — Откуда взять денег на переезд? И подумать только: вечно жить с ним в двух комнатах! Нет, пока не случилось что-нибудь ужасное, лучше поскорее истратить все деньги на платья!» В тот же день Керри так и сделала. А после этого оставался один только путь. — Лола, — сказала она подруге, зайдя к ней, — я согласна переехать. — Вот славно! — воскликнула та. — Можно ли сделать это сейчас же? — спросила Керри, имея в виду комнату, о которой говорила ей девушка. — Разумеется! — заверила ее Лола. Они тотчас отправились осматривать комнату. У Керри оставалось еще десять долларов, вполне могло хватить на стол и квартиру в течение недели. Она выступит в новой роли через десять дней, а жалованье с прибавкой ей заплатят через неделю после этого. Керри внесла половину за свое новое жилище. — У меня осталось ровно столько, чтобы протянуть до конца недели, — призналась она подруге. — О, у меня есть деньги! — тотчас же вызвалась помочь ей Лола. — Займи у меня двадцать пять долларов. — Благодарю, не надо, — сказала Керри. — Я думаю, что сумею как-нибудь обернуться. Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего два дня. Теперь, когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Каждый день, наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему вечером того дня, когда она приняла решение переехать, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбою человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости, руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. Зная, что конец близок, Керри стала более внимательна к нему. — Ты бы сходил, Джордж, за банкой персикового компота, — предложила она, кладя на стол бумажку в два доллара. — Хорошо, — отозвался Герствуд и при этом с удивлением посмотрел на деньги. — И, может быть, ты найдешь хорошую спаржу, — добавила Керри. — Я приготовила бы ее к обеду. Герствуд встал, взял деньги и пошел одеваться. И снова Керри заметила, как обтрепались его вещи. Она и раньше не раз обращала внимание на его ветхую одежду, но теперь почему-то внешность Герствуда особенно бросилась ей в глаза. Может быть, он и в самом деле ничего не может сделать? Ведь в Чикаго он преуспевал. Какой он бывал оживленный и подтянутый, когда приходил на свидание в парк! Один ли он во всем виноват? Герствуд вернулся и положил на стол покупки и сдачу. — Оставь эту мелочь себе, — заметила Керри. — Нам, вероятно, понадобится еще что-нибудь. — Нет, — с своеобразной гордостью ответил Герствуд. — Держи уж ты деньги у себя. — Ну, полно, Джордж! — настаивала Керри, сильно волнуясь. — Ведь, наверное, что-то придется еще покупать. Герствуд был несколько удивлен этим, но он и не догадывался, конечно, каким жалким казался он в эту минуту Керри. Ей стоило огромных усилий сдержать дрожь в голосе. Надо заметить, что точно так же Керри отнеслась бы и ко всякому другому человеку. Вспоминая последние минуты жизни с Друэ, она всегда упрекала себя в том, что плохо обошлась с ним. Она надеялась, что никогда больше не встретится с молодым коммивояжером, но ей было стыдно за себя. Правда, ушла она от него не по своей воле. Когда Герствуд приехал к ней ночью и сообщил, что с Друэ случилось несчастье, сердце ее разрывалось от жалости, и она немедленно помчалась к нему, чтобы хоть чем-нибудь помочь. Где-то во всем этом была жестокость, но, не умея мысленно проследить, где она кроется, Керри остановилась на мысли, что Друэ никогда не узнает, какую роль сыграл тут Герствуд, и ее поступок объяснит лишь черствостью — поэтому ей было неприятно, что человек, в свое время хорошо к ней относившийся, чувствует себя обиженным ею. Она не отдавала себе отчета в том, что делает, поддаваясь подобным чувствам. А Герствуд, заметив мягкость Керри, подумал: «А все же она очень добрая по натуре». Когда Керри в тот же день пришла к Лоле, та, напевая, уже укладывала вещи. — Почему ты не переедешь сегодня же, Керри, вместе со мной? — спросила она. — Не могу, — ответила Керри. — Я перееду в пятницу. Скажи, Лола, ты не могла бы одолжить мне те двадцать пять долларов? — Конечно, — ответила Лола, доставая свою сумочку. — Мне нужно еще кое-что купить, — сказала Керри. — О, бери, пожалуйста! — воскликнула девушка, обрадовавшись возможности услужить Керри. Герствуд уже несколько дней выходил из дому только за продуктами да за газетами. Наконец ему надоело сидеть взаперти, но холодная, сырая погода продолжала удерживать его дома. В пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. — Как сегодня хорошо! — заметила она. — Правда? — отозвался Герствуд. Сразу после завтрака он надел свой лучший костюм и направился к двери. — Ты вернешься к ленчу? — спросила Керри, скрывая волнение. — Нет, — ответил Герствуд. Очутившись на улице, он направился по Седьмой авеню к северу, ему хотелось дойти до реки Гарлем. Когда-то, направляясь для переговоров в контору пивоваренного завода, он хорошо запомнил этот район города, и теперь ему интересно было посмотреть, как изменилась река и ее берега. Миновав Пятьдесят девятую улицу, Герствуд по краю Сентрал-парка дошел до Семьдесят восьмой улицы. Стали попадаться знакомые места, и Герствуд, свернув в сторону, принялся разглядывать многочисленные новые дома, выросшие здесь за последнее время. Все кругом заметно изменилось к лучшему. Огромные пустыри быстро застраивались. Вернувшись к парку, Герствуд прошел вдоль него до Сто десятой улицы, потом снова свернул на Седьмую авеню и к часу добрался до реки. Она красивой серебристой лентой змеилась перед ним среди мягких песчаных пригорков справа и высоких лесистых холмов слева. Так приятно было подышать весенним воздухом, и Герствуд, заложив руки за спину, несколько минут стоял и любовался панорамой реки. Потом он пошел по набережной, разглядывая суда. В четыре часа, когда, уже стало смеркаться и в воздухе потянуло свежестью, Герствуд решил возвращаться домой. Он проголодался и с удовольствием думал об обеде и о теплой комнате. Когда в половине шестого он добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома: за шторами не было видно света, газеты торчали в дверях, куда Их засунул почтальон. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. «Впрочем, — подумал он, — если Керри и придет сейчас, обед все равно запоздает». Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно, — все стало ясно. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке.«Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру: это мне не по средствам. Я помогла бы тебе, конечно, если б была в состоянии, но я не могу работать за двоих да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе двадцать долларов, — все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна»Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему недоставало, — маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Керри. Он переходил из комнаты в комнату, зажигая свет. С шифоньерки исчезли все безделушки. Со столов были сняты кружевные салфетки. Он открыл платяной шкаф — там ничего не оставалось из вещей Керри. Он выдвинул ящики комода — белья Керри там не было. Исчез и ее сундук. Его собственная одежда висела там же, где всегда. Все остальное тоже было на месте. Герствуд вернулся в гостиную и долго стоял, глядя в пол. Тишина давила его. Маленькая квартирка стала вдруг до ужаса пустынной. Он совсем забыл, что ему хотелось есть, что сейчас время обеда. Казалось, уже наступила поздняя ночь. Внезапно Герствуд вспомнил, что все еще держит в руке деньги. Двадцать долларов, как писала Керри. Он вышел из комнаты, не погасив света, с каждым шагом все острее ощущая пустоту квартиры. — Надо выехать отсюда! — вполголоса произнес он. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. — Бросила меня! — пробормотал он. И опять повторил: — Бросила! Уютная квартира, где он провел в тепле столько дней, стала теперь воспоминанием. Его обступило что-то жестокое и холодное. Он тяжело опустился в качалку, подпер рукой подбородок и так сидел без всяких мыслей, отдавшись одним только ощущениям. Потом его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. — Не нужно ей было уходить! — произнес он. — Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и наконец заметил вслух, словно обращаясь к кому-то: — Разве я не пытался? Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.Керри.
Глава 43
Мир начинает льстить.
Взор из мрака
Обосновавшись в своей уютной комнате, Керри думала о том, как отнесся Герствуд к ее бегству. Она наскоро разобрала вещи, а затем отправилась в театр, почти уверенная, что столкнется с ним у входа. Но Герствуда там не было, ее страх исчез, и она прониклась более теплым чувством к нему. Потом, до окончания спектакля, она совсем забыла о нем и, только выходя из театра, снова с опаской подумала, что Герствуд, возможно, поджидает ее. Но день проходил за днем, а он не давал даже знать о себе, и Керри перестала опасаться, что Герствуд станет ее беспокоить. Немного погодя она, если не считать случайных мыслей, совсем освободилась от гнетущего уныния, которое омрачало ее жизнь в прежней квартирке. Удивительно, как быстро профессия засасывает человека. Слушая болтовню Лолы, Керри многое узнала о закулисной жизни. Она уже знала, какие газеты пишут о театрах, какие из них уделяют особое внимание актрисам, и тому подобное. Она внимательно читала все, что находила в газетах, не только о труппе, в которой играла крошечную роль, но и о других театрах. Постепенно жажда известности овладела ею. Она хотела, чтобы о ней писали, как о других, и с жадностью изучала хвалебные и критические статьи о разных знаменитостях сцены. Мишурный мир, в котором она очутилась, целиком завладел ею. В то время газеты и журналы впервые начали проявлять интерес к фотографиям красивых актрис, интерес, который потом стал таким пылким. Газеты, в особенности воскресные, отводили театру большие страницы, где можно было полюбоваться лицами и телосложением театральных знаменитостей. Журналы (по крайней мере, два или три из наиболее новых) тоже время от времени помещали не только портреты хорошеньких «звезд», но и снимки отдельных сцен из нашумевших постановок. Керри с возрастающим интересом следила за этим. Появится ли когда-нибудь сцена из оперетты, в которой она играет? Найдет ли какая-нибудь газета ее фотографию достойной напечатания? В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце, среди более важных сообщений, вдруг увидела нечто такое, от чего трепет пробежал по всему ее телу.«Роль Катиш в оперетте «Жены Абдуллы», которую раньше играла Инеса Кэрью, теперь будет исполнять Керри Маденда, одна из самых способных артисток кордебалета».Керри пришла в неописуемый восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной! Она сделала над собою усилие, чтобы не рассмеяться от радости. Интересно знать, видела ли это Лола? — Тут есть заметка о роли, которую я завтра буду исполнять, — сообщила она подруге. — Неужели? Вот славно! — воскликнула Лола, подбегая к ней. — Если ты будешь хорошо играть, — добавила она, прочитав заметку, — тебе отведут в следующий раз еще больше места в газетах. Мой портрет был однажды в «Уорлде». — Ну? — удивилась Керри. — Еще бы! — гордо ответила маленькая Лола. — Даже рамкой был обведен. Керри рассмеялась. — А вот моего портрета еще ни разу не помещали, — сказала она. — Ничего, поместят! — обнадежила ее Лола. — Вот увидишь! Ты играешь лучше многих других, чьи портреты постоянно печатают. Керри была глубоко благодарна ей за эти слова. Она готова была расцеловать Лолу за ее сочувствие и похвалу. Она так нуждалась в этом, моральная поддержка была необходима ей сейчас, как хлеб насущный! Керри хорошо сыграла, и в газете опять появилось несколько строк о том, что она вполне справилась с ролью. Это доставило ей огромное удовольствие. Она стала думать, что ее уже заметили. Когда Керри получила свои первые тридцать пять долларов, они показались ей огромной суммой. Три доллара, которые она платила за комнату, были сущим пустяком. Она вернула Лоле двадцать пять долларов, и все же у нее осталось семь. Всего с остатком от прежнего заработка оказалось одиннадцать долларов. Из них она внесла пять в счет заказанных платьев. Теперь ей предстояло платить еженедельно только три доллара за комнату и пять в счет туалетов, остальное она могла тратить на еду, развлечения и на все прочее. — Я советовала бы тебе отложить кое-что на лето, — сказала ей Лола. — В мае мы, вероятно, закроемся. — Я так и сделаю, — отозвалась Керри. Регулярный доход в тридцать пять долларов для человека, который несколько лет еле сводил концы с концами, — это большие деньги. Кошелек Керри разбухал от зеленых ассигнаций. Не имея никого, о ком она должна была бы заботиться, она начала покупать себе наряды и безделушки, хорошо питалась, всячески украшала свою комнату. Вскоре, разумеется, появились и друзья. Она познакомилась с некоторыми молодыми людьми, принадлежавшими к свите Лолы, а для знакомства с актерами их труппы не требовалось ни времени, ни официального представления. Один из них увлекся Керри и несколько раз провожал ее домой. — Зайдем куда-нибудь поужинать! — предложил он ей как-то после театра. — Хорошо, — согласилась Керри. В розоватом свете ресторана, переполненного любителями полуночного веселья, Керри внимательно присмотрелась к своему спутнику. Весь он был как-то ходулен и преисполнен самомнения. Его беседа не поднималась над уровнем банальных тем: он мог говорить только о нарядах и материальном преуспеянии. Когда они вышли, он сладенько улыбнулся: — Вы, что же, пойдете прямо домой? — Да, — ответила Керри таким тоном, как будто это подразумевалось само собой. «Очевидно, она далеко не так наивна, как кажется!» — подумал актер, проникаясь к ней еще большим уважением и восхищением. Вполне естественно, что Керри, так же как и Лола, не прочь была весело проводить время. Иногда они днем ездили кататься по парку, после театра ужинали компанией в ресторане, а перед началом спектакля гуляли по Бродвею, щеголяя туалетами. Керри была вовлечена в водоворот столичных развлечений. Наконец в одном из еженедельников появился ее портрет. Для Керри это было неожиданностью, и у нее дух захватило, когда она увидела подпись: «Мисс Керри Маденда, одна из любимиц публики в оперетте «Жены Абдуллы». Следуя совету Лолы, Керри снялась у знаменитого Сарони, и репортер раздобыл один из этих ее портретов. У Керри блеснула мысль приобрести несколько номеров журнала, но она тотчас же вспомнила, что, в сущности, ей некому послать их. Во всем мире никого, кроме Лолы, не интересовал ее успех. В смысле человеческого общения столица — место холодное и неприветливое. Керри вскоре поняла, что ее небольшие деньги не принесли ей ничего. Мир богатых и знаменитых был недоступен для нее, как и прежде. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней, в сущности, никаких дружеских чувств. Все искали удовольствий для себя, нимало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Друэ. В апреле Керри узнала, что ее труппа заканчивает сезон в середине или в конце мая, в зависимости от сборов. На лето были намечены гастроли, и Керри думала о том, будет ли она приглашена. Что же касается Лолы Осборн, то с ее скромным жалованьем она легко могла найти ангажемент в самом Нью-Йорке. — Я слышала, что в «Казино» собираются летом что-то ставить, — сказала она. — Сходим туда, попытаем счастья! — Охотно, — ответила Керри. Они отправились в «Казино», и им предложили зайти еще раз шестнадцатого мая. Между тем их собственный театр закрывался пятого. — Кто хочет ехать с труппой на гастроли, должен на этой неделе подписать договор, — заявил директор. — Ни в коем случае не подписывай! — уговаривала Лола Осборн. — Я не поеду. — А если я не получу ничего другого, что же тогда? — с сомнением спросила Керри. — Что бы там ни было, я не поеду! — стояла на своем маленькая Лола, которая в случае нужды всегда могла перехватить денег у своих поклонников. — Я однажды поехала в турне, и к концу у меня не осталось ни гроша. Керри задумалась над ее словами. Она еще никогда не ездила в гастрольное турне. — Как-нибудь проживем лето, — добавила Лола. — Мне, например, до сих пор всегда удавалось продержаться. Керри не подписала договора. Директор «Казино» никогда не слыхал про Керри, но газетные заметки, которые она ему представила, произвели на него некоторое впечатление, чему еще больше способствовали портрет вжурнале и ее имя на афишах. Он дал ей немую роль с жалованьем в тридцать долларов в неделю. — Ну, что я тебе говорила? — торжествовала Лола. — Нельзя уезжать из Нью-Йорка! Как только уедешь, про тебя тотчас забудут! Керри была хорошенькой, поэтому человек, подбиравший иллюстрации для театральной страницы воскресных газет, выбрал в числе других и ее фотографию. А так как она была очень хорошенькой, то ее фотографии уделили большое место на странице и даже написали о ней несколько строк. Керри была в восторге. И все же заправилы театра ничего этого как будто не видели, ибо обращали внимания на Керри не больше, чем раньше. Роль у нее была очень маленькая. В качестве безмолвной жены квакера Керри должна была просто присутствовать в нескольких сценах. Автор комедии знал, что хорошая актриса может многое сделать с такой ролью, но, увидев, что ее предоставили какой-то начинающей, заявил, что с таким же успехом мог бы совсем вычеркнуть эту роль. — Бросьте ворчать, старина! — сказал ему режиссер. — Если в первую неделю из этого ничего не выйдет, мы выкинем роль — и делу конец! Керри понятия не имела об их тайных намерениях. Она угрюмо изучала свою немую роль, чувствуя, что ее снова оттесняют на самые задворки. На генеральной репетиции вид у нее был самый несчастный. — А знаете, не так уж плохо! — заметил автор пьесы, когда режиссер обратил его внимание на то, какое забавное впечатление производит угрюмость Керри. — Велите ей хмуриться еще больше, пока Спаркс пляшет. Керри сама не сознавала, что между бровей у нее залегла морщинка, а губы капризно надулись. — Нахмурьтесь немного, мисс Маденда! — сказал режиссер, приближаясь к ней. Керри приняла это за упрек и весело улыбнулась. — Нет, нахмурьте брови, — повторил режиссер. — Нахмурьте, как вы это делали только что! Керри смотрела на него в немом изумлении. — Я говорю вполне серьезно, — заверил ее режиссер. — Хмурьтесь! Постарайтесь придать себе самый сердитый вид, пока Спаркс танцует. Я хочу посмотреть, какое это произведет впечатление! Это не составляло никакой трудности. Керри насупила брови насколько могла. И вышло до того смешно, что даже режиссер развеселился. — Очень хорошо! Если она все время будет держать себя так, зрителям это понравится. И, приблизившись к Керри, он добавил: — Старайтесь хмуриться в продолжение всей сцены. Делайте свирепое лицо. Пусть зрителям кажется, что вы взбешены. Ваша роль тогда получится очень смешной. В вечер премьеры Керри казалось, что в ее роли нет ровно ничего интересного. Веселая, обливавшаяся потом публика во время первого действия, по-видимому, даже не заметила ее. Керри хмурилась, хмурилась, но это было ни к чему. Все взоры были устремлены на других актеров. Во втором действии, когда зрителям несколько приелся скучный диалог, они стали обводить глазами сцену и заметили Керри. Она неподвижно стояла в своем сером платье, и ее миловидное личико свирепо хмурилось. Сперва все думали, что это естественное раздражение, временно овладевшее артисткой и вовсе не предназначенное смешить публику. Но так как Керри продолжала хмуриться, переводя взгляд с одного действующего лица на другое, публика стала улыбаться. Степенные джентльмены в передних рядах решили про себя, что эта девочка — весьма лакомый кусочек. Они с удовольствием разгладили бы поцелуями ее нахмуренные брови. Сердца их устремились к ней. Она была уморительна. Наконец первый комик, распевавший на середине сцены, услышал смешки в такие минуты, когда смеха, казалось бы, вовсе не следовало ожидать. Еще смешок и еще… Когда он кончил, вместо громких аплодисментов послышались весьма сдержанные хлопки. Что это значит? Комик догадывался, что происходит что-то неладное. И вдруг, уходя со сцены, он заметил Керри. Она стояла на подмостках одна и продолжала хмуриться, а публика хохотала. «Черт возьми! Я этого не потерплю!» — решил комик. — Я не допущу, чтобы мне портили роль! Либо она прекратит этот трюк на время моей сцены, либо я ухожу!» — Помилуйте, в чем дело? — сказал режиссер, выслушав его протест. — Ведь в этом и заключается ее роль. Не обращайте на нее внимания. — Но она убивает мою роль! — Ничего подобного, она нисколько не портит вашей роли! — старался успокоить его режиссер. — Это только, так сказать, дополнительный смех. — Вы так думаете? — воскликнул комик. — А я вам говорю, что она испортила всю сцену! Я этого не потерплю! — Ладно, обождите до конца спектакля. Или лучше до завтра. Посмотрим, что можно будет сделать. Но уже следующее действие показало, что нужно сделать. Керри стала центром комедии. Чем больше зрители присматривались к ней, тем больше приходили в восторг. Все другие роли терялись в той забавной и дразнящей атмосфере, которую Керри создавала на сцене одним своим присутствием. И режиссеру и всей труппе было ясно, что она имеет большой успех. Газетные критики завершили ее триумф. Во всех газетах появились пространные хвалебные рецензии о комедии, причем имя Керри повторялось на все лады. И все единогласно подчеркивали, что ее игра вызывает заразительный смех. Один театральный критик в «Ивнинг уорлд» писал: «Мисс Маденда — одна из лучших характерных актрис, которых мы когда-либо видели на сцене «Казино». Ее игре свойствен спокойный, естественный юмор, который согревает, как хорошее вино. Ее роль, очевидно, не была задумана как главная, так как мисс Маденда мало времени проводит на сцене. Но публика с обычным для нее своеволием решила вопрос сама. Маленькая квакерша самой судьбой предназначена была в фаворитки публики с первой минуты своего появления у рампы. Не удивительно поэтому, что на ее долю выпали все аплодисменты. Капризы фортуны поистине курьезны…» Критик одной из вечерних газет в поисках ходкого каламбура закончил рецензию такими словами: «Если хотите посмеяться, взгляните, как хмурится Керри!» Влияние всего этого на карьеру Керри было чудодейственным. Уже утром она получила поздравительную записку от режиссера. «Вы покорили весь город! — писал он. — Я рад за Вас и за себя». Автор комедии тоже написал ей. Вечером, когда Керри явилась на спектакль, режиссер, ласково поздоровавшись с ней, сказал: — Мистер Стивенс (так звали автора) готовит для вас небольшую песенку, которую вы со следующей недели будете исполнять. — Но я не умею петь, — возразила Керри. — Пустяки! Стивенс говорит, что песенка очень простая и будет вам вполне по силам. — Я с удовольствием попытаюсь, — сказала Керри. — Будьте любезны зайти ко мне в кабинет до того, как начнете переодеваться, — обратился к ней директор театра. — Мне нужно поговорить с вами. — Хорошо, — сказала Керри. Когда Керри явилась к нему, он достал какую-то бумажку и сразу начал: — Видите ли, мы не хотим вас обижать. Ваш контракт в течение ближайших трех месяцев дает вам право только на тридцать долларов в неделю. Что вы скажете, если я предложу вам сто пятьдесят долларов в неделю при условии продления договора на год? — О, я согласна! — ответила Керри, едва веря своим ушам. — В таком случае подпишите. Керри увидела перед собой контракт, такой же, как и предыдущий, с разницей только в сумме жалованья и в сроке. Ее рука дрожала от волнения, когда она выводила свое имя. — Сто пятьдесят долларов в неделю! — пробормотала она, оставшись одна. Она поняла, что не может представить себе реальное значение этой огромной суммы, — да и какой миллионер смог бы? — и для нее это были лишь ослепительно сверкавшие цифры, в которых таился целый мир неисчерпаемых возможностей. А Герствуд в то время сидел в третьеразрядной гостинице на улице Бликер и читал об успехах Керри. Сперва он даже не понял, о ком собственно идет речь, но внезапно сообразил и тогда снова прочел заметку от начала и до конца. — Да, наверное, это она! — вслух произнес он. Потом он оглядел грязный вестибюль гостиницы. «Ну что ж, ей повезло!» — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло прежнее сияющее роскошью видение: огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город! Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все знаменитости, которых он когда-то знавал. — Ну что ж, и пусть, — произнес он. — Я не буду ее беспокоить. Это было непреклонное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.
Глава 44
И это не в стране чудес.
То, чего не купит золото
Когда после разговора с директором Керри вернулась за кулисы, оказалось, что ей отведена другая уборная. — Вот ваша комната, мисс Маденда! — сказал ей один из служителей. Теперь ей больше не приходилось взбираться по нескольким лестницам в крохотную каморку, которую она делила с другой актрисой. Ей была предоставлена относительно просторная и комфортабельная уборная с удобствами, каких не знала «мелкая сошка». Керри с наслаждением вздохнула. Ощущение радости было сейчас скорее чисто физическим. Вряд ли она вообще о чем-либо думала… Она отдыхала душой и телом. Мало-помалу комплименты, которые расточались по ее адресу, дали Керри почувствовать ее новое положение в труппе. Теперь уже никто не отдавал ей приказаний, ее только «просили», и притом весьма вежливо. Остальные члены труппы с завистью поглядывали на нее, когда она выходила на сцену в своем скромном платьице, которого не меняла в продолжение всего спектакля. Все те, кто раньше смотрел на нее сверху вниз, теперь своей вкрадчивой улыбкой, казалось, хотели сказать: «Ведь мы всегда были друзьями!» Один только первый комик, роль которого несколько поблекла по милости Керри, держался холодно и неприступно. Выражаясь иносказательно, он отказывался лобызать руку, нанесшую ему удар. Исполняя свою маленькую роль, Керри мало-помалу начала понимать, что аплодисменты предназначаются именно ей, и это несказанно радовало ее. Но почему-то у нее рождалось при этом смутное ощущение вины: она как будто чувствовала себя недостойной всех этих почестей. Когда товарищи по сцене вступали с ней в беседу, она сконфуженно улыбалась. Самоуверенность, апломб подмостков были чужды ей. Мысль держать себя высокомерно никогда не приходила ей в голову. Она всегда оставалась самой собой. После спектакля она вместе с Лолой уезжала домой в экипаже, который предоставила ей администрация театра. А потом настала неделя, когда она вкусила первые плоды успеха. Не беда, что она еще ни разу не держала в руках своего нового жалованья. Мир верил ей и так. Она стала получать письма и визитные карточки. Некий мистер Уизерс, о котором она понятия не имела и который бог весть откуда узнал ее адрес, с вежливыми поклонами вошел к ней в комнату. — Простите, что я осмелился вторгнуться к вам. Я хотел бы спросить, не собираетесь ли вы переменить квартиру? — Нет, я не думала об этом, — простодушно ответила Керри. — Я, видите ли, представитель «Веллингтона» — нового отеля на Бродвее. Вы, наверное, читали о нем в газетах. Керри действительно слыхала о новом отеле, особенно славившемся своим великолепным рестораном. — Так вот, — продолжал мистер Уизерс, — у нас есть сейчас несколько комфортабельных номеров, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание, если вы еще не решили, где поселиться на лето. Наш отель — совершенство во всех отношениях: горячая вода, отдельная ванна при каждом номере, образцовая прислуга, много лифтов и тому подобное. Что же касается нашего ресторана, то вы, я полагаю, слышали о нем. Керри слушала мистера Уизерса, молча смотрела на него и спрашивала себя, не принимает ли ее этот человек за миллионершу? — А какие у вас цены? — спросила она наконец. — Вот об этом я и хотел поговорить с вами по секрету, — ответил мистер Уизерс. — Наши обычные цены — от трех до пятидесяти долларов в день. — Господи! — вырвалось у Керри. — Я при всем желании не могла бы платить таких денег. — Я вас прекрасно понимаю, — ответил мистер Уизерс. — Но позвольте мне объяснить вам, как обстоит дело. Я сказал, что это наши обычные цены, но, как и всякий другой отель, «Веллингтон» имеет и особые цены. Возможно, что вы не подумали об этом, но ваше имя для нас очень много значит. — А! — вырвалось у Керри, которая начала наконец соображать, в чем дело. — Ну конечно! Репутация каждого отеля зависит от того, кто в нем живет. Известная актриса, — и он вежливо поклонился, а Керри зарделась, — привлекает к отелю внимание и — хотя вы, быть может, мне не поверите — хороших постояльцев. — Так, так! — рассеянно пробормотала Керри, взвешивая в уме своеобразное предложение гостя. — Ну вот, — продолжал мистер Уизерс, вертя в руках мягкую шляпу и постукивая по полу носком лакированного ботинка, — мы хотели бы, чтобы вы переехали к нам. Цена не должна смущать вас. Скажу больше, об этом не стоит даже говорить! На летнее время подойдет любая цена. Назовите сами цифру, которая не будет для вас обременительной. Керри хотела было прервать его, но мистер Уизерс, не дав ей вставить ни слова, продолжал: — Вы можете зайти к нам сегодня или завтра, — конечно, чем скорее, тем лучше, — и мы предоставим вам на выбор наши лучшие комнаты с окнами на улицу. — Вы очень любезны, — ответила Керри. — Я буду рада поселиться у вас, но я хотела бы платить, что следует. Я не желаю… — Пусть это вас не тревожит, — прервал ее мистер Уизерс. — Этот вопрос, уверяю вас, мы сумеем разрешить так, что вы будете вполне довольны. Три доллара в день не слишком много для вас? Ну вот, это и нас вполне удовлетворит. Вы будете вносить плату клерку в конце недели или в конце месяца, как вам удобнее, и будете получать от него расписку в том, что за комнату уплачено сполна по обычной цене. Мистер Уизерс умолк, ожидая ответа. — Так вы зайдете взглянуть на комнаты? — добавил он, видя, что Керри колеблется. — Я с удовольствием зашла бы, но сегодня утром у меня репетиция, — ответила Керри. — Я не предлагаю вам идти сейчас же, заходите, когда вам будет угодно. Может быть, сегодня во второй половине дня? — Хорошо, — согласилась Керри. Но вдруг она вспомнила про Лолу, которой не было дома. — Я совсем забыла, — сказала Керри. — У меня есть подруга, которая будет жить там, где живу я. — О, прекрасно, — любезно согласился мистер Уизерс. — Вам предоставляется решать самой, с кем вы пожелаете жить. Мы устроим все так, как вам будет угодно. Он отвесил поклон и отступил к двери. — Итак, мы можем ожидать вас около четырех? — Да, — ответила Керри. — Я сам буду в отеле и покажу вам комнаты, — сказал мистер Уизерс и вышел. После репетиции Керри рассказала об этом Лоле. — Они так и сказали? — воскликнула Лола (по ее представлениям, в «Веллингтоне» должно было быть несколько директоров). — Какая прелесть! Вот чудеса-то! Такой роскошный отель! Мы там однажды обедали с двумя шикарными кавалерами, помнишь? — Да, помню, — ответила Керри. — Трудно даже представить себе что-нибудь лучше этого отеля! — Значит, мы сегодня сходим туда перед спектаклем, — сказала Керри. Мистер Уизерс предложил им три комнаты с ванной во втором этаже. Комнаты были отделаны в шоколадных и темно-красных тонах, ковры и портьеры были под цвет обоев. Три окна выходили на суетливый Бродвей, другие три — на боковую улицу. Номер состоял из двух очаровательных спален, где стояли кровати — белая эмаль с бронзой, — такие же шифоньеры и белые стулья, отделанные оборками из лент, и гостиной, где были концертный рояль, массивная лампа с великолепным абажуром, письменный столик, несколько огромных мягких качалок, позолоченная шкатулка со всякими причудливыми мелочами и книжные полки. На стенах висели картины, на диванах были разбросаны подушки, на полу стояли скамеечки для ног, обитые коричневым плюшем. Такие комнаты обычно стоили сто долларов в неделю. — О, как чудесно! — воскликнула Лола после того, как подруги обошли комнаты. — Да, здесь удобно, — сказала Керри и, приподняв кружевную занавеску, посмотрела на кишевший народом Бродвей. Ванная была светлая и просторная — стены выложены белым кафелем, ванная мраморная, с синим бордюром и никелированными кранами, большой, сверкающий зеркалами трельяж на стене и электрические бра в трех местах. — Вас это удовлетворяет? — спросил мистер Уизерс. — Вполне, — ответила Керри. — В таком случае комнаты к вашим услугам, когда бы вы ни пожелали переехать сюда. Перед вашим уходом мы передадим вам ключи. Керри обратила внимание на устланный коврами коридор, мраморный вестибюль и эффектную приемную. Только в мечтах она рисовала себе подобную красоту и уют. — Как ты думаешь, не переехать ли нам сразу? — предложила она Лоле, улыбаясь при мысли об их скромной комнате на Семнадцатой улице. — Ну, разумеется! — сейчас же согласилась та. На следующий день их сундуки были отправлены на новую квартиру. Однажды в пятницу, когда Керри переодевалась после утреннего спектакля, к ней в уборную постучались. Она взглянула на поданную мальчиком карточку и даже вздрогнула от неожиданности. — Передайте, что я сейчас выйду, — сказала она, снова посмотрев на карточку, и тихо добавила: — Миссис Вэнс! — Ах вы плутовка! — воскликнула та при виде Керри, направлявшейся к ней навстречу через пустую сцену. — Как же это случилось? Керри весело рассмеялась. Ее бывшая приятельница не проявляла ни малейшего смущения. Можно было подумать, что только случайно они так долго не встречались. — Я и сама не знаю, — ответила Керри, снова почувствовав симпатию к этой красивой и, в сущности, доброй женщине. — Вы знаете, я увидела в воскресной газете ваш портрет и сразу узнала вас. Но ваш псевдоним совсем сбил меня с толку. Я решила, что это или вы, или женщина, удивительно похожая на вас. «Пойду и узнаю сама!» — подумала я. Никогда в жизни я не была так изумлена! Ну, как же вы поживаете? — Благодарю вас, хорошо, — ответила Керри. — А вы? — спросила она. — Очень хорошо… Но, боже, какой успех, дорогая! Какой успех! Газеты только о вас и пишут. Воображаю, как вы возгордились! Я почти боялась идти к вам. — Ах, что за вздор! — Керри даже покраснела. — Вы знаете, что я всегда рада вам. — Как бы то ни было, но я вас разыскала. Не поедете ли вы ко мне пообедать? Где вы живете? — В отеле «Веллингтон», — ответила Керри, и в голосе ее невольно зазвучали горделивые нотки. — Вот как! — воскликнула миссис Вэнс, на которую название отеля произвело должное впечатление. Миссис Вэнс тактично избегала справляться о Герствуде, о котором она не могла не подумать, находясь в обществе Керри. Она не сомневалась в том, что Керри ушла от него. Об этом нетрудно было догадаться. — Благодарю вас, но сегодня я, к сожалению, не могу, — отклонила Керри предложение приятельницы. — У меня очень мало времени. К половине восьмого я должна вернуться в театр. Но, может быть, вы пообедаете у меня? — Я была бы очень рада, но никак не могу, — ответила миссис Вэнс, с жадностью разглядывая Керри. — Я дала слово, что буду дома в шесть часов. Быстро взглянув на крохотные золотые часики, приколотые у нее на груди, она добавила: — Мне пора. Когда же вы зайдете к нам, если вообще собираетесь нас навестить? — Когда вам будет угодно, — сказала Керри. — В таком случае завтра, хорошо? Мы живем в отеле «Челси». — Опять переехали? — со смехом воскликнула Керри. — Да, представьте себе! Не могу больше полугода оставаться на одном месте. Так помните: я вас жду в половине шестого! — Хорошо, не забуду, — ответила Керри, долгим взглядом провожая приятельницу. У нее мелькнула мысль, что теперь она стоит на социальной лестнице не ниже этой женщины, а, пожалуй, даже и выше. Что-то в манерах и внимании миссис Вэнс подсказывало ей, что теперь она, Керри, может держаться покровительственно. Как и накануне, швейцар «Казино» подал Керри несколько писем. Началось это уже с первого спектакля. Керри заранее знала их содержание. Любовные записки не были новостью для артисток. Керри вспомнила, что первое такое послание она получила еще девочкой, в Колумбия-сити. А с тех пор, как она стала выступать в кордебалете, ее не переставали умолять о свиданиях, и эти письма доставляли ей и Лоле, которая тоже их получала, минуты бурного веселья. Но теперь письма стали приходить пачками. Джентльмены, накопившие большие состояния, перечисляли все свои добродетели, не исключая экипажей и породистых лошадей. Одно такое письмо гласило:«У меня миллион долларов чистоганом. Я мог бы окружить Вас какой угодно роскошью. Вы ни в чем не знали бы отказа. Я говорю об этом не потому, что желаю хвастать деньгами, а потому, что я люблю Вас и счел бы за счастье выполнять каждое Ваше желание. Только любовь побуждает меня писать Вам. Не согласитесь ли Вы уделить мне полчаса, чтобы я мог лично высказать Вам свои чувства?»Те письма, которые Керри получала, пока жила с Лолой Осборн на Семнадцатой улице, она прочитывала с большим интересом — хотя, впрочем, без всякого восторга, — чем те, которые начали поступать после ее переезда в роскошные апартаменты отеля «Веллингтон». Но даже и тут ее тщеславие — или то сознание собственных достоинств, которое в более бурном своем проявлении называется тщеславием — не было настолько пресыщено, чтобы эти письма ей наскучили. Преклонение — в любой форме — никогда не приедалось и было, конечно, приятно ей, но она прекрасно понимала разницу между своим прежним и нынешним положением. Раньше у нее не было славы и не было денег. Теперь пришло и то и другое. Раньше она не знала преклонения, никто не предлагал ей своей любви. Теперь пришло и то и другое. В чем же дело? Она улыбалась при мысли, что мужчины вдруг стали находить ее более привлекательной. Все это только делало ее более холодной и равнодушной. — Пойди-ка сюда, — сказала она Лоле. — Посмотри только, что пишет этот субъект! И, придавая голосу томность, она прочла: — «Не согласитесь ли Вы уделить мне полчаса…» Подумать только! О, как мужчины глупы! — Судя по письму, у него уйма денег, — заметила практичная Лола Осборн. — Они все этим хвастают! — возразила Керри. — Почему бы тебе не принять его? — продолжила Лола. — Отчего ж не послушать, что он хочет сказать. — Не желаю я таких встреч! — рассердилась Керри. — Очень мне он нужен! Я прекрасно знаю, что он хочет сказать. Лола уставилась на нее широко раскрытыми глазами, в которых плясали веселые огоньки. — Что же он, укусит тебя? — воскликнула она. — Ты бы только позабавилась! Но Керри покачала головой. — И странная же ты, право! — заметил маленький голубоглазый воин рампы. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Несмотря на то, что повышенного жалованья она еще не получала, весь мир, казалось, рад был открыть ей неограниченный кредит. Не имея наличных денег, она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Эти великолепные комнаты в «Веллингтоне» — они достались ей чудом! Двери элегантных апартаментов, которые занимали супруги Вэнс в отеле «Челси», всегда были для нее открыты. Мужчины посылали ей цветы и любовные письма, предлагали руку и сердце. И, однако, ее по-прежнему обуревали мечты. Она нетерпеливо дожидалась первой получки. Сто пятьдесят долларов! Сто пятьдесят долларов! Эта сумма казалась ей волшебным ключом, открывающим все двери сразу. Она заранее рисовала себе все, что купит на эти деньги. Ее воображение разыгралось беспредельно. Ей мерещились такие радости, каких никогда не было на земле. И наконец настал долгожданный день. Сто пятьдесят долларов были выплачены ей тремя ассигнациями по двадцати, шестью по десяти и шестью по пяти долларов. В общей сложности это составило довольно внушительную пачку, которую кассир передал ей с улыбкой. — Прошу вас, мисс Маденда, — сказал он. — Сто пятьдесят долларов. — Благодарю вас, — ответила Керри. Следом за нею к кассиру подошла одна из незначительных актрис, и Керри услышала, как он совсем другим тоном, почти резко спросил: — Сколько получаете? Совсем еще недавно она сама стояла вот так в очереди за своим скромным жалованьем. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда получала на сапожной фабрике четыре с половиной доллара, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь полуденного перерыва, чтобы наскоро проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в тысячу раз труднее, чем Керри ее сто пятьдесят долларов. О, теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным! Охваченная радостным трепетом, она почувствовала, что необходимо вернуться в отель пешком и подумать на свободе, что теперь делать. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, как только желания человека касаются области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что, в сущности, не может придумать применения для них. Сами по себе, как осязаемая и видимая вещь, которую можно ощупывать и рассматривать, они забавляли ее несколько дней, но это скоро прошло. Отель почти ничего не стоил ей, туалетов у нее было достаточно, а между тем через несколько дней ей снова предстояло получить сто пятьдесят долларов. Однажды к ней явился театральный критик и попросил интервью. Это был автор тех легковесных фельетонов, которые сверкают хлесткими определениями, обнаруживают остроумие журналиста и глупость знаменитостей, а, в общем, служат для забавы публики. Керри понравилась критику. Он громогласно заявил об этом, добавив, однако, что мисс Маденда, конечно, хороша, мила и весела, но ей просто повезло. Это больно задело Керри. Газета «Гералд», устраивая спектакль в пользу своего фонда для даровой раздачи льда неимущим семьям, удостоила ее приглашения выступить бесплатно в числе разных знаменитостей. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это тоже причиняло ей боль. Потом ей пришлось положить свои деньги для сохранности в банк, и наконец она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. Постепенно она начала думать, что в ее неудовлетворенности виновато летнее время. В городе не происходило ничего интересного. Все спектакли были вроде того, в котором выступала она. Богачи Пятой авеню уехали, и их особняки были заколочены. Опустела и Медисон-авеню. По Бродвею слонялись актеры в поисках ангажемента на следующий сезон. В городе все затихло, вечера же у Керри были заняты работой. Все это рождало ощущение однообразия и скуки. — Не понимаю, — сказала она однажды Лоле, когда они сидели у окна и смотрели вниз на Бродвей, — я чувствую себя такой одинокой. А ты, Лола? — Нет, — ответила Лола. — Во всяком случае, редко. Ты нигде не бываешь — вот в этом-то и беда! — А куда же я могу пойти? — возразила Керри. — О, мало ли куда! — воскликнула Лола, которая тотчас же мысленно представила себе множество развлечений в обществе веселых молодых людей. — Ты ни с кем не хочешь встречаться. — Я не хочу встречаться с людьми, которые пишут мне эти дурацкие письма, — ответила Керри. — Я знаю, что они собой представляют. — Не пойму я тебя, Керри! — сказала Лола, думая об успехе, выпавшем на долю подруги. — Ты не должна была бы скучать. Тысячи людей пожертвовали бы годами жизни, чтобы только быть на твоем месте. Керри долго молчала, глядя на проходившую мимо толпу. — Право, не знаю, — пробормотала она. Керри начала уставать от праздности.
Глава 45
Гримасы нищеты
Герствуд угрюмо сидел в дешевенькой гостинице, куда он перебрался с семьюдесятью долларами (все, что он выручил от продажи мебели), и, читая газеты, смотрел, как проходят жаркое лето и прохладная осень. Однако он далеко не равнодушно относился к тому, что деньги его тают. Платя в гостинице полдоллара в день, он наконец встревожился и переехал в еще более дешевое место, где с него брали за ночлег лишь тридцать пять центов. Теперь его денег могло хватить на более продолжительный срок. Об успехах Керри он часто читал в газетах. Ее портрет раза два появился в газете «Уорлд», а из старого номера «Гералда», случайно найденного в гостинице, он узнал о том, что мисс Керри Маденда в числе других знаменитостей сцены принимала участие в одном благотворительном спектакле. Все это вызывало у него смятенные чувства. С каждой газетной заметкой Керри, казалось, отходила от него все дальше и дальше в мир, рисовавшийся Герствуду все более великолепным и недоступным. Он видел на афишах изображение Керри, такой скромной и нежной в костюме квакерши, и не раз останавливался и мрачно всматривался в ее красивое лицо. Одежда Герствуда совсем обветшала, и весь его облик представлял разительный контраст с той Керри, какой, по его представлениям, она должна была быть теперь. Пока Керри работала в «Казино», Герствуд, как ни странно, сам того не замечая, находил в этом утешение — он не ощущал полного одиночества, хотя ему никогда и в голову не приходило искать встречи с нею. Прошел месяц-другой, а Керри все выступала в том же театре, — Герствуд привык к этому и думал, что так будет продолжаться всегда. Но в сентябре труппа отправилась в турне, и Герствуд не заметил этого. Когда у него осталось всего двадцать долларов, он переселился в ночлежный дом на Бауэри, где за пятнадцать центов постояльцам предоставлялась большая общая комната со столами, скамьями и стульями. Здесь Герствуд сидел часами и, закрыв глаза, грезил о былом. Постепенно это вошло у него в привычку. Вначале это не было похоже на забытье, он только прислушивался к отзвукам дней, проведенных в Чикаго, и чем безрадостнее становилась действительность, тем ярче и рельефнее выступало перед ним прошлое. И Герствуд не сознавал, до какой степени укоренилась в нем привычка грезить наяву, пока он однажды не заговорил вслух, обращаясь к одному из своих бывших приятелей. Ему представилось, что он стоит в роскошном баре «Фицджеральд и Мой» у дверей своего элегантного маленького кабинета и беседует с мистером Моррисоном о ценах на земельные участки в южной части Чикаго, в которые его собеседник собирался вложить большие деньги. «Что вы скажете, если я вам предложу войти со мной в компанию?» — раздался у него в ушах голос Моррисона. И Герствуд вслух произнес: — Нет, не могу. У меня все деньги вложены в дело. Движение губ заставило его очнуться. Неужели он сам с собой разговаривал? Он имел случай убедиться, что это так, когда в другой раз услышал произнесенные им самим слова. — Почему же ты не прыгаешь, дурень? — проговорил он. — Прыгай! Это был забавный анекдот, который он часто рассказывал в компании актеров. Когда Герствуд очнулся от звука собственного голоса, он все еще улыбался. Какой-то старикашка рядом с ним беспокойно заерзал и укоризненно покосился на него. Герствуд мгновенно перестал смеяться, и ему стало стыдно. Чувствуя себя неловко, он поднялся со стула и вышел на улицу. Просматривая театральные рекламы в одной из вечерних газет, Герствуд вдруг заметил, что в «Казино» идет уже другая пьеса. Он замер. Керри уехала! Он вспомнил, что лишь накануне видел афишу с ее изображением. Значит, это была старая афиша, которую еще не успели заклеить новыми! Как ни странно, но это открытие потрясло его. Он вынужден был признаться себе, что его жизнь как-то зависит от пребывания Керри в Нью-Йорке. И вот теперь ее нет! Как же это ускользнуло от него? Бог знает, когда она теперь вернется! Гонимый страхом, Герствуд вышел в грязный темноватый коридор, где его никто не видел, и пересчитал свои деньги. Оставалось всего десять долларов. Он недоумевал, чем же, собственно, пробавляются все другие обитатели ночлежки. Судя по всему, они ничего не делают. Возможно, что они просят милостыню: да, несомненно, это так и есть. Много серебряных монеток подал Герствуд таким за свою жизнь! Он видел, как люди просят на улицах. Что ж, может быть, и ему удастся сколько-нибудь собрать таким путем? Однако эта мысль ужаснула его. Он оставался в ночлежке, пока дело не дошло до последних пятидесяти центов. Рассчитывая каждый цент и урезывая себе в пище, Герствуд сильно отощал, и здоровье его пошатнулось. Прежняя полнота исчезла, и старый костюм висел на нем мешком. «Надо что-то предпринять!» — решил он и отправился бродить по городу. Так прошел еще день, и у него осталось лишь двадцать центов, — этого ему не могло хватить даже на завтрак. Призвав на помощь все свое мужество, он направился к отелю «Бродвей-Сентрал». Но, не доходя нескольких домов до отеля, Герствуд в нерешительности остановился. У подъезда, глядя на улицу, стоял величественный швейцар, Герствуд решил обратиться к нему и, быстро подойдя, остановился перед ним, прежде чем тот успел отвернуться. — Мой друг, — начал он, и в его голосе даже теперь прозвучала та снисходительность, с какою он привык обращаться к швейцарам, — не найдется ли в отеле какой-нибудь работы для меня? Швейцар невозмутимо глядел на него, не мешая ему говорить. — Я сейчас без работы и без денег, и мне во что бы то ни стало нужно найти какое-нибудь занятие. Я не стану рассказывать вам, кем я был когда-то. Но я был бы вам крайне обязан, если бы вы указали мне, как получить здесь работу. Хотя бы на несколько дней. Швейцар все так же молча смотрел на него, стараясь придать своему лицу выражение полного безразличия. Но, видя, что Герствуд собирается продолжать, он сказал: — Я ничего не могу. Справьтесь в конторе. Как ни странно, услышав этот ответ, Герствуд потерял надежду. — Простите, я думал, что вы знаете, — сказал он. Но швейцар только сердито покачал головой. Он направился в контору отеля, где случайно оказался один из управляющих. Герствуд посмотрел ему прямо в глаза. — Не могли бы вы дать мне работу, хотя бы на несколько дней? Я в таком положении, что мне надо немедленно за что-то браться. Холеный джентльмен посмотрел на него так, точно хотел сказать: «Да, судя по вашей внешности, вам можно поверить!» — Я пришел сюда потому, — нервно говорил Герствуд, — что в свое время сам управлял большим делом. Меня постигла неудача. Впрочем, я не хочу говорить об этом. Я прошу дать мне какую-нибудь работу, хотя бы на одну неделю. Управляющий заметил лихорадочный блеск в его глазах. — Каким делом вы управляли? — спросил он. — Баром Фицджеральда и Моя в Чикаго, — ответил Герствуд. — Я прослужил там пятнадцать лет. — Вот как? — удивился управляющий. — Как же случилось, что вы ушли оттуда? — Слишком уж противоречила рассказу Герствуда его внешность. — По собственной глупости, — ответил он. — Но об этом не стоит теперь говорить. Если бы вы пожелали, вы могли бы проверить мои слова. Но сейчас я остался без гроша и, поверьте мне, сегодня еще ничего не ел. Управляющий отелем почувствовал некоторый интерес к этому человеку. Он не знал, куда бы мог его пристроить, но в то же время голос Герствуда звучал так искренне, что невольно рождалось желание помочь ему. — Позовите Олсена, — распорядился управляющий. Клерк позвонил и отправил мальчика за заведующим младшим персоналом. Тот не замедлил явиться. — Олсен, — обратился к нему управляющий отелем, — не нашлось бы там на кухне какой-нибудь работы для этого человека? Мне хотелось бы помочь ему. — Право, не знаю, сэр, — ответил Олсен. — У нас весь штат заполнен. Но, если вам угодно, я постараюсь что-нибудь найти. — Хорошо, Олсен. Отведите его на кухню и скажите, чтобы Уилсон прежде всего накормил его. — Слушаю, сэр! — сказал Олсен. Герствуд последовал за ним. Как только они вышли из конторы, манеры Олсена сразу изменились. — Черт его знает, что мы с ним будем делать! — проворчал он. Герствуд ничего не сказал. К таким мелким служащим он продолжал относиться с полным пренебрежением. — Дайте этому человеку поесть, — сказал Олсен повару, когда они очутились на кухне. Повар оглядел Герствуда с головы до ног и, очевидно, прочел в его глазах что-то, говорившее о лучших временах. — Присядьте вот сюда, — вежливо предложил он. Так Герствуд обосновался в отеле «Бродвей-Сентрал». Впрочем, не надолго. Ни по своему физическому, ни по своему душевному состоянию он не подходил для черной работы. Герствуд должен был помогать истопнику. Кроме того, он делал все, что приходилось: колол дрова, перетаскивал тяжести. Швейцары и повара, истопники и клерки — все были начальством для него. К тому же его внешность не слишком располагала к себе. Он был молчалив и угрюм, и ему подсовывали самую неприятную работу. С упрямством и равнодушием отчаяния Герствуд, однако, все сносил. Он спал на чердаке отеля, ел, что ему давали, и старался сберечь те несколько долларов, которые он получал в конце каждой недели. Но состояние его здоровья было таково, что его сил не могло хватить надолго. Однажды в феврале его послали с каким-то поручением в контору крупной угольной компании. Улицы были покрыты густым слоем талого снега. Герствуд промочил ноги и вернулся, чувствуя усталость и недомогание во всем теле. На следующий день он был в крайне угнетенном состоянии и старался по возможности не двигаться, что, естественно, вызывало раздражение у тех, кто любит, чтобы другие были расторопны. После обеда потребовалось перетащить несколько ящиков, чтобы освободить место для новых припасов. Герствуду попался огромный ящик, который он никак не мог сдвинуть с места. — Ну что там еще? — крикнул швейцар. — Не можете справиться, что ли? Герствуд напрягал все силы, но в конце концов вынужден был бросить свои старания. — Нет, не могу, — слабо выговорил он. Швейцар пристально посмотрел на него и вдруг заметил, что Герствуд смертельно бледен. — Да не больны ли вы? — спросил он. — Кажется, болен, — ответил Герствуд. — Тогда вы лучше присядьте. Герствуд присел, но вскоре ему стало еще хуже. Он с трудом дотащился до своей койки на чердаке и пролежал там весь остаток дня. — Этот Уилер болен, — доложил один из официантов дежурному ночному клерку. — А что с ним такое? — Право, не знаю. У него сильный жар, — добавил он. Состоявший при отеле врач осмотрел Герствуда и сразу заявил: — Скорее отправьте его в больницу. У него воспаление легких. Через три недели опасность миновала, но только к началу мая силы Герствуда восстановились настолько, что его можно было выпустить. Тогда его выписали из больницы. Когда он снова вышел на весеннее солнышко, вид у него был самый жалкий. Куда делись былая бодрость и живость бывшего управляющего баром! От прежней его представительности не осталось и следа — бледное, исхудалое лицо, синевато-белые руки, опущенные плечи. Ему дали на дорогу мелочи, посоветовали обратиться в благотворительные учреждения. Он возвратился в ночлежку на Бауэри, ломая голову над вопросом, как жить дальше. До нищенства оставался один шаг. «А что же делать? — думал он про себя. — Не умирать же мне с голоду!» С первой просьбой о милостыне он обратился к хорошо одетому джентльмену, который только что вышел из парка Стивесант и не спеша направился по солнечной Второй авеню. Герствуд, сделав над собой огромное усилие, подошел к нему. — Не можете ли вы дать мне десять центов? — прямо приступил он к делу. — Я в таком положении, что вынужден просить. Прохожий, почти не глядя на Герствуда, запустил руку в жилетный карман и достал монету. — Получите! — сказал он. — Очень вам благодарен, — пробормотал Герствуд, но прохожий больше не обращал на него внимания. Довольный своей удачей, но испытывая в то же время жгучий стыд, Герствуд решил продолжать, поставив себе целью собрать еще двадцать пять центов. Этого ему было бы вполне достаточно. Он брел по солнечной стороне, присматриваясь к пешеходам, но прошло немало времени, прежде чем он опять встретил человека, лицо которого внушило ему должную храбрость. Однако прохожий ответил отказом. Это так потрясло Герствуда, что он целый час не решался снова попытать счастья. В третий раз ему повезло больше: он получил пять центов. И лишь после долгих усилий ему удалось собрать еще двадцать. На следующий день он принялся за то же занятие. Порою Герствуду везло, и ему кое-что подавали, но чаще он наталкивался на грубый отказ. В конце концов ему пришло в голову, что необходимо изучать физиономии прохожих, тогда можно по выражению лица определить тех, кто будет пощедрее. Конечно, останавливать людей на улице было не особенно приятно, тем более, что на глазах Герствуда одного нищего арестовали. Теперь его мучил страх, как бы и его не постигла та же участь. Но он продолжал бродить, смутно надеясь на что-то. Он испытал удовольствие, когда однажды утром снова увидел афишу, возвещавшую возвращение труппы, игравшей раньше в «Казино», и спектакль «при участии мисс Керри Маденда». Герствуд часто думал о ней в последнее время. Каким она пользуется успехом! Сколько у нее, должно быть, денег! Однако только сейчас, после на редкость неудачного дня, он решился попросить у нее помощи. Он по-настоящему изголодался и лишь потому, наконец, сказал себе: «Пойду попрошу у нее. Она не откажет мне в нескольких долларах!» Он отправился к театру «Казино» и несколько раз прошел мимо него взад и вперед, соображая, где может быть вход для актеров. Потом опустился на скамью в парке Брайант, на расстоянии квартала от театра, и стал ждать. «Не может быть, чтобы она отказала мне в небольшой помощи!» — не переставал он твердить себе. Начиная с половины седьмого Герствуд как тень маячил около входа в «Казино», стараясь слиться с толпой спешащих пешеходов и вместе с тем боясь упустить Керри. Он немного нервничал, ибо настал решительный час, но слабость и голод приглушали его нравственные муки. Наконец он увидел, что артисты постепенно начинают съезжаться, и его нервное напряжение возросло до крайности. Вдруг ему показалось, что приехала Керри. Герствуд бросилсявперед, но убедился, что ошибся. «Ну, теперь уже недолго ждать», — подумал он. Герствуд со страхом ожидал встречи с Керри и в то же время боялся, как бы она не вошла в театр с какого-нибудь другого входа, — его желудок не переставал напоминать о себе тупой болью. Один за другим проходили перед ним сотни пешеходов, почти все хорошо одетые, почти все равнодушные. Мимо проезжали экипажи, в которых сидели дамы со своими спутниками. Приближался час вечерних увеселений. Вдруг к театру подкатил экипаж, и не успел Герствуд что-либо предпринять, как кучер соскочил с козел и распахнул дверцу. Две дамы выпорхнули оттуда и тотчас же скрылись в здании театра. Герствуду показалось, что он видел Керри, но все произошло так неожиданно и красивое видение исчезло так быстро, что он не был вполне уверен. Он подождал еще некоторое время, но так как ко входу для артистов больше никто не подъезжал, да и публика, видимо, вся уже собралась, он понял, что то была Керри и больше ждать уже нет смысла. «Боже, — пробормотал он, поспешно сворачивая с улицы, кишевшей более счастливыми людьми. — Ведь должен же я раздобыть чего-нибудь поесть!» В тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, необычная фигура каждый вечер неизменно появлялась на перекрестке Двадцать шестой улицы и Бродвея, где проходит также и Пятая авеню. В это время публика обычно начинает стекаться в театры и на каждом шагу яркими огнями загораются электрические рекламы и афиши. Кэбы и кареты, сверкая желтыми глазами фонарей, катятся мимо. Парами и группами люди вливаются в густую толпу, которая движется сплошным потоком среди смеха и шуток. По Пятой авеню медленно шагают хорошо одетые джентльмены — какой-нибудь щеголь во фраке, под руку со своей дамой, клубмены, переходящие из одного клуба в другой. На противоположной стороне улицы — манящие огни ярко освещенных шикарных отелей; их кафе и бильярдные набиты довольными, нарядными, падкими до развлечений посетителями. Кругом ключом бьет ночная жизнь большого города, ищущего веселья на тысячу ладов. Странный человек, о котором идет речь, — военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, стал религиозен и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме: он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу, среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных, которые уже знали о его деятельности. Некоторое время он стоял один, равнодушно взирая на ежеминутно меняющуюся вокруг картину. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его «капитаном». Мальчишка, часто видевший этого человека на одном и том же месте, остановился поглазеть на него. Большинство прохожих не находили в нем ничего странного, кроме костюма, и принимали его за приезжего, который слоняется без дела, насвистывая удовольствия ради. Прошло полчаса, и отовсюду начали появляться какие-то таинственные фигуры. Там и сям в движущейся толпе можно было заметить бредущих без цели людей, которые с интересом проталкивались поближе. Какой-то оборванец перешел через улицу и как бы невзначай покосился на человека в плаще. Другой прошел по Пятой авеню до угла Двадцать шестой улицы, огляделся и опять заковылял прочь. Два или три явных обитателя Бауэри показались на Пятой авеню со стороны Медисон-сквер, не отваживаясь идти дальше. А военный в плаще с капюшоном все шагал, насвистывая, взад и вперед и точно ничего не замечал. Часам к девяти шум вечернего города начал стихать. Отели уже не искрились весельем. Да и воздух стал холоднее. Со всех сторон начали сползаться странные тени. Они прислушивались и приглядывались, видимо, не решаясь переступить черту некоего воображаемого круга. Было их около десятка. Но вот, вероятно, острее ощутив холод, кто-то выступил вперед. Вынырнув из сумрака Двадцать шестой улицы, он пересек Бродвей и, то и дело останавливаясь, обходным путем приблизился к человеку в плаще. В его движениях было что-то не то стыдливое, не то боязливое. Он до последнего мгновения делал вид, что у него и в мыслях нет останавливаться. И вдруг, подойдя к отставному военному, человек замер на месте. Капитан взглядом дал понять, что видит его, — в этом и заключалось все его приветствие. Новоприбывший слегка кивнул и пробормотал что-то, походившее на просьбу. Капитан просто указал ему на край тротуара. — Становись сюда, — сказал он. Теперь чары были разрушены. Не успел капитан возобновить свою короткую безмолвную прогулку, как другие фигуры, шаркая по мостовой ногами, вышли вперед. Они и вовсе не приветствовали своего предводителя, а прямо присоединились к первому пришельцу, сопя, спотыкаясь и переминаясь с ноги на ногу. — Холодно, черт возьми! — Хорошо, что хоть зима кончилась. Пестрая компания выросла до десяти человек. Некоторые уже знали друг друга и вступили в беседу. Другие держались в стороне, не желая смешиваться с остальными и все же боясь, как бы их не обошли. Эти были угрюмы, замкнуты и стояли, ни на кого не глядя. Начались было громкие разговоры, но капитан решил, что людей собралось уже достаточно, и, подойдя поближе, спросил: — Всем нужен ночлег, а? В ответ шарканье усилилось и послышалось утвердительное бормотание. — Ну, ладно, выстраивайтесь как следует! Посмотрим, что удастся сделать. У меня самого нет ни цента. Бездомные выстроились неровной, ломаной линией. Теперь при желании можно было хорошенько разглядеть каждого в отдельности. У одного, например, была деревянная нога. Поля шляп у всех обвисли. Брюки были рваные, в заплатах, пиджаки изношенные и выцветшие. При ярком свете витрин у одних лица казались высохшими и мертвенно-бледными, у других на скулах багровели зловещие пятна. У большинства была дряблая кожа, под глазами висели мешки. Несколько пешеходов, привлеченные этим зрелищем, остановились, за ними подошли другие, и вскоре собралась целая толпа любопытных. Кто-то из бездомных заговорил. — Тихо! — скомандовал капитан, водворяя молчание. Потом он обратился к толпе зрителей: — Видите ли, джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно, не могут же они лежать на улице! Мне нужно двенадцать центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне двенадцать центов? Молчание. — Ну что ж, ребята, придется подождать, пока кто-нибудь не поможет нам! Двенадцать центов не такие уж большие деньги, чтобы не нашлось охотника дать нам эту сумму. — Вот вам пятнадцать! — произнес какой-то молодой человек, глядя на отставного военного утомленными глазами. — Это все, что я могу дать. — Очень хорошо! Выходите из шеренги, — распорядился капитан. Взяв за плечо первого в ряду бездомных, он отвел его в сторонку и поставил отдельно. Затем вернулся на свое прежнее место и начал снова: — У меня осталось три цента, джентльмены! Этих людей нужно устроить на ночлег. Тут их, — он принялся считать, — один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать человек, джентльмены! Девять центов обеспечат ночлег следующему. Еще девять центов, и у бездомного будет теплая постель. Я сам пойду с ними и позабочусь о том, чтобы все было как следует. Кто даст мне еще девять центов? Кто-то из «зрителей», на этот раз человек средних лет, подал ему пять центов. — У меня есть восемь центов, — продолжал капитан. — Еще четыре цента, и у следующего в очереди будет ночлег. Джентльмены, что-то у нас вяло подвигается сегодня! У каждого из вас, наверное, есть постель, а как же быть с этими людьми? — Держите! — произнес кто-то из стоявших ближе к отставному военному и протянул ему монету. — Ну вот, теперь у меня есть на ночлег еще для двоих, да еще четыре цента лишних. Кто добавит восемь центов? — Я добавлю! — послышался чей-то голос. Проходя в этот вечер по Шестой авеню, Герствуд случайно свернул на Двадцать шестую улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порою, что он свалится от истощения. Моральное его состояние тоже было ужасно. Как ему теперь добраться до Керри? Раньше одиннадцати спектакль не кончится. И если Керри приехала в экипаже, очевидно, она так же и уедет. Придется остановить ее на улице, в самой неприятной обстановке. Хуже всего, что он был обессилен голодом; а ему предстояло ждать еще целые сутки, так как у него не хватило бы духу снова попытать счастья в этот же день. У него не было пищи и не было ночлега. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных, но, подумав сперва, что это какой-нибудь уличный проповедник или шарлатан, продающий патентованные снадобья, хотел было пройти мимо. Однако, пересекая улицу по направлению к парку на Медисон-сквер, он обратил внимание на отделившуюся от остальной толпы вереницу тех, кому уже был обеспечен ночлег. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал «своих» людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Это зрелище заинтересовало его. Что бы такое могло это значить? Герствуд подошел ближе. Капитан снова и снова повторял свою просьбу. И Герствуд, к великому своему изумлению и облегчению, услыхал: — Этим людям надо же где-то ночевать!.. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Неподвижное состояние утомляет. Герствуд скоро измучился еще больше. Ему казалось, что он вот-вот упадет, и он устало переминался с ноги на ногу. Но, наконец, пришла его очередь. Кто-то уплатил за ночлег его соседа, и тот присоединился к группе счастливчиков. Теперь Герствуд стоял первым, и капитан уже просил для него. — Двенадцать центов, джентльмены! Двенадцать центов дадут возможность этому человеку провести ночь в постели. Будь у него куда пойти, он не стоял бы здесь на холоде. Герствуд почувствовал, что к горлу его подкатил комок. Голод и слабость лишили его мужества. — Получите, — сказал какой-то неизвестный и протянул капитану монету. Тот ласково положил руку на плечо бывшему управляющему баром и сказал: — Теперь перейдите вот туда! Герствуд вздохнул с облегчением. Очевидно, мир не так уж плох, если в нем встречаются добрые люди! Остальные оборванцы были, по-видимому, такого же мнения. — Этот капитан славный малый, правда? — сказал стоявший впереди Герствуда низенький согбенный горем человек. Судя по его лицу, судьба избрала его мишенью своих наиболее злобных шуток. — Да, — безразличным тоном согласился Герствуд. — Ух! — вздохнул один из бездомных, выступая из ряда и оглядывая оставшихся. — Немало еще там, однако! — Да, — подтвердил другой. — Сегодня тут, пожалуй, набралось свыше сотни наших. — Смотрите-ка вон на того, в кэбе! — воскликнул третий. У тротуара остановился кэб, и сидевший в нем джентльмен во фраке протянул капитану ассигнацию. Тот поблагодарил его и снова подошел к линии бездомных, вытягивавших шеи вслед отъезжавшему кэбу. Толпа любопытных благоговейно застыла, провожая глазами джентльмена с бриллиантовой булавкой на груди. — Это даст ночлег еще девяти, — сказал капитан, отсчитывая несколько бездомных. — Ну-ка, отойдите туда! Итак, осталось всего семеро. Джентльмены, мне нужно двенадцать центов! Деньги поступали медленно. Толпа начала редеть — капитана теперь окружала лишь небольшая горсточка зевак. Пятая авеню опустела — на ней показывались только случайные экипажи или пешеходы. На Бродвее тоже становилось все меньше народу. Лишь изредка кто-нибудь, заметив маленькую группу, приостанавливался, подавал капитану монету и продолжал путь. Однако капитан по-прежнему был тверд и неутомим. Он продолжал говорить медленно, скупо, но с той же уверенностью в успехе, словно о неудаче не могло быть и речи. — Торопитесь, джентльмены! Я не могу оставаться здесь всю ночь! Эти люди устали и озябли. Дайте мне еще четыре цента! Через некоторое время он совсем замолчал. Ему подавали деньги, и он с каждыми двенадцатью центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Потом он опять принимался шагать взад и вперед, глядя себе под ноги. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли. Часы пробили одиннадцать. Прошло еще полчаса, и осталось лишь двое бездомных. — Поторопитесь, джентльмены! — воскликнул капитан, обращаясь к нескольким любопытным. — Восемнадцать центов обеспечат ночлег и этим двум. Восемнадцать центов! Шесть у меня есть. Дайте мне кто-нибудь восемнадцать центов! Помните, что мне самому предстоит еще идти пешком в Бруклин. А я должен сперва проводить этих людей и устроить их на ночлег. Восемнадцать центов! Никто не отзывался. Капитан несколько минут ходил взад и вперед, опустив глаза и лишь время от времени повторяя: — Джентльмены, восемнадцать центов! Казалось, эта ничтожная сумма может на долгое время оттянуть желанный конец. Герствуд едва стоял, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Но вот наконец на Пятой авеню показалась дама в капоре и шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее, дама напомнила ему о Керри и о ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый подошел к капитану. — Возьмите, пожалуйста! — сказал он. — Благодарю вас, — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: — Теперь у нас останется кое-что и на завтра! С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. — Сто тридцать семь человек! — объявил он. — Ну, ребята, стройтесь! Выправьте ряд вот здесь! Теперь уже недолго. Потерпите! Он встал во главе отряда и скомандовал: — Вперед, марш! Герствуд двинулся вместе со всеми. Извилистой линией направились они по Пятой авеню, пересекли Медисон-сквер, свернули на Двадцать третью улицу, потом пустились дальше по Третьей авеню. Запоздалые пешеходы останавливались и провожали взглядом эту странную процессию. Полисмены на углах равнодушно глядели на них и кивали вожаку, которого они уже видели не раз. Отряд дошел до Восьмой улицы, где находился ночлежный дом, по-видимому, запертый на ночь. Однако там их ждали. Бездомные остались на темной улице, а капитан вошел внутрь для переговоров. Вскоре двери открылись, и всем было предложено входить не толкаясь. Кто-то пошел вперед и стал показывать свободные комнаты во избежание задержки. С трудом взбираясь по скрипучей лестнице, Герствуд обернулся и увидел капитана. Тот все стоял и смотрел, пока не вошел последний бездомный. Лишь тогда он плотнее завернулся в плащ и скрылся во мраке. — Долго я этого не выдержу, — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной каморке и морщась от тупой боли в ногах. — Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду.Глава 46
Взбаламученные воды
Однажды вечером, вскоре по возвращении в Нью-Йорк, когда Керри кончала переодеваться после спектакля, она вдруг услышала какой-то шум за дверью. Затем раздался знакомый голос: — Ничего, ничего, не беспокойтесь! Мне нужно только повидать мисс Маденда. — Вам придется послать ей вашу карточку. — О, полно! Вот возьмите! Полдоллара перешли из рук в руки, и кто-то постучал в дверь. Керри подошла и отворила. — Ну и ну! — воскликнул Друэ. — Вот это так! Как же ты поживаешь, Керри? Я сразу узнал тебя, как только увидел на сцене. Керри невольно попятилась, ожидая, что сейчас последует весьма неприятный разговор. — Неужели ты не хочешь поздороваться? Ну и прелесть же ты! Давай же поздороваемся! Керри протянула Друэ руку и наградила его улыбкой — хотя бы за его бесконечное добродушие. Друэ стал несколько солиднее, но в общем изменился очень мало. Такой же элегантный костюм, та же коренастая фигура, то же розовое лицо. — Этот субъект у дверей не хотел впускать меня, пришлось его «подмазать». Я сразу догадался, что это ты. Какой великолепный спектакль! И как ты здорово справляешься с ролью! Впрочем, я знал, что это так будет! Я случайно проходил сегодня мимо вашего театра и решил зайти. Правда, я видел твое имя в программе, но не мог вспомнить, где я слышал его, пока не увидел тебя на сцене. И тогда меня вдруг осенило. Черт возьми! У меня даже сердце заколотилось, когда я сообразил, что это и есть то имя, под которым ты выступала там, в Чикаго. Ведь верно? — Да, — улыбаясь, подтвердила Керри, ошеломленная развязностью гостя. — Я сразу узнал тебя, — повторил Друэ. — Ну, рассказывай! Как тебе жилось это время? — Очень хорошо, — ответила Керри. Она еще не могла прийти в себя от этой внезапной атаки. — Ну, а ты как? — спросила она. — Я? Прекрасно! Я теперь постоянно живу в Нью-Йорке. — Ах, вот как? — промолвила Керри. — Да, вот уже полгода, как я здесь. Я заведую отделением нашей фирмы. — Чудесно! — Но скажи, пожалуйста, когда же ты поступила на сцену? — полюбопытствовал Друэ. — Вот уже скоро три года. — Неужели? А я впервые слышу об этом. Впрочем, я знал, что рано или поздно это случится. Помнишь, я говорил, что ты отлично играешь? Керри улыбнулась. — Да, помню, — согласилась она. — Как ты, однако, похорошела! — продолжал Друэ. — Мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так изменился к лучшему. Ты как будто выше стала! — Неужели? Что ж, возможно, что я немного выросла, — согласилась Керри. Друэ посмотрел на ее платье, потом на волосы, на которых кокетливо сидела изящная шляпа, затем заглянул ей прямо в глаза, хотя Керри всячески избегала встречаться с ним взглядом. Было очевидно, что он надеется возобновить былую дружбу немедленно и на старых началах. — Ну, — начал Друэ, видя, что Керри берется за сумочку и собирается уйти. — Я хочу, чтобы ты сегодня поужинала со мной, хорошо? Меня тут ждет один приятель, и мы пойдем втроем. — Нет, я не могу, — ответила Керри. — Во всяком случае, не сегодня. У меня завтра рано утром репетиция. — О, к черту репетицию! Пойдем поужинаем! Я постараюсь отделаться от приятеля, и мы с тобой поговорим по душам. — Нет, нет, я не могу! — стояла на своем Керри. — Ты меня и не проси, я никогда не ужинаю так поздно. — В таком случае мы просто побеседуем, — не сдавался, однако, Друэ. — Только не сегодня, — повторила Керри и покачала головой. — Мы побеседуем в другой раз. Она заметила, что по лицу его скользнула тень. Друэ начал понимать, что обстоятельства изменились. Тогда Керри подумала, что человек, который когда-то любил ее, заслуживает, пожалуй, лучшего обращения. — Приходи завтра ко мне в отель, — сказала она, стараясь смягчить свой отказ. — Ты пообедаешь у меня. Друэ просиял. — Хорошо, — сказал он. — Где же ты теперь живешь? — В отеле «Уолдорф», — ответила Керри, называя недавно построенный фешенебельный отель. — В какое время? — Ну, скажем, в три. На следующий день Друэ явился, но Керри без малейшей радости дожидалась его прихода. Однако, видя его таким же сияющим и благодушным, как всегда, она отрешилась от своих опасений за исход этого обеда. Друэ по-прежнему много болтал. — Шикарно они здесь все устроили, а? — заметил он. — Да, неплохо, — ответила Керри. Наивный эгоист, он сразу же пустился в подробное описание своей служебной карьеры. — Я в скором времени открою собственное дело, — заявил Друэ. — Я могу получить кредит на двести тысяч долларов. Керри слушала его, стараясь быть по возможности любезной и внимательной. — Скажи, — спросил вдруг Друэ, — а куда же девался Герствуд? Керри слегка покраснела. — Думаю, он где-нибудь здесь, в Нью-Йорке, — ответила она. — Впрочем, я его давно не видела. Друэ некоторое время сидел задумавшись и не произнося ни слова. Он не знал, играет ли бывший управляющей баром какую-нибудь роль в жизни Керри сейчас. Ее слова успокоили его. По-видимому, Керри, как и следовало, по его мнению, отделалась от Герствуда. — Да, — заметил он наконец, — такой поступок нельзя назвать иначе, как непоправимой ошибкой. — Какой поступок? — спросила Керри, не догадываясь, что последует за этим. — О, ты прекрасно знаешь! — ответил Друэ и сделал рукою жест, точно отстраняя всякие сомнения на этот счет. — Нет, я ничего не знаю, — настаивала Керри. — Объясни, пожалуйста, что ты хочешь сказать? — Да та история в Чикаго… Ну, помнишь, когда он уехал оттуда? — добавил Друэ. — Я, право, не знаю, о чем ты говоришь, — недоумевала Керри. Неужели этот человек мог так грубо намекать на ее бегство с Герствудом? — Вот как?.. — недоверчиво протянул Друэ. — Разве ты не знаешь, что он прихватил с собой десять тысяч долларов, когда удирал из Чикаго? — Что?! — воскликнула Керри. — Ты хочешь сказать, что он украл десять тысяч долларов? Теперь Друэ, в свою очередь, был озадачен. — Так ты этого не знала? — Разумеется, нет! — ответила Керри. — Я и понятия не имела об этом. — Гм, забавно! — произнес Друэ. — Но так оно и было, можешь не сомневаться. Все газеты писали об этом. — Сколько, ты говоришь, он взял? — спросила Керри. — Десять тысяч долларов. Впрочем, я слыхал, что большую часть денег он потом отослал назад. Керри рассеянным взглядом смотрела на роскошный ковер. Все эти годы после ее вынужденного бегства из Чикаго предстали перед ней в новом свете. Ей вспомнились сотни мелочей, подтверждавших эту историю. Она невольно подумала, что Герствуд взял деньги только ради нее. Вместо ненависти рождалась мягкая жалость. Бедняга! Какой, должно быть, ужас все время жить под гнетом совершенного проступка. А Друэ, разгоряченный вкусным обедом и вином, придя в прекраснейшее настроение, воображал, что снова начинает завоевывать расположение Керри. Правда, она теперь высоко взлетела, но все-таки ему казалось, что он сумеет войти в ее жизнь. «Ах, какая женщина! — размышлял он. — Как она хороша, как элегантна! И знаменита!» Теперь, в блеске сценической славы, на фоне роскошной обстановки отеля, Керри ему казалась еще более желанной, чем когда-либо. — Помнишь, Керри, как ты волновалась, когда выступала в любительском спектакле? — напомнил он ей. Керри улыбнулась. — Ты так играла в тот вечер — никого лучше тебя я на сцене не видел, — сентиментально вздохнул Друэ и слегка наклонился к ней. — Я думал тогда, что мы с тобой великолепно уживемся. — Напрасно ты это говоришь, — довольно холодно заметила Керри. — Неужели ты не позволишь мне сказать тебе?.. — Нет, — оборвала его Керри и встала. — К тому же мне пора собираться в театр. Придется мне покинуть тебя. Пойдем. — О, еще минутку! — просил Друэ. — Нет, я не могу, Чарли! — мягко ответила Керри. Друэ очень неохотно встал из-за стола и проводил ее к лифту. На прощание он спросил: — Когда я снова увижу тебя? — О, как-нибудь увидимся! — равнодушно отозвалась Керри. — Я пробуду здесь все лето. До свиданья! Лифтер уже открыл дверцу. — До свиданья! — откликнулся Друэ, провожая ее глазами, пока она, шурша платьем, входила в кабинку. Он печально спустился в вестибюль: недоступность Керри разожгла его прежнюю страсть. Вся веселая роскошь отеля как будто говорила только о ней, Друэ считал, что она слишком сухо обошлась с ним. А голова Керри была занята совсем иными мыслями. В тот вечер она и прошла мимо поджидавшего ее возле «Казино» Герствуда, не заметив его. На следующий вечер, подходя к театру, она столкнулась с ним лицом к лицу. Он ждал ее, еще более обессилевший, но исполненный решимости повидаться с нею, хотя бы для этого пришлось послать ей записку. И опять она не узнала Герствуда в этой жалкой, оборванной фигуре. Она даже испугалась, увидев возле себя какого-то изголодавшегося нищего. — Керри, — полушепотом произнес Герствуд, — я хотел бы сказать тебе несколько слов… Керри быстро обернулась и тотчас узнала его. И если в душе ее еще теплилось какое-то чувство к нему, то сейчас при виде этого человека оно мгновенно погасло. Но она вспомнила, что говорил ей Друэ об украденных Герствудом деньгах. — Боже! Это ты, Джордж! — воскликнула она. — Что с тобой? — Я был болен, — ответил он, — и только что вышел из больницы. Ради бога, дай мне немного денег! — Ну, конечно, — ответила Керри, и губы ее задрожали. Она с трудом сдерживала волнение. — Но что с тобой такое? — снова спросила она. Керри открыла сумочку и достала оттуда все содержимое: одну бумажку в пять и две по два доллара. — Я уже говорил тебе, что был болен, — сварливо повторил Герствуд, почти возмущаясь ее откровенной жалостью. Оказалось, что ему трудно принимать помощь из этих рук. — Возьми — вот все, что у меня при себе, — сказала Керри. — Ладно, — тихо отозвался Герствуд. — Я тебе верну когда-нибудь. Керри стояла перед ним, а вокруг прохожие оборачивались и глядели на нее. И она и Герствуд, оба чувствовали, что привлекают к себе взоры любопытных. — Все-таки почему ты мне не скажешь, что с тобой? — снова спросила она, не зная, что делать. — Где ты живешь? — У меня есть комната в ночлежном доме, — ответил он. — Нет смысла рассказывать тебе об этом. Все в порядке. Казалось, ее ласковые расспросы только озлобляли его. Он не мог простить Керри, что судьба настолько милостивее обошлась с ней. — Иди в театр, — сказал он. — Я тебе очень благодарен, но больше я никогда не буду беспокоить тебя. Керри хотела было что-то сказать, но Герствуд повернулся и устало поплелся дальше. Это видение угнетало ее в продолжение многих дней, пока воспоминание о нем постепенно не стерлось. Друэ явился снова, но Керри даже не приняла его. Его ухаживания казались ей совсем неуместными. — Меня нет дома, — сказала она доложившему о нем коридорному. Через некоторое время театр должен был отправиться на гастроли в. Лондон. Второй летний сезон в Нью-Йорке не обещал больших барышей. — Не хотите ли сделать попытку покорить Лондон? — спросил ее однажды директор. — Может случиться как раз обратное! — ответила Керри. — Мы поедем в июне, — сказал директор. Среди спешных приготовлений к отъезду Керри забыла о Герствуде. И он и Друэ, оба остались в Нью-Йорке и лишь случайно узнали об ее отъезде. Друэ как-то снова зашел к ней и, услышав, что она уехала, издал возглас разочарования. Он долго стоял в вестибюле, нервно покусывая кончики усов, и наконец пришел к естественному выводу: былого не вернуть. «Не стоит она того, чтобы из-за нее огорчаться», — решил он, но в глубине души чувствовал иное. Герствуд кое-как изворачивался все долгое лето и осень. Однажды он получил место швейцара в каком-то дансинге и прослужил там целый месяц. Потом снова начал нищенствовать, часто голодая и ночуя в парке на скамье. Несколько раз под давлением крайней нужды он обращался в благотворительные учреждения и получал там некоторую помощь. Зимою Керри вернулась в Нью-Йорк и выступала в новой пьесе, но Герствуд об этом не знал. Он несколько недель бродил по городу, прося милостыню, между тем как над его головой электрические афиши возвещали о возвращении Керри Маденда. Друэ знал, что Керри вернулась, но больше не тревожил ее. В это время в Нью-Йорк вернулся Эмс. Он добился некоторого успеха у себя на Западе и теперь намеревался открыть лабораторию в Нью-Йорке. С Керри он, конечно, встретился у миссис Вэнс, но в этой встрече не было особой теплоты. Эмс думал, что Керри все еще связана брачными узами с Герствудом, и только потом уже услышал об их разрыве. Не зная подробностей, он делал вид, что ни о чем не догадывается. Вместе с миссис Вэнс он посмотрел новую оперетту, в которой выступала Керри, и после спектакля сказал: — Напрасно она играет комедии. Мне кажется, она способна на большее. Как-то раз он снова случайно встретился с Керри у миссис Вэнс, и у них завязалась дружеская беседа. Керри, к своему удивлению, уже не ощущала в себе прежнего горячего интереса к этому человеку. Несомненно, причина была в том, что когда-то он олицетворял для нее все, к чему она стремилась, но чего не имела, но она этого не сознавала. Успех внушил ей уверенность, что теперь она живет такой жизнью, которая заслуживает одобрения мистера Эмса. Но ее маленькая, раздутая газетами слава ничего не стоила в его глазах. Он считал, что она могла добиться гораздо большего. — В конце концов вы так и не пошли в драму? — спросил Эмс, вспомнив, что Керри интересовалась когда-то именно этим видом сценического искусства. — Нет, — ответила Керри. — Пока еще нет, — добавила она, подчеркивая свои слова. Эмс посмотрел на нее так, что Керри без слов угадала его неодобрение, что побудило ее сказать: — Но я еще не оставила этой мысли. — Надеюсь, — сказал он. — Есть натуры, созданные для драмы, и вы принадлежите к их числу. Керри была изумлена тем, что он сумел так глубоко заглянуть ей в душу. Неужели он так хорошо понимает ее? — Почему вы так думаете? — спросила она. — Потому, что в вашем характере много задушевности, — ответил Эмс. Керри улыбнулась и чуть-чуть покраснела. Этот человек был так простодушно откровенен с нею, и ей снова захотелось его дружбы. Перед ней забрезжили прежние идеалы. — Право, не знаю, — задумчиво произнесла она, чрезвычайно польщенная его словами. — Я видел вас на сцене, — заметил Эмс. — Вы играете очень хорошо. — Я рада, что вам понравилось. — Очень хорошо, — повторил Эмс. — Для оперетты, конечно, — добавил он. Больше они на эту тему не говорили, так как их беседа была кем-то прервана. Но вскоре они встретились снова. Эмс сидел после обеда в углу комнаты, уставясь в пол, когда Керри вошла с какой-то другой гостьей. Годы напряженного труда наложили на его лицо печать усталости. Керри и сама не знала, что так нравилось ей в этом лице. — Почему вы уединились? — спросила она. — Слушаю музыку. — Я вас на минутку покину, — сказала спутница Керри, не видевшая в молодом изобретателе ничего интересного. Эмс посмотрел на стоявшую перед ним Керри. — Правда, красивая мелодия? — спросил он, внимательно прислушиваясь. — Да, очень, — ответила Керри, почувствовав теперь особую прелесть исполняемой вещи. — Присядьте, — предложил Эмс и придвинул ей соседнее кресло. Они безмолвно слушали некоторое время, охваченные одинаковым чувством. Музыка, как и в былые дни, сильно действовала на Керри. — Не знаю, чем это объяснить, — сказала Керри, пытаясь дать выход какому-то неизъяснимому томлению, сжимавшему ей грудь, — но под влиянием музыки у меня всегда возникает такое ощущение, точно мне хотелось бы… точно я… — Да, я вас понимаю, — прервал ее Эмс, и вдруг подумал о своеобразии этой натуры, способной так открыто выражать свои чувства. — Но грустить не надо, — добавил он. Помолчав, он заговорил как будто о другом, но его слова удивительно совпадали с их общим настроением. — В мире много такого, чего нам хотелось бы достичь. Но нельзя стремиться ко всему сразу. И что толку ломать руки из-за каждого несбывшегося желания! Музыка прекратилась, и мистер Эмс встал, словно для того, чтобы собраться с мыслями. — Почему вы не перейдете в хороший драматический театр? — спросил он. Эмс пристально смотрел на Керри, внимательно изучая ее лицо. Печаль в ее больших выразительных глазах и горькая складка в уголках рта свидетельствовали о необычайном драматическом таланте, что-то в ней говорило Эмсу, что он дает ей правильный совет. — Возможно, я так и поступлю, — ответила Керри. — Ваше место там! — уверял Эмс. — Вы думаете? — Да, я уверен. Вряд ли вы это осознаете, но в вашем лице, особенно в глазах и в линии рта есть нечто такое, что наводит меня на подобные мысли. Керри трепетала от волнения: никогда еще о ней не говорили так серьезно. На миг ее покинуло чувство тоски и одиночества. В словах этого человека была не только похвала, но критика его была благожелательной и свидетельствовала об удивительной проницательности. — Да, — задумчиво продолжал Эмс, — именно в ваших глазах и в линии рта. Я помню, что, увидев вас впервые, я сразу обратил на это внимание. Мне показалось, что вы вот-вот расплачетесь. — Как странно! — воскликнула Керри, чувствуя, как ее согревает радость. Ее сердце так жаждало моральной поддержки, именно такой. — А потом я понял, что это ваше естественное выражение, и сегодня я снова присмотрелся к вашему лицу. В глазах у вас часто мелькает какая-то тень, она еще больше подчеркивает характер вашего лица. Очевидно, это нечто таится в самой глубине ваших глаз. Керри взволнованно смотрела ему в лицо. — Но вы, возможно, и не отдаете себе отчета в этом, — добавил Эмс. Керри отвела глаза в сторону. Ей было лестно, что этот человек так говорит о ней, и хотелось быть достойной тех необыкновенных качеств, которые находил в ее чертах Эмс. Его слова открывали двери новым стремлениям. Керри много думала об этом до их следующей встречи, которая произошла лишь спустя несколько недель. И опять их беседа показала ей, как далека ее жизнь от тех мечтаний, которые владели ею перед спектаклем в Чикаго да и после долго не оставляли ее. Как случилось, что она утратила их? — Я знаю, почему вы должны иметь успех, если получите драматическую роль, — сказал Эмс. — Я наблюдал за вами и… — И…? — спросила Керри. — Видите ли, — начал он так, будто был рад, что разгадал, наконец, трудную загадку, — весь секрет в изумительной выразительности вашего лица. Примерно то же впечатление производит на нас трогательная песня или взволновавшая нас картина. Подобные вещи трогают душу, ибо удивительно точно отражают самые тонкие человеческие чувства. Керри смотрела на него, широко раскрыв глаза и не совсем понимая смысл его слов. — Люди стараются как-то выразить себя, — продолжал Эмс. — Но большинство из них не способны рассказать о своих переживаниях. Они надеются на других, на тех, у кого есть талант. Один выражает переживания этого большинства в музыке, другой — в стихах, третий — в драме. А некоторых природа наделяет таким выразительным лицом, что оно способно передать все многообразие человеческих переживаний. Вот так случилось и с вами. Эмс смотрел на Керри, стараясь взглядом передать свою мысль, и Керри поняла его. Или, по крайней мере, поняла, что природа одарила ее лицом, которое может выражать человеческую тоску и душевные порывы. Она приняла это очень близко к сердцу. — Но талант ваш налагает на вас трудные обязательства, — продолжал Эмс. — Вы получили подарок от судьбы. Здесь нет вашей, заслуги: я хочу сказать, что вы могли бы и не обладать этим даром. Вы ничем не заплатили за него. Но раз уж вы им обладаете, то должны как-то использовать его. — Как? — спросила Керри. — Я уже сказал вам, идите в драму. В вашем характере много тепла, у вас богатый, мелодичный голос. Создайте из этого что-нибудь ценное для других. Только тогда вы не растратите своих способностей. Последнего Керри не поняла, но ей было ясно, что ее успех в оперетте малого стоит. — Я вас не совсем понимаю, — сказала она. — Я хочу сказать вот что. Особенность вашей натуры отражена в ваших глазах, в линии рта, и, конечно, в особом складе вашей души. Но все это вы можете потерять, если отвернетесь от себя самой и будете жить лишь ради удовлетворения своих желаний. Глаза потускнеют, линия рта изменится, вы лишитесь сценического дарования. Вам, может быть, не верится, но это так. Природа уж позаботится об этом! Стремясь убедить Керри в правильности приводимых им доводов, Эмс вкладывал всю душу в свои слова, и речь его временами возвышалась до пафоса. Что-то в Керри вызывало в нем симпатию. Ему хотелось расшевелить ее. — Я знаю, что вы правы, — рассеянно сказала Керри, чувствуя себя немного виноватой. — На вашем месте я переменил бы жанр, — продолжал Эмс. Его слова были подобны камню, упавшему в тихую воду. Керри, покачиваясь в качалке, размышляла над ними несколько дней. — Едва ли я долго пробуду в оперетте, — как-то сказала она Лоле. — Почему? — удивилась та. — Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме. — Что это пришло тебе в голову? — Не знаю, — ответила Керри. — Я уже давно подумываю об этом. Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей — как могло казаться — жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски.Глава 47
Путь побежденных.
Эолова арфа
В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан, и Герствуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. На дверях миссии Сестер милосердия — в кирпичном жилом доме на Пятнадцатой улице — висел простой деревянный ящик пожертвований. Надпись на этом ящике гласила, что всякий, кто обратится в миссию с просьбой о помощи, может получить в полдень бесплатный обед. Это в высшей степени скромное объявление на самом деле означало широкую благотворительную деятельность. В Нью-Йорке такое количество миссий и прочих благотворительных обществ, что люди, живущие в довольстве, обычно проходят мимо подобных объявлений, не замечая их. Стоя в утренние часы на углу Шестой авеню и Пятнадцатой улицы и не зная о деятельности миссии, можно было не обратить внимания на то, как от густой толпы, снующей на этом оживленном перекрестке, каждые несколько секунд отделяется какой-нибудь потрепанный всеми ветрами, тяжело волочащий ноги представитель человеческой породы, с испитым лицом и в ветхой одежде. Чем холоднее день, тем раньше можно наблюдать эту картину. Ввиду недостатка места в миссии накормить одновременно можно было лишь двадцать пять или тридцать человек, остальные же вытягивались в длинный ряд снаружи и входили по очереди. Это зрелище, повторявшееся изо дня в день и из года в год, стало для жителей Нью-Йорка настолько привычным, что не возбуждало ни малейшего интереса. Бедняки ждали терпеливо даже в самую холодную погоду, — ждали несколько часов, чтобы их впустили. Здесь не задавали никаких вопросов и не оказывали никаких услуг. Пришедшие ели и уходили. Многие из них появлялись здесь каждый день в течение всей зимы. В дверях стояла рослая матрона, следившая за очередью и отсчитывавшая тех, кого можно было пропустить. Люди продвигались вперед в строгом порядке. Никто не торопился и не суетился. Это было похоже на шествие немых. Людей, ожидающих обеда, можно было застать здесь в самую лютую стужу. Под порывами ледяного ветра горемыки хлопали в ладоши и приплясывали, их лица имели такой вид, точно их жестоко пощипал мороз. Присмотревшись к этим людям при ярком свете дня, можно было заметить, до чего они все похожи друг на друга. Они принадлежали к тем бездомным, которые коротают дни на садовых скамейках, а летом и ночуют там же. Они бывали в ночлежках на Бауэри и бродили по тем неказистым улицам восточной части города, где лохмотья и изможденное лицо никого не удивляют. Скверная еда, не вовремя и с жадностью поглощаемая, разрыхлила их кости и мышцы. Все они были бледны, дряблы, с ввалившимися, лихорадочно блестевшими глазами, впалой грудью и болезненно-красными губами. Их волосы были взъерошены, уши побелели, стоптанные башмаки потрескались. Это были люди, беспомощно плывшие по течению, и каждая людская волна выбрасывала все новых, подобно тому, как буря выбрасывает на берег мелкие щепки. Уже почти четверть века в другой части города пекарь Флейшман давал булку каждому, кто приходил за ней в полночь к задней двери его магазина на углу Бродвея и Десятой улицы. Каждую ночь в течение двадцати лет человек около трехсот выстраивались в очередь: в определенный час дверь открывалась, голодные, проходя мимо, брали из огромной корзины булку и скрывались во мраке ночи. Состав и число этих людей почти не менялись. Лица многих из них уже запомнились тем, кто из года в год наблюдал за этой процессией. Тут было двое таких, которые за пятнадцать лет не пропустили ни одной ночи, и около сорока более или менее постоянных посетителей. Во время кризиса и необычайных трудностей в очереди редко собиралось более трехсот человек. Во время процветания, когда о безработных почти и не слыхали, у булочной выстраивалось такое же количество народу. Зимою и летом, в бурю и в хорошую погоду приблизительно те же триста человек назначали друг другу печальные свидания у хлебной корзины Флейшмана. Герствуд стал частым гостем в этих очередях. Однажды выдался особенно холодный день, и он долго и безрезультатно просил милостыню на улицах, а под конец отправился в приют Сестер милосердия. Уже в одиннадцать часов туда приплелось несколько подобных ему бедняков. Ветер трепал их ветхую одежду. Придя пораньше, чтобы попасть в столовую первыми, они ждали, прислонившись к железным перилам перед зданием арсенала Девятого полка, выходящим на Пятнадцатую улицу. До открытия оставался еще целый час, и голодные держались на некотором расстоянии от входа. Но так как прибывали все новые, те, кто пришел раньше, желая закрепить за собой право первенства, начали придвигаться ближе к двери. К этому сборищу Герствуд присоединился со стороны Седьмой авеню и стал возле самых дверей. Те, кто явился до него, подошли ближе и своим поведением, не произнося ни слова, дали ему понять, что они первые. Получив отпор, Герствуд угрюмо оглядел очередь и пошел занимать место в самом хвосте. Когда порядок был восстановлен, чувство враждебности рассеялось. — Должно быть, двенадцать уже скоро? — спросил один. — Наверное, — ответил другой. — Я жду тут больше часу. — Черт возьми, холодно! Они жадно смотрели надверь, в которую все должны были скоро войти. Вот подъехал бакалейщик и внес в дом корзины со съестными припасами. Это вызвало несколько ленивых замечаний насчет цен на продукты. — Мясо-то дорожает! — заметил кто-то. — А случись война — что было бы? Очередь все росла. Набралось уже больше пятидесяти человек, и стоявшие впереди явно были довольны, что им не придется ждать так долго, как другим. Они оборачивались, пытаясь разглядеть конец очереди. — Неважно, какой ты по счету, лишь бы попасть в число двадцати пяти, — пояснил Герствуду один из этих счастливцев. — Все входят вместе. — Гм! — пробормотал Герствуд, которого так безжалостно прогнали в конец очереди. — Единый земельный налог, вот что нужно, — сказал другой. — Без этого порядку не будет. Большинство бедняков стояли молча. Исхудалые, оборванные, они переступали с ноги на ногу, посматривали на дверь и хлопали руками, чтобы немного согреться. Наконец дверь отворилась, и показалась рослая, полная сестра. Она следила за порядком. Очередь поползла вперед, люди входили один за другим, пока не набралось двадцати пяти человек. Тогда сестра протянула мощную руку, и очередь остановилась. Шесть человек оставалось на ступеньках, и среди них — бывший управляющий баром. В ожидании обеда одни разговаривали, другие жаловались на свою горькую судьбу, а некоторые, как Герствуд, угрюмо молчали. Наконец впустили и его. Он поел, но ушел обозленный тем, что кусок хлеба доставался таким мучительным путем. Недели две спустя он стоял в полуночной очереди у магазина Флейшмана и терпеливо ждал выдачи хлеба. Это был неудачный для Герствуда день, но теперь он относился к своему положению философски. Когда ему не удавалось добыть чего-нибудь на ужин и его мучил голод, он мог прийти сюда. За несколько минут до двенадцати из магазина вынесли огромную корзину с хлебом, и в полночь, минута в минуту, полный, круглый булочник стал у дверей и крикнул: — Подходи! Очередь тотчас двинулась вперед. Каждый брал булку и уходил. На этот раз Герствуд съел свой хлеб еще на ходу, пока, еле волоча ноги, брел по темным улицам к месту своего ночлега. Когда наступил январь, Герствуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. Несколько раз, когда судьба трепала его особенно жестоко, он уже подумывал, что пора положить всему конец. Но лишь только прояснялась погода или случалось раздобыть десять, а то и двадцать пять центов, настроение Герствуда менялось. Тогда он говорил себе, что еще поживет. Каждый день Герствуд поднимал брошенную кем-нибудь газету и просматривал ее, надеясь узнать что-нибудь о Керри. Но прошли лето и осень, а он все еще не нашел ее следов. Потом он стал замечать, что у него побаливают глаза. Боль быстро усиливалась, и он уже не пытался читать в полутемных комнатах ночлежки. Плохое питание расшатало весь его организм: оставалось только одно — спать, когда была возможность найти пристанище. Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать — все от него отшатывались. — Не поможете ли вы мне, сэр? — сделал он последнюю попытку. — Я умираю с голоду. — А ну тебя! Пошел прочь! — ответил прохожий. — Стану я помогать всякому отребью! Герствуд засунул в карманы покрасневшие от холода руки. Слезы выступили у него на глазах. «Это верно, — сказал он себе. — Я теперь отребье! Когда-то я чего-то стоил. Тогда у меня были деньги. Что ж, пора это кончать!» И с мыслью о смерти он направился к Бауэри. «Сколько людей лишали себя жизни, — думал он. — Стоит лишь открыть газ — и все кончено. Что мешает и мне так поступить?» Ему вспомнился ночлежный дом, где за пятнадцать центов сдавались отдельные комнатки-клетушки с газовыми рожками. Казалось, они самой судьбой предназначены были для той цели, которую он поставил перед собой. Но вдруг Герствуд вспомнил, что у него нет пятнадцати центов. По дороге ему попался упитанный, чисто выбритый джентльмен, который только что вышел из парикмахерской. — Сэр, будьте так добры, подайте мне что-нибудь, — обратился к нему Герствуд. Джентльмен оглядел его с головы до ног и стал рыться в кармане в поисках монетки в десять центов. Но там оказались только монеты по пятнадцать центов. — Возьми, — сказал он, чтобы отделаться от попрошайки, — и проваливай! Герствуд задумчиво продолжал свой путь. Вид большой блестящей монеты доставил ему удовольствие. Он вспомнил, что с утра ничего не ел, а ночлег можно было найти и за десять центов. Мысль о смерти временно отступила на задний план. Лишь в те дни, когда он не встречал ничего, кроме оскорблений, смерть казалась ему заманчивой. Однажды в середине зимы ударили лютые морозы. Первый день был серый и холодный, на второй повалил снег. Герствуду не везло: ему удалось раздобыть только десять центов, которые он истратил на еду. Вечером он очутился на бульваре у Шестьдесят седьмой улицы и оттуда повернул в сторону Бауэри. Днем какая-то непонятная жажда скитаний гнала Герствуда все вперед, и он так устал, что теперь едва волочил ноги, шаркая мокрыми подошвами. Он поднял воротник старого пиджака, на голове у него был какой-то потрескавшийся котелок, нахлобученный так низко, что оттопыривались красные уши, а руки он засунул глубоко в карманы. «Надо сходить на Бродвей!» — почему-то решил он. Близ Сорок второй улицы уже ярко пылали электрические рекламы. Толпы людей спешили в рестораны. Сквозь ярко освещенные окна роскошных кафе видны были веселые компании. Повсюду мчались экипажи и переполненные вагоны трамвая. Лучше бы ему, усталому и голодному, не приходить сюда. Слишком уж разителен был контраст. Даже в его затуманенной памяти встали видения лучших дней. «К чему тянуть еще? — пронеслось у него в голове. — Я человек конченый. Довольно!» Люди оборачивались и дивились его необычайно жалкому и грязному виду. Полисмены провожали его взглядами, следя за тем, чтобы он не приставал к прохожим. Случайно и бессознательно он остановился у окна большого ресторана с ярко светящейся вывеской. За зеркальным стеклом виднелись пальмы, белоснежные скатерти, сверкающие серебро и хрусталь. И за столиками — веселая толпа. Как ни ослабел рассудок Герствуда, голод все же сильно давал себя знать. Бедняга застыл на месте; бахрома его рваных брюк впитывала в себя грязь с панели. — Ешьте! — пробормотал он. — Правильно: ешьте! Другим не нужно! Затем его голос упал до шепота, и он пробормотал, уже забыв то, о чем только что думал: — Здорово холодно! Дьявольски холодно! На углу Бродвея и Тридцать девятой улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова: «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу, шмыгая носом и передергивая плечом, как будто оно у него чесалось. Он был так измучен, что плохо соображал. — Это ты! — произнес он наконец, обращаясь к изображению. — Я был недостаточно хорош для тебя, а? Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. — У нее денег сколько угодно, — продолжал он. — Пусть она и мне даст немного! Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. Вход для артистов! Вот что ему нужно! Он подошел к двери и открыл ее. — Тебе чего? — окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места; тогда швейцар стал его выталкивать. — Пошел вон отсюда! — Я хочу видеть мисс Маденда, — сказал Герствуд. — Вот как? — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. — Убирайся-ка отсюда поскорей! Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. — Я хочу видеть мисс Маденда, — пытался он объяснить, пока его выталкивали. — Я ничего… Я… Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал. — Собака! — бессильно бранился он, стряхивая снег с продранного рукава. — Грубиян проклятый… Я… у меня когда-то такие, как ты, служили… Внезапно в нем вспыхнула бешеная злоба против Керри — вспыхнула и тотчас погасла в хаосе сбивчивых мыслей. — Она должна дать мне денег, чтобы я мог поесть! — произнес он. — Она обязана это сделать. С безнадежным видом поплелся он по Бродвею, плаксиво прося по дороге милостыню и каждый раз забывая, о чем он только что думал. Несколько дней спустя, в студеный зимний вечер в ослабевшем мозгу Герствуда определилось твердое решение. Уже с четырех часов над городом стала сгущаться мрачная мгла ночи. Падал густой снег — колючий, хлещущий, подгоняемый быстрым ветром. Улицы на шесть дюймов покрылись холодным, мягким ковром, который вскоре конские копыта и ноги пешеходов взбили в рыхлую бурую массу. На Бродвее шагали люди в теплых пальто и под зонтами. На Бауэри люди плелись с поднятыми воротниками, в шляпах, надвинутых на уши. По первой из этих артерий города дельцы и приезжие спешили в уютные отели. По второй — озябшие толпы двигались мимо грязных лавок, в глубине которых уже горели тусклые лампы. На трамвайных вагонах рано зажглись фонари, а обычные лязг и грохот колес ослаблялись приставшим к ним снегом. Весь город закутался в толстую белую мантию. А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах в отеле «Уолдорф» и читала «Отец Горио». Это произведение Бальзака рекомендовал ей Эмс. Роман был написан так сильно и рекомендация Эмса так много значила для нее, что Керри с огромным интересом поглощала страницу за страницей. Впервые она начала понимать, какой вздор она читала до сих пор. Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой авеню. — Какая скверная погода! — обратилась она к Лоле. — Ужасная! — ответила маленькая Лола. — Надеюсь, что снегу навалит достаточно, тогда можно будет хоть на санях покататься. — Ох, Лола! — воскликнула Керри, в памяти которой еще свежи были страдания отца Горио. — Ты только о пустяках и думаешь! А тебе не жалко тех, у кого нет ночлега в такую ночь? — Конечно, жаль, — ответила Лола. — Но что я могу сделать? У меня и у самой ничего нет. Керри улыбнулась. — Тебя мало трогала бы чужая нужда, будь ты даже богата. — Ошибаешься, — сказала Лола. — Но когда я была в нужде, мне никто ничем не помогал. — Это ужасно! — снова сказала Керри, глядя из окна на разыгравшуюся метель. — Посмотри-ка на этого чудака! — смеясь, воскликнула Лола, указывая на поскользнувшегося прохожего. — До чего же глупый вид у мужчин, когда они падают. — Придется сегодня ехать в театр в карете, — задумчиво сказала Керри. В вестибюле отеля «Импириэл» только что вошедший Чарльз Друэ стряхивал снег со своего элегантного теплого пальто. Скверная погода рано загнала его домой и одновременно вызвала в нем жажду таких развлечений, которые заставляют забыть о холоде и мраке. Хороший обед, общество интересной молодой женщины и кресло в театре — вот все, в чем он нуждался. — Хелло, Гарри! — окликнул он молодого человека, сидевшего в одном из удобных мягких кресел. — Как живете? — Ничего! Жаловаться не могу, — ответил тот. — Какая дрянная погода! — Что и говорить! Я вот сижу здесь и думаю, что бы такое изобрести? — Пойдемте со мной, — предложил Друэ. — Я вас познакомлю кое с кем, спасибо скажете! — Кто же это? — Двое девчонок, здесь поблизости, на Сороковой улице. Чудесно проведем время. Вас-то мне и нужно. — Что ж, возьмем их с собой и поедем обедать! — подхватил приятель Друэ. — Вот и отлично! — согласился последний. — Подождите, я только схожу наверх и переоденусь. — Ладно, вы меня найдете в парикмахерской, — сказал Гарри. — Пойду побреюсь. — Хорошо, — отозвался Друэ и тотчас же направился к лифту, поскрипывая изящными ботинками. Мотылек по-прежнему порхал, не зная забот.В купе пульмановского вагона, мчавшегося сквозь метель к Нью-Йорку, сидели трое. — Первый звонок к обеду! — возвестил официант вагона-ресторана, проходя по коридору и сверкая белоснежным кителем. — Я больше не хочу играть, — сказала черноволосая красавица, чей высокомерный вид был порожден богатством, и капризным жестом отодвинула карты. — Может быть, пойдем обедать? — предложил ей молодой муж, одетый по последней моде. — Нет, есть мне еще не хочется, — ответила жена. — Но играть надоело. — Джессика, — сказала ее мать, разодетая так, как только допускал ее возраст, — поправь булавку в галстуке! Она все время выползает. Джессика поправила булавку и, проведя рукой по пышным волосам, взглянула на оправленные в бриллианты часики. Муж любовался ею, ибо красота всегда имеет над нами власть, как бы она ни была холодна. — Ну, нам недолго еще терпеть такую погоду! — сказал он. — Через две недели мы будем в Риме! Миссис Герствуд улыбнулась, уютно устраиваясь в углу купе. Приятно сознавать себя тещей богатого молодого человека, состояние финансов которого она лично проверила. — А ты думаешь, что пароход отойдет вовремя? — спросила Джессика. — Такая погода не может помешать? — О нет! — успокоил ее муж. — Для парохода это не имеет никакого значения. Мимо купе прошел светловолосый молодой человек, сынок какого-то банкира из Чикаго. Он давно уже приглядывался к надменной красавице. Даже сейчас он не постеснялся пристально посмотреть на нее, и Джессика это отлично заметила. Искусно изображая равнодушие, она медленно повернула к окну свою прелестную головку. Но это отнюдь не было вызвано скромностью, присущей молодой жене. Просто ее тщеславие было вполне удовлетворено. А в это время в одном из переулков, выходивших на Бауэри, перед грязным четырехэтажным зданием, чью некогда темно-желтую окраску сажа и дожди превратили в нечто неописуемое, стояла толпа бездомных и среди них — Герствуд. Толпа нарастала постепенно. Сначала перед запертой деревянной дверью топтались два-три человека в полинявших и мятых фетровых шляпах; не в меру широкие пиджаки отяжелели от талого снега, воротники были подняты. Штаны с бахромой, больше похожие на мешки, свисали над огромными дырявыми башмаками. Они не делали попыток войти и только грузно переступали с ноги на ногу, глубоко засунув руки в карманы и поглядывая то на прохожих, то на зажигавшиеся фонари. С каждой минутой очередь все возрастала. Тут были и седобородые старики с ввалившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнуренные болезнями, и люди средних лет. Полных не было вовсе. У одного лицо было совсем бескровное, у другого — красное, как кирпич. У того были худые, сутулые плечи, этот ковылял на деревянной ноге, третий был живой скелет, на котором болталась одежда. Повсюду виднелись большие уши, распухшие носы, потрескавшиеся губы и налитые кровью глаза. Во всей этой массе — ни одного нормального, здорового лица, ни одной прямой фигуры, никого, чей взгляд не блуждал бы. Под напором ветра и мокрого снега они спотыкались, напирая друг на друга. Мелькали отмороженные, красные кулаки. У некоторых — жалкое подобие шляпы, отнюдь не защищавшей посиневших ушей. Переминаясь с ноги на ногу, эти люди раскачивались в каком-то жутком ритме. По мере того как толпа возле двери росла, все чаще и чаще слышались ропот и брань, направленные против кого придется: — Будь они прокляты! Хоть бы поторопились открыть! — Посмотрите на фараона! Не спускает с нас глаз. — Может, они думают, что теперь лето? — Лучше бы сидеть сейчас в Синг-Синге[7]. Внезапно налетел особенно сильный порыв холодного ветра, и бездомные сгрудились теснее. Толпа колыхалась, двигалась, толкаясь. Тут не было ни злости, ни жалоб, ни угроз. Их мрачное, терпеливое ожидание не облегчалось шуткой или чувством взаимного доброжелательства. Мимо проехала карета, в которой, удобно откинувшись, сидел какой-то джентльмен. Один из бедняков, стоявший у самой двери, обратил на него внимание остальных: — Взгляните-ка на этого молодчика! — Ему-то не холодно! — отозвался другой. — Гей! Гей! Гей! — закричал третий, хотя карета давно уже промчалась. Понемногу надвигалась ночь. Прохожие спешили домой. Торопливо проходили мимо клерки и продавщицы. Проезжали переполненные трамваи. Ярко горели газовые фонари. В домах ровным красноватым светом засветились окна. Толпа несчастных, голодных людей все еще стояла у двери. — Что ж, они никогда не откроют, что ли? — раздался чей-то хриплый голос. Это замечание, казалось, вновь пробудило у всех интерес к закрытой двери. Они глядели на нее совсем как собаки, которые скулят и царапают дверную ручку. Они ежились, моргали, и время от времени слышались то возглас, то грубая брань. Они все ждали, а снег, кружась, все бил им в лицо колючими хлопьями, скоплялся на старых шляпах и костлявых плечах. В центре толпы тепло человеческих тел и пар от дыхания растопляли снег, и вода капала с ободков шляп на озябшие носы; но Герствуду не удалось пробраться в середину, и он, понурив голову и сгорбившись, стоял с краю. В фрамуге над дверью зажегся свет. Толпа встрепенулась и заволновалась в ожидании. Наконец болты внутри заскрипели, и все насторожились. Послышалось шарканье ног, раздался оклик: — Эй вы, не напирать! Дверь открылась. В течение минуты в жутком животном молчании протискивались внутрь человеческие тела. Двигались мокрые шляпы, мокрые плечи, озябшая, рыхлая, хрипло дышащая масса людей ползла между голыми стенами. Затем толпа исчезла, растворившись, словно туман над водой. Было ровно шесть часов. На лицах всех прохожих было написано слово «обед». Но здесь не было и помину об обеде — ничего, кроме коек. Герствуд заплатил пятнадцать центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная, пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. — Кхе! — откашлялся Герствуд и запер дверь на ключ. Он начал, не торопясь, раздеваться. Сняв рваный пиджак, он законопатил им большую щель под дверью. Жилет послужил для той же цели. Старый, мокрый, растрескавшийся котелок он положил на стол. Затем снял башмаки и прилег. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь, потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. — Стоит ли продолжать? — чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.
Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой и счетом в банке. Были у нее друзья — те, кого у нас принято называть этим словом, то есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным; теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. В жизни всегда встречаются натуры интеллектуальные и эмоциональные — личности рассуждающие и личности чувствующие. Из числа первых выходят люди действия — полководцы и государственные деятели, из числа вторых — поэты и мечтатели, служители искусства. Как эоловы арфы откликаются на легчайшее дуновение ветра, так их фантазия отражает все изменения и колебания в мире идеального. Человечество еще не поняло мечтателя, как не поняло еще и сущности этого идеального. Для мечтателя законы и требования житейской морали слишком строги. Вечно прислушиваясь к зову красоты, чутко внимая взмаху ее далеких крыльев, он готов следовать за ней, пока в долгом пути ему не откажут ноги. Так вот прислушивалась и Керри, так и она мысленно шла за красотой, напевая в своей качалке. Надо помнить, что выбор того или иного решения в жизни она всегда делала бессознательно. Когда Чикаго впервые смутно обрисовался перед нею, ей казалось, что город сулит ей неизведанные радости, и она инстинктивно, поддавшись влечению своей натуры, ухватилась за него. Люди, изящно одетые, живущие в комфорте, казались ей счастливцами, и потому ее потянуло к такой жизни. Чикаго и Нью-Йорк; Друэ и Герствуд; мир роскоши и мир сцены — все это были лишь эпизоды. Не к ним, а к той жизни, которую они, по ее мнению, олицетворяли, влекло ее. Время показало, что ее представления были ложны. О, путаница человеческой жизни! Как еще смутно понимаем мы многое! Вот Керри совсем юная — бедная, неискушенная, полная эмоций. Ей хочется всего, что есть приятного в жизни, но она наталкивается на глухую стену. Закон сказал бы: «Прельщайся, если хочешь, приятными вещами, но не приближайся к ним иначе как честным путем!» Приличие сказало бы: «Не добивайся житейских благ иначе как честным трудом!» Но если честный труд скудно оплачивается и изнуряет; если этот путь так длинен, что красоты никогда не достигнешь, только утомишь ноги и сердце; если тяга к красоте так сильна, что человек сходит с прямого пути и ищет дорогу, быстрее приводящую его к предмету мечтаний, — кто первый бросит в него камень? Не злое начало, а жажда лучшего чаще всего направляет шаги сбившегося с пути. Не злое начало, а доброта чаще всего соблазняет впечатлительную натуру, не привыкшую рассуждать. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень!» Когда-то Герствуд будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива!» Но мир холодно проходит мимо тех, кто не принимает участия в его безумствах, и она осталась одна. Ее кошелек был всегда открыт для всех, чья нужда была особенно остра. Гуляя по Бродвею, Керри больше не думала об элегантности тех, кого она встречала. И только если в их жизни было больше той гармонии и красоты, которые мерцали где-то далеко, тогда этим людям стоило завидовать. Друэ оставил ее в покое и больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Черный пароход, медленно отошедший от пристани в конце Двадцать седьмой улицы в свой еженедельный рейс, повез в числе многих других и его тело на кладбище Поттерс-Филд, где хоронят безымянных. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только сущностью ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что, когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И, вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мирок, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь снова и снова, она, однако, еще ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты. Эмс указал ей следующий шаг, но, когда она совершит его, нужно будет идти все дальше и дальше вперед. И вечно она будет видеть впереди сияние великой радости, озаряющее отдаленные вершины жизни. О Керри, Керри! О, слепые влечения человеческого сердца! «Вперед, вперед!» — твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище, сверкнет ли красотою сельский уголок, обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд, — сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни пресыщения, ни удовлетворения. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя! В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать!

ДЖЕННИ ГЕРХАРДТ (роман)
Дженни Герхардт наивная и мечтательная девушка, поступает на работу в гостиницу, чтобы помочь своей нуждающейся семье. Черная полоса суровых испытаний и лишений, казалось бы, заканчивается с появлением Лестера наследника крупной промышленной компании но…
Глава 1
Осенним утром 1880 года немолодая женщина в сопровождении девушки лет восемнадцати вошла в главный отель города Колумбуса (штат Огайо) и, подойдя к портье, спросила, не найдется ли для нее в отеле какой-нибудь работы. Она была полная, но некрепкого сложения, держалась скромно и просто. Лицо у нее было открытое, большие глаза смотрели терпеливо и кротко, и в них таилась тень скорби, понятной лишь тем, кому случалось участливо заглянуть в лицо беспомощного, подавленного горем бедняка. Нетрудно было понять, откуда взялись у ее дочери робость и застенчивость, которые теперь заставляли ее держаться позади матери и с притворным равнодушием смотреть в сторону. В характере этой девушки воображение, природная чуткость и впечатлительность неразвитого, но поэтического ума, унаследованные от матери, сочетались с отцовской серьезностью и уравновешенностью. Женщин этих привела сюда нужда. Они казались таким трогательным воплощением честной бедности, что вызвали сочувствие даже у портье. — А какую работу вы ищете? — спросил он. — Может, вам нужно где прибрать или что почистить, — несмело ответила мать. — А еще я могу мыть полы. Дочь при этих словах поежилась — не то, чтобы ей не хотелось работать, но было горько, что люди поймут, какая крайность заставляет их браться за черную работу. Портье, как подобает мужчине, был тронут горем красивой девушки. Что и говорить, из-за ее наивности и беспомощности их доля казалась еще более тяжкой. — Подождите минуту, — сказал он и, пройдя в контору, подозвал старшую горничную. В отеле действительно нашлась работа. Главная лестница и вестибюль оставались неубранными, так как постоянная поломойка получила расчет. — Это ее дочка? — спросила старшая горничная, издали глядя на женщин. — Похоже на то. — Что ж, пускай сегодня же принимаются за работу. Девушка, наверное, будет помогать? — Поговорите со старшей горничной, приветливо сказал портье, вернувшись к своей конторке. — Пройдите вот сюда. — Он указал на дверь рядом. — Там с вами договорятся. Сцену эту можно назвать трагическим завершением долгой череды несчастий и неудач, которые постигли Уильяма Герхардта, стеклодува по профессии, и его семью. Этот человек потерял работу — такие превратности судьбы хорошо знакомы бедным труженикам — и теперь с трепетом встречал каждое утро, не зная, что принесет новый день ему, его жене и шестерым детям, ибо их хлеб насущный зависел от прихоти случая. Сам Герхардт был прикован болезнью к постели. Его старший сын, Себастьян, или Басс, как называли его приятели, работал подручным в местных вагоностроительных мастерских, но получал только четыре доллара в неделю, Дженевьеве, старшей дочери, минуло восемнадцать, но ее до сих пор не обучили никакому ремеслу. У Герхардта были и еще дети — четырнадцатилетний Джордж, двенадцатилетняя Марта, десятилетний Уильям и восьмилетняя Вероника; они были еще слишком малы, чтобы работать, и всех их надо было прокормить. Единственным достоянием и подспорьем семьи был принадлежавший Герхардту дом, да и тот заложен за шестьсот долларов. Герхардт занял эти деньги в то время, когда истратив свои сбережения на покупку дома, задумал пристроить к нему еще три комнаты и веранду, чтобы семье жилось просторнее. До полного расчета по закладной оставалось еще несколько лет, но настали такие тяжелые времена, что пришлось истратить и небольшую сумму, отложенную для уплаты основного долга, и взнос в счет годовых процентов. Теперь Герхардт был совершенно беспомощен и сознавал, что положение его отчаянное; доктор прислал счет, проценты по закладной не выплачены, давно пора расплатиться с мясником, с булочником — оба они, полагаясь на его безукоризненную честность, верили ему в долг до последней возможности… Все это терзало и мучило его и мешало справиться с недугом. Миссис Герхардт отнюдь не была малодушной женщиной. Она стала брать белье в стирку, когда удавалось найти клиентов, а в остальное время шила и чинила одежду детей, собирала их в школу, стряпала, ухаживала за больным мужем и, случалось, плакала. Нередко она отыскивала какую-нибудь новую бакалейную лавку — каждый раз все дальше и дальше от дома — и, заплатив для начала наличными, покупала в кредит до тех пор, пока другие лавочники не предостерегали легковерного благотворителя. Кукуруза была дешевле всего. Миссис Герхардт варила полный котел, и этой еды, чуть ли не единственной, хватало на целую неделю. Каша из кукурузной муки тоже была лучше, чем ничего, а если в нее удавалось подбавить немного молока, это было уже почти пиршество. Жареная картошка считалась у Герхардтов самым роскошным блюдом, кофе — редким лакомством. Уголь они подбирали, бродя с ведрами и корзинами по запутанным путям соседнего железнодорожного депо. Дрова добывались во время таких же походов на ближайшие лесные склады. Так они перебивались со дня на день, в ежечасной надежде, что отец поправится и что возобновится работа на стекольном заводе. Но приближалась зима, и Герхардтом все сильнее овладевало отчаяние. — Я непременно должен поскорее выпутаться из этой истории, — то и дело повторял упрямый немец; его маловыразительный голос бессилен был передать гложущую его тревогу. В довершение всех несчастий маленькая Вероника заболела корью, и несколько дней ее жизнь была в опасности. Мать забросила все дела, не отходила от ребенка и молилась. Доктор Элуонгер, движимый сочувствием, ежедневно навещал больную. Лютеранский священник, пастор Вундт, являлся с утешениями от лица святой церкви. Оба они вносили в дом дух мрачного ханжества. Это были облаченные во все черное посланцы высших сил. Миссис Герхардт думала, что теряет девочку, и скорбно бодрствовала у ее постели. Через три дня опасность миновала, но в доме не было ни куска хлеба. Получка Себастьяна ушла на лекарства. Только уголь удавалось добывать даром, но уже несколько раз детей прогоняли из депо. Миссис Герхардт мысленно перебрала все места, куда можно было бы обратиться в поисках работы, и без всякой надежды на успех отправилась в отель. И вот, чудом, ей повезло. — Сколько вы хотите? — спросила старшая горничная. Миссис Герхардт никак не думала, что ее станут об этом спрашивать. Но нужда придала ей храбрости. — Доллар в день — не слишком много? — Хорошо, — сказала старшая горничная. — В неделю наберется работы примерно дня на три. Приходите каждый день после полудня, и вы вполне справитесь. — Спасибо вам, — сказала миссис Герхардт. — Можно начать сегодня же? — Да. Пойдемте, я покажу, где ведра и тряпки. Отель, куда они так неожиданно попали, был для того времени и для города Колумбуса весьма примечательным заведением. Колумбус, столица штата, насчитывает пятьдесят тысяч жителей, притом тут всегда много приезжих, а стало быть, в городе должны процветать отели и гостиницы, и это обстоятельство использовалось наилучшим образом — по крайней мере так с гордостью полагали сами горожане. Пятиэтажное здание внушительных размеров стояло на центральной площади Колумбуса, где находились также законодательное собрание штата и крупнейшие магазины. Просторный вестибюль отеля недавно был отделан заново. Пол и мраморная облицовка стен тщательно протирались и сверкали белизной. Наверх вела великолепная лестница с перилами орехового дерева и медными прутьями, придерживающими ковер на ступенях. В одном углу вестибюля видное место занимала стойка, где продавались газеты и сигары. Под лестницей была конторка, за которой дежурил портье, и помещение администрации отеля; все было отделано деревом лучших сортов и увешано газовыми рожками — новинкой того времени. В конце вестибюля помещалась парикмахерская — за дверью виднелись кресла и сверкающие бритвенные приборы. Перед отелем всегда можно было видеть два или три омнибуса, они подъезжали и отъезжали в соответствии с расписанием поездов. В этом роскошном караван-сарае останавливались крупнейшие политические и общественные деятели штата. Несколько губернаторов поочередно избирали его своей резиденцией. Оба сенатора из конгресса Соединенных Штатов, когда дела призывали их в Колумбус, неизменно занимали здесь номера люкс. Одного из них, сенатора Брэндера, владелец считал почти постоянным своим жильцом, поскольку у этого старого холостяка не было, в сущности, другого дома в Колумбусе, кроме отеля. Среди прочих, менее оседлых постояльцев были члены конгресса, законодательного собрания штата, а также кулуарные политики, коммерсанты, адвокаты, врачи — словом, кого там только не было; вся эта разношерстная публика приезжала и уезжала, и отель жил калейдоскопически пестрой и суетливой жизнью. Мать и дочь, внезапно закинутые судьбой в этот ослепительный мир, были безмерно напуганы. Они едва решались к чему-либо притронуться. Широкий, устланный красным ковром коридор, который они должны были подмести, казался им величественным, как дворец; они не смели поднять глаза и говорили шепотом. Когда же пришлось мыть великолепную лестницу и чистить медные прутья и решетки, обеим понадобилось призвать на помощь все свое мужество: матери — чтобы преодолеть робость, дочери — чтобы преодолеть стыд, ведь она должна заниматься этим на виду у всех. Под ними раскинулся огромный вестибюль, и все, кто там отдыхал, курил, входил и выходил, могли видеть их обеих. — Как тут красиво, правда? — шепнула Дженевьева и вздрогнула от звука собственного голоса. — Да, — тихо отозвалась мать; стоя на коленях, она неловкими руками усердно выжимала тряпку. — Наверное, чтобы жить здесь, нужно очень много денег! — Да, — сказала мать. — Не забывай протирать вот тут, в уголках. Смотри, сколько грязи ты оставила. Дженни, огорченная этим замечанием, усердно взялась за работу и терла изо всех сил, уже не смея больше смотреть по сторонам. Старательно, не жалея рук, они работали до пяти часов; на улице уже стемнело, и вестибюль был ярко освещен. Они кончали мыть лестницу, оставалось всего несколько ступеней в самом низу. В это время отворилась широкая двустворчатая дверь, которая то и дело распахивалась, впуская с улицы струю холодного воздуха, и вошел высокий немолодой человек в цилиндре и широком плаще военного покроя; он резко выделялся на фоне праздной толпы — сразу видно было, что это важная особа. Лицо у него было смуглое, со строгими чертами, но открытое и приятное; над блестящими глазами нависали густые черные брови. Он на ходу взял с конторки уже приготовленный для него ключ и стал подниматься по лестнице. Он не только осторожно обошел пожилую женщину с тряпкой, но и снисходительно махнул ей рукой, словно говоря: «Ничего, я пройду». В эту минуту дочь выпрямилась и оказалась с ним лицом к лицу; по ее глазам было видно, как она испугана тем, что очутилась у него на дороге. Он приветливо улыбнулся и кивнул. — Напрасно вы беспокоились, — сказал он. Дженни только улыбнулась в ответ. Поднявшись площадкой выше, он невольно обернулся и, взглянув на девушку, убедился, что она, как и показалось ему сразу, необыкновенно хороша собой. Он заметил высокий, чистый лоб, волосы, ровно разделенные пробором и заплетенные в косы, голубые глаза и румянец. Он успел даже полюбоваться красивым изгибом губ, почти детским овалом лица и стройной, изящной фигуркой, воплощением юности, здоровья, надежд — всего, что так высоко ценит человек уже немолодой. Затем он с достоинством пошел дальше, ни разу больше не взглянув в ее сторону, но унося с собой ее прелестный образ. Это был достопочтенный сенатор Джордж Сильвестр Брэндер. — Какой он красивый, этот человек, который сейчас прошел наверх, правда? — немного погодя сказала Дженни. — Да, — подтвердила мать. — И трость у него с золотым набалдашником. — Не надо глазеть на людей, — наставительно сказала мать. — Нехорошо. — Я на него не глазела, — простодушно возразила Дженни. — Он сам мне поклонился. — Незачем тебе смотреть на чужих, — сказала мать. — Может быть, им это не нравится. Дженни снова молча принялась за работу, но блеск этого удивительного мира не мог не занимать ее. Помимо воли она прислушивалась к царившему вокруг оживлению, к разговорам и смеху, которые сливались в сплошной веселый гул. В одном конце первого этажа был ресторан; оттуда доносился звон посуды, и не трудно было угадать, что там накрывают на стол к ужину. В другом конце находилась гостиная, там кто-то заиграл на рояле. Во всем чувствовалась веселая непринужденность, обычная перед вечерней трапезой. И сердце бедной девушки забилось надеждой, ибо она была молода и нужда еще не успела придавить ее душу всей своей тяжестью. Она продолжала прилежно мыть и чистить и минутами забывала о своей усталой матери, работавшей рядом, о матери, чьи добрые глаза окружены были сетью морщин, а губы беззвучно повторяли нескончаемый перечень повседневных забот. Девушка могла думать только о том, как заманчиво все вокруг, и ей хотелось, чтобы и на ее долю выпало этого блеска и веселья. В половине шестого старшая горничная, вспомнив о них, пришла их отпустить. С лестницей было покончено; со вздохом облегчения они оставили ее и, убрав на место ведра и тряпки, заторопились домой, причем мать была очень довольна, что наконец-то нашла работу. Они шли мимо больших красивых зданий, и снова Дженни ощутила смутное волнение, которое пробудили в ней необычность и новизна всего виденного в отеле. — Хорошо быть богатыми, правда? — сказала она. — Да, — отозвалась мать, думая о больной Веронике. — Ты видела, какая у них там огромная столовая? — Да. Теперь они шли мимо жилых, неказистых домов, под ногами безжизненно шуршали осенние листья. — Вот бы мы были богатые… — почти про себя пробормотала Дженни. — Не знаю, что и делать, — с тяжелым вздохом призналась мать. — Дома, наверное, совсем есть нечего. — Давай зайдем еще раз к мистеру Баумену! — с живым сочувствием откликнулась Дженни, тронутая ноткой безнадежности, прозвучавшей в голосе матери. — Ты думаешь, он еще поверит нам? — Мы ему скажем, что нашли работу. — Я сама скажу. — Хорошо, — устало согласилась мать. Не доходя двух кварталов до дому, они несмело вошли в маленькую, тускло освещенную бакалейную лавку. Миссис Герхардт хотела заговорить, но Дженни опередила ее. — Вы не дадите нам сегодня в долг хлеба и немного сала? Мы получили работу в «Колумбус-Хаусе», в субботу мы непременно вам заплатим. — Да, прибавила миссис Герхардт, — теперь у меня есть работа. Они были постоянными покупательницами Баумена еще до того, как начались все несчастья и болезни, и он знал, что они говорят правду. — А давно вы там работаете? — спросил он. — Нынче первый день. — Вы меня знаете, миссис Герхардт, — сказал он. — Мне не хотелось бы вам отказать. Мистер Герхардт человек надежный, но ведь я тоже не богат. Время сейчас тяжелое, — прибавил он, — а у меня семья. — Да, я понимаю, — тихо сказала миссис Герхардт. Спрятав под старой шалью огрубевшие, красные от работы руки, она беспокойно сжимала их. Дженни стояла рядом в напряженном молчании. — Ладно, — сказал наконец Баумен. — На это-раз, так и быть, еще дам в долг. В субботу заплатите сколько сможете. Он завернул им хлеб и сало и, протягивая Дженни сверток, сказал с усмешкой: — Когда у вас снова появятся деньги, вы, наверно, станете покупать где-нибудь в другом месте. — Неправда, — возразила миссис Герхардт, — вы же знаете, что нет. Но она была слишком измучена, чтобы вступать с ним в долгие объяснения. Они повернули за угол и пошли по мрачной улице, застроенной убогими домишками. — Хотела бы я знать, достали ли дети угля? — устало сказала мать, когда они были в нескольких шагах от дома. — Не волнуйся, — сказала Дженни. — Если не достали, я пойду и принесу. — Какой-то дядька нас прогнал, — не успев даже поздороваться, выпалил Джордж, когда мать спросила про уголь. — Но я все-таки принес немножко, — добавил он. — С платформы сбросил. Миссис Герхардт улыбнулась, а Дженни громко рассмеялась. — А как Вероника? — спросила она. — Спит как будто, — сказал отец. — Я ей в пять часов еще раз дал лекарство. Мать приготовила скудный ужин и села у постели больной девочки, собираясь, как всегда, бодрствовать подле нее всю долгую ночь. За ужином Себастьян внес деловое предложение, к которому все отнеслись с должным вниманием, так как он был человек практический, более других опытный во всех житейских делах. Себастьян работал всего лишь подручным в вагоностроительных мастерских и не получил никакого образования — его учили только догматам лютеранской веры, которые были ему очень и очень не по вкусу, — зато он был исполнен чисто американской энергии и задора. Рослый, атлетически сложенный и очень крепкий для своих лет, он был типичным городским парнем. У него уже выработалась своя жизненная философия: если хочешь добиться успеха — не зевай, а для этого надо сблизиться или по крайней мере делать вид, будто близок с теми, кто в этом мире, где внешнее ипоказное превыше всего, занимает первые места. Вот почему Басс любил слоняться у «Колумбус-Хауса». Ему казалось, что этот отель — средоточие всех сильных мира сего. Когда ему удалось скопить денег на приличный костюм, он стал по вечерам ходить в центр города и часами простаивал с приятелями у входа в отель; он щелкал каблуками, дымил сигарами по пять центов пара и, рисуясь, с независимым видом поглядывал на девушек. Тут бывали и другие молодые люди — городские франты и бездельники, заходившие в отель побриться или выпить стаканчик виски. Басс восхищался ими и стремился им подражать. О человеке тут судили прежде всего по платью. Раз люди хорошо одеты, носят кольца и булавки в галстуках, — что бы они ни делали, все хорошо. Басс хотел походить на них, поступать как они, и его опыт по части пустого и бессмысленного препровождения времени быстро расширялся. — Почему бы тебе не брать у постояльцев отеля белье в стирку? — сказал он Дженни, выслушав ее рассказ о событиях дня. — Это куда лучше, чем мыть лестницы. — А как это сделать? — спросила она. — Да просто обратись к портье. Этот совет показался Дженни очень разумным. — Только смотри не заговаривай со мной, если встретишь возле отеля, — предупредил он ее, когда они остались одни. — Не подавай виду, что знаешь меня. — Почему? — простодушно спросила она. — Ты прекрасно знаешь, почему, — ответил брат; он уже не раз говорил, что у них у всех слишком жалкий вид, из-за такой родни сраму не оберешься. — Если встретимся, проходи мимо, и все. Слышишь? — Хорошо, — кротко ответила Дженни. Хотя брат был лишь годом старше, она всегда ему подчинялась. На другой день по дороге в отель она заговорила с матерью о предложении брата. — Басс говорит, что мы могли бы брать у постояльцев белье в стирку. Миссис Герхардт, которая всю ночь мучительно раздумывала над тем, как бы заработать еще что-нибудь сверх трех долларов в неделю за уборку, одобрила идею Басса. — Это верно, — сказала она. — Я спрошу в отеле. Однако, когда они пришли в отель, удобный случай представился не сразу. Только под вечер судьба им улыбнулась: старшая горничная велела вымыть пол перед портье. Это важное должностное лицо явно к ним благоволило. Ему пришлась по душе добрая, озабоченная мать и хорошенькая дочка. И он благосклонно выслушал миссис Герхардт, когда она осмелилась задать ему вопрос, который весь день не выходил у нее из головы: — Может, кто из ваших постояльцев согласится давать мне белье в стирку? Я была бы так благодарна… Портье посмотрел на нее и снова прочел на этом невеселом лице безысходную нужду. — Посмотрим, — ответил он и тотчас подумал о сенаторе Брэндере и генерале Гопкинсе. Оба они люди отзывчивые и охотно помогут бедной женщине. — Подымитесь наверх к сенатору Брэндеру. В двадцать второй номер. Вот, — портье записал номер на бумажке, — пойдите и скажите, что это я вас прислал. Миссис Герхардт дрожащей рукой взяла бумажку. Ее глаза были полны благодарности, которую она не умела выразить словами. — Ничего, ничего, — сказал портье, заметив ее волнение. — Пойдите сейчас же. Он как раз у себя. Осторожно и почтительно постучала миссис Герхардт в дверь двадцать второго номера; Дженни молча стояла рядом. Через минуту дверь открылась, и на пороге ярко освещенной комнаты появился сенатор. Он был в изящном смокинге и выглядел моложе, чем показалось им при первой встрече. — Чем могу служить, сударыня? — спросил он миссис Герхардт, сразу узнав обеих. Мать совсем смешалась и ответила не сразу. — Мы хотели спросить… может, вам надо постирать белье? — Постирать? — переспросил он удивительно звучным голосом. — Постирать белье? Ну, войдите. Сейчас посмотрим. Он учтиво посторонился, пропуская их, и закрыл дверь. — Сейчас посмотрим, — повторил он, выдвигая один за другим ящики солидного шифоньера орехового дерева. Дженни с любопытством оглядывала комнату. Никогда еще она не видела такого множества безделушек и красивых вещиц, как здесь — на камине и на туалетном столике. Мягкое кресло и рядом лампа под зеленым абажуром, на полу толстый пушистый ковер, несколько маленьких ковриков, разбросанных там и сям, — во всем такое богатство, такая роскошь! — Присядьте, вот стулья, — любезно сказал сенатор, уходя в соседнюю комнату. Преисполненные пугливой почтительности, мать и дочь из вежливости остались стоять, но сенатор, покончив с поисками, повторил приглашение. Они смущенно и неловко сели. — Это ваша дочь? — спросил он миссис Герхардт, улыбаясь Дженни. — Да, сэр, — ответила мать. — Старшая. — А муж у вас жив? — расспрашивал он далее. — Как ваша фамилия? Где вы живете? Миссис Герхардт покорно отвечала на все вопросы. — Сколько у вас детей? — продолжал он. — Шестеро, — ответила миссис Герхардт. — Семья не маленькая, что и говорить. Вы, без сомнения, выполнили свой долг перед страной. — Да, сэр, — ответила миссис Герхардт, тронутая его вниманием. — Так вы говорите, это ваша старшая дочь? — Да, сэр. — А чем занимается ваш муж? — Он стеклодув. Но только он сейчас хворает. Они беседовали, а Дженни слушала, и большие голубые глаза ее глядели удивленно и пытливо. Всякий раз, как сенатор смотрел на нее, он встречал такой простодушный, невинный взгляд, такую чудесную улыбку, что ему трудно было отвести глаза. — Да, — сказал он сочувственно, — все это очень печально. У меня тут набралось немного белья, вы его выстирайте, пожалуйста. А на той неделе, вероятно, будет еще. Он сложил белье в небольшой, красиво вышитый синий мешок. — В какой день вам его принести? — спросила миссис Герхардт. — Все равно, — рассеянно ответил сенатор. — В любой день на той неделе. Она скромно поблагодарила его и собралась уходить. — Вот что, — сказал он, пройдя вперед и открывая перед ними дверь. — Принесите в понедельник. — Хорошо, сэр, — сказала миссис Герхардт. — Спасибо вам. Они ушли, а сенатор вновь принялся за чтение, но почему-то им овладела странная рассеянность. — Печально, — сказал он, закрывая книгу. — В этих людях есть что-то очень трогательное. Образ Дженни, полной изумления и восторга, витал в комнате. А миссис Герхардт с дочерью снова шли по мрачным и темным улицам. Неожиданная удача необычайно подбодрила их. — Какая у него прекрасная комната, правда? — прошептала Дженни. — Да, — ответила мать. — Он замечательный человек. — Он сенатор, да? — продолжала дочь. — Да. — Наверное, приятно быть знаменитым, — тихо сказала девушка.Глава 2
Духовный облик Дженни — как его описать? Эта бедная девушка, которую нужда заставила помогать матери, стиравшей на сенатора, брать у него грязное белье и относить чистое, обладала чудесным мягким характером, всю прелесть которого не выразишь словами. Бывают такие редкие, особенные натуры, которые приходят в мир, не ведая зачем, и уходят из жизни, так ничего и не поняв. Жизнь всегда, до последней минуты, представляется им бесконечно прекрасной, настоящей страной чудес, и если бы они могли только в изумлении бродить по ней, она была бы для них не хуже рая. Открывая глаза, они видят вокруг совершенный мир, который им так по душе: деревья, цветы, море звуков и море красок. Это — их драгоценнейшее наследство, их лучшее богатство. И если бы никто не остановил их словами: «Это мое», — они, сияя счастьем, могли бы без конца странствовать, по земле с песнью, которую когда-нибудь услышит весь мир. Это песнь доброты. Но, втиснутые в клетку реального мира, такие люди почти всегда ему чужды. Мир гордыни и алчности косо смотрит на идеалиста, мечтателя. Если мечтатель заглядится на пролетающие облака, его упрекнут в праздности. Если он вслушивается в песни ветра, они радуют его душу, а окружающие тем временем спешат завладеть его имуществом. Если весь так называемый неодушевленный мир захватит его, призывая столь нежными и чарующими голосами, что, кажется, они не могут не быть живыми и разумными, — мечтатель гибнет во власти стихии. Действительный мир всегда тянется к таким людям своими жадными лапами и завладевает ими. Именно таких жизнь превращает в покорных рабов. Такой была и Дженни в этом прозаическом мире. С детства каждый ее шаг был подсказан добротой и нежностью. Когда Себастьян падал и ушибался, это она, преодолевая тревогу и страх за брата, помогала ему встать и приводила к матери. Когда Джордж жаловался, что он голоден, она отдавала ему свой кусок хлеба. Долгими часами она баюкала младших братьев и сестер, ласково напевая и в то же время грезя о чем-то. Едва научившись ходить, она стала верной помощницей матери. Она мыла, чистила, стряпала, бегала в лавку и нянчила малышей. Никто никогда не слыхал от нее ни слова жалобы, хотя она нередко задумывалась над своей горькой долей. Она знала, что многим девочкам живется гораздо привольнее и радостнее, но и не думала им завидовать; ей случалось в тайне грустить, и все же она пела свои песенки. В ясные дни, когда она смотрела из окна кухни на улицу, ее тянуло на простор, в зеленые луга. Красота природы, ее линии и краски, свет и тени волновали девочку, как прекрасная музыка. Бывало, она уводила Джорджа и других детей в заросли орешника, в уютный, тенистый уголок, где струился говорливый ручей, а вдали широко раскинулись поля. Она не умела, как делают поэты, выразить словами то, что чувствовала, но душа ее живо откликалась на всю эту красоту и радовалась каждому звуку, каждому дуновению. Когда издалека доносилось негромкое, нежное воркованье лесных горлинок — этих духов лета, — она наклоняла голову и прислушивалась, и полные нежности звуки, словно серебряные капли, падали ей прямо в сердце. Когда солнце пригревало жарче и сквозные тени и золотые узоры ложились на траву, Дженни не могла налюбоваться ими, ее тянуло туда, где лучи сверкали всего ярче, и, как завороженная, она уходила все дальше в мирную чащу леса. Она чувствовала всю прелесть красок. Чудесное сияние, что разливается по небу в час заката, несказанно радовало и восхищало ее. — Хорошо бы уплыть с этими облаками, — совсем по-детски сказала она однажды. Она нашла качели, которые сама природа сплела из лозы дикого винограда, и теперь качалась на них с Мартой и Джорджем. — Да, если бы была такая лодка, — сказал Джордж. Запрокинув голову, Дженни смотрела на далекое облако — алый остров в море серебра. — Вот бы людям жить на таком острове, — сказала она. Мысленно она была уже там и легко пробегала по воздушным тропам. — Смотри, пчела, — объявил Джордж, показывая на летящего мимо шмеля. — Да, — мечтательно отозвалась Дженни, — она спешит к себе домой. — А разве у всех есть дом? — спросила Марта. — Почти у всех, — ответила Дженни. — И у птиц? — спросил Джордж. — Да, — сказала Дженни, всем существом чувствуя поэзию этой мысли, — и у птиц есть дом. — И у пчел? — настаивала Марта. — Да, и у пчел. — И у собак? — спросил Джордж, увидев невдалеке на дороге одиноко бредущего пса. — Ну, конечно, — сказала Дженни. — Разве ты не знаешь, что у собак есть дом? — А у комаров? — приставал мальчик, заметив комариный хоровод, вьющийся в прозрачных сумерках. — Да, — сказала она, сама наполовину веря этому. — Слушайте! — Ого — недоверчиво воскликнул Джордж. — Вот бы поглядеть, какие у них дома. — Слушайте! — настойчиво повторила Дженни и подняла руку, призывая к молчанию. Был тот тихий час, когда вечерний звон, как благословение, раздается над гаснущим днем. Смягченные расстоянием звуки тихо плыли в вечернем воздухе, и сама природа словно затихла, прислушиваясь вместе с Дженни. В нескольких шагах от нее прыгала по траве красногрудая малиновка, Жужжала пчела, где-то позвякивал колокольчик, подозрительное потрескивание в ветвях выдавало крадущуюся за орехами белку. Забыв опустить руку, Дженни слушала, пока протяжный звон не замер в воздухе, и сердце ее переполнилось. Тогда она поднялась. — О! — вырвалось у нее, и в порыве поэтического восторга она крепко стиснула руки. В глазах ее стояли слезы. Чудесное море волновавшего ее чувства захлестывало берега. Такова была душа Дженни.Глава 3
Сенатор Джордж Сильвестр Брэндер был человек необычного склада. Изворотливость политического дельца своеобразно сочеталась в нем с отзывчивостью народного представителя. Уроженец южного Огайо, он там же вырос и получил образование, если не считать двух лет, когда он изучал право в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он знал гражданское и уголовное право, пожалуй, не хуже любого жителя своего штата, но никогда не занимался им с тем усердием, которое необходимо для выдающихся успехов на адвокатском поприще. Он неплохо зарабатывал, и ему не раз представлялась блестящая возможность заработать куда больше, если бы он пожелал пойти на сделку с совестью, но на это он не был способен. И, однако, при всей своей честности и неподкупности, он под час не мог устоять перед просьбой какого-нибудь приятеля. Лишь недавно, на последних президентских выборах, он поддержал кандидатуру человека, который — Брэндеру это было хорошо известно — отнюдь не обладал качествами, необходимыми для правителя. Точно так же он был повинен в том, что несколько раз предоставлял государственные должности людям сомнительным, а в двух или трех случаях — явно непорядочным. Когда его начинали одолевать угрызения совести, он успокаивал себя любимым присловьем: «Мало ли что в жизни бывает». Иной раз он подолгу, одиноко просиживал в своем кресле, погруженный в невеселое раздумье, и потом, поднимаясь, с виноватой улыбкой повторял эти слова. Совесть его отнюдь не молчала, а его сердце во всяком случае чутко отзывалось на все. Этот человек, трижды избиравшийся в законодательное собрание штата от округа, в состав которого входил Колумбус, и дважды в сенат Соединенных Штатов, никогда не был женат. В юности он серьезно влюбился, и не его вина, что это не кончилось браком. Дама его сердца не пожелала ждать его, а ему тогда предстояло еще долго добиваться положения, которое дало бы ему возможность содержать семью. Высокий, статный, широкоплечий, он внушал уважение одним своим видом. Он пережил утраты, изведал удары судьбы, в нем было что-то, вызывающее симпатию в людях с живым воображением. Он слыл добрым и любезным, а его коллеги по сенату считали, что он звезд с неба не хватает, но очень милый человек. Тогдашнее пребывание сенатора Брэндера в Колумбусе было вызвано необходимостью укрепить его пошатнувшийся политический престиж. На последних выборах в конгресс его партии не повезло. Сам он располагал достаточным количеством голосов и мог вновь быть избран, но для того, чтобы удержать их за собой, требовалось немало политической изворотливости. Ведь есть еще честолюбцы, кроме него. Найдется с полдюжины возможных кандидатов, и любой из них будет рад занять его место. Он отлично понимал, что сейчас от него требовалось. Противникам будет не так-то просто его одолеть, но если это и произойдет, думалось ему, президент, конечно, не откажется поручить ему какой-нибудь дипломатический пост за границей. Да, сенатора Брэндера вполне можно было назвать человеком преуспевающим, но при всем том он чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он еще не сделал всего, что хотел. Вот ему пятьдесят два года, у него незапятнанная репутация почтенного, уважаемого и видного деятеля, но он одинок. Невольно он все снова и снова думал о том, что рядом нет никого, кому он был бы дорог. Собственная комната подчас казалась ему странно пустой, и он испытывал отвращение к самому себе. «Пятьдесят лет! — часто думал он. — И один, один, как перст…» В этот субботний вечер, когда он сидел у себя в комнате, к нему тихонько постучали. Он в это время размышлял о том, сколь проходящее все в мире — и жизнь, и слава, и сколь бесплодна с этой точки зрения его политическая деятельность. «Сколько мы бьемся, чтобы завоевать какое-то положение, — думалось ему. — А пройдет несколько лет, и как мало все это будет значить для меня!» Он поднялся, распахнул дверь и увидел Дженни. Она предложила матери отнести белье, не дожидаясь понедельника, чтобы удивить сенатора быстротой работы. — Заходите, — сказал Брэндер и, как и в первый раз, любезно пропустил ее вперед. Дженни вошла, ожидая похвалы за то, что они так быстро справились, но сенатор этого даже не заметил. — Ну, милая барышня, — сказал он, — как вы поживаете? — Очень хорошо, — ответила Дженни. — Мы с мамой решили не ждать понедельника, а принести вам белье сегодня. — Ну, это совершенно все равно, — небрежно заметил Брэндер. — Положите вон там, на стуле. Дженни, не подумав о том, что ей еще не заплатили, собралась уходить, но сенатор удержал ее. — Как поживает ваша матушка? — приветливо спросил он. — Хорошо, — просто ответила Дженни. — А ваша сестренка? Ей лучше? — Доктор говорит, что лучше, — ответила Дженни. — Присядьте, — продолжал сенатор. — Я хочу с вами побеседовать. Девушка опустилась на стоявший рядом стул. Слегка откашлявшись, сенатор продолжал: — А чем больна ваша сестра? — У нее корь, — объяснила Дженни. — Одно время мы даже думали, что она уже не поправится. Слушая девушку, сенатор пристально всматривался в ее лицо, и оно казалось ему необыкновенно трогательным. Она так бедно одета и так восхищается его высоким положением. В нем шевельнулся стыд за богатство и роскошь, в которой он жил. Что и говорить, судьба высоко вознесла его! — Я рад, что ей лучше, — мягко сказал он. — А сколько лет вашему отцу? — Пятьдесят семь. — Он поправляется? — Да, сэр, он уже встает с постели, только еще не выходит из дому. — Кажется, ваша матушка говорила, что по профессии он стеклодув? — Да, сэр. Брэндер хорошо знал, что местная стекольная промышленность переживает кризис. Это было одним из результатов последней политической кампании. Должно быть, положение Герхардтов действительно очень тяжелое. — Ваши младшие братья и сестры все ходят в школу? — Д-да, сэр, — с запинкой ответила Дженни. Ей стыдно было сознаться, что один из братьев бросил учение, потому что у него развалились башмаки. И ее мучило, что пришлось солгать. Сенатор на минуту задумался; потом, сообразив, что у него нет больше предлога задерживать девушку, встал и подошел к ней. Вынув из кармана несколько кредиток, он протянул одну Дженни. — Вот, возьмите, — сказал он. — Передайте вашей матушке, чтобы она распорядилась этим по своему усмотрению. Дженни в замешательстве взяла деньги: ей не пришло в голову посмотреть, сколько ей дали. Она терялась в обществе столь замечательного человека, в его великолепном жилище и плохо понимала, что делает. — Спасибо, — сказала она. — Вы назначите нам, в какой день приходить за бельем? — Да, да, — ответил он. — Приходите по понедельникам. В понедельник вечером. Она вышла, и он задумчиво притворил за нею дверь. Его интерес к этим людям был не совсем обычен. Несомненно, бедность и красота — сочетание, к которому трудно остаться равнодушным. Он уселся в кресло и предался приятным мыслям, на которые навело его посещение Дженни. Почему бы ему не помочь этой семье? — Надо узнать, где они живут, — решил он наконец. В последующие недели Дженни регулярно приходила за бельем. Сенатор Брэндер все больше интересовался ею и вскоре сумел победить робость и неловкость, овладевавшие ею в его присутствии. Помогло, в частности, то, что он стал называть ее просто по имени. Это началось с третьего посещения Дженни, и потом, почти бессознательно, он стал все чаще называть ее так. Едва ли можно сказать, что это выходило у него по-отечески — такое отношение к кому-либо было очень мало ему свойственно. Но, разговаривая с этой девушкой, он чувствовал себя каким-то помолодевшим и нередко спрашивал себя, неужели она не заметит и не оценит, что в нем еще столько юношеского. А Дженни совсем покорили блеск и пышность, окружавшие этого человека, и — хотя она этого и не сознавала — сам Брэндер. Таких обаятельных людей она еще никогда не встречала. Все, что принадлежало ему, было прекрасно, все, что он делал, — благородно, значительно, достойно уважения. Неведомо откуда, быть может, от каких-нибудь своих немецких предков, Дженни унаследовала способность понимать и ценить все это. Жить нужно именно так, как живет этот человек. Особенно нравилось Дженни его великодушие. Восхищение сенатором отчасти передалось Дженни от матери, у которой голос чувства всегда звучал громче, чем голос рассудка. Когда Дженни принесла ей десять долларов, миссис Герхардт была вне себя от радости. — Я только на улице увидела, что тут столько денег, — сказала Дженни. — Он велел отдать их тебе. Миссис Герхардт взяла бумажку и, бережно держа ее в ладонях, ясно представила себе сенатора — его статную фигуру и любезное обхождение. — Что за человек! — сказала она. — Какое у него доброе сердце! В этот вечер и на другой день миссис Герхардт только и говорила, что об этом сказочном богаче, о том, какой он, без сомнения, добрый и великодушный. Когда дело дошло до стирки, она терла его белье чуть не до дыр, чувствуя, что, как бы она ни старалась, все будет мало. Сам Герхардт ни о чем не должен знать. Он человек таких строгих правил, что, как ни велика нужда, жене было бы нелегко убедить его взять лишние деньги, которые ими не заработаны. Поэтому она ничего не сказала, а просто стала покупать на эти деньги хлеб и мясо — совсем понемногу, чтобы неожиданное богатство так и осталось незамеченным. Отношение матери к сенатору передалось и Дженни, и, бесконечно благодарная ему, она стала разговаривать с ним проще и принужденнее. У них установились настолько хорошие отношения, что, заметив, как понравилась Дженни маленькая кожаная рамка для фотографий, стоявшая на туалетном столе, Брэндер подарил ей эту вещицу. Всякий раз, как Дженни приходила к нему, он под каким-нибудь предлогом задерживал ее и скоро понял, что эту юную, кроткую девушку до глубины души оскорбляет нужда, в которой ей приходится жить, и что она стыдится своей бедности. Это искренне восхищало его, и он, глядя на ее жалкое платье и изношенные башмаки, спрашивал себя, как бы ей помочь, не обидев. Нередко он подумывал о том, чтобы как-нибудь вечером пойти за нею и самому посмотреть, в каких условиях живет ее семья. Но ведь он как-никак член сената Соединенных Штатов, а эти люди, должно быть, ютятся где-нибудь на убогой окраине. И он отбросил эту мысль благоразумие на время взяло верх, и задуманный визит был отложен. В начале декабря сенатор Брэндер на три недели вернулся в Вашингтон, и в один прекрасный день миссис Герхардт и Дженни с удивлением узнали, что он уехал. Он платил им за стирку не меньше двух долларов в неделю, а иногда и пять. Быть может, он не представлял себе, какую брешь в их бюджете пробьет его отъезд. Но делать было нечего, и им пришлось кое-как сводить концы с концами. Сам Герхардт теперь чувствовал себя лучше; обойдя немало фабрик в тщетных поисках работы, он обзавелся козлами и пилой и ходил из дома в дом, предлагая напилить дров. Работы было немного, но, не щадя сил, он все же ухитрялся заработать два, а иногда и три доллара в неделю. Этих денег вместе с заработком жены и тем, что давал Себастьян, хватало на хлеб — но и только. Наступала веселая пора рождества, и нужда казалась Герхардтам особенно горькой. Немцы любят справлять рождество с большой торжественностью. В эти дни всего нагляднее проявляется сила их родительских чувств. Они высоко ценят радости детства и стараются, чтобы малыши всласть натешились забавами и игрушками. Перед рождеством, работая пилой, Герхардт-отец немало думал обо всем этом. Как бы ему хотелось порадовать и побаловать подарками маленькую Веронику — ведь она так долго была больна! Как бы он хотел подарить всем детям по паре крепких башмаков и сыновьям теплые шапки, а дочкам нарядные капоры. В прошлые годы они всегда получали на рождество игрушки и сласти. Ему горько было думать, что настанет снежное утро праздника, а стол не будет щедро заставлен всем, чего так хочется детям. Что до миссис Герхардт, ее чувства легче вообразить, чем описать. Она так болезненно переживала все это, что просто не в силах была заговорить с мужем о близящемся роковом дне. В надежде сэкономить деньги на покупку тонны угля и избавить злополучного Джорджа от ежедневного паломничества на угольный склад, она ухитрилась отложить три доллара — и вот теперь решила потратить эти деньги на рождественские подарки. Герхардт-отец тоже потихоньку сберег два доллара, рассчитывая в сочельник, в критическую минуту, их выложить и хоть немного успокоить и порадовать жену. Но когда наступил сочельник, эти жалкие пять долларов оказались очень слабым утешением. В городе царила праздничная суета. Бакалейные магазины были разукрашены остролистом. Магазины игрушек и кондитерские ослепляли своим великолепием: тут было все, что только может понадобиться уважающему себя Санта-Клаусу. И родители и дети смотрели на витрины — одни с тоскливым сознанием своей горькой нужды, другие — с неистовым восторгом и едва сдерживаемой жаждой обладать этими сокровищами. Герхардт не раз говорил при детях: — Санта-Клаус в этом году очень беден. Он не может принести много подарков. Но, ребенка, даже самого бедного, не заставишь в это поверить. Всякий раз отец видел, что, несмотря на его предупреждения, глаза детей горят все тем же радостным ожиданием. Рождество приходилось на вторник, и накануне, в понедельник, в школе не было занятий. Уходя в отель, миссис Герхардт посоветовала Джорджу набрать побольше угля, чтобы хватило на завтрашний день. Джордж сейчас же отправился в депо, взяв с собою двух младших сестер, но угля было мало, им не скоро удалось наполнить свои корзинки, и к вечеру у них оказался лишь очень скудный запас. — Ты ходил за углем? — первым делом спросила миссис Герхардт, когда она в тот вечер вернулась из отеля. — Ходил, — ответил Джордж. — На завтра хватит? — По-моему, хватит. — Пойдем-ка, я посмотрю. И, взяв лампу, они вышли в сарай, где был сложен уголь. — О господи! — воскликнула миссис Герхардт. — Да тут совсем мало! Пойди сейчас же и принеси еще. — Ну вот, — протянул Джордж, надув губы. — Я уже ходил, пускай теперь Басс идет. Басс пришел с работы ровно в четверть седьмого и сейчас мылся и одевался, собираясь в город. — Нет, — сказала миссис Герхардт. — Басс работал целый день. Ты должен пойти сам. — Мне неохота, — проворчал Джордж. — Очень хорошо, — сказала миссис Герхардт. — А если завтра нечем будет топить, тогда что? Они вернулись в дом, но самолюбие Джорджа было слишком сильно задето, чтобы он мог считать вопрос решенным. — Басс, ты тоже иди, — еще с порога крикнул он старшему брату. — Куда это? — За углем. — Вот еще, — ответил Басс. — За кого ты меня принимаешь? — Ну, тогда и я не пойду, — упрямо тряхнув головой, сказал Джордж. — А почему ты сегодня не набрал угля? — резко спросил брат. — У тебя был на это целый день. — Да-а, я собирал, — сказал Джордж. — Только угля было очень мало. Где же я его возьму, раз его нет? — Наверное, плохо собирал, надо было постараться получше. — В чем дело? — спросила Дженни; она вернулась позже матери, так как по дороге заходила в лавку, и теперь, едва переступив порог, сразу заметила надутое лицо Джорджа. — Басс не хочет идти со мной за углем. — А разве ты днем ничего не набрал? — Набрал, да мама говорит — мало. — Я пойду с тобой, — сказала сестра. — Пойдешь с нами, Басс? — Нет, холодно ответил молодой франт; он завязывал галстук и злился, что ему мешают. — Да там и нет угля, — сказал Джордж. — Разве что с платформы скинем. А когда я ходил, так и платформ с углем не было. — Уж наверно были! — воскликнул Басс. — Не было, — повторил Джордж. — Пожалуйста, не спорь, — сказала Дженни. — Бери корзинки и пойдем, а то будет поздно. Другие дети, очень любившие старшую сестру, тоже собрались идти с нею: Вероника взяла корзиночку, Марта и Уильям — ведра, Джордж — большую корзину для белья, которую им с Дженни предстояло наполнить и тащить вдвоем. И тут Басс, тронутый готовностью сестры поправить дело и все еще сохранявший к ней какие-то братские чувства, предложил: — Вот что, Джен. Ты иди с малышами к Восьмой улице и обожди у платформы. Я тоже там буду. Только, когда я подойду, чтоб никто из вас и виду не подал, что вы меня знаете. Просто скажите: «Мистер, сбросьте нам, пожалуйста, немножко угля!» Я залезу на платформу и сброшу сколько надо. Поняли? — Хорошо, — сказала Дженни, очень довольная. Они вышли из дому в снежную вечернюю мглу и направились к железной дороге. Там, где улицу пересекали широкие подъездные пути товарной станции, стоял недавно прибывший состав, груженный углем. Дети укрылись в тени одного из вагонов. Пока они стояли, дожидаясь старшего брата, пришел вашингтонский скорый — великолепный длинный экспресс с несколькими спальными вагонами новейшего образца; сверкали большие зеркальные окна, за ними виднелись пассажиры, утонувшие в мягких, удобных креслах. Дети невольно отпрянули, когда поезд с громом проносился мимо. — Какой длинный! — сказал Джордж. — Вот бы мне быть кондуктором в таком поезде! — вздохнул Уильям. Одна Дженни промолчала, но мысль о дальних путешествиях, о роскоши взволновала ее больше всех. Как прекрасна, должно быть, жизнь богатых людей! Вдалеке показался Себастьян; у него была энергичная, мужественная походка, и все в нем выдавало человека, который знает себе цену. Он был необычайно упрям и решителен, и если бы дети не исполнили в точности его наставления, он прошел бы мимо, даже не подумав им помочь. Однако Марта отнеслась к делу с должной серьезностью и пропищала, как было велено: «Мистер, сбросьте нам, пожалуйста, немножко угля!» Себастьян резко остановился, посмотрел на них, как на чужих, и со словами; «Что ж, можно!» — взобрался на платформу и с удивительным проворством сбросил столько угля, что с избытком хватило на все корзины. Потом, словно не желая задерживаться в столь недостойном обществе, он поспешно перешел через рельсы и скрылся из виду. На обратном пути они встретили еще одного джентльмена, на сей раз настоящего, в цилиндре и великолепном плаще; Дженни его тотчас узнала. Это был не кто иной, как сенатор Брэндер, только что вернувшийся из Вашингтона и не ожидавший от праздника ничего хорошего. Он приехал тем самым экспрессом, который привлек внимание детей, и, желая немного пройтись, налегке, с небольшим саквояжем в руках, направлялся в отель. И вдруг ему показалось, что он увидел Дженни. — Это вы, Дженни? — окликнул он ее, замедляя шаг, чтобы вглядеться. Дженни, узнавшая его еще раньше, вскрикнула; «Ой, это мистер Брэндер!» — и, отпустив ручку корзины, велела младшим скорее нести уголь домой, а сама побежала в противоположную сторону. Сенатор Брэндер пошел за нею и несколько раз звал; «Дженни! Дженни!» — но напрасно. Потеряв надежду догнать девушку и вдруг поняв, что заставило ее убежать, он решил не смущать ее, повернулся и пошел за детьми. И снова, как всегда при встречах с этой девушкой, он ощутил всю пропасть между своим и ее положением. Вот он — сенатор, а эти дети подбирают на рельсах уголь. Какие радости принесет им завтрашний праздник? Полный сочувствия, он с наилучшими намерениями шел за ними и вскоре увидел, как они вошли в калитку и скрылись в убогом домишке. Сенатор пересек улицу и стал в негустой тени осыпанных снегом деревьев. Из окна, выходившего во двор, падал желтый свет. Все вокруг было покрыто снегом. Из сарая доносились голоса детей, и раз Брэндеру показалось, что он разглядел миссис Герхардт. Немного погодя какая-то тень проскользнула в калитку. Он узнал ее. Сердце его забилось, и, сдерживая волнение, он прикусил губу. Потом круто повернулся и зашагал прочь. Крупнейшим бакалейным торговцем в городе был некто Мэннинг, стойкий приверженец Брэндера, очень гордившийся своим знакомством с сенатором. К нему-то и явился в этот вечер сенатор Брэндер и застал его за конторкой, поглощенного делами. — Мэннинг, — сказал он, — не можете ли вы сегодня же выполнить одно мое поручение? — Ну, конечно, сенатор, конечно! — сказал бакалейщик. — Когда вы вернулись? Очень рад вас видеть. Я к вашим услугам. — Подберите все, что нужно для праздника семье в восемь человек — отец, мать и шестеро детей: елку, угощения, игрушки… словом вы понимаете. — Конечно, конечно, сенатор. — С расходами не считайтесь. Пошлите всего вдоволь. Я дам вам адрес. — И он вынул записную книжку. — С удовольствием все сделаю сенатор, — продолжал Мэннинг. — С величайшим удовольствием. Вы всегда были великодушны. — Хорошо, хорошо, Мэннинг, — сказал сенатор и нахмурился, чтобы сохранить свое достоинство государственного мужа. — Отправьте все немедленно, а счет пришлите мне. — С величайшим удовольствием, — только и мог сказать обрадованный торговец. Сенатор вышел на улицу, но, вспомнив о стариках Герхардтах, зашел еще в магазин обуви и готового платья и, сообразив, что понятия не имеет, каких размеров нужны вещи, заказал кое-что с правом обменять покупки. Покончив с этим, он вернулся к себе. «Подбирают уголь… — снова думал он. — До чего же я был невнимателен. Впредь не следует забывать о них».Глава 4
Желание убежать, которое охватило Дженни при виде сенатора, объяснялось тем, что она считала свое положение унизительным. Ведь сенатор о ней хорошего мнения, какой стыд, что он застиг ее за столь низменным занятием! Она наивно воображала, что его интерес к ней вызван чем угодно, только не ею самой. Когда она вернулась домой, дети уже рассказали матери о ее бегстве. — Что это с тобой случилось? — спросил Джордж, когда она вошла в комнату. — Да ничего, — ответила она, но тут же объяснила матери: — Мистер Брэндер проходил мимо и увидел нас. — Вот как? — негромко воскликнула миссис Герхардт. — Стало быть, он вернулся. Но почему же ты убежала, глупенькая? — Просто мне не хотелось, чтобы он меня видел. — Ну, может, он тебя и не узнал, — сказала мать не без сочувствия. — Да нет, узнал, — прошептала Дженни. — Он меня раза три окликнул. Миссис Герхардт покачала головой. — Что случилось? — спросил Герхардт, услышав разговор и выходя из соседней комнаты. — Ничего, — ответила жена, которой вовсе не хотелось объяснять, какую большую роль сенатор стал играть в их жизни. — Какой-то человек напугал их, когда они несли уголь. Позже в тот же вечер прибыли рождественские подарки и повергли все семейство в необычайное волнение. Герхардт и его жена не могли поверить своим глазам, когда фургон бакалейщика остановился у их дверей и рассыльный, здоровый малый, стал перетаскивать в дом пакеты. После безуспешных попыток убедить рассыльного, что он ошибся, Герхардты с вполне понятной радостью стали рассматривать всю эту благодать. — Да вы не беспокойтесь, — уверенно сказал рассыльный. — Уж я знаю, что делаю. Ваша фамилия Герхардт, верно? Ну вот, это вам и есть. Миссис Герхардт не могла усидеть на месте и, взволнованно потирая руки, повторяла: — Ну, разве не чудесно! Сам Герхардт расчувствовался при мысли о щедрости неведомого благодетеля и склонен был приписать случившееся доброте крупного местного фабриканта, у которого он когда-то служил и который неплохо к нему относился. Миссис Герхардт подозревала истинный источник неожиданной радости и была тронута до слез, но промолчала. Дженни же сразу догадалась, чьих это рук дело. На второй день рождества Брэндер встретился в отеле с миссис Герхардт — Дженни осталась дома присматривать за хозяйством. — Как поживаете, миссис Герхардт? — приветливо воскликнул он, протягивая руку. — Как встретили праздник? Бедная миссис Герхардт робко пожала его руку; глаза ее мгновенно наполнились слезами. — Ну-ну, — сказал он, похлопывая ее по плечу. — Не надо плакать. И не забудьте взять у меня белье в стирку. — Не забуду, сэр! — ответила она и хотела еще что-то сказать, но он уже отошел. Теперь Герхардт постоянно слышал об удивительном сенаторе из отеля, о том какой он любезный и как много платит за стирку. Простодушный труженик легко поверил, что мистер Брэндер — добрейший и благороднейший человек. Дженни и сама думала так же и все больше восхищалась сенатором. Она становилась так женственна, так хороша собой, что никто не мог равнодушно пройти мимо. Она была высокая, великолепно сложена. В длинном платье, в наряде светской женщины она была бы прекрасной парой для такого представительного мужчины, как сенатор. У нее были удивительно ясные, живые глаза, чудесный цвет лица, ровные, белые зубы. И при том она была умна, чутка и очень наблюдательна. Ей недоставало только воспитания и уверенности, которой никогда не бывает у человека, сознающего свое зависимое, подчиненное положение. Необходимость заниматься стиркой, разносить белье и принимать всякую малость как благодеяние связывала ее. Теперь она дважды в неделю приходила в отель; сенатор Брэндер держался с нею приветливо и непринужденно, и она отвечала ему тем же. Он часто делал небольшие подарки ей, ее сестрам и братьям и всегда говорил с нею так просто и искренне, что под конец ощущение разделяющей их пропасти исчезло, и она стала видеть в нем не столько важного сенатора, сколько великодушного друга. Однажды он спросил, не хочет ли она учиться, думая при этом, что образование сделало бы ее еще привлекательней. Наконец как-то вечером он подозвал ее: — Идите-ка сюда поближе, Дженни. Она подошла, и он вдруг взял ее за руку. — Ну-ка, Дженни, — сказал он, весело и пытливо глядя ей в лицо, — скажите, что вы обо мне думаете? — Не знаю, — ответила она, застенчиво отводя глаза. — А почему вы спрашиваете? — Нет, знаете, — возразил он. — Есть же у вас какое-то мнение обо мне. Вот и скажите, какое? — Никакого нет, — простодушно ответила она. — Нет, есть — повторил он; ее явная уклончивость забавляла его и вызывала любопытство. — Должны же вы что-нибудь обо мне думать. Что же? — Вы спрашиваете, нравитесь ли вы мне, да? — бесхитростно спросила Дженни, глядя сверху на львиную гриву черных с проседью волос, благодаря которой красивое лицо сенатора казалось почти величественным. — Да, — ответил он, немного разочарованный. Ей не хватало умения кокетничать. — Ну, конечно, вы мне нравитесь, — с милой улыбкой сказала она. — И вы никогда больше ничего не думали обо мне? — Я думаю, что вы очень добрый, — ответила Дженни, робея еще больше; она только теперь заметила, что он все еще держит ее руку. — И это все? — спросил он. — Разве этого мало? — сказала она, и ресницы ее дрогнули. Сенатор смотрел на девушку, и ее ответный взгляд — веселый, дружески-прямой — глубоко волновал его. Он молча изучал ее лицо, а она отвернулась и поежилась, чувствуя, хотя едва ли понимая все значение этого испытывающего взгляда. — Ну, а я думаю, — сказал он наконец, — что вы замечательная девушка. А вам не кажется, что я очень милый человек? — Кажется, — без запинки ответила Дженни. Сенатор откинулся в кресле и рассмеялся — так забавно это у него получилось. Она с любопытством посмотрела на него и улыбнулась. — Чему вы смеетесь? — спросила она. — Вашему ответу. Хотя мне не следовало бы смеяться. Вы меня ни капельки не цените. Наверно, я вам совсем не нравлюсь. — Нет, нравитесь, — серьезно ответила она. — Вы такой хороший. По ее глазам было ясно, что она говорит от души. — Так, — сказал он, мягко притянул девушку к себе и поцеловал в щеку. Дженни ахнула и выпрямилась, изумленная и испуганная. Это было нечто новое в их отношениях. Расстояние между Дженни и государственным деятелем мгновенно исчезло. Она увидела в нем то, чего прежде не замечала. Он сразу показался ей моложе. Он относится к ней как к женщине, он в нее влюблен. Она не знала, что делать, как себя держать. — Я испугал вас? — сказал он. Она посмотрела на этого человека, которого привыкла глубоко уважать, и с улыбкой ответила только: — Да, испугали. — Это потому, что вы мне очень нравитесь. Подумав минуту, Дженни сказала: — Мне надо идти. — Ну вот, — жалобно сказал Брэндер, — неужели вы из-за этого убегаете? — Нет, — ответила она, почему-то чувствуя себя неблагодарной, — но мне пора. Дома будут беспокоиться. — А вы не сердитесь на меня? — Нет, — сказала она чуть кокетливо, чего прежде никогда не бывало. Она почувствовала свою власть над ним, и это было так ново, так удивительно, что оба они почему-то смутились. — Как бы то ни было, вы теперь моя, — сказал сенатор, вставая. — Отныне я буду заботиться о вас. Дженни приятно было это слышать. «Ему впору творить чудеса, — подумала она, — он настоящий волшебник». Она оглянулась, и при мысли, что перед нею открывается такая новая, удивительная жизнь, у нее закружилась голова от радости. Не то, чтобы она вполне поняла, что он хотел сказать. Наверно, он будет добр и великодушен, будет дарить ей прекрасные вещи. Понятно, она была счастлива. Она взяла сверток с бельем, за которым пришла, не замечая и не чувствуя несообразности своего положения, а для Брэндера это было горьким упреком. «Она не должна разносить белье», — подумал он. Нежность и сочувствие поднялись в нем горячей волной. Он взял ее лицо в ладони, на этот раз как добрый покровитель. — Ничего, девочка, — сказал он. — Вам не придется вечно этим заниматься. Я что-нибудь придумаю. С того дня их отношения стали еще более простыми и дружескими. Когда Дженни пришла в следующий раз, сенатор, не задумываясь, предложил ей сесть на ручку его кресла и стал подробно расспрашивать о том, как живут ее родные, чего хочет и о чем мечтает она сама. Он заметил, что на некоторые его вопросы она отвечает уклончиво, особенно о работе отца. Ей стыдно было признаться, что отец ходит по дворам и пилит дрова. Опасаясь, что тут скрывается нечто более серьезное, Брэндер решил в ближайшие дни пойти и узнать, в чем дело. Так он и поступил в первое же свободное утро. Это было за три дня до того, как в конгрессе началась ожесточенная борьба, закончившаяся егопоражением. В оставшиеся дни все равно уже ничего нельзя было предпринять. Итак, Брэндер взял трость и зашагал к дому Герхардтов; через полчаса он уже решительно стучал в их дверь. Ему открыла миссис Герхардт. — Здравствуйте! — весело сказал он и, заметив ее смущение, добавил: — Можно войти? При виде необыкновенного гостя добрая женщина совсем потерялась; она потихоньку вытерла руки старым заплатанным фартуком и наконец ответила: — Да, да, пожалуйста, войдите. Забыв закрыть дверь, миссис Герхардт торопливо провела сенатора в комнату и, придвинув стул, пригласила его сесть. Брэндер пожалел, что так смутил ее. — Не беспокойтесь, миссис Герхардт, — сказал он. — Я просто проходил мимо и решил заглянуть к вам. Как здоровье вашего мужа? — Спасибо, он здоров, — ответила она. — Ушел на работу. — Значит, он нашел место? — Да, сэр, — ответила миссис Герхардт; она, как и Дженни, не решалась сказать, что это за работа. — И дети, надеюсь, все здоровы и ходят в школу? — Да, — ответила миссис Герхардт. Она сняла фартук и смущенно теребила его. — Это хорошо. А где Дженни? Дженни как раз гладила белье; заслышав голос гостя, она бросила утюг и доску и убежала в спальню, где теперь поспешно приводила себя в порядок, боясь, что мать не догадается сказать, будто ее нет дома, и не даст ей возможности скрыться. — Она дома, — сказала миссис Герхардт. — Сейчас я ее позову. — Зачем же ты ему сказала, что я тут? — тихо упрекнула Дженни. — А что же мне было делать? Они не решались выйти к сенатору, а он тем временем осматривал комнату. «Грустно, что столь достойные люди живут в такой нужде, — думал он, — хотелось бы как-то им помочь». — Доброе утро, — сказал он, когда Дженни наконец нерешительно вошла в комнату. — Как поживаете? Дженни подошла к нему и, краснея, протянула руку. Его приход так взволновал ее, что она не могла вымолвить ни слова. — Решил зайти и посмотреть, как вы живете, — сказал сенатор. — Дом неплохой. Сколько же у вас комнат? — Пять, — ответила Дженни. — Вы извините, у нас беспорядок. Мы сегодня с утра гладили, поэтому тут все вверх дном. — Понимаю, — мягко сказал Брэндер. — Неужели вы думаете, что я этого не пойму, Дженни? Не надо меня стесняться. Он говорил так же спокойно и дружески, как всегда, когда она бывала у него, и это помогло Дженни прийти в себя. — Пусть вас не смущает, если я еще как-нибудь загляну к вам. Я буду навещать. Мне хотелось бы повидать вашего отца. — Вот как, — сказала Дженни. — А его нету дома. Но пока они разговаривали, Герхардт со своей пилой и козлами как раз появился у калитки. Брэндер увидел его и тотчас узнал по некоторому сходству с дочерью. — А вот и ваш отец, если не ошибаюсь, — сказал он. — Неужто? — отозвалась Дженни, выглядывая в окно. Герхардт, поглощенный своими мыслями, прошел мимо окна, не подымая глаз. Он поставил козлы у стены, повесил пилу на гвоздь и вошел в дом. — Мать! — позвал он по-немецки, потом, не видя жены, подошел к двери и заглянул в столовую. Брэндер встал и протянул ему руку. Сутулый, жилистый немец подошел и пожал ее, вопросительно глядя на незнакомца. — Это мой отец, мистер Брэндер, — сказала Дженни; чувство приязни к сенатору помогло ей победить застенчивость. — Папа, это мистер Брэндер, тот самый, что живет в отеле. — Какая, простите, фамилия? — переспросил Герхардт, поворачиваясь от одного к другому. — Брэндер, — сказал сенатор. — А, да! — Герхардт говорил с заметным немецким акцентом. — После болезни я неважно слышу. Жена про вас поминала. — Я решил зайти познакомиться с вами, — сказал сенатор. — У вас, я вижу, большая семья. — Да, — сказал отец семейства; он вспомнил, что на нем потрепанный рабочий костюм, и ему хотелось поскорее уйти. — Шестеро ребят, и все еще не пристроенные. Вот она — старшая дочка. В комнату вошла жена, и Герхардт поспешил воспользоваться случаем: — Уж вы извините, я пойду. Сломал пилу, пришлось бросить работу. — Сделайте одолжение, — любезно сказал Брэндер, сразу поняв, о чем всегда умалчивала Дженни. Он, пожалуй, предпочел бы, чтобы у нее хватило мужества ничего не скрывать. — Так вот, миссис Герхардт, — сказал он, когда та села, напряженно выпрямившись на стуле. — Я хотел бы, чтобы вы впредь не считали меня чужим человеком. И хотел бы, чтобы вы подробно рассказали мне о своих делах. Дженни не всегда со мной откровенна. Дженни молча улыбалась. Миссис Герхардт беспокойно сжимала руки. — Хорошо, — робко, с благодарностью ответила она. Они поговорили еще немного, и сенатор поднялся. — Передайте вашему мужу, — сказал он, — пусть зайдет в понедельник ко мне в отель. Я постараюсь ему помочь. — Спасибо вам, — смущенно промолвила миссис Герхардт. — А сейчас мне пора, — прибавил Брэндер. — Так не забудьте сказать мужу, чтобы он пришел. — Ну конечно, он придет! Брэндер надел перчатку на левую руку и протянул правую Дженни. — Вот лучшее ваше сокровище, миссис Герхардт, — сказал он. — И я намерен отнять его у вас. — Ну уж, не знаю, как я без нее обойдусь, — ответила мать. — Итак, всего хорошего, — сказал сенатор, пожимая руку миссис Герхардт и направляясь к двери. Он кивнул на прощание и вышел, а с полдюжины соседей, видевших, как он входил в дом, провожали его из-за стен и занавесок любопытными взглядами. «Кто бы это мог быть?» — вот вопрос, который занимал всех. — Посмотри, что он мне дал, — сказала дочери простодушная мать, как только за гостем закрылась дверь. Это была бумажка в десять долларов. Прощаясь, Брэндер незаметно вложил ее в руку миссис Герхардт.Глава 5
Обстоятельства сложились так, что Дженни чувствовала себя многим обязанной сенатору и, вполне естественно, высоко ценила все, что он делал для нее и ее семьи. Сенатор дал ее отцу письмо к местному фабриканту, и тот принял Герхардта на службу. Это было, разумеется, не бог весть что — просто место ночного сторожа, но все же Герхардт снова работал, и его благодарность не знала границ. Какой добрый человек этот сенатор, какой отзывчивый — таких больше нет на свете! Не была забыта и миссис Герхардт. Однажды Брэндер послал ей платье, в другой раз — шаль. Все эти благодеяния делались отчасти из желания помочь, отчасти — для собственного удовольствия, но миссис Герхардт восторженно приписывала их одной лишь доброте сенатора. А Дженни… Брэндер всеми способами старался завоевать ее доверие, и наконец ее отношение к нему стало настолько сложным, что в нем очень и очень непросто было бы разобраться. А эта юная, неопытная девушка была слишком наивна и беспечна, что бы хоть на миг задуматься о том, что могут сказать люди. С того памятного и счастливого дня, когда Брэндер сумел победить ее врожденную робость и с такой нежностью поцеловал ее в щеку, для них настала новая пора. Дженни почувствовала в нем друга — и чем проще и непринужденнее он становился, с удовольствием освобождаясь от привычной сдержанности, тем лучше она его понимала. Они от души смеялись, болтали, и он искренне наслаждался этим возвращением в светлый мир молодости и счастья. Все же временами его беспокоила мысль, от которой он не мог отделаться; он поступает не так, как следует. Не сегодня-завтра люди заметят, что в отношениях с этой дочерью прачки он переходит границы благопристойности. От внимания старшей горничной, вероятно, не укрылось, что Дженни, приходя за бельем или принося его, почти всегда задерживается у него в номере на пятнадцать — двадцать минут, а то и на час. Брэндер понимал, что это может дойти до ушей других служащих отеля, слухи распространятся по городу, и из этого не выйдет ничего хорошего, но такие соображения не заставили его вести себя по-другому. Он то успокаивал себя мыслью, что не делает ничего плохого для Дженни, то говорил себе, что не может лишиться единственной своей нежной привязанности. По совести говоря, разве он не желает Дженни добра? Задумываясь над этим, Брэндер всякий раз решал, что не может отказаться от Дженни. Нравственное удовлетворение, которое он испытал бы, едва ли стоит боли, которую неминуемо принесет ему такая самоотверженность. Ему осталось не так уж долго жить. Обидно было бы умереть, не получив того, чего так хочешь. Как-то вечером он крепко обнял Дженни. В другой раз усадил ее к себе на колени и стал рассказывать о своей жизни в Вашингтоне. Теперь он никогда не отпускал ее без ласки или поцелуя, но все это были лишь слабые, неопределенные попытки. Он не хотел слишком сильно ее тревожить. А Дженни в простоте душевной наслаждалась всем этим. В ее жизни появилось столько нового, необычайного. Наивная, неискушенная, она была способна глубоко чувствовать; она еще ничего не знала о любви, но была уже достаточно взрослой, чтобы радоваться вниманию выдающегося человека, который удостоил ее своей дружбой. Как-то вечером, стоя рядом с его креслом, она провела рукой по его волосам, откинула их со лба, потом, от нечего делать, вынула у него из кармана часы. Ее милое простодушие привело сенатора в восторг. — А вам хотелось бы иметь часы? — спросил он. — Еще бы, — со вздохом сказала Дженни. На другой день он зашел в ювелирный магазин и купил золотые часики с изящными фигурными стрелками. — Дженни, — сказал он, когда она пришла в следующий раз, — я хочу вам кое-что показать. Посмотрите-ка, сколько времени на моих часах. Дженни достала часы из его жилетного кармана и широко раскрыла глаза. — Это не ваши часы! — удивленно воскликнула она. — Конечно, — ответил он, наслаждаясь ее недоумением, — они ваши. — Мои! — воскликнула Дженни. — Мои! Какая прелесть! — Они вам нравятся? — спросил Брэндер. Он был очень польщен и тронут ее восторгом. Лицо ее так и сияло, глаза блестели. — Это ваши часы, — сказал он. — Носите, да смотрите не потеряйте. — Какой вы добрый! — сказала Дженни. — Нет, — возразил Брэндер и, обняв ее за талию, задумался над тем, какую же он может получить награду. Потом он медленно притянул Дженни к себе, и тут она обвила руками его шею и благодарно прижалась щекою к его щеке. Ничто не могло бы доставить ему большей радости. Многие годы мечтал он о том, чтобы испытать нечто подобное. Дальнейшее развитие этой идиллии на некоторое время прервали жаркие бои за место в конгрессе. Под натиском противников сенатору Брэндеру пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. С величайшим изумлением он узнал, что могущественная железнодорожная компания, всегда относившаяся к нему благожелательно, втайне энергично поддерживает и без того опасного для него соперника. Брэндер был потрясен этой изменой, им овладевало то мрачное отчаяние, то приступы ярости. Хоть он и притворялся, что с легкостью принимает удары судьбы, они больно его ранили. Он так давно уже не испытывал поражения… слишком давно. В эти дни Дженни впервые узнала, что такое непостоянство мужского характера. Две недели она совсем не видела Брэндера, а потом, как-то вечером, после весьма неутешительного разговора с местным лидером своей партии, он ее встретил более чем холодно. Когда она постучала, он приоткрыл дверь и сказал почти грубо: — Я не могу сегодня заниматься бельем. Приходите завтра. Дженни ушла, удивленная и огорченная таким приемом. Она не знала, что и думать. В одно мгновение он вновь оказался на недосягаемой высоте, чуждый и далекий, и его уже нельзя было потревожить. Конечно, он может лишить ее своего дружеского внимания, раз ему так вздумалось. Но почему… Через день или два он начал раскаиваться, но не успел исправить дело. Белье взяли и возвратили ему совершенно официально, и он, уйдя с головой в свои дела, ни о чем не вспоминал до тех пор, пока не потерпел обидного поражения: у противника оказалось на два голоса больше. Брэндер был совсем угнетен и подавлен этим исходом. Что ему теперь оставалось делать? В таком состоянии застала его Дженни, от которой так и веяло весельем, надеждой, радостью жизни. Доведенный до отчаяния мрачными мыслями, Брэндер заговорил с нею сначала просто для того, чтобы развлечься; но незаметно его уныние рассеялось, и вскоре он поймал себя на том, что улыбается. — Ах, Дженни, — сказал он ей, как ребенку, — ваше счастье, что вы молоды. Это — самое лучшее, самое дорогое в жизни. — Правда? — Да, только вы этого еще не понимаете. Это всегда начинаешь понимать слишком поздно. «Я люблю эту девушку, — сказал он себе в тот вечер. — Я хотел бы никогда с ней не расставаться». Но судьба готовила ему еще один удар. В отеле стали поговаривать, что Дженни, мягко выражаясь, ведет себя странно. Дочь прачки никогда не убережется от неодобрительных замечаний, если в ее наряде, что-нибудь не соответствует ее положению. У Дженни увидали золотые часы. Старшая горничная сообщила об этом матери. — Я решила с вами поговорить, — сказала она. — Вам не следует посылать к нему дочь за бельем, а то уже пошли пересуды. Миссис Герхардт так растерялась и огорчилась, что не могла вымолвить ни слова. Дженни ничего ей не говорила, но она даже сейчас не верила, что тут есть повод для серьезного разговора. То, что сенатор подарил Дженни часы, растрогало ее и привело в восторг. Ей и в голову не приходило, что доброму имени ее дочери грозит из-за этого какая-либо опасность. Она вернулась домой очень расстроенная и рассказала Дженни о случившемся. Но та не признавала, что в ее поведении есть что-нибудь плохое. Она смотрит на это совсем иначе. Однако она не рассказала подробно о своих встречах с сенатором. — Какой ужас, что пошли такие толки! — сказала мать. — И ты правда подолгу остаешься у него в комнате? — Не знаю, — ответила Дженни, которую совесть заставляла хоть отчасти признать истину, — может быть. — Но он никогда не говорил тебе ничего неподходящего? — Нет, — ответила дочь, не подозревая, что в ее отношениях с Брэндером может быть что-нибудь дурное. Если бы мать еще немного порасспросила Дженни, она бы узнала больше, но для собственного душевного спокойствия она была рада поскорее прекратить разговор. Хорошего человека всегда стараются оклеветать, это она знала. Дженни была немножко неблагоразумна. Люди всегда не прочь посплетничать. Жизнь так тяжела, и разве могла бы бедная девушка поступать иначе, чем поступала Дженни? От таких мыслей миссис Герхардт расплакалась. В конце концов она решила сама ходить к сенатору за бельем. Итак, в следующий понедельник она постучалась к нему. Брэндер, ожидавший увидеть Дженни, был удивлен и разочарован. — А что случилось с Дженни? — спросил он. Миссис Герхардт надеялась, что он не заметит подмены или по крайней мере ничего не скажет, и теперь не знала, что ответить. Она посмотрела на него простодушно и беспомощно и сказала: — Дженни не могла нынче прийти. — Но она не больна? — Нет. — Рад это слышать, — сказал он покорно. — А вы как себя чувствуете? Миссис Герхардт ответила на его любезные вопросы и простилась. После ее ухода он задумался, спрашивая себя, что же могло произойти. Ему и самому было странно, что его занимают такие вещи. Однако в субботу, когда белье снова принесла мать, он почувствовал неладное. — В чем дело, миссис Герхардт? — спросил он. — С вашей дочерью что-нибудь случилось? — Нет, сэр, — ответила она, слишком расстроенная, чтобы лгать. — Почему же она больше не приносит белье? — Я… я… — миссис Герхардт заикалась от волнения. — Она… про нее стали нехорошо говорить… — с усилием сказала она наконец. — Кто стал говорить? — серьезно спросил Брэндер. — Здешние, в отеле. — Кто «здешние»? — Голос его зазвучал сердито. — Старшая горничная. — Ах, старшая горничная! — воскликнул сенатор. — И что же она говорит? Мать пересказала ему свой разговор со старшей горничной. — Вот как! — вскричал он в бешенстве. — Она смеет вмешиваться в мои дела? Хотел бы я знать, почему люди не желают смотреть за собой и оставить меня в покое. Знакомство со мной ничем не грозит вашей дочери, миссис Герхардт. Я не сделаю ей ничего плохого. Стыд и позор, — прибавил он с возмущением, — девушка не может просто прийти ко мне в отель, сразу ее начинают в чем-то подозревать. Я еще выясню, в чем тут дело. — Только вы не думайте, я тут ни при чем, — извиняющимся тоном сказала миссис Герхардт. — Я знаю, вы любите Дженни и не хотите ей зла. Вы столько сделали для нее и для всех нас, мистер Брэндер, мне прямо совестно, что я не пускаю ее к вам. — Ничего, миссис Герхардт, — сказал он спокойно. — Вы правильно поступили. Я вас нимало не осуждаю. Но меня возмущает, что по отелю ходят такие сплетни. Посмотрим, кто тут виноват. Миссис Герхардт побледнела от волнения. Она боялась, что оскорбила человека, который так много для них сделал. Если бы только сказать ему, объяснить все, чтобы он не думал, будто это она распускает сплетни. Она так боялась скандала. — Я хотела как лучше, — сказала она наконец. — Вы совершенно правы, — ответил он. — Я очень люблю Дженни. Мне всегда приятно, когда она приходит. Я желаю ей добра, но может быть, лучше, чтобы она не приходила, по крайней мере в ближайшее время. В тот вечер сенатор снова сидел в своем кресле и размышлял над тем, что произошло. Оказывается, Дженни дорога ему, гораздо дороже, чем он думал. Теперь, когда у него не было больше надежды видеть ее у себя, он стал понимать, как много значили для него ее короткие посещения. Он тщательно обдумал все и понял, что сплетен в отеле не избежать: видно, он и впрямь поставил девушку в очень неудобное положение. «Пожалуй, следует покончить с этой историей, — думал он. — Я вел себя слишком неразумно». Придя к такому заключению, Брэндер отправился в Вашингтон и жил там, пока не истек срок его сенаторских полномочий. Затем вернулся в Колумбус и стал ждать, что президент из дружеского расположения поручит ему какой-нибудь ответственный пост за границей. Но ему не удавалось забыть Дженни. Чем дольше он оставался вдали от нее, тем больше жаждал опять ее увидеть. Обосновавшись снова на старом месте, Брэндер в одно прекрасное утро взял трость и зашагал хорошо знакомой дорогой. Поравнявшись с домом Герхардтов, он решил зайти, постучал у дверей и был встречен удивленными и почтительными улыбками миссис Герхардт и ее дочери. Он неопределенно пояснил, что был в отъезде, и завел речь о стирке, как будто ради этого и пришел. Потом, когда ему посчастливилось остаться на несколько минут наедине с Дженни, он храбро приступил к делу. — Хотите завтра вечером со мной покататься? — спросил он. — Хочу, — ответила Дженни, для которой такое развлечение было ново и заманчиво. Брэндер с улыбкой потрепал ее по щеке, радуясь, как мальчишка, что снова ее видит. Казалось, она хорошеет с каждым днем. В белоснежном переднике, с туго заплетенными косами вокруг головы она была так мила, что трудно было не залюбоваться ею. Брэндер подождал возвращения миссис Герхардт и поднялся — ему больше незачем было оставаться. — Завтра вечером я собираюсь с вашей дочкой на прогулку, — сказал он. — Хочу с нею побеседовать о ее будущем. — Ну что ж, — сказала мать. Она не видела в этом ничего предосудительного. Они расстались, обменявшись множеством улыбок и рукопожатий. — Золотое Сердце у этого человека, — заметила миссис Герхардт. — И как мило он всегда говорит про тебя, правда? Он может помочь тебе получить образование. Ты должна гордиться его добрым отношением. — Я и горжусь, — чистосердечно призналась Дженни. — Не знаю, стоит ли рассказывать об этом отцу, — сказала миссис Герхардт. — Он не любит, когда ты уходишь из дому по вечерам. В конце концов решили отцу ничего не говорить. Он, пожалуй, не поймет. Дженни была уже готова, когда Брэндер на другой день зашел за нею. При слабом свете скромной лампы он видел, что она приоделась ради этого случая — на ней был ее лучший наряд. Бледно-лиловое ситцевое платье с узенькими, обшитыми кружевом манжетами и довольно высоким воротником, идеально накрахмаленное и отглаженное, подчеркивало ее безукоризненную фигуру. На ней не было ни перчаток, ни каких-либо безделушек, ни хотя бы приличного жакета, но со вкусом уложенные волосы украшали ее хорошенькую головку лучше любой модной шляпки, и нескольких выбившихся завитков венчали ее легким ореолом. Когда Брэндер посоветовал ей надеть жакет, она на мгновение заколебалась, потом пошла в другую комнату и вернулась с простой серой шерстяной пелериной матери. Тут искренне огорченный Брэндер догадался, что у нее вообще нет жакета, и она собиралась обойтись без него. «Она продрогла бы вечером, — подумал он, — и, конечно, не стала бы жаловаться». Он посмотрел на Дженни и в раздумье покачал головой. Потом они двинулись в путь, и Брэндер тотчас забыл обо всем, кроме одного — что Дженни рядом. Она болтала о том о сем свободно, с полудетским увлечением, которое казалось ему неотразимо очаровательным. — Послушайте, Дженни, — сказал он, когда она залюбовалась мягкими очертаниями деревьев, чуть позолоченных слабым сиянием восходящей луны. — Вы необыкновенная девушка. Я уверен, что, если бы вам хоть немного поучиться, вы писали бы стихи. — Думаете, я бы сумела? — наивно спросила она. — Думаю, девочка? — Брэндер взял ее за руку. — Думаю? Да я в этом уверен. Вы самая милая мечтательница на свете. Конечно же, вы можете быть поэтом. Вы живете поэзией. Вы сама поэзия, дорогая моя. И не так уж важно, умеете вы писать стихи или нет. Ничто не могло бы тронуть ее так, как эта похвала. Он всегда говорит такие милые вещи. Кажется, никто никогда и вполовину не любил и не ценил ее, как он. И он такой добрый! Все это говорят. Даже отец. Они ехали все дальше. Потом, словно что-то вспомнив, Брэндер вдруг сказал: — Интересно, сколько времени. Пожалуй, нам пора возвращаться. У вас часы с собою? Дженни вздрогнула: часы — она так боялась, что он заговорит о них! Она непрестанно ждала этого с той минуты, как он вернулся. За время его отсутствия в семье стало совсем туго с деньгами, и Дженни пришлось заложить часы. Одежда Марты пришла в такое состояние, что девочка не могла больше ходить в школу. И вот, после долгих обсуждений, решено было отказаться от часов. Басс отнес часы к соседнему ростовщику и после долгих препирательств заложил их за десять долларов. Миссис Герхардт истратила эти деньги на детей и вздохнула с облегчением. Марта стала выглядеть куда приличнее. Понятно, Дженни была этому рада. Но теперь, когда сенатор заговорил о своем подарке, ей показалось, что настал час возмездия. Она вся дрожала, и Брэндер заметил ее растерянность. — Что с вами, Дженни? — сказал он ласково. — Почему вы так вздрогнули. — Ничего, — ответила она. — При вас нет часов? Дженни медлила, ей казалось невозможным солгать. Наступило неловкое молчание; потом Дженни сказала: — Нет, сэр. В голосе ее слышались слезы. Брэндер тотчас заподозрил истину, стал настаивать, и она во всем призналась. — Не надо огорчаться, дорогая, — сказал он. — Вы лучшая девушка на свете. Я выкуплю ваши часы. А впредь, когда вам что-нибудь понадобится, непременно приходите ко мне. Слышите? Непременно, обещайте мне. Если меня не будет в городе, напишите. Я больше никогда не потеряю вас из виду. У вас всегда будет мой адрес. Дайте мне только знать, и я вам помогу. Слышите. — Да, — сказала Дженни. — Вы мне это обещаете, правда? — Да, — ответила она. Минуту оба молчали. — Дженни, — сказал наконец сенатор; под влиянием этого по-весеннему чудесного вечера его чувство прорвалось наружу, — я убедился, что не могу без вас жить. Вы бы согласились больше не расставаться со мной? Дженни смотрела в сторону, не совсем понимая, что он хочет сказать. — Не знаю, — неопределенно ответила она. Так вот, подумайте об этом, — мягко сказал Брэндер. — Я говорю серьезно. Хотели бы вы стать моей женой и уехать на несколько лет учиться? — Уехать и поступить в школу? — Да, после того как мы поженимся. — Пожалуй, да… — ответила Дженни. Она подумала о матери. Быть может, этим она помогла бы родным. Брэндер повернулся к ней, стараясь рассмотреть выражение ее лица. Было довольно светло. На востоке над вершинами деревьев вставала луна, и бесчисленные звезды уже побледнели в ее лучах. — Неужели я вам совсем безразличен, Дженни? — спросил он. — Нет! — Но вы больше никогда не приходите ко мне за бельем, — горько пожаловался он. Это ее тронуло. — Я не виновата, — ответила она. — Что же я могу поделать. Мама думает, что так будет лучше. — Она права, — согласился Брэндер. — Не огорчайтесь. Я просто пошутил. Но вы бы с удовольствием пришли, если бы могли, правда? — Да, — чистосердечно ответила она. Он взял ее руку и пожал так ласково, что его слова вдвойне тронули Дженни. Она порывисто обняла его. — Вы такой добрый, — сказала она с дочерней нежностью. — Дженни, девочка моя, — с глубоким чувством произнес Брэндер, — я на все готов ради вас.Глава 6
Отец злополучного семейства, Уильям Герхардт, родом саксонец, был человек незаурядный. Еще восемнадцатилетним юношей он возмутился несправедливостью закона о всеобщей воинской повинности и бежал в Париж. А оттуда он переправился в Америку, эту землю обетованную. Прибыв сюда, он сначала подался из Нью-Йорка в Филадельфию, а потом и дальше на Запад; некоторое время он работал на стекольных заводах в Пенсильвании. В одной живописной деревушке этого нового света он обрел подругу жизни, о какой всегда мечтал. Это была скромная молодая американка немецкого происхождения, и с нею он переехал в Янгстаун, а затем в Колумбус, все время следуя за стекольным фабрикантом по фамилии Хеммонд, чьи дела то процветали, то приходили в упадок. Герхардт был человек честный, и ему приятно было, что люди ценят его неспособность кривить душой. — Уильям, — нередко говорил ему хозяин, — я хочу, чтобы ты у меня работал, потому что могу на тебя положиться. И эта похвала была для Герхардта дороже золота. Его честность, как и религиозные убеждения, была заложена в нем с детства, вошла в плоть и кровь. Герхардт никогда над этим не задумывался. Его отец и дед были добропорядочные немецкие ремесленники, они ни разу никого ни на грош не обсчитали, и эта упрямая честность полностью передалась ему. Он был истый лютеранин — аккуратное посещение церкви и соблюдение всех домашних обрядов укрепило за многие годы его взгляды и верования. В доме его отца слово священника было законом, и Герхардт унаследовал убеждение, что лютеранская церковь безупречна и ее учение о загробной жизни непогрешимо и непререкаемо. Жена его, формально исповедовавшая учение меннонитов, охотно приняла вероисповедание мужа. Итак, семейство было вполне богобоязненное. Куда бы не приезжали Герхардты, они прежде всего вступали в число прихожан местной лютеранской церкви, и священник становился желанным гостем в их доме. Мистер Вундт, пастырь лютеран города Колумбуса, был искренним и ревностным христианином, и притом слепым, нетерпимым фанатиком. Он полагал, что, танцуя, играя в карты или посещая театр, его прихожане рискуют спасением души, и без колебаний, во всю силу своих легких провозглашал, что те, кто не повинуется его предписаниям, будут ввергнуты в ад. Пить, даже умеренно, — грех. Курить… ну, он и сам курил. Целомудрие до брака и затем соблюдение его святости строго обязательны для каждого христианина. Нет спасения, говорил он, той девушке, которая не сумеет соблюсти своей чистоты, и родителям, которые допустят, чтобы дочь согрешила. Они будут ввергнуты в ад. Неуклонно следуйте стезей добродетели, дабы избегнуть вечной кары, ибо гнев праведного господа неминуемо настигнет грешника. Герхардт, его жена и Дженни безоговорочно принимали учение своей церкви в истолковании мистера Вундта. Но Дженни, в сущности, соглашалась со всеми этим просто формально. Религия пока что не имела на нее решающего влияния. Приятно знать, что существует рай, пугает мысль, что существует ад. Юноши и девушки должны хорошо себя вести и слушаться родителей. В остальном религиозные понятия Дженни были довольно смутны. Герхардт-отец был убежден, что каждое слово, произнесенное с кафедры его церкви, — непреложная истина. Загробная жизнь казалась ему вполне реальной. А годы шли, жизнь становилась все более непонятной и необъяснимой, и Герхардт отчаянно цеплялся за религиозные догмы, которые давали ответ на все вопросы. О, если бы он мог быть столь честным и стойким, что господь не имел бы никаких оснований его отвергнуть! Он трепетал не только за себя, но и за жену и детей. Ведь настанет день, когда ему придется за них ответить. Не приведет ли их всех к погибели его слабость и неумение внушить им законы вечной жизни? Он рисовал в своем воображении муки ада и спрашивал себя, что ждет его и его близких в последний час. Естественно, что столь глубокая религиозность делала его суровым в обращении с детьми. Он косо смотрел на развлечения молодежи и на ее слабости. Будь его отцовская воля, Дженни никогда не узнала бы любви. Если бы она и познакомилась где-нибудь в городе с молодыми людьми и они стали бы за нею ухаживать, отец не пустил бы их на порог. Он забыл, что и сам когда-то был молод, и теперь заботился только о спасении души своей дочери. Итак, сенатор был совершенно новым явлением в ее жизни. Когда Брэндер впервые стал принимать участие в делах семьи, все представления папаши Герхардта о том, что хорошо и что плохо, оказались несостоятельными. Он не знал, с какой меркой подойти к такому человеку. Брэндер не был обычным кавалером, который пытался приударить за его хорошенькой дочкой. Вмешательство сенатора в жизнь Герхардта было столь своеобразным и в то же время столь благовидным, что он стал играть в ней важную роль, прежде чем кто-либо успел опомниться. Сам Герхардт — и тот был введен в заблуждение; он не ожидал из такого источника ничего, кроме почета и пользы для себя и своей семьи, а потому преспокойно принимал заботы сенатора и его услуги. Впрочем, жена не говорила ему о многочисленных подарках, полученных от Брэндера и до и после того чудесного рождества. Но однажды утром, когда Герхардт возвращался домой после ночной работы, к нему подошел его сосед Отто Уивер. — Герхардт, — сказал он, — я хочу с тобой поговорить. Я тебе друг и хочу рассказать, что я слышал. Видишь ли, соседи много болтают насчет того человека, который ходит к твоей дочери. — К моей дочери? — повторил Герхардт, несказанно ошеломленный и задетый этим неожиданным нападением. — О ком ты говоришь? Я не знаю никакого человека, который ходит к моей дочери. — Разве? — спросил Уивер, удивленный не мене своего собеседника. — Немолодой человек, наполовину седой. Иногда ходит с тростью. Разве ты его не знаешь? Герхардт с озадаченным видом рылся в памяти. — Говорят, он прежде был сенатором, — неуверенно продолжал Уивер. — Не знаю точно. — А, сенатор Брэндер, — с некоторым облегчением сказал Герхардт. — Да. Он иногда заходит. Верно. Ну, так что же из этого? — Да ничего, — ответил сосед, — только вот люди сплетничают. Он уже не молод, знаешь ли. Твоя дочь иногда ходила с ним гулять. А люди это видели, и теперь пошли пересуды. Вот я и подумал, может, тебе следует про это знать. Слова приятеля потрясли Герхардта до глубины души. Уж верно люди не зря говорят такие вещи. Дженни и ее мать серьезно провинились. Все же он, не колеблясь, выступил на защиту дочери. — Это друг нашей семьи, — смущенно сказал он. — Напрасно люди говорят, чего не знают. Моя дочь ничего плохого не сделала. — Ну, понятно. Тут ничего плохого нет, — сказал Уивер. — Соседи часто болтают зря. Но мы с тобой старые друзья, и я подумал, может, тебе следует знать… Еще с минуту Герхардт стоял неподвижно, приоткрыв рот; странная беспомощность овладела им. Как страшно, когда люди становятся тебе враждебны. Как важно, чтобы их мнение и расположение были на твоей стороне. Он, Герхардт, так старался жить, соблюдая все установленные правила! Почему бы людям не удовольствоваться этим и не оставить его в покое? — Спасибо, что ты мне сказал, — пробормотал он, направляясь к дому. — Я об этом подумаю. Всего доброго. Он воспользовался первым же удобным случаем, чтобы расспросить жену. — Чего ради сенатор Брэндер ходит к Дженни? — спросил он по-немецки. — Соседи уж стали сплетничать. — Тут нет ничего плохого, — ответила миссис Герхардт тоже по-немецки. Вопрос явно застал ее врасплох. — Он приходил только два или три раза. — Но ты мне об этом не говорила, — возразил муж, возмущенный тем, что она терпела поведение дочери и покрывала ее. — Нет, не говорила, — ответила миссис Герхардт в полнейшем замешательстве. — Он заходил только раза два. — Только! — воскликнул Герхардт, поддаваясь чисто немецкой привычке повышать голос. — Только! Все соседи уже судачат об этом. На что это похоже, скажи, пожалуйста? — Он заходил только раза два, — беспомощно повторила миссис Герхардт. — Сейчас подходит ко мне на улице Уивер, — продолжал Герхардт, — и говорит, что все соседи болтают про человека, с которым гуляет моя дочь. А я ничего не знаю. Стою, как дурак, и молчу. Куда это годится? Что он обо мне подумает. — Ничего тут такого нет, — возразила жена. — Дженни раза два ходила с ним погулять. Он сам заходил сюда, к нам в дом. Что тут такого, о чем толковать? Неужели девушке уж и развлечься нельзя? — Но ведь он уже немолодой, — сказал Герхардт, повторяя слова Уивера. — Человек видный, с положением. Чего ради он ходит к такой девушке, как Дженни? — Не знаю, — защищалась миссис Герхардт. — Он приходит к нам в дом. Я за ним не знаю ничего плохого. Разве я могу ему сказать, чтоб он не приходил? И Герхардт умолк. Он знал сенатора с наилучшей стороны. В самом деле, чего тут страшного? — Соседи всегда рады посплетничать. Им больше не о чем говорить, вот они и болтают про Дженни. Ты сам знаешь, она хорошая девушка. Зачем они сплетничают понапрасну? — Глаза доброй матери наполнились слезами. — Все это так, — проворчал Герхардт, — но ему незачем ходить сюда и водить такую молоденькую девушку на прогулки. Это не годится, даже если у него и нет на уме ничего худого. Тут как раз вошла Дженни. Она слышала голоса родителей из комнатки, которая служила спальней ей и сестре, но и не подозревала, какое значение имеет для нее этот разговор. Когда она вошла, мать повернулась к ней спиной склонилась над столом, где готовила печенье, стараясь скрыть от дочери покрасневшие глаза. — Что случилось? — спросила Дженни, немного встревоженная натянутым молчанием родителей. — Ничего, — решительно ответил отец. Мать даже не обернулась, но самая ее неподвижность была многозначительна. Дженни подошла к ней и тотчас увидела, что она плакала. — Что случилось? — удивленно повторила девушка, глядя на отца. Герхардт промолчал, открытое лицо дочери успокоило его страхи. — Что случилось? — мягко настаивала Дженни, обращаясь к матери. — Ах, это все соседи, — со вздохом отозвалась миссис Герхардт. — Они вечно судачат о том, чего не знают. — Опять про меня? — спросила Дженни, слегка краснея. — Вот видите, — заметил Герхардт в пространство, — она сама знает, в чем дело. Так почему вы мне не говорили, что он здесь бывает? Все соседи толкуют об этом, а я до нынешнего дня ничего не знал. Что это такое, спрашивается? — Ах, не все ли равно! — воскликнула Дженни, охваченная жалостью к матери. — Все равно? — крикнул Герхардт, все еще по-немецки, хотя Дженни отвечала ему по-английски. — Все равно, что люди останавливают меня на улице и рассказывают про это? Постыдилась бы так говорить. Я всегда был хорошего мнения об этом Брэндере, но теперь, раз вы мне ничего не говорили, а про меж соседей пошли толки, я уж не знаю, что и думать. Неужели я должен от соседей узнавать, что делается в моем доме? Мать и дочь молчали. Дженни уже стала думать, что они и впрямь совершили серьезную ошибку. — Я вовсе не делала ничего такого, что надо скрывать, — сказала она. — Просто один раз он возил меня кататься, вот и все. — Да, но ты мне об этом не рассказывала, — отвечал отец. — Я знаю, ты не любишь, когда я вечером ухожу из дому, потому и не рассказала. А скрывать тут нечего. — Он не должен был никуда возить тебя вечером, — заметил Герхардт, не переставая тревожиться о том, что скажут люди. — Чего ему от тебя надо? Зачем он сюда ходит? Он слишком старый. У такой молоденькой девушки не должно быть с ним ничего общего. — Ему ничего и не надо, он только хочет помочь мне, — пробормотала Дженни. — Он хочет на мне жениться. — Жениться? Ха! Почему же он не скажет об этом мне? — воскликнул Герхардт. — Я сам разберусь в этом деле. Не желаю, чтоб он обхаживал мою дочь и чтоб все соседи про это сплетничали. И потом он слишком старый. Я ему так и скажу. Он не должен играть добрым именем девушки. И чтоб ноги его здесь больше не было. Угроза Герхардта привела Дженни и ее мать в ужас. Неужели он предложит Брэндеру больше не являться к ним в дом? К чему это приведет? В каком положении они окажутся перед Брэндером? А Брэндер, конечно, снова пришел, когда Герхардт был на работе, и они трепетали, как бы отец об этом не услышал. Через несколько дней сенатор зашел за Дженни, и они отправились погулять. Ни она, ни мать ничего не сказали Герхардту. Но его не удалось долго держать в неведении. — Дженни опять гуляла с этим человеком? — спросил он на другой день у жены. — Он заходил вчера вечером, — уклончиво ответила та. — А она ему сказала, чтоб он больше не приходил? — Не знаю. Навряд ли. — Ладно, я сам постараюсь положить этому конец, — отрезал Герхардт. — Я с ним поговорю. Пускай только явится еще раз. И он трижды отпрашивался с работы и каждый раз тщательно следил за домом, проверяя, не принимают ли там гостя. На четвертый вечер Брэндер явился и, вызвав необычайно взволнованную Дженни, пошел с нею гулять. Она боялась отца, боялась какой-нибудь некрасивой сцены, но не знала, как поступить. Герхардт в это время подходил к дому и видел, как она вышла. Этого было достаточно. — Где Дженни? — приступил он к жене. — Куда-то вышла, — ответила та. — Я знаю куда, — сказал Герхардт. — Видел. Ну, пускай только вернуться. Я с этим Брэндером потолкую. Он спокойно уселся и стал читать немецкую газету, исподлобья поглядывая на жену; наконец стукнула калитка, и открылась входная дверь. Тогда он поднялся. — Где ты была? — крикнул он по-немецки. Брэндеру, который никак не ожидал подобной сцены, стало и досадно и неловко. Дженни отчаянно смутилась. На кухне в мучительной тревоге ждала ее мать. — Я выходила погулять, — смущенно ответила девушка. — А разве я не говорил тебе, что бы ты больше не выходила по вечерам? — сказал Герхардт, не обращая ни малейшего внимания на Брэндера. Дженни залилась краской, не в силах вымолвить ни слова. — В чем дело? — внушительно произнес Брэндер. — Почему вы так с нею разговариваете? — Она не должна выходить из дому, когда стемнеет, — грубо ответил Герхардт. — Я ей уже сколько раз говорил. Да и вам больше незачем сюда ходить. — А почему? — спросил сенатор после короткого молчания, тщательно выбирая слова. — Вот странно. Что плохого сделала ваша дочь? — Что она сделала? — крикнул Герхардт; волнение его росло с каждой минутой, и он все невнятнее выговаривал английские слова. — Нечего ей бегать по улицам на ночь глядя, когда надо сидеть дома. Я не желаю, чтоб моя дочь уходила вечером с человеком, который ей в отцы годится Чего вы от нее хотите? Она еще ребенок. — Чего я хочу? — сказал сенатор, стараясь с достоинством выйти из положения. — Разумеется, я хочу беседовать с нею. Она уже взрослая, мне с нею интересно. Я хочу женится на ней, если она согласна. — А я хочу, чтобы вы ушли и забыли сюда дорогу, — ответил Герхардт, теряя всякую способность рассуждать логично и впадая в самый обыкновенный отцовский деспотизм. — Я больше не желаю видеть вас в своем доме. Мало у меня других несчастий, не хватает еще, чтобы у меня отняли дочь и погубили ее доброе имя. — Потрудитесь объяснить, что вы этим хотите сказать, — произнес сенатор, выпрямляясь весь рост. — Мне нечего стыдиться своих поступков. С вашей дочерью не произошло по моей вине ничего дурного. И я хотел бы понять, в чем вы меня обвиняете. — Я хочу сказать… — Герхардт в возбуждении по нескольку раз повторял одно и то же: — Я… я хочу сказать, что все соседи говорят про то, как вы сюда ходите, и катаете мою дочь в коляске, и разгуливаете с ней по вечерам, и все это, когда меня нет дома, вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ежели б у вас были честные намерения, вы не связывались бы с девочкой, которая годится вам в дочери. Люди раскрыли мне на вас глаза. Уходите отсюда и оставьте мою дочь в покое. — Люди! — повторил сенатор. — Мне дела нет до этих людей. Я люблю вашу дочь и прихожу к ней потому, что люблю ее. Я намерен жениться на ней, а если вашим соседям хочется болтать, пусть болтают. Это еще не значит, что вы можете оскорблять меня, даже не узнав моих намерений. Напуганная этой внезапной ссорой, Дженни попятилась к двери, ведущей в столовую; мать подошла к ней. — Отец вернулся, покуда вас не было, — сказала она дочери, задыхаясь от волнения. — Что нам теперь делать? И, по обычаю всех женщин, они обнялись и тихо заплакали. А те двое продолжали спорить. — Ах, вот как! — воскликнул Герхардт. — Вы, стало быть, хотите жениться! — Да, — ответил сенатор, — именно жениться. Вашей дочери восемнадцать лет, она может сама решать за себя. Вы оскорбили меня и надругались над чувствами вашей дочери. Так вот, имейте в виду, что этим дело не кончится. Если вы можете обвинить меня еще в чем-нибудь, кроме того, что болтают ваши соседи, потрудитесь высказаться. Сенатор стоял перед Герхардтом, как величественное воплощение правоты и безупречности. Он не повышал голоса, не делал резких жестов, но в выражении его плотно сжатых губ была решимость и непреклонная воля. — Не хочу я больше с вами разговаривать, — возразил Герхардт, слегка сбитый с толку, но не испуганный. — Моя дочь — это моя дочь. И мое дело решать, гулять ли ей по вечерам и выходить ли за вас замуж. Знаю я вас, политиков. Когда мы познакомились, я вассчитал порядочным человеком, а теперь вижу, как вы поступаете с моей дочерью, и знать вас больше не хочу. Уходите отсюда, вот и весь разговор. Больше мне от вас ничего не надо. — Очень сожалею, миссис Герхардт, что мне пришлось вступить в такие пререкания у вас в доме, — сказал Брэндер, намеренно отворачиваясь от разгневанного отца. — Я понятия не имел, что ваш муж возражает против моих посещений. Во всяком случае, это ничего не меняет. Не огорчайтесь, дело не так плохо, как кажется. Герхардт был поражен его хладнокровием. — Я ухожу, — продолжал Брэндер, снова обращаясь к нему, — но не думайте, что я так это оставлю. Сегодня вы совершили большую ошибку. Надеюсь, вы это поймете. Доброй ночи. Он слегка поклонился и вышел. Герхардт захлопнул за ним дверь. — Теперь, надеюсь мы от него избавились, — сказал он. — А тебе я покажу, как шататься вечерами по улицам, чтоб весь свет болтал про тебя. Больше на эту тему не было сказано ни слова, но по лицам и настроению всех обитателей дома, в котором последующие дни царило гнетущее молчание, нетрудно было понять, что они переживают, Герхардт мрачно раздумывал о том, что своей работой он обязан сенатору, и решил отказаться от места. Он объявил, что в его доме не должно быть больше никакой стирки на сенатора, и, не будь он уверен, что работу в отеле миссис Герхардт нашла самостоятельно, он запретил бы и это. Во всяком случае, ни к чему хорошему эта работа не привела. Не пойди жена в отель, не было бы и сплетен. А сенатор был очень расстроен досадным происшествием. Обывательские сплетни всегда неприятны, но человеку с его положением оказаться героем такой сплетни и вовсе не пристало. Брэндер не знал, как поступить, и, пока он колебался и раздумывал, прошло несколько дней. Затем его вызвали в Вашингтон, и он уехал так и не повидавшись с Дженни. Тем временем Герхардты по-прежнему перебивались как могли. Разумеется, они очень бедствовали, но Герхардт готов был мужественно переносить нужду, лишь бы честь оставалась при нем. Однако бакалейщику надо было платить не меньше прежнего. Одежда детей неумолимо изнашивалась. Пришлось соблюдать строжайшую экономию и приостанавливать уплату старых долгов, с которыми Герхардт пытался разделаться. Потом настал день, когда надо было внести годовые проценты по закладной, а вскоре два бакалейщика, встретив Герхардта на улице, спросили, когда он вернет долг. Он без колебаний объяснил им состояние своего кошелька и с подкупающей искренностью сказал, что будет стараться изо всех сил и сделает все возможное. Но все же под ударами судьбы он пал духом. В часы работы он молился о том, чтобы небеса смилостивились над ним, а днем, когда следовало бы выспаться и отдохнуть, ходил по городу, пытаясь подыскать более выгодное место, и попутно брался за всякую случайную работу. В частности, он нанимался косить газоны. Миссис Герхардт умоляла его не убивать себя непосильной работой, но он отвечал, что иначе нельзя. — Нельзя мне отдыхать, когда люди останавливают меня на улице и просят расплатиться с долгами. Положение семьи было отчаянное. В довершение всего Себастьян попал в тюрьму. Виной этому была старая уловка с кражей угля, на которой он в конце концов попался. Как-то вечером он залез на платформу, чтобы сбросить Дженни и детям немного угля, а агент железнодорожной полиции поймал его. За последние два года на дороге не прекращалось расхищение угля, однако пока воровали понемногу, администрация смотрела на это сквозь пальцы. Но когда клиенты грузоотправителей пожаловались, что составы, следующие из угольных бассейнов Пенсильвании в Кливленд, Цинциннати, Чикаго и другие города, теряют в пути тысячи фунтов угля, дело было передано в руки сыщиков. Не одни дети Герхардтов старались поживиться на железной дороге. Многие жители Колумбуса постоянно занимались тем же, но случилось так, что именно Себастьян попался и должен был понести кару в назидание всему городу. — А ну, слезай, — сказал сыщик, внезапно вынырнув из темноты. Дженни и дети побросали ведра и корзинки и кинулись бежать со всех ног. Первым побуждением Себастьяна тоже было спрыгнуть на землю и удрать, но сыщик схватил его за полу пальто. — Стоп! — крикнул он. — Тебя-то мне и надо! — Пусти ты! — в бешенстве огрызнулся Себастьян, который был отнюдь не трусливого десятка. Он был полон отваги и решимости и хорошо понимал всю опасность своего положения. — Пусти, говорят тебе, — повторил он, рванулся и чуть не опрокинул сыщика. — Ну-ну, слезай, — сказал тот и злобно дернул Себастьяна, чтобы доказать свою власть. Себастьян спрыгнул и так ударил противника, что тот пошатнулся. Завязалась борьба, но тут проходивший мимо рабочий подоспел на помощь сыщику. Вдвоем они поволокли Басса на станцию и передали железнодорожной полиции. Пальто его было разорвано, лицо и руки расцарапаны, глаз подбит. В таком виде Себастьян был заперт до утра. Дети прибежали домой, еще не зная, что случилось со старшим братом, и ничего толком не могли рассказать, но когда пробило девять часов, потом десять, одиннадцать, а Себастьян все не возвращался, миссис Герхардт обезумела от тревоги. Сын нередко приходил домой и в двенадцать, и в час, но мать чувствовала, что в этот вечер с ним произошло что-то ужасное. Когда пробило половину второго, а Себастьян так и не явился, она расплакалась. — Надо пойти предупредить отца, — сказала она. — Видно, Себастьян попал в тюрьму. Дженни вызвалась пойти; Джорджа, который уже спал крепким сном, разбудили, чтобы он ее проводил. — Что такое? — с изумлением воскликнул Герхардт при виде детей. — Басс до сих пор не вернулся домой, — объяснила Дженни и рассказала, как неудачно они в этот вечер ходили за углем. Герхардт тотчас бросил работу, вышел с детьми и направился в тюрьму. Он догадался о том, что произошло, и сердце его сжималось. — Только этого не хватало! — беспокойно повторял он, неловко отирая ладонью вспотевший лоб. В участке дежурный сержант кратко сообщил ему, что Басс арестован. — Себастьян Герхардт? — переспросил он, заглядывая в списки. — Да, есть такой. Воровал уголь и оказал сопротивление представителю власти. Это ваш сын? — Ach Gott! — сказал Герхардт. — О господи! — повторил он, в отчаянии ломая руки. — Хотите его видеть? — спросил сержант. — Да, да, — ответил отец. — Проведите его, Фред, — обратился тот к старику караульному. — Пускай повидает парня. Когда Герхардт, стоя в соседней комнате, увидел входящего Себастьяна, встрепанного и избитого, силы изменили ему и он заплакал. Он не мог выговорить не слова. — Не плачь, папа, — храбро сказал Себастьян. — Я ничего не мог поделать. Ну, не беда. Утром меня выпустят. Герхардт весь дрожал, подавленный горем. — Не плачь, — продолжал Себастьян, всячески стараясь сам сдержать слезы. — Со мной ничего не случится. Что толку плакать. — Я знаю, знаю, — горестно сказал старик, — но я не могу удержаться. Это все моя вина, ведь я позволял тебе этим заниматься. — Нет, нет, — возразил Себастьян, — ты тут ни при чем. А мама знает? — Да, знает. Дженни и Джордж только что пришли ко мне и сказали. Я только что узнал… И он снова заплакал. — Ну, не надо так расстраиваться, — сказал Себастьян; в эту минуту в нем пробудилось все лучшее, что было в его натуре. — Все уладится. Возвращайся на работу и не горюй. Все уладится. — Почему у тебя щека разбита? — спросил отец, глядя на него покрасневшими от слез глазами. — А, это у меня вышла небольшая стычка с парнем, который меня зацапал, — храбро ответил юноша и через силу улыбнулся. — Я думал, что сумею удрать. — Напрасно ты это сделал, Себастьян, — сказал Герхардт, — Это может тебе очень повредить. Когда будут разбирать твое дело? — Сказали, что утром, — ответил Басс. — В девять часов. Герхардт побыл еще немного с сыном; они потолковали о том, нельзя ли родным взять Басса на поруки, о штрафе и о грозной опасности тюремного заключения, но так ни к чему и не пришли. Наконец Басс уговорил отца уйти, но прощание вызвало новый взрыв отчаяния; Герхардта вывели за дверь потрясенного, убитого горем. «Плохо дело, — думая об отце, сказал себе Басс, когда его вели обратно в камеру. — И что-то будет с мамой…» Мысль о матери глубоко взволновала его. «Эх, жаль, что я не свалил того типа с первого удара, — подумал он. — И какой же я дурак, что не удрал».Глава 7
Герхардт был в отчаянии; он не знал никого, к кому можно было бы обратиться за помощью между двумя часами ночи и девятью утра. Он зашел домой посоветоваться с женою, а затем вернулся на свой пост. Что делать? Он вспомнил только одного человека, который мог бы и, пожалуй, согласился бы чем-нибудь помочь, — стекольного фабриканта Хеммонда; но его в то время не было в городе. Впрочем, Герхардт этого не знал. К девяти часам он направился в суд один — решено было, что остальным членам семьи не следует там присутствовать. Миссис Герхардт немедленно обо всем узнает: он сразу же вернется и все ей расскажет. В суде Себастьяну пришлось долго ждать, так как до него перед судьей должны были предстать еще несколько человек. Наконец его вызвали и подтолкнули к барьеру. — Воровал уголь, ваша честь, и оказал сопротивление при аресте, — пояснил арестовавший его полицейский. Судья внимательно посмотрел на Себастьяна; расцарапанное и избитое лицо парня произвело на него неблагоприятное впечатление. — Итак, молодой человек, — сказал он, — что вы можете сказать в свое оправдание? Откуда у вас такой синяк под глазом? Себастьян посмотрел на судью, но ничего не ответил. — Это я его задержал, — сказал сыщик. — Я застал его на платформе, принадлежащей нашей компании. Он пробовал вырваться, а когда я стал его удерживать, он на меня накинулся. Вот и свидетель есть, — прибавил он, указывая на рабочего, который помог ему задержать Себастьяна. — Это он вас ударил? — спросил судья, заметив, что у сыщика распух подбородок. — Да, сэр, — ответил тот, довольный, что будет вполне отомщен. — С вашего позволения, — вставил Герхардт, подаваясь вперед, — это мой сын. Его послали за углем. Он… — Мы не против, пускай подбирают то, что найдут на путях, — прервал сыщик. — Но он сбрасывал уголь с платформы своим сообщникам, их там было человек шесть. — Разве вы не в состоянии достаточно заработать и не таскать уголь с платформ? — спросил судья и, прежде чем отец или сын успели ответить, прибавил: — Чем вы занимаетесь? — Работаю по ремонту вагонов, — сказал Себастьян. — А вы? — обратился судья к Герхардту. — Я ночной сторож на мебельной фабрике Миллера. — Хм, — произнес судья, видя, что Себастьян продолжает держаться угрюмо и вызывающе. — Так вот, с этого молодого человека можно снять обвинение в краже угля, но он, как видно, чересчур охотно пускает в ход кулаки. В Колумбусе и без того драк больше чем достаточно. Десять долларов. — С вашего позволения… — начал Герхардт, но судебный пристав его оттолкнул. — Я не желаю больше ничего слышать, — сказал судья. — Вот еще упрямец. Кто там следующий? Герхардт пробрался к сыну, пристыженный и все же довольный, что дело не кончилось хуже. Денег он уж как-нибудь добудет, думалось ему. Сын участливо посмотрел на отца. — Все в порядке, — постарался он успокоить расстроенного старика. — Только судья не дал мне слова сказать. — Хорошо, что он не присудил больше, — озабоченно произнес отец. — Теперь постараемся достать денег. Он отправился домой и сообщил встревоженной жене и детям о приговоре. Миссис Герхардт побледнела, но все же почувствовала облегчение: ведь десять долларов как-нибудь можно раздобыть. Дженни слушала приоткрыв рот и глядя на отца большими глазами. Вся эта история была для нее жестоким ударом. Бедный Басс! Он всегда был такой веселый и добродушный. Просто ужас, что он попал в тюрьму. Герхардт поспешил к великолепному особняку Хеммонда, но фабриканта не было в городе. Тогда он подумал об адвокате по фамилии Дженкинс, с которым был немного знаком, и пошел к нему в контору, но не застал и его. Было еще несколько знакомых бакалейщиков и торговцев углем, но он им и без того задолжал. Пастор Вундт, пожалуй, дал бы ему денег, но для Герхардта было бы слишком мучительно признаться в случившемся столь достойному человеку. Он попробовал обратиться к двум-трем знакомым, но те, удивленные его неожиданной и странной просьбой, ответили вежливым отказом. В четыре часа он вернулся домой, усталый и измученный. — Не знаю, что и делать, — сказал он безнадежным тоном. — Просто ума не приложу… Дженни подумала о Брэндере, но хотя положение было отчаянное, она не осмелилась пойти просить его о помощи: она слишком хорошо понимала запрет отца и ужасное оскорбление, которое он нанес сенатору. Ее часы опять были заложены, а другого способа достать денег она не знала. Семейный совет длился до половины одиннадцатого, и все же придумать ничего не удалось. Миссис Герхардт, глядя в пол, упрямым, однообразным движением сжимала руки. Ее муж рассеянно проводил ладонью по своим рыжеватым с проседью волосам. — Все без толку, — сказал он наконец. — Ничего я не могу придумать. — Иди спать, Дженни, — заботливо сказала мать. — И остальных уложи. Незачем вам тут сидеть. Может, я что-нибудь придумаю. А вы все идите спать. Дженни ушла к себе в комнату, но ей было не до сна. Вскоре после ссоры отца с сенатором она прочла в газете, что Брэндер уехал в Вашингтон. О его возвращении не сообщали. И все же, может быть, он уже приехал. Она в раздумье остановилась перед небольшим узким зеркалом, которое стояло на убогом столике. Вероника, спавшая с нею в одной комнате, уже улеглась. Наконец решение Дженни окрепло. Она пойдет к сенатору Брэндеру. Если только он в городе, он выручит Басса, Почему бы ей и не пойти — ведь он ее любит. Он столько раз просил ее выйти за него замуж. Почему бы не пойти и не попросить его о помощи? Она немного поколебалась, слушая ровное дыхание Вероники, потом бесшумно отворила дверь, чтобы посмотреть, нет ли кого в столовой. В доме не слышно было ни звука, только на кухне беспокойно раскачивался в качалке Герхардт. Нигде не было света — горела лишь маленькая лампочка у нее в комнате да под дверью кухни виднелась желтоватая полоска. Дженни привернула и задула свою лампу, потом тихонько скользнула к выходной двери, открыла ее и вышла в ночь. На небе сиял ущербный месяц, и воздух был полон смутным дыханием возрождающейся жизни, ибо снова приближалась весна. Дженни торопливо шла по темным улицам — дуговые фонари еще не были изобретены — и замирала от страха; на какое безрассудство она решилась! Как примет ее сенатор? Что он подумает! Она остановилась и застыла, одолеваемая сомнениями; потом вспомнила о Бассе, запертом на ночь в тюремной камере, и снова заторопилась. Устройство отеля «Колумбус-Хаус» было таково, что женщина без труда могла пройти через особый ход для дам в какой угодно этаж в любой час ночи. Нельзя сказать, чтобы в этом отеле не существовало внутренних правил, но, как и во многих других отелях в то время, надзор за выполнением правил не всегда был достаточно строг. Кто угодно мог войти через черный ход, попасть в вестибюль, и здесь его заметил бы портье. Помимо этого, никто особенно не следил за тем, кто входит или выходит. Когда Дженни подошла к отелю, кругом было темно, горел только слабый свет в подъезде. До номера сенатора надо было лишь пройти немного по коридору второго этажа. Дженни побежала наверх; она была бледна от волнения, но больше ничто не выдавало бури, которая бушевала в ее душе. Подойдя к знакомой двери, она приостановилась: она и боялась, что не застанет Брэндера, и трепетала при мысли, что он может быть здесь. В стеклянном окошечке над дверью виднелся свет и, собрав все свое мужество, Дженни постучала. За дверью послышался кашель и движение. Удивлению Брэндера, когда он открыл дверь, не было границ. — Да это Дженни! — воскликнул он. — Вот чудесно! А я думал о вас. Входите, входите… Он пылко обнял ее. — Я собирался вас навестить. Я все время думал, как бы мне уладить дело. И вот вы пришли. Но что случилось? Он отступил на шаг и всмотрелся в расстроенное лице Дженни. В ее красоте ему чудилась свежесть только что срезанных лилий, еще влажных от росы. Бесконечная нежность волной прилила к его сердцу. — У меня к вам просьба, — наконец с трудом вымолвила она. — Мой брат в тюрьме. Нам нужно внести за него десять долларов, и я не знала, куда еще пойти. — Бедная моя девочка! — сказал он, грея ее озябшие руки. — Куда же вам еще идти? Ведь я просил, чтоб вы всегда обращались ко мне! Разве вы не знаете, Дженни, что для вас я все сделаю? — Да, — задохнувшись, едва вымолвила она. — Так вот, ни о чем больше не тревожьтесь. Но когда же судьба перестанет наконец осыпать вас ударами, бедняжка моя? Как ваш брат попал в тюрьму? — Он сбрасывал уголь с платформы, и его поймали. — А! — отозвался Брэндер с искренним сочувствием. Юношу арестовали и присудили к штрафу за то, на что, в сущности, толкнула его сама жизнь. И эта девушка пришла к нему ночью умолять о десяти долларах, которые ей так необходимы; для нее это огромная сумма, для него — ничто. — Не огорчайтесь, я все улажу, — быстро сказал он. — Через полчаса ваш брат будет свободен. Посидите здесь и отдохните, я скоро вернусь. Он указал ей на кресло возле большой лампы и поспешно вышел из комнаты. Брэндер знал шерифа, ведавшего окружной тюрьмой. Знал он и судью, приговорившего Себастьяна к штрафу. Потребовалось каких-нибудь пять минут, чтобы написать судье, прося его отменить наказание и не портить юноше будущее, и отослать записку с посыльным ему на квартиру. Еще десять минут понадобилось на то, чтобы самому отправиться в тюрьму и уговорить своего друга шерифа тут же выпустить Себастьяна. — Вот деньги, — сказал Брэндер. — Если штраф будет отменен, вы вернете их мне. А теперь отпустите его. Шериф охотно согласился. Он тут же пошел вниз, чтобы лично проследить за выполнением своего приказания, и изумленный Басс оказался на свободе. Его не удостоили никакими объяснениями. — Все в порядке, — сказал тюремщик. — Ты свободен. Беги домой, да гляди не попадайся больше на таком деле. Недоумевающий Басс отправился домой, а бывший сенатор вернулся к себе в отель, стараясь решить, как быть дальше. Положение щекотливое. Очевидно, Дженни обратилась к нему без ведома отца. Это была ее последняя надежда. И теперь она ждет у него в номере. В жизни каждого человека бывают критические минуты, когда он колеблется между строгим соблюдением долга и справедливости и соблазном счастья, которого, кажется, можно бы достигнуть, — стоит лишь поступить не так, как должно. И граница между должным и недолжным далеко не всегда ясна. Брэндер понимал, что даже жениться на Дженни будет нелегко из-за бессмысленного упрямства ее отца. Другое препятствие — общественное мнение. Допустим, он женится на Дженни — что скажут люди? Она богато одаренная натура, способная сильно чувствовать, это он знал. В ней есть что-то поэтическое, какая-то душевная тонкость, недоступная пониманию толпы. Он и сам не совсем понимал, что это такое, но угадывал в девушке богатый внутренний мир, — а это увлекло бы кого угодно на месте Брэндера, хотя ум Дженни был еще неразвит и ей не хватало жизненного опыта. «Необыкновенная девушка», — думал Брэндер, мысленно вновь видя ее перед собой. Обдумывая, как поступить дальше, он вернулся к себе. Войдя в комнату, он снова был поражен красотою девушки и ее неодолимым обаянием. В свете лампы, затененной абажуром, она показалась ему каким-то неведомым миру чудом. — Ну вот, — сказал он, стараясь казаться спокойным. — Я похлопотал за вашего брата. Он свободен. Дженни встала. Она ахнула, всплеснула руками, потом шагнула к Брэндеру. Глаза ее наполнились слезами благодарности. Он увидел эти слезы и подошел к ней совсем близко. — Ради бога, не плачьте, Дженни, — сказал он. — Вы ангел! Вы — сама доброта! Подумать только, вы принесли так много жертв и вот теперь плачете! Он притянул ее к себе, и тут всегдашняя осторожность ему изменила. Он чувствовал одно: сбывается то, о чем он так тосковал. Наконец-то после стольких удач судьба дарит ему то, чего он больше всего жаждал, — любовь, любимую женщину. Он обнял ее и целовал все снова и снова. Английский писатель Джефрис сказал, что совершенная девушка появляется раз в полтораста лет. «Это сокровище создают все чары земли и воздуха. И южный ветер, что веет полтора столетия над полями пшеницы; и благоухание высоких трав, что качаются над тяжелыми медвяными головками клевера и над смеющимися цветами вероники, укрывают вьюрка и преграждают путь пчеле; и живые изгороди из розовых кустов, и молодая жимолость, и лазоревые васильки в золотящейся ниве, и тень зеленых елей. Вся прелесть лукавых ручейков, по берегам которых тянутся к солнцу ирисы; вся властная красота дремучих лесов; все дальние холмы, от которых веет дыханием тмина и свободы, — все это повторяется снова и снова сотни лет. Лютики, колокольчики, фиалки; сиреневая весна и золотая осень; солнечный свет, проливные дожди и росистые утра; дивные ночи; снова и снова за сто лет повторяется весь круг беспрестанно текущего времени. Неписанная летопись, которую никому и не под силу написать: кто расскажет о лепестках розы, облетевших сто лет назад? Сотни раз возвращаются ласточки в свое гнездо под крышей, сотни раз! Но вот явилась она — и целый мир жаждет ее красоты, словно цветов, которых уже нет. В очаровании ее семнадцати лет заключены чары веков, Вот почему в вызванной ею страсти таится печаль». Если вы поняли и оценили прелесть лесных колокольчиков, повторенную сотни раз, если розы, музыка, румяные рассветы и закаты когда-либо заставляли сильнее забиться ваше сердце; если вся эта красота мимолетна — и вот она дана вам в руки, прежде чем мир от вас ускользнул, — откажитесь ли вы от нее?Глава 8
Значение внешних и внутренних перемен, которые порою совершаются в нашей жизни, не всегда сразу нам ясно. Мы потрясены, испуганы — а потом как будто возвращаемся к прежнему существованию, но перемена уже совершилась. Никогда и нигде мы уже не будем прежними. Думая о неожиданной развязке ночной встречи с сенатором, к которой ее привело желание выручить брата, Дженни не могла разобраться в своих чувствах. Она очень смутно представляла себе, какие перемены и в общественном и в физиологическом смысле могут повлечь за собою ее новые взаимоотношения с Брэндером. Она не сознавала еще, каким потрясением, даже при самых благоприятных условиях, является для обыкновенной женщины материнство. Она ощущала удивление, любопытство, неуверенность и в то же время была искренне счастлива и безмятежна. Брэндер — хороший человек, теперь он стал ей ближе, чем когда-либо. Он ее любит. Их новые отношения неминуемо изменят и ее положение в обществе. Жизнь ее станет теперь совсем иной — уже стала иной. Брэндер снова и снова уверял ее в своей вечной любви. — Говорю тебе, Дженни, ни о чем не тревожься, — повторял он, когда она уходила. — Страсть оказалась сильнее меня, но я на тебе женюсь. Иди домой и никому ничего не говори. Предупреди брата, если еще не поздно, сохрани все в тайне, и я женюсь на тебе и увезу тебя отсюда. Я не могу сделать это сейчас же. Мне не хочется делать это здесь. Но я поеду в Вашингтон и вызову тебя. И вот (он достал бумажник и вынул сто долларов — все, что у него было при себе) возьми это, Завтра я пришлю тебе еще. Ты теперь моя невеста, помни это. Ты — моя. Он нежно обнял ее. Дженни вышла в ночную тьму. Без сомнения, он сдержит слово. Мысленно она уже жила новой, восхитительной жизнью. Конечно, он на ней женится. Подумать только! Она поедет в Вашингтон, в этот далекий, незнакомый город. А отец и мать — им больше не придется так много работать. А Басс, а Марта… она сияла от радости, думая о том, как много она сможет для них сделать. Пройдя квартал, она замедлила шаг, и ее нагнал Брэндер; он проводил Дженни до калитки ее дома и остановился, а она, осторожно осмотревшись, легко взбежала на крыльцо и потянула дверь. Дверь была не заперта. Дженни помедлила минуту, чтобы показать возлюбленному, что все в порядке, и вошла. В доме было тихо. Она пробралась в свою комнатку и услышала сонное дыхание Вероники. Потом бесшумно прошла в комнату, где спал Басс и Джордж. Басс лежал, вытянувшись на кровати и, казалось, спал. Но когда она вошла, он шепнул: — Это ты, Дженни? — Я. — Где ты была? — Послушай, — прошептала она, ты видел папу и маму? — Да. — Они знают, что я уходила из дому? — Мама знает. Она не велела мне про тебя спрашивать. Где ты была? — Ходила к сенатору Брэндеру просить за тебя. — А, вот оно что. Мне ведь не сказали почему меня выпустили. — Никому ничего не говори, — умоляюще сказала Дженни. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал. Ты же знаешь, как папа к нему относится. — Ладно, — сказал Басс. Но ему любопытно было, что подумал бывший сенатор, что он сделал и как Дженни с ним говорила. Она коротко отвечала, и тут за дверью послышались шаги матери. — Дженни, — шепотом позвала миссис Герхардт. Дженни вышла к ней. — Ах, зачем ты уходила? — Я не могла иначе, мама. Должна же я была что-то сделать. — Почему ты оставалась там так долго? — Он хотел со мной поговорить, — уклончиво ответила Дженни. Мать смотрела на нее полными тревоги, измученными глазами. — Ай, я так боялась, так боялась! Отец пошел было в твою комнату, но я сказала, что ты уже спишь. Он запер входную дверь, но я опять ее отперла. Когда Басс пришел, он тоже хотел тебя видеть, но я уговорила его подождать до утра. И она опять грустно посмотрела на дочь. — Все хорошо, мамочка, — ободряюще сказала Дженни. — Завтра я тебе обо всем расскажу. А сейчас иди спать. Как папа думает, почему Басса выпустили? — Он не знает. Думает, может быть, просто потому, что Бассу все равно не уплатить штрафа. Дженни ласково обняла мать за плечи. — Иди спать, — сказала она. Она уже думала и поступала так, словно стала на много лет старше. Она чувствовала, что должна заботиться и о себе и о матери. Следующие дни Дженни прожила как во сне. Все снова и снова она перебирала в памяти необычайные события того вечера. Не так уж трудно было рассказать матери, что сенатор опять говорил о свадьбе, что он хочет жениться на ней, когда вернется из Вашингтона, что он дал ей сто долларов и обещал дать еще, но совсем другое дело — то единственно важное, о чем она не могла заставить себя заговорить. Это было слишком свято. Обещанные деньги он прислал ей на другой же день с нарочным — четыреста долларов, которые он советовал положить на текущий счет в банк. Бывший сенатор сообщил, что он уже находится на пути в Вашингтон, но вернется или вызовет ее к себе. «Будь мужественна, — писал он. — Тебя ждут лучшие дни». Брэндер уехал, и судьба Дженни поистине повисла на волоске. Но она сохранила еще всю наивность и простодушие юности; внешне она была совсем прежней, только появилась в ней какая-то мягкая задумчивость. Конечно, он вызовет ее к себе. Ей уже мерещились далекие края, удивительная, чудесная жизнь. У нее есть в банке немного денег, она никогда и не мечтала о таком богатстве, теперь она сможет помочь матери. Как всегда бывает с молодыми девушками, она все еще ждала только хорошего; иначе, быть может, ею скоро бы овладели тревожные предчувствия. Все ее существо, ее жизнь, будущее — все висело на волоске. Это могло кончиться и хорошо и плохо, но для такого неискушенного создания зло становится очевидным лишь тогда, когда оно уже свершилось. Как можно среди такой неопределенности сохранить душевное спокойствие — это одно из чудес, разгадка которых в прирожденной доверчивости всякого юного существа. Не часто бывает, чтобы зрелый человек сохранил свои юношеские представления. И ведь чудо не в том, что кто-то их сохранил, а в том, что все их утрачивают. Обойди весь мир — что останется в нем, когда отойдут в прошлое нежность и наивность юности, на все смотрящей широко раскрытыми, изумленными глазами? Несколько зеленых побегов, что порою появляются в пустыне наших будничных интересов, несколько видений солнечного лета, мелькнувших перед взором охладелой души, краткие минуты досуга среди непрестанного тяжкого труда — все это приоткрывает перед усталым путником вселенную, которая всегда открыта молодой душе. Ни страха, ни корысти; просторы полей и озаренные светом холмы; утро, полдень, ночь; звезды, птичьи голоса, журчанье воды — все это дается в дар душе ребенка. Одни называют это поэзией, другие, черствые души, — пустой выдумкой. В дни юности все это было понятно и им, но чуткость юности исчезла — и они уже неспособны видеть. Новые переживания Дженни проявлялись лишь в задумчивой грусти, сквозившей во всем, что бы она ни делала. Порою она удивлялась, что письма от Брэндера все нет, но тут же вспоминала, что он говорил о нескольких неделях, и потому полтора месяца, уже прошедшие со дня их разлуки, не казались такими долгими. Тем временем достопочтенный экс-сенатор весело отправился на свидание с президентом, потом окунулся в приятную светскую жизнь, — и как раз собирался навестить своих друзей в Мэриленде, но тут легкая простуда вынудила его просидеть несколько дней взаперти. Он был, раздосадован, что именно теперь ему пришлось слечь в постель, но вовсе не подозревал в своем недомоганий ничего серьезного. Потом врач обнаружил у него тяжелую форму брюшного тифа, некоторое время он был без сознания и очнулся сильно ослабевшим. Казалось, он выздоравливает, но ровно через полтора месяца после его разлуки с Дженни с ним случился внезапный паралич сердца, и все было кончено. Дженни оставалась в счастливом неведении, не подозревая о его болезни, и даже не видела напечатанного жирным шрифтом сообщения о его смерти, пока вечером Басс не принес домой газету. — Смотри-ка, Дженни, — громко сказал он. — Брэндер умер! Он протянул ей газету, на первой странице которой было напечатано:Дженни, безмерно потрясенная, смотрела на эти строки. — Умер? — воскликнула она. — Ну да, видишь, напечатано, — сказал Басс тоном человека, принесшего чрезвычайно интересную новость. — Умер сегодня в десять утра.СМЕРТЬ БЫВШЕГО СЕНАТОРА БРЭНДЕРА
Внезапная кончина славного сына штата Огайо. Скончался от паралича сердца в отеле «Арлингтон», в Вашингтоне.
Недавно он перенес тиф и, по мнению врачей, уже находился на пути к выздоровлению, но болезнь оказалась роковой. Важнейшие вехи его незаурядной карьеры…
Глава 9
Едва скрывая дрожь, Дженни взяла газету и вышла в соседнюю комнату. Она встала у окна и снова посмотрела на эти строки, вся оцепенев от невыразимого ужаса. «Он умер», — вот все, что она могла сейчас понять, а из соседней комнаты до нее доносился голос Басса, сообщавшего о случившемся отцу. «Да умер», — услышала она и снова попыталась представить себе, что же это значит для нее. Но рассудок отказывался ей служить. Через минуту к ней подошла миссис Герхардт. Она слышала слова Басса и видела, как Дженни вышла из комнаты, но, помня столкновения с мужем из-за сенатора, побоялась обнаружить свои чувства. У нее никогда не возникло ни малейшего подозрения о том, что произошло между дочерью и сенатором, и сейчас ей просто хотелось посочувствовать Дженни в час крушения ее надежд. — Как это печально, правда? — сказала она с искренним огорчением. — Надо же было, чтоб он умер как раз теперь, когда хотел столько сделать для тебя и для всех нас. Она замолчала, ожидая ответа, но Дженни словно онемела. — Не горюй, — продолжала миссис Герхардт, — тут уж ничем не поможешь. Он хотел многое сделать, но теперь не надо об этом думать. Все кончено, и ничего нельзя изменить, ты же сама понимаешь. Она опять замолчала, а Дженни оставалась все такой же немой и неподвижной. Видя бесполезность уговоров, миссис Герхардт решила, что Дженни хочет побыть одна, и вышла из комнаты. А Дженни все стояла у окна и понемногу начинала понимать, что сулит ей эта новость, как безвыходно и непоправимо ее положение. Она пошла в спальню, присела на край кровати и увидела в маленьком зеркале напротив бледное, искаженное от горя лицо. Дженни растерянно смотрела — неужели это она? «Придется уехать», — подумала она и с мужеством отчаяния стала мысленно подыскивать себе убежище. Тем временем настал час ужина, и, чтобы соблюсти приличия, она присоединилась к остальным; ей было нелегко вести себя как всегда. Герхардт заметил, что она подавлена, но не подозревал всей глубины скрывавшегося за этим отчаяния. Басс же был слишком занят собственными делами, чтобы обращать внимание на кого бы то ни было. В последующие дни Дженни обдумывала свое трудное положение и спрашивала себя, что делать. Правда, деньги у нее есть; но ни друзей, ни опыта, ни прибежища. Она всегда жила с родителями. Порою она испытывала непонятный упадок духа, какие-то бесформенные и безымянные страхи преследовали ее. Раз поутру она почувствовала неодолимое желание расплакаться, и потом это чувство нередко охватывало ее в самые неподходящие минуты. Миссис Герхардт стала это замечать и однажды решила расспросить дочь. — Скажи, что с тобой? — ласково заговорила она. — Ты должна все рассказать своей матери, Дженни. Дженни, которой казалось совершенно невозможным сказать правду, наконец, не выдержала и, уступив мягким настояниям матери, сделала роковое признание. Миссис Герхардт оцепенела от горя и долго не могла вымолвить ни слова. — Ах, это все моя вина, — сказала она наконец, охваченная раскаянием. — Я должна была понять. Но мы сделаем все, что сможем. Тут она не выдержала и разрыдалась. Немного погодя она опять взялась за прерванную стирку и, согнувшись над корытом, продолжала плакать. Слезы катились по ее щекам и капали в мыльную пену. Изредка она утирала их фартуком, но они снова и снова наполняли глаза. После первых страшных минут пришло острое сознание неотвратимой беды. Что сделает Герхардт, если узнает правду? Он не раз говорил, что если когда-нибудь одна из его дочерей поступит, как поступают иные, он выгонит ее на улицу. «Ноги ее не будет больше в моем доме!» — кричал он. — Я так боюсь отца, — часто говорила в эту пору миссис Герхардт дочери. — Что-то он скажет… — Может быть, мне лучше уехать? — предлагала Дженни. — Нет, — отвечала мать, — пока ему ничего не надо знать. Погоди немного. Но в глубине души она понимала, что роковой день все равно скоро наступит. Однажды, когда тревожная неизвестность стала для нее невыносима, миссис Герхардт услала из дому Дженни и остальных детей, надеясь, что до их возвращения сумеет все сказать мужу. С самого утра она суетилась, со страхом ожидая удобной минуты, а после обеда, так ни слова и не сказав, предоставила мужу лечь спать. Днем она не пошла на работу, потому что не могла уйти, не исполнив своего мучительного долга. В четыре часа Герхардт проснулся, а она все еще колебалась, хоть и прекрасно понимала, что Дженни скоро вернется и тщательно подготовленная возможность будет упущена. Должно быть, она так и не набралась бы мужества, если бы Герхардт сам не заговорил о Дженни. — Она плохо выглядит, — сказал он. — Похоже, с ней что-то неладно. — Ах, — начала миссис Герхардт, с усилием преодолевая страх и решив непременно довести дело до конца, — с Дженни беда. Не знаю, что и делать. Она… Герхардт, который в эту минуту разбирал дверной замок, чтобы починить его, поднял голову и подозрительно посмотрел на жену. — Что такое? — спросил он. Миссис Герхардт стала в волнении скручивать жгутом фартук. Она старалась собрать все свое мужество и объяснить, но силы ей изменили; она закрылась фартуком и заплакала. Герхардт посмотрел на нее и встал. Он был немного похож на Кальвина — худое, болезненно-желтое лицо, словно потускневшее от возраста и работы под открытым небом, в дождь и ветер. В минуты удивления или гнева глаза его вспыхивали. В волнении он то и дело откидывал волосы со лба и начинал шагать взад и вперед по комнате; сейчас видно было, что он встревожен и вот-вот вспылит. — О чем это ты говоришь? — резко спросил он по-немецки. — Беда… неужели кто-нибудь… — он не договорил и угрожающе поднял руку. — Почему ты молчишь? — Я никогда не думала, что с ней может случиться такое, — заговорила испуганная миссис Герхардт, пытаясь все же высказать свою мысль. — Она всегда была хорошей девочкой. Ах, — закончила она, — подумать только, что он погубил Дженни… — Проклятье! — в порыве бешенства крикнул Герхардт. — Так я и знал! Брэндер! Ха! Ваш благородный джентльмен! Вот к чему привело, что ты позволяла ей бегать по вечерам, кататься в колясках, разгуливать по улицам. Так я и знал. Боже правый! Произнося этот трагический монолог, он стал метаться по тесной комнате из угла в угол, как зверь в клетке. — Погубили! — восклицал он. — Погубили! Ха! Так он ее погубил, вот оно что? Вдруг он остановился, как марионетка, которую дернули за веревочку. Он стоял перед миссис Герхардт, а она отступила к столу у стены и ждала, побледнев от страха. — Но ведь он умер! — крикнул он, словно это впервые пришло ему в голову. — Умер! Он смотрел на жену, сжав ладонями виски, словно боялся, что голова не выдержит, — злая ирония случившегося жгла его как огонь. — Умер! — повторил он, и миссис Герхардт, опасаясь за его рассудок, отступила еще дальше; искаженное лицо мужа сейчас ужасало ее сильней, чем причина его отчаяния. — Он хотел жениться на Дженни, — жалобно сказала она. — Если б он не умер, он женился бы на ней. — Женился бы! — закричал Герхардт, выведенный из оцепенения звуком ее голоса. — Женился бы! Нашла чем утешиться! Женился бы! Негодяй! Собака! Чтоб душе его вечно гореть в адском огне? Господи, дай, чтобы… чтобы… ох, если б только я не был христианином… Он стиснул кулаки, весь дрожа от ярости. Миссис Герхардт зарыдала; муж отвернулся — он был слишком потрясен, чтобы ей сочувствовать. Он опять стал ходить по кухне взад и вперед; пол дрожал под его тяжелыми шагами. Немного погодя Герхардт снова подошел к жене, — теперь страшная истина предстала перед ним в новом свете. — Когда это случилось? — спросил он. — Не знаю, — ответила миссис Герхардт, слишком испуганная, чтобы сказать правду. — Я сама только на днях все узнала. — Лжешь! — крикнул он. — Ты всегда ей потакала. Это ты виновата, что она до этого дошла. Если б ты не мешала мне и все шло бы по-моему, нам теперь не пришлось бы так мучиться. «До чего дошло! — продолжал он про себя. — До чего дошло! Мой сын попадает в тюрьму. Моя дочь шляется по улицам и дает повод к сплетням. Соседи говорят мне в лицо, что мои дети ведут себя неприлично. А теперь этот мерзавец ее погубил. Господи, да что же это стряслось с моими детьми!» — И за что мне такое наказание, — бормотал он, охваченный жалостью к самому себе. — Я ли не стараюсь быть добрым христианином! Каждый вечер я молюсь, чтоб господь указал мне путь истинный, но все напрасно. Работаю, работаю… Вот они, мои руки, все в мозолях. Всю жизнь я старался быть честным человеком. И вот… вот… Голос его сорвался, казалось, он сейчас расплачется. И вдруг в порыве гнева он накинулся на жену. — Это ты во всем виновата! — кричал он. — Ты одна! Если б ты поступала, как я велел, ничего бы не случилось. Так нет же, ты меня не слушала. Пускай она убирается вон! вон! вон!!! Потаскушка, вот кто она такая! Теперь ей одна дорога — в ад. И пускай туда и отправляется. Я умываю руки. Хватит с меня. Он повернулся, собираясь уйти в свою крохотную спальню, но, не дойдя до двери, остановился. — Пускай убирается вон! — повторил он в бешенстве. — Ей нет места в моем доме! Сегодня же! Сейчас же! Я больше ее на порог не пущу. Я ей покажу, как меня позорить! — Не гони ее сегодня, — умоляла миссис Герхардт. — Ей некуда идти. — Нет, сегодня же! — сказал он, и на его суровом лице отразилась непреклонная решимость. — Сию минуту! Пускай ищет себе другой дом. Этот ей был не по вкусу. Так вот, пускай убирается. Посмотрим, каково ей будет у чужих. И он вышел из комнаты. В половине шестого, когда миссис Герхардт, заливаясь слезами, стала готовить ужин, вернулась Дженни. Мать вздрогнула, услыхав стук двери: она знала, что сейчас грянет буря. Отец встретил Дженни на пороге. — Прочь с глаз моих! — сказал он в ярости. — Чтоб духу твоего не было в моем доме! Не попадайся мне больше на глаза. Вон! Дженни стояла перед ним бледная, дрожащая, и молчала. Дети, вернувшиеся вместе с нею, окружили ее изумленные и испуганные. Вероника и Марта, нежно любившие сестру, заплакали. — В чем дело? — спросил Джордж, совершенно ошарашенный. — Пускай убирается, — повторил Герхардт. — Я не желаю терпеть ее в своем доме. Хочет быть потаскушкой — ее дело, но пускай убирается отсюда. Собирай свои вещи, — прибавил он, взглянув на дочь. Дженни не промолвила ни слова, но дети заплакали еще громче. — Молчать! — прикрикнул Герхардт. — Ступайте на кухню. Он выпроводил их из комнаты и вышел сам, даже не обернулся. Дженни тихо прошла к себе в комнату. Она собрала свои скудные пожитки и стала со слезами укладывать их в принесенную матерью корзинку. Девичьи безделушки, которых у нее набралось немного, она не взяла с собою. Они попались ей на глаза, но она подумала о младших сестрах и оставила их на прежнем месте. Марта и Вероника хотели помочь ей уложить вещи, но отец их не пустил. В шесть часов пришел домой Басс и, застав все встревоженное семейство на кухне, осведомился, в чем дело. Герхардт хмуро посмотрел на него и не ответил. — В чем дело? — настаивал Басс. — Чего ради вы тут сидите? — Отец выгнал Дженни из дому, — со слезами шепнула миссис Герхардт. — За что? — изумился Басс. — Я тебе скажу, за что, — откликнулся по-немецки Герхардт. — За то, что она потаскушка, вот за что. Дошла до того, что ее совратил человек на тридцать лет старше ее, который ей в отцы годился. Пускай теперь выпутывается как знает. И чтоб духу ее здесь не было! Басс огляделся, дети широко раскрыли глаза. Все, даже самые маленькие, чувствовали, что случилось что-то ужасное. Но один только Басс понял, в чем дело. — Чего ради ты гонишь ее на ночьглядя? — спросил он. — Сейчас не время девушке быть на улице. Разве нельзя подождать до утра? — Нет, — сказал Герхардт. — Напрасно ты это, — вставила мать. — Пускай уходит сейчас же, сказал Герхардт, — и чтоб больше я об этом не слышал. — Куда же она пойдет? — допытывался Басс. — Не знаю, — беспомощно сказала миссис Герхардт. Басс еще раз оглядел все, но ни слова не сказал: немного погодя мать воспользовалась минутой, когда Герхардт отвернулся, и глазами указала на дверь. «Иди в комнату», — означал ее взгляд. Басс вышел, а затем и миссис Герхардт осмелилась отложить работу и последовать за сыном. Дети посидели еще немного в кухне, потом один за другим и они ускользнули, оставив отца в одиночестве. Когда, по его мнению, прошло достаточно времени, он тоже поднялся. Тем временем мать поспешно давала дочери необходимые наставления. Пусть Дженни поселится где-нибудь в скромных меблированных комнатах и сообщит свой адрес. Басс сейчас не выйдет вместе с нею, но пускай она отойдет в сторону и подождет его на улице — он ее проводит. Когда отец будет на работе, мать навестит ее, или пусть Дженни придет домой. Все остальное можно отложить до следующей встречи. Не успели они договориться, как в комнату вошел Герхардт. — Уйдет она или нет? — резко спросил он. — Сейчас, — ответила миссис Герхардт, и в голосе ее в первый и единственный раз прозвучал вызов. — Что за спешка? — сказал Басс. Но отец так грозно нахмурился, что он не решился больше возражать. Вошла Дженни в своем единственном хорошем платье, с корзинкой в руках. Глаза ее смотрели испуганно, ибо она понимала, что ее ждет суровое испытание. Но теперь она стала взрослой женщиной. Она обрела силу в любви, опору — в терпении и познала великую сладость жертвы. Молча она поцеловала мать, слезы катились по ее щекам. Потом она повернулась и вышла навстречу новой жизни, и дверь закрылась за нею.Глава 10
В мире, куда в такую трудную для нее пору была брошена Дженни, добродетель всегда, с незапамятных времен, тщетно отстаивала свое право на существование; ибо добродетель — это способность желать людям добра и делать им добро. Добродетель — это великодушие, с радостью готовое служить всем и каждому, но общество не слишком дорожит этим качеством. Оцените себя дешево — вами станут пренебрегать, станут топтать вас ногами. Цените себя высоко, хотя бы и не по заслугам — и вас будут уважать. Общество в целом на редкость плохо разбирается в людях. Единственный его критерий — «что скажут другие». Единственное его мерило — чувство самосохранения. Сохранил ли такой-то свое состояние? Сохранил ли такой-то свою чистоту? Как видно, лишь очень редкие люди способны порою высказать самостоятельное суждение. Дженни и не пыталась ценить себя высоко. У нее была врожденная склонность к самопожертвованию. Вовсе не просто было бы привить ей житейское себялюбие, которое помогает уберечься от зла. В минуты высшего напряжения всего заметней растет человек. Он ощущает мощный прилив сил и способностей. Мы еще дорожим, еще опасаемся сделать неверный шаг, но мы растем. Нами руководят вспышки вдохновения. Природа никого не отвергает. Если среда или общество от нас отворачиваются, мы все же остаемся в содружестве со всем сущим. Природа великодушна. Ветер и звезды — твои друзья. Будь только добр и чуток — и ты постигнешь эту великую истину; быть может, она дойдет до тебя не в сложившихся формулах, но в ощущении радости и покоя, которое в конечном счете и составляет суть познания. В покое обретешь мудрость. Едва Дженни отошла от двери, ее нагнал Басс. — Дай-ка мне корзинку, — сказал он и, видя, что она от волнения не может выговорить ни слова, прибавил: — Я, кажется, знаю, где найти тебе комнату. Он повел ее в южную часть города, где их никто не знал, к одной старухе, недавно купившей в рассрочку стенные часы в магазине, в котором Басс теперь работал. Он знал, что она нуждается в деньгах и хочет сдать комнату. — Ваша комната еще свободна? — спросил он эту женщину. — Да, — ответила она, разглядывая Дженни. — Может быть, вы сдадите ее моей сестре? Мы переезжаем в другой город, а она пока не может ехать. Старуха согласилась, и скоро Дженни обрела временное пристанище. — Ты не расстраивайся, — сказал Басс, искренне огорченный за сестру. — Все утрясется. И мама сказала, чтоб ты не расстраивалась. Приходи завтра домой, когда отец уйдет на работу. Дженни обещала прийти; Басс сказал ей еще несколько ободряющих слов, договорился со старухой, что Дженни будет столоваться у нее, и распрощался. — Ну вот, все в порядке, — сказал он уже в дверях. — Все будет хорошо. Не расстраивайся. Мне пора идти, а утром я к тебе забегу. Он ушел, и неприятные мысли не слишком его тревожили: ведь он считал, что сестра и в самом деле виновата. Это было ясно из того, как он расспрашивал ее дорогой, хоть и видел, что она грустна и растеряна. — Чего ради ты на это пошла? — допытывался он. — Ты хоть раз подумала, что делаешь? — Пожалуйста, не спрашивай меня сейчас, — сказала Дженни и тем самым положила конец его настойчивым расспросам. Ей нечем было оправдываться и не на что жаловаться. Если уж кто и виноват, так именно она. Беда, в которую попал сам Басс и вовлек семью, и самопожертвование Дженни — все было забыто. Оставшись одна в новом, чужом месте, Дженни дала волю отчаянию. Пережитое потрясение, стыд, что ее выгнали из родного дома, — все это было уж слишком: она не выдержала и разрыдалась. Правда, от природы она была терпелива и не любила жаловаться, но внезапное крушение всех надежд сломило ее. Что же это за сила, которая может вихрем налететь на человека и сокрушить его? Почему так внезапно врывается смерть и разбивает вдребезги все, что казалось самым светлым и радостным в жизни? Думая о прошлом, Дженни припоминала все подробности своего знакомства с Брэндером и, как ни велико было ее горе, не чувствовала к нему ничего, кроме любви и нежности. В конце концов он не хотел нарочно причинить ей зло. Он и в самом деле был добр и великодушен. Это был по-настоящему хороший человек, и, думая прежде всего о нем, она искренне оплакивала его безвременную смерть. В таких неутешительных размышлениях прошла ночь, а с утра по дороге на работу забежал Басс и сказал, что мать вечером ждет Дженни. Отца не будет дома, и они смогут обо всем поговорить. Дженни провела долгий, тягостный день, но к вечеру настроение у нее поднялось, и в четверть восьмого она пошла к своим. Дома ее ждали не слишком радостные вести. Герхардт все еще охвачен неистовым гневом. Он решил в ближайшую же субботу отказаться от места и уехать в Янгстаун. Теперь в любом городе будет лучше, чем в Колумбусе; здесь он никогда больше не сможет смотреть людям в глаза. С Колумбусом для него теперь связаны самые невыносимые воспоминания. Он уедет отсюда и, если найдет работу, выпишет к себе семью, — а это значит, что надо будет расстаться со своим домиком. Все равно ему не уплатить по закладной, на что нечего надеяться. Через неделю Герхардт уехал, Дженни вернулась домой, и на некоторое время их жизнь опять вошла в прежнюю колею, но, конечно, ненадолго. Басс это понимал. Беда, случившаяся с Дженни, и ее возможные последствия угнетали его. В Колумбусе оставаться немыслимо. В Янгстаун переезжать не стоит. Уж если им всем надо куда-то ехать, так лучше в какой-нибудь большой город. Размышляя над создавшимся положением, Басс подумал, что стоит попытать удачи в Кливленде, где, как он слышал, промышленность бурно развивается. Если ему там повезет, остальные смогут переехать к нему. И если отец будет по-прежнему работать в Янгстауне, а вся семья переберется в Кливленд, то Дженни не окажется на улице. Басс не сразу пришел к этому выводу, но наконец сообщил о своем намерении. — Хочу поехать в Кливленд, — сказал он как-то вечером матери, когда она подавала ужин. — Зачем? — спросила миссис Герхардт, растерянно глядя на сына. Она побаивалась, что Басс их бросит. — Думаю, что найду там работу, — ответил он. — Незачем нам оставаться в этом паскудном городишке. — Не ругайся, — с упреком сказала мать. — Да ладно, — отмахнулся он. — Тут кто угодно начнет ругаться. Нам здесь всегда не везло. Я поеду, и, если найду работу, вы все переберетесь ко мне. Нам будет лучше в таком месте, где нас никто не знает. А тут добра не жди. Миссис Герхардт слушала, и в сердце ее пробудилась надежда, что им наконец станет хоть немного легче жить. Если бы только Басс сделал, как говорит. Вот бы он поехал и нашел работу, помог бы ей, как должен помогать матери здоровый и умный сын! Как было бы хорошо! Их подхватило стремительным потоком и несет к пропасти. Неужели ничто их не спасет?.. — А ты думаешь, что найдешь работу? — с живостью спросила она. — Должен найти, — ответил Басс. — Еще не было такого случая, чтоб я добивался места и не получил. Некоторые ребята уже уехали в Кливленд и отлично устроились. Миллеры, к примеру. Он сунул руки в карманы и поглядел в окно. — Как ты думаешь, проживете вы тут, пока я там не устроюсь? — спросил он. — Думаю, что проживем. Папа сейчас работает, и у нас есть немного денег, которые… которые… Она не решилась назвать источник, стыдясь положения, в котором они оказались. — Да, конечно, — мрачно сказал Басс. — До осени нам ничего не надо платить, а тогда все равно придется все бросить, — прибавила миссис Герхардт. Она говорила о закладной на дом; срок очередного платежа наступит в сентябре, и уплатить они, конечно, не смогут. — Если нам до тех пор удастся переехать в другой город, я думаю, мы как-нибудь проживем. — Так я и сделаю, — решительно сказал Басс. — Поеду. Итак, в конце месяца он отказался от места и на следующий же день уехал в Кливленд.Глава 11
Дальнейшие события в жизни Дженни принадлежат к числу тех, на которые наша современная мораль накладывает строжайший запрет. Некоторые законы матери-природы, великой и мудрой созидательной силы, творящей свое дело во тьме и в тиши, иным ничтожествам, также созданным ею, кажутся весьма низменными. Мы брезгливо отворачиваемся от всего, что связано с зарождением жизни, словно открыто интересоваться этим недостойно человека. Любопытно, что такое чувство возникло в мире, самое существование которого состоит в том, чтобы без конца снова и снова рождать новую жизнь, в мире, где ветер, вода, земля и солнечный свет — все служит рождению плоти — рождению человека. Но хотя не только человек, а и вся земля движима инстинктом продолжения рода и все земное является на свет одним и тем же путем, почему-то существует нелепое стремление закрывать на это глаза и отворачиваться, словно в самой природе есть что-то нечистое. «Зачаты в пороке и рождены во грехе» — вот противоестественное толкование, которое дает ханжа законам природы, и общество молчаливо соглашается с этим поистине чудовищным суждением. Несомненно, такой взгляд на вещи в корне неправилен. В повседневные представления человека должно бы прочнее войти то, чему учит философия, к чему приходит биология: в природе нет низменных процессов, нет противоестественных состояний. Случайное отклонение от устоев и обычаев данного общества ни обязательно есть грех. Ни одно несчастное существо, нарушившее по воле случая установленный людьми порядок, нельзя винить в той безмерной низости, какую неумолимо приписывает ему мнение света. Дженни пришлось теперь воочию убедиться в превратном толковании того чуда природы, которое, если бы не смерть Брэндера, было бы священно и почиталось бы одним из высших проявлений жизни. Хотя она и не могла понять, чем отличается этот столь естественный и жизненный процесс от всех других, но окружающие заставляли ее чувствовать, что ее удел — падение и что ее состояние — грех и порождено грехом. Все это едва не убило любовь, внимание и заботливость, которых впоследствии люди потребуют от нее по отношению к ее ребенку. Эта созревающая естественная и необходимая любовь едва ли не стала казаться злом. Дженни не повели на эшафот, не бросили в тюрьму, как карали подобных ей несколько веков назад, но невежество и косность окружающих мешали им видеть в ее состоянии что-либо, кроме подлого и злонамеренного нарушения законов общества, а это каралось всеобщим презрением. Ей оставалось лишь избегать косых взглядов и молча переживать происходившую в ней великую перемену. Как ни странно, она не испытывала напрасных угрызений совести, бесплодных сожалений. Сердце ее было чисто, на душе легко и спокойно. Правда, горе не забылось, но оно утратило прежнюю остроту — осталась только смутная неуверенность и недоумение, от которых порою глаза Дженни наполнялись слезами. Слыхали ли вы воркованье лесной горлинки в тиши летнего дня; случалось вам набрести на неведомый ручеек, который журчит и лепечет в глуши, где ничье ухо не может его услышать? Под мертвой прошлогодней листвой, под снежным покровом распускаются скромные подснежники, словно откликаясь весенней синеве неба. Так зарождается и новая жизнь. Дженни осталась одна, но, как лесная горлинка, она вся была ласковой песней лета. Она хлопотала по хозяйству и спокойно, безропотно ждала завершения того, что в ней происходило и для чего она служила в конце концов всего лишь священным сосудом. В часы досуга она предавалась мирному раздумью, словно завороженная чудом жизни. Когда же ей приходилось особенно много хлопотать, помогая матери, Дженни порой начинала тихонько напевать, потому что за работой легче было забыться. И всегда она смотрела в будущее спокойно, с ясным и бестрепетным мужеством. Далеко не все женщины на это способны. Жаль, что природа вообще позволяет ничтожным натурам становиться матерями. Женщины, достойные так называться, достигнув зрелости, радуются материнству и с гордостью и удовлетворением выполняют свой великий долг перед родом человеческим. Дженни, по возрасту почти еще ребенок, физически и духовно была уже взрослой женщиной, но еще не имела ясного представления о жизни и о своем месте в ней. Необычайный случай, который привел ее к теперешнему ненормальному положению, был в известном смысле данью ее достоинствам. Он подтверждал ее мужество, отзывчивость, готовность жертвовать собою ради того, что она считала своим долгом. И если это привело к неожиданным последствиям, возложившим на нее новую, более тяжкую и сложную ответственность, — это произошло потому, что инстинкт самосохранения был в ней не столь силен, как другие чувства. Подчас она думала о предстоящем рождении ребенка со страхом и смущением, опасаясь, что когда-нибудь он упрекнет ее; но всегда спасительное сознание извечной справедливости бытия не давало ей окончательно пасть духом. Она думала, что люди не могут быть намеренно жестоки. В ней жило смутное представление о божественной доброте и любви. Жизнь прекрасна и в худшие и в лучшие часы ее, и всегда была прекрасна. Эти мысли пришли к ней не сразу, а в долгие месяцы ожидания. Как чудесно быть матерью, даже и в таких тяжелых условиях! Дженни чувствовала, что полюбит своего ребенка и будет ему хорошей матерью, если только жизнь позволит. Но в том-то и вопрос: позволит ли жизнь? Надо было многое сделать, сшить все необходимое для ребенка, позаботиться о собственном здоровье, о питании. Притом Дженни все время боялась, как бы вдруг не вернулся отец; но этого не случилось. Обратились к старому врачу, который всегда лечил семейство Герхардтов от всех болезней, — к доктору Элуонгеру, и он дал несколько дельных и здравых советов. Догмы религии не помешали этому сыну лютеранской церкви стать великодушным врачом и на основе долголетнего опыта прийти к выводу, что есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам и не укладывается в наши мелкие, обывательские представления о жизни. — Так, так, — сказал он, когда миссис Герхардт рассказала ему о случившейся беде. — Ну, не горюйте. Такие вещи случаются чаще, чем вы думаете. Если бы вы знали о жизни и о ваших соседях столько же, сколько знаю я, вы не стали бы плакать. Ваша дочка прекрасно это перенесет. У нее отменное здоровье. А потом она может куда-нибудь уехать, и никто ничего не узнает. Стоит ли огорчаться из-за того, что скажут соседи? Это не такой редкий случай, как вам кажется. Миссис Герхардт вздохнула с облегчением. Какой он умный, этот доктор. Его слова немного подбодрили ее. А Дженни выслушала его с интересом и без страха. Она думала не о себе, но о ребенке и непременно хотела выполнить все, что было велено. Врач полюбопытствовал, кто отец ребенка; услышав ответ, он поднял глаза к небу. — Что и говорить, — сказал он, — ребенок должен быть замечательный. Наконец настал час, когда младенцу надлежало появиться на свет. Принимал его доктор Элуонгер, ему помогала миссис Герхардт, которая будучи матерью шестерых детей, в точности знала, что надо делать. Все прошло благополучно; услышав первый крик новорожденного, Дженни всем существом потянулась к нему. Ее ребенок! Это была крошечная девочка, — слабая, беспомощная, она так нуждалась в материнской заботе. Когда ребенка выкупали и запеленали, Дженни с трепетом, с бесконечной радостью поднесла его к груди. Ее дитя, ее дочка! Дженни жаждала жить и работать для нее, и даже сейчас, совсем слабая, радовалась, что вообще-то здоровье у нее крепкое. Доктор Элуонгер предсказывал, что она быстро оправится. Он считал, что ей придется провести в постели никак не больше двух недель. И в самом деле, уже через десять дней она была на ногах, бодрая и крепкая, как всегда. Дженни была от природы сильная и здоровая, она обладала всеми качествами, которые нужны настоящей матери. Решительный час миновал, и жизнь пошла почти по-старому. Сестры и братья, кроме Басса, были слишком молоды, чтобы понять толком, что произошло, и поверили, когда им сказали, будто Дженни вышла замуж за сенатора Брэндера, который вскоре после этого внезапно умер. Они ничего не знали о ребенке, пока он не родился. Миссис Герхардт боялась соседей, которые всегда за всем следили и все знали. Дженни ни за что не выдержала бы этой обстановки, если бы Басс, который незадолго перед тем устроился в Кливленде, не написал ей, что, как только она совсем окрепнет, вся семья должна переехать к нему и начать новую жизнь. В Кливленде дела процветают. Уехав из Колумбуса, они никогда больше не встретятся с нынешними своими соседями, и Дженни сможет найти себе какую-нибудь работу. А пока что она оставалась дома.Глава 12
В ту пору, когда Басс попал в Кливленд, город рос не по дням, а по часам, и это зрелище сразу восстановило душевное равновесие юноши, пробудило надежду поправить и свои дела и дела семьи. «Лишь бы они приехали, — думал он. — Лишь бы им найти работу, тогда все пойдет как надо». Здесь ничто не говорило о постигших семью новых несчастьях, не было знакомых, которые одним своим видом напоминали бы о несчастьях более давних. Все насыщено было деятельностью, энергией. Казалось, стоит лишь повернуть за угол, чтобы избавиться от минувших дней и минувших провинностей. В каждом новом квартале открывался новый мир. Басс быстро нашел место в табачном магазине и, прослужив там месяца полтора, стал писать домой, излагая свои радужные планы. Дженни должна приехать, как только сможет, а потом, когда она найдет работу, за ней последуют и остальные. Для девушек ее возраста работы сколько угодно. Временно она может поселиться вместе с ним, или, может быть, удастся снять домик из тех, что сдаются за пятнадцать долларов в месяц. Тут есть большие мебельные магазины, где можно купить все необходимое в рассрочку на вполне приемлемых условиях. Мать станет вести хозяйство. Они будут жить в своем новом окружении, никто не будет их знать и сплетничать про них. Они начнут жизнь сначала и станут порядочными, почтенными, преуспевающими людьми. Охваченный мечтами и надеждами, какие всегда волнуют молодого, неискушенного человека на новом месте, среди новых людей. Басс наконец написал Дженни, чтобы она выезжала немедленно. К этому времени ее ребенку исполнилось полгода. Здесь есть театры, писал Басс, красивые улицы. Пароходы с озер заходят в самый центр города. Кливленд — удивительный город, и он очень быстро растет. Это больше всего нравилось Бассу в его новой жизни. Все это произвело на миссис Герхардт, Дженни и остальных членов семейства необычайное впечатление. Миссис Герхардт слишком тяжело переживала последствия проступка Дженни и теперь стояла за то, чтобы немедленно последовать совету Басса. От природы она была так жизнерадостна и чужда унынию, что сейчас совсем увлеклась лучезарными перспективами жизни в Кливленде и уже видела осуществленной свою заветную мечту не только об уютном домике, но и о блестящем будущем детей. «Конечно они найдут работу», — говорила она. Басс прав. Ей всегда хотелось, чтобы муж переехал в какой-нибудь большой город, но он отказывался. А теперь это необходимо, и они поедут и заживут благополучно, как никогда. И Герхардт присоединился к ее мнению. В ответ на письмо жены он написал, что с его стороны было бы неразумно отказаться от места, но если, по мнению Басса, они могут устроиться в Кливленде, то, пожалуй, пусть переезжают. Он тем охотнее принимал этот план, что его чуть не до безумия доводили тревожные мысли о том, как прокормить семью и уплатить просроченные долги. Каждую неделю он откладывал из своей получки пять долларов и посылал их жене. Три доллара он тратил на еду и пятьдесят центов оставлял на мелкие расходы: на церковные сборы, на горсть табаку да изредка — на кружку пива. Кроме того, он завел копилку и каждую неделю откладывал полтора доллара на черный день. Жилищем ему служил голый, неуютный угол на фабричном чердаке. До девяти часов вечера Герхардт одиноко сидел у ворот фабрики, глядя на пустынные, глухие улицы, а потом взбирался на чердак; здесь в удушливом запахе машинного масла, подымающемся из нижних этажей, при свете сальной свечи, старик все также одиноко заканчивал свой день: читал немецкую газету, задумывался, скрестив руки на груди, а потом в темноте опускался на колени у открытого окна и, помолясь на сон грядущий, вытягивался на своем жестком ложе. Дни тянулись бесконечно долго, будущее казалось унылым и безотрадным. И все же, возведя руки к небесам, он с безграничной верой молился о том, чтобы ему простились его грехи и дано было еще несколько лет покоя и счастья в кругу семьи. Итак, важнейший вопрос был наконец решен. Дети изнывали от нетерпения, и миссис Герхардт втайне разделяла их чувства. Дженни должна была выехать первой, как и предлагал Весе; за нею двинутся в Кливленд и остальные. Когда настал час отъезда Дженни, все разволновались. — Ты скоро нас выпишешь к себе? — снова и снова спрашивала Марта. — Скажи Бассу, чтоб поскорее, — требовал Джордж. — Хочу в Кливленд, хочу в Кливленд! — напевала Вероника, когда думала, что ее никто не слышит. — Ишь ты, чего захотела, — насмешливо воскликнул Джордж, услыхав эту песенку. — А тебе-то что? — обиженно сказала девочка. Но когда настали минуты прощания, Дженни должна была призвать на помощь все свое мужество. Хотя это делалось для того, чтобы они поскорее могли опять зажить все вместе и лучше прежнего, она невольно пала духом. Ей приходилось расставаться со своей шестимесячной дочуркой. Впереди ждал огромный, неведомый мир, и он пугал ее. — Не тревожься, мамочка, — сказала она, собравшись с силами. — Все будет хорошо. Я напишу тебе, как только приеду. Это будет очень скоро. Но когда надо было в последний раз взглянуть на ребенка, мужество Дженни угасло, как спичка на ветру. Склонившись над колыбелью, она со страстной нежностью смотрела в лицо дочурки. — Ты ведь будешь хорошей девочкой? — повторяла она. Потом схватила ребенка на руки, крепко прижала к груди и прильнула лбом к крошечному тельцу. Миссис Герхардт увидела, что она вся дрожит. — Ну-ну, не надо так волноваться, — стала она уговаривать Дженни, — малышке будет хорошо со мной. Я сумею о ней позаботиться. Если ты будешь так расстраиваться, лучше вовсе не ехать. Дженни подняла голову и передала девочку матери; ее голубые глаза были влажны. — Не могу удержаться, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. Потом торопливо поцеловала мать, сестер и братьев и выбежала из комнаты. Шагая по улице рядом с Джорджем, она обернулась и весело махнула рукой. Миссис Герхардт помахала в ответ и при этом подумала, что Дженни теперь с виду совсем взрослая. Перед ее отъездом часть денег пришлось истратить на новое платье, потому что иначе ей не в чем было ехать. И теперь на ней был изящный коричневый костюм, который очень ей шел, белая блузка и соломенная шляпа с белой вуалью, которую можно было опустить на лицо, Она уходила все дальше, а миссис Герхардт провожала ее взглядом, полным бесконечной любви; и когда Дженни скрылась из виду, мать с нежностью сказала сквозь слезы: — Во всяком случае, я очень рада, что она так мило выглядит.Глава 13
Басс встретил Дженни на вокзале в Кливленде и тотчас же бодро заговорил о будущем. — Первым делом надо найти работу, — начал он, а сестра, оглушенная шумом и звоном, одурманенная непривычным, насыщенным резкими запахами воздухом большого промышленного города, растерялась и уже ничего не видела и не слышала. — Надо найти тебе какое-нибудь место, — продолжал Басс. — Все равно какое, лишь бы найти. Даже если ты будешь получать хоть доллара четыре в неделю, этого уже хватит, чтоб платить за квартиру. Да еще Джордж начнет зарабатывать, когда приедет, да папа посылает, так что мы отлично проживем. Куда лучше, чем в этой жалкой дыре — в Колумбусе! — Да, — неопределенно отвечала Дженни; она была до того захвачена новизной окружающего, что никак не могла заставить себя сосредоточиться на этой важной теме. — Да, понимаю. Я что-нибудь подыщу. Она стала много старше, если не годами, то разумом. Испытание, которое ей только что пришлось пережить, помогло ей яснее понять, какую большую ответственность возлагает на нее жизнь. Она непрестанно думала о матери — о матери и о детях. В частности, надо постараться, чтобы Марта и Вероника устроили свою жизнь лучше, чем она. Нужно их лучше одевать; они должны окончить школу; пусть у них будет больше друзей, больше возможности расширить свой кругозор и свои знакомства. Кливленд, как и всякий молодой, растущий город в те годы, был переполнен людьми, ищущими работы. То и дело открывались новые предприятия, но свободных рабочих рук было всегда больше, чем требовалось. Новому человеку, приехавшему в город, могло в тот же день подвернуться какое угодно место; но случалось и так, что приезжий бродил в поисках работы долгие недели и даже месяцы. Басс предложил Дженни прежде всего попытать счастья в лавках и универсальных магазинах. А уж если там не выйдет, тогда можно поступить на фабрику или еще куда-нибудь. — Но только не упускай случая, если что подвернется, — предупредил он. — Бери сейчас же, какое место не предложат. — А что мне говорить? — озабоченно спросила Дженни. — Говори, что хочешь получить работу. Что тебе все равно, с чего начинать. Дженни в первый же день попробовала последовать наставлениям брата и в награду получила несколько ледяных отказов. Куда бы она ни обращалась, нигде видимо, не нуждались в новых служащих. Она заходила в магазины, на фабрики, в мелкие мастерские, которых было множество на окраинах, но всюду ей указывали на дверь. Наконец она стала искать места прислуги, хоть и очень надеялась, что ей не придется прибегнуть к этому последнему средству. Внимательно читая объявления в газетах, она выбрала четыре, показавшиеся ей наиболее подходящими, и пошла по этим адресам. Одно место было уже занято, когда она пришла, но лицо Дженни произвело такое впечатление на даму, которая открыла ей дверь, что та предложила ей войти и стала расспрашивать. — Жаль, что вы не пришли немного раньше, — сказала она. — Вы мне больше нравитесь, чем девушка, которую я наняла. На всякий случай оставьте мне ваш адрес. Дженни ушла, улыбаясь, обрадованная этим приветливым приемом. Она теперь уже не казалась такой юной, как прежде, до постигших ее испытаний; лицо ее осунулось, глаза немного запали, и это придавало всему ее облику еще большую задумчивость и нежность. Она была образцом аккуратности. В опрятном, только что выстиранном и выглаженном платье она казалась такой свежей и привлекательной. Она еще не перестала расти, но видно было, что это уже не девочка, а двадцатилетняя женщина. А главное, у Дженни был счастливый характер, и, несмотря на тяжелую работу и лишения, она никогда не теряла бодрости. Для всякого, кому требовалась служанка или компаньонка, она была бы поистине находкой. Наконец она направилась в большой особняк на авеню Эвклида; он показался ей слишком роскошным, — едва ли здесь могли понадобиться ее услуги, но, раз уж она пришла, следовало попытаться. Слуга, открывший дверь, предложил ей немного подождать, а затем провел ее на второй этаж, в будуар хозяйки дома — миссис Брейсбридж. Эта дама, приятная брюнетка того типа, что часто встречается в светском обществе, недурно разбиралась в женской красоте и сразу оценила внешность Дженни. Она поговорила с молодой женщиной и решила взять ее на испытание в качестве горничной. — Я буду платить вам четыре доллара в неделю, и вы можете жить здесь, если хотите, — сказала миссис Брейсбридж. Дженни объяснила, что она живет у брата, а вскоре к ним приедет и вся семья. — Ну что ж, — заметила хозяйка, — устраивайтесь как вам удобнее. Только утром являйтесь вовремя. Она пожелала, чтобы новая горничная сейчас же приступила к своим обязанностям, и Дженни согласилась. Миссис Брейсбридж распорядилась, чтобы Дженни дали изящную наколку и фартучек, и вкратце объяснила, что от нее требуется. Горничная прежде всего должна ухаживать за хозяйкой, причесывать ее, помогать одеваться. Она должна также открывать дверь, когда позвонят, в случае необходимости прислуживать за столом и вообще исполнять все поручения хозяйки. Будущей горничной показалось, что миссис Брейсбридж несколько сурова и суховата, но при всем том Дженни была восхищена ее энергией и властными манерами. В восемь часов вечера Дженни сказали, что на сегодня она свободна. Она спрашивала себя, неужели действительно ее сочли подходящей горничной для такого большого, богатого дома, и была в восторге от того, что так замечательно устроилась. Хозяйка поручила ей для начала почистить драгоценности и безделушки, украшавшие будуар, и хотя Дженни работала усердно и прилежно, она не успела сделать все до восьми часов. Она спешила вернуться домой, радуясь, что сейчас скажет брату, какое место она нашла. Теперь мать может приехать в Кливленд. Теперь ее дочурка будет с нею. Теперь они в самом деле заживут по-новому, и эта новая жизнь будет гораздо легче, лучше и радостнее прежней. По предложению Басса Дженни написала матери, чтобы та приезжала немедленно, а примерно через неделю они подыскали и сняли подходящий домик. Миссис Герхардт с помощью детей уложила нехитрые домашние пожитки, в том числе мебель, которая вся уместилась в одном фургоне, и через две недели они поселились в новом жилище. Миссис Герхардт всегда так хотелось жить в хорошем, уютном доме. Прочная и красивая мягкая мебель, толстый ковер приятного теплого цвета, много стульев, кресел, картины, кушетки, пианино — всю жизнь она мечтала об этих прекрасных вещах, но у нее никогда не было возможности осуществить свои мечтая. И все же она не отчаивалась. Быть может, когда-нибудь на своем веку она еще насладится всем этим. Пожалуй, вот теперь счастье ей улыбнется. Приехав в Кливленд и увидев веселую, сияющую Дженни, миссис Герхардт совсем воспрянула духом. Басс заверил ее, что они отлично проживут всей семьей. Он отвез их к себе, а потом велел Джорджу вернуться на вокзал и привезти багаж. От денег, которые сенатор Брэндер прислал Дженни, у миссис Герхардт еще оставалось пятьдесят долларов — на это можно купить в рассрочку кое-какую недостающую мебель. Басс уже внес квартирную плату за месяц вперед, а Дженни последние вечера только и делала, что мыла полы и окна, и навела в новом доме идеальную чистоту. Теперь, в первый вечер, у них было два новых матраца и ватные одеяла, разостланные на безукоризненно чистом полу; новая лампа, купленная в магазине по соседству; ящик, который Дженни заняла в бакалейной лавке для хозяйственных надобностей и который пока что служил миссис Герхардт креслом; на ужин и на завтрак был хлеб и немного колбасы. До девяти часов они сидели и строили планы на будущее, потом все, кроме Дженни и миссис Герхардт, улеглись спать. А мать с дочерью продолжали беседовать, причем решающее слово принадлежало Дженни. Мать теперь чувствовала себя в какой-то мере зависимой от нее. За неделю весь дом привели в порядок, купили кое-что из мебели, ковер и необходимую кухонную утварь. Досаднее всего было то, что пришлось купить печку — еще один большой расход. Младшие дети поступили в школу, но было решено, что Джордж должен найти работу. Дженни и миссис Герхардт болезненно переживали всю несправедливость этой жертвы, но не знали, как ее избежать. — Постараемся, чтоб он учился в будущем году, — сказала Дженни. Как ни благополучно, по-видимому, начиналась новая жизнь, но доходы семьи едва покрывали расходы, и равновесие бюджета вечно было под угрозой. Басс, сперва исполненный великодушия, вскоре объявил, что достаточно, если он будет давать в общий котел четыре доллара — за комнату и за питание. Дженни отдавала весь свой заработок и уверяла, что ей ничего не нужно, лишь бы за ее девочкой был должный уход. Джордж нашел место рассыльного в магазине, получал два с половиной доллара в неделю и первое время охотно отдавал их матери. Позже было решено по справедливости оставлять ему пятьдесят центов на мелкие расходы. Герхардт, по-прежнему одиноко трудившийся вдали от семьи, присылал почти пять долларов, всякий раз напоминая, что необходимо понемногу откладывать деньги для уплаты старых долгов в Колумбусе, до сих пор лежащих на его совести. Итак, общий доход равнялся пятнадцати долларам в неделю, и на эти деньги нужно было кормить и одевать всю семью, платить за квартиру, покупать уголь и ежемесячно вносить по три доллара за купленную в рассрочку мебель, стоившую пятьдесят долларов. Как это делать? Пусть люди обеспеченные, часто и охотно рассуждающие о том, что такое бедность с социальной точки зрения, дадут себе труд поискать ответа на этот вопрос. Только квартирная плата, уголь и освещение поглощали кругленькую сумму — двадцать долларов в месяц; на еду — еще одна, к сожалению, неизбежная статья расхода — уходило двадцать пять долларов; на одежду, взносы за мебель, всякие сборы, необходимые лекарства и тому подобное должно было хватить остающихся пятнадцати долларов, а каким образом — это пусть подскажет обеспеченному читателю его пылкое воображение. Так или иначе, концы сводились с концами, и пока что Герхардты были полны надежд и полагали, что им живется превосходно. В ту пору их семейство могло служить достойным примером скромного и честного трудолюбия. Миссис Герхардт, которая работала, как служанка, и не получала ни малейшего вознаграждения — ни платьев, ни развлечений, ни чего-либо другого, — каждое утро подымалась чуть свет, когда все еще спали, разводила огонь и принималась готовить завтрак. В тонких, истоптанных шлепанцах, в которые приходилось вкладывать газетную бумагу (иначе они сваливались с ног), она неслышно двигалась по комнате и нередко, с бесконечной нежностью глядя на спящих крепким сном Дженни, Басса и Джорджа, от всего сердца желала, чтобы им не приходилось вставать так рано и работать так тяжело. Порою, прежде чем разбудить свою любимицу Дженни, мать всматривалась в ее усталое, бледное лицо, такое спокойное во сне, и горько жалела, что судьба обошлась с нею так жестоко. Потом ласково дотрагивалась до плеча спящей и шепотом звала ее по имени, пока Дженни не просыпалась. Когда дети поднимались, завтрак был уже готов. Когда они вечером возвращались домой, их ждал ужин. Миссис Герхардт никого из детей не обделяла вниманием и заботой. С маленькой внучки она не спускала глаз. Она уверяла, что ей самой не нужно ни платьев, ни обуви, — ведь кто-нибудь из детей всегда может пойти и выполнить любое ее поручение. Из всех детей одна Дженни до конца понимала мать и, нежно любя ее, всеми силами старалась ей помочь. — Мамочка, дай я сделаю. — Оставь, мамочка, я сама об этом позабочусь. — Посиди, отдохни, мамочка. В этих простых словах выражалась бесконечная любовь, связывавшая Дженни с матерью. Они всегда прекрасно понимали друг друга, и чем дальше, тем полней и глубже становилось это понимание. Дженни было невыносимо думать, что мать, словно пленница, не может выйти за порог. Весь день за работой она думала о бедном домике, где та хлопочет и трудится. Как бы хотелось Дженни дать ей отдых и скромный уют, которого мать всегда так жаждала!Глава 14
За то время, пока Дженни служила у Брейсбриджей, кругозор ее стал много шире. Этот великолепный дом оказался для нее школой, где она не только училась одеваться и держать себя, но и получала уроки житейской мудрости. Миссис Брейсбридж и ее супруг были люди сверхсовременные, воплощение самоуверенности, безупречного вкуса по части обстановки, умения одеваться по последней моде, принимать гостей и держаться в обществе по всем правилам самого хорошего тона. То и дело, без всякого повода, если не считать собственной прихоти, миссис Брейсбридж в кратких афоризмах излагала свою философию. — Жизнь — это борьба, дорогая моя. Если хочешь что-нибудь получить, надо за это драться. — По-моему, очень глупо не воспользоваться любым средством, которое поможет тебе сделать карьеру и добиться своего. (Это она сказала, слегка подкрашивая губы.) — Почти все люди глупы от рождения. Они живут, как того заслуживают, и ни на что лучшее не годятся. Презираю недостаток вкуса, это — самое большое преступление. Большинство этих мудрых наставлений не было обращено к Дженни. Но, нечаянно услыхав их, она не могла не задуматься. Словно семена, упавшие в добрую почву, они пустили ростки. У нее стало складываться некоторое представление об общественной лестнице, о власти. Быть может, высокое положение и не для нее, но оно существует на свете, и, если судьба улыбнется человеку, можно подняться ступенькой выше. Дженни работала и все думала, как ей добиться лучшей доли. Кто захочет жениться на ней, зная о ее прошлом? Как она объяснит существование ребенка? Ребенок, ее ребенок — самое главное, самое захватывающее, постоянный источник радости и страха. Сможет ли она хоть когда-нибудь сделать свою дочку счастливой? Первая зима прошла довольно гладко. Благодаря строжайшей экономии дети были одеты и ходили в школу, за квартиру и за мебель удавалось платить вовремя. Только раз возникла угроза мирному течению их жизни — когда отец написал, что приедет на Рождество домой. Фабрика должна была на это короткое время закрыться, и, естественно, Герхардту не терпелось посмотреть, как живет его семья в Кливленде. Миссис Герхардт от души обрадовалась бы мужу, если бы не боялась, что он устроит скандал. Дженни говорила об этом с матерью, та, в свою очередь, обсудила все с Бассом, и он посоветовал не робеть. — Не беспокойся, — сказал он, — отец ничего не сможет сделать. А если он что-нибудь скажет, я сам с ним потолкую. Сцена произошла неприятная, но все же не столь тяжелая, как боялась миссис Герхардт. Муж приехал днем, когда Басс, Дженни и Джордж были на работе. Двое из младших детей встретили его на вокзале. Когда он вошел в дом, миссис Герхардт нежно обняла его, с дрожью думая в то же время, что сейчас все неминуемо откроется. Ей не пришлось долго ждать. Через несколько минут Герхардт заглянул в спальню. На кровати, застланной белым покрывалом, спала хорошенькая девочка. Он тотчас понял, что это за ребенок, но сделал вид, будто не знает. — Чья это? — спросил он. — Дочка Дженни, — робко сказала миссис Герхардт. — Давно она здесь? — Не очень, — волнуясь, ответила мать. — И та, надо думать, тоже здесь, — зажил он, не желая даже назвать дочь по имени. — Она работает в услужении, — вступилась за Дженни миссис Герхардт. — Она теперь так хорошо себя ведет. Ей некуда больше деться. Не тронь ее. Живя вдали от семьи, Герхардт кое-что понял. Среди размышлений на религиозные темы у него возникали странные, непонятные мысли и чувства. В своих молитвах он признавался всевышнему, что напрасно поступил так с дочерью. Но он не решил еще, как обращаться с нею в дальнейшем. Она совершила тяжкий грех, от этого никуда не уйдешь. Вечером, когда Дженни вернулась домой, уже нельзя было избежать встречи. Герхардт увидел ее из окна и притворился, будто с головой ушел в газету. Жена, прежде умолявшая его хотя бы взглянуть на Дженни, теперь дрожала от страха, как бы он словом или жестом не оскорбил дочь. — Вот она идет, — сказала миссис Герхардт, заглянув в столовую, где он сидел, но Герхардт даже не поднял головы. — Скажи ей хоть слово, — успела она еще попросить, прежде чем отворилась дверь, но он не ответил. Когда Дженни вошла в дом, мать шепнула ей: — Отец в столовой. Дженни побледнела, прижала палец к губам и остановилась в нерешимости. Как быть? — Он видел?.. И замолкла, поняв по лицу матери, что отец уже знает о ребенке. — Иди, не бойся, — сказала миссис Герхардт. — Он ничего не скажет. Дженни наконец подошла к двери, увидела отца, на лбу которого прорезались морщины — знак глубокого раздумья, но не гнева, — и, мгновение поколебавшись, вошла в комнату. — Папа, — вымолвила она и остановилась, не в силах продолжать. Герхардт поднял голову, его серовато-карие глаза пытливо смотрели из-под густых светло-рыжих ресниц. При виде дочери что-то в нем дрогнуло; но он заслонился своей непреклонностью как щитом и ничем не показал, что рад видеть Дженни. В нем происходила отчаянная борьба между условной, общепринятой моралью и естественным отцовским чувством, но, как это часто бывает с недалекими людьми, сила условностей временно взяла верх. — Что? — сказал он. — Ты не простишь меня, папа? — Прощаю, — хмуро отозвался Герхардт. Дженни на миг замялась, потом шагнула к нему — он прекрасно понял,зачем. — Ну, все, — сказал он, слегка отстраняя ее, едва она коснулась губами его небритой щеки. Холодна была их встреча. Когда Дженни после этого горького испытания вышла на кухню и встретила вопросительный взгляд матери, она попыталась объяснить, что все как будто сошло благополучно, но ей не удалось скрыть свои чувства. «Вы помирились?» — хотела спросить мать, но не успела и слова сказать, как дочь опустилась на стул подле кухонного стола, уронила голову на руки и судорожно, беззвучно зарыдала. — Тише, тише, — сказала миссис Герхардт. — Не надо плакать. Что он тебе сказал? Дженни не сразу успокоилась настолько, чтобы ответить. Мать попыталась ее подбодрить. — Не огорчайся, — сказала она. — Отец всегда так. А потом все уладится.Глава 15
После приезда Герхардта встали во весь рост все проблемы, связанные с ребенком. Герхардт поневоле должен был склониться к точке зрения, естественной для деда: ведь ребенок — тоже человек, живая душа. Он спрашивал себя, окрестили ли девочку. Потом осведомился об этом вслух. — Нет еще, — ответила жена, которая не забыла об этом священном долге, но не была уверена, примут ли ее внучку в лоно церкви. — Ну, конечно, нет еще! — фыркнул Герхардт; он был не слишком высокого мнения о набожности жены. — Экая беззаботность! Экое безверие! Прекрасно, нечего сказать! После недолгого раздумья он решил, что зло необходимо исправить немедленно. — Ребенка надо окрестить, — сказал он. — Почему она этого не сделала? Миссис Герхардт напомнила ему, что кто-то должен быть крестным отцом; к тому же, чтобы окрестить девочку, неминуемо надо будет признаться, что у нее нет законного отца. Выслушав это, Герхардт умолк на несколько минут, но не такова была его вера, чтобы подобные затруднения могли заставить его забыть о своем долге. Как посмотрит господь на такие увертки? Это не по-христиански, и Герхардт обязан позаботиться о том, чтобы исправить дело. Дженни немедленно должна отнести ребенка в церковь и окрестить, а он и жена будут крестными; или, пожалуй, не стоит оказывать дочери такое снисхождение — он просто позаботится, чтобы ребенка окрестили без нее. Он обдумал это трудное положение и, наконец, решил, что крестины должны состояться в какой-нибудь ближайший будничный день, между Рождеством и Новым годом, когда Дженни будет на работе. Он предложил это жене и, получив ее одобрение, высказал еще одну мысль, которая его заботила: — У девочки нет имени. Дженни тоже говорила об этом с матерью и сказала, что ей нравится имя Веста. Теперь миссис Герхардт осмелилась сама это предложить. — Может, назовем ее Вестой? Герхардт выслушал жену с полным равнодушием. Втайне он уже сделал выбор. У него было про запас имя, сохранившееся в памяти со времен юности, хотя почему-то он не назвал так ни одну из собственных дочерей: Вильгельмина. Разумеется, он и не думал ни о каких нежностях в отношении к внучке. Просто это хорошее имя, и девочка должна быть за него благодарна. С рассеянным и недовольным видом Герхардт возложил свой первый дар на алтарь родственной любви, ибо в конце концов это был дар. — Недурно, — сказал он, забывая о своем равнодушии. — А может быть, назвать ее Вильгельминой? Миссис Герхардт не посмела ему перечить, раз уж он невольно смягчился. Женский такт выручил ее. — Можно дать ей оба имени, — сказала она. — Мне все едино, — ответил Герхардт, вновь уходя в свою скорлупу, из которой вылез, сам того не заметив. — Важно, чтоб ее окрестили. Дженни с радостью услыхала об всем этом, так как ей непременно хотелось добиться для своей девочки всех возможных преимуществ, будь то в отношении религии или в любом другом. Она положила немало труда на то, чтобы образцово накрахмалить и выгладить платьице и все, во что надо было нарядить дочку в назначенный день. Герхардт отыскал лютеранского священника из ближайшего прихода — большеголового, коренастого служителя церкви, педанта и формалиста — и изложил ему свою просьбу. — Это ваша внучка? — спросил священник. — Да, — сказал Герхардт. — Ее отца здесь нет. — Так, — произнес священник, с любопытством глядя на собеседника. Но Герхардта было нелегко сбить с толку. Он объяснил, что девочку принесут крестить он и его жена. Священник, догадываясь, в чем затруднительность положения, не стал больше расспрашивать. — Церковь не может отказать в крещении, поскольку вы, как дед, изъявляете желание стать крестным отцом ребенка, — сказал он. Герхардт ушел, болезненно ощущая, что тень позора пала и на него, но в то же время ему приятно было сознание исполненного долга. Теперь он отнесет девочку в церковь, ее окрестят, и тогда с него снимется всякая ответственность. Но, когда настал час крещения, оказалось, что какая-то новая сила вызывает в нем еще больший интерес к ребенку и чувство еще большей ответственности. Он снова слышал заповеди суровой религии, утверждающей высший закон, — заповеди, которые скрепили когда-то его связь с родными детьми. — Намерены ли вы воспитать это дитя в духе евангельской любви? — спрашивал священник в черном облачении; Герхардт и его жена стояли перед ним в маленькой тихой церковке, куда они принесли ребенка, и он задавал вопросы, какие полагаются по обряду, Герхардт сказал: «Да», — и миссис Герхардт также ответила утвердительно. — Обязуетесь ли вы с должным тщанием и усердием наставлять ее на путь истинный примером и строгостью, беречь ее от всякого зла и научить повиноваться воле божьей, как о сем сказано в священном писании? Герхардт слушал, и вдруг в мозгу его молнией блеснула мысль о том, что произошло с его детьми. Их тоже вот так крестили. Они тоже слышали его торжественное обещание заботиться об их праведности… Он молчал. — Да, обязуемся, — подсказал священник. — Да, обязуемся, — покорно повторил Герхардт и его жена. — Предаете ли вы обрядом крещения судьбу этого младенца в руки господа, который даровал ему жизнь? — Да. — И, наконец, если вы готовы по совести заявить пред богом, что вера ваша крепка и обеты ваши нерушимы и приняты в сердце вашем, подтвердите это пред лицом господа, сказав: да. — Да, — повторили они. — Крещается младенец Вильгельмина-Веста, во имя отца и сына и святого духа, — закончил священник, простирая руки над ребенком. — Помолимся. Герхардт склонил свою седую голову и стал набожно повторять про себя слова молитвы. Слушая эти торжественные слова, он ощущал великую ответственность за крошечное отверженное создание, лежащее в руках его жены, почувствовал, что должен заботиться о внучке, что он за нее в ответе перед самим богом. Он благоговейно склонил голову, и, когда все кончилось и они вышли из церкви, у него не нашлось слов, чтобы выразить свои чувства. Он веровал истово и горячо. Бог был для него живым существом, высшей реальностью. Религия — это не только занимательные мысли, речи, которые выслушиваешь по воскресеньям, но могучее, живое выражение божественной воли, унаследованное от тех времен, когда люди находились в личном, непосредственном общении с богом. В исполнении ее заветов Герхардт видел отраду и спасение, единственное утешение для существа, посланного скитаться в сей юдоли, смысл чего будет открыт нам не здесь, но в небесах. Герхардт медленно шел по улице, размышлял над священными словами, слышанными и произнесенными им в церкви, и над обязанностями, которые они на него налагали, — и Последняя тень отвращения, владевшего им, когда он шел с ребенком в церковь, исчезла, уступив место совершенно естественной нежности. Как бы тяжко ни согрешила его дочь, дитя ни в чем не повинно. Это беспомощное, слабое, хнычущее создание требовало от него заботы и любви. Герхардт чувствовал, что сердце его рвется к малютке, но он не мог так сразу сдать все свои позиции. — Прекрасный человек, — сказал он о священнике, шагая рядом с женой и быстро смягчаясь под влиянием мыслей о своем новом долге. — Да, правда, — робко согласилась миссис Герхардт. — И церковь хорошая, — продолжал он. — Да. Герхардт посмотрел по сторонам, на дома, на улицу, такую оживленную в этот солнечный зимний день, и, наконец, на девочку, которую несла жена. — Она, наверное, тяжелая, — сказал он по-немецки. — Дай-ка ее мне. Усталая миссис Герхардт согласилась. — Ну вот! — сказал он, взглянув на девочку и прислоняя ее головку к своему плечу, чтобы ей было удобнее. — Будем надеяться, что она окажется достойной всего, что было сделано для нее сегодня. И миссис Герхардт хорошо поняла, что звучало в его голосе. Присутствие этого ребенка в доме, быть может, еще не раз послужит поводом для тяжких переживаний и резких слов, но другая, более могущественная сила будет сдерживать Герхардта. Он всегда будет помнить о душе девочки. Он никогда больше не откажется от заботы о ней.Глава 16
Последние дни, которые Герхардт провел в Кливленде, он словно робел в присутствии Дженни и старался делать вид, что не замечает ее. Когда наступило время отъезда, он уехал, не простясь с нею и поручив жене сделать это за него; потом, по дороге в Янгстаун, он об этом пожалел. «Надо было с ней попрощаться», — думал он в поезде под грохот колес. Но было уже слишком поздно. А жизнь семьи шла своим чередом. Дженни продолжала служить у миссис Брейсбридж. Себастьян прочно обосновался в табачном магазине приказчиком. Джорджу повысили жалованье до трех долларов, а потом даже до трех с половиной. Это было нелегкое, скучное и однообразное существование. Уголь, еда, обувь и одежда были главной темой разговоров; все выбивались из сил, стараясь свести концы с концами. Чуткую Дженни тяготило множество забот, но больше всего тревожилась она о своем будущем — и не столько из-за себя, сколько из-за дочурки и всех родных. Она не представляла себе, что ее ждет. «Кому я нужна?» — снова и снова спрашивала она себя. Как поступить с ребенком, если кто-нибудь ее полюбит? А это вполне могло случиться. Дженни была молода, красива, и мужчины охотно ухаживали за нею, вернее, пытались ухаживать. У Брейсбриджей бывало много гостей, и некоторые пробовали приставать к хорошенькой горничной. — Деточка, да вы просто прелесть, — заявил ей один старый повеса лет пятидесяти с лишком, когда однажды утром она пришла к нему по поручению хозяйки. — Прошу прощения, — сказала она, смущаясь и краснея. — Право же, вы очаровательны. И незачем просить у меня прощения. Я хотел бы как-нибудь с вами потолковать. Он попытался потрепать ее по щеке, но Дженни увернулась и поспешила уйти. Она хотела рассказать об этом хозяйке, но стыд удержал ее. «Почему мужчины всегда так себя ведут?» — думала она. Быть может, в ней самой от природы есть что-то порочное, какая-то внутренняя испорченность, привлекающая испорченных людей? Любопытная черта беззащитных натур: они — как для мух горшок с медом, им никогда ничего не дают, но берут у них много. Мягкий, уступчивый, бескорыстный человек всегда становится добычей толпы. Люди издали чуют его доброту и беззащитность. Для обыкновенных мужчин такая девушка, как Дженни, словно огонек, около которого можно погреться: они тянутся к ней, добиваются ее расположения, стремятся ею завладеть. Вот почему многие досаждали ей своими любезностями. Однажды к Брейсбриджам приехал из Цинциннати некий Лестер Кейн, сын владельца большой фабрики экипажей, хорошо известной в самом Цинциннати и по всей стране. Лестер Кейн нередко навещал Брейсбриджей; особенно дружен он был с миссис Брейсбридж, которая выросла в Цинциннати и девочкой часто бывала в доме его отца. Она хорошо знала мать Лестера, его брата и сестер и всегда была у Кейнов своим человеком. — Знаешь, Генри, завтра приезжает Лестер, — сказала миссис Брейсбридж мужу в присутствии Дженни. — Я сегодня получила от него телеграмму. Вот бездельник! Я устрою его наверху, в большой восточной комнате. Будь к нему повнимательнее. Не забывай, что его отец всегда был очень добр ко мне. — Помню, — спокойно сказал муж. — Лестер мне нравится. Он самый интересный и умный в семье. Только слишком равнодушен ко всему. Ничто его не трогает. — Да, но он очень милый. Самый милый человек из всех наших знакомых. — Я буду вести себя вполне прилично. Кажется, я всегда был любезен с твоими друзьями? — Да, очень. — Ну, то-то же, — суховато заметил муж. Дженни приготовилась увидеть человека необыкновенного и не ошиблась. В гостиную вошел и поздоровался с хозяйкой мужчина лет тридцати шести, выше среднего роста, атлетически сложенный, с высоко поднятой головой, ясными глазами и упрямым подбородком. У него был удивительно сильный и звучный голос — и знакомые и незнакомые невольно к нему прислушивались. Говорил этот человек просто и кратко. — Добрый день, — начал он, здороваясь с хозяйкой дома. — Рад опять вас видеть. Как поживает мистер Брейсбридж? Как Фанни? Вопросы звучали живо и дружески, миссис Брейсбридж отвечала так же тепло. — Я очень рада вам, Лестер, — сказала она. — Джордж отнесет ваши вещи наверх. Пойдемте в мою комнату, там уютнее. Как здоровье дедушки и Луизы? Он пошел за нею вверх по лестнице, и Дженни, которая стояла на площадке, прислушиваясь, сразу почувствовала его обаяние. Ей казалось — она сама не знала почему, — что явился поистине замечательный человек. Весь дом словно повеселел. Хозяйка стала несравненно любезнее и приветливее. Всем хотелось угодить гостю. Дженни продолжала работать, но не могла отделаться от впечатления, которое произвел на нее гость; она повторяла про себя его имя. Лестер Кейн. Из Цинциннати. Она то и дело украдкой на него поглядывала, — впервые в жизни ее так заинтересовал незнакомый человек. Он был такой статный, красивый, сильный. Хотелось бы ей знать, чем он занимается. И в то же время он немного пугал ее. Раз она поймала на себе его настойчивый, проницательный взгляд. Она внутренне вздрогнула и при первой возможности вышла из комнаты. В другой раз он хотел с нею заговорить, но она сделала вид, что очень занята, и поспешила уйти. Часто она, и не глядя в его сторону, знала, что он смотрит на нее, и ощущала неясную тревогу. Ей хотелось бежать от него, хотя для этого не было никакой видимой причины. И этот человек, чье богатство, воспитание и положение в обществе ставили его гораздо выше Дженни, тоже невольно заинтересовался необыкновенной девушкой. Как и многих других, его привлекала ее удивительная женственность и мягкость. Было в ней что-то, обещавшее редкую, чудесную любовь. И он чувствовал, что ее нетрудно покорить, хотя и не понимал, почему. То, что она пережила, никак не отразилось на ее внешности. В ее поведении не было ни малейших признаков кокетства, и все же Кейн чувствовал: успех обеспечен. Он готов был попытать счастья теперь же, но дела заставили его уже через четыре дня уехать из Кливленда; он отсутствовал три недели. Дженни думала, что он больше не вернется, и ею овладело странное чувство — и облегчение и грусть. И вдруг он снова приехал. Его, по-видимому, не ждали, и он объяснил миссис Брейсбридж, что у него опять дела в Кливленде. При этих словах он бросил быстрый взгляд на Дженни, и ей показалось, что, быть может, он здесь отчасти из-за нее. В этот его приезд Дженни часто видела его то за завтраком, во время которого ей иногда приходилось прислуживать, то за обедом, когда она могла наблюдать за гостями из залы или из гостиной, то в будуаре, когда он порою заходил поболтать с миссис Брейсбридж. Они были большими друзьями. На второй день после приезда Кейна Дженни услышала, как миссис Брейсбридж сказала ему: — Почему вы не женитесь, Лестер? Пора бы остепениться. — Знаю, — ответил он, — да что-то настроения нет. Хочу еще немножко погулять на свободе. — Да, знаю я ваше гулянье. Постыдились бы. Вы так огорчаете своего отца. Кейн усмехнулся. — Отец не очень-то огорчается из-за меня. Он с головой ушел в дела. Дженни с любопытством посмотрела на него. Она едва ли разбиралась в своих чувствах, но ее тянуло к этому человеку. Если бы она поняла, почему, она бежала бы от него без оглядки. Он становился все внимательнее, нередко обращался к ней с каким-нибудь случайным замечанием и старался вызвать ее на разговор. Она не могла не отвечать ему: он был так мил и приветлив. Как-то утром он застал ее в коридоре на втором этаже, когда она доставала из шкафа белье. Они были одни: миссис Брейсбридж отправилась за покупками, а слуги спустились вниз. Кейн тотчас этим воспользовался. Он подошел к Дженни с самым решительным и властным видом. — Мне надо с вами поговорить, — сказал он. — Где вы живете? — Я… я… на Лорри-стрит, — пролепетала она, заметно бледнея. — Номер дома? — спросил он, как будто она обязана была ответить. У нее сжалось сердце. Машинально она назвала номер дома. Его смелые темно-карие глаза уверенно и многозначительно заглянули в большие голубые глаза Дженни, в самую глубь — и словно искра пробежала между ними. — Ты моя, — сказал он. — Я давно искал тебя. Когда мы встретимся? — Не говорите так, — сказала она, в волнении прижав пальцы к губам. — Я не могу встречаться с вами… я… я… — Ах, не говорить? Вот что, — он взял ее за руку и слегка притянул к себе, — давай объяснимся сразу. Ты мне нравишься. А я тебе? Отвечай! Она смотрела на него расширенными глазами, полными изумления и ужаса. — Не знаю, — задыхаясь, выговорила она пересохшими губами. — Нравлюсь? Он мрачно, неотступно смотрел на нее. — Не знаю. — Посмотри на меня. — Да… — сказала она. Он крепко обнял ее. — Мы еще поговорим, — сказал он и властно поцеловал ее в губы. Она была перепугана, оглушена, как птица, попавшая в лапы кошки; и все же что-то в ней отозвалось на роковой, страшный и неотступный призыв. Лестер засмеялся и отпустил ее. — Здесь это больше не повторится, но помни: ты моя, — сказал он, повернулся и ушел легкой, беззаботной походкой. А Дженни, охваченная ужасом, кинулась в спальню хозяйки и заперлась на ключ.Глава 17
Дженни была так потрясена этим нежданным разговором, что долго не могла прийти в себя. Сначала она просто не понимала, что же произошло. Это было как гром среди ясного неба. Снова она подчинилась мужчине. «Почему? Почему?» — спрашивала она себя, и, однако, где-то в глубине души у нее был готов ответ. Она не могла бы объяснить того, что чувствовала, но она была создана для этого человека, а он для нее. В любви, как в сражении, у каждого своя судьба. Неглупый, энергичный и напористый человек, сын богатого фабриканта, занимающий несравнимо более высокое положение в обществе, чем Дженни, почувствовал невольное, неодолимое влечение к бедной горничной. Она была внутренне близка ему, хоть он этого и не сознавал, — единственная женщина, в которой он мог найти что-то главное, чего ему всегда недоставало. Лестер Кейн знавал самых разных женщин, богатых и бедных, представительниц того класса, к которому принадлежал он сам, и дочерей пролетариата, но никогда он еще не встречал своего идеала — женщины, воплощавшей в себе отзывчивость, доброту, красоту и молодость. Однако он всегда мечтал именно о такой женщине и, встретив ее, не намерен был ее упустить. Он понимал, что если думать о браке, то ему следует искать эту женщину в своем кругу. Но если думать о кратковременном счастье, он может найти ее где угодно, хотя о браке тогда, разумеется, не будет и речи. Ему и в голову не приходило, что он мог бы всерьез сделать предложение горничной. Но Дженни — другое дело. Таких горничных он никогда не видал. У нее такой благородный вид, она очаровательна и притом, очевидно, сама этого не сознает. Да, редкая девушка. Почему бы не попытаться еще завладеть? Будем справедливы к Лестеру Кейну, попробуем его понять. Не всякий ум измеряется каким-нибудь одним безрассудным поступком; не всякого можно судить по одной какой-нибудь страсти. В наш век действие материальных сил почти неодолимо, — они гнетут и сокрушают душу. С ужасающей быстротой развивается и усложняется наша цивилизация, многообразны и изменчивы формы общественной жизни, на наше неустойчивое, утонченное и извращенное воображение крайне разнообразно и неожиданно влияют такие, например, факторы, как железные дороги, скорые поезда, почта, телеграф и телефон, газеты — словом, весь механизм существующих в нашем обществе средств общения и связи. Все это в целом создает калейдоскопическую пестроту, слепящую, беспорядочную жизненную фантасмагорию, которая утомляет, оглушает мозг и сердце. Отсюда своеобразная умственная усталость, и каждый день множит число ее жертв — тех, кто страдает бессонницей, черной меланхолией или просто сходит с ума. Мозг современного человека, как видно, еще не способен вместить, рассортировать и хранить огромную массу событий и впечатлений, которые ежедневно на него обрушиваются. Мы живем слишком на виду, нам некуда укрыться от внешнего мира. Нам приходится слишком много воспринимать. Точно вековечная мудрость пытается пробить себе дорогу в тесные черепа и уместиться в ограниченных умах. Лестер Кейн был естественным продуктом этих ненормальных условий. У него был зоркий, наблюдательный ум той силы и склада, что встречаешь у героев Рабле, но многоликость окружающего, безмерная широта жизненной панорамы, блеск ее деталей, неуловимость их формы, их неясность и неоправданность сбивали его с толку. Он вырос в католической семье, но уже не верил в божественную природу католичества; он принадлежал к сливкам общества, но представление о том, что человек благодаря своему рождению и общественному положению может обладать каким-то неотъемлемым превосходством над другими людьми, стало для него пустым предрассудком; он был воспитан как богатый наследник, и предполагалось, что он найдет себе жену в своем кругу, но он отнюдь не был уверен, что вообще захочет жениться. Разумеется, брак — это общественный институт. Так установлено, спору нет. Но что из этого следует? Человек должен своевременно вступить в брак — это стало законом страны. Да, конечно. Но есть страны, где законом установлено многоженство. Лестера занимали и другие вопросы, например: действительно ли вселенной правит единое божество, какая форма государства лучше — республика, монархия или правление аристократии? Короче говоря, все материальные, социальные и нравственные проблемы попали под скальпель его ума и остались вскрытыми лишь наполовину. В жизни для него не было ничего бесспорного. Ни одно положение не было принято им как окончательное и неопровержимое, если не считать убеждения, что надо быть порядочным человеком. Во всем остальном он сомневался, спрашивал, откладывал, предоставляя времени и тайным силам, движущим вселенной, разрешить вопросы, которые его тревожили. Да, Лестер Кейн был естественным продуктом религиозных и общественных условий и понятий, но притом он проникся духом вольнодумства, присущим нашему народу, — духом, который порождает почти безграничную свободу мыслей и поступков. Этот тридцатишестилетний человек, по виду такой незаурядный, энергичный и рассудительный, был, в сущности, дикарь, которому воспитание и среда придали известный лоск. Подобно сотням тысяч ирландцев, которые за тридцатилетие до него прокладывали железнодорожные пути, работали в шахтах, копали канавы, таскали кирпичи и замешивали известь на бесчисленных стройках молодой страны, Лестер был силен, самоуверен и остер на язык. — Угодно вам, чтобы я вернулся сюда на будущий год? — спросил он брата Амвросия, когда сей пастырь хотел наказать его, семнадцатилетнего школьника, за какой-то проступок. Тот удивленно посмотрел на него и ответил: — Это будет зависеть от вашего отца. — Ну нет, это не будет зависеть от моего отца, — возразил Лестер. — Только троньте меня розгой, и я сам буду решать свои дела. Я не заслужил наказания и никогда больше не дам себя ударить. Слова, к несчастью, не убедили на сей раз почтенного наставника, зато помогли крепкие кулаки, в короткой стычке Лестер сломал розгу, и это было таким серьезным нарушением школьной дисциплины, что ему пришлось уложить свои вещи и уехать. После этого он напрямик заявил отцу, что не намерен больше учиться. — Я хочу взяться за дело, — объявил он. — Классическое образование не для меня. Возьми меня к себе в контору — и, уж будь уверен, я сумею справиться. Старик Арчибалд Кейн, неглупый, всецело поглощенный своим делом человек с незапятнанной репутацией, был очень доволен решительностью сына и не стал ему препятствовать. — Что же, иди в контору, — сказал он. — Пожалуй, там найдется для тебя подходящее занятие. Начав свою деловую карьеру в восемнадцать лет, Лестер трудился весьма усердно, и постепенно отец стал такого высокого мнения о нем, что полагался на него почти как на самого себя. Когда надо было составить контракт, предпринять какой-либо важный шаг или послать представителя фирмы для заключения серьезной сделки, выбор всегда падал на Лестера. Отец слепо верил ему, и он так умно и ловко, с таким увлечением исполнял свои обязанности, что вера эта ни разу не была поколеблена. «Дело есть дело» — таково было любимое изречение Лестера, и уже по тому, как он произносил эти слова, можно было понять, что он за человек. Неукротимые силы кипели в нем, пламя, которое вновь и вновь прорывалось наружу, хотя сам Лестер воображал, будто может его сдерживать. У него, например, было пристрастие к вину, причем он был глубоко убежден, что знает меру. Он пил, но совсем немного, как он полагал, — только за компанию, с друзьями и отнюдь не доходя до излишества. Другая слабость коренилась в его чувственной натуре, но и тут он был убежден, что он сам себе господин, да, он с легкостью заводит случайные связи с женщинами, но всегда знает, в чем кроется опасность. Если бы люди понимали, что подобные связи по самой природе своей должны быть кратковременными, не возникало бы такого множества неприятных осложнений. Наконец, Лестер Кейн тешил себя мыслью, что он овладел секретом истинного смысла жизни: все дело в том, чтобы принимать общественные условия как они есть, лишь с кое-какими оговорками, и поступать так, как тебе самому удобнее. Не выходить из себя, не поднимать много шуму из-за пустяков, не разводить сантиментов; быть сильным и ни в чем не изменять себе — такова была его жизненная философия. Его интерес к Дженни сперва был чисто эгоистическим. Но теперь, когда он заявил о своих мужских правах, и она, по крайней мере отчасти, покорилась, он начал понимать, что это не обыкновенная девушка, не игрушка на час. В жизни иных мужчин наступает время, когда они бессознательно начинают оценивать женскую свежесть и красоту, не столько мечтая об идеальном счастье, сколько с оглядкой на условности окружающей среды. «Неужели, — спрашивают они себя, раздумывая, не жениться ли, — неужели мне придется покориться общепринятой морали, соблюдать законы общества, по доброй воле стать воздержанным и скромным, дать кому-то право вмешиваться во все мои дела — и все только потому, что я заключаю в объятия существо столь же изменчивое, как я сам, женщину, чьи желания и прихоти будут становиться все навязчивей и утомительней по мере того, как будет исчезать ее красота и привлекательность?» Эти люди, опасаясь всевозможных случайностей, какие влечет за собою законный брак, склонны признать преимущества не столь обременительной временной связи. Они стараются завладеть радостями жизни, не расплачиваясь за них. Когда-нибудь потом, думают они, можно будет установить более прочные и благопристойные отношения, избежав упреков или необходимости коренным образом что-то исправлять и улаживать. Для Лестера Кейна пора юношеских увлечений миновала, и он это знал. Наивные мечты и идеалы неискушенного юноши исчезли без следа. Ему хотелось женской близости, но он все меньше склонен был поступиться ради этого своей свободой. Зачем надевать на себя кандалы, если можно получить все, что хочешь, оставаясь вольной птицей. Конечно, надо найти женщину, которая вполне подходила бы ему, и он считал, что нашел ее в Дженни. Все в ней отвечало его желаниям и вкусам, он еще никогда не встречал такой женщины. Жениться На ней не только невозможно, но и не обязательно. Достаточно ему сказать: «Пойдем!» — и она должна повиноваться, такова ее судьба. Лестер спокойно, бесстрастно все это обдумал. Он прошел по убогой улице, где жила Дженни, посмотрел на жалкий домишко, служивший ей кровом. Его тронуло, что она живет так честно и трудно, в такой бедности. Не следует ли и ему поступить с нею великодушно, справедливо и благородно? Затем воспоминание о ее чудесной красоте нахлынуло на него и изменило его намерения. Нет, надо постараться завладеть ею — сегодня, сейчас же, немедленно. Вот в каком настроении он вернулся в дом миссис Брейсбридж после прогулки по Лорри-стрит.Глава 18
А Дженни была охвачена безмерной тревогой, как человек, перед которым нежданно встала трудная и сложная задача. Надо было подумать о ребенке, об отце, о братьях и сестрах. Что же она делает? Неужели снова совершит ошибку и вступит в порочную, беззаконную связь? Что сказать родным об этом человеке? Конечно, он не женится на ней, если узнает о ее прошлом. Да и все равно не женится, он занимает такое высокое положение. И все же она слушала его. Как быть? Она раздумывала над этим до вечера и сначала хотела бежать, но с ужасом вспомнила, что дала Кейну свой адрес. Потом она решила собрать все свое мужество и отвергнуть его — сказать, что она не может, не хочет иметь с ним дела. Такое решение вопроса казалось ей довольно простым, пока Кейна не было рядом. Она поступит на другое место, где он не сможет ее преследовать. Все казалось очень простым, когда Дженни вечером одевалась, чтобы идти домой. Однако у ее энергичного поклонника были свои соображения на этот счет. Расставшись с Дженни, он все точно обдумал. Он решил действовать немедленно. Дженни может рассказать все родным или миссис Брейсбридж, может уехать из Кливленда. Надо узнать подробнее, в каких условиях она живет, а для этого есть одно средство — поговорить с нею. Надо убедить ее уйти к нему. Она наверняка согласится. Она призналась, что он ей нравится. Свойственная ей мягкость, покорность, которая сразу привлекла его, по-видимому, обещала легкую победу: стоит только захотеть — и он без труда ее завоюет. И он решил попробовать, потому что его и в самом деле очень влекло к ней. В половине шестого он вернулся к Брейсбриджам, чтобы посмотреть, не ушла ли Дженни. В шесть ему удалось тайком сказать ей: — Я провожу тебя домой. Подожди меня на ближайшем углу, хорошо? — Да, — ответила она, чувствуя, что не может не послушаться. Потом она сказала себе, что должна с ним поговорить, твердо заявить о своем решении не встречаться с ним больше. Так почему бы не воспользоваться случаем и не объясниться теперь же. В половине седьмого он под каким-то предлогом вышел из дому — вспомнил, что у него деловое свидание, и в начале восьмого ждал Дженни в закрытом экипаже возле условленного места. Он был спокоен, совершенно уверен в успехе, но под видимой твердостью и уравновешенностью скрывалось необычайное волнение, словно он вдыхал какой-то чудесный аромат, нежный, сладостный и чарующий. В начале девятого он увидел Дженни. Неяркий свет газового фонаря был все же достаточен для того, чтобы Кейн мог ее узнать. Волна нежности поднялась в нем — так сильно было обаяние этой девушки. Когда она подошла ближе, он вышел из экипажа и остановился перед нею. — Пойдем, — сказал он. — Садясь в карету. Я отвезу тебя домой. — Нет, — ответила она, — я не могу. — Идем. Я отвезу тебя. Так нам будет удобнее поговорить. И снова это ощущение его власти, силы, которой нельзя сопротивляться. Она подчинилась, чувствуя, что не должна бы этого делать. Кейн крикнул кучеру: — Езжай пока прямо! Дженни села рядом с ним, и он тотчас сказал: — Вот что, Дженни, ты мне нужна. Расскажи мне о себе. — Мне надо с вами поговорить, — ответила она, стараясь держаться, как задумала. — О чем? — осведомился Кейн, пытаясь в полутьме разглядеть выражение ее лица. — Так дальше нельзя, — в волнении пробормотала Дженни. — Я так не могу. Вы ничего не знаете. Мне не следовало делать так, как утром. Я больше не должна с вами встречаться. Правда, не должна. — То, что ты сделала утром, сделала не ты, — сострил он, подхватив ее слова. — Это сделал я. А на счет того, что ты не хочешь со мной встречаться… зато я хочу встречаться с тобой. — Он взял ее за руку. — Ты меня еще не знаешь, но я тебя люблю. Просто с ума схожу. Ты создана для меня. Слушай. Ты должна быть моей. Пойдешь ко мне? — Нет, нет, нет! — страдальчески воскликнула Дженни. — Я не могу, мистер Кейн. Пожалуйста, выслушайте меня. Это невозможно. Вы не знаете… не знаете. Я не могу сделать, как вы хотите. Я не хочу. И не могла бы, если бы даже хотела. Вы не знаете, в чем дело. Но я не хочу поступать дурно. Я не должна. Не могу. Не хочу. Нет, нет, нет! Пустите меня домой. Он выслушал эту отчаянную мольбу не без сочувствия, ему стало даже немного жаль Дженни. — Почему не можешь? Что это значит? — спросил он с любопытством. — Мне нельзя вам сказать, — ответила она. — Пожалуйста, не спрашивайте. Вам не надо знать. Но я не должна с вами встречаться. Это ни к чему хорошему не приведет. — Но ведь я тебе нравлюсь. — Да, да. Я ничего не могу с этим поделать. Но вы должны меня оставить. Пожалуйста! С важностью судьи Лестер мысленно еще раз взвесил свое предложение. Он знал, что нравится этой девушке; в сущности она его любит, как ни кратко их знакомство. И его влечет к ней — быть может, не так уж неодолимо, но все же с необычайной силой. Что мешает ей уступить, тем более, если ей этого хочется? В нем заговорило любопытство. — Вот что, Дженни, — сказал он, — я тебя выслушал. Я не понимаю, почему ты говоришь «не могу», если сама хочешь пойти ко мне. Ты говоришь, я тебе нравлюсь. Почему же ты упрямишься? Ты создана для меня. Мы бы отлично поладили. У тебя самый подходящий для меня характер. Я хотел бы, чтобы ты была со мной. Почему ты говоришь, что не можешь? — Я не могу, — повторила она. — Не могу. Не хочу. Не должна. Ах, пожалуйста, не спрашивайте больше. Вы не знаете. Я не могу вам объяснить. Она думала о своем ребенке. В Лестере Кейне было сильно развито чувство справедливости и умение любую игру вести честно. Прежде всего он стремился к порядочности в своих отношениях с другими людьми. Он и теперь хотел быть нежным и внимательным, но главное — надо завоевать эту девушку! И он снова мысленно взвесил все «за» и «против». — Послушай, — сказал он наконец, все еще держа Дженни за руку. — Я не заставляю тебя решать немедленно. Я хочу, чтоб ты все обдумала. Но ты создана для меня. Я тебе небезразличен. Ты сама признала это сегодня утром. И я знаю, что это так. Почему же ты упрямишься? Ты мне нравишься, и я могу многое для тебя сделать. Почему бы нам пока что не стать друзьями? А об остальном поговорим после. — Но я не должна поступать дурно, — твердила она. — Я не хочу. Пожалуйста, оставьте меня. Я не могу сделать, как вы хотите. — Вот что, — сказал он, — ты кривишь душой. Почему же ты говорила, что я тебе нравлюсь? Разве ты успела переменить мнение? Посмотри на меня. (Дженни опустила глаза). Посмотри на меня! Разве ты передумала? — Ах, нет, нет! — сказала она чуть не со слезами, поддаваясь чему-то, что было сильнее ее. — Тогда почему ты упрямишься? Я люблю тебя, слышишь, с ума схожу по тебе. Вот почему я в этот раз приехал. Я хотел тебя видеть! — Правда? — удивленно переспросила Дженни. — Да. Я приехал бы еще и еще, если бы надо было. Говорю тебе, я люблю тебя до безумия. Ты должна быть моей. Обещай, что ты уедешь со мной! — Нет, нет, нет, — твердила она. — Я не могу. Я должна работать. Я хочу работать. Я не хочу поступать дурно. Пожалуйста, не просите. Пожалуйста, не надо. Вы должны меня отпустить. Правда же! Я не могу сделать по-вашему. — Скажи, Дженни, — неожиданно спросил Кейн, — чем занимается твой отец? — Он стеклодув. — Здесь, в Кливленде? — Нет, он работает в Янгстауне. — А твоя мать жива? — Да, сэр. — Ты живешь с нею? — Да, сэр. Он улыбнулся. — Не говори мне «сэр», крошка, — грубовато сказал он, — и не называй меня «мистер» Кейн. Я для тебя больше не мистер. Ты моя, слышишь? И он притянул ее к себе. — Пожалуйста, не надо, мистер Кейн, — умоляла она. Ох, пожалуйста, не надо! Я не могу! Не могу! Оставьте меня! Но он крепко поцеловал ее в губы. — Послушай-ка, — повторил он свое излюбленное словечко. — Говорю тебе, ты моя. С каждой минутой ты мне все больше нравишься. Я еще мало тебя знаю. Но я от тебя не откажусь. В конце концов ты ко мне придешь. И я не желаю, чтобы ты служила горничной. Ты не можешь оставаться на этом месте, разве что очень недолго. Я увезу тебя куда-нибудь. И дам тебе денег, слышишь? Ты должна их взять. При слове «деньги» Дженни передернуло, и она отняла руку. — Нет, нет, — сказала она. — Я не возьму. — Возьмешь. Отдай их матери. Я вовсе не пытаюсь тебя купить. Я знаю, о чем ты думаешь. Но это не верно. Я хочу тебе помочь. Хочу помочь твоим родным. Я знаю, где ты живешь. Сегодня я там был. Сколько вас всего детей? — Шестеро, — чуть слышно ответила Дженни. «Ох уж эти семьи бедняков!» — подумал Кейн. — Так вот возьми, — настойчиво повторил он и достал из кармана кошелек. — И очень скоро мы опять увидимся. Ты от меня не ускользнешь, детка. — Нет, нет, — протестовала Дженни. — Я не хочу. Мне не надо. Вы не должны просить меня об этом. Кейн попробовал настоять на своем, но она была непреклонна, и в конце концов он спрятал деньги. — Одно скажу, Дженни: тебе от меня не уйти, — спокойно заявил он. — Рано или поздно ты все равно будешь со мною. Ты ведь сама это чувствуешь и знаешь, это по всему видно. Я не намерен от тебя отказаться. — Бели б вы знали, как вы меня мучаете. — Разве я в самом деле мучаю тебя? — спросил он. — Неужели? — Да, мучаете. Я никогда не сделаю по-вашему. — Сделаешь! Сделаешь! — горячо воскликнул Кейн; от одной мысли, что добыча ускользает, страсть его вспыхнула с новой силой. — Ты будешь моя! И он крепко обнял Дженни, несмотря на все ее протесты. — Ну вот, — сказал он, когда после короткой борьбы то таинственное, что их соединяло, вновь заговорило в Дженни и она перестала сопротивляться. На глазах у нее выступили слезы, но Кейн их не замечал. — Разве ты сама не видишь? Я тоже нравлюсь тебе. — Я не могу, — всхлипнув, повторила Дженни. Ее искреннее отчаяние тронуло Кейна. — Что же ты плачешь, девочка? — спросил он. Дженни не ответила. — Ну, извини, — сказал он. — Больше я тебе сегодня ничего не скажу. Мы почти приехали. Завтра я уезжаю, но скоро мы опять увидимся. Да, детка. Теперь я не могу от тебя отказаться. Я сделаю все, что можно, чтобы тебе было не так трудно, но отказаться от тебя я не могу, слышишь? Она покачала головой. — Выйдем здесь, — сказал Кейн, когда карета доехала до угла. Он увидел свет в занавешенных окнах Герхардтов. — До свидания, — прибавил он, когда она выходила из кареты. — До свидания, — пробормотала Дженни. — Помни, — сказал Кейн, — это — только начало. — О нет, нет! — умоляюще сказала она. Он посмотрел ей вслед. — Какая красавица! — воскликнул он. Дженни вошла в дом усталая, растерянная, пристыженная. Что же она наделала? Бесспорно, она совершила непоправимую ошибку. Он вернется. Он вернется. И он предлагал ей деньги. Это хуже всего.Глава 19
Хотя после этой волнующей встречи у обоих осталось ощущение какой-то недосказанности, ни Лестер Кейн, ни Дженни нимало не сомневались: этим дело не кончится. Кейн чувствовал, что девушка совсем его очаровала. Она восхитительна. Она даже не представляла себе, что она так мила. Ее колебания, мольбы, это робкое «Нет, нет, нет!» волновали его, как музыка. Бесспорно, эта девушка создана для него, и он ее добьется. Она слишком прелестна, невозможно упустить ее. Какое ему дело до того, что скажут его родные, да и весь свет? Странное дело, Кейн был твердо уверен, что рано или поздно Дженни уступит ему и физически, как уже уступила в душе. Он не мог бы объяснить, откуда у него эта уверенность. Что-то в Дженни — ее необычайная женственность, прямой, бесхитростный взгляд — заставляло думать, что она способна на страсть, в которой нет ничего грубого и безнравственного. Это женщина, созданная для мужчины, для одного, единственного. С нею нераздельно представление о любви, нежности, покорности. Пусть только появится тот, единственный, и она полюбит его и пойдет за ним. Так понимал ее Лестер. Он это чувствовал. Она должна ему покориться, ибо он для нее — тот самый, единственный. А Дженни предчувствовала всевозможные осложнения, быть может, катастрофу. Если он будет ее преследовать, он, конечно, все узнает. Она не сказала ему о Брэндере, потому что все еще смутно надеялась ускользнуть. Расставшись с ним, она знала, что он вернется. Она невольно сознавала, что хочет этого. И все же чувствовала, что не должна уступать, должна по-прежнему вести честную, трудную и однообразную жизнь. Это — возмездие за ее прошлое. Она должна пожать то, что посеяла. Внушительный особняк Кейнов в Цинциннати, куда Лестер вернулся, расставшись с Дженни, был полной противоположностью дому Герхардтов. Это было большое двухэтажное здание неопределенного стиля, напоминающее французский замок, но выстроенное из красного кирпича и песчаника. Окружавший его участок, засаженный цветами и деревьями, походил на настоящий парк, и самые камни, казалось, говорили о богатстве, достоинстве и утонченной роскоши. Арчибалд Кейн, отец семейства, нажил огромное состояние, притом не путем грабежа, не каким-нибудь наглым или бесчестным способом, но благодаря тому, что сумел взяться за самое в то время нужное и потому выгодное дело. Еще в юности он понял, что Америка — страна молодая, развивающаяся. Значит, будет громадный спрос на всевозможные экипажи, фургоны, повозки, — и кто-то должен удовлетворить этот спрос. Он открыл небольшую мастерскую и постепенно превратил ее в солидное предприятие; он выпускал хорошие экипажи и продавал их с хорошей прибылью. Люди в большинстве своем честны, полагал Арчибалд Кейн; он был уверен, что им нужны добротные, на совесть сделанные вещи, и, если им такие вещи предложить, они охотностанут покупать у вас и будут обращаться к вам снова и снова, пока вы не станете богатым и влиятельным человеком. Он считал, что в торговле надо быть щедрым и всегда, продавая, отмеривать «с походом». Всю жизнь, до старости, он пользовался доброй славой у всех, кто его знал. «Арчибалд Кейн? — говорили его конкуренты. — О, это замечательный человек! Ловок, но честен. Это большой человек!» У Арчибалда Кейна были два сына и три дочери, все здоровые, красивые, наделенные недюжинным умом, но никто из них не обладал столь широкой натурой, не был так полон сил и энергии, как сей почтенный патриарх. Сорокалетний Роберт, старший сын Кейна, давно стал правой рукой отца в финансовых вопросах: он был проницателен и прижимист — качества, весьма существенные для дельца, ибо в делах без них не обойтись. Роберт был среднего роста, худощавый, с высоким лбом и уже начинал лысеть; у него были живые бледно-голубые глаза, орлиный нос и тонкие, упрямо и бесстрастно сомкнутые губы. Он был скуп на слова, нетороплив в своих действиях и серьезно обдумывал каждый шаг. В качестве вице-президента большого предприятия, раскинувшегося на целых два квартала по окраине города, он занимал почти столь же высокое положение, как и его отец. Роберт Кейн был жесткий человек, делец с большим будущим — отец это хорошо знал. Второй сын, Лестер, был любимец отца. Отнюдь не такой блестящий финансист, как Роберт, он зато лучше понимал скрытые пружины, движущие миром. Он был мягче, человечнее, он благодушнее ко всему относился. И, как ни странно, старик Арчибалд верил ему и восхищался им, его умом и благородством. Он охотнее обращался к Роберту, когда перед ним вставала какая-нибудь запутанная финансовая задача, но Лестера он больше любил как сына. Из дочерей старшей была Эми, красивая тридцатидвухлетняя женщина, у которой уже подрастал сынишка; двадцативосьмилетняя Имоджин тоже была замужем, но детей пока не имела; младшая, двадцатипятилетняя Луиза, еще не вышла замуж; это была самая красивая из сестер, но зато и самая холодная и нетерпимая. Она больше всех жаждала блеска и почета, больше всех дорожила семейным престижем и мечтала, чтобы Кейны затмили всех окружающих. Она очень гордилась высоким общественным положением семьи и держалась так важно и высокомерно, что это порою забавляло, а порой и раздражало Лестера. Он любил ее, пожалуй, даже больше других сестер, но считал, что она без всякого ущерба для достоинства семьи могла бы важничать поменьше. Их мать, шестидесятилетняя миссис Кейн, была скромная и достойная женщина; проведя первые годы замужества в сравнительной бедности, она и теперь не слишком стремилась вести светскую жизнь. Но, любя детей и мужа, она наивно гордилась их положением и успехами. Ей самой хватало и отражения их славы. Это была добрая женщина, хорошая жена и мать. Лестер приехал в Цинциннати под вечер и сейчас же отправился домой. Старый слуга ирландец открыл ему дверь. — А, мистер Лестер! — обрадовался он. — Вот и хорошо, что вернулись. Позвольте ваше пальто. Да, да, у нас была прекрасная погода. Да, да, дома все здоровы. Как же, ваша сестрица миссис Эми с сынком были здесь, только что ушли. Ваша матушка наверху, у себя в комнате. Как же, как же! Лестер весело улыбнулся ему и поднялся к матери. В белой с золотом комнате, выходившей в сад, окнами на юг и на восток, он застал миссис Кейн, благообразную женщину с добрым, немного утомленным лицом и гладко причесанными седыми волосами. Когда отворилась дверь, она подняла голову, отложила книгу, которую читала, и встала навстречу сыну. — Здравствуй, мама, — сказал он, обнял ее и поцеловал. — Как твое здоровье? — Все по-прежнему, Лестер. Как ты съездил? — Прекрасно. Опять провел несколько дней у Брейсбриджей. Мне пришлось заехать в Кливленд, чтобы повидаться с Парсонами. Все спрашивали о тебе. — Как поживает Минни? — Все так же. По-моему, она ничуть не изменилась. И, как всегда, с увлечением принимает гостей. — Очень умная девушка, — заметила мать, вспоминая миссис Брейсбридж в юности, когда та еще жила в Цинциннати. — Она мне всегда нравилась. Такая рассудительная. — Этого у нее и сейчас не отнимешь, — многозначительно сказал Лестер. Миссис Кейн улыбнулась и стала рассказывать ему о разных домашних событиях. Муж Имоджин уехал по какому-то делу в Сент-Луис. Жена Роберта больна — простудилась. Умер старик Цвингль, фабричный сторож, прослуживший у мистера Кейна сорок лет. Мистер Кейн будет на его похоронах. Лестер слушал почтительно, хотя и несколько рассеянно. Спустившись вниз, он встретил Луизу. Она была шикарна — вернее слова не сыщешь. Вышитое стеклярусом черное шелковое платье облегало ее стройную фигуру, рубиновая брошь очень шла к смуглой коже и черным волосам. Взгляд ее черных глаз пронизывал насквозь. — А, это ты Лестер! — воскликнула она. — Когда вернулся? Поосторожнее с поцелуями, я еду в гости и уже напудрилась. Ах ты, медведь! Лестер крепко обнял ее и звонко поцеловал. Она с силой оттолкнула его. — Я смахнул не так уж много пудры, — сказал он. — А ты возьми пуховку и подбавь! — И он прошел в свою комнату переодеться к обеду. Обычай переодеваться к обеду был введен в семействе Кейнов в последние годы. Гости бывали так часто, что это стало в некотором роде необходимостью, и Луиза была на этот счет особенно педантична. В этот вечер ждали Роберта и чету Барнет — старых друзей отца и матери, так что обед, конечно, предстоял торжественный. Лестер знал, что отец дома, но не спешил его повидать. Он думал о последних двух днях, проведенных в Кливленде, и гадал, когда опять увидит Дженни.Глава 20
Переодевшись, Лестер спустился вниз и застал отца в библиотеке за чтением газеты. — Здравствуй, Лестер! — сказал отец, глядя на него поверх очков и протягивая руку. — Откуда ты? — Из Кливленда, — с улыбкой ответил сын, обмениваясь с отцом рукопожатием. — Роберт говорил мне, что ты был в Нью-Йорке. — Да, был. — Как поживает мой старый друг Арнольд? — Все так же, — ответил Лестер. — Он совсем не стареет. — Надо полагать, — весело сказал Арчибалд Кейн, словно услыхал комплимент собственному крепкому здоровью. — Он всегда был воздержан. Настоящий джентльмен. — Он прошел с сыном в гостиную; они толковали о деловых и семейных новостях, пока бой часов в холле не возвестил собравшимся наверху, что обед подан. Лестер отлично чувствовал себя в пышной столовой, обставленной в стиле Людовика XV. Он любил свой дом и домашних — мать, отца, сестер и старых друзей семьи. Итак, он улыбался и был необычайно весел. Луиза сообщила, что во вторник Ливеринги дают бал, и спросила, поедет ли Лестер. — Ты же знаешь, я не танцую, — сказал он сухо. — Что мне там делать? — Не танцуешь? Скажи лучше, что не хочешь танцевать. Просто ты слишком обленился. Уж если Роберт иногда танцует, так ты и подавно можешь. — Где же мне угнаться за Робертом, я не так подвижен, — беспечно заметил Лестер. — И не так любезен, — уколола его Луиза. — Возможно, — сказал Лестер. — Не затевай ссору, Луиза, — благоразумно вставил Роберт. После обеда они перешли в библиотеку, и Роберт немного потолковал с братом о делах. Надо пересмотреть кое-какие контракты. Он хотел бы выслушать мнение Лестера. Луиза собиралась в гости, ей подали карету. — Так ты не едешь? — спросила она с ноткой недовольства в голосе. — Нет, слишком устал, — небрежно сказал Лестер. — Извинись за меня перед миссис Ноулз. — Летти Пэйс на днях спрашивала о тебе, — кинула Луиза уже в дверях. — Очень мило с ее стороны. Весьма польщен. — Летти славная девушка, Лестер, — вставил отец, стоявший у камина. — Хотел бы я, чтобы ты женился на ней и остепенился. Она будет тебе хорошей женой. — Очаровательная девушка, — подтвердила миссис Кейн. — Это что же, заговор? — пошутил Лестер. — Я, знаете ли, не гожусь для семейной жизни. — Очень хорошо знаю, — полушутя, полусерьезно отозвалась миссис Кейн. — И это очень жаль. Лестер перевел разговор на другое. Ему стало невмоготу от подобных замечаний. И снова вспомнилась Дженни, ее жалобное: «Ах, нет, нет!» Вот кто ему по душе. Такая женщина действительно достойна внимания. Не расчетливая, не корыстная, не окруженная строгим надзором и поставленная на пути мужчины, точно ловушка, а прелестная девушка — прелестная, как цветок, который растет, никем не охраняемый. В этот вечер, возвратясь к себе в комнату, он написал ей письмо но датировал его неделей позже, потому что не хотел показаться чересчур нетерпеливым и притом собирался пробыть в Цинциннати по крайней мере недели две.«Милая моя Дженни! Хотя прошла неделя, а я не подавал о себе вестей, поверь, я тебя не забыл. Ты очень плохого мнения обо мне? Я добьюсь, чтобы оно изменилось к лучшему, потому что я люблю тебя, девочка, право, люблю. У меня на столе стоит цветок, который напоминает тебя, — белый, нежный, прелестный. Вот такая и ты, твой образ все время со мной. Ты для меня — воплощение всего прекрасного. В твоей власти усыпать мой путь цветами — лишь бы ты пожелала. Теперь хочу сообщить тебе, что 18-го я буду в Кливленде и рассчитываю встретиться с тобой. Приеду в четверг вечером. Жди меня в дамской гостиной отеля «Дорнтон» в пятницу в полдень. Хорошо? Мы вместе позавтракаем. Ты не хотела, чтобы я приходил к тебе домой, — как видишь, я выполняю твое желание. (И впредь буду выполнять — при одном условии.) Добрым друзьям не следует разлучаться — это опасно. Напиши, что будешь меня ждать. Полагаюсь на твое великодушие. Но я не могу принять твое «нет» как окончательное решение»Он запечатал письмо и надписал адрес. «В своем роде это замечательная девушка, — подумал он. — Просто замечательная».Преданный тебе, Лестер Кейн.
Глава 21
Письмо это пришло после недельного молчания, когда Дженни уже успела многое передумать, и глубоко взволновало ее. Что делать? Как поступить? Как же она относится к этому человеку? Отвечать ли на его письмо? И если отвечать, то что? До сих пор все ее поступки, даже когда она в Колумбусе пожертвовала собою ради Басса, как будто не касались никого, кроме нее самой. Теперь надо было думать и о других: о родных и прежде всего о ребенке. Маленькой Весте минуло уже полтора года; это была славная девочка, белокурая, с большими голубыми глазами, которая обещала стать очень похожей на мать; притом она была бойкая и смышленая. Миссис Герхардт любила ее всем сердцем. Сам Герхардт оттаивал очень медленно и даже сейчас не обнаруживал явного интереса к внучке, но все же был добр к ней. И, видя эту перемену в отце, Дженни от всей души хотела вести себя так, чтобы никогда больше его не огорчать. Если она сделает какой-нибудь безрассудный шаг, это будет не только низкой неблагодарностью по отношению к отцу, но и повредит в будущем ее дочке. Ее собственная жизнь не удалась, думала Дженни, но жизнь Весты — другое дело, и нельзя каким-нибудь опрометчивым поступком ее испортить. Может быть, следует написать Лестеру и все ему объяснить. Она сказала ему, что не хочет поступать дурно. Предположим, она признается, что у нее есть ребенок, и попросит оставить ее в покое. Послушается он? Едва ли. Да и хочется ли ей, чтобы он поймал ее на слове? Необходимость сделать это признание была для Дженни мучительна. Вот почему она колебалась, начала было письмо, в котором пыталась все объяснить, и разорвала его. А потом вмешалась сама судьба: внезапно вернулся домой отец, серьезно пострадавший во время несчастного случая на фабрике в Янгстауне. Письмо от Герхардта пришло в среду, в начале августа. Но это было обычное письмо, написанное по-немецки, с отеческими расспросами и наставлениями и со вложением еженедельных пяти долларов; в конверте оказалось несколько строк, написанных незнакомым почерком, — известие, что накануне случилось несчастье: опрокинулся черпак с расплавленным стеклом, и у Герхардта серьезно обожжены обе руки. Под конец в записке сообщалось, что на следующее утро он будет дома. — Ну что ты скажешь! — воскликнул ошарашенный Уильям. — Бедный папа! — сказала Вероника, и глаза ее наполнились слезами. Миссис Герхардт опустилась на стул, уронила на колени стиснутые руки и остановившимися глазами уставилась в пол. «Что же теперь делать?» — в отчаянии повторяла она. Ей страшно было даже подумать о том, что будет с ними, если Герхардт навсегда останется калекой. Басс возвращался домой в половине седьмого, Дженни — в восемь. Басс выслушал новость, широко раскрыв глаза. — Вот это худо! — воскликнул он. — А в письме не сказано, ожоги очень тяжелые? — Не сказано, — ответила миссис Герхардт. — Ну, по-моему, не стоит уж очень расстраиваться, — заявил Басс. — От этого толку не будет. Как-нибудь выкрутимся. Я бы на твоем месте не расстраивался так. Он-то и в самом деле не слишком расстраивался — не такой у него был характер. Жизнь давалась ему легко. Он не способен был вдуматься в значение событий и предвидеть их последствия. — Знаю, — сказала миссис Герхардт, стараясь овладеть собой. — Но я ничего не могу поделать. Подумать только, не успела наша жизнь наладиться — и вот новая беда. Просто проклятие какое-то на нас лежит. Нам так не везет! Когда пришла Дженни, мать сразу почувствовала, что это ее единственная опора. — Что случилось, мамочка? — еще в дверях спросила Дженни, увидев лицо матери. — Почему ты плакала? Миссис Герхардт посмотрела на нее и отвернулась. — Папа сжег себе руки, — с расстановкой сказал Бесе. — Он завтра приезжает. Дженни обернулась и с ужасом посмотрела на него. — Сжег себе руки! — Да, — сказал Басс. — Как же это случилось? — Опрокинулся черпак со стеклом. Дженни взглянула на мать, и глаза ее застлало слезами. Она кинулась к миссис Герхардт и обняла ее. — Не плачь, мамочка, — сказала она, сама едва сдерживаясь. — Не надо огорчаться. Я знаю как тебе тяжело, но все обойдется. Не плачь! Тут губы ее задрожали, и она не скоро собралась с силами, чтобы взглянуть в лицо новой беде. И вот, помимо ее воли, у нее вдруг явилась вкрадчивая и неотступная мысль. Лестер!.. Ведь он предлагал ей свою помощь. Он объяснился ей в любви. Почему-то теперь он так живо ей вспомнился — и его внимание, и готовность помочь, и сочувствие… Так же вел себя и Брэндер, когда Басс попал в тюрьму. Быть может, ей суждено еще раз принести себя в жертву? Да и не все ли равно? Ведь ее жизнь и без того не удалась. Так думала она, глядя на мать, которая сидела молча, подавленная, обезумевшая от горя. «Почему ей приходится столько страдать? — думала Дженни. — Неужели на ее долю так и не выпадет хоть немного счастья?» — Не надо так убиваться, — сказала она немного погодя. — Может быть, папа не очень уж сильно обжегся. Ведь в письме сказано, что завтра утром он приедет? — Да, — подтвердила миссис Герхардт, приходя в себя. Теперь они стали разговаривать немного спокойнее и постепенно, когда все известные им подробности были обсуждены, как-то притихли, словно застыли в ожидании. — Надо кому-нибудь утром пойти на вокзал встречать папу, — сказала Дженни Бассу. — Я пойду. Я думаю, миссис Брейсбридж ничего не скажет. — Нет, — мрачно возразил Басс, — ты не ходи. Я сам его встречу. Он злился на судьбу за этот новый удар и не мог скрыть досаду; он мрачно прошел в свою комнату и заперся. Дженни с матерью отравили детей спать и ушли в кухню. — Не знаю, что теперь с нами будет, — сказала миссис Герхардт, подавленная мыслью о материальных осложнениях, которыми грозило это новое несчастье. Она казалась совсем разбитой и беспомощной, и Дженни стало до боли жаль ее. — Не огорчайся, мамочка, — мягко сказала она, чувствуя, что в ней зреет решение. Мир так велик. И есть в нем люди, которые щедрой рукой оделяют других всякими благами. Не вечно же ее родным бедствовать под гнетом несчастий! Дженни сидела рядом с матерью, и казалось, уже слышала грозную поступь грядущих невзгод. — Как ты думаешь, что с нами будет? — повторила мать, видя, что мечта о благополучной жизни в Кливленде рушится у нее на глазах. — Ничего, — ответила Дженни, уже ясно понимая, что надо делать, — все обойдется. Не расстраивайся. Все уладится. Как-нибудь устроимся. Теперь она знала, что судьба возложила на ее плечи все бремя ответственности. Она должна пожертвовать собой; другого выхода нет. Наутро Басс встретил отца на вокзале. Герхардт был очень бледен и, по-видимому, сильно измучился. Щеки его ввалились, нос еще больше заострился. Руки его были перевязаны, и весь вид — такой жалкий, что прохожие оборачивались, когда он с Бассом шел с вокзала. — Тьфу, пропасть! — сказал он сыну. — Как я обжегся! Мне даже раз показалось, что я не выдержу, такая была боль. Какая боль! Тьфу, пропасть! Век буду помнить. Он подробно рассказал, как произошло несчастье, и прибавил, что не знает, сможет ли когда-нибудь владеть руками, как прежде. Большой палец правой руки и два пальца на левой сожжены до кости. На левой руке пришлось отнять первые суставы, большой палец удалось спасти, но может случиться, что пальцы останутся сведенными. — И это как раз теперь, когда мне так нужны деньги! — прибавил он. — Вот беда! Вот беда! Когда они дошли до дому и миссис Герхардт отворила им дверь, старый рабочий, поняв безмолвное горе жены, не сдержался и заплакал. Миссис Герхардт тоже стала всхлипывать. Даже Басс на минуту потерял самообладание, но быстро оправился. Младшие дети ревели, пока Басс на них не прикрикнул. — Брось плакать! — бодрым тоном сказал он отцу. — Слезами горю не поможешь. И потом все не так уж страшно. Ты скоро поправишься. Как-нибудь проживем. Слова Басса на время всех успокоили, и теперь, когда муж вернулся домой, миссис Герхардт вновь обрела душевное равновесие. Правда, руки у него забинтованы, но он на ногах, нигде больше не обожжен и не ранен, а это тоже утешительно. Возможно, он снова будет владеть руками и сможет взяться за какую-нибудь легкую работу Во всяком случае, нужно надеяться на лучшее. Когда Дженни в тот вечер вернулась домой, ее первым побуждением было кинуться к отцу, высказать ему всю свою любовь и преданность, но она побоялась, что он встретит ее так же холодно, как и в прошлый раз. Герхардт тоже был взволнован. Он до сих пор не вполне оправился от позора, который навлекла на него дочь. Он бы и хотел быть снисходительным, но никак не мог разобраться в путанице своих чувств и сам не знал, что делать и что сказать. — Папа, — промолвила Дженни, робко подходя к нему. Герхардт в смущении попытался сказать какие-нибудь самые простые слова, но это ему не удалось. Сознание собственной беспомощности, мысль, что дочь любит его и жалеет и он тоже не может не любить ее, — все это было свыше его сил; он не выдержал и снова расплакался. — Прости меня, папа, — умоляла Дженни. — Пожалуйста, прошу тебя, прости! Он даже не решился посмотреть на нее, но, охваченный смятением встречи, подумал, что и в самом деле надо бы простить. — Я молился, — сказал он разбитым голосом. — Хорошо, забудем об этом. Придя в себя, он устыдился своего волнения, но близость и понимание уже установились между ними. С этого дня, хотя в их отношениях еще оставалась известная сдержанность, Герхардт больше не старался не замечать Дженни, а она была с ним по-дочернему проста и ласкова, совсем как в былые времена. Итак, в доме снова водворился мир, но появились другие тревоги и заботы. Как прожить, когда доходы уменьшились на пять долларов в неделю, а расходы благодаря присутствию Герхардта возросли? Басс мог бы давать больше из своего недельного заработка, но не считал себя обязанным это делать. Итак, жалких девяти долларов в неделю должно было хватить на квартирную плату, на провизию и уголь, не говоря уже о случайных расходах, которые стали очень обременительны, Герхардт ежедневно должен был ходить к врачу на перевязку. У Джорджа развалились башмаки. Либо надо было еще откуда-то добыть денег, либо семье предстояло снова залезть в долги и опять испытывать все муки нужды. Под влиянием этих обстоятельств решение Дженни созрело окончательно. Письмо Лестера оставалось без ответа. Назначенный день приближался. Не написать ли ему? Он поможет. Ведь он непременно хотел дать ей денег. В конце концов она решила, что ее долг — воспользоваться предложенной помощью. И она написала Лестеру короткую записку. Хорошо, она встретится с ним, но просит его не приходить к ней домой. Она отправила письмо и со странным чувством — смесью боязливого трепета и радостной надежды — стала ждать решающего дня.Глава 22
Настала роковая пятница, и Дженни оказалась перед лицом новых серьезных затруднений, осложнивших ее скромное существование. Выбора нет, думала она. Жизнь не удалась. К чему сопротивляться дальше? Если бы она могла сделать счастливыми всех своих близких, дать образование Весте, скрыть свое прошлое и самое существование Весты — быть может… быть может… ведь бывает же, что богатые люди женятся на бедных девушках, а Лестер такой добрый, и она, конечно, нравится ему. В семь утра она пошла к миссис Брейсбридж; в полдень попросила разрешения уйти под предлогом, что надо помочь матери, и направилась в отель. Лестер уехал из Цинциннати на несколько дней раньше, чем рассчитывал, и потому не получил ответа Дженни; он явился в Кливленд хмурый и недовольный всем светом. У него еще теплилась надежда, что письмо Дженни ждет его в отеле, но там не было от нее ни строчки. Лестер был не из тех людей, которые легко отчаиваются, но сегодня он приуныл и, мрачный, поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. После ужина он попытался развлечься игрой на бильярде и расстался с приятелями лишь после того, как выпил много больше обычного. На другое утро он поднялся со смутной мыслью махнуть рукой на это дело, но время шло, приближался назначенный час, и Лестер решил, что, пожалуй, надо бы подождать. А вдруг Дженни еще придет. Итак, за четверть часа до назначенного срока он спустился в гостиную. Какова же была его радость, когда он увидел Дженни, — она сидела и ждала, и это был знак, что она покорилась. Лестер быстро подошел к ней, довольный, радостный, улыбающийся. — Все-таки пришла! — сказал он, глядя на нее как человек, который вновь обрел утраченное сокровище. — Почему же ты не написала мне? Ты так упорно молчала, я уж решил, что ты и знать меня не хочешь. — Я писала, — ответила Дженни. — Куда? — По тому адресу, который вы мне дали. Я написала три дня назад. — А, вот в чем дело: письмо меня уже не застало. Надо было написать раньше. Ну, как ты живешь? — Хорошо, — ответила Дженни. — Что-то не похоже. У тебя усталый вид. Что случилось, Дженни? Как дома, все в порядке? Лестер задал этот вопрос совершенно случайно. Он сам не знал, почему спросил об этом. Но его вопрос помог Дженни заговорить о том, что больше всего ее волновало. — Отец болен, — сказала она. — А что с ним? — Ему обожгло руки на фабрике. Мы ужасно перепугались. Наверно, он уже никогда не будет свободно владеть руками. Дженни замолчала, и лицо ее выразило всю глубину ее отчаяния; Лестер понял, что она в безвыходном положении. — Мне очень жаль, — сказал он. — Право, жаль. Когда это случилось? — Почти три недели назад. — Да, плохо. А все-таки давай позавтракаем. Я хочу с тобой поговорить. С тех пор как я уехал, мне все хотелось узнать, как живет твоя семья. Он повел Дженни в ресторан и выбрал там уединенный столик. Стараясь развлечь ее, он предложил ей заказать завтрак, но Дженни была слишком озабочена и застенчиво, и ему пришлось самому заняться меню. Покончив с этим, он весело повернулся к ней. — Ну, Дженни, я хочу, чтоб ты рассказала мне все о своей семье. Я кое-что понял в прошлый раз, а теперь мне надо как следует во всем разобраться. Ты говоришь, твой отец стеклодув. Теперь ему придется бросить свою профессию, это ясно. — Да, — сказала Дженни. — Сколько в семье детей, кроме тебя? — Пятеро. — Ты старшая? — Нет, старший Себастьян. Ему двадцать два года. — Чем он занимается? — Он продавец в табачном магазине. — Не знаешь сколько он зарабатывает? — Кажется, двенадцать долларов, — додумав, ответила Дженни. — А другие дети? — Марта и Вероника не работают, они еще маленькие. Джордж работает посыльным в магазине Уилсона. Он получает три с половиной доллара. — А ты сколько получаешь? — Я — четыре. Лестер помолчал, подсчитал в уме, сколько же у них есть на жизнь. — Сколько вы платите за квартиру? — спросил он. — Двенадцать долларов. — Мать, наверно, уже не молода? — Ей скоро пятьдесят. Он задумчиво вертел вилку. — Сказать по правде, Дженни, я примерно так себе это и представлял, — произнес он наконец. — Я много думал о тебе. Теперь мне все ясно. У тебя есть только один выход, и он не так уж плох, если только ты доверишься мне. Он помолчал, ожидая вопроса, но Дженни ни о чем не спросила. Она была поглощена своими заботами. — Ты не хочешь знать, какой выход? — спросил он. — Хочу, — машинально ответила она. — Это я, — сказал Лестер. — Позволь мне помочь вам. Я хотел сделать это в прошлый раз. Но теперь ты должна принять мою помощь, слышишь? — Я думала, что до этого не дойдет, — просто сказала Дженни. — Я знаю, что ты думала, — возразил он. — Забудь об этом. Я позабочусь о твоей семье. И сделаю это сейчас же, не откладывая. Он вытащил кошелек и достал несколько десяти — и двадцатидолларовых бумажек — всего двести пятьдесят долларов. — Возьми, — сказал он. — Это только начало. Я буду заботиться о том, чтобы и впредь твоя семья была обеспечена. Дай-ка руку. — Нет, нет! — воскликнула Дженни. — Не надо так много. Не давайте мне столько. — Не спорь, — сказал Лестер. — Ну-ка, давай руку. Покоряясь его взгляду, Дженни протянула руку, он вложил в нее деньги и слегка сжал ее пальцы. — Держи, детка. Я люблю тебя, моя прелесть. Я не желаю, чтобы ты нуждалась и твои родные тоже. Дженни закусила губу и с немой благодарностью смотрела на Кейна. — Не знаю, как вас благодарить, — наконец сказала она. — И не надо, — ответил Лестер. — Поверь, это я должен благодарить тебя. Он замолчал и посмотрел на нее, очарованный ее красотой. Она не поднимала глаз, ожидая, что же будет дальше. — Почему бы тебе не бросить работу? — спросил Лестер. — Ты была бы весь день свободна. — Я не могу, — ответила она. — Папа не разрешит. Он ведь знает, что я должна зарабатывать. — Это, пожалуй, верно, — сказал Лестер. — Но что толку в твоей работе? Господи? Четыре доллара в неделю. Я с радостью давал бы тебе в пятьдесят раз больше, если б думал, что ты сумеешь воспользоваться этими деньгами. Он рассеянно барабанил пальцами по столу. — Не могу, — сказала Дженни. — Я и с этими-то деньгами не знаю, как быть. Мои догадаются. Придется все рассказать маме. По тому, как она это сказала, Лестер заключил, что мать и дочь очень близки, раз Дженни может сделать матери такое признание. Он отнюдь не был черствым человеком, и это его тронуло. Но он вовсе не собирался отказаться от своих намерений. — Насколько я понимаю, есть только один выход, — мягко продолжал он. — Тебе не пристало быть горничной. Это недостойно тебя. Я против этого. Брось все, и поедем со мной в Нью-Йорк; я о тебе позабочусь. Я люблю тебя и хочу, чтоб ты была моей. И тебе не придется больше тревожиться о родных. Ты сможешь купить им славный домик и обставить его по своему вкусу. Разве тебе этого не хочется? Он замолчал, и Дженни сразу подумала о матери, о своей милой маме. Всю жизнь миссис Герхардт только и говорила об этом — о таком вот славном домике. Как она была бы счастлива, будь у них дом побольше, хорошая мебель, сад. В таком доме она будет избавлена от забот о квартирной плате, от неудобной ветхой мебели, от унизительной бедности, — она будет так счастлива! Пока Дженни раздумывала об этом, Лестер, зорко следивший за нею, понял, что задел в ней самую чувствительную струну. Это была удачная мысль — предложить ей купить приличный дом для родных. Он подождал еще несколько минут, потом сказал: — Так ты разрешишь мне это сделать? — Это было бы очень хорошо, — сказала Дженни. — Но сейчас это невозможно. Я не могу уехать из дому. Папа захочет точно знать, куда я еду. Что я ему скажу? — Почему бы не сказать, что ты едешь в Нью-Йорк с миссис Брейсбридж? — предложил Лестер. — Против этого никто не может возразить, верно? — Да, если дома не узнают правду, — удивленно глядя на него, сказала Дженни. — А вдруг узнают? — Не узнают, — спокойно ответил Лестер. — Они не в курсе дел миссис Брейсбридж. Мало ли хозяек, уезжая надолго, берут с собой горничных. Просто скажи, что тебе предложили поехать, что ты должна ехать, — и мы уедем. — Вы думаете, это можно? — спросила он. — Конечно, — ответил Лестер. — А что тут такого? Поразмыслив, Дженни решила, что это, пожалуй, выполнимо. А потом ей пришло в голову; вдруг близость с этим человеком снова кончится для нее материнством? Какая это трагедия — дать жизнь ребенку… Нет, она не может пойти на это снова, во всяком случае не так опрометчиво, как в первый раз. Она не могла заставить себя рассказать ему о Весте, но она должна сообщить ему об этом неодолимом препятствии. — Я… — начала она и остановилась, не в силах продолжать. — Ты?.. — повторил Лестер. — А дальше что? — Я… — И Дженни снова умолкла. Лестера восхищала ее застенчивость, ее нежные, робкие губы, не решавшиеся выговорить нужное слово. — Ну что ж? — спросил он ободряюще. — Ты просто прелесть. Ты боишься мне сказать? Рука Дженни лежала на столе. Лестер наклонился и положил на нее свою сильную смуглую руку. — Мне никак нельзя иметь ребенка, — вымолвила наконец Дженни, опустив глаза. Он пристально смотрел на нее и чувствовал, что ее подкупающая искренность, достоинство, которое она сохраняла даже в столь трудных, неестественных условиях, ее умение просто, непосредственно принимать важнейшие жизненные явления необычайно возвышают ее в его глазах. — Ты необыкновенная девушка, Дженни, — сказал он. — Ты просто чудо. Но не беспокойся. Это можно уладить. Тебе незачем иметь ребенка, раз ты не хочешь, да и я тоже этого не хочу. На смущенном, покрасневшем лице Дженни отразилось недоумение. — Да, да, — сказал Лестер. — Ведь ты мне веришь? Я знаю, что говорю, понятно тебе? — Д-да, — с запинкой ответила она. — Ну вот. Во всяком случае я не допущу, чтобы с тобой произошло что-нибудь плохое. Я увезу тебя отсюда. И потом я вовсе не желаю никаких детей. Сейчас они мне не доставили бы ни малейшего удовольствия. Предпочитаю с этим подождать. Но ничего такого и не будет, пускай это тебя не тревожит. — Хорошо, — чуть слышно ответила она. Ни за что на свете не решилась бы она сейчас встретиться с ним взглядом. — Послушай, Дженни, — сказал Лестер немного погодя. — Ведь ты меня любишь, верно? Неужели я стал бы тебя упрашивать, если бы не любил, как по-твоему? Я из-за тебя прямо голову потерял, это чистая правда. Просто пьян от тебя, как от вина. Ты должна уехать со мной. Должна, и поскорее. Я знаю, дело в твоих родных, но это можно уладить. Поедем со мной в Нью-Йорк. А после что-нибудь придумаем. Я познакомлюсь с твоими родными. Мы сделаем вид, что я ухаживаю за тобой, — все, что хочешь, только поедем не откладывая. — Но ведь не сейчас же? — спросила Дженни почти с испугом. — Если можно, завтра. На худой конец в понедельник. Ты это устроишь. Что тебя смущает? Ведь если бы миссис Брейсбридж предложила тебе поехать, тебе пришлось бы живо собраться, и никто бы слова не сказал. Разве нет? — Да, — подумав, подтвердила она. — Тогда за чем же дело стало? — Всегда так трудно, когда приходится говорить неправду, — задумчиво сказала Дженни. — Знаю, а все-таки ты можешь поехать. Верно? — Может, вы немножко подождете? — попросила Дженни. — Это все так неожиданно. Я боюсь. — Ни дня не стану ждать, детка. Разве ты не видишь, что я не в силах больше ждать? Посмотри мне в глаза. Поедем? — Хорошо, — ответила она печально, и все же странное чувство нежности к этому человеку шевельнулось в ее душе. — Поедем.Глава 23
С отъездом все уладилось гораздо легче, чем можно было ожидать. Дженни решила сказать матери всю правду, а отцу можно было сообщить только одно: миссис Брейсбридж уезжает и хочет, чтобы Дженни ее сопровождала. Отец, конечно, начнет расспрашивать, но едва ли у него возникнут какие-либо сомнения. В этот день по дороге домой Дженни зашла с Дестером в универсальный магазин, и Лестер купил ей сундук, немоден, дорожный костюм и шляпу. Он был очень горд своей победой. — Когда приедем в Нью-Йорк, я куплю тебе что-нибудь получше, — сказал он. — Ты еще сама не знаешь себе цены, на тебя все станут оглядываться. Он распорядился, чтобы покупки сложили в сундук и отправили к нему в отель. Затем уговорился с Дженни, что в понедельник перед отъездом она придет в отель и переоденется. Вернувшись домой, Дженни застала мать в кухне, и та, как всегда, обрадовалась ей. — У тебя был трудный день? — ласково спросила миссис Герхардт. — Ты, мне кажется, очень устала. — Нет, — сказала Дженни, — я не устала. Не в этом дело. Просто я не совсем себя хорошо чувствую. — Что-нибудь случилось? — Ах, мамочка, я должна тебе сказать… Это так трудно… Она замолчала, вопросительно глядя на мать, потом отвела глаза. — Ну, что такое? — встревоженно спросила миссис Герхардт. Их уже постигло столько несчастий, что она все время жила в ожидании какой-нибудь новой беды. Ты потеряла место? — Нет, — ответила Дженни, стараясь не выдать волнения, — но я собираюсь уйти. — Да не может быть! — воскликнула мать. — Почему? — Я уезжаю в Нью-Йорк. Миссис Герхардт изумленно раскрыла глаза. — Что вдруг? Когда ты решила? — Сегодня. — Ты это всерьез? — Да, мамочка. Послушай. Я хочу кое-что тебе рассказать. Ты же знаешь, как нам трудно живется. Нам все равно никак не поправить наши дела. А сейчас нашелся такой человек, который хочет нам помочь. Он говорит, что любит меня, и хочет, чтоб я в понедельник уехала с ним в Нью-Йорк. Я решила ехать. — Нет, Дженни, ни за что! — воскликнула мать. — Как же ты можешь опять пойти на такое! Подумай об отце! — Я уже обо всем подумала, — твердо сказала Дженни. — Так будет лучше. Он хороший человек, я знаю. И у него много денег. Он хочет, чтоб я поехала с ним, и я поеду. А когда вернемся, он купит для нас новый дом и вообще станет помогать. Ты же сама знаешь, на мне никто не женится. Пускай будет так. Он меня любит. И я его люблю. Почему бы мне не поехать. — А он знает про Весту? — осторожно спросила миссис Герхардт. — Нет, виновато ответила Дженни. — Я думаю, лучше ему не говорить. Я постараюсь ее в это не вмешивать. — Боюсь, ты наживешь себе беду, Дженни. Неужто ты думаешь, что это никогда не откроется? — Я думала, может, она поживет здесь, с вами, пока ей не пора будет в школу, — сказала Дженни. — А потом я, наверно, смогу отправить ее куда-нибудь учиться. — Так-то так, — согласилась мать. — Но, может быть, все-таки лучше сказать ему сразу? Он будет только лучшего мнения о тебе, если ты скажешь правду. — Не в этом дело. Дело в Весте, — горячо сказала Дженни. — Я не хочу вмешивать ее во все это. Миссис Герхардт покачала головой. — Где ты с ним познакомилась? — спросила она. — У миссис Брейсбридж. — Давно? — Да уже почти два месяца. — И ты ни разу ни слова про него не сказала, — упрекнула ее миссис Герхардт. — Я не знала, что он так ко мне относится, — виновато сказала Дженни. — А может, обождешь? Почему бы ему сперва не зайти к нам? — спросила мать. Тогда все будет гораздо проще. Ведь все равно, если ты уедешь, отец узнает правду. — Я хочу сказать, что уезжаю с миссис Брейсбридж. Тогда папа не станет возражать. — Да, пожалуй, — в раздумье согласилась мать. Они молча смотрели друг на друга. Миссис Герхардт пыталась нарисовать в своем воображении этого нового, удивительного человека, который вошел теперь в жизнь Дженни. Он богат. Он хочет увезти Дженни. И хочет купить им хороший дом. Прямо как в сказке! — И вот что он мне дал, — прибавила Дженни, каким-то чутьем угадывавшая мысли матери. Она достала двести пятьдесят долларов, которые были спрятаны у нее на груди, и вложила их в руки миссис Герхардт. Та в изумлении уставилась на деньги. В этой пачке зеленых и желтых бумажек заключалось избавление от всех забот — о еде, одежде, угле, плате за квартиру. Если в доме будет много денег, Герхардту не придется так убиваться из-за того, что с обожженными руками он не может работать; Джорджу, Марте и Веронике можно будет накупить хороших вещей — им так этого хочется! Дженни приоденется. Веста получит образование. — Ты думаешь, он когда-нибудь на тебе женится? — спросила наконец мать. — Не знаю, — ответила Дженни. — Может быть. Я знаю только, что он меня любит. — Что ж, — помолчав, сказала миссис Герхардт, — если ты думаешь сказать отцу, что уезжаешь, так не откладывай. Ему и без того это покажется очень странным. Дженни поняла, что победа осталась за нею. Сила обстоятельств заставила мать примириться со случившимся. Она огорчена, но все-таки ей уже кажется, что может быть, это и к лучшему. — Я помогу тебе, — со вздохом сказала она дочери. Миссис Герхардт было нелегко солгать, но она солгала с таким непринужденным видом, что усыпила все подозрения мужа. Новость сообщили детям, все оживленно обсуждали ее, а когда затем и Дженни повторила эту выдумку отцу, все вышло довольно естественно. — И надолго ты едешь? — осведомился он. — Недели на две, на три, — ответила Дженни. — Это приятное путешествие, — сказал Герхардт. — Я побывал в Нью-Йорке в тысяча восемьсот сорок четвертом году. Тогда это был совсем маленький городок, не то, что теперь. В глубине души он был очень рад, что Дженни так повезло. Как видно, хозяйка ею довольна. Настал понедельник; рано утром Дженни простилась с родными и пошла в отель «Дорнтон», где ее ждал Лестер. — Вот и ты! — весело воскликнул он, встретив ее в дамской гостиной. — Да, — просто ответила она. — Ты — моя племянница, — продолжал Лестер. — Я заказал для тебя смежный номер. Сейчас я пошлю за ключом, и ты переоденешься. Когда будешь готова, я отправлю твой багаж на вокзал. Поезд отходит в час. Дженни пошла переодеться, а Лестер, не зная, как убить время, читал, курил и наконец постучался к ней. Она уже успела переодеться и тотчас открыла ему. — Ты очаровательна, — сказал он с улыбкой. Она опустила глаза, на душе у нее было тяжело и неспокойно. Ей пришлось столько хитрить, лгать, волноваться, чтобы сыграть свою роль, — все это давалось нелегко. Лицо у нее было усталое, измученное. — Неужели ты огорчена? — спросил Лестер, внимательно глядя на нее. — Н-нет, — ответила Дженни. — Ну-ну, детка, не надо так. Все будет хорошо. Он обнял ее и поцеловал, и они сошли вниз. Он поразился, увидев как она хороша даже в этом скромном наряде — лучшем, какой ей когда-либо доводилось надевать. Они быстро доехали до вокзала. Кейн заказал места заранее, чтобы приехать к самому отходу поезда. Они уселись в купе пульмановского вагона, и Лестера охватило чувство величайшего удовлетворения. Жизнь предстала перед ним в самом розовом свете. Дженни рядом. Он добился того, чего хотел. Хорошо, если бы всегда все так удавалось. Поезд тронулся, и Дженни стала задумчиво смотреть в окно. За окном потянулись бесконечные поля, мокрые и побуревшие под холодным дождем; по осеннему голые леса; среди плоских равнин мелькали фермы — домики с невысокими крышами словно старались плотнее прижаться к земле. Поезд проносился мимо крохотных деревушек, — это были просто кучки белых, желтых, бурых лачуг, их кровли почернели от дождя и непогоды. Один домик напомнил Дженни старый дом Герхардтов в Колумбусе; она закрыла глаза платком и тихо заплакала. — Ты плачешь, Дженни? — сказал вдруг Лестер, отрываясь от письма, которое он читал. — Полно, полно, — продолжал он, видя, что она вся дрожит. — Так не годится. Будь умницей. Что толку в слезах? Она не отвечала, и Лестер невольно посочувствовал этому глубокому немому горю. — Не плачь, — успокаивал он ее. — Я ведь сказал тебе, все будет хорошо. Не тревожься ни о чем. Дженни с усилием взяла себя в руки и стала вытирать глаза. — Не надо так расстраиваться, — продолжал Лестер. — От этого только хуже. Я понимаю, тебе тяжело уезжать из дому, но слезами тут не поможешь. И ведь ты не навсегда уезжаешь. Ты же скоро вернешься. И ты меня любишь, правда, детка? Я что-нибудь для тебя значу? — Да, — ответила Дженни, силясь улыбнуться. Лестер снова стал читать письма, а Дженни задумалась о Весте. Ей было не по себе от сознания, что у нее есть такая тайна от человека, который уже стал ей дорог. Она знала, что должна рассказать Лестеру о ребенке, но одна мысль об этом заставляла ее содрогаться. Быть может, когда-нибудь она найдет в себе достаточно мужества, чтобы ему признаться. «Я должна ему сказать, — с волнением думала она; на нее вдруг нахлынуло сознание всей серьезности этого долга. — Если я сразу не признаюсь и мы станем жить вместе, а потом он все узнает, он мне никогда не простит. Он может меня выгнать — а куда я пойду? У меня нет больше дома. Что мне тогда делать с Вестой?» Она обернулась и посмотрела на Лестера, охваченная ужасным предчувствием, но перед нею был всего лишь солидный, холеный мужчина, погруженный в чтение писем, — ни в его свежевыбритом розовом лице, ни во всей фигуре, которая так и дышала довольством, не было ничего грозного, напоминающего разгневанную Немезиду. Едва Дженни успела отвести глаза, Лестер, в свою очередь, посмотрел на нее. — Ну что, оплакала все свои грехи? — весело спросил он. Она ответила слабой улыбкой. Намек нечаянно попал в цель. — Надеюсь, — сказала она. Он заговорил о другом, а Дженни смотрела в окно и думала, как хорошо бы сейчас сказать ему правду — и вот ничего не выходит. «Нельзя откладывать надолго», — подумала она, утешая себя мыслью, что, может быть, скоро соберется с духом и все ему расскажет.На другой день они прибыли в Нью-Йорк, и перед Лестеромвстал серьезный вопрос: где остановиться? Нью-Йорк — большой город, маловероятно, чтобы он встретил здесь знакомых, но Лестер предпочитал не рисковать. Поэтому он велел кучеру отвезти их в один из самых изысканных отелей и снял номер из нескольких комнат, где им предстояло провести недели две-три. Обстановка, в которую теперь попала Дженни, была столь необычна, столь ослепительна, что ей казалось, будто она перенеслась в какой-то иной мир. Кейн не любил дешевой, кричащей роскоши. Он всегда окружал себя простыми и изящными вещами. Он сразу понял, что нужно Дженни, и все выбирал для нее заботливо и со вкусом. И Дженни, истая женщина, от души радовалась красивым нарядам и прелестным безделушкам, которыми он ее осыпал. Неужели это Дженни Герхардт, дочь прачки, спрашивала она себя, видя в зеркале стройную фигуру в синем бархатном платье с золотистым французским кружевом у ворота и на рукавах. Неужели это ее ноги обуты в легкие изящные туфельки, стоящие десять долларов, ее руки в сверкающих драгоценных камнях? Просто чудо, что на нее свалилось такое богатство! И Лестер обещал, что и на долю ее матери тоже кое-что достанется. Слезы выступали на глазах Дженни, когда она думала об этом. Милая, дорогая мама! Лестеру доставляло большое удовольствие наряжать ее так, чтобы она была по-настоящему достойна его. Он пустил в ход все свои способности — и результат превзошел его самые смелые ожидания. В коридорах, в ресторанах, на улице люди оборачивались и провожали его спутницу взглядом. — Потрясающая женщина! — слышалось со всех сторон. Несмотря на то, что положение Дженни так резко изменилось, это не вскружило ей голову и она не утратила здравого смысла. У нее было такое чувство, словно жизнь осыпала ее своими дарами лишь на время, а потом опять все отнимет. Ей не свойственно было мелкое тщеславие. Лестер убеждался в этом, наблюдая за нею. — Ты замечательная женщина, — говорил он. — Ты еще будешь блистать. До сих пор жизнь не слишком баловала тебя. Его заботила мысль о том, как объяснить эту новую связь родным, если они что-нибудь прослышат. Он уже подумывал снять дом в Чикаго или в Сент-Луисе, но удастся ли сохранить все в тайне? Да и хочется ли ему делать из этого тайну? Он был почти убежден, что по-настоящему, искренне любит Дженни. Когда подошло время возвращаться, Лестер стал обсуждать с Дженни дальнейший план действий. — Постарайся представить меня отцу как знакомого, — говорил он. — Так будет проще. Я зайду к вам. И потом, когда ты ему скажешь, что мы хотим пожениться, это его не удивит. Дженни подумала о Весте и внутренне содрогнулась. Но, может быть, удастся уговорить отца молчать. Лестер дал Дженни дельный совет; сберечь старое кливлендское платье, чтобы она могла вернуться в нем домой. — Об остальных вещах не беспокойся, — сказал он. — Я их сохраню до тех пор, пока мы не устроимся по-настоящему. Все уладилось очень легко и просто: Лестер был отличный стратег. Пока они были в Нью-Йорке, Дженни почти каждый день писала домой и вкладывала в эти письма коротенькие записочки, которые предназначались только для матери. Однажды она сообщила, что Лестер хочет побывать у них, и просила миссис Герхардт подготовить к этому отца; рассказать ему, что она встретила человека, который ее полюбил. Она писала о трудностях, связанных с Вестой, и мать сразу стала строить планы, как заставить Герхардта держать язык за зубами. Надо, чтоб на этот раз все шло гладко. Надо дать Дженни возможность устроить свою судьбу. Наконец Дженни приехала, и все обрадовались ей. Разумеется, она не могла вернуться к прежней работе, но миссис Герхардт объяснила мужу, что миссис Брейсбридж заплатила Дженни за две недели вперед, чтобы она могла подыскать себе место получше, с более высоким жалованьем.
Глава 24
Временно уладив дела Герхардтов и свои взаимоотношения с ними, Лестер Кейн вернулся в Цинциннати, к своим обязанностям. Он искренне интересовался жизнью громадной фабрики, занимавшей целых два квартала на окраине города, и все успехи и перспективы фирмы были для него таким же кровным делом, как для его отца и брата. Ему нравилось чувствовать себя необходимой частью огромного и все растущего предприятия. Когда он встречал на железной дороге товарные вагоны с надписью «Компания Кейн, Цинциннати» или видел за окнами больших магазинов в разных городах всевозможные экипажи производства своей фирмы, он испытывал горячее и радостное удовлетворение. Ведь не шутка — быть представителем такого надежного, почтенного, добропорядочного предприятия! Все это было прекрасно, но теперь в личной жизни Лестера началась новая эпоха — короче говоря, теперь появилась Дженни. Возвращаясь в родной город, он сознавал, что эта связь сможет повлечь за собой неприятные последствия. Он побаивался того, как отнесется к этому отец; а главное приходилось думать о брате. Роберт был человек холодный и педантичный, образцовый делец, безупречный и в общественной и в личной жизни. Никогда он не преступал строго установленных границ узаконенной добропорядочности, не отличался ни отзывчивостью, ни великодушием и в сущности способен был на любое мошенничество, которое мог бы для себя оправдать каким-нибудь благовидным предлогом или хотя бы необходимостью. Как он при этом рассуждал, Лестеру было неясно, — он не мог проследить всех ухищрений логики, примирявшей жесткие приемы дельца со строжайшими правилами морали, — но Роберт как-то умудрялся сочетать одно с другим. «Он проповедует, как шотландец-пресвитерианин, и чует поживу, как азиат», — однажды сказал кому-то Лестер про брата, и это было совершенно точное определение. И, однако, он не мог ни сбить Роберта с его позиций, ни вступить с ним в спор, ибо на стороне брата было мнение большинства. Роберт поступал, а пожалуй, и рассуждал именно так, как принято. Внешне братья были в самых дружеских отношениях, внутренне — глубоко чужды друг другу. Роберт в общем относился к Лестеру неплохо, но не доверял его способности разбираться в финансовых вопросах. К тому же братья были слишком разными людьми, чтобы одинаково смотреть на жизнь. Лестер втайне презирал брата за то, что тот посвятил себя хладнокровной, упорной погоне за всемогущим долларом. А Роберт был убежден, что легкомыслие Лестера предосудительно и доведет его рано или поздно до беды. В делах им не приходилось сталкиваться всерьез, поскольку до сих пор всем заправлял отец, но между ними постоянно возникали разногласия, и нетрудно было понять, откуда дует ветер. Лестер стоял за то, чтобы вести торговые дела на основе дружеских отношений, личных знакомств, одолжений и уступок, Роберт считал, что нужно вести жесткую линию, снижать издержки производства и сбивать цены, чтобы удушить всякую конкуренцию. Старый фабрикант всегда старался водворять мир и тишину, но предвидел, что когда-нибудь разразится крупная ссора и тогда кому-нибудь из сыновей, а может быть, даже и обоим, придется выйти из дела, «Надо бы вам получше ладить между собой!» — часто говаривал он. И еще одно беспокоило Лестера — взгляды отца на брак, точнее — на его брак. Арчибалд Кейн постоянно твердил, что Лестер должен жениться и что он делает большую ошибку, откладывая это. Все остальные, кроме Луизы, благополучно женились и вышли замуж. Почему бы и его любимому сыну не последовать их примеру? Старик был убежден, что холостяцкая жизнь вредит Лестеру во всех отношениях. — Принято, чтобы человек с твоим положением был женат, — не раз доказывал он сыну. — Это придаст тебе солидности в глазах людей. Найди себе хорошую жену, обзаведись семьей. Что ты станешь делать без дома, без детей, когда доживешь до моих лет? — Отчего же, если встречу подходящую девушку, женюсь, — отвечал Лестер. — Но пока я такой не встречал. Что же мне по-твоему, делать? Жениться на ком попало? — Нет, конечно, но мало ли хороших девушек? Ты, наверное, сумел бы найти себе подходящую жену, если бы захотел. Например, эта Пэйс. Чем она плоха? Она тебе всегда нравилась. Не следует продолжать в таком духе, Лестер, это к добру не приведет. Сын только улыбался в ответ. — Ладно, отец, оставим это. Когда-нибудь я наверняка образумлюсь. Но ведь для того, чтобы пить, надо чувствовать жажду. Старик на время сдавался, но это было его больное место. Ему так хотелось, чтобы сын остепенился и стал настоящим деловым человеком. Лестер понимал, что такое положение вещей не позволит ему построить свои отношения с Дженни на какой-либо прочной основе. Он тщательно обдумал план действий. Безусловно, он не откажется от Дженни, будь что будет. Но надо соблюдать осторожность; не следует рисковать понапрасну. Привезти ее в Цинциннати? Какой разразится скандал, если это когда-нибудь выйдет наружу! Устроить ее в уютном домике где-нибудь за городом? Конечно, у родных рано или поздно возникнут подозрения. Брать ее с собой в многочисленные деловые поездки? На первый раз поездка в Нью-Йорк сошла благополучно. Но всегда ли так будет? Он обдумывал это снова и снова. Трудности только подстрекали его. В конце концов, может быть, самое подходящее место — какой нибудь другой город; Сент-Луис, Чикаго или Питтсбург. Он часто бывал там, особенно в Чикаго. Под конец он решил поселить Дженни именно в Чикаго. Он всегда может наведаться туда под каким-нибудь предлогом, и это только ночь езды. Да, Чикаго лучше всего. В таком большом, оживленном городе нетрудно будет затеряться. Проведя две недели в Цинциннати, Лестер написал Дженни, что скоро приедет в Кливленд, и она ответила, что он может прийти к ней домой. Она говорила о нем отцу. Она сочла неразумным оставаться дома и поступила на службу в магазин, получает четыре доллара в неделю. Он улыбнулся, прочитав это, но ее энергия и порядочность нравились ему. «Она молодец, — сказал он себе. — Я еще никогда не встречал такой девушки». В ближайшую субботу он приехал в Кливленд, зашел в магазин, где служила Дженни, и уговорился встретиться с ней вечером. Пусть она его представит своим родителям в качестве поклонника, лишь бы с этим было покончено поскорее. Убожество дома Герхардтов и их бьющая в глаза бедность вызвали в Лестере чуть ли не отвращение, однако сама Дженни казалась ему такой же прелестной, как всегда. После того как он просидел несколько минут в столовой, к нему вышли поздороваться Герхардт с женой, но Лестер почти не обратил на них внимания. Старый немец показался ему весьма заурядной личностью — таких сотнями нанимали на самые скромные должности на фабрике его отца. Поговорив немного о том о сем, Лестер предложил Дженни поехать кататься. Дженни надела шляпку, и они вышли. На самом деле они отправились на квартиру, нанятую Лестером, где пока что хранились новые наряды Дженни. Вернулась Дженни в восемь часов вечера, и домашние не увидели в этом ничего плохого.Глава 25
Через месяц Дженни сообщила, что Лестер хочет на ней жениться. Разумеется, его визиты подготовили почву, и это показалось всем довольно естественным. Только сам Герхардт словно бы немного сомневался. Ему неясно было, что из этого получится. Возможно, все будет хорошо, Лестер как будто и в самом деле неплохой человек, и в конце-концов отчего бы ему не полюбить Дженни? Был же до него Брэндер. Если в нее мог влюбиться сенатор Соединенных Штатов, так почему это не может случиться с сыном фабриканта? Остается только одно препятствие — ребенок. — Она сказала ему про Весту? — спросил Герхардт жену. — Нет еще, — ответила миссис Герхардт. — Нет еще, нет еще. Всегда какие-то недомолвки. По-твоему он захочет жениться на ней, если узнает? Вот, что получается, когда девушка плохо себя ведет. Теперь ей приходится изворачиваться, как воришке. У ребенка даже нет честного имени. Герхардт снова уткнулся в газету, но невеселые мысли одолевали его. Он считал, что жизнь его совершенно не удалась, и лишь надеялся поправиться настолько, чтобы можно было найти какое-нибудь место — скажем, сторожа. Ему хотелось быть подальше от всех этих хитростей и обманов. Недели через две Дженни призналась матери, что Лестер письмом вызывает ее к себе в Чикаго. Он не совсем здоров и не может приехать в Кливленд. Мать с дочерью сказали Герхардту, что Дженни уезжает, чтобы обвенчаться с мистером Кейном. Герхардт вспылил, и все его подозрения пробудились вновь. Но ему оставалось только ворчать; нет уж, вся эта история добром не кончится. Настал день отъезда, и Дженни пришлось уехать, не простясь с отцом. Он до вечера бродил по городу в поисках работы, и она должна была уйти на вокзал, так и не дождавшись его. — Я ему оттуда напишу, — сказала она. Снова и снова она целовала дочку. — Лестер скоро снимет для нас дом получше этого, — весело говорила она. — Он хочет, чтобы мы отсюда переехали. И вот ночной поезд уносит ее в Чикаго; кончилась прежняя жизнь и начинается новая.Любопытно, что хотя по милости Лестера семья теперь не так нуждалась в деньгах, дети и Герхардт ничего не замечали. Миссис Герхардт без труда обманывала мужа, покупая предметы первой необходимости, и пока что не решалась ни на какие излишества, которые теперь можно было бы себе позволить. Ее удерживал страх. Но Дженни, проведя несколько дней в Чикаго, написала матери, что Лестер настаивает, чтобы они переехали в другой дом. Письмо показали Герхардту, который только и ждал возвращения дочери, чтобы устроить скандал. Он нахмурился, но почему-то это предложение показалось ему свидетельством того, что все в порядке. Если бы Кейн не женился на Дженни, с чего бы ему помогать семье? Пожалуй, они и в самом деле благополучно поженились. Пожалуй, Дженни действительно достигла высокого положения и может теперь помогать родным. Герхардт почти готов был все ей простить, раз и навсегда. Итак, вопрос о новом доме был решен, и Дженни вернулась в Кливленд, чтобы помочь матери с переездом. Они вместе ходили по городу в поисках приятного, тихого квартала и наконец нашли подходящее место. Был снят дом из девяти комнат, с двором, сдававшийся за тридцать долларов в месяц. Его обставили как полагается: купили удобную мебель для столовой, гостиной, хорошие стулья, кресла, кровати и все, что нужно для каждой комнаты. Кухня была со всеми удобствами, была даже ванная — роскошь, какой Герхардты прежде никогда не знали. Словом, дом был очень милый, хотя и скромный, и Дженни радовалась, что родным будет теперь хорошо и уютно. Когда настало время переезжать, миссис Герхардт была просто вне себя от радости; сбывалась ее мечта! Долгие годы, всю свою жизнь она ждала — и вот дождалась. Новый дом, новая мебель, вдоволь места, прекрасные вещи, какие ей и во сне не снились, — подумать только! У нее блестели глаза при виде новых кроватей, столов, шкафов и прочего. — Господи, какая прелесть! — восклицала она. — Как красиво, правда? Дженни, очень довольная, улыбалась, стараясь скрыть волнение, на глаза ее то и дело навертывались слезы. Она так радовалась за мать. Она готова была целовать ноги Лестера за то, что он так добр к ее родным. В тот день, когда привезли мебель, миссис Герхардт, Марта и Вероника тотчас стали ее расстанавливать и приводить в порядок. Большие комнаты, двор, по-зимнему пустынный, но где весной, конечно, будет так славно и зелено, и новая превосходная мебель, привели всех в восторг. Как красиво, как просторно! Джордж топтался на новых коврах, Басс критически осматривал мебель. — Шикарно, — заявил он наконец. Миссис Герхардт блуждала по дому, как во сне. Ей не верилось, что она и в самом деле хозяйка в этих замечательных спальнях, в красивой гостиной и столовой. Герхардт пришел последним. Как он ни старался, ему плохо удавалось скрыть свое восхищение. Вид круглого матового абажура над столом в столовой был последней каплей. — Ишь ты, газ! — сказал Герхардт. Он хмуро поглядел вокруг из-под косматых бровей: на ковер под ногами, на раздвижной дубовый стол, покрытый белой скатертью и уставленный новыми тарелками, на картины по стенам, осмотрел сверкающую чистотой кухню и покачал головой. — Тьфу, пропасть! Вот здорово! — сказал он. — Очень здорово. Да, очень хорошо. Надо быть поосторожнее, чтоб чего-нибудь не сломать. Так легко поцарапать вещь, а тогда уж ее хоть выбрось. Да, даже Герхардт был доволен.
Глава 26
Нет смысла описывать подряд все события следующих трех лет — описывать, как семья постепенно перешла от крайней нужды к сравнительно прочному достатку, основанному, разумеется, на явном благополучии Дженни и на великодушии ее далекого супруга. Время от времени появлялся сам Лестер — важный делец, наездом бывающий в Кливленде; изредка он останавливался у Герхардтов, где его с Дженни всегда ждали две лучшие комнаты на втором этаже. Иногда он вызывал ее телеграммой, и она спешно выезжала в Чикаго, Сент-Луис или Нью-Йорк, Больше всего Лестер любил снять комнаты на одном из модных курортов — в Хот-Спрингс, Маунт-Клеменс или Саратоге — и позволить себе роскошь провести неделю-другую с Дженни под видом мужа и жены. Бывало и так, что он заезжал в Кливленд всего на день, чтобы с нею повидаться. Он все время сознавал, что перекладывает на плечи Дженни всю тяжесть довольно трудного положения, но не представлял себе, как это сейчас можно поправить. Да и надо ли поправлять. Им и так неплохо вместе. В семействе Герхардтов сложилось очень своеобразное отношение к происходящему. Сперва, несмотря ни на что, положение казалось довольно естественным. Дженни сказала, что она вышла замуж. Ее брачного свидетельства никто не видел, но так она сказала, и она в самом деле держалась совсем как замужняя дама. А все-таки она никогда не ездила в Цинциннати, где жила семья Лестера, и никто из его родных никогда не бывал у нее. Да и сам он вел себя странно, хотя его щедрость на первых порах и ослепила Герхардтов. Даже не похоже было, что он женатый человек. Он бывал так небрежен. В иные недели Дженни, по-видимому, получала от него лишь коротенькие записки. Бывало, что она уезжала к нему всего на несколько дней. Наконец, случалось, что она отсутствовала подолгу — единственное веское доказательство прочных отношений, да и то, пожалуй, странное. Бассу уже минуло двадцать пять, он обладал известным деловым чутьем и сильным желанием выдвинуться, и у него возникли некоторые подозрения. Он недурно разбирался в жизни и чувствовал, что тут что-то неладно. Девятнадцатилетнему Джорджу удалось занять кое-какое положение на фабрике обоев, он мечтал сделать карьеру в этой области, и его тоже беспокоила сестра. Он подозревал, что у нее не все идет, как полагается. Семнадцатилетняя Марта, Уильям и Вероника еще учились в школе. Им предоставили возможность учиться, сколько они захотят; но и они ощущали смутное беспокойство. Они ведь знали, что у Дженни есть ребенок. Соседи, как видно, сделали свои выводы. С Герхардтами почти никто не водил знакомства. Даже Герхардт-отец в конце концов стал догадываться, что дело неладно, но ведь он сам допустил это, и теперь, пожалуй, поздно было протестовать. Иногда ему хотелось расспросить Дженни, заставить ее исправить, что можно, но ведь худшее уже совершилось. Теперь все зависело от Лестера. Герхардт это понимал. В отношениях Дженни с родными постепенно назревал решительный перелом, но тут внезапно вмешалась сама жизнь. Здоровье миссис Герхардт пошатнулось. Женщина полная, еще так недавно подвижная и деятельная, она в последние годы почувствовала упадок сил и стала тяжела на подъем; притом ее от природы беспокойный ум угнетало великое множество невзгод и тяжких тревог, и вот теперь это привело к медленному, но несомненному угасанию. Она двигалась вяло, быстро уставала от той несложной работы, которая еще оставалась на ее долю, и наконец пожаловалась Дженни, что ей стало очень трудно подниматься по лестнице. — Мне что-то нездоровится, — сказала она. — Как бы не заболеть. Дженни забила тревогу и предложила повезти мать на ближайший курорт, но миссис Герхардт отказалась. — Вряд ли мне это поможет, — сказала она. Она сидела в садике или ездила с дочерью на прогулку, но унылые картины осени угнетали ее. — Не люблю я хворать осенью, — говорила она. — Смотрю, как падают листья, и мне все кажется, что я никогда не поправлюсь. — Ну что ты говоришь, мамочка! — возражала Дженни, скрывая испуг. Всякий дом прежде всего держится на матери, но понимают это лишь тогда, когда уже недалек конец. Басс, который собирался жениться и уйти из семьи, на время отказался от этой мысли. Сам Герхардт, потрясенный и безмерно подавленный, бродил по дому, как человек, который с ужасом ждет неизбежной катастрофы. Дженни никогда не приходилось так близко сталкиваться со смертью, и она не понимала, что теряет мать; ей казалось, что больную еще как-то можно спасти. Надеясь наперекор очевидности, она бодрствовала у постели матери — воплощенное терпение, забота и внимание. Конец настал утром, после целого месяца болезни; несколько дней миссис Герхардт была без памяти; в доме водворилась глубокая тишина, все ходили на цыпочках. В последние минуты сознание миссис Герхардт прояснилось, и она скончалась, не отводя взгляда от лица Дженни. Охваченная тоской и ужасом, Дженни смотрела ей в глаза. — Мамочка, мама! — закричала она. — Нет, нет! Герхардт прибежал со двора и рухнул на колени возле постели, в отчаянии ломая худые руки. — Зачем я не умер раньше! — твердил он. — Зачем я не умер раньше! Смерть матери ускорила распад семьи. У Басса давно уже была в городе невеста, и он собирался немедленно жениться. Марте, которая стала смотреть на жизнь более трезво и практично, тоже не терпелось уйти из семьи. Ей казалось, что какое-то проклятие лежит на их доме и на ней самой, пока она здесь остается. Она собиралась стать учительницей и надеялась, что работа в школе позволит ей существовать самостоятельно. Один только старик Герхардт не знал, что ему делать. Он опять работал ночным сторожем. Однажды Дженни застала его на кухне плачущим и тотчас расплакалась сама. — Не надо, папа, — уговаривала она. — Все не так уж плохо. Ты же знаешь, пока у меня есть хоть какие-то деньги, ты не останешься без крова. Ты можешь уехать со мной. — Нет, нет, — возразил отец. Он действительно не хотел ехать с нею. — Не в этом дело. Вся моя жизнь пошла прахом. Некоторое время Басс, Джордж и Марта еще пожили дома, но наконец один за другим разъехались, и в доме остались только Дженни, отец, Вероника, Уильям и самая младшая — Веста, дочка Дженни. Лестер, разумеется, ничего не знал о происхождении Весты и, что любопытно, даже ни разу не видел девочки. В тех случаях, когда он — самое большое дня на два, на три — удостаивал своим присутствием дом Герхардтов, миссис Герхардт всячески заботилась о том, чтобы Веста не попалась ему на глаза. Детская помещалась под самой крышей, и спрятать ребенка было не так трудно. Лестер почти все время оставался у себя, даже обед ему подавали в комнату, служившую ему гостиной. Он был отнюдь не любопытен и не стремился встречаться с остальными членами семьи. Он всегда любезно здоровался с ними и обменивался несколькими случайными фразами, но не более того. Все понимали, что малышке не следует быть на виду, и успешно ее прятали. Стариков и детей всегда связывает какая-то необъяснимая приязнь, прекрасная и трогательная внутренняя близость. В первый год после переезда на Лорри-стрит Герхардт украдкой ласково щипал пухлые розовые щечки Весты, а когда никого не было дома, сажал ее к себе на плечи и катал по комнатам. Когда она подросла настолько, что начала ходить, именно он терпеливо водил ее по комнате, крепко обвязав полотенцем под мышками, пока она не научилась делать по несколько шагов самостоятельно. А когда она стала уже такая большая, что могла ходить по-настоящему, он уговаривал ее идти — уговаривал украдкой, хмуро и все-таки всегда ласково. По прихоти судьбы эта девочка — позор его семьи, несмываемое пятно с точки зрения общепринятой морали — забрала в свои беспомощные детские пальчики самые чувствительные струны его души. Он отдавал этому маленькому отверженному созданию весь жар своего сердца и все свои надежды. Девочка была единственным лучом света в его замкнутой, безрадостной жизни, и Герхардт рано почувствовал себя ответственным за ее религиозное воспитание. Разве не он настоял, чтобы ребенка окрестили. — Скажи; «Отче наш», — часто требовал он, оставаясь с внучкой наедине. — Оче нас, — шепелявя, повторяла она. — Иже еси на небесах… — Иси небесех… — повторяла девочка. — Зачем ты учишь ее так рано? — вступалась, бывало, миссис Герхардт, услыхав, как малышка воюет с неподатливыми звуками. — Затем, чтоб она росла христианкой, — решительно отвечал Герхардт. — Она должна знать молитвы. Если она не начнет теперь, она никогда их не выучит. Миссис Герхардт улыбалась в ответ. Многие религиозные причуды мужа только забавляли ее. В то же время ей нравилось, что он так близко принимает к сердцу воспитание внучки. Если б только он не был порою таким суровым, таким несговорчивым. Он мучил и себя и всех окружающих. Вновь настала весна, и рано утром, по первому солнышку, Герхардт стал выводить Весту, чтобы погулять. — Гулять, — щебетала Веста. — Да, гулять, — повторял Герхардт. Миссис Герхардт надевала девочке хорошенький капор (Дженни позаботилась о том, чтобы у ее дочки было вдоволь нарядов), и они пускались в путь. Веста неуверенно переваливалась, а Герхардт, очень довольный, вел ее за руку, едва передвигая ноги, чтобы приспособиться к ее шагу. Как-то, когда Весте было четыре года, в прекрасный майский день они отправились на прогулку. Природа радовалась весне, распускались почки на деревьях; щебетали птицы, празднуя свое возвращение с юга; всякие мошки спешили насладиться короткой жизнью. Воробьи чирикали на дороге; малиновки прыгали в траве; ласточки вили гнезда под крышами домов. Герхардт с истинным наслаждением показывал Весте чудеса природы, и она живо на все откликалась. Все, что она видела и слышала, занимало ее. — О-о! — крикнула она, заметив мелькнувшее невысоко красное пятнышко: с ветки поблизости взлетела малиновка. Девочка подняла руку, глаза у нее стали совсем круглые. — Да, — сказал Герхардт, такой счастливый, как будто он и сам первый раз в жизни увидел чудесную птичку. — Это малиновка. Птица. Малиновка. Скажи, ма-ли-нов-ка. — Ма-и-но-ка, — эхом отозвалась Веста. — Да, малиновка — повторил Герхардт. — Она полетела искать червяка. А мы попробуем найти ее гнездо. Я, кажется, видел гнездо где-то здесь, на дереве. Он неторопливо шагал, осматривая ветви деревьев, на одном из которых он недавно заметил покинутое гнездо. — Вот оно! — сказал он наконец, подходя к невысокому, еще не одевшемуся листвою деревцу; в ветвях виднелись остатки птичьего жилища, полуразрушенного зимней непогодой. — Вот иди сюда, смотри! — Он высоко поднял внучку и показал ей комок сухой травы. — Смотри, гнездо. Это птичкино гнездышко. Смотри! — О-ой! — протянула Веста, тоже показывая пальчиком. — О-ой! Нездышко! — Да, — подтвердил Герхардт, снова опуская девочку на землю. — Это гнездо птички, ее зовут кра-пив-ник. А теперь все из гнезда улетели и больше не вернутся. И они пошли дальше; он показывал внучке новые чудеса, а она по-детски всему изумлялась. Пройдя еще квартала два, Герхардт медленно повернул назад, словно они уже пришли на край света. — Нам пора домой, — сказал он. Так Веста росла до пяти лет, становясь все милей, смышленей и живее. Герхардта приводили в восторг ее вопросы и загадки, которыми она сыпала без счета. — Что за девочка! — говорил он жене. — Все-то ей надо знать! Она меня спрашивает: где живет боженька? Что он делает? Есть ли у него скамеечка для ног? Умора, да и только! Он одевал внучку, когда она просыпалась поутру, укладывал ее спать по вечерам, дождавшись, пока она прочтет молитву. Он проводил с нею все дни, и она стала самой большой его радостью и утешением. Не будь Весты, жизнь была бы для Герхардта куда более тяжким бременем.Глава 27
Все эти три года Лестер был счастлив с Дженни. Хоть их связь и была незаконной в глазах церкви и общества, но она давала ему покой и уют, он был очень счастлив, что опыт удался. Его интерес к светской жизни в Цинциннати свелся к нулю, и он упорно отмахивался от всяких попыток женить его. Отцовская фирма была бы для него прекрасным поприщем, на котором он, несомненно, выдвинулся бы, если б только мог ею управлять; но он понимал, что это невозможно. Интересы Роберта всегда становились ему поперек дороги, и касалось ли это их взглядов или их цели, во всем братья были теперь еще более далеки друг от друга, чем когда-либо. Раза два Лестер подумывал о том, чтобы заняться каким-нибудь другим делом или войти компаньоном в другую фирму, производящую экипажи, но у него не хватало духу это сделать, Лестер получал пятнадцать тысяч в год в качестве секретаря и казначея отцовской фирмы (брат был вице-президентом), и, кроме того, пять тысяч давал ему капитал, вложенный в разные ценные бумаги. Он не был таким удачливым и ловким дельцом, как Роберт; кроме этих пяти тысяч дохода, у него ничего не было. Напротив, Роберт, несомненно, «стоил» триста или даже четыреста тысяч долларов, не считая своей будущей доли в отцовском предприятии. Оба брата рассчитывали, что наследство будет разделено с некоторым преимуществом для них: они получат по четвертой части, а сестры по шестой. Казалось вполне естественным, что Кейн-старший именно так и рассудит, поскольку сыновья фактически вели все дело. И, однако, полной уверенности не было. Старик может поступить, как ему заблагорассудится. Весьма вероятно, что он будет в высшей степени добр и справедлив. В то же время Роберт явно умеет взять от жизни куда больше. Итак, что же оставалось делать Лестеру? В жизни каждого мыслящего человека наступает время, когда он оглядывается на прошлое и спрашивает себя, чего же он стоит и в умственном, и в нравственном, и в физическом, и в материальном отношении. Это происходит тогда, когда безрассудные юношеские порывы уже позади, когда первые самостоятельные шаги и самые энергичные усилия уже сделаны и все, к чему стремился и чего достиг, становится в твоих глазах неверным и непрочным. И в сознание многих закрадывается иссушающая душу мысль о тщете бытия — мысль, которую всего лучше выразил Экклезиаст. Однако Лестер пытался быть философом. «Не все ли равно, — часто говорил он себе, — живу я в Белом доме, здесь, у себя, или в «Грэнд-Пасифик»?» Но самая постановка вопроса уже говорила о том, что есть в жизни вещи, которых ему не удалось достичь. Белый дом был символом блистательной карьеры крупного общественного деятеля. Свой особняк и шикарный отель олицетворяли то, что далось Лестеру без усилий с его стороны. И вот — это было примерно в то время, когда умерла мать Дженни, — Лестер решил попытаться как-то упрочить свое положение. Он покончит с бездельем, — эти бесконечные разъезды с Дженни отнимают у него немало времени. Он найдет, куда вложить свои деньги. Если брат может находить какие-то дополнительные источники дохода, значит, может и он. Пора утвердиться в своем праве, укрепить свой авторитет в отцовском предприятии. Он не позволит Роберту понемногу все прибрать к рукам. Не придется ли пожертвовать Дженни? — и это тоже приходило ему на ум. У нее нет никаких прав на него. Она не может протестовать. Но почему-то Лестер не представлял себе, как он мог бы это сделать. Это и жестоко и бессмысленно; а главное (хоть ему и неприятно было признаться в этом даже себе), это лишило бы его многих удобств. Она ему нравилась, он, пожалуй, даже любил ее — по-своему, эгоистически. Он плохо представлял себе, как это он ее бросит. В это самое время у него вышли серьезные разногласия с братом. Роберт хотел порвать со старой и почтенной нью-йоркской фабрикой красок, которая специально обслуживала фирму Кейн, и завязать отношения с одним концерном в Чикаго, — это было молодое предприятие с большим будущим. Лестер хорошо знал представителей нью-йоркской компании, знал, что на них можно положиться, что их связывают с фирмой Кейн давние и дружеские отношения, и потому воспротивился предложению Роберта. Отец сначала как будто соглашался с Лестером. Но Роберт излагал свои доводы с присущей ему холодной логикой, упорно глядя брату в лицо жесткими голубыми глазами. — Мы не можем вечно держаться старых друзей только потому, что отец вел с ними дела, или потому, что ты им симпатизируешь, — сказал он. — Нужны перемены. Дело необходимо укрепить; нам предстоит выдержать сильную конкуренцию. — Пусть решает отец, — сказал наконец Лестер. — Меня это мало трогает. Так ли, этак ли, мне все равно. Ты говоришь, что в итоге фирма от этого выиграет. Я доказывал как раз обратное. — Я склонен думать, что прав Роберт, — спокойно сказал Арчибалд Кейн. — До сих пор почти все, что он предлагал, оправдывало себя. Кровь бросилась в лицо Лестеру. — Что ж, не будем больше об этом говорить, — сказал он и тотчас поднялся и вышел из конторы. Это поражение, постигшее его как раз в то время, когда он решил взяться за ум, было для Лестера большим ударом. Случай был пустячный, но он оказался в некотором роде последней каплей, а еще досадней было замечание отца о проницательности Роберта в делах. Лестер стал спрашивать себя, не отдаст ли отец предпочтения Роберту при разделе наследства. Может быть, он что-нибудь прослышал о его связи с Дженни? Или сердится на его долгие отлучки, считая, что они идут в ущерб делу? Лестер полагал, что несправедливо было бы обвинить его в недостатке способностей или в невнимании к интересам фирмы. Он хорошо исполняет свои обязанности. Он и сейчас изучает все предложения, которые получает фирма, тщательно знакомится с контрактами, остается надежным советчиком отца и матери, но его упорно оттирают. Чем это кончится? Он много думал над этим, но так ни к чему и не пришел. В том же году, немного позже, Роберт выдвинул план реорганизации всего управления предприятием. Он предложил построить в Чикаго, на Мичиган-авеню, огромный выставочный зал и склад и перебросить туда часть готовой продукции. Чикаго — более крупный центр, чем Цинциннати. Покупателям с Запада и провинциальным торговцам удобнее приезжать туда, чтобы вести дела с Кейнами. Это будет прекрасной рекламой, великолепным доказательством прочности и процветания фирмы. Кейн-отец и Лестер сразу же одобрили этот проект. Оба вполне оценили его достоинства. Роберт предложил Лестеру заняться постройкой нового здания. Пожалуй, было бы разумно, чтобы он проводил часть времени в Чикаго. Идея брата пришлась Лестеру по душе, хоть он и понимал, что ему предлагают почти совсем расстаться с Цинциннати. Это почетно для него, это знак, что он играет видную роль в делах фирмы. Притом он сможет поселиться в Чикаго и взять Дженни к себе. Теперь без труда можно осуществить прежний план — снять квартиру для себя и для нее. И он поддержал Роберта. Тот улыбнулся. — Я уверен, что это будет на пользу фирме, — сказал он. Так как строительные работы должны были вскоре начаться, Лестер решил переехать в Чикаго немедленно. Он вызвал Дженни, и они вместе выбрали квартиру на Северной стороне; дом стоял на тихой улице неподалеку от озера, квартира была очень удобная, и Лестер обставил ее по своему вкусу. Он рассчитывал, что, живя в Чикаго, будет слыть холостяком. Ему не придется приглашать друзей к себе. Он всегда сможет встретиться с ними в конторе, в клубе или отеле. На его взгляд, все устраивалось как нельзя лучше.Естественно, что с отъездом Дженни из Кливленда жизнь Герхардтов круто изменилась. Как видно, семья окончательно распадалась, но сам Герхардт относился к этому философски. Он уже старик, ему все равно, где ни жить. Басс, Марта и Джордж уже стали на ноги. Вероника и Уильям еще учатся в школе, но можно будет как-нибудь устроить, чтобы они жили и столовались у соседей, Герхардта и Дженни серьезно заботило только одно — Веста. Герхардт, естественно, подумал, что Дженни возьмет дочку с собой. Может ли мать поступить иначе. — Ты рассказала ему про Весту? — спросил он, когда был уже назначен день отъезда Дженни. — Нет, но скоро расскажу, — успокоила она его. — От тебя только и слышишь «скоро» да «скоро», — проворчал Герхардт. Он покачал головой. Слезы душили его. — Плохо дело, — продолжал он, помолчав. — Это великий грех. Боюсь, что бог тебя покарает. За ребенком нужен уход. Не будь я так стар, я оставил бы девочку у себя. Теперь уже некому смотреть за ней как полагается, — и он опять покачал головой. — Я знаю, — тихо сказала Дженни. — Я все это устрою. Скоро я заберу ее к себе. Ты же знаешь, что я ее не брошу. — Но как же с именем? — сказал Герхардт. — Девочке нужно имя. На будущий год она пойдет в школу. Люди захотят знать, кто она такая. Не может же вечно так продолжаться. Дженни и сама хорошо это понимала. Она до безумия любила дочку. Постоянные разлуки и необходимость скрывать даже самое существование Весты были тяжким крестом для Дженни, Это было несправедливо по отношению к ребенку, но Дженни не видела возможности поступить иначе. Она хорошо одевала Весту, у девочки было всего вдоволь. Во всяком случае она ни в чем не нуждалась. Дженни надеялась дать ей хорошее образование. Ах, если бы она с самого начала сказала Лестеру правду! Теперь, пожалуй, уже слишком поздно; и все-таки Дженни чувствовала, что тогда она поступила так, как было лучше. Наконец она решила подыскать в Чикаго какую-нибудь хорошую женщину или семью, которая стала бы за плату заботиться о Весте. В шведском квартале к западу от Ла-Саль-стрит она нашла пожилую женщину, которая показалась ей воплощением всех добродетелей, — опрятную, скромную, честную, Женщина эта была вдова, работала поденно и с радостью согласилась оставить эту работу и отдавать все свое время Весте. Дженни решила, что девочка начнет ходить в детский сад, как только удастся найти подходящий. У нее будет много игрушек, хороший уход. Миссис Олсен непременно будет сообщать Дженни о всяком, даже самом легком нездоровье ребенка. Дженни собиралась навещать Весту каждый день и думала, что изредка, когда Лестер будет уезжать из Чикаго, она станет брать дочку к себе. Жила же Веста раньше с ними в Кливленде, а Лестер об этом и не подозревал. Договорившись с миссис Олсен, Дженни при первом же удобном случае поехала в Кливленд за Вестой. Герхардт, в горестном ожидании близкой разлуки, был полон тревоги о будущем внучки. — Она должна вырасти прекрасной девочкой, — сказал он Дженни. — Надо дать ей хорошее образование, ведь она такая умница. Он сказал еще, что следовало бы отдать Весту в лютеранскую церковную школу, но Дженни была не так уж в этом уверена. Время и общение с Лестером привели ее к мысли, что обычная начальная школа лучше любого частного заведения. Не то, чтобы Дженни была против церкви, но она уже не считала, что учением церкви можно руководствоваться во всех случаях жизни. Да и почему бы ей думать иначе? На другой же день Дженни должна была вернуться в Чикаго. Веста, сгоравшая от нетерпения, была уже готова в дорогу. Пока Дженни одевала ее, Герхардт бродил по дому как неприкаянный; теперь, когда пробил час разлуки, он изо всех сил старался сохранить самообладание. Он видел, что пятилетняя девчурка совершенно не понимает, каково ему. Она была бездумно счастлива и без умолку болтала про то, как они поедут на лошадке и на поезде. — Будь умницей, — сказал Герхардт, поднимая ее и целуя. — Смотри, не забывай учить катехизис и молиться. И ты будешь помнить своего дедушку, правда? Он хотел еще что-то прибавить, но голос изменил ему. Дженни, у которой сердце разрывалось при виде его горя, старалась не выдавать волнения. — Ну, вот… — сказала она. — Если б я знала, что ты будешь так это переживать… Она не договорила. — Поезжайте, — мужественно сказал Герхардт. — Поезжайте. Так будет лучше. Он молча проводил их взглядом. Потом пошел в свой любимый угол — на кухню, остановился там и застыл, глядя в пол невидящими глазами. Один за другим они покинули его — жена, Басс, Марта, Дженни, Веста. По старой привычке он крепко стиснул руки и долго стоял, качая головой. — Вот оно как! — твердил он. — Вот оно как. Все меня покинули. Вся моя жизнь пошла прахом.
Глава 28
За те три года, что Лестер и Дженни прожили вместе, их привязанность друг к другу и взаимное понимание выросли и окрепли. Лестер на свой лад действительно любил ее. Это сильное, самоуверенное, не знающее сомнений и колебаний чувство, основанное на естественном и неодолимом влечении, приближалось к подлинному духовному сродству. Нежная покорность, столь свойственная Дженни, влекла и удерживала Лестера. Дженни была такая преданная, добрая, бесконечно женственная. Лестер привык ей верить, во многом полагался на нее, и с годами его чувство становилось все глубже. А Дженни искренне, глубоко, преданно полюбила этого человека. Вначале, когда он, как вихрь, ворвался в ее жизнь, внес смятение в ее душу и, воспользовался ее горькой нуждой, как цепью, приковал ее к себе, она немного сомневалась в нем, немного боялась его, хотя он всегда ей нравился. Но, проведя подле него все эти годы, узнав его лучше, она постепенно его полюбила. Он такой сильный, красивый, у него такой чудесный голос. Его взгляды на все, его мнения всегда так вески. Его излюбленный девиз: «Шагай напролом, не оглядывайся», — поразил ее воображение. Как видно, ему ничто не страшно — ни люди, ни бог, ни дьявол. Нередко, взяв ее смуглыми пальцами за подбородок, он смотрел ей в глаза. — Ты прелесть, что и говорить, вот бы только смелости и дерзости побольше. Этого тебе явно не хватает. И Дженни отвечала ему безмолвным нежным взглядом. — Ну, ничего, — добавлял Лестер, — зато у тебя есть другие достоинства, — и целовал ее. Его очень трогало, что Дженни так наивно старается скрывать всякие пробелы в своем воспитании и образовании. Она недостаточно грамотно писала; и вот однажды он нашел лист бумаги, — на нем рукой Дженни были выписаны трудные слова, которые Лестер часто употреблял в разговоре, и их значения. Он улыбнулся и еще больше полюбил ее за это. В другой раз, в «Южном отеле» в Сент-Луисе, она сделала вид, будто ей не хочется есть, из страха, что ее манеры недостаточно хороши и обедающие за соседними столиками могут это заметить. Она не всегда была уверена, что возьмет именно ту вилку и тот нож, какие полагается, инепривычные на вид блюда приводили ее в смущение: как надо есть артишоки? А спаржу? — Почему ты ничего не ешь? — весело спросил Лестер. — Ведь ты голодная? — Не очень. — Наверное, голодная. Послушай, Дженни, я знаю, в чем дело. Но ты напрасно беспокоишься. У тебя прекрасные манеры. Иначе я не повел бы тебя сюда. И у тебя верное чутье. Не смущайся. Если ты что-нибудь сделаешь не так, я тут же подскажу. Его карие глаза блеснули весело и ласково. Дженни ответила благодарной улыбкой. — Мне и правда иногда бывает немножко не по себе, — призналась она. — Не надо, — сказал он. — Все в порядке. Не беспокойся. Я тебе все покажу. Так он и делал. Постепенно Дженни научилась разбираться в светских правилах и обычаях. У Герхардтов никогда не было ничего, кроме самого необходимого. Теперь у нее было все, чего только можно пожелать: чемоданы, наряды, всевозможные мелочи туалета, все, из чего создается истинный комфорт, и, хотя это ей нравилось, она не утратила присущего ей чувства меры и умения здраво судить обо всем. В ней не было ни капли тщеславия, она только радовалась, что судьба ей улыбнулась. Она так благодарна Лестеру за все, что он сделал и делает для нее. Если б только удержать его — навсегда! Устроив Весту у миссис Олсен, Дженни погрузилась в свои домашние хлопоты. Лестер, занятый бесчисленными делами, то приезжал, то уезжал. Он снимал номер-люкс в «Грэнд-Пасифик» — лучшем отеле Чикаго; предполагалось, что здесь-то он и живет. В «Юнион-клубе» он завтракал и встречался по вечерам с друзьями и деловыми знакомыми. Одним из первых оценив достоинства телефона, он установил аппарат на квартире и в любое время мог говорить с Дженни. Дома он ночевал два-три раза в неделю, иногда чаще. Сперва он настаивал, чтобы Дженни предоставила хозяйство служанке, но потом согласился, что разумнее договориться с какой-нибудь девушкой, которая будет только приходить и выполнять самую черную работу. Дженни нравилось хозяйничать самой, недаром она всегда отличалась трудолюбием и аккуратностью. Лестер любил завтракать точно в восемь утра. Он привык, чтобы обед подавался ровно в семь. Ему нравилось серебро, хрусталь, китайский фарфор, всякие предметы роскоши. Его одежда и чемоданы хранились на квартире Дженни. Первые месяцы все шло гладко. Изредка Лестер водил Дженни в театр и, если ему случалось встретить кого-либо из знакомых, всегда представлял ее как мисс Герхардт. Если они останавливались где-нибудь в отеле под видом мужа и жены, он называл портье вымышленную фамилию; если же не было опасности, что их узнают, он преспокойно ставил в книге для проезжающих свое настоящее имя. И пока что все сходило с рук. Дженни все время боялась одного: как бы Лестер не открыл ее обман и не узнал про Весту; кроме того, она тревожилась об отце и о доме. Из писем Вероники можно было понять, что они с Уильямом собираются переехать к Марте, которая теперь жила в меблированных комнатах там же, в Кливленде. Дженни беспокоило, что отец один. Ей было до боли жаль его; став калекой, он годился разве что в ночные сторожа, и Дженни с ужасом представляла себе, как он будет жить совсем один. Не переехать ли ему сюда, к ней? Но Дженни знала, что сейчас он на это не согласится. Да и захочет ли Лестер, чтобы Герхардт жил с ними? Она не была в этом уверена. К тому же, если отец приедет, неминуемо надо будет рассказать Лестеру о Весте. Все это очень мучило Дженни. Да, с Вестой было не так-то просто. Чувствуя себя глубоко виноватой, Дженни особенно остро переживала все, что касалось дочери. Она всячески старалась искупить великую несправедливость, в которой была повинна перед своим ребенком, ибо этот самый большой свой долг она была не в силах исполнить. Каждый день она бывала у миссис Олсен, приносила игрушки, сласти — словом, все, что, как ей казалось, могло позабавить и обрадовать ребенка. Она любила подолгу сидеть с Вестой, рассказывать ей про фей и великанов, и девочка жадно слушала ее сказки. Наконец Дженни до того осмелела, что однажды, когда Лестер поехал в Цинциннати навестить родителей, привела девочку к себе и потом стала брать ее домой всякий раз, как он уезжал из города. Время шло, Дженни изучила привычки Лестера и понемногу становилась все более дерзкой, — хотя едва ли слово «дерзкая» применимо к Дженни. Она стала храброй, как может быть храбрым мышонок; она осмеливалась брать к себе Весту, даже когда Лестер был в отлучке всего два-три дня. И даже оставляла у себя кое-какие игрушки, чтобы Весте было чем заняться. За те немногие дни, что дочурка провела у нее, Дженни с особенной силой почувствовала, какое это было бы счастье, если бы она была законной женой и матерью. Веста оказалась на редкость наблюдательным ребенком. Своими невинными детскими вопросами она то и дело бередила незаживающую рану в сердце Дженни. — А можно мне всегда жить с тобой? — спрашивала она чаще всего. Дженни отвечала, что пока нельзя, но очень скоро, как только можно будет, она возьмет свою девочку к себе насовсем. — А когда это будет? — спрашивала Веста. — Не знаю точно, моя маленькая. Теперь уже скоро. Ты уж потерпи еще немножко. А разве тебе не нравится у миссис Олсен? — Нравится, — отвечала Веста, — только у нее ничего нет хорошего. Все старое. У Дженни сжималось сердце, она вела Весту в магазин и накупала ей игрушек. Лестер, разумеется, ни о чем не подозревал. Он почти не замечал, что происходит в доме. Он занимался делами, развлекался, твердо веря, что Дженни вполне откровенна с ним и до глубины души ему преданна, и ему в голову не приходило, что она может что-нибудь от него утаить. Однажды ему нездоровилось, он среди дня вернулся домой и, не застав Дженни, прождал ее с двух до пяти. Он был раздосадован и поворчал, когда она пришла, но его недовольство было ничто по сравнению с изумлением и испугом Дженни, когда она увидела, что он дома. Она вся побелела при мысли, что он может что-нибудь заподозрить, и постаралась объяснить свое отсутствие как можно правдоподобнее. Она была у прачки, потом ходила по магазинам и поэтому задержалась. У нее и в мыслях не было, что он дома. И ей так жаль, что она не могла поухаживать за ним. В тот раз Дженни поняла, что рискует все погубить. Прошло еще три недели, и Лестер снова поехал на неделю в Цинциннати, а Дженни опять взяла Весту к себе; четыре дня мать и дочь были вполне счастливы вдвоем. Все было бы очень хорошо, не допусти Дженни одной оплошности, о последствиях которой ей пришлось горько пожалеть. В гостиной за широким кожаным диваном, на котором часто отдыхал с сигарой Лестер, остался позабытый игрушечный барашек. На шее у него висел на голубой ленте маленький бубенчик, позвякивавший при малейшем движении. Весте почему-то вздумалось забросить игрушку за диван, а Дженни этого не заметила. Проводив Весту, она собрала все ее вещи, но так и не хватилась барашка, и он все еще стоял там, заглядевшись глазами-пуговками на солнечные луга страны игрушек, когда вернулся Лестер. В тот вечер он лежал с газетой, мирно покуривая и нечаянно уронил за диван горящую сигару. Опасаясь, как бы от нее что-нибудь не загорелось, Лестер наклонился и заглянул под диван, но не увидел ее; тогда он поднялся, отодвинул диван и вдруг заметил барашка, стоявшего на том самом месте, куда его кинула Веста. Лестер поднял игрушку и повертел ее в руках, не понимая, как она сюда попала. «Откуда тут взяться барашку? Наверное, его затащил какой-нибудь соседский ребенок, с которым Дженни свела знакомство, — подумал Лестер. — Надо ее немножко подразнить». Собираясь от души посмеяться, он взял барашка, вошел в столовую, где хлопотала у буфета Дженни, и провозгласил с комической торжественностью: — Откуда сие? Дженни, не подозревавшая о существовании такой улики, обернулась и мгновенно вообразила, что Лестер обо всем узнал и сейчас обрушит на нее свой справедливый гнев. Она вся вспыхнула, потом смертельно побледнела. — Это… я… я купила… это игрушка, — заикаясь, выговорила она. — Вижу, что игрушка, — весело сказал Лестер; он заметил виноватую растерянность Дженни, но не придал этому значения. — Бедняга, скучно ему пастись в одиночестве. И Лестер потрогал бубенчик на шее у барашка; бубенчик тихонько звякнул, и Лестер снова поднял глаза на Дженни, которая стояла перед ним, не в силах вымолвить ни слова. По добродушному виду Лестера она поняла, что он ничего не подозревает, но никак не могла прийти в себя. — Что с тобой? — спросил Лестер. — Ничего, — ответила она. — У тебя такое лицо, как будто этот барашек тебя ужасно испугал. — Просто я забыла его убрать, — невольно вырвалось у Дженни. — У него довольно потрепанный вид, — прибавил Лестер уже не так шутливо и затем, видя, что разговор неприятен Дженни, прекратил его. Никакого развлечения не вышло из этого барашка. Лестер вернулся в гостиную, прилег на диван и задумался. Что взволновало Дженни? Почему она так побледнела при виде игрушки? Ведь если, оставаясь одна, она приводит к себе какого-нибудь соседского малыша, играет с ним, забавляет его, в этом, конечно же, нет ничего плохого. С чего бы ей так волноваться? Он мысленно перебрал все это, но ни к чему не пришел. О барашке больше не упоминалось ни словом. Быть может, со временем Лестер совсем забыл бы об этом случае, если бы ничто больше не пробудило его подозрений, но, видно, беда никогда не приходит одна. Как-то вечером, когда Лестер замешкался и собрался уходить позже обычного, у дверей позвонили; Дженни возилась на кухне, и Лестер сам пошел открывать. Он увидел немолодую женщину, которая с тревожным недоумением посмотрела на него и на ломаном английском языке спросила, нельзя ли видеть хозяйку. — Подождите минуту, — сказал Лестер и, выйдя в коридор, позвал Дженни. Еще с порога узнав посетительницу, Дженни поспешно вышла в прихожую и затворила за собою дверь. Это сразу показалось Лестеру подозрительным. Он нахмурился и решил выяснить, в чем дело. Через минуту в комнату вернулась Дженни. Она была бледна, как полотно, дрожащие пальцы словно искали, за что бы ухватиться. — Что случилось? — спросил Лестер; он был раздражен, и голос его прозвучал довольно резко. Дженни не сразу нашла в себе силы ответить. — Мне нужно ненадолго уйти, — сказала она наконец. — Ну что ж, иди, — неохотно согласился он. — Но разве ты не можешь мне сказать, что случилось? Куда ты идешь? — Я… я… — запинаясь, начала Дженни. — У меня есть… — Ну? — хмуро спросил Лестер. — У меня есть одно дело, — докончила Дженни. — Мне… мне надо идти сейчас же. Когда я вернусь, я тебе все расскажу, Лестер. Только, пожалуйста, сейчас ни о чем не спрашивай. Она смотрела на него, словно не видя; тревога, озабоченность, нетерпеливое желание скорее уйти ясно читались на ее лице. Лестер, никогда еще не видевший ее такой сосредоточенной и упорной, был и тронут и раздосадован. — Ладно, — сказал он, — но чего ради ты делаешь из этого тайну? Почему не сказать прямо, что с тобой случилось? Зачем надо шептаться за дверями? Куда ты идешь? Он замолчал и сам вдруг удивился своей резкости; а Дженни, выведенная из равновесия и известием, которое ей только что принесли, и этим неожиданным выговором, вдруг ощутила прилив небывалой решимости. — Я тебе все скажу, Лестер, все! — воскликнула она. — Только не сейчас. У меня нет ни минуты. Я все расскажу, когда вернусь. Пожалуйста, не задерживай меня. Она бросилась в соседнюю комнату, чтобы одеться. Лестер, еще и сейчас не понимавший толком, что все это может означать, упрямо пошел за нею. — Послушай, — грубо крикнул он, — что за глупости! В чем дело? Я хочу знать? Он стоял в дверях — воплощенная воинственность и решимость, мужчина, привыкший, чтобы ему подчинялись. Дженни, доведенная до отчаяния, наконец не выдержала. — Моя девочка умирает, Лестер! — воскликнула она. — Я сейчас не могу разговаривать. Пожалуйста, не задерживай меня. Я тебе все объясню, когда вернусь. — Твоя девочка?! — повторил ошеломленный Лестер. — Что за черт, о чем ты говоришь? — Я не виновата, — ответила она. — Я боялась… мне давно надо было тебе сказать. Я и хотела сказать, но только… только… ох, отпусти меня скорее! Когда я вернусь, я тебе все расскажу! Лестер в изумлении посмотрел на нее, потом шагнул в сторону, давая ей дорогу; сейчас он больше не хотел ничего от нее добиваться. — Хорошо, иди, — сказал он негромко. — Может быть, проводить тебя? — Нет, — ответила Дженни. — Меня ждут, я пойду не одна. Она выбежала из комнаты, а Лестер остался в раздумье. Неужели это та самая женщина, которую, как ему казалось, он так хорошо знал? Выходит, она все эти годы обманывала его! И это Дженни! Воплощенная искренность! Простая душа! — Ах, черт меня побери! — пробормотал он, и у него перехватило горло.Глава 29
Причиной всего этого переполоха оказалась одна из обычных детских болезней, наступления и исхода которых никто не мог бы предсказать даже за два часа. В этот день у Весты вдруг открылась сильная ангина, и состояние девочки ухудшалось с такой быстротой, что старая шведка отчаянно перепугалась и попросила соседку сейчас же сходить за миссис Кейн. Соседка, думая лишь о том, чтобы поскорее привести Дженни, без предисловий объявила ей, что Веста очень больна и надо спешить. Потрясенная Дженни решила, что девочка умирает, и, как мы видели, в порыве ужаса и отчаяния осмелилась сказать Лестеру правду. Она почти бежала по улице, терзаясь бесчисленными опасениями, с одной только мыслью; поспеть вовремя, увидеть свою девочку, прежде чем смерть унесет ее. Что, если уже поздно? Что, если Весты уже нет в живых? Дженни невольно все ускоряла шаг, огни уличных фонарей возникали перед нею и вновь расплывались во тьме; она уже не помнила жестких слов Лестера, не боялась, что он выгонит ее и она останется в огромном городе совсем одна, с ребенком на руках, — она забыла обо всем, кроме одного: ее Веста тяжело больна, может быть, умирает, и это она виновата, что они не вместе; быть может, если бы она сама смотрела за своей дочерью, девочка теперь была бы здорова. «Только бы успеть! — твердила она про себя и, в порыве горя теряя, как все матери, способность рассуждать, упрекала себя; — Я должна была знать, что бог покарает меня за мой грех. Я должна была, должна была знать…» Она распахнула знакомую калитку, бегом бросилась по дорожке к дому и ворвалась в комнату, где лежала Веста — бледная, тихая, ослабевшая; однако ей было уже гораздо лучше. Тут же были какие-то соседки и немолодой врач; все они с любопытством посмотрели на Дженни, которая упала на колени у изголовья постели и стала что-то говорить девочке. И вот Дженни приняла окончательное решение. Она виновата перед своей дочкой, тяжело виновата, но теперь она постарается искупить свою вину. Лестер ей очень дорог, но она больше не станет его обманывать, и пусть даже он бросит ее (при этой мысли сердце Дженни больно сжалось), она все-таки поступит, как надо. Веста больше не должна быть отверженной. Ее место с матерью. Дом Дженни должен быть домом Весты. Сидя у постели девочки в скромном домике старой шведки, Дженни поняла, как бесплодна была ее ложь: сколько тревоги и мук было из-за этого в доме родителей, как она страдала и боялась все время, пока жила с Лестером, какую пытку перенесла сегодня вечером, а для чего? Все равно правда вышла наружу. Дженни сидела, погруженная в невеселые думы, гадая, что ее ждет, а тем временем Веста постепенно затихла и уснула крепким, здоровым сном.Когда Лестер немного опомнился после ошеломляющего открытия, ему пришли на ум вполне естественные вопросы; сколько лет девочке? Кто ее отец? Как ребенок оказался в Чикаго и кто о нем заботится? Лестер мог только задавать себе эти вопросы, но не находил ответа; ведь он ничего не знал. Странное дело, среди этих мыслей ему вдруг припомнилась первая встреча с Дженни в доме миссис Брейсбридж. Почему его тогда так потянуло к ней? Что так быстро, чуть ли не с первого взгляда подсказало ему, что он сумеет добиться своего? Что он почувствовал в ней — нравственную распущенность, неустойчивость, слабость? Во всей этой печальной истории не обошлось без хитрости, без искусного притворства, и ведь, обманывая его, который так ей доверял, Дженни не просто обманывала — она оказалась неблагодарной. Надо сказать, что Лестер презирал и ненавидел неблагодарность, считал ее самой гнусной и отвратительной чертой, присущей натурам низменным, и был неприятно поражен, открыв это качество в Дженни. Правда, прежде он никогда не замечал за ней этого, как раз наоборот, — однако теперь воочию убедился в ее неблагодарности и был глубоко возмущен. Как смела она так его оскорбить? Его, который, можно сказать, сделал ее человеком и возвысил до себя? Лестер поднялся, отодвинул кресло и медленно зашагал в тишине из угла в угол. То, что произошло, слишком серьезно, и теперь нужно принять верное и твердое решение. Дженни преступна, и он вправе ее осудить. Она виновата в том, что с самого начала скрыла от него правду и вдвойне виновата, что все время продолжала его обманывать. Наконец ему пришло в голову, что она делила свою любовь между ним и ребенком, — ни один мужчина в его положении не мог бы спокойно с этим примириться. Лестера передернуло от этой мысли, он засунул руки в карманы и продолжал шагать по комнате. Как мог человек с характером Лестера считать себя оскорбленным только потому, что Дженни скрыла существование ребенка, появившегося на свет в результате точно такого же проступка, какой она совершила позже уступив ему, Лестеру? Это пример тех необъяснимых заблуждений и ошибок, которых, как видно, не способен избежать человеческий ум — суровый страж и судья, когда дело идет о чести других людей. Забывая о своем собственном поведении (мужчины редко принимают его в расчет), Лестер верил, что женщина должна единственному любимому человеку раскрывать всю свою душу, и его очень огорчило, что Дженни поступила иначе. Однажды он пытался узнать подробности ее прошлого. Она тогда умоляла не расспрашивать. Вот когда ей следовало бы сказать о ребенке. А теперь… Лестер покачал головой. Первым его побуждением, когда он все обдумал, было уйти и больше не видеть Дженни. Однако хотелось узнать, чем кончилось дело. Все же он надел пальто и шляпу и вышел из дому; захотелось выпить, и он зашел в первый же приличный бар; потом поехал в клуб; там он бродил из комнаты в комнату, встретил кое-кого из знакомых, поболтал с ними. Беспокойство и досада не оставляли его; наконец, потратив три часа на размышления, он нанял извозчика и вернулся домой. В тоске и смятении Дженни долго сидела подле спящей девочки и наконец поняла, что опасность миновала. Сейчас она ничего не могла сделать для Весты, и понемногу к ней вернулись заботы о брошенном доме; она почувствовала, что должна исполнить обещание, данное Лестеру, и до последней минуты нести свои обязанности хозяйки. Возможно, Лестер ее ждет. Вероятно, он хочет услышать всю правду о ее прошлом, прежде чем навсегда с нею расстаться. С болью и страхом думая о том, что Лестер, конечно, порвет с нею, Дженни все же считала это только справедливым наказанием за все ее проступки: она этого вполне заслуживает! Дженни вернулась домой в двенадцатом часу, свет на лестнице уже горел. Она потянула ручку двери, потом открыла ее своим ключом. Помедлив и не услышав ни звука, она вошла, готовая к тому, что ее встретит разгневанный Лестер. Но его не было. Он просто забыл погасить в комнате свет. Дженни быстро осмотрелась, но комната была пуста. Дженни решила, что Лестер ушел навсегда, и застыла на месте, беспомощная и растерянная. «Ушел!» — подумала она. В эту минуту на лестнице послышались его шаги, Шляпа его была надвинута на самые брови, пальто наглухо застегнуто. Не взглянув в сторону Дженни, он снял пальто и повесил на вешалку. Потом не спеша снял и повесил шляпу. Только после этого он обернулся к Дженни, которая следила за ним широко раскрытыми глазами. — Я хочу узнать все, с начала до конца, — сказал он. — Чей это ребенок? Дженни поколебалась мгновение, словно готовясь к отчаянному прыжку в темную пропасть, потом выговорила пересохшими губами: — Сенатора Брэндера. — Сенатора Брэндера! — повторил пораженный Лестер; меньше всего он ожидал услышать такое громкое имя. — Как ты с ним познакомилась? — Мы с мамой на него стирали, — просто ответила Дженни. Лестер замолчал: прямота ее ответов отрезвила его, и гнев его утих. «Ребенок сенатора Брэндера!» — думалось ему. Стало быть, знаменитый поборник интересов простого народа соблазнил дочь прачки. Вот типичная трагедия из жизни бедняков. — Давно это случилось? — хмуро спросил Лестер, сдвинув брови. — Уже почти шесть лет прошло, — ответила Дженни. Лестер мысленно прикинул, сколько времени они знакомы, потом спросил: — Сколько лет ребенку? — Ей пошел шестой год. Лестер кивнул. Стараясь сосредоточиться, он говорил теперь более властным тоном, но без прежнего озлобления. — Где же она была все это время? — Жила дома, у наших, до прошлой весны, а когда ты ездил в Цинциннати, я привезла ее сюда. — И она жила с вами, когда я приезжал в Кливленд? — Да, — ответила Дженни, — только я следила, чтоб она не попадалась тебе на глаза. — Я думал, что ты сказала своим, что мы поженились! — воскликнул Лестер, не понимая, каким образом родные Дженни примирились с существованием этого ребенка. — Я им так и сказала, — ответила Дженни, — но я не хотела говорить тебе про дочку. А мои все время думали, что я вот-вот расскажу тебе. — Почему же ты не рассказала? — Потому что я боялась. — Чего? — Я ведь не знала, что со мной будет, когда уехала с тобой, Лестер. Мне так хотелось уберечь мою девочку, ничем ей не повредить. Потом мне было стыдно; а когда ты сказал, что не любишь детей, я испугалась. — Испугалась, что я брошу тебя? — Да. Лестер помолчал; Дженни отвечала так прямо и просто, что его первоначальное подозрение, будто она сознательно лицемерила и обманывала его, отчасти рассеялось. В конце концов всему виной несчастное стечение обстоятельств, малодушие Дженни и нравы ее семьи. Ну и семейка, должно быть! Только нелепые и безнравственные люди могли терпеть такое положение вещей! — Разве ты не понимала, что в конце концов все должно выйти наружу? — спросил он наконец. — Не могла же ты думать, что вот так и вырастишь ее. Почему ты сразу не сказала мне правду? Тогда я отнесся бы к этому очень спокойно. — Знаю, — сказала Дженни. — Но я хотела сделать лучше для нее. — Где она теперь? Дженни объяснила. Вопросы Лестера так не вязались с его тоном и выражением лица, что Дженни совсем растерялась. Она еще раз попробовала все объяснить, однако Лестер уразумел только одно: Дженни сделала глупость, но она отнюдь не хитрила, — это было так явно, что, будь Лестер в другом положении, он от души пожалел бы ее. Но теперь мысль о Брэндере не выходила у него из головы, и он снова вернулся к этому. — Так ты говоришь, твоя мать стирала на него. Как же случилось, что ты с ним сошлась? Дженни до сих пор терпеливо переносила мучительный допрос, но тут она вздрогнула, как от удара. Лестер задел незажившее воспоминание о самой горькой и трудной поре ее жизни. Его последний вопрос, как видно, требовал полной откровенности. — Я ведь была еще девчонка, Лестер, — печально сказала она. — Мне было только восемнадцать лет. Я ничего не знала. Я ходила к нему в отель и брала у него белье в стирку, а потом относила. Она умолкла, но, видя, что он пододвинул стул и уселся с явным намерением выслушать длинный и подробный рассказ, она снова заговорила. — Мы так нуждались тогда. Он часто давал мне деньги для мамы. Я не знала… Она опять умолкла; Лестер, видя, что она не в силах связно обо всем рассказать, снова начал задавать ей вопросы, и постепенно невеселая история стала ему ясна. Брэндер собирался жениться на ней. Он писал ей, должен был вызвать ее к себе, но не успел: помешала внезапная смерть. Исповедь была окончена. Долгих пять минут прошло в молчании; Лестер, опершись на камин, смотрел в одну точку, а Дженни ждала, не зная, что будет дальше, и не пытаясь сказать хоть слово в свою защиту. Громко тикали часы. На застывшем лице Лестера нельзя было прочесть ни его чувств, ни мыслей. Теперь он был совершенно спокоен и невозмутим и обдумывал, как поступить дальше. Дженни стояла перед ним, точно преступница на суде, Он — воплощенная праведность, нравственность, чистота сердечная — занимал место судьи. Итак, надо вынести приговор, решить ее дальнейшую судьбу. Что и говорить, скверное дело — грязная история, в которой не годится быть замешанным человеку с положением и богатством Лестера. Этот ребенок делает его отношения с Дженни просто невозможными… И все же Лестер еще не мог ничего сказать. Часы на камине звонко пробили три; Лестер обернулся и вспомнил о Дженни, — бледная, растерянная, она все еще неподвижно стояла перед ним. — Иди ложись, — вымолвил он наконец и снова задумался над своей нелегкой задачей. Но Дженни не тронулась с места; она стояла и смотрела на него широко раскрытыми остановившимися глазами, готовая каждую минуту услышать приговор. Но она ждала напрасно. После долгих размышлений Лестер встал и пошел к вешалке. — Иди ложись, — повторил он холодно. — Я ухожу. Дженни невольно шагнула к нему, — даже в эту страшную минуту ей хотелось быть чем-нибудь ему полезной, — но Лестер не заметил ее движения. Он вышел, не удостоив ее больше ни словом. Она смотрела ему вслед и слушала его удаляющиеся шаги на лестнице с таким чувством, словно ей вынесен смертный приговор и уже раздается похоронный звон над могилой. Что же она наделала? И что сделает теперь Лестер? Глубокое отчаяние овладело ею, и, когда внизу хлопнула дверь, она в тоске и безнадежности заломила руки. «Ушел! — подумала она. — Ушел!» В окнах забрезжил поздний рассвет, а Дженни все сидела и предавалась горьким мыслям; ее положение было слишком серьезно, чтобы она могла дать волю слезам.
Глава 30
Угрюмый, всегда так логично рассуждавший Лестер на самом деле был далеко не уверен в том, что ему предпринять. Он сильно расстроился, однако не мог бы точно определить, что его возмущает. Разумеется, существование ребенка значительно осложняло дело. К чему это живое свидетельство былых прегрешений Дженни? Впрочем, Лестер тут же признал, что, если бы действительно захотел, давно мог бы выведать у Дженни все ее прошлое. Она, конечно, не стала бы лгать. Он мог спросить ее в самом начале. Он этого не сделал, а теперь слишком поздно. Ясно одно: о том, чтобы жениться на Дженни, нечего и думать. При его положении в обществе это исключено. Лучший выход — обеспечить Дженни материально и расстаться с ней. Когда он ехал к себе в отель, решение это было принято, хотя он и не собирался осуществлять его немедленно. В подобного рода случаях куда легче рассуждать, чем действовать. Время укрепляет наши привычки, желания и чувства, а Дженни была для Лестера не только привычкой. За четыре года непрерывного общения он так хорошо узнал ее и себя, что не видел возможности расстаться с ней легко и быстро. Это было бы слишком больно. Он мог допускать такую мысль днем, в сутолоке своей конторы, но не по вечерам, когда оставался один. Он открыл в себе способность тосковать, и это смущало его. Тревожили его в эти дни и рассуждения Дженни, будто совместная жизнь с ним и с матерью могла бы повредить Весте. Как она до этого додумалась? Ведь он занимает куда более завидное общественное положение, чем она. Но потом он отчасти понял ее точку зрения. Дженни в то время не знала, кто он и какую судьбу он ей готовит. Он мог очень скоро бросить ее. В предвидении этого она хотела оградить своего ребенка от опасности. Это не так уж плохо. И еще ему хотелось узнать, как выглядит эта девочка. Дочь сенатора Брэндера — это могло быть интересно. Он был блестящим человеком, а Дженни — прелестная женщина. Эта мысль вызвала в Лестере и раздражение и любопытство. То ему казалось, что нужно вернуться к Дженни и увидеть девочку — это в конце концов его право! — то он колебался, вспоминая, как принял известие о ее существовании. Он снова уверял себя, что нужно поставить точку, и этот внутренний спор длился до бесконечности. На самом деле он был не в силах расстаться с Дженни. За эти годы она стала ему необходима. Был ли у него когда-нибудь такой близкий человек? Мать любит его, но в этой любви преобладает честолюбие. Отец — что ж, отец мужчина, как и он сам. Сестрам не до него, у каждой своя жизнь; Роберт всегда был ему чужим. С Дженни он впервые узнал, что такое настоящее счастье, настоящая близость. Она нужна ему — с каждым часом, проведенным вдали от нее, он все сильнее ощущал это. Наконец он решил поговорить с нею начистоту и найти какой-нибудь выход. Пусть возьмет дочку к себе и заботится о ней. Дженни должна понять, что рано или поздно он уйдет от нее. Нужно внушить ей, что сейчас многое в их отношениях изменилось, хотя это и не означает немедленного разрыва. В тот же вечер он поехал к себе на квартиру. Дженни услышала, как он отворил дверь, и сердце у нее тревожно забилось. Взяв себя в руки, она вышла из своей комнаты встретить его. — Насколько я понимаю, нужно поступить так, — начал Лестер со свойственной ему прямотой. — Привези свою дочь сюда и пусть живет с тобой. Нет смысла оставлять ее у чужих людей. — Хорошо, Лестер, — покорно ответила Дженни. — Мне всегда этого хотелось. — А раз так, нечего и откладывать. — Он достал из кармана вечернюю газету и прошел к окну. Потом обернулся. — Нам нужно договориться, Дженни. Я понимаю, как это произошло. Я допустил большую оплошность, что не расспросил тебя вовремя, не заставил все рассказать. А ты напрасно молчала, даже если и не хотела, чтобы я вошел в жизнь твоего ребенка. Тебе следовало понять, что такую вещь все равно не скроешь. Впрочем, теперь это не важно. Я хочу сказать другое: при таких отношениях, как у нас, нельзя иметь друг от друга тайн. Я думал, что мы во всем доверяем друг другу. А теперь я не знаю, смогу ли когда-нибудь упрочить наши отношения. Очень уж все запуталось. Очень уж много оснований для пересудов и сплетен. — Я знаю, — сказала Дженни. — Пойми, я не намерен торопиться. По мне, все может остаться более или менее как было — на ближайшее время, — но я хочу, чтобы ты смотрела на вещи трезво. Дженни вздохнула. — Знаю, Лестер, знаю. Отойдя к окну, он смотрел во двор, на окутанные сумерками деревья. Мысль о будущем страшила его, — он любил домашний уют. Неужели проститься и уехать в клуб? — Давай-ка обедать, — холодно сказал он наконец, отворачиваясь от окна; но в глубине души он не сердился на Дженни. Просто позор — до чего скверно устроена жизнь. Он побрел в гостиную, а Дженни пошла хлопотать по хозяйству. Она думала о Весте, о своей неблагодарности по отношению к Лестеру, о его окончательном решении не жениться на ней. Своим неразумием она сама погубила заветную мечту. Она накрыла на стол, зажгла свечи в красивых серебряных подсвечниках, приготовила любимое печенье Лестера, поставила жарить баранину и вымыла салаг. (Последний год Дженни прилежно изучала поваренную книгу, а прежде она многому научилась от матери.) И все время она не переставала гадать о том, как-то теперь обернется ее жизнь. Рано или поздно Лестер ее бросит — это ясно. Он уйдет от нее и женится на другой. «Что ж, — подумала она наконец, — пока он меня не бросает — и то хорошо. И Веста будет со мной». Она вздохнула и понесла обед в столовую. Вот если бы сохранить Лестера и Весту… но с этой надеждой покончено навсегда.Глава 31
После этой грозы в доме на время воцарились мир и тишина. Дженни на следующий же день привезла к себе Весту. Радость соединения с дочерью заслонила все ее заботы и печали. «Теперь я смогу быть ей настоящей матерью», — думала она и несколько раз в течение дня ловила себя на том, что напевает веселую песенку. Лестер сперва заходил к ней только изредка. Он пытался уверить себя, что должен постепенно подготовить задуманную им перемену в своей жизни — уход от Дженни. Ему неприятно было присутствие в доме ребенка, а тем более именно этого ребенка. Некоторое время он упорно заставлял себя не бывать на Северной стороне, но потом стал появляться там чаще. Несмотря ни на что, здесь было тихо, спокойно, только здесь он чувствовал себя хорошо. Поначалу Дженни было нелегко добиться, чтобы нервная, подвижная, шаловливая девочка не мешала уравновешенному, спокойному, занятому своими делами Лестеру. Когда он в первый раз предупредил по телефону о своем приходе, Дженни строго поговорила с дочкой, сказала ей, что придет очень сердитый дядя, он не любит детей и к нему нельзя приставать. — Будь умницей, — наказывала она. — Не болтай и ничего не проси. Мама сама даст тебе все, что нужно. А главное — не тянись через стол. Веста торжественно пообещала слушаться, но едва ли осознала своим детским умом всю важность сделанного ей внушения. Лестер приехал в семь часов. Дженни, постаравшись как можно красивее нарядить Весту, только что прошла к себе в спальню, чтобы переодеться к вечеру. Весте полагалось быть в кухне. Но она тихонько проскользнула вслед за матерью и остановилась в дверях гостиной, где ее и увидел Лестер, когда, повесив в передней пальто и шляпу, направился в комнаты. Девочка была очаровательная, это Лестер признал с первого взгляда. На ней было голубое в белый горошек фланелевое платьице с отложным воротником и манжетками, белые чулки и башмачки. Задорные светлые кудряшки обрамляли лицо — голубые глаза, алые губки, румяные щечки. Пораженный Лестер хотел что-то сказать, но сдержался. Веста робко удалилась. — Девочка очень мила, — сказал Лестер, когда Дженни прошла в столовую к нему. — Трудно тебе с ней справляться? — Не очень, — ответила Дженни. Она прошла в столовую, и Лестер услышал такой разговор: — Это кто? — спросила Веста. — Шш! Это твой дядя Лестер! Я же тебе говорила, что нельзя болтать! — Он и твой дядя тоже? — Нет, маленькая. Не болтай. Беги в кухню. — Он только мой дядя? — Да. Ну, беги. — Хорошо. Лестер невольно улыбнулся. Трудно сказать, как повернулось бы дело, если бы Веста была уродлива, плаксива, скучна или если бы Дженни не проявила столько такта. Но привлекательность девочки в сочетании с усилиями матери мягко отодвигать ее на задний план создавали впечатление чистоты и юности, которые всегда действуют отрадно. Лестер часто задумывался о том, что все эти годы Дженни была матерью; она месяцами не видела своего ребенка; ни словом не обмолвилась о его существовании; а между тем любовь ее к Весте не вызывала сомнений. «Удивительно, — говорил себе Лестер. — Она необыкновенная женщина». Однажды утром, когда Лестер читал в гостиной газету, послышался какой-то шорох. Обернувшись, он с удивлением увидел голубой глаз, пристально глядевший на него в щелку приотворенной двери. Казалось бы, глаз, застигнутый на месте преступления, должен немедленно скрыться; но нет, он храбро остался, где был. Лестер перевернул страницу и опять оглянулся. Глаз все смотрел на него. Он повторил свой маневр. Глаз не сдавался. Он переменил позу, закинув ногу за ногу. Когда он опять поднял голову, то увидел, что глаз исчез. При всей незначительности этого эпизода в нем было что-то комическое, а это всегда находило отклик в душе Лестера. И теперь, когда он вовсе не был склонен спускаться со своих неприступных высот, он почувствовал, что таинственный глаз развеселил его; губы его дрогнули и чуть было не раздвинулись в улыбке. Он не поддался новому настроению и не перестал читать газету, но отчетливо запомнил этот пустячный случай. В первый раз маленькая плутовка действительно обратила на себя его внимание. Вскоре после этого, когда Лестер сидел однажды за утренним завтраком, неторопливо уничтожая отбивную котлету и просматривая газетные заголовки, спокойствие его снова было нарушено. Дженни уже накормила Весту и, оставив ее до ухода Лестера одну с игрушками, разливала кофе; неожиданно отворилась дверь, и Веста деловито проследовала через столовую. Лестер поднял голову, Дженни покраснела и встала. — Что тебе здесь нужно, Веста? — спросила она. Веста тем временем вошла в кухню, взяла там маленькую метелку и пустилась в обратный путь, всем своим видом выражая забавную решимость. — Мне нужно мою метелку, — звонко ответила она и невозмутимо зашагала к себе, а Лестер почувствовал как что-то в нем откликнулось на такую храбрость, и на этот раз не удержался от легкой улыбки. Так постепенно таяло неприязненное чувство Лестера к девочке, уступая место снисходительности и признанию за ней всех прав человеческого существа. В ближайшие полгода недовольство Лестера почти совсем улеглось. Не то чтобы он примирился с несколько ненормальной атмосферой, в которой жил, но дома было так уютно и удобно, что он не мог заставить себя уйти. Очень уж сладко ему жилось. Очень уж боготворила его Дженни. Очень уж по нраву была полнейшая свобода, возможность беспрепятственно общаться со старыми знакомыми, в сочетании с тихим уютом и привязанностью, которые ждали дома. И он все медлил и уже начинал подумывать, что, может быть, и не нужно ничего менять. За это время незаметно укрепилась его дружба с маленькой Вестой. Он обнаружил в ее повадках неподдельный юмор и с любопытством ждал новых его проявлений. Она всегда была занята чем-нибудь интересным, и, хотя Дженни следила за ней с неослабной строгостью, которая уже сама по себе явилась для Лестера откровением, неугомонная Веста вечно ухитрялась ввернуть какое-нибудь забавное словечко. Так однажды Лестер, заметив, как девочка усердно пилит большим ножом кусочек мяса, сказал Дженни, что надо бы купить ей детский прибор. — Ей трудно справляться с такими ножами. — Да, — мгновенно отозвалась Веста. — Мне нужно маленький ножичек. У меня ручка вот какая маленькая. И она растопырила пальчики. Дженни, боясь как бы она еще чего-нибудь не выкинула, поспешила пригнуть ее ручку к столу, а Лестер с трудом удержался от смеха. В другой раз, увидев, как Дженни кладет в чашку Лестера сахар, Веста потребовала: — Мне тоже два кусочка, мама. — Нет, милая, — ответила Дженни, — тебе сахара не нужно. Ты пьешь молоко. — А дяде Лестеру ты положила два кусочка. — Да, да, — сказала Дженни, — но ты еще маленькая. И, пожалуйста, не болтай за столом. Это неприлично. — Дядя Лестер ест слишком много сахара, — последовал немедленный ответ, и Лестер, любивший сладкое, широко улыбнулся. — Ну, не знаю, — сказал он, впервые снисходя до разговора с девочкой. — Может, ты похожа на ту лисицу, которая говорила, что виноград зелен? Веста улыбнулась ему в ответ и теперь, когда лед был сломан, не стесняясь, стала с ним разговаривать. Так оно и пошло, и, наконец, Лестер начал относиться к девочке, как к родной; он даже готов был дать ей все, к чему открывало дорогу его богатство, при том, конечно, условии, что он по-прежнему будет с Дженни и что они придумают, как ему все же сохранить связь со своим миром, о котором он не должен был забывать ни на минуту.Глава 32
Веской постройка выставочных залов и складов была закончена, и Лестер перевел свою контору в новое здание. До сих пор его деловая жизнь протекала в отеле «Грэнд-Пасифик» и в клубе. Теперь он чувствовал, что прочно обосновался в Чикаго, что отныне ему предстоит жить здесь постоянно. На него ложились серьезные обязанности — руководство многочисленным штатом конторы и заключение крупных сделок. Зато он был освобожден от разъездов — их поручили мужу Эми, который действовал по указаниям Роберта. А Роберт всеми силами пробивался вперед, он пытался перетянуть на свою сторону сестер и уже предпринял реорганизацию фабрики. Нескольким служащим, которые пользовались личным расположением Лестера, грозило увольнение. Но Лестер об этом не знал, а старик Кейн был склонен предоставлять Роберту полную свободу действий, Годы брали свое. Он был доволен, что дело его останется в крепких, надежных руках. Лестер как будто не выражал недовольства. Видимо, их отношения с Робертом изменились к лучшему. Возможно, что все шло бы гладко и дальше, но, к сожалению, личная жизнь Лестера не могла навсегда остаться тайной. Бывало, что, проезжая с Дженни по улицам в открытой коляске, он попадался на глаза светским или деловым знакомым. Это не смущало его, ведь он холостяк, а значит, волен проводить время с кем ему угодно. Почему не предположить, что Дженни — молодая женщина из почтенного семейства, за которой он ухаживает? Он ни с кем не собирался ее знакомить и раз навсегда велел кучеру ездить как можно быстрее, чтобы никто не пытался его окликнуть и заговорить с ним. А для тех, с кем он встречался в театре, Дженни, как уже упоминалось, была просто «мисс Герхардт». На беду многие из знакомых Лестера отличались наблюдательностью. Они и не думали осуждать его поведение. Просто им помнилось, что в прежние годы в других городах они встречали его с этой же самой женщиной. Видимо, он поддерживает с ней незаконную связь. Ну и что же из этого? Богатство и молодость на многое дают право. Кое-какие слухи дошли до Роберта, но он не счел нужным делиться с кем-либо своими соображениями. Однако рано или поздно все должно было открыться. Это случилось года через полтора после того, как Лестер и Дженни поселились на Северной стороне. Осенью, в гнилую погоду, Лестер заболел гриппом. Почувствовав первые признаки недомогания, он решил, что это пустяк и что горячая ванна и хорошая доза хинина сразу поставят его на ноги. Но болезнь оказалась серьезной: наутро он не мог встать с постели, у него был сильный жар и невыносимо болела голова. За последнее время, постоянно живя с Дженни, он стал неосторожен. Ему следовало бы уехать к себе в гостиницу и болеть в одиночестве. Но ему гораздо больше улыбалось побыть дома, с Дженни. Он позвонил в контору и дал знать, что нездоров и несколько дней не появится; а потом блаженно отдался заботам своей терпеливой сиделки. Дженни, разумеется, была только рада, что Лестер с ней, больной или здоровый. Она уговорила его вызвать врача и принимать лекарства. Она поила его горячим чаем с лимоном, без устали освежала холодной водой его лицо и руки. А когда он стал поправляться, варила ему вкусный бульон и кашу. Во время этой болезни ипроизошла первая серьезная неприятность. Сестра Лестера, Луиза, гостившая у знакомых в Сент-Поле и предупредившая брата, что думает повидаться с ним на обратном пути, решила вернуться домой раньше, чем предполагала. Она оказалась в Чикаго в самый разгар болезни Лестера и, узнав по телефону в конторе, что его не будет еще несколько дней, осведомилась, как ей связаться с ним. — Кажется, он живет в «Грэнд-Пасифик», — проговорилась неосторожная секретарша. — Он нездоров. Луиза встревожилась и позвонила в «Грэнд-Пасифик», где узнала, что мистера Кейна не видели уже несколько дней и вообще он бывает у себя в номере не чаще одного-двух раз в неделю. Тогда, заинтригованная этим, она позвонила в его клуб. К телефону, как нарочно, подошел мальчик-посыльный, который по поручению самого Лестера не раз бывал у него на квартире. Мальчик не знал, что адрес Лестера надлежит держать в тайне — до сих пор им никто не интересовался. Когда Луиза сказала, что она сестра Лестера и ей очень нужно его повидать, мальчик ответил: — А он живет на площади Шиллера, дом девятнадцать. — Чей это ты адрес даешь? — спросил оказавшийся около телефона портье. — Мистера Кейна. — Никаких адресов давать нельзя. Ты что, не знаешь разве? Мальчик смутился и попросил прощения, но Луиза уже повесила трубку. Через час Луиза, с изумлением обнаружившая, что у ее брата имеется еще и третий адрес, была на площади Шиллера. Остановившись перед двухквартирным домом, она прочла фамилию Кейн на дощечке у двери, ведущей во второй этаж, поднялась и позвонила. Дженни вышла на звонок и очень удивилась, увидев перед собой нарядную даму. — Здесь живет мистер Кейн? — надменно спросила Луиза, заглядывая в прихожую через открытую дверь. Присутствие женщины немного удивило ее, но подозрения были еще смутны. — Да, — ответила Дженни. — Он, кажется, болен? Я его сестра. Можно войти? Будь у Дженни время собраться с мыслями, она придумала бы какую-нибудь отговорку, но она и слова не успела сказать, как Луиза, избалованная своим положением и привыкшая поступать по-своему, уже проплыла мимо нее в комнаты. В гостиной, примыкавшей к спальне, где лежал Лестер, она огляделась. Веста, игравшая в углу, поднялась и с любопытством уставилась на гостью. Через отворенную дверь спальни Луиза увидела Лестера; он лежал в постели, закрыв глаза, освещенный слева лучом солнца, падавшим из окна. — Так вот ты где! — воскликнула Луиза, быстро входя в спальню. — Что это с тобой? При звуке ее голоса Лестер открыл глаза и мгновенно все понял. Он приподнялся на локте, но не мог произнести ни слова. Наконец он с трудом выдавил из себя: — Здравствуй, Луиза. Откуда ты? — Из Сент-Поля. Я уехала раньше, чем собиралась, — заговорила она быстро и с раздражением, почуяв неладное. — А я тебя еле разыскала. Что это у тебя за… — она хотела сказать «хорошенькая экономка», но, оглянувшись, увидела Дженни, которая с печальным, расстроенным лицом прибирала что-то в гостиной. Лестер вместо ответа закашлялся. Луиза внимательно оглядела комнату. От нее не ускользнула атмосфера семейного уюта, приятная, но наводящая на опасные мысли. На стуле лежало платье Дженни, при виде которого мисс Кейн брезгливо подобрала юбку. Она взглянула на брата и прочла в его глазах странное выражение, словно он был немного озадачен, но в то же время спокоен и готов к бою. — Зря ты сюда пришла, — сказал Лестер, не дав Луизе времени задать вопрос, который так и вертелся у нее на языке. — Почему же зря? — воскликнула она, возмущенная его дерзкой откровенностью. — Брат ты мне или нет? А если брат, я могу прийти к тебе куда угодно. Как вам это нравится? И ты говоришь мне такие вещи? — Послушай, Луиза, — продолжал Лестер, выше приподнимаясь на локте. — Мы ведь не дети. Ссориться нам нет смысла. Я не знал, что ты приедешь, а то принял бы известные меры. — Известные меры! — передразнила она злобно. — Ну, еще бы! Как же иначе! Она чувствовала, что попала в ловушку, и негодовала за это на Лестера. А Лестер даже покраснел от гнева. — Напрасно ты задираешь нос, — заявил он решительно. — Я ни в чем не оправдываюсь перед тобой. Я говорю, что принял бы известные меры, но это вовсе не значит, что я прошу извинения. Если ты не желаешь разговаривать вежливо, воля твоя. — Ну знаешь, Лестер! — вспыхнула она. — Этого я от тебя не ожидала. Я думала, ты постыдишься открыто жить с… — она замялась, не решаясь произнести страшное слово, — когда у нас в Чикаго полно знакомых. Это ужасно! Я думала, у тебя все же есть чувство приличия и уважения к мнению… — К черту приличия! — возразил Лестер. — Пойми ты наконец, что я не прошу у тебя прощения. Если тебе здесь не нравится, ты отлично знаешь, что тебе делать. — О боже! — воскликнула она. — И это говорит мой брат! И все из-за этой твари! Чей это ребенок? — спросила она вдруг с яростью, но и с любопытством. — Можешь успокоиться, не мой. Впрочем, хоть бы и мой, тебе-то что? Прошу не вмешиваться в мою жизнь. Дженни слышала все, включая оскорбительные замечания по своему адресу, и сердце ее сжалось от боли. — Успокойся, больше я не буду вмешиваться в твою жизнь, — бушевала Луиза. — Скажу только, что от кого другого, а от тебя я этого не ожидала. Да еще с женщиной, которая настолько ниже тебя! Я сначала подумала, что она… — Луиза опять хотела сказать «твоя экономка», но Лестер, не помня себя от бешенства, грубо перебил ее: — Мне все равно, что ты о ней подумала. Она лучше многих, кто воображает себя высшими существами. Знаю я, что ты думаешь. Это все ерунда. Я поступаю, как хочу, и твое мнение меня не интересует. Я сам за себя отвечаю и прошу обо мне не заботиться. — И не буду, можешь быть уверен, — отпарировала Луиза. — Что семья для тебя ничего не значит, это мне теперь совершенно ясно. Но будь у тебя хоть капля совести, ты никогда бы не допустил, чтобы твоя сестра очутилась в таком месте. Мне просто противно, и другие, когда узнают, скажут то же самое, вот и все. Она круто повернулась и вышла вон, по дороге бросив уничтожающий взгляд на Дженни, которая на беду оказалась в дверях гостиной. Весты в комнате не было. Дженни немного погодя вошла к Лестеру и закрыла за собой дверь. Сказать ей было нечего. Лестер, откинув густые волосы с высокого лба, лежал на подушке, усталый и хмурый. «Какая злая ирония судьбы! — думал он. — Теперь она приедет домой и всем все расскажет. Отец узнает, и мать, Роберт, Имоджин, Эми — все узнают. И отрицать невозможно: Луиза видела достаточно». Лестер в задумчивости устремил взгляд на стену. Тем временем Дженни, занимаясь своими домашними делами, тоже предавалась размышлениям. Так вот какого мнения о ней другая женщине! Теперь понятно, что думает свет. До семьи Лестера ей так же далеко, как до другой планеты. Для его родителей, братьев и сестер она дурная женщина, неизмеримо ниже его по своему положению в обществе, неизмеримо ниже его морально и умственно, она уличная девка, тварь. А она-то надеялась со временем восстановить свою репутацию. Эта мысль была ей всего больнее, ранила как ножом. Да, она действительно дурная и низкая в глазах Луизы, в глазах света, а главное, в глазах Лестера. Может ли быть иначе? Она молчала и не жаловалась, но боль унижения и стыда не отпускала ее. Ах, если бы как-нибудь оправдаться во мнении всех этих людей; жить честно, стать порядочной женщиной! Как это сделать? Добиться этого необходимо, но как?Глава 33
Луиза, глубоко уязвленная в своей семейной гордости, тут же возвратилась в Цинциннати, где и рассказала про свое открытие, не скупясь на подробности. По ее словам, ей отворила дверь «совсем простая, глупая на вид женщина», которая, услышав, кто она, даже не пригласила ее войти, а застыла на месте «с самым, что ни на есть виноватым выражением лица». Лестер — тот вел себя бессовестно, так и выложил ей всю правду. Когда она спросила, чей это ребенок живет с ними, он отказался ответить. «Не мой», — вот и все, что он ей сказал. — Ах, боже мой, боже мой! — вздыхала миссис Кейн, первой узнавшая новость. — Мой сын, мой Лестер! Как он мог? — И такая низкая тварь! — не уставала восклицать Луиза, словно желая бесконечным повторением придать больше убедительности своим словам. — Я пошла туда просто потому, что хотела ему помочь, — продолжала она. — Мне сказали, что он нездоров, я думала, может быть, он серьезно заболел. Разве могла я предположить?.. — Бедный Лестер! — воскликнула мать. — Подумать только, что он мог до этого дойти! Миссис Кейн попыталась разобраться в трудной задаче, но, не зная, с какой меркой к ней подойти, вызвала по телефону мужа, который пришел с фабрики и выслушал рассказ молча, с застывшим лицом. Так, значит, Лестер открыто живет с женщиной, о которой они до сих пор даже не слышали. Что же им предпринять? Родительский авторитет не поможет. Лестер сам себе авторитет, это сильная натура, и на упреки он ответит равнодушием, а может быть, и даст отпор. Если попытаться на него воздействовать, нужно пустить в ход дипломатию. Арчибалд Кейн возвратился на фабрику огорченный и негодующий, с твердым решением что-то предпринять. Вечером у него состоялась беседа с Робертом, который сознался, что до него уже доходили тревожные слухи, но он предпочитал молчать. Миссис Кейн подала мысль — не съездить ли Роберту в Чикаго поговорить с Лестером. — Он обязан понять, что своим поведением наносит себе непоправимый вред, — сказал старик Кейн. — Такие вещи никому не сходят безнаказанно. Он должен либо жениться на этой женщине, либо порвать с нею. Так и передай ему от меня. — Все это очень хорошо, — сказал Роберт, — но кто будет его убеждать? У меня, по правде сказать, нет желания этим заниматься. — Я не теряю надежды, — сказал старик. — Ты поезжай, попробуй. Вреда от этого не будет. А может, он и одумается. — Едва ли, — возразил Роберт — Он большой упрямец. Особой пользы я в таких разговорах не вижу Но раз ты просишь, я, конечно, съезжу. И маме этого хочется. — Да, да, — сказал вконец расстроенный старик, — ты все-таки съезди. И Роберт отправился в Чикаго. Не теша себя надеждой на успех своего предприятия, он, однако, находил удовлетворение в том, что нравственность и справедливость всецело на его стороне. Прибыв в Чикаго на третье утро после посещения Луизы, Роберт позвонил на склад, но Лестера там не оказалось. Тогда он позвонил ему домой и деликатно предложил где-нибудь встретиться. Лестер еще не совсем поправился, но предпочел приехать в контору. Он приветствовал Роберта по обыкновению бодро, и некоторое время они говорили о делах. Затем наступило настороженное молчание. Роберт начал издалека: — Ты, вероятно, знаешь, зачем я сюда приехал? — Догадываюсь, — отвечал Лестер. — Дома все очень встревожились, узнав о твоей болезни, особенно мама. Ты совсем поправился? — Кажется, да. — Луиза рассказала, что застала тебя в несколько своеобразной домашней обстановке. Ты, конечно, не женат. — Нет. — Та женщина, которую видела Луиза, — это просто… — Роберт выразительно повел рукой по воздуху. Лестер кивнул. — Я не хочу допрашивать тебя, Лестер. Я не за тем приехал. Просто наши просили меня с тобой повидаться. Мама была в таком отчаянии, что я обязан был это сделать, хотя бы ради нее… Он умолк, и Лестер, тронутый таким почтительным и справедливым замечанием, почувствовал, что наотрез отказаться от объяснений было бы просто неучтиво. — Едва ли я могу сказать тебе что-нибудь утешительное, — начал он немедленно. — Мне, собственно, нечего сказать. Женщина эта существует, и я с ней живу, а нашим это не нравится. Хуже всего, пожалуй, то, что по несчастной случайности вы об этом узнали. Он замолчал, предоставляя Роберту обдумать его трезвые рассуждения. Лестер, видимо, относился к своему положению спокойно. И слова его звучали, как всегда, здраво и убедительно. — Ты не собираешься на ней жениться? — нерешительно спросил Роберт. — Пока нет, — хладнокровно ответил Лестер. Минуту они молча смотрели друг на друга, потом Роберт обратил взгляд на лежавший за окном город. — Вероятно, нет смысла спрашивать тебя, любишь ли ты ее, — отважился он сказать. — Право, не знаю, как я стал бы обсуждать с тобой это неземное чувство, — мрачно съязвил Лестер. — Мне не довелось его испытать. Я знаю только, что эта женщина вполне меня устраивает. Роберт опять помолчал. — Что ж, — сказал он наконец, — речь идет о твоем благополучии и о спокойствии семьи. Будем считать, что нравственность здесь ни при чем, во всяком случае, не нам с тобой обсуждать эту сторону дела. Твои чувства касаются одного тебя. Но вопрос о твоем будущем, как мне кажется, достаточно серьезен, чтобы о нем поговорить. О сохранении доброго имени и достоинства семьи тоже стоит подумать. Отец дорожит семейной честью больше, чем многие другие. Тебе это, разумеется, известно так же хорошо, как и мне. — Я знаю, как смотрит на это отец, — отвечал Лестер. — Все мне так же ясно, как любому из вас, но сейчас я просто не мору ничего предложить. Такие отношения складываются не в один день, и покончить с ними сразу невозможно. Женщина эта существует. Отчасти я сам тут виной. В подробности вдаваться я не намерен, в таких делах многое всегда скрыто от постороннего наблюдателя. — Я, конечно, понятия не имею о ваших отношениях, — сказал Роберт, — и не собираюсь тебя расспрашивать, но не кажется ли тебе, что ты поступаешь не вполне честно… если только ты не думаешь жениться на ней? — добавил он, чтобы прощупать почву. Ответ брата озадачил его. — Возможно, я пошел бы и на это, — сказал Лестер, — если бы видел в том какую-нибудь пользу. Самое главное, что женщина эта существует и всей семье это известно. Если тут и следует что-нибудь предпринять, то только мне. Действовать за меня никто не может. Лестер умолк, а Роберт встал и зашагал взад и вперед по комнате. Потом он опять подошел к брату и сказал: — Ты говоришь, что не собираешься на ней жениться или, вернее, что до этого еще не дошло. Не советую, Лестер. Мне кажется, это было бы роковой ошибкой. Я не хочу поучать тебя, но подумай сам, чем это грозит человеку в твоем положении; ты не вправе так рисковать. Не говоря уже о семье, ты слишком многое ставишь на карту. Ты просто губишь свою жизнь. Он умолк, вытянув вперед правую руку — его обычный жест, когда он принимал что-нибудь особенно близко к сердцу, — и Лестер почувствовал простую искренность его слов. Роберт уже не выступал в роли судьи. Он взывал к его разуму, а это серьезно меняло дело. Однако Лестер не откликнулся на этот призыв, и Роберт попробовал сыграть на другой струне. Он напомнил Лестеру, как его любит отец, как он надеялся, что Лестер женится в Цинциннати на богатой девушке, пусть даже не католичке, если ему захочется, но во всяком случае на девушке своего круга. И миссис Кейн всегда лелеяла эту надежду, да что говорить, Лестер и сам все знает. — Да, я знаю, как они на это смотрят, — перебил его Лестер, — но, право, не вижу, что можно сейчас изменить. — Ты хочешь сказать, что пока не считаешь целесообразным расставаться с нею? — Я хочу сказать, что встретил с ее стороны исключительное отношение и как порядочный человек обязан сделать для нее все возможное. Что именно, я еще не знаю. — Ты считаешь, что обязан жить с ней? — спросил Роберт холодно. — Во всяком случае, не выбрасывать ее на улицу, когда она привыкла жить со мной, — ответил Лестер. Роберт снова опустился в кресло, словно смирившись с тем, что его призыв остался без отклика. — Разве осложнения в семье — недостаточная причина для того, чтобы договориться с нею по-хорошему и отпустить ее? — Не раньше чем я до конца обдумаю этот вопрос. — И ты даже не обещаешь мне покончить с этим в ближайшее время, чтобы я по приезде мог хоть немного успокоить родителей? — Я бы с радостью облегчил их горе, но правда остается правдой, и в разговоре с тобой я не считаю нужным идти на уловки. Как я уже сказал, такие вещи нельзя обсуждать, — это просто недопустимо и по отношению ко мне и по отношению к этой женщине, Здесь и сами заинтересованные стороны иногда не знают, как поступить, не говоря уже о посторонних. Я был бы просто подлецом, если бы дал тебе сейчас слово предпринять что-то определенное. Роберт опять походил по комнате. — Так ты считаешь, что сейчас ничего нельзя сделать? — Пока ничего. — Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Больше нам как будто говорить не о чем. — Может быть, ты позавтракаешь со мной? Я сейчас свободен, проехали бы ко мне в гостиницу. — Нет, благодарю, — сказал Роберт. — Я, кажется, поспею к часовому поезду на Цинциннати. Во всяком случае, попытаюсь. Они стояли друг против друга, Лестер — бледный и немного обрюзгший, Роберт — смуглый, прямой, подтянутый, себе на уме, и было видно, как годы изменили и того и другого. Роберт всю жизнь действовал просто и решительно, Лестера вечно одолевали сомнения. В Роберте воплотились энергия и хватка дельца, в Лестере — самонадеянность удачливого богача с несколько скептическими взглядами на жизнь. Вместе они являли замечательную картину, независимо от того, какие мысли мелькали сейчас в их сознании. — Что ж, — сказал старший брат после паузы, — добавить мне нечего. Я надеялся, что сумею внушить тебе нашу точку зрения, но ты, конечно, стоить на своем. Раз ты сам не понимаешь, что делаешь, мне тебя не вразумить. Одно скажу: по-моему, ты поступаешь неумно. Лестер слушал молча, и лицо его выражало упрямую решимость. Роберт взял шляпу, и они вместе направились к дверям. — Я постараюсь представить им дело в самом лучшем свете, — сказал Роберт и вышел.Глава 34
В окружающем нас мире жизнь всех представителей животного царства протекает в определенной сфере или среде, словно вне ее они не могли бы существовать на планете, которая в силу непреложного закона вращается вокруг Солнца. Так, рыба гибнет, покидая водную стихию, а птица платит дорогой ценой за попытку вторгнуться в царство рыб. Все живые существа — от тли, паразитирующей на цветке, до чудищ тропических лесов и морских глубин — свидетельствуют о том, что природа ограничила их деятельность определенной средой; и нам остается только отмечать, к каким нелепым и роковым последствиям приводят всякие их попытки вырваться из нее. Однако в отношении человека эта теория ограниченной сферы не подтверждается столь же наглядно. Законы, управляющие общественной жизнью, еще не поняты до конца и не дают нам основания для обобщений. И все же мнения, требования и суждения общества тоже служат своего рода границами, вполне реальными, хоть и неосязаемыми. Когда мужчина или женщина согрешат — иными словами, преступят черту положенного круга, — уготованное им возмездие не похоже на то, что настигает птицу, вознамерившуюся жить под водой, или дикого зверя, который забрел в места, где обитает человек. Их не ждет немедленная гибель. Люди всего лишь удивленно поднимают брови, или усмехнутся язвительно, или возмущенно всплеснут руками. И все же сфера общественной жизни очерчена для каждого так четко, что всякий, покидающий ее, обречен. Человек, рожденный и воспитанный в той или иной среде, непригоден для существования вне ее. Он словно птица, привыкшая к определенной плотности воздуха и неспособная наслаждаться жизнью ни в более плотной, ни в более разреженной атмосфере. Проводив брата, Лестер сел в кресло у окна и загляделся на панораму молодого, быстрорастущего города. За окном текла жизнь с ее кипучей деятельностью, надеждами, богатством и наслаждениями, а он, словно отброшенный внезапным порывом жесткого ветра, остался на время в стороне, и все его планы и замыслы как-то спутались. Может ли он по-прежнему беззаботно идти привычным путем? Не отразится ли противодействие семьи на его отношениях с Дженни? Неужели безвозвратно отошел в прошлое родительский дом, где раньше он чувствовал себя так легко и свободно? Да, прежних отношений с домашними, простых и дружеских, ему уже не вернуть. И прочтет ли он, как бывало, во взгляде отца одобрение и гордость? Отношения с Робертом, с рабочими на отцовской фабрике — все, все, что составляло прежде его жизнь, пострадало от злосчастного вторжения Луизы. «Не повезло», — решил он мысленно и, оторвавшись от беспредметных размышлений, стал обдумывать, какие практические шаги он может предпринять. Вернувшись домой, он сказал Дженни. — Хочу завтра или послезавтра уехать ненадолго в Маунт-Клеменс. Я что-то чувствую себя неважно, там отдохну и поправлюсь. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. К назначенному часу Дженни собрала ему чемодан, и он уехал, сосредоточенный и угрюмый. За следующую неделю он не спеша все обдумал и пришел к заключению, что пока никаких решительных шагов предпринимать не нужно. Лишних два-три месяца не имеют значения. Маловероятно, чтобы Роберт или кто-нибудь из семьи захотел еще раз повидаться с ним. Деловые знакомства он будет поддерживать, как и раньше, поскольку они связаны с процветанием фирмы; принудительных мер никто по отношению к нему не примет. И все же сознание безнадежного разлада с семьей угнетало Лестера. «Плохо дело, — думал он, — плохо дело». Но жизни своей он не изменил. Такое неопределенное положение тянулось еще целый год. Полгода Лестер не появлялся в Цинциннати; потом съездил туда на важное деловое совещание, потребовавшее его присутствия, и держал себя так, словно ничего не случилось. Мать поцеловала его нежно, хоть и печально; отец как всегда, крепко пожал ему руку; Роберт, Луиза, Эми и Имоджин, будто сговорившись, ни словом не коснулись единственного предмета, который их интересовал. Но чувство отчуждения не прошло. После этого Лестер стал всячески избегать наездов в свой родной город.Глава 35
Тем временем Дженни переживала сложный душевный перелом. Впервые, если не считать разногласий с собственной семьей, чье отношение глубоко огорчало ее, она столкнулась с мнением света. Теперь ей было ясно: она дурная женщина. Два раза она уступила силе обстоятельств, когда могла бы бороться с ними. Если бы только у нее было больше мужества! Если бы ее не угнетал этот вечный страх! Если бы она могла решиться поступить, как подсказывает разум! Лестер никогда на ней не женится. Ему это не нужно. Она его любит, но она может уйти, так будет лучше для него. Если она вернется в Кливленд, отец, вероятно, согласится жить с ней. Этим правильным, хоть и запоздалым поступком она заслужит его уважение. И все же она содрогалась при одной мысли о том, чтобы покинуть Лестера, — он столько для нее сделал. А отец… отец, возможно, и не захочет ее принять. После злополучного визита Луизы Дженни стала подумывать о том, не отложить ли ей немного денег, собрав их по крохам из того, что давал Лестер. Он не скупился на расходы, и до сих пор Дженни каждую неделю посылала родным пятнадцать долларов, — на такие деньги они когда-то жили всей семьей, без посторонней помощи. Двадцать долларов она тратила на еду, — Лестер требовал, чтобы на столе у него все было самое лучшее — фрукты, сласти, мясо, виня. За квартиру они платили пятьдесят пять долларов в месяц, на одежду и всякие непредвиденные расходы определенной суммы установлено не было. Лестер давал ей пятьдесят долларов в неделю, и почему-то от них никогда ничего не оставалось. Однако Дженни вскоре отбросила мысль об экономии. Если уйти, то лучше уйти с пустыми руками. Иначе будет нехорошо. После появления Луизы она думала об этом неделю за неделей, стараясь собраться с духом, чтобы сказать или сделать что-то решительное. Лестер был с ней неизменно великодушен и ласков, но порой она чувствовала, словно он чего-то ждет от нее. Он бывал рассеян, задумчив. Ей казалось, что после разговора с Луизой он немного изменился. Как хорошо было бы сказать ему, что она недовольна своей жизнью, и потом уйти! Но ведь, когда обнаружилось существование Весты, он ясно дал ей понять, что ее мнение для него немного значит, раз он решил, что ребенок — непреодолимое препятствие для их брака. Она нужна ему, но не в качестве законной жены. А спорить с ним трудно, он такой властный. Наконец она решила, что лучше будет объяснить ему причину своего ухода в письме. Тогда он, возможно простит ее и забудет. Дела семейства Герхардт шли по-прежнему плохо. Марта вышла замуж. Проработав несколько лет школьной учительницей, она познакомилась с молодым архитектором, и вскоре они обручились. Марта всегда немного стыдилась своей семьи, а теперь в предвкушении новой жизни старалась как можно меньше общаться с родными. Она лишь мимоходом известила их о предстоящем замужестве, а Дженни вообще не написала и на свадьбу пригласила только Басса и Джорджа. Герхардт, Вероника и Уильям обиделись. Герхардт снес обиду молча, — слишком уж много била его жизнь. Зато Вероника не на шутку рассердилась и только ждала случая отплатить сестре, Уильям дулся недолго; он был увлечен своими планами, изучал электротехнику, про которую одна из учительниц в школе сказала ему, что это очень интересная и выгодная профессия. Дженни узнала о замужестве Марты много позже, из письма Вероники. Она порадовалась за Марту, но с грустью подумала, что братья и сестры все дальше отдаляются от нее. Через некоторое время Вероника и Уильям переселились к Джорджу. Произошло это по вине самого Герхардта. После смерти жены и ухода старших детей он впал в глубокое уныние, порою от него часами нельзя было услышать ни слова. Он чувствовал, что отжил свой век, хотя ему еще только шестьдесят пять лет. Мечты о мирском благополучии, которые он когда-то лелеял, рассеялись в прах. Себастьян, Марта и Джордж стали самостоятельными, он для них ничего не значил, и они ничего не приносили в дом; помогала одна Дженни, от которой он по-настоящему не должен был бы принять ни доллара. Вероника и Уильям бунтовали. Они отказывались бросить школу и идти работать, видимо, предпочитая жить на деньги, добытые, как уже давно решил Герхардт, нечестным путем. Он почти не сомневался в том, каковы истинные отношения Дженни и Лестера. Сначала он поверил, что они женаты, но, видя, как Лестер месяцами не вспоминает о Дженни, как покорно она бежит к нему по первому зову, как боится рассказать ему про Весту, он постепенно убеждался в обратном. Он не был на свадьбе дочери, не видел ее брачного свидетельства. Она, конечно, могла выйти замуж после отъезда из Кливленда, но Герхардту в это не верилось. Он был теперь до крайности угрюм и сварлив, и детям становилось все труднее жить с ним. Вероника и Уильям капризничали и дулись. Им не нравилось, что, когда Марта вышла замуж и уехала, отец взял расходы по дому в свои руки. Он ворчал, что дети слишком много тратят на одежду и развлечения, упорно твердил, что необходимо перебраться в другой дом, поменьше, а из денег, которые присылала Дженни, всякий раз удерживал часть для каких-то непонятных им целей. Герхардт и в самом деле откладывал деньги: он задумал со временем выплатить Дженни все, что получил от нее. Он полагал, что жить на ее деньги грешно, а из своего ничтожного заработка был, конечно, неспособен с ней рассчитаться. Его грызла мысль, что если бы другие дети исполняли свой долг по отношению к нему, он не был бы вынужден на старости лет принимать подаяние от дочери, которая при всех своих достоинствах все же ведет неправедную жизнь. И домашние ссоры не прекращались. Наконец, как-то зимой Джордж внял жалобам брата и сестры и согласился взять их к себе с условием, что они будут работать. Герхардт сперва растерялся, но затем предложил им забрать мебель и отправиться куда угодно. Такое великодушие с его стороны пристыдило их, и они даже заикнулись о том, что, может, и он стал бы жить с ними, но Герхардт наотрез отказался. Он пойдет на фабрику, где работает сторожем, и попросит у мастера разрешения спать на каком-нибудь чердаке. На фабрике его любят, ему доверяют. К тому же это будет экономнее. Так он сгоряча и поступил, и в долгие зимние ночи можно было увидеть одинокого старика, караулящего на пустынной улице, далеко от оживленных центральных кварталов. Ему отвели угол на чердаке склада, стоявшего в стороне от фабрики с ее сутолокой и шумом. Здесь он спал днем, после работы. Перед вечером он выходил пройтись либо к центру города, либо по берегу Кихоги, либо к озеру. Он тихо брел, заложив руки за спину, задумчиво склонив голову. Иногда он разговаривал сам с собою; его удрученное состояние изредка прорывалось в горьких словах: «Поди ж ты!» или «Тьфу, пропасть!» С наступлением темноты он занимал свой пост у ворот фабрики. Питался он по соседству, в закусочной для рабочих, которую считал самым подходящим для себя местом. Размышления старого немца бывали обычно отвлеченного или чрезвычайно мрачного свойства. Что такое жизнь? Столько усилий, столько забот и горя, а в конце концов что остается? И где — то, чего больше нет? Люди умирают и уже никак не общаются с живыми. Взять хотя бы его жену. Она умерла, а куда отлетел ее дух? Однако Герхардт еще крепко держался за привычные с детства церковные догматы. Он верил, что есть ад и что грешники после смерти попадают туда. Ну, а миссис Герхардт? А Дженни? По его мнению, обе они были повинны в тяжких грехах. Он верил и в то, что праведников ждет райское блаженство. Но где эти праведники? У миссис Герхардт было доброе сердце. Дженни — само великодушие. А его сын Себастьян? Себастьян — хороший мальчик, но сердце у него черствое, а сыновней любви нет и в помине. Марта честолюбива, думает только о себе. Выходит, что все дети, кроме Дженни, — эгоисты. Басс, с тех пор как женился, пальцем не шевельнул для семьи. Марта уверяет, что ее заработка ей еле хватает на себя. Джордж сначала хоть немножко помогал, а потом бросил. Вероника и Уильям спокойно жили на деньги Дженни, пока он это разрешал, хоть и знали, что поступают нехорошо. А теперешнее существование его, Герхардта, разве не свидетельствует об эгоизме детей? И силы его уже не прежние. Он сокрушенно качал головой. Загадка, да и только. Все в жизни непонятно, таинственно, шатко. А все-таки ни с кем из детей он не желает жить. Они недостойны его, все, кроме Дженни, а Дженни живет грешной жизнью. Так горевал старый Герхардт. Дженни не сразу узнала обо всех этих печальных делах. Раньше она адресовала свои письма Марте, потом, когда сестра вышла замуж, стала писать прямо отцу. После ухода младших детей Герхардт написал ей, чтобы она больше не присылала денег. Вероника и Уильям будут жить у Джорджа; у него хорошее место на фабрике, там же он пока имеет и квартиру. Он вернул Дженни то, что сумел отложить, — сто пятнадцать долларов, объяснив, что эти деньги ему не понадобятся. Дженни ничего не поняла, но, зная упорство отца, решила не спорить с ним, тем более, что братья и сестры молчали. Однако со временем она стала яснее представлять себе, что произошло дома, и встревожилась не на шутку. Ей хотелось съездить к отцу и не хотелось уезжать от Лестера, независимо от того, как сложатся их отношения. Согласится ли отец жить с нею? Сейчас, разумеется, нет. Если она выйдет замуж, возможно; если останется одна, почти наверняка. Но если у нее не будет хорошего заработка, им придется трудно. Все сводилось к тому же вопросу; что ей делать? И все же она решилась. Найти работу на пять-шесть долларов в неделю — и они проживут. А на первое время у них будут те сто пятнадцать долларов, которые скопил отец.Глава 36
В планах Дженни был один изъян — она недостаточно принимала в расчет позицию Лестера. Он безусловно дорожил нею, хоть и не мог вырваться из замкнутого круга условностей того мира, в котором был воспитан. Однако если он и не любил ее настолько, чтобы наперекор мнению света обвенчаться с ней по той простой причине, что он выбрал себе жену по душе, все же она занимала в его жизни очень большое место, и пока что он отнюдь не собирался окончательно с ней порвать. Лестер был уже в том возрасте, когда взгляды на женщин, раз установившись, редко меняются. До сих пор ни одна женщина его круга не нравилась ему так, как Дженни. В ней была женственность, мягкость, природный ум, она предупреждала каждое его желание; искусству держаться в обществе он обучил ее сам, так что теперь мог показаться с ней где угодно. Все это было удобно и приятно, что же еще ему оставалось желать? А между тем беспокойство Дженни росло день ото дня. Пытаясь изложить свои мысли на бумаге, она начала и уничтожила несколько писем и, наконец, как ей показалось, сумела хоть бы отчасти выразить то, что чувствовала. Послание получилось длинное, она еще никогда таких не писала.«Лестер, милый, когда ты получишь это письмо, меня здесь не будет, и я прошу тебя не думай обо мне плохо, пока не дочитаешь до конца. Я уезжаю и увожу с собой Весту, думаю, что так будет лучше. Право же, Лестер, так нужно. Когда ты появился в моей жизни, мы были очень бедны, да и мое положение было такое, что я думала, ни один хороший человек на мне не женится. А ты сказал, что любишь меня, и я совсем голову потеряла, а потом и я полюбила тебя, сама не знаю как. Ведь я говорила тебе тогда, что не хочу больше поступать дурно и что я нехорошая, но когда ты был со мной, я просто не могла ни о чем думать и не знала, как уйти от тебя. Отец в это время как раз заболел, и дома все сидели голодные. Мы зарабатывали такие гроши. У моего брата Джорджа не было башмаков, мама совсем с ног сбилась. Я часто думаю, Лестер, если бы на маму не навалилось столько забот и горя, она, может, и сейчас была бы жива. Я подумала, что раз я тебе нравлюсь и ты мне нравишься, — я тебя люблю, Лестер, — может быть, большого греха и не выйдет. Ты ведь сразу сказал мне, что хотел бы помочь моей семье, и я подумала, что, может, так и нужно поступить. Очень уж бедно мы жили. Лестер, милый, мне стыдно уходить от тебя; тебе может показаться, что это очень гадко, но если б ты знал, что я пережила за последнее время, ты бы простил меня. Я люблю тебя, Лестер, очень люблю! Но все эти месяцы, с тех пор как приходила твоя сестра, я чувствую, что живу дурно и что дальше так жить нельзя, раз я сама знаю, как это дурно. Я виновата в том, что у меня было с сенатором Брэндером, но я была еще так молода — я совсем не понимала, что делаю. Я виновата, что с самого начала не рассказала тебе про Весту, хотя тогда мне казалось, что это правильно. Я страшно виновата в том, что тайком от тебя привезла ее в Чикаго, но я боялась тебя, Лестер, боялась того, что ты скажешь или сделаешь. Все это стало мне ясно после того, как твоя сестра побывала здесь; и с тех пор я твердо знаю, что живу нехорошо. Но я тебя не виню, Лестер, я виню только себя. Я не прошу тебя жениться на мне. Я знаю, как ты ко мне относишься и как ты относишься к моей семье, и сама не считаю, что это помогло бы делу. Твои родные не захотят этого, и я ни о чем не стану тебя просить. А так, как мы сейчас живем, больше жить нельзя, это мне ясно. Веста подрастает, скоро она будет все понимать. Пока она думает, что ты и в самом деле ее дядя. Я столько думала, столько раз хотела поговорить с тобой, но когда у тебя серьезное лицо, мне делается страшно и я не могу выговорить ни слова. Вот я и решила — лучше напишу и уеду и, тогда ты все поймешь. Ты понял, Лестер, понял? Ты не сердишься на меня; так нужно. Прости меня, Лестер, пожалуйста, прости, и забудь обо мне. Я как-нибудь проживу. Но я так люблю тебя, так люблю, и вечно буду тебе благодарна за все, что ты для меня сделал. Желаю тебе счастья. Прости меня, Лестер.Дженни положила письмо в конверт, запечатала его и до времени спрятала в надежное место. Еще несколько дней она собиралась с духом, чтобы осуществить свой план, и наконец, когда Лестер однажды предупредил ее по телефону, что два-три дня не появится дома, она уложила в несколько чемоданов все самое необходимое для себя и Весты и послала за извозчиком. Она подумала было известить отца о своем приезде телеграммой, но потом вспомнила, что он живет на фабрике, и решила сама разыскать его. Герхардт писал ей, что Вероника и Уильям увезли не всю мебель, часть ее сдана на хранение. Значит, будет чем обставить небольшую квартирку. Покончив с приготовлениями к отъезду, Дженни села и стала ждать извозчика, но тут дверь отворилась и в комнату вошел Лестер. В последнюю минуту он изменил свои планы. Он не обладал особой интуицией, но на этот раз словно почувствовал что-то. Сговорившись со знакомыми пострелять уток на болотах Канкаки, южнее Чикаго, он вдруг передумал и даже решил уйти из конторы раньше обычного. Что его побудило к этому, он не мог бы объяснить. Ему было даже странно возвращаться домой в такой ранний час. Увидев посреди передней два чемодана, он остолбенел. Что это значит? Дженни в дорожном костюме, совсем готовая в путь. И Веста одета. Карие глаза Лестера широко раскрылись от изумления. — Ты куда? — спросил он. — Я… я — начала она, пятясь от него, — я уезжаю. — Куда? — Я хотела уехать в Кливленд. — Зачем? — Я… я все время собиралась сказать тебе, Лестер, что, по-моему, нельзя мне больше здесь оставаться. Нехорошо это. Я все хотела поговорить с тобой и не решалась. Я тебе написала письмо. — Письмо! — воскликнул он. — Ничего не понимаю! Где это письмо, черт побери? — Вот, — сказала она, машинально протягивая руку к столику, где на самом виду, на толстой книге лежало ее послание. — И ты хотела уехать от меня, отделавшись письмом? — спросил Лестер уже более суровым тоном. — Нет, я отказываюсь тебя понять. В чем дело, наконец? — Он разорвал конверт и пробежал глазами первые строки письма. — Уведи-ка отсюда Весту, — сказал он. Дженни послушалась. Потом, вернувшись, застыла посреди комнаты, бледная, расстроенная, обводя рассеянным взглядом стены, потолок, чемоданы, Лестера. Он внимательно прочел письмо, изредка переступая с ноги на ногу, и бросил его на пол. — Слушай, Дженни, — заговорил он, с любопытством глядя на нее и не зная, что ему, собственно, сказать. Вот когда ему представилась возможность покончить с этой связью. Но ему этого вовсе не хочется, — все шло так мирно и хорошо. Они столько лет прожили вместе, что разъехаться теперь было бы просто смешно. К тому же он любит ее, разумеется, любит. Однако жениться на ней он не хочет, да, пожалуй, и не может. Она это знает. Свидетельство тому — ее письмо. — Ты что-то путаешь, — продолжал он медленно. — Не знаю, что на тебя находит, но у тебя совершенно неправильный взгляд на вещи. Я ведь тебе говорил, что не могу на тебе жениться, во всяком случае сейчас. Есть много важных обстоятельств, о которых ты и понятия не имеешь. Что я тебя люблю, ты знаешь. Но необходимо считаться и с моей семьей и с интересами нашей фирмы. Ты не понимаешь, как все это сложно, а я понимаю. Но расставаться с тобой я не хочу, ты мне очень дорога. Конечно, я не могу удержать тебя насильно, ты вольна уйти. Но мне кажется, это было бы нехорошо. Неужели тебе правда этого хочется? Присядь-ка на минутку. Дженни, надеявшись ускользнуть без объяснений, совсем растерялась. К чему он затеял этот серьезный разговор и говорит так, словно просит ее о чем-то. Ей стало больно. Он, Лестер, убеждает ее остаться, когда она его так любит! Она подошла к нему, и он взял ее за руку. — Послушай-ка, — сказал он. Право же, в твоем уходе нет сейчас никакого смысла. Ты куда хотела уехать? — В Кливленд. — И как же ты собиралась там жить? — Я думала: возьму к себе папу, если он согласиться, он сейчас совсем один, и найду какую-нибудь работу. — А что ты умеешь делать, Дженни, кроме того, что делала раньше? Неужели опять пойдешь в прислуги? Или станешь продавщицей в магазине? — Я могла бы устроиться где-нибудь экономкой, — робко сказала Дженни. Это было лучшее, что пришло ей в голову во время долгих размышлений о возможной работе. — Нет, нет, — проворчал он, качая головой. — Это не годится. Все твои планы никуда не годятся, одна фантазия. И нравственного удовлетворения это тебе не даст. Прошлого не переделаешь. Да это и неважно. Сейчас я не могу на тебе жениться. Позже — может быть, но я ничего не хочу обещать. Однако по доброй воле я тебя не отпущу, а если уж ты уйдешь, я не хочу, чтобы ты вернулась к своей прежней жизни. Так или иначе я тебя обеспечу. Неужели ты правда хочешь от меня уйти, Дженни? Перед властной настойчивостью Лестера и его энергичными доводами Дженни была бессильна. Стоило ему коснуться ее руки, и от всех ее решений ничего не осталось. Она расплакалась. — Не плачь, Дженни, — сказал Лестер. — Все может обернуться лучше, чем ты думаешь. Подожди немного. Снимай же пальто и шляпу. Ты ведь не уйдешь от меня? — Не уйду! — всхлипнула Дженни. Он привлек ее к себе на колени. — Не будем пока ничего менять, — продолжал он. — Жизнь — сложная шутка. Разом ничего не устроишь. А потом все как-нибудь образуется. Я тоже сейчас мирюсь с тем, на что в другое время не согласился бы ни в коем случае. Постепенно Дженни успокоилась и печально улыбнулась сквозь слезы. — А теперь убери все это по местам, — сказал он ласково, указывая на чемоданы. — И, пожалуйста, обещай мне одну вещь. — Что? — спросила Дженни. — Впредь ничего от меня не скрывать, понимаешь? Ничего не решать без меня и не действовать без моего ведома. Если тебя что-нибудь мучит, приди ко мне и скажи. Я тебя не съем! Можешь говорить со мной обо всех своих заботах. Я помогу тебе с ними справиться, а если и не смогу помочь, то у нас хотя бы не будет никаких секретов друг от друга. — Я знаю, Лестер, — сказала она, серьезно глядя ему в глаза. — Обещаю, что ничего больше не буду скрывать, честное слово. Я раньше боялась, а теперь не буду. Правда! — Вот так-то лучше, — сказал Лестер. — Я тебе верю. И он отпустил ее. Первым результатом этого разговора было то, что через несколько дней речь зашла о судьбе Герхардта. Дженни уже давно о нем беспокоилась, а теперь решила поделиться своей тревогой с Лестером и как-то вечером, за обедом, рассказала ему о том, что произошло в Кливленде. — Представляю себе, как ему там тяжело совсем одному. Я, когда хотела уехать в Кливленд, собиралась взять его к себе. А теперь не знаю, что и делать. — Ты бы послала ему денег, — предложил Лестер. — Отец не хочет брать у меня деньги, — объяснила она. — Он не верит, что я замужем. — У него есть к томуоснования, — спокойно заметил Лестер. — Подумать страшно, что он ночует где-то на фабрике. Он такой старенький и совсем один. — А другие дети? Почему они о нем не заботятся? Где твой брат Басс? — Может быть, им не хочется о нем заботится, он такой вспыльчивый, — сказала она простодушно. — Ну, тогда уж я не знаю, что и посоветовать, — улыбнулся Лестер. — Ему бы следовало быть покладистей. — Да, конечно, — сказала Дженни, — но он такой старый и ему так трудно жилось. Некоторое время Лестер молча вертел в руках вилку. — Я вот о чем думаю, — сказал он наконец. — Раз мы решили не расставаться, лучше уехать из этой квартиры. Я уже прикидывал, не снять ли нам дом в Хайд-Парке. Правда, далеко будет ездить в контору, но жить здесь мне что-то надоело. И вам с Вестой будет неплохо иметь свой двор и сад. Вот тогда ты могла бы взять отца к себе. Он нам не помешает. Будет возиться по хозяйству, еще поможет держать дом в порядке. — Ах, это было бы как раз для него! — вздохнула Дженни. — Он так любит все чинить, и он мог бы косить газон и смотреть за отоплением. Но он ни за что не приедет, если не будет уверен, что мы женаты. — Да, это усложняет дело, поскольку ты не можешь предъявить ему брачное свидетельство. Старик явно мечтает о невозможном. Да и трудновато ему будет справляться с отоплением загородного дома, — добавил он, помолчав. Дженни пропустила его слова мимо ушей. Она опять задумалась о том, как плохо и неумело устроила свою жизнь. Герхардт не приедет, даже если у них и будет прекрасный дом, где он мог бы жить. А как хорошо ему было бы с Вестой! Он бы просто воскрес. Она грустно молчала, пока Лестер не сказал, словно отвечая на ее мысли: — Право, не знаю, что и придумать. Раздобыть бланк брачного свидетельства не так-то легко. Подделка карается по закону. Мне бы, честно говоря, не хотелось ввязываться в такое дело. — Да что ты, Лестер, разве можно! Мне просто жаль, что папа такой упрямый. Когда он что-нибудь заберет себе в голову, с ним ничего не поделаешь. — Давай подождем, пока не устроимся на новом месте, — предложил Лестер. — А тогда ты съездишь в Кливленд и сама с ним поговоришь. Может быть, тебе и удастся убедить его. Ему нравилось, что Дженни так предана отцу, и он готов был помочь ей в том, что она задумала. Старый Герхардт — мало интересный субъект, но не противный и если ему захочется поработать в большом хозяйстве, пожалуйста, Лестер ничего не имеет против.P.S. Я уезжаю к отцу в Кливленд. Я ему нужна. Он совсем один. Но, пожалуйста, Лестер, не приезжай за мной. Не нужно».Я люблю тебя.Дженни.
Глава 37
Слова о переезде в Хайд-Парк не были сказаны впустую. Когда через две-три недели все опять пришло в норму, Лестер предложил Дженни съездить с ним туда, чтобы присмотреть дом. В первую же поездку они нашли то, что им было нужно, — старый дом из одиннадцати больших комнат окруженный газонами и тенистыми деревьями, посаженными, когда город еще только начинал строиться. Здесь было красиво, уютно, тихо. Дженни пришла в восторг от просторной, почти деревенской усадьбы, хотя ее и угнетало сознание, что она войдет в свой новый дом не вполне законной хозяйкой. Когда она готовилась уйти от Лестера, ее поддерживала смутная надежда, что он приедет за ней и они поженятся. Теперь на этом поставлен крест Она обещала остаться, и нужно будет как-то ко всем приспособиться. Она заикнулась было, что такой огромный дом им ни к чему, но Лестер не стал ее слушать. — Очень возможно, что мы будем принимать гостей, — сказал он. — Во всяком случае нужно обставить дом и посмотреть, что получится. Он дал агенту указания заключить арендный договор на пять лет с правом последующего продления, и работы на участке начались немедленно. Дом покрасили снаружи и отделали внутри, газоны подровняли, все приняло нарядный, праздничный вид. На первом этаже разместилась большая библиотека, столь же просторная столовая, гостиная для приемов, гостиная поменьше, огромная кухня и буфетная. На втором этаже спальня, ванные и комната горничной. Все было удобно, все радовало глаз, и заботы по устройству на новом месте наполняли Дженни довольством и гордостью. Сейчас же после переезда Дженни с разрешения Лестера написала отцу, приглашая его переселиться к ним. Она ни словом не упомянула о своем браке, предоставив ему самому сделать нужный вывод. Зато подробно рассказала, в каком красивом месте живет, какой у нее удобный дом и большой сад. «Здесь так хорошо, папа, — писала она, — тебе наверно понравится. Веста уже ходит в школу. Приезжай к нам, будем жить вместе. Это куда лучше, чем ютиться при фабрике. И я была бы так рада!» Герхардт прочел это письмо и недоуменно нахмурился. Неужели правда? Но если бы они не поженились, разве стали бы они переезжать в такой большой дом? Или он с самого начала ошибался? Ну что ж, лучше поздно, чем никогда, но стоит ли ему-то к ним ехать? Он уже привык жить один, так неужели перебираться в Чикаго, к Дженни? Он не остался равнодушным к ее призыву и все же решил отказаться. Не мог он так открыто признать, что и на нем лежит часть вины за их размолвку. Отказ отца сильно огорчил Дженни. Она посоветовалась с Лестером и решила сама съездить в Кливленд. Разыскав мебельную фабрику, где служил Герхардт, — беспорядочное нагромождение зданий в одном из беднейших кварталов города, — она навела о нем справки в конторе. Клерк направил ее к стоявшему на отлете складу, и Герхардту сообщили, что его хочет видеть какая-то дама. Он поднялся со своей жалкой койки и сошел во двор, любопытствуя, кто бы это мог быть. У Дженни сердце защемило, когда он вышел из темной двери — седой, с косматыми бровями, в пыльной, измятой одежде. «Бедный папа!» — подумала она. Он подошел к ней, и его испытывающий взгляд смягчился, когда он понял, какое доброе побуждение привело ее сюда. — Ты зачем это приехала? — спросил он с опаской. — Я хочу увезти тебя к себе, папа! — взмолилась Дженни. — Нельзя тебе больше здесь оставаться. Просто думать невыносимо, как ты тут живешь совсем один. — Вот что, — сказал он, озадаченный, — так ты для этого приехала? — Да, — отвечала она. — Поедем со мной. Не надо оставаться здесь. — У меня хороший угол, — сказал он, словно оправдываясь. — Знаю, знаю, но у нас теперь большой дом и Веста с нами живет. Неужели ты не поедешь? Лестер тоже тебя приглашает. — Ты мне одно скажи, — потребовал он, — женаты вы или нет. — Конечно, — храбро солгала она. — Давно женаты. Спроси хоть Лестера, когда приедешь. Ей стоило большого труда выдержать его взгляд, но она не опустила глаз, и он ей поверил. — Ну что ж, — сказал он, — давно пора. — Так ты поедешь, папа? — не отставала она. Герхардт беспомощно развел руками. Ласковая настойчивость Дженни тронула его до глубины души. — Да, поеду, — сказал он и отвернулся, но плечи его вздрагивали, и Дженни поняла, что он плачет. — Сейчас, со мной? Вместо ответа он исчез в темных дверях склада: пошел собирать вещи.Глава 38
Поселившись у Дженни, Герхардт немедленно приступил к исполнению многообразных обязанностей, предназначенных, по его мнению, специально для него. Он взял на себя заботу об отоплении и об участке, не допуская и мысли о том, чтобы чужому человеку платили жалованье, когда сам он сидит без дела. Деревья вокруг дома в безобразном состоянии, заявил он дочери. Нужно достать пилу и садовый нож, и весной он ими займется. В Германии понимают толк в таких вещах, а эти американцы — беспомощный, непрактичный народ! Затем Герхардт потребовал гвоздей и столярных инструментов и постепенно отремонтировал все шкафы и полки. В двух милях от дома он обнаружил лютеранскую церковь и нашел, что она лучше той, куда он ходил в Кливленде, а пастор — поистине человек, угодный богу. Он тут же настоял, чтобы Веста каждую неделю ходила с ним в церковь, и слушать не хотел никаких отговорок. Начиная новую жизнь в Хайд-Парке, Дженни и Лестер были не совсем спокойны: они знали, что им будет нелегко. На Северной стороне Дженни без труда избегала знакомства и разговоров с соседями. Здесь же дом, который они занимали, был на виду; следовало ожидать, что соседи сочтут своим долгом явиться к ним с визитом, и Дженни придется играть роль опытной хозяйки. Они с Лестером подробно все обсудили, и он решил — пусть их считают мужем и женой. Про Весту можно сказать, будто она дочь Дженни от первого мужа, мистера Стовера (девичья фамилия миссис Герхардт), умершего сразу после рождения ребенка. Хайд-Парк был расположен так далеко от фешенебельного центра Чикаго, что Лестер считал себя застрахованным от встреч с городскими знакомыми. Он объяснил Дженни, как ей следует себя вести, чтобы первая же гостья не застала ее врасплох. Не прошло и двух недель, как первая гостья действительно явилась, — то была миссис Джейкоб Стендл, особа, пользовавшаяся почетом среди соседей и жившая через пять домов от Дженни, тоже в прекрасном особняке с газонами. Она приехала в собственной коляске, возвращаясь из поездки по магазинам. — Дома ли миссис Кейн? — спросила она у новой горничной Жаннет. — Дома, мэм, — ответила та. — Позвольте вашу визитную карточку. И она отнесла карточку Дженни, которая с интересом прочла незнакомое имя. Когда Дженни вышла в гостиную, миссис Стендл, высокая брюнетка с любопытными глазами, сердечно поздоровалась с ней. — Я взяла на себя смелость нарушить ваше уединение, — сказала она чарующе любезным тоном. — Я ваша соседка, живу наискосок от вас. Белая каменная ограда — может быть, вы обратили внимание? — Да, конечно, — ответила Дженни. — Я хорошо знаю этот дом. Мы с мистером Кейном любовались им еще в первый раз, как приезжали сюда. — Фамилию вашего мужа я, разумеется, слышала. А мой муж связан с электрической фирмой «Уилкс и компания». Дженни кивнула. По тону миссис Стендл было ясно, что это — весьма крупное и доходное предприятие. — Мы живем здесь уже несколько лет, и я прекрасно понимаю, как неуютно себя чувствуешь в новой части города. Надеюсь, вы вскоре соберетесь ко мне. Я была бы очень, очень рада. Мы принимаем по четвергам. — С удовольствием, — ответила Дженни, внутренне содрогаясь в предвидении этой мучительной церемонии. — С вашей стороны было очень любезно зайти к нам. Мистер Кейн очень занят, но как только он немного освободится, мы оба будем рады видеть у себя и вашего мужа. — И вы приходите вдвоем как-нибудь вечером, сказала миссис Стендл. — Мы живем очень тихо. Мой муж не любит театров и выездов. Но с соседями мы поддерживаем самые дружеские отношения. Дженни приветливо улыбнулась. Гостья собралась уходить, и Дженни проводила ее до дверей. — Как я рада, что вы оказались такой прелестной, — откровенно сказала миссис Стендл, пожимая ей руку. — Благодарю вас, — отозвалась Дженни, краснея. — Право же, я не заслужила такой похвалы. — Ну, так я буду вас ждать. До свидания. И она с улыбкой помахала на прощание рукой. «Кажется, сошло не плохо, — подумала Дженни, глядя вслед удаляющейся коляске. — Она приятная женщина. Надо будет рассказать Лестеру». Побывали у них и некие мистер и миссис Кармайкл Бэрк, и миссис Филд, и миссис Боллингер; они либо оставляли свои карточки, либо заходили посидеть и поболтать, Дженни, видя, что ее считают достойной уважения, всячески старалась не ударить лицом в грязь. И это ей отлично удавалось. Она была гостеприимна и приветлива; в улыбке ее сквозила доброта, в манерах — полная естественность; она производила прекрасное впечатление. Гостям своим она рассказывала, что последнее время жила на Северной стороне, что ее муж мистер Кейн давно мечтал поселиться в Хайд-Парке, что с ней живут ее отец и дочь от первого брака. Она выражала надежду и впредь поддерживать знакомство со своими милыми соседями. По вечерам она докладывала о своих гостях Лестеру, — сам он не желал знакомиться с этими людьми. Дженни постепенно входила во вкус. Ей нравилось завязывать знакомствам она надеялась, что в новой обстановке Лестер привыкнет видеть в ней хорошую жену и идеальную спутницу жизни. И тогда, может быть, когда-нибудь он женится на ней. Однако первые впечатления не всегда оказываются прочными, в чем Дженни скоро убедилась. Соседи приняли ее в свое общество, пожалуй, слишком поспешно, а потом поползли слухи. Некая миссис Соммервил, сидя в гостях у миссис Крейг, ближайшей соседки Дженни, намекнула в разговоре, что ей кое-что известно про Лестера. — Да, да. Вы знаете, милочка, репутация у него не совсем… — Она вздернула брови и погрозила пальцем. — Да что вы говорите! — встрепенулась миссис Крейг. — А на вид он такой положительный, серьезный. — Отчасти это так и есть, — проговорила миссис Соммервил. — Он из прекрасной семьи. Но муж рассказывал мне, что у него была связь с какой-то молодой женщиной. Уж не знаю, она это или нет. С той они жили как муж и жена где-то на Северной стороне, и он представлял ее всем как мисс Горвуд или что-то в этом роде. — Подумайте только! — и миссис Крейг от удивления прищелкнула языком. — А знаете, ведь, наверное это та самая женщина. Фамилия ее отца — Герхардт. — Герхардт! — воскликнула миссис Соммервил. — Вот, вот, совершенно верно. И раньше у нее, кажется, тоже была какая-то скандальная история, во всяком случае, был ребенок. Может быть, Кейн потом женился на ней — не знаю. Но семья его, насколько мне известно, и слышать не хочет о ее существовании. — Это страшно интересно! — воскликнула миссис Крейг. — И подумать только, что все-таки женился на ней! А может быть, нет? В наше время так трудно знать, с кем имеешь дело. — Вы совершенно правы. Иногда просто невозможно разобраться. А она как будто очень милая женщина. — Прелестная! — подтвердила миссис Крейг. — Такая наивная. Она меня просто очаровала. — А может быть, это все-таки не та женщина, — продолжала гостья. — Я могла ошибиться. — Ну, едва ли! Герхардт! И она сама мне говорила, что они жили на Северной стороне. — Тогда, значит, она и есть. Как странно, что вы о ней упомянули. — Очень, очень странно, — сказала миссис Крейг, уже обдумывая про себя, как ей держаться с Дженни в дальнейшем. Слухи доходили и из других источников. Кто-то видел Дженни с Лестером в коляске на Северной стороне; кому-то ее представляли под именем миссис Герхардт; кто-то был осведомлен о разладе в семействе Кейн. Разумеется, теперешнее положение Дженни, прекрасный дом, богатство Лестера, красота Весты — все благоприятно влияло на мнение света. Дженни держала себя с таким тактом, как явно была прекрасной женой и матерью и вообще производила такое милое впечатление, что сердиться на нее не представлялось возможным; но у нее было прошлое, и об этом не забывали. Впервые Дженни почувствовала, что надвигается гроза, когда Веста, вернувшись из школы, неожиданно спросила ее: — Мама, а кто был мой папа? — Фамилия его была Стовер, — ответила мать, сразу почуяв, что дело неладно, что кто-то сболтнул лишнее. — А с чего это тебе вздумалось спросить? — Где я родилась? — продолжала Веста не отвечая на ее вопрос и, видимо, задавшись целью как можно больше узнать о самой себе. — В Колумбуса, крошка, в штате Огайо. А что? — Анита Боллингер сказала, что у меня не было никакого папы и что ты даже не была замужем, когда я у тебя родилась. Она говорит, что я не настоящая девочка, просто неизвестно кто. Я так рассердилась, что отколотила ее. Дженни молча, с застывшим лицом смотрела в пространство Миссис Боллингер была у нее в гостях и чуть ли не усерднее всех предлагала ей свою дружбу, а теперь ее дочка так разговаривает с Вестой. Где это она наслушалась? — Ты не обращай на нее внимания, — сказала наконец Дженни. — Она ничего не знает. Твой папа был мистер Стовер, и ты родилась в Колумбусе. А драться нехорошо. Когда девочки дерутся, они могут наговорить всяких обидных вещей иногда просто так, сгоряча. Ты ее не трогай и не подходи к ней, тогда и она тебе ничего не скажет. Объяснение вышло не очень удачное, но на время оно удовлетворило Весту, которая сказала только: — Если она попробует меня ударить, я ей тоже дам. — Да ты совсем не подходи к ней, понимаешь? Тогда она тебя не ударит. Думай о своих уроках, а к ней не Приставай, не ссорься с ней, и она с тобой не будет ссориться. Веста убежала, а Дженни глубоко задумалась. Соседи сплетничают. Ее прошлое ни для кого не секрет. Откуда они узнали? Рана, нанесенная сердцу Дженни разговором с дочерью, еще не зажила, как ее стали бередить новые щелчки и уколы. Однажды Дженни зашла навестить свою ближайшую соседку миссис Филд и застала ее за чашкой чая с другой гостьей, миссис Бейкер. Миссис Бейкер была наслышана о жизни Дженни на Северной стороне и об отношении к ней семейства Кейн. Эта сухощавая, энергичная, неглупая женщина, несколько напоминавшая миссис Брейсбридж, была весьма осмотрительна в выборе светских знакомых. Она всегда считала, что миссис Филд держится столь же строгих правил, и, встретив у нее Дженни, возмутилась, хотя и сохранила внешнее спокойствие. — Познакомьтесь, это миссис Кейн, — сказала миссис Филд с любезной улыбкой. Миссис Бейкер смерила Дженни взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. — Миссис Лестер Кейн? — переспросила она. — Да, — ответила миссис Филд. — Вот как, — продолжала миссис Бейкер ледяным тоном. — Я много слышала о миссис… миссис Лестер Кейн. И, словно забыв о существовании Дженни, она повернулась к хозяйке и завела с ней интимный разговор, в котором Дженни не могла принять участия. Дженни беспомощно молчала, не зная, как вести себя в таком щекотливом положении. Миссис Бейкер вскоре поднялась, хотя собиралась пробыть в гостях гораздо дольше. — Никак, никак не могу остаться, — говорила она, вставая. — Я обещала миссис Нийл, что непременно заеду к ней сегодня. Да я вам, вероятно, и так уж надоела. Она пошла к дверям и лишь на пороге обернулась в сторону Дженни и холодно кивнула ей головой. — С кем только не приходится встречаться! — заметила она на прощание хозяйке. Миссис Филд не сочла возможным заступиться за Дженни, ибо сама была не бог знает кто и, как свойственно недавно разбогатевшим женщинам, всячески старалась пролезть в хорошее общество. А миссис Бейкер занимала в этом обществе куда более почетное положение, чем Дженни, так что ссориться с ней не хотелось. Вернувшись к столу, где сидела Дженни, миссис Филд улыбнулась несколько виноватой улыбкой, но видно было, что ей очень не по себе. Дженни, естественно, тоже была расстроена и вскоре под каким-то предлогом простилась и ушла. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной и понимала, что миссис Филд уже раскаивается в своем дружеском отношении к ней. С одним знакомством покончено, в этом Дженни не сомневалась. Ею снова овладело гнетущее сознание, что жизнь не удалась. Теперь уже ничего нельзя исправить, а на будущее нет надежды. Лестер не захочет на ней жениться и спасти ее репутацию. Время шло, не принося с собой никаких перемен. Глядя на красивый особняк, аккуратный газон и раскидистые деревья, на колонны веранды, увитые легкой зеленой сеткой дикого винограда; видя, как Герхардт возится в саду, как Веста возвращается из школы, а Лестер по утрам уезжает в своей щегольской двуколке, всякий подумал бы, что здесь царит довольство и покой, что заботам и горю нет места в этом чудесном жилище. И действительно, жизнь в доме текла спокойно, без потрясений. Правда, соседи почти перестали навещать Лестера и Дженни, и светские развлечения кончились; но это не было для них лишением, потому что и в своих четырех стенах они находили достаточно радостей и пищи для ума. Веста училась играть на рояле и делала большие успехи, — у нее был отличный слух. Дженни в голубых, лиловых, темно-зеленых домашних платьях, которые ей были так к лицу, хлопотала по хозяйству, шила, стирала пыль, провожала Весту в школу, присматривала за прислугой. Герхардт трудился с утра до ночи, — ему непременно нужно было приложить руку ко всякому домашнему делу. Одной из обязанностей, которые он сам на себя возложил, было ходить по дому следом за Лестером и слугами, выключая газ или электрические лампы, если кто-нибудь забывал их погасить, что в его глазах было преступной расточительностью. Огорчала бережливого старика и манера Лестера носить даже самые дорогие костюмы всего несколько месяцев, а потом выбрасывать. Он чуть не плакал над превосходными башмаками, которые Лестер не желал носить только потому, что слегка стоптался каблук или кожа кое-где морщит. Герхардт считал, что их нужно отдать в починку, но на все его ворчливые увещевания Лестер отвечал, что эта обувь стала ему неудобна. — Такая расточительность! — жаловался Герхардт дочери. Столько добра пропадает! Вот увидишь, плохо это кончится, никаких денег не хватит. — Он иначе не умеет, папа, — оправдывалась Дженни. — Так уж его воспитали. — Ну и воспитание! Эти американцы ничего не смыслят в экономии. Им бы в Германии пожить, тогда узнали бы цену доллару. Лестер, слыша об этих разговорах от Дженни, только улыбался. Старый Герхардт забавлял его. Не мог старик примириться и с привычкой Лестера переводить спички. Бывало, Лестер, чиркнув спичкой держал ее некоторое время на весу и разговаривал, вместо того чтобы зажечь сигару, а потом бросал. Или начинал чиркать спичку за спичкой задолго до того, как закурить. На веранде был уголок, где он любил покурить летними вечерами, беседуя с Дженни; поминутно зажигая спички, он швырял их одну за другой в сад. Однажды, подстригая газон, Герхардт, к своему ужасу, нашел целую кучу полусгнивших спичек. Он совсем приуныл и, собрав в газету вещественные доказательства преступления, понес их в комнату, где Дженни сидела за шитьем. — Вот что я нашел! — заявил он. — Ты только посмотри! Этот человек понимает в экономии не больше чем… чем… — Он так и не нашел нужного слова. — Сидит курит, а со спичками вот как обращается. Ведь они пять центов коробка стоят — пять центов! Как он, интересно, думает прожить при таких тратах? Нет, ты только посмотри, что это такое. Дженни посмотрела и покачала головой. — Да, Лестер совсем не бережлив, — сказала она. Герхардт унес спички в подвал. Хотя бы сжечь их в плите — и то будет толк. Он мог бы раскуривать ими свою трубку, но гораздо удобнее для этого были старые газеты, а их набирались целые кипы, что опять-таки свидетельствовало о расточительной натуре хозяина дома. Герхардт сокрушенно качал головой. Ну как тут работать! Все против него. Но он не складывал оружия и не оставлял попыток пресечь это греховное мотовство. Сам он соблюдал строжайшую экономию. Года два носил по воскресеньям перешитый черный костюм Лестера, на который тот в свое время ухлопал уйму денег. Носил его старую обувь, храбро делая вид, что она ему по ноге, и его галстуки, но только черные, других Герхардт не любил. Он и рубашки Лестера стал бы носить, если бы умел их перешить себе по росту, а нижнее белье отлично приспосабливал для собственного употребления, пользуясь дружескими услугами кухарки. О носках и говорить нечего. Таким образом, на одежду Герхардта не тратилось ни цента. Другие вещи, уже отслужившие Лестеру — башмаки, рубашки, костюмы, галстуки, воротнички, — он хранил неделями, месяцами, а затем с мрачной решимостью приводил в дом портного или старьевщика, которому и продавал все это добро, немилосердно набивая цену. Он держался того мнения, что все скупщики старого платья — пауки-кровососы и ни одному их слову нельзя верить. Все они врут. Жалуются на бедность, а сами купаются в деньгах. Герхардт своими глазами в этом убедился — он прослеживал старьевщиков и видел, как они поступают с купленными у него вещами. — Мерзавцы! — негодовал он. Предлагают десять центов за пару башмаков, а сами выставляют эту пару в своей лавчонке за два доллара. Разбойники, да и только! Могли бы дать мне хоть доллар. Дженни улыбалась. Только она и выслушивала его жалобы, — на сочувствие Лестера Герхардт не рассчитывал. Свои собственные гроши он почти целиком жертвовал на церковь, и пастор считал его образцом смирения, нравственности, благочестия — словом, воплощением всех добродетелей. Итак, несмотря на зловещий ропот людской молвы, эти годы оказались самыми счастливыми в жизни Дженни. Лестер, хоть его порой и одолевали сомнения относительно правильности избранного им пути, был неизменна ласков и внимателен к ней и казался вполне довольным своей семейной жизнью. — Все в порядке? — спрашивала она, когда он к вечеру возвращался домой. — Разумеется! — отвечал он и, мимоходом потрепав ее по щеке, шел с ней в комнаты, в то время как проворная Жаннет вешала на место его пальто и шляпу. Зимой они усаживались в библиотеке перед огромным камином. Весною, летом и осенью Лестер предпочитал веранду, с которой открывался красивый вид на лужайки сада и тихую улицу. Здесь он закуривал свою предобеденную сигару, а Дженни, сидя на ручке его кресла, гладила его по голове. — Волосы у тебя совсем не поредели, — говорила она. — Ты доволен? Или журила его: — Что это ты морщишь лоб? Разве можно? И почему ты сегодня утром не переменил галстук? Я ведь тебе приготовила новый. — Забыл, — отвечал он и разглаживал морщины на лбу или со смехом предсказывал, что скоро у него будет огромная лысина. В гостиной, в присутствии Весты и Герхардта, Дженни бывала с ним так же ласкова, но более сдержанна. Она любила игры и головоломки — шарики под стеклом, ребусы, настольный бильярд. Лестер тоже участвовал в этих нехитрых развлечениях. Иногда он по часу просиживал над какой-нибудь головоломкой. Дженни справлялась с ними необыкновенно ловко и бывала горда и счастлива, когда он обращался к ней за помощью. Если же он непременно хотел разрешить загадку сам, она молча наблюдала за ним, обняв его за шею и прижавшись подбородком к его плечу. Ему это нравилось, он наслаждался любовью, которую она так щедро на него изливала, и не уставал любоваться ее молодостью и красотой. С Дженни он сам чувствовал себя молодым, а больше всего в жизни страшило Лестера наступление бессмысленной старости. Он часто говорил: — Я хочу остаться молодым или умереть молодым. И Дженни понимала его. Любя Лестера, она теперь и сама была довольна, что настолько моложе его. Особенно радовала Дженни растущая привязанность Лестера к Весте. Вечерами они часто собирались в библиотеке. Веста, сидя за огромным столом, готовила уроки. Дженни шила. Герхардт читал свои нескончаемые немецкие газеты. Старика огорчало, что Весте не разрешают учиться в приходской церковной школе при лютеранской церкви, а Лестер об этом и слышать не хотел. — Чтобы ее учили какие-то немцы? Вот еще! — заявил он, когда Дженни рассказала ему о заветном желании старика. Скажи ему, пусть оставит ее в покое. Иногда им бывало вчетвером особенно хорошо. Лестер любил подразнить семилетнюю школьницу. Зажав ее между коленями, он принимался выворачивать на изнанку простые истины, наблюдая, как сознание девочки воспринимает его парадоксы. — Что такое вода? — спрашивал он и, услышав ответ «Это то, что мы пьем», — удивленно раскрывал глаза и продолжал допытываться: — Хорошо, но что это такое, не знаешь? Чему вас после этого учат в школе? — Но мы же пьем воду? — не сдавалась Веста. — Пьем-то пьем, а что такое вода, ты не знаешь. Спроси учительницу, может быть, она тебе скажет. И он предоставлял малышке ломать себе голову над трудной задачей. Пищу, посуду, платье девочки — Лестер все готов был разложить на химические элементы, и Веста, смутно подозревая что-то иное за внешней оболочкой знакомых предметов, стала даже побаиваться его. Утром, перед уходом в школу, она приходила показаться Лестеру, потому что он очень придирчиво относился к ее внешности. Он хотел всегда видеть ее нарядной, с огромным голубым бантом в волосах, велел обувать ее то в туфельки, то в высокие башмачки, смотря по сезону, и, одевая ее, выбирать оттенки, подходящие к ее цвету лица и характеру. — У девочки веселый, легкий нрав, — сказал он однажды. — Не надевай не нее ничего темного. Дженни поняла, что и в этом вопросе следует советоваться с Лестером, и часто говорила дочери: — Беги, покажись дяде. Веста являлась и начинала кружиться перед ним, приговаривая: — Смотри! — Так, так. Все в порядке. Можешь идти. И она убегала. Он стал прямо-таки гордиться Вестой. Выезжая по воскресеньям на прогулку, он всегда сажал ее между собой и Дженни; он настоял, чтобы девочку отдали учиться танцам, и Герхардт был вне себя от горя и ярости. — Грех-то какой! — жаловался он Дженни. — Только дьявола тешить! Танцевать ей нужно! К чему? Чтобы из нее вышла какая-нибудь вертушка, чтобы мы же потом ее стыдились? — Ну что ты, папа, — возражала Дженни. — Ничего в этом страшного нет. Школа очень хорошая. Лестер говорит, что Весте полезно поучиться. — Ох, уж этот Лестер! Много он понимает в том, что полезно ребенку. Сам в карты играет, виски пьет! — Тише, тише, папа, не надо так говорить, — унимала его Дженни. — Лестер хороший человек, ты сам это знаешь. — Кое в чем хороший, да не во всем. Ох, не во всем! И он уходил, недовольно кряхтя. В присутствии Лестера он помалкивал, а Веста делала с ним что хотела. — Дедушка, — говорила она, дергая его за рукав или гладя по жесткой щеке, и Герхардт таял. Он был бессилен перед ее лаской, что-то подступало у него к горлу и душило его. — Знаю я тебя, озорница, — говорил он. А Веста, бывало, щипнет его за ухо. — Перестань, — ворчал он. — Хватит баловаться. Но всякий мог заметить, что Веста переставала лишь тогда, когда ей самой надоедало шалить. Герхардт обожал девочку и выполнял малейшее ее желание. Он был ее покорным рабом.Глава 39
Все это время недовольство семьи Лестера, вызванное его беспорядочным образом жизни, продолжало расти. Родным было ясно, что рано или поздно неизбежен скандал. Уже носились зловещие слухи. Казалось, всем все известно, хотя открыто никто ничего не говорил. Кейн-старший просто диву давался, — как мог его сын бросить такой вызов обществу! Будь еще женщина исключительно интересна, будь это какая-нибудь известная актриса, художница, поэтесса, — увлечение Лестера можно было бы объяснить, если и не оправдать; но по описанию Луизы это весьма заурядная особа, не блещущая ни красотой, ни талантами, — непонятно, совсем непонятно! Лестер — его сын, его любимец; какая жалость, что он не устроил свою жизнь по-человечески. В Цинциннати он нравился многим женщинам. Взять хотя бы Летти Пэйс. Вот на ком ему нужно было жениться. Красива, умна, и сердце у нее доброе. Старик Кейн горевал и сетовал, а потом ожесточился. Стыдно Лестеру так обижать отца! Его поведение противоестественно, непростительно, наконец, неприлично. Арчибалд Кейн долго терзался этой мыслью и наконец почувствовал, что так продолжаться не может, хотя затруднялся бы сказать, в чем должна выразиться перемена. Лестер сам себе голова и не потерпит замечаний. Выходит, ничего сделать нельзя. Ряд событий в семье приблизили развязку. Луиза вскоре после своей злополучной поездки в Чикаго вышла замуж, и дом стариков опустел, разве что наезжали погостить внуки. Лестер не был у Луизы на свадьбе, хотя и получил приглашение. Потом умерла миссис Кейн, и в связи с ее смертью старому Арчибалду пришлось изменить свое завещание. Это потребовало присутствия Лестера. Лестер приехал, угнетенный сознанием, что в последнее время так мало виделся с матерью и причинил ей столько горя, но о своих делах не обмолвился ни словом. Отец хотел было поговорить с сыном, но потом передумал, — очень уж мрачно тот был настроен. Лестер уехал к себе в Чикаго, и на несколько месяцев все опять затихло. После свадьбы Луизы и смерти жены старик Кейн переселился к Роберту, потому что наибольшей отрадой для него на старости лет были внучата. Роберт теперь держал в руках все дела фирмы, хотя окончательное разделение капитала могло состояться лишь после смерти старика. Рассчитывая в конце концов стать главою всего предприятия, Роберт, не жалея сил, угождал отцу, сестрам и их мужьям. Неправильно было бы сказать, что он к ним подлаживается, просто это был холодный расчет дельца, куда более хитрого, чем мог предположить Лестер. Личное состояние Роберта уже вдвое превышало состояния остальных детей, но он держал это в тайне и делал вид, будто располагает весьма скромными средствами. Ом знал, что зависть родственников может ему повредить, и вел спартанский образ жизни, до поры до времени делая главную ставку на незаметные, но надежные наличные деньги. Пока Лестер плыл по течению, Роберт трудился, трудился не покладая рук. То обстоятельство, что Роберт лелеял план отстранить брата от руководства фирмой, не имело особого значения, поскольку старик Кейн после долгих размышлений над чикагской жизнью Лестера сам пришел к заключению, что передать ему сколько-нибудь значительную долю капитала было бы неразумно. Видимо, он переоценил Лестера. Лестер, может быть, и умнее и сердечнее брата — по части эстетических запросов и успеха в обществе тот и в сравнение с ним не идет, — но у Роберта отличная деловая хватка, он умеет без шума добиваться своего. Если Лестер сейчас не подтянется, то чего же и ждать? Не лучше ли оставить капитал тому, кто сумеет им распорядиться? И Арчибалд Кейн уже готов был дать своему поверенному распоряжение изменить завещание таким образом, чтобы Лестер, если он не исправится, не получил в наследство ничего, кроме ничтожного годового дохода. Однако он решил дать Лестеру еще один шанс — потребовать, чтобы тот отказался от греховного образа жизни и занял подобающее ему место в обществе. Может быть, еще не поздно. Ведь у него такие прекрасные виды на будущее. Неужели он сам себе враг? Старый Арчибалд написал Лестеру, что хотел бы поговорить с ним, когда тому будет удобно, и не прошло и полутора суток, как Лестер уже был в Цинциннати. — Я хочу еще раз поговорить с тобой по одному вопросу, Лестер, — начал старик, — хоть это мне и нелегко. Ты знаешь, что я имею в виду? — Знаю, — спокойно ответил Лестер. — Когда я был много моложе, я думал, что ни в коем случае не буду вмешиваться в личные дела моих сыновей, но с годами мое мнение на этот счет изменилось. На примере моих деловых знакомых я увидел, насколько благоразумный брак помогает человеку, и тогда мне очень захотелось, чтобы мои сыновья женились как можно удачнее. Я тревожился за тебя, Лестер, тревожусь и по сей день. Твоя нынешняя связь доставила мне много тяжелых минут. И матери твоей она до самой смерти не давала покоя. Ничто другое так не огорчало ее. Не думаешь ли ты, что всему есть предел? Слухи достигли даже нашего города. Насчет Чикаго не знаю, но полагаю, что там это ни для кого не секрет. А это, безусловно, вредит интересам нашего чикагского отделения. И вредит тебе. Это тянется уже так долго, что сейчас вся твоя будущность поставлена под угрозу, а ты по-прежнему упорствуешь. Почему? — Вероятно, потому, что люблю ее, — ответил Лестер. — Не верю, чтобы ты сказал это серьезно, — возразил отец. — Если бы ты ее любил, ты бы с самого начала на ней женился. Не стал бы ты жить с женщиной годами, позоря ее и себя и только уверяя на словах, что любишь. Может быть, это страсть, но уж никак не любовь. — Откуда ты знаешь, что я не ней не женился? — невозмутимо спросил Лестер. Ему интересно было, как отец воспримет такую возможность. — Неправда! — Старик даже приподнялся с кресла. — Да, неправда, — сказал Лестер, — но может стать и правдой. Я, возможно, женюсь на ней. — Не верю! — вскричал отец. — Не поверю я, чтобы умный человек мог сделать такую глупость. Да где у тебя голова, Лестер? После стольких лет греховного сожительства ты еще говоришь о женитьбе! Да если это входило в твои планы, почему, скажи на милость, ты не женился на ней с самого начала? Опозорил родителей, матери разбил сердце, делу нанес ущерб, стал притчей во языцех, а теперь хочешь жениться? Не верю. Старый Арчибалд встал и выпрямился. — Не волнуйся, отец, — поспешил сказать Лестер. — Так мы ни до чего не договоримся. Я повторяю, что, может быть, женюсь на ней. Она неплохая женщина, и я очень тебя прошу: не говори о ней дурно. Ты ее никогда не видел и ничего о ней не знаешь. — Знаю вполне достаточно, — решительно возразил старик. — Я знаю, что ни одна порядочная женщина не поступила бы подобно ей. Да она, мой милый, за твоими деньгами охотится. Больше ей ничего не нужно — это всякий дурак поймет. — К чему такие слова, отец? — глухо проговорил Лестер. — Ты ее не знаешь, даже в лицо не видел. Луиза приехала и наболтала что-то сгоряча, а вы и поверили. Она вовсе не такая, как ты думаешь, и напрасно ты выражаешься о ней столь резко. Ты незаслуженно обижаешь женщину, не хочешь почему-то рассуждать по-хорошему. — По-хорошему! — перебил его Арчибалд. — А сам ты поступаешь по-хорошему? Хорошо это по отношению к твоей семье, к покойной матери, — подобрать женщину на улице и жить с ней? Хорошо это… — Довольно, отец! — воскликнул Лестер, подняв руку. — Предупреждаю тебя, я отказываюсь слушать такие вещи. Ты говоришь о женщине, с которой я живу, на которой, возможно, женюсь. Я тебя люблю, но не позволю тебе говорить неправду. Я не подобрал ее на улице. Ты прекрасно знаешь, что с такой женщиной я не стал бы иметь дело. Либо мы обсудим все спокойно, либо я здесь не останусь. Прости меня. Мне очень жаль. Но продолжать разговор в подобном тоне я отказываюсь. Старый Арчибалд утих. Несмотря ни на что, он уважал своего непокорного сына. Он откинулся на спинку кресла и опустил глаза. Как же ему теперь быть? — Ты живешь все там же? — спросил он наконец. — Нет, мы переехали в Хайд-Парк. Я снял там дом. — Я слышал, что есть ребенок. Это твой ребенок? — Нет. — А свои дети у тебя есть? — Нет. — И то слава богу. Лестер молча потер подбородок. — И ты утверждаешь, что женишься на ней? — Этого я не говорил. Я сказал, что, возможно, женюсь. — Возможно! — воскликнул старик, снова распаляясь гневом. — Какая трагедия! Это с твоим-то будущим, с твоими возможностями! Сам посуди, могу ли я доверить долю моего состояния человеку, которому наплевать на мнение света? Выходит, что и наша фирма, и семья, и твоя репутация — все это для тебя пустой звук? Где твоя гордость, Лестер? Нет, это какая-то невероятная, дикая фантазия! — Это очень трудно объяснить, отец, я просто не берусь объяснить. Я знаю одно — что я сам затеял эту историю и обязан довести ее до конца. Все может кончиться вполне благополучно. Может быть, я женюсь, может быть, нет. Сейчас я не могу сказать ничего определенного. Придется тебе подождать. А я сделаю, что могу. Старый Арчибалд укоризненно покачал головой. — Ты, я вижу, совсем запутался, Лестер. Дальше некуда. И, сколько я понимаю, ты намерен стоять на своем. Что бы я ни говорил, тебя, видно, ничем не проймешь. — Мне очень жаль, но сейчас это верно, отец. — Ну, так имей в виду, что если ты не проявишь должного уважения к семье и к самому себе как представителю нашей фирмы, я буду вынужден изменить свое завещание. Потворствуя твоим грязным интрижкам, я в конце концов сам становлюсь соучастником. Этого больше не будет. Расставайся с ней или женись на ней. Но то или другое ты обязан сделать. В первом случае все будет хорошо. Ты можешь прекрасно обеспечить ее — пожалуйста, я не возражаю. Я с радостью дам на это денег, сколько бы ты ни попросил. И ты получишь свою долю наследства наравне с другими детьми, как это всегда и предполагалось. Но если ты женишься — тогда дело другое. Выбирай. И не пеняй на меня. Я тебя люблю. Я тебе отец. Я поступаю так, как мне подсказывает чувство долга. Обдумай все это и дай мне знать о твоем решении. Лестер вздохнул. Он понимал, что спорить бесполезно. Отец, видимо, не шутит, но как бросить Дженни? Он никогда не простил бы себе такой подлости. Да полно, неужели отец действительно лишит его наследства? Нет, конечно. Старик его любит, несмотря ни на что, это сразу видно. Лестер был смущен и расстроен, он не терпел принуждения. Подумать только, его, Лестера Кейна, толкают на такую низость — бросить Дженни! Он опустил голову и мрачно молчал. Старый Арчибалд понял, что стрела его попала в цель. Что ж, — сказал наконец Лестер, — сейчас нам больше не о чем говорить, все как будто ясно. Я не знаю, как поступлю. Нужно подумать. Сразу я не могу ничего решить. Они посмотрели друг на друга, Лестеру было жаль, что мнение света против него и что отец так тяжело это переживает. Старику было жаль сына, но он твердо решил вести свою линию до конца. Он не был уверен, что ему удалось образумить Лестера, но не терял надежды. Может быть, сын еще одумается. — До свидания, отец, — сказал Лестер, протягивая руку. — Я, кажется, поспею на двухчасовой поезд. Больше я тебе ни за чем не нужен? — Нет. После ухода Лестера, старик долго сидел задумавшись. Так загубить свою карьеру! Отказаться от таких возможностей! Проявить такое слепое упорство в грехах и заблуждениях! Он покачал головой. Нет, Роберт умнее. Тот действительно способен возглавить крупное предприятие. Он осторожен, благоразумен. Ах, если бы Лестер обладал этими достоинствами! Старик сидел не шевелясь и все думал, думал, втайне чувствуя, что блудный сын по-прежнему занимает первое место в его сердце.Глава 40
Лестер возвратился в Чикаго. Он отдавал себе отчет в том, что серьезно оскорбил отца. Никогда еще старый Арчибалд не говорил с ним так гневно. Но и сейчас Лестер не был убежден, что дело непоправимо; мысль, что он может сохранить любовь и доверие отца, только если решится на что-нибудь определенное, просто не укладывалась у него в голове. Что касается «мнения света», — да пусть люди болтают что угодно и сколько угодно. Он сумеет обойтись и без них. А впрочем, так ли это? Всякая слабость, даже призрак слабости, отпугивает людей. Они бессознательно сторонятся неудачников, избегают их, словно опасаясь заразы. Лестеру предстояло на себе убедиться в силе этого предрассудка. Однажды он встретил Берри Доджа, миллионера и главу фирмы «Додж, Холбрук и Кингсбери», которая занимала в текстильной промышленности такое же место, как «Компания Кейн» — в производстве экипажей. Лестер считал Доджа одним из лучших своих друзей, был с ним так же близок, как с Генри Брейсбриджем из Кливленда или Джорджем Ноулзом из Цинциннати. Он бывал в его прекрасном доме на набережной, и они постоянно встречались то по делам, то на светских приемах. Но с переездом Лестера в Хайд-Парк дружба ихсошла на нет. И вот теперь они встретились на Мичиган-авеню, возле отделения фирмы Кейн. — А, Лестер, давно не видались, — сказал Додж, вежливо протягивая руку. Тон его показался Лестеру холоднее обычного. — Ты, я слышал, за это время женился. — Ничего подобного, — возразил Лестер тоном человека, который хочет, чтобы слова его были поняты в общепринятом смысле. — Зачем же делать из этого тайну? — продолжал Додж и хотел улыбнуться, но только скривил губы. Он очень старался сохранить дружеский тон и с честью выйти из щекотливого положения. — Обычно мы таких вещей не скрываем. С близкими-то друзьями можно было поделиться! — Ну, а я, — сказал Лестер, чувствуя, как в него впивается отравленный клинок, — решил отступить от этого правила. Я не считаю, что такие события следует рекламировать. — Дело вкуса, дело вкуса, — рассеянно проговорил Додж. — Ты, конечно, живешь в городе? — В Хайд-Парке. — Хороший пригород. Ну, а вообще как дела? И он ловко переменил тему разговора, а вскоре и распрощался, небрежно помахав Лестеру рукой. Лестера как ножом резанула мысль, что если бы Додж действительно считал его женатым человеком, он неминуемо засыпал бы его вопросами. Как близкий друг, он захотел бы многое узнать о новой миссис Кейн. Завязался бы легкий разговор, обычный между людьми одного круга. Додж пригласил бы его в гости с женой, пообещал бы сам заехать к ним. А тут — ничего, ни слова! Лестер понял, что это неспроста. Так же вели себя супруги Мур, Олдричи и ряд других знакомых. Все они как будто считали, что он женат и остепенился. Они спрашивали, где он живет, шутили над его скрытностью, но упорно не проявляли любопытства по поводу предполагаемой миссис Кейн. Лестер начинал убеждаться, что взятая им линия не сулит ничего хорошего. Один из самых чувствительных ударов нанес ему непреднамеренно, а потому особенно жестоко, его старый знакомый Уильям Уитни. Однажды вечером Лестер приехал к себе в клуб обедать; сняв пальто, он направился к табачному киоску купить сигару и тут, в читальне, столкнулся с Уитни. Тот был типичный клубный завсегдатай — высокий, худощавый, гладко выбритый, безукоризненно одетый, немного циник, а в этот вечер к тому же порядком навеселе. — Ого, Лестер! — окликнул он. — Что это за гнездышко ты свил себе в Хайд-Парке? Времени, видно, не теряешь? А как ты объяснишь все это невесте, когда надумаешь жениться? — Ничего я не обязан объяснять, — раздраженно отвечал Лестер. — И почему тебя так интересуют мои дела? Ты, насколько я знаю, и сам не святой. — Ха-ха-ха! Это хорошо, честное слово, хорошо! Ты часом не женился ли на той красотке, с которой разъезжал по Северной стороне, а? Ха-ха! Ну и дела! Женился! А может быть, люди все врут? — Замолчи, Уитни, — оборвал его Лестер. — Говоришь какую-то чушь. — Виноват, — сказал Уитни развязно, но уже начиная трезветь. — Прошу прощения. Ты не забудь, я ведь чуточку пьян. Восемь порций виски, чистого, — только что пропустил в буфете. Виноват. Мы с тобой поговорим, когда я буду в форме, верно, Лестер, а? Ха-ха-ха, я и правда немного пьян! Ну всего наилучшего! Ха-ха-ха! Этот безобразный смех долго стоял в ушах у Лестера. Он прозвучал как оскорбление, хотя Уитни и был пьян. «Красотка, с которой ты разъезжал по Северной стороне. Ты часом не женился на ней?» Лестер с возмущением вспоминал наглую выходку Уитни. Черт, это уже слишком! Чтобы ему, Лестеру Кейну, говорили такие вещи… Он задумался. Да, дорогой ценой он расплачивается за свое решение поступить с Дженни, как подобает порядочному человеку.Глава 41
Но это было не самое худшее. Американская публика любит посудачить о сильных мира сего, а Кейны были богаты и у всех на виду. И вот распространился слух, что Лестер, один из прямых наследников главы фирмы, женился на служанке. Это он-то, сын миллионера! Возможно ли? Вот поистине лакомый кусочек для репортеров. И газеты не замедлили подхватить пикантный слух. Светский листок «Новости Южной стороны», не называя Лестера, писал о «сыне видного богатого фабриканта экипажей из Цинциннати» и вкратце излагал его роман, добавляя в заключение: «О миссис К. известно лишь то, что раньше она служила горничной в одном почтенном семействе в Кливленде, а до этого работала в Колумбусе, штат Огайо. Кто осмелится утверждать, что романтика умерла, когда в высшем обществе еще бывают столь красочные любовные истории!» Лестер прочел эту заметку. Сам он не выписывал «Новости», но какая-то добрая душа позаботилась о нем, и он получил по почте экземпляр, в котором нужный столбец был отчеркнут красным карандашом. Лестер рассердился, сразу заподозрив, что его собираются шантажировать, но не знал, как поступить. Ему, конечно, хотелось положить конец этой газетной болтовне, но он подумал, что протест с его стороны может только ухудшить дело. И он ничего не предпринял. Заметка в «Новостях», как и следовало ожидать, привлекла внимание других газет. Это был богатый материал, и некий предприимчивый редактор воскресной газеты решил выжать из него все, что возможно. Разогнать эту романтическую историю на целую полосу под кричащей шапкой вроде «Пожертвовал миллионами ради любви к служанке», дать снимки — Лестер, Дженни, дом в Хайд-Парке, фабрика Кейнов в Цинциннати, склады на Мичиган-авеню, — и сенсация обеспечена. «Компания Кейн» не помещала рекламы в прессе. Газетка ничем не была ей обязана. Будь Лестер предупрежден, он мог бы пресечь эту затею, послав в газету объявление или обратившись к издателю. Но он ничего не знал и потому бездействовал. А редактор постарался на совесть. Корреспондентам в Цинциннати, Кливленде, Колумбусе было предложено сообщить по телеграфу, известна ли история Дженни в этих городах. В Кливленде обратились к Бейсбриджам, чтобы узнать, работала ли Дженни у них в доме. Из Колумбуса поступили сильно искаженные слухи о семье Герхардт. Выяснилось, что именно на Северной стороне Дженни проживала несколько лет до своего предполагаемого замужества. Так по кусочкам был восстановлен весь роман. У редактора и в мыслях не было бичевать или возмущаться, скорее он воображал, что оказывает любезность. Были опущены все неприятные детали — то, что Веста, по всей вероятности, внебрачный ребенок, что, видимо, Лестер и Дженни долго состояли в незаконном сожительстве, что для всем известного недовольства семьи Лестера по поводу его брака имеются веские основания. Редактор сочинил своего рода историю про Ромео и Джульетту, в которой Лестер фигурировал как пылкий, самоотверженный любовник, а Дженни — как бедная, но очаровательная девушка из народа, которую преданная любовь миллионера вознесла к богатству и знатности. Художник газеты иллюстрировал последовательные стадии романа. Портрет Лестера раздобыли за приличную мзду у фотографа в Цинциннати, а Дженни фоторепортер незаметно снял на прогулке. Словом, все было проделано по испытанным рецептам бульварной прессы. И вот газета вышла в свет — сплошная лесть и сладкие слова, но между строк угадывалась вся печальная, мрачная подоплека. Дженни узнала об этом не сразу. Лестер, случайно наткнувшись на роковую страницу, поспешил ее выдрать. Он был безмерно удивлен и расстроен. Подумать только, что какая-то чертова газетка может так поступить с частным лицом, с человеком, который жил спокойно, никому не мешая. Чтобы не выдать горького чувства обиды, он ушел из дому. Путь его лежал не к оживленному центру города, а прочь от него, по Коттедж-Гроув-авеню, в открытую прерию. Покачиваясь на сиденье трамвая, он старался представить себе, что думают сейчас его бывшие друзья — Додж, Бэрнхем Мур, Генри Олдрич. Да, это настоящий удар. Что делать? Стиснуть зубы и молчать или равнодушно отмахнуться от этой новой заботы? Однако ему было ясно: больше он такого не потерпит. Домой он вернулся в более спокойном состоянии и стал с нетерпением ждать понедельника, чтобы повидаться со своим поверенным, мистером Уотсоном. Впрочем, когда они встретились, оба быстро пришли к решению, что подавать в суд было бы не разумно. Лучше промолчать. — Но больше это не должно повториться, — закончил Лестер. — Об этом я позабочусь, — успокоил его поверенный. Лестер поднялся. — Черт его знает, в какой стране мы живем! — воскликнул он. — Если человек богат, ему никуда не скрыться, точно он памятник на городской площади! — Если человек богат, — сказал мистер Уотсон, — он напоминает кота с бубенчиком на шее. Каждая мышь в точности знает, где он и что делает. — Да, сравнение подходящее, — проворчал Лестер. Дженни еще несколько дней оставалась в неведении. Лестер умышленно не касался больного вопроса, а Герхардт не читал греховных воскресных газет. Но потом одна из соседок просветила Дженни, бестактно упомянув в разговоре, что прочла о ней интереснейшую историю. Дженни сперва не поняла. — Обо мне? — воскликнула она удивленно. — Да, да, о вас и о мистере Кейне, — ответила гостья. — Весь ваш роман. Дженни вспыхнула. — Я ничего не знаю, сказала она. — А вы уверены, что это про нас? — Еще бы! — рассмеялась миссис Стендл. — Ошибиться я никак не могла. И газета у меня сохранилась. Я, если хотите, пришлю вам ее с дочкой. Вы прелестно вышли на снимке. Дженни вся сжалась. — Я буду вам очень благодарна, — пролепетала она. Ее мучила мысль, где могли достать ее карточку и что написано в газете. А главное — что скажет Лестер? Видел ли он заметку? Почему он ничего ей не сказал? Дочь соседки принесла газету, и у Дженни сердце замерло, когда она взглянула на роковую страницу. Вот оно — черным по белому. Слева портрет Лестера, справа портрет Дженни, а посередине заголовок крупными буквами и стрелки: «Вот этот миллионер увлекся вот этой горничной». В тексте объяснялось, что Лестер, сын известного фабриканта экипажей из Цинциннати, пожертвовал завидным общественным положением, чтобы жениться на любимой женщине. Дальше следовали рисунки, Лестер беседует с Дженни в особняке миссис Брейсбридж, Лестер стоит с ней рядом перед почтенным, строгого вида пастором, Лестер едет с нею в роскошной коляске, Дженни, стоя у окна богато обставленной залы (о богатстве свидетельствуют тяжелые складки гардин), смотрит на чуть видный в отдалении смиренный домик. Дженни почувствовала, что готова сквозь землю провалиться от стыда. Она страдала не столько за себя, сколько за Лестера. Что он должен был пережить? А его родные? Теперь у них в руках есть новое оружие против нее и Лестера. Она старалась успокоиться, совладать со своими чувствами, но слезы снова и снова навертывались ей на глаза. То были слезы негодования. Зачем ее преследуют, травят? Неужели не могут оставить ее в покое? Она так старается поступать хорошо. Разве люди не могли бы помочь ей, вместо того чтобы толкать ее в пропасть?..Глава 42
В тот же вечер Дженни убедилась, что Лестеру давно все известно: он сам принес домой злосчастную газету, решив, по зрелом размышлении, что обязан это сделать. В свое время он сказал Дженни, что между ними не должно быть секретов, и теперь не считал себя вправе утаить от нее то, что так неожиданно и грубо нарушило их покой. Он скажет ей, чтобы она не тревожилась, что это не имеет значения, но для него-то это имело огромное значение. Мерзкая газетка нанесла ему непоправимый вред. Мало-мальски сообразительные люди — а в число их входят все его знакомые и множество незнакомых — поймут теперь, как он жил все эти годы. В газете рассказывалось, что он последовал за Дженни из Кливленда в Чикаго, что она держалась стыдливо и непреступно и он ухаживал за ней, прежде чем она уступила. Это должно было объяснить их совместную жизнь на Северной стороне. Идиотская эта попытка приукрасить истинную историю их отношений бесила Лестера, хоть он и понимал, что это все же лучше каких-либо наглых выпадов. Войдя в гостиную, он достал газету из кармана и развернул ее на столе. Дженни, знавшая, что сейчас последует, стояла подле него и внимательно следила за его движениями. — Тут есть кое-что интересное для тебя, — сказал он сухо, указывая на иллюстрированную страницу. — Я уже видела, Лестер, — ответила она устало. — Как раз сегодня миссис Стендл показала мне этот номер. Я только не знала, как ты — видел или нет. — Ну и расписали меня, нечего сказать. Я и не подозревал, что могу быть таким пылким Ромео. — Мне ужасно жаль, Лестер, — сказала Дженни, угадывая за невеселой шуткой его тяжелое настроение. Она давно знала, что Лестер не любит и не умеет говорить о своих подлинных чувствах и серьезных заботах. Сталкиваясь с неизбежным, неотвратимым, он предпочитал отделываться шутками. И сейчас его слова означали: «Раз делу все равно не помочь, не будем расстраиваться». — Я вовсе не считаю это трагедией, — продолжал он. — А предпринять тут ничего нельзя. У них, вероятно, были самые лучшие намерения. Просто мы сейчас очень на виду. — Я понимаю, — сказала Дженни, подходя к нему. — И все-таки мне очень жаль. Тут их позвали обедать, и разговор прервался. Однако Лестер не мог скрыть от себя, что дела его плохи. Отец достаточно ясно дал ему понять это во время последней беседы, а теперь, в довершение всего, ими занялась пресса! Нечего больше притворяться, будто он по-прежнему близок с людьми своего круга. Они знать его не хотят, во всяком случае, те из них, которые придерживаются более или менее строгих взглядов. Есть, конечно, и веселые холостяки, и женатые прожигатели жизни и искушенные женщины — замужние и одинокие, — которые, зная правду, продолжают хорошо к нему относится; но не эти люди составляют его «общество». По существу, он оказался на положении изгоя, и ничто не может спасти его, кроме решительного отказа от теперешнего образа жизни; другими словами, ему следует порвать с Дженни. Но он не хотел с ней порывать. Одна мысль об этом была ему глубоко противна. Дженни неустанно расширяла свой кругозор. Она теперь многое понимала не хуже самого Лестера. Дженни не какая-нибудь честолюбивая карьеристка. Она незаурядная женщина и добрая душа. Бросить ее было бы подло, а кроме того, она очень хороша собой. Ему сорок шесть лет, ей — двадцать девять, а на вид не больше двадцати пяти. Редкое счастье, если в женщине, с которой живешь, находишь молодость, красоту, ум, покладистый характер и собственные свои взгляды, только в более мягкой и эмоциональной форме. Отец был прав: он сам устроил свою жизнь, сам и проживет ее как умеет. Довольно скоро после неприятного случая с газетой Лестер узнал, что отец тяжело болен, и с минуты на минуту стал ждать вызова в Цинциннати. Однако дела удержали его в конторе, и он еще был в Чикаго, когда пришло известие о смерти отца. Лестер, потрясенный, поспешил в Цинциннати. Образ отца неотступно стоял у него перед глазами. Независимо от их личных отношений отец всегда был для него большим человеком — интересным и значительным. Он вспоминал, как в детстве отец сажал его к себе на колени, как рассказывал ему о своей юности, проведенной в Ирландии, и о своих усилиях выбиться в люди, а после внушал ему деловые принципы, которые сложились у него на основании собственного опыта. Старый Арчибалд был правдив и честен. Подобно ему и Лестер не терпел уверток и обиняков. «Никогда не лги, — неустанно твердил Арчибалд. — Никогда не пытайся представлять факты не такими, какими сам их видишь. Правдивость — это дыхание жизни, это основа всяческого достоинства, и в деловой сфере она обеспечивает доброе имя каждому, кто крепко ее придерживается». Лестер верил в этот принцип. Он всегда восхищался воинственной прямолинейностью отца и теперь скорбел о своей утрате. Он жалел, что отец не дожил до примирения с ним. Ему уже начинало казаться, что если бы старик увидел Дженни, она бы ему понравилась. Он не представлял себе, как именно все могло бы уладиться, — он просто чувствовал, что Дженни пришлась бы старику по душе. Когда он приехал в Цинциннати, мел сильный снег. Ветер бросал в лицо колючие хлопья. Снег приглушал привычный шум улицы. На вокзале Лестера встретила Эми. Она обрадовалась ему, несмотря на их размолвки в прошлом. Из всех сестер она была наиболее терпимой. Лестер обнял ее и поцеловал. — Какая ты умница, что встретила меня, Эми, — сказал он. — Словно прежние времена вернулись. Ну, как наши? Вероятно, все съехались. Бедный папа, настал и его час. Но он прожил долгую, деятельную жизнь. Наверно, он был доволен тем, что успел столько сделать. — Да, — сказала Эми, — но после маминой смерти он очень тосковал. Они ехали с вокзала, дружески беседуя и вспоминая прошлое. В старом доме уже собрались все родственники — близкие и дальние. Лестер обменялся с ними обычными выражениями соболезнования, но сам все время думал о том, что отец его прожил долгий век. Он достиг своей цели и умер — подобно тому как яблоко, созрев, падает на землю. Вид отца, лежавшего в черном гробу посреди огромной гостиной, вызвал у Лестера давно забытое чувство детской любви. Он даже улыбнулся, глядя на решительное, с резкими чертами лицо, еловые выражавшее сознание исполненного долга. — Хороший был человек, — сказал он Роберту, стоявшему рядом с ним. — Такого не часто встретишь. — Ты прав, — торжественно подтвердил Роберт. После похорон было решено прочесть завещание, не откладывая. Муж Луизы торопился домой, в Буффало, Лестер — в Чикаго. И на второй день родственники собрались в юридической конторе «Найт, Китли и О'Брайн», ведавшей делами старого Кейна. Лестер ехал на это собрание с уверенностью, что отец не мог обойти его в своем завещании. Их последний разговор состоялся совсем недавно; он сказал отцу, что ему нужен срок, чтобы все как следует обдумать, и отец дал ему этот срок. Отец всегда любил его и одобрял во всем, кроме связи с Дженни. Деловая сметка Лестера принесла немалую пользу фирме. Он определенно чувствовал, что у отца не было оснований обойтись с ним хуже, чем с другими детьми. Мистер О'Брайн — толстенький, суетливый человечек — сердечно пожимал руки всем наследникам и правопреемникам, которые прибывали к нему в контору. Он двадцать лет был личным поверенным Арчибалда Кейна. Он знал все его симпатии и антипатии, все его причуды и считал себя по отношению к нему чем-то вроде исповедника. И он любил его детей, особенно Лестера. — Ну вот, кажется, все в сборе, — сказал он, доставая из кармана большие очки в роговой оправе и озабоченно оглядывая присутствующих. — Очень хорошо. Можно приступить к делу. Я прочту вам завещание без каких бы то ни было вступлений и предисловий. Он взял со стола большой лист бумаги, откашлялся и стал читать. Документ был составлен не совсем обычно; сначала перечислялись мелкие суммы, отказанные старым служащим, домашней прислуге и друзьям; затем — посмертные дары различным учреждениям и, наконец, — наследство, оставленное ближайшим родственникам, начиная с дочерей. Имоджин, как любящей и преданной дочери, была завещана шестая часть капитала, вложенного в фабрику, и шестая часть остального имущества покойного, составляющая около восьми тысяч долларов. Ровно столько же получили Эми и Луиза. Внукам по достижении совершеннолетия причитались небольшие награды за хорошее поведение. Далее речь шла о Роберте и Лестере.«Ввиду некоторых осложнений, обнаружившихся в делах моего сына Лестера, я полагаю своим долгом дать особые указания, коими следует руководствоваться при распределении остального моего имущества, а именно: одну четвертую часть капитала «Промышленной компании Кейн» и одну четвертую часть прочего моего имущества, движимого и недвижимого, в наличности, акциях и ценных бумагах, я завещаю моему возлюбленному сыну Роберту в награду за неуклонное выполнение им своего долга, а одной четвертой частью капитала «Промышленной компании Кейн» и одной четвертой частью прочего моего имущества, движимого и недвижимого, в наличности, акциях и ценных бумагах, я завещаю ему управлять в пользу брата его Лестера до того времени, когда будут выполнены поименованные ниже условия. И я желаю и требую, чтобы все мои дети содействовали ему в управлении «Промышленной компанией Кейн» и другими вверенными ему капиталами до тех пор, пока он сам не пожелает сложить с себя таковое управление или не укажет другой, лучший способ осуществления его».Лестер негромко чертыхнулся. Краска сбежала с его лица, но он не пошевелился — не устраивать же сцену. Выходило, что он даже не упомянут отдельно в завещании! «Поименованные ниже» условия не были прочитаны всем собравшимся, что, по словам мистера О'Брайна, соответствовало воле покойного. Однако Лестеру и остальным детям он дал их прочесть в тот же день. Лестер узнал, что будет получать десять тысяч в год в течение трех лет, за каковой срок он должен сделать следующий выбор: либо он расстанется с Дженни, если еще не женился на ней, и тем приведет свою жизнь в соответствие с желанием отца. В этом случае Лестеру будет передана его доля наследства. Либо он женится на Дженни, если еще не сделал этого, и тогда будет получать свои десять тысяч в год пожизненно. Но после его смерти Дженни все равно не получит ни цента. Упомянутые десять тысяч представляли собой годовой доход с двухсот акций, которые тоже вверялись Роберту до того времени, как Лестер примет окончательное решение. Если же Лестер не женится на Дженни, но и не расстанется с ней, он по истечении трех лет перестанет получать что бы то ни было. По его смерти акции, с которых он получал доход, распределяются поровну между теми из братьев и сестер, которые к тому времени будут в живых. Любой наследник или правопреемник, оспаривающий завещание, тем самым лишается права на свою долю наследства. Лестера поразило, как подробно отец предусмотрел все возможности. При чтении заключительных условий у него даже мелькнуло подозрение, не участвовал ли в их формулировке Роберт; но, разумеется, он не мог утверждать этого с уверенностью. Роберт никогда не проявлял к нему враждебных чувств. — Кто составлял это завещание? — спросил он О'Брайна. — Да мы все понемножку старались, — ответил тот несколько смущенно. — Это было нелегким делом. Вы же знаете, мистер Кейн, вашего батюшку трудно было в чем-нибудь переубедить. Кремень был, а не человек. В некоторых из этих пунктов он чуть ли не против себя самого шел. За дух завещания мы, конечно, не несем ответственности. Это уже касается только вас и вашего отца. Мне было очень тяжело выполнять его указания. — Я вас вполне понимаю, — сказал Лестер. — Пожалуйста, не беспокойтесь. Мистер О'Брайн выразил свою глубокую признательность. Лестер, все время сидевший неподвижно, словно врос в кресло, теперь поднялся вместе с другими и принял равнодушный вид. Роберт, Эми, Луиза, Имоджин — все были поражены, но нельзя сказать, чтобы им было жаль Лестера. Как-никак, он вел себя очень дурно. Он дал отцу достаточно поводов для недовольства. — Старик-то, пожалуй, хватил через край, — сказал Роберт, сидевший рядом с Лестером. — Я никак не ожидал, что он зайдет так далеко. По-моему, можно было устроить все и по-другому. — Неважно, — буркнул Лестер, мрачно усмехнувшись. Сестрам хотелось его утешить, но они не знали, что сказать. Ведь в конце концов Лестер сам виноват. — Мне кажется, папа поступил не совсем правильно… — начала было Эми, но Лестер резке оборвал ее: — Как-нибудь переживу. Он наскоро подсчитал в уме, каковы будут его доходы, если он не выполнит воли отца. Его двести акций дают от пяти до шести процентов дохода. Да, больше десяти тысяч в год не получится. Родственники разъехались по домам; Лестер заехал к сестре, но, торопясь выбраться из родного города, отказался от приглашений к завтраку, сославшись на неотложные дела, и ближайшим поездом уехал в Чикаго. Всю дорогу мысли не давали ему покоя. Так вот, значит, как мало любил его отец! Возможно ли? Ему, Лестеру Кейну, бросили десять тысяч, да и то всего на три года, а дальше он будет получать их, только если женится на Дженни. «Десять тысяч в год, — думал он, — и то всего на три года! О господи, да столько всякий приличный конторщик может заработать. И подумать, что родной отец так поступил со мной!»
Глава 43
Ничего не могло так сильно восстановить Лестера против его родных, как эта попытка к принуждение. За последнее время ему стало ясно, что он совершил две серьезнейшие ошибки, сначала — не женившись на Дженни, что избавило бы его от толков и пересудов; а затем — не согласившись отпустить ее, когда она сама пыталась от него уйти. Да, что и говорить, он безнадежно запутался. Он не может пойти на то, чтобы потерять все свое состояние. Собственных денег у него совсем мало. Дженни несчастна, это сразу видно. Впрочем, иначе и быть не может, потому что и сам он несчастен. Готов ли он помириться на каких-то десяти тысячах в год, даже если женится на Дженни? Согласен ли он потерять Дженни, допустить, чтобы она навсегда ушла из его жизни? Проблема была слишком сложной. Он не мог склониться ни в ту, ни в другую сторону. Когда Лестер возвратился с похорон, Дженни сразу заметила, что его гнетет не только естественная печаль по умершем отце. Что же еще могло случиться? Она пыталась выразить ему свое сочувствие, но залечить его рану было не так-то легко. Когда бывала оскорблена его гордость, Лестер злобно замыкался в себе, а рассердившись, способен был ударить человека. Дженни присматривалась к нему, всей душой желая помочь, но он не делился с ней своим горем. Он страдал, и ей оставалось лишь страдать вместе с ним. Дни бежали за днями, и настало время, когда Лестеру пришлось серьезно подумать о своем финансовом положении в связи с предсмертной волей старого Арчибалда. Управление фабрикой будет реорганизовано. Роберт, согласно желанию отца, станет президентом компании. Возникнет вопрос об уточнении роли и участии в деле самого Лестера. Если он не изменит своих отношений с Дженни, он даже не может быть акционером; точнее говоря, он вообще ничто. Чтобы занимать и впредь должность секретаря и казначея, он должен иметь хотя бы одну акцию компании. Захочет ли Роберт или кто-нибудь из сестер уступить ему часть своих акций? Согласятся ли они, на худой конец, продать ему эти акции? Или родные не предпримут никаких шагов в ущерб новым прерогативам Роберта? Все они сейчас настроены по отношению к Лестеру скорее враждебно. Да, единственный выход их этого запутанного положения — бросить Дженни. Если он ее бросит, не придется выпрашивать акций. Если нет, это будет нарушением последней воли отца, и тогда он должен быть готов к любым последствиям. Снова и снова он взвешивал противоречивые доводы, и картина становилась все яснее. Он должен отказаться либо от Дженни, либо от своего будущего. Роберт, хоть и утверждал, что все можно было бы устроить но-другому, был вполне доволен тем, как сложились обстоятельства. Его планы близились к осуществлению, а он уже давно и подробно разрабатывал их, задумав не только реорганизовать отцовское дело, но и расширить его путем слияния с другими компаниями по производству экипажей. Такое объединение с двумя крупными предприятиями на западе и на востоке страны позволило бы снизить продажные цены, избежать перепроизводства и значительно сократить общие расходы. Через своего представителя в Нью-Йорке Роберт уже приобрел некоторое количество акций других компаний и теперь был почти готов действовать. Прежде всего нужно было, чтобы его избрали президентом компании Кейн; после этого, поскольку с Лестером можно было не считаться, он собирался предоставить пост вице-президента мужу Эми и, возможно, заменить Лестера кем-нибудь другим на должности секретаря и казначея. По условиям завещания в обязанности Роберта входило управление долей наследства, выделенной Лестеру, в надежде, что он образумится. Видимо, отец рассчитывал, что Роберт поможет ему воздействовать на брата. Роберту несколько претила такая некрасивая роль, но самая задача не представляла трудностей. В некоторых отношениях это был даже почетный долг. Лестер должен был либо образумиться, либо предоставить старшему брату руководить фирмой по своему усмотрению. Выполняя свои обязанности по чикагскому филиалу, Лестер уже чувствовал новые веяния. Он видел, что оказался за бортом, что он всего лишь заведующий отделением на службе у собственного брата, и это сознание бесило его. Роберт ни словом не упоминал о какие-либо переменах; все, казалось, шло по-прежнему; но было ясно, что теперь каждое слово Роберта — приказ. По существу, Лестер служил у брата и получал от него жалованье. Это было унизительно и противно. Через несколько недель он почувствовал, что больше не выдержит, ведь до сих пор он действовал вполне самостоятельно. Приближался день ежегодного собрания акционеров, ранее бывшего не более как формальностью, поскольку отец вершил все дела единолично. Теперь председательствовать будет Роберт, сестер, по всей вероятности, будут представлять их мужья, а сам он даже не сможет присутствовать. Поскольку Роберт не предложил передать или продать ему акции, которые дали бы ему право стать членом правления и занять какой-нибудь ответственный пост, он решил, как ни тяжело это было для его самолюбия, послать брату прошение об отставке. Это разрядит атмосферу. Роберт поймет, что он, Лестер, не желает принимать от него одолжений и согласен пользоваться только тем, что заработает благодаря своим способностям и с полного согласия родных. А если он все же бросит Дженни и вернется к участию в делах, то уже отнюдь не в качестве заведующего филиалом. И он продиктовал простое, откровенное деловое письмо:«Дорогой Роберт! Я знаю, что в ближайшее время компания будет реорганизована под твоим руководством. Поскольку у меня нет акций, я не имею права ни состоять членом правления, ни занимать должность секретаря и казначея. Считай, пожалуйста, это письмо официальным заявлением о моем уходе с обеих этих должностей, и пусть правление обсудит вопрос как о замещении этих должностей, так и о дальнейшем использовании моих услуг. Местом заведующего филиалом как таковым я особенно не дорожу, но я ни в коем случае не хочу нарушать твои планы. Из всего сказанного тебе должно быть ясно, что я пока не собираюсь выполнять условие, оговоренное в завещании отца. Мне хотелось бы точно знать, как ты смотришь на это дело. Буду ждать от тебя ответа»В своей конторе в Цинциннати Роберт тщательно обдумал это письмо. Итак, Лестер требует полной ясности, это на него похоже. При его прямоте да побольше бы осмотрительности — замечательный был бы человек! Но в нем нет коварства, нет тонкости. Он никогда не пойдет на обман, а Роберт в глубине души считал, что без этого не достичь настоящего успеха. «Иной раз необходима и изворотливость и жестокость, — думал он часто. — Почему не признаться в этом самому себе, когда делаешь крупную ставку?» И он придерживался этого правила довольно твердо. Сейчас Роберт чувствовал, что хотя Лестер — превосходный малый и к тому же его брат, ему не хватает известной гибкости. Он слишком прямолинеен, слишком любит спорить. Если Лестер подчинится желанию отца и получит свою долю наследства, он неизбежно станет активным участником в управлении фирмой. Он свяжет руки старшему брату. Хотелось ли этого Роберту? Безусловно, нет. Его гораздо больше устраивало, чтобы Лестер, во всяком случае, на ближайшее время, остался с Дженни и таким образом сам отстранился от дел. Обдумав все как следует, Роберт продиктовал вежливое письмо. Он еще не уверен, как лучше поступить. Он не знает, какого мнения держатся зятья. Надо будет с ними посоветоваться. Лично он очень хотел бы сохранить Лестера в должности секретаря и казначея, если только это удастся устроить. Не лучше ли повременить с окончательным решением? Лестер выругался. Какого черта Роберт виляет и тянет? Он-то прекрасно знает, как это можно устроить. Дать Лестеру еще одну акцию — и он будет полноправным пайщиком. Роберт его боится, вот где собака зарыта. Ну что ж, на роли заведующего филиалом он не останется, будьте спокойны. Он немедленно подаст в отставку. И Лестер написал Роберту, что все обдумал и решил попытать счастья на деловом поприще самостоятельно. Пусть Роберт направит в Чикаго кого-нибудь, кому он мог бы сдать дела. Он готов ждать месяц, но не больше. Через несколько дней пришел ответ. Роберт писал, что чрезвычайно сожалеет, но если таково решение Лестера, он со своей стороны не хочет мешать ему в осуществлении его новых планов. Муж Имоджин, Джефферсон Миджли, давно выражал желание перебраться в Чикаго. На первое время заведование филиалом можно передать ему. Лестер улыбнулся. Роберт, очевидно, пытается извлечь пользу из создавшихся осложнений. Роберт знает, что он, Лестер, может подать в суд и оспорить назначение зятя, но знает и то, что Лестеру меньше всего этого хочется. Вся история попадет в газеты. Снова пойдут затихшие было разговоры о его отношениях с Дженни. Лучшим выходом было бы расстаться с ней. Так все опять извращалось к исходной точке.Твой Лестер.
Глава 44
Лестеру исполнилось сорок шесть лет. В таком возрасте оказаться совсем одному, без друзей и деловых связей, было тоскливо и страшновато, даже при наличии пятнадцати тысяч годового дохода (включая десять по отцовскому завещанию). Он понимал, что, если в ближайшем будущем он не нападет на какую-нибудь золотую жилу, его карьера кончена. Разумеется, можно жениться на Дженни. Это обеспечило бы ему десять тысяч дохода до конца его дней, но также лишило бы последнего шанса получить свою долю капитала компании Кейн. С другой стороны, он мог продать свои акции — их было у него на семьдесят пять тысяч: с них-то он и получал около пяти тысяч долларов процентами — и вложить деньги в какое-нибудь предприятие, например в другую фирму по производству экипажей. Но хочется ли ему вступать в конкуренцию со старой отцовской фирмой? К тому же это было бы очень нелегко. Конкуренция и так обострялась день ото дня, причем компания Кейн упорно удерживала первое место. Весь капитал Лестера составлял семьдесят пять тысяч долларов. Есть ли смысл вступать в бой с такими ничтожными средствами? При нынешней конъюнктуре, чтобы закрепиться в этой отрасли производства, нужны большие деньги. Лестер, наделенный богатым воображением и недюжинным умом, на свое горе, не обладал тупой, самодовольной уверенностью в собственном превосходстве, столь необходимой для достижения серьезных успехов в коммерческих делах. Занять видное место в деловом мире обычно удается лишь человеку одной идеи, твердо убежденному, что само провидение уготовило ему блестящую карьеру на том или ином избранном им поприще. Новый сорт мыла, или нож для открывания консервных банок, или безопасная бритва, или переключатель скоростей — что-то одно безраздельно захватывает воображение человека, жжет, как раскаленный уголь, и до краев заполняет его существование. Чтобы так гореть, нужна бедность и молодость. Предмет, которому человек решил посвятить свою жизнь, должен открывать ему путь к несчетным возможностям и несчетным радостям. И целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть достаточно ярко, движущая сила не будет достаточно мощной — и успех не будет полным. Но Лестер не был способен на такое горение. Он уже изведал большую часть так называемых радостей жизни. Иллюзии, столь часто и громко именуемые наслаждениями, уже не прельщали его. Деньги, разумеется, необходимы, и деньги у него есть, во всяком случае, достаточные для безбедного существования. Что ж, неужели поставить их на карту? А впрочем, почему бы и нет. Куда страшнее остаток жизни сидеть сложа руки и смотреть, как другие преуспевают. В конце концов он решил поискать приложения своим силам. Он уверял себя, что торопиться некуда, что никакой оплошности он не допустит. Для начала нужно, чтобы в кругу промышленников, причастных к оптовому производству экипажей, стало известно, что он не связан больше с отцовским предприятием и готов выслушать любые предложения. И он широко оповестил всех о том, что выходит из компании Кейн и уезжает в Европу, отдохнуть. Он никогда не был за границей, да и Дженни нужно побаловать. Весту можно оставить дома с прислугой и Герхардтом, а Дженни пусть поездит, посмотрит, что есть интересного в Европе. Лестер решил побывать в Венеции, в Баден-Бадене и на других курортах, о которых много наслышался. Ему давно хотелось увидеть и египетские города и Парфенон. Он погостит в чужих краях, освежится, а затем, вернувшись домой, всерьез возьмется за что-нибудь новое. Путешествие состоялось весной, в год смерти старого Кейна. Лестер сдал дела в Чикаго и не спеша, с большим удовольствием составил себе маршрут, постоянно советуясь с Дженни. Захватив все необходимое для дороги, они отбыли пароходом из Нью-Йорка в Ливерпуль, провели несколько недель в Англии, потом поехали в Египет. Обратный путь лежал через Грецию и Италию в Австрию и дальше, через Швейцарию, — в Париж и Берлин, Новые впечатления развлекли Лестера, и все же его не покидало неприятное чувство, что он зря тратит время. Путешествуя, не создашь крупного делового предприятия, а поправлять здоровье ему не требуется… Зато Дженни приходила в восторг от всего, что видела, и просто упивалась этой новой жизнью. В Луксоре и Карнаке, о существовании которых она раньше и не подозревала, ей открылась древняя культура, мощная, многогранная и исполненная совершенства. Миллионы людей жили и умирали здесь, веруя в иных богов, в иные формы правления, иные правила жизни. Дженни впервые осознала, как огромен мир. Думая об ушедшей в прошлое Греции, о погибшей Римской империи, о канувшем в забвение Египте, она поняла, как ничтожны и мелки наши заботы и мысли. Лютеранское благочестие отца уже не казалось ей таким значительным, а общественное устройство Колумбуса в штате Огайо — нерушимым. Мать всегда придавала огромное значение тому, что скажут люди, что подумают соседи, а здесь Дженни видела несметное множество могил, в которых успокоились люди, и дурные и хорошие. Лестер объяснял ей, что различия в нравственных критериях вызываются иногда климатом, иногда — религией, иногда — появлением какой-нибудь исключительной личности вроде Магомета. Лестер любил отмечать, как мало значат условности в масштабах этого мира, такого необъятного по сравнению с их привычным мирком, и Дженни по-своему понимала его. Взять хотя бы ее прошлое. Допустим, она поступила дурно; для какой-то кучки людей это, может быть, и важно, но в плане всей истории человечества, всех движущих миром сил — какое это имеет значение? Пройдет немного времени, и все умрут — и она, и Лестер, и эти люди. Ничего нет реального и вечного, кроме доброты, сердечной, человеческой доброты. Все остальное преходящее, как сон.Глава 45
Случилось так, что за границей — сначала в Лондоне, а затем в Каире — Лестер снова встретил ту единственную женщину, если не считать Дженни, которая ему когда-либо действительно нравилась. Он не виделся с Летти Пэйс очень давно, она около четырех лет была женою Мальколма Джералда, а затем уже два года очаровательной вдовушкой. Мальколм Джералд, банкир и биржевик из Цинциннати, оставил своей жене большое состояние. У нее был ребенок, девочка, предоставленная заботам надежной няни, а сама она жила вечно окруженная поклонниками — цветом всех столиц цивилизованного мира. Летти Джералд была одаренная женщина, красивая, изящная, изысканная, она писала стихи, очень много читала, изучала искусство и от всей души восхищалась Лестером Кейном. В свое время она по-настоящему любила его, потому что, зорко приглядываясь к людям, не нашла никого лучше Лестера. Он казался ей таким уравновешенным, таким спокойным. Он не терпел притворства. Его не привлекала фривольная легкость светских разговоров, он предпочитал говорить о простых и конкретных вещах. Сколько раз им случалось, ускользнув из бального зала, беседовать где-нибудь на балконе, глядя на дымок его сигары. Лестер рассуждал с ней на философские темы, спорил о книгах, рассказывал о политическом положении и общественной жизни в других городах — словом, относился к ней как к разумному человеку, и она долго, упорно надеялась, что он сделает ей предложение. Сколько раз, глядя на его крупную голову, на коротко подстриженные густые каштановые волосы, она с трудом удерживалась, чтобы не погладить их. Его переезд в Чикаго был для нее жестоким ударом — в то время она ничего не знала про Дженни, но инстинктивно почувствовала, что Лестер для нее потерян. А тут Мальколм Джералд, один из самых верных и пылких ее поклонников, в двадцатый или тридцатый раз сделал ей предложение, и она согласилась. Она не любила его, но надо же было за кого-нибудь выйти замуж. Ему шел сорок пятый год, и он прожил с ней всего четыре года, причем окончательно убедился, что его жена прелестная и очень снисходительная женщина, умеющая широко смотреть на вещи. А потом он умер от воспаления легких и миссис Джералд осталась богатой вдовой. Чрезвычайно привлекательная, искушенная в светских делах, она была отягчена одной-единственной заботой — как истратить свои деньги. Однако она не проявляла склонности бросать деньги на ветер. С юных лет идеалом мужчины стал для нее Лестер. Мелкотравчатые графы, лорды, бароны, которых она встречала в свете (а с годами у нее установились весьма обширные знакомства и связи), нимало не интересовали ее. Ей смертельно надоел внешний лоск титулованных охотников за долларами, с которыми она сталкивалась за границей. Она хорошо разбиралась в людях, была наблюдательна, умела схватить и социальную и психологическую сторону того, что видела, и, естественно, не питала иллюзий относительно этих господ и воплощенной в них «цивилизации». — Я могла бы быть счастлива даже в убогой хижине с одним человеком, которого я когда-то знала в Цинциннати, — сказала она однажды своей титулованной приятельнице, которая до замужества жила в Америке. — Это был большой человек, человек ясного ума и чистой души. Сделай он мне предложение, я бы вышла за него, хотя бы мне пришлось самой зарабатывать деньги. — А он был очень беден? — спросила приятельница. — Вовсе нет. Он был достаточно богат. Но для меня это не играло никакой роли. Мне нужен был он сам. — Со временем это все же сыграло бы известную роль. — Ну, не скажите, — возразила миссис Джералд. — Я-то знаю, я ждала его много лет. Лестер сохранил о бывшей Летти Пэйс самые приятные воспоминания.Когда-то она ему очень нравилась. Почему он не женился на ней? Много раз он задавал себе этот вопрос. Она была бы для него самой подходящей женой, отец одобрил бы его брак, все были бы довольны. А он тянул да тянул, потом появилась Дженни, и тут уже Летти перестала занимать его мысли. Теперь они снова встретились — после шестилетней разлуки. Он знал, что она вышла замуж. До нее дошли смутные слухи о его связи и о том, что в конце концов он женился на своей любовнице и живет на Южной стороне. О его финансовых затруднениях она ничего не знала. В первый раз они встретились июньским вечером в отеле «Карлтон». Окна были отворены, в аромате цветов, вливающемся из сада, была радость новой жизни, что охватывает весь мир с приходом весны. В первую минуту Летти растерялась, у нее захватило дух. Но она быстро овладела собой и непринужденно протянула руку. — Боже мой, да это Лестер Кейн! — воскликнула она. — Ну, здравствуйте, как я рада вас видеть! А это миссис Кейн? Счастлива с вами познакомиться. Так приятно встретить старого друга, точно молодость вернулась! Вы меня простите, миссис Кейн, но я, право же, страшно рада видеть вашего мужа. Даже стыдно сказать, сколько лет мы с вами не виделись, Лестер! Я, как вспомню, чувствую себя совсем старухой, Нет, вы подумайте, больше шести лет прошло! Я за это время и замуж вышла, и дочка у меня родилась, и бедный мистер Джералд скончался, и, господи, чего только не случилось! — Глядя на вас, этого не скажешь, — заметил Лестер с улыбкой. Он обрадовался этой встрече, — когда-то они были добрыми друзьями. Он и сейчас ей нравился — это сразу было видно, — да и она ему нравилась. Дженни приветливо улыбнулась, глядя на старую приятельницу Лестера. Эта женщина с прекрасными обнаженными руками, в платье из бледно-розового шелка с великолепным кружевным треном и с алой розой у пояса ковалась ей верхом совершенства. Дженни, так же как и Лестер, любила смотреть на красивых женщин, нередко сама указывала ему на них и ласково его поддразнивала. — Ты бы пошел познакомился с ней, Лестер, а то сидишь все время со мной, — говорила она, заметив особенно интересную или эффектную женщину. — Ничего, мне и здесь хорошо, — отшучивался он, глядя ей в глаза, или вздыхал: — Годы мои не прежние, а то бы я за ней приударил. — Беги, беги, — подзадоривала она. — Я тебя подожду. — А что бы ты сказала, если б я и вправду побежал? — Ничего бы не сказала. Может быть, ты вернулся бы ко мне. — И тебе все равно? — Ты отлично знаешь, что не все равно. Но мешать тебе я бы не стала. Я вовсе не считаю, что должна быть для тебя единственной женщиной, если ты только сам этого не хочешь. — Откуда у тебя такие понятия, Дженни? — спросил он однажды, пораженный широтой ее взглядов. — Право, не знаю. А что? — В них столько терпимости и милосердия. Не многие согласились бы с тобой. — По-моему, Лестер, нельзя быть эгоисткой. Я сама не знаю, почему мне так кажется. Некоторые женщины думают иначе, но если мужчина и женщина не хотят жить вместе, зачем принуждать друг друга, — ты со мной не согласен? И даже если мужчина уйдет ненадолго, а потом все-таки вернется, — это не так уж страшно. Лестер улыбнулся, но он не мог не уважать ее за такие человечные чувства. В тот вечер, увидев, что Летти обрадовалась Лестеру, Дженни сразу поняла, что им о многом захочется поговорить; и она осталась верна себе. — Вы меня простите, я вас ненадолго оставлю, — сказала она с улыбкой. — Мне нужно кое-что привести в порядок у нас в номере. Я скоро вернусь. Она ушла и просидела у себя, сколько считала возможным, а у Лестера и Летти сразу завязался оживленный разговор. Он рассказал ей о себе, опустив некоторые подробности, а она описала ему свою жизнь за последние годы. — Теперь, когда вы женаты и недоступны, — сказала она смело, — я вам признаюсь: я всегда мечтала, что именно вы сделаете мне предложение, — но этого так и не случилось. — Может быть, я не посмел, — сказал он, глядя в ее прекрасные черные глаза и спрашивая себя, знает она или не знает, что он не женат. Ему казалось, что она еще больше похорошела, что сейчас она само совершенство, изящная, уверенная в себе, остроумная, идеал светской женщины, умеющей подойти к каждому и каждого очаровать. — Бросьте! Я знаю чем были заняты ваши мысли. Ваша заветная мысль только что сидела за этим столом. — Не торопитесь с выводами, дорогая. Какие у меня были мысли, этого вы не можете знать. — Так или иначе я отдаю должное вашему вкусу. Она очаровательна. — В Дженни много хорошего, — заметил он просто. — Вы счастливы? — Более или менее. Нет, конечно, счастлив, насколько это возможно для человека, если он живет с открытыми глазами. А у меня, вы знаете, не много иллюзий. — Вы хотите сказать: никаких? — Пожалуй, что и никаких, Летти. Иногда я об этом жалею. С иллюзиями легче живется. — Я вас понимаю. Я-то вообще считаю, что моя жизнь не удалась, хотя денег у меня почти столько, сколько было у Креза, может быть, чуточку поменьше. — Боже мой! И это говорите вы — с вашей красотой, талантами, богатством! — Зачем они мне? Ездить по свету, вести пустые разговоры, отпугивать идиотов, которые зарятся на мои доллары? Ах, как это бывает утомительно и скучно! Летти взглянула на Лестера. Встреча с Дженни не помешала прежнему чувству проснуться в ее сердце. Почему Лестер достался не ей? Им хорошо вместе, как будто они давно женаты или только что объяснились друг другу в любви. Какое право имела Дженни им завладеть? Глаза Летти говорили яснее слов. Лестер печально усмехнулся. — Вот идет моя жена, — сказал он. — Придется переменить тему разговора. А Дженни вас может заинтересовать. — Я знаю, — ответила она и озарила Дженни сверкающей улыбкой. У Дженни шевельнулось слабое подозрение. Может быть, это старая любовь Лестера? Вот какую женщину он должен был бы себе выбрать. Она одного с ним круга, с ней он был не менее, а может быть, и более счастлив. Уж не думает ли он сам о том же? Потом она отмахнулась от этой неприятной мысли; чего доброго, она начнет ревновать, а это было бы низко. Миссис Джералд держала себя с Дженни крайне любезно. На следующий день она пригласила их кататься в Хайд-Парк, один раз они вместе обедали в отеле «Кларидж», а потом настал день ее отъезда, — она сговорилась встретиться со знакомыми в Париже. Она сердечно распростилась с Кейнами, выразив надежду на новую встречу. Ей было грустно, она завидовала счастью Дженни. Лестер не потерял для нее былого очарования. Скорее ей казалось, что он стал еще приятнее, обходительнее, разумнее. Она страстно жалела, что он не свободен. И Лестер — быть может, бессознательно — разделял ее сожаление. Словно следуя за ее мыслями, он представил себе, как было бы, если бы он на ней женился. Их взгляды на жизнь, на искусство, на практические вопросы удивительно совпадали. Говорилось им свободно и легко, как старым друзьям. Принадлежа к одному общественному кругу, они понимали друг друга с полуслова, до малейших тонкостей, которые Дженни не могла бы ни уловить, ни выразить. Мысль у нее работала не так быстро, как у миссис Джералд, По натуре своей Дженни была способна и на более глубокое чувство и на более душевное понимание, но она не умела показать себя в светской беседе. Она всегда была искренна до конца; это-то ее качество, возможно, и привлекало Лестера. Но сейчас, как и всегда в подобных случаях, она от этого теряла. И Лестеру уже начинало казаться, что он сделал бы лучше, остановив свой выбор на Летти Пэйс. Во всяком случае, это было бы не хуже, и теперь его не мучила бы неотвязная мысль о будущем. Во второй раз они встретились с миссис Джералд в Каире. Лестер, бродивший с сигарой по саду отеля, вдруг столкнулся с ней лицом к лицу. — Какая счастливая встреча! — воскликнул он. — Откуда вы? — Представьте себе — из Мадрида. До прошлого четверга я сама не знала, что попаду сюда. Меня Элликоты уговорили составить им компанию. Я как раз думала, где-то вы сейчас, а потом вспомнила, что вы собирались в Египет. Где ваша жена? — В настоящую минуту, по всей вероятности, в ванне. Здесь так жарко, что Дженни готова не вылезать из воды. Я и сам не прочь искупаться. Он опять залюбовался миссис Джералд. На ней было голубое шелковое платье, в руке — нарядный голубой с белым зонт. — Ах, боже мой! — воскликнула она вдруг! — Просто не знаю, что мне с собой делать. Не могу я все время скитаться. Я уж думаю, не возвратиться ли мне в Штаты? — За чем же дело стало? — А что это мне даст? Замуж выходить я не хочу. Мне теперь не за кого выходить замуж. Она выразительно взглянула на Лестера и отвернулась. — Ну, кто-нибудь да найдется, — не очень вежливо сказал Лестер. — С вашей красотой и деньгами вам все равно не спастись. — Не надо, Лестер! — Хорошо, пусть будет по-вашему. Но я-то знаю, что говорю. — Вы еще танцуете? — спросила она другим, светским тоном, вспомнив, что в отеле вечером будет бал. Когда-то Лестер танцевал прекрасно. — Да вы посмотрите на меня! — Бросьте, Лестер, неужели вы отказались от такого прекрасного развлечения? Я так до сих пор обожаю танцевать. А миссис Лестер? — Нет, она не любит танцев. Во всяком случае, не увлекается ими. Пожалуй, это отчасти моя вина. Я в последнее время как-то забыл, что этим можно развлечься. Он подумал, что в последнее время вообще перестал бывать в обществе. Его связь была к тому непреодолимой преградой. — Давайте потанцуем сегодня вечером. Ваша жена не будет ничего иметь против. Зал здесь отличный. Я утром заглянула туда. — Посмотрим, — ответил Лестер. — Я, наверное, разучился. В мои годы мне будет нелегко начать снова. — Ну что вы, Лестер, — возразила она. — Выходит, что и мне уже нельзя танцевать? Не будьте таким степенным. Вас послушать, так вы совсем старик. — Я и есть старик, если судить по жизненному опыту. — Что ж, это еще интереснее, — кокетливо промолвила миссис Джералд.Глава 46
Вечером, когда в бальном зале огромного отеля, выходившем в пальмовую аллею сада, уже играл оркестр, миссис Джералд отыскала Лестера на одной из веранд. Дженни сидела рядом с ним в белом атласном платье и белых туфельках, с короной густых волос над чистым лбом. Лестер курил и размышлял о судьбе Египта, о сменявших друг друга поколениях слабосильных людей, об узкой полосе земли по берегам Нила, кормившей эти поколения, об удивительной жизни тропиков и об этом отеле с его современными удобствами и нарядной толпой туристов, возникшем в древней, усталой, истощенной стране. Утром они с Дженни ездили осматривать пирамиды. Они прокатились на трамвае к подножию сфинкса. Они видели узкие переулки, полные смешанных запахов и ярких красок, кишащие оборванными, полуголыми, причудливо одетыми мужчинами и мальчишками. — Ужасно трудно в этом разобраться, — сказала Дженни. — Они такие грязные, страшные. Смотреть на них интересно, но они все свиваются в один клубок, словно черви. Лестер усмехнулся. — Ты отчасти права. Но причиной этому климат. Жара. Тропики. Это обычно расслабляет, порождает чувственность. Люди не виноваты. — Ну конечно, я их не виню. Просто они странные. Сейчас Лестер вспоминал этот разговор, глядя на пальмы, залитые ярким, волшебным светом луны. — Наконец-то я разыскала вас! — воскликнула миссис Джералд. — К обеду я все-таки опоздала. Мы страшно задержались на экскурсии. Я уговорила вашего мужа потанцевать со мной, миссис Кейн, — продолжала она с улыбкой. Ее, так же как и Лестера с Дженни, разнежила теплая южная ночь. Воздух был напоен острым ароматом садов и рощ: слабо доносился звон колокольчиков и странные выкрики: «Айя! Уш! Уш!» — это вдали по узким улицам гнали верблюдов. — Вот и отлично, — приветливо ответила Дженни. — Пусть потанцует. Я бы сама с удовольствием, но не умею. — Тебе надо сейчас же взять несколько уроков, — живо отозвался Лестер. — И я тебе составлю компанию. Конечно, я порядком отяжелел, но что-нибудь да выйдет. — Ну, мне не настолько уж хочется танцевать, — улыбнулась Дженни. — Но вы идите, а я скоро пойду к себе наверх. — А может быть, ты посидишь в зале? — сказал Лестер, вставая. — Ведь я сделаю один-два тура, не больше, а потом мы бы посмотрели на других. — Нет. Я лучше побуду на веранде, здесь так хорошо. А ты иди. Заберите его, миссис Джералд. Лестер и Летти удалились. Это была чрезвычайно эффектная пара. Темно-лиловое платье миссис Джералд, усыпанное черными блестками, оттеняло белизну открытых рук и шеи; в темных ее волосах сверкал огромный бриллиант. Полные, румяные губы, складываясь в подкупающую улыбку, обнажали полоску ровных белых зубов. Лестер во фраке, подчеркивающем его крепкую, статную фигуру, выглядел внушительно и благородно. «Вот на ком ему следовало жениться», — подумала Дженни, когда он скрылся в дверях отеля; и она стала перебирать в памяти свою жизнь. Иногда ей казалось, что все ее прошлое было сном, а порой думалось, что сон продолжается и поныне. Звуки жизни долетали до нее, неясные, как звуки этой ночи. Она слышала лишь самые громкие крики, видела лишь самые общие черты, а за ними, как во сне, плыли, сменяя друг друга, неуловимые тени. Почему к ней так влекло мужчин? Почему Лестер так настойчиво добивался ее? Могла ли она в свое время устоять против него? Она вспоминала как жила в Колумбусе, как ходила собирать уголь. А сейчас она в Египте, в этом огромном отеле, к ее услугам роскошный номер из нескольких комнат, и Лестер по-прежнему ее любит. Сколько он вытерпел из-за нее! Почему? Разве она такая необыкновенная женщина? Когда-то Брэндер утверждал это. И Лестер говорил ей то же самое. И все-таки она смиренно чувствовала, что она здесь не на месте, словно в руках у нее — пригоршни драгоценных камней, которые не ей принадлежат. К ней часто возвращалось ощущение, испытанное во время первой поездки с Лестером в Нью-Йорк, — будто эта сказочная жизнь ненадолго. Судьба подстерегает ее. Что-то случится, и снова она окажется, где была — в глухом переулке, в убогом домишке, в стареньком, поношенном платье. Потом мысли ее перенеслись в Чикаго, она вспомнила знакомых Лестера, и ей стало ясно, что именно так и будет. Ее не примут в обществе, даже если он на ней женится. Сейчас она понимала и причину этого. Глядя в прелестное, улыбающееся лицо женщины, с которой только что ушел Лестер, она читала мысль: «Ты, может быть, и очень мила, но ты не его круга». И сейчас, танцуя с ним, миссис Джералд, вероятно, думает, что сама она была бы для него куда более подходящей женой. Ему нужна женщина, выросшая в родной для него среде. От Дженни он не мог ожидать знания всех мелочей, к которым привык с детства, и правильной их оценки. Теперь-то она многое понимала. Она быстро научилась разбираться в тонкостях обстановки, туалетов, манер, светских обычаев, но это было у нее благоприобретенное, а не врожденное. Если она уйдет, Лестер возвратится в свой прежний мир, в мир, где царит красивая, умная, безупречно воспитанная женщина, которая сейчас кружится с ним в вальсе. На глазах Дженни навернулись слезы; ей вдруг захотелось умереть. Право же, так было бы лучше. Тем временем Лестер танцевал с миссис Джералд, а в перерывах между танцами беседовал с ней о знакомых местах и людях. Он смотрел на Летти и дивился ее молодости и красоте. Не такая тоненькая, как в юности, она и сейчас была стройна и прекрасно сложена, словно Диана. В ее холеном теле чувствовалась сила, черные глаза светились влажным блеском. — Честное слово, Летти, — не выдержал он, — вы еще больше похорошели. Вы изумительны. Вы все молодеете. — Вам, правда, так кажется? — улыбнулась она, вскинув на него глаза. — Вы отлично знаете, что иначе я бы этого не сказал. Пустые комплименты — не по моей части. — Ах, Лестер, медведь вы этакий, с вами уж и пожеманиться нельзя? Разве вы не знаете, что женщины любят пить хвалу по каплям, а не глотать залпом? — О чем вы? — спросил он. — Что я такого сказал? — Ничего. Просто вы медведь. Большой мальчик, непосредственный и упрямый. Но это пустяки. Вы мне нравитесь. Этого вам достаточно? — Вполне, — сказал он. Музыка смолкла, они вышли в сад. Лестер нежно сжал ей руку. Он не мог удержаться, у него было такое чувство, словно эта женщина принадлежит ему. А она всеми силами старалась внушить ему это. Сидя с ним в саду, глядя на развешанные меж деревьями фонарики, она думала; будь он свободен, позови он ее, и она пошла бы за ним. Она, пожалуй, пошла бы за ним и без зова, только он, вероятно не захочет. Он такой пуританин, так заботится о приличиях. Не в пример другим знакомым ей мужчинам он никогда не совершит низкого поступка. Никогда. Наконец Лестер поднялся и стал прощаться. Наутро они с Дженни едут дальше, вверх по Нилу, в Карнак и Фивы и к вырастающим из воды храмам острова Филе. Вставать придется в несусветную рань, так что пора на покой. — А когда вы собираетесь в Штаты? — спросила приунывшая миссис Джералд. — В сентябре. — Вы уже заказали билеты? — Да, отплываем девятого из Гамбурга, пароходом «Фульда». — Я, может быть, тоже осенью поеду домой, — засмеялась Летти. — Не удивляйтесь, если мы встретимся на пароходе. Я еще, правда ничего не решила. — Нет, в самом деле, поедемте вместе, — сказал Лестер. — Я надеюсь, что вы не раздумаете… Мы еще, может быть, увидимся завтра утром. Он замолчал, и она обратила на него печально-вопросительный взгляд. — Не горюйте, — сказал он и пожал ей руку. — Мало ли что бывает в жизни. Иногда кажется, что дело совсем плохо, а выходит к лучшему. Он думал, что ей, видимо, жаль терять его, а ему было жаль, что ее желание невыполнимо. И еще он говорил себе, что такой выход из положения для него неприемлем; а между тем это тоже выход. Почему он не сделал этого много лет назад? Но тогда она была не так хороша, как сейчас, и не так умна, и не так богата… Ах, если бы!.. Однако он не может изменить Дженни или желать ей зла. Ей и так пришлось нелегко, и она храбро несет свое бремя.Глава 47
На обратном пути Лестер и Дженни действительно провели еще целую неделю с миссис Джералд, которая решила, что попытается пожить немного на родине. Она направлялась в Цинциннати с заездом в Чикаго, рассчитывая и впредь хоть изредка встречаться с Лестером. Увидев ее на пароходе, Дженни очень удивилась, и тревожные мысли снова стали одолевать ее. Теперь положение было для нее ясно; не будь ее, миссис Джералд несомненно вышла бы замуж за Лестера. А сейчас… трудно что-нибудь сказать. Летти — самая подходящая для него жена по своему рождению, воспитанию, положению в обществе. Но в более широком человеческом плане Дженни все-таки была ему ближе, это она чувствовала безошибочно. Может быть, время поможет разрешить этот сложный вопрос: а пока они все трое по-прежнему оставались друзьями. В Чикаго они расстались: миссис Джералд проследовала в Цинциннати, а Лестер с Дженни снова водворились в своем доме в Хайд-Парке. По возвращении из Европы Лестер всерьез стал подыскивать себе новое поле деятельности. Ни одна из крупных компаний не обращалась к нему с предложениями, главным образом потому, что у него была репутация сильного и властного человека, который, войдя в любое предприятие, непременно захочет играть в нем первую скрипку; о перемене в его финансовом положении ничего не было известно. Мелкие компании, о которых он собрал сведения, влачили жалкое существование или выпускали негодную, на его взгляд, продукцию. В небольшом городке на севере штата Индиана он, правда, обнаружил одно предприятие, имевшее, казалось, кое-какие перспективы. Во главе его стоял опытный мастер-каретник — таким в свое время был отец Лестера, — не наделенный, однако, особыми деловыми способностями. Он получал весьма скромную прибыль с пятнадцати тысяч долларов, вложенных в предприятие стоимостью тысяч в двадцать пять. Лестер решил, что с введением надлежащих методов и при наличии настоящей деловой хватки здесь можно кое-чего добиться. О быстрых успехах не могло быть и речи, крупные барыши если и были возможны, то лишь в очень отдаленном будущем. Все же Лестер подумывал о том, чтобы вступить в переговоры с хозяином этого предприятия, но тут до него дошла весть о создании каретного треста. Все это время Роберт энергично занимался давно задуманной им коренной реорганизацией производства экипажей. Он всячески старался доказать своим конкурентам, что объединение сулит куда больше прибыли, чем соперничество и стремление вытеснить друг друга с рынка. Доводы его были так убедительны, что крупные компании сдавались на них одна за другой. Через несколько месяцев соглашение было оформлено, и Роберт стал президентом «Объединенной ассоциации по производству экипажей», располагавшей акционерным капиталом в десять миллионов долларов и основными средствами, равными трем четвертям этой суммы. Он достиг своего и был счастлив. Лестер оставался в полном неведении относительно этих важных перемен. Несколько коротких газетных заметок о предполагаемом слиянии ряда предприятий по производству экипажей не попались ему на глаза, потому что он в это время был за границей. Вернувшись в Чикаго, он узнал, что муж Имоджин, Джефферсон Миджли, по-прежнему ведает чикагским отделением и живет в Ивенстоне; однако ссора с родными помешала Лестеру получить какие-либо сведения из первых рук. Случай вскоре открыл ему глаза на то, что произошло и — нужно сказать, — при довольно досадных обстоятельствах. Поразительную новость сообщил ему не кто иной, как мистер Генри Брейсбридж из Кливленда, с которым Лестер встретился в клубе через месяц после приезда из Европы. — Ты, я слышал, расстался с отцовской компанией, — заметил Брейсбридж с любезной улыбкой. — Да, — сказал Лестер. — Расстался. — А теперь какие у тебя планы? — Да я тут обдумываю одно дело. Хочу завести собственное предприятие. — Но против брата ты едва ли пойдешь? Он это не плохо придумал со своей ассоциацией. — С какой ассоциацией? Понятия не имею. Я только что вернулся из Европы. — Ой, смотри, Лестер, так ты все на свете проспишь, — сказал Брейсбридж. — Твой брат создал крупнейший трест в вашей отрасли производства. Я был уверен, что ты в курсе дела. Объединились все крупные компании — Вудс, Лайман-Уинтроп, Майер-Брукс. Твой брат избран президентом. Он, наверное, на одном распределении акций заработал миллиона два. Лестер поднял брови, глаза его смотрели холодно. — Ну что ж, я очень рад за Роберта. Брейсбридж понял, что Лестер задет за живое. — До свидания, дорогой, мне пора, — сказал он. — Когда будешь в Кливленде, заглядывай к нам. Мы с женой тебя любим, ты это знаешь. — Знаю, — сказал Лестер. — До свидания. Он побрел в курительную. После того, что он узнал, его новая затея потеряла для него всякий интерес. Хорош он будет в роли хозяина захудалой фабрики, когда его брат — президент каретного треста! Да Роберт через год пустит его по миру. Когда-то он сам мечтал о такой ассоциации. Он мечтал, а Роберт взял и создал. Одно дело сносить удары судьбы, столь часто обрушивающиеся на одаренных людей, когда ты молод, смел, исполнен воинственного духа. И совсем иное дело, когда молодость уже позади, когда основное твое состояние ускользает у тебя из рук, а новые пути к богатству и успеху закрываются перед тобой один за другим. Откровенное нежелание «общества» признать Дженни, созданная вокруг нее газетная шумиха, размолвки с отцом и его смерть, потеря состояния, разрыв с отцовским предприятием, поведение Роберта, наконец, новый трест — все обескураживало, угнетало Лестера. Он старался не показывать вида, и до сих пор это ему как будто удавалось, но теперь он вдруг почувствовал, что всему есть предел. Домой он вернулся чернее тучи. Дженни сразу это заметила, вернее она этого ждала. Весь вечер, пока его не было дома, ее томила какая-то безотчетная тоска. И вот он вернулся, и она поняла — у него серьезные неприятности. Первым побуждением ее было спросить: «Что случилось, Лестер?» — но она сдержалась и мудро решила, что он, если захочет, сам расскажет ей обо всем. Она сделала вид, что ничего не заметила, и постаралась развлечь его ласково и неназойливо. — Веста сегодня очень довольна собой, — начала она. — Принесла из школы отличные отметки. — Это хорошо, — отозвался он мрачно. — И танцевать она стала замечательно. Как раз перед твоим приходом она показывала мне новые танцы, которые только что выучила. Такая прелесть — ты просто представить себе не можешь. — Очень рад слышать, — пробурчал он. — Я же говорил, что ей стоит учиться. И пора, пожалуй, перевести ее в другую школу, получше. — А папа все сердится, даже смешно. Она еще смеет его дразнить, шалунья этакая. Сегодня все предлагают поучить его танцевать. Если бы он не любил ее так, он бы ей уши надрал. — Могу себе представить! — улыбнулся Лестер. — Наш дед танцует. Ну и картина! — Он ворчит, бушует, а ей хоть бы что. — Молодец, девочка, — сказал Лестер. Он искренне любил Весту и все больше интересовался ею. Дженни продолжала болтать, и ей удалось немного рассеять мрачное настроение Лестера. А когда пришло время ложиться спать, он сам заговорил наконец о своих заботах. — Пока мы были за границей, Роберт здесь устроил недурную финансовую комбинацию. — А что такое? — насторожилась Дженни. — Сколотил каретный трест, не более и не менее. Теперь его трест вберет в себя все, что в стране сколько-нибудь значительного по этой части. Брейсбридж мне рассказал, что Роберт избран президентом и что у них чуть ли не восемь миллионов капитала. — Да что ты! — воскликнула Дженни. — Тогда тебе, вероятно, не стоит вступать в новую компанию, о которой ты говорил. — Да, сейчас это было бы глупо. Может быть, позже, не знаю. Пока нужно подождать, посмотреть, что получится из этого нового треста. Мало ли какой курс он может взять. Дженни была огорчена до глубины души. Никогда раньше она не слышала от Лестера ни слова жалобы. Ей страстно хотелось утешить его, но она понимала, что это не в ее силах. — Ну что ж, — сказала она. — Есть и еще много интересного на свете. Я бы на твоем месте не стала торопиться. Время у тебя есть. Больше она ничего не решилась добавить, но он вдруг почувствовал, что, и правда, нечего себя терзать. В конце концов еще на два года ему обеспечен более чем достаточный доход. При желании можно его умножить. И все же Лестера грызла мысль, что брат так стремительно идет в гору, а он стоит на месте, или, вернее, плывет по течению. Это было обидно; а главное — он стал чувствовать, что теряет почву под ногами.Глава 48
Сколько Лестер ни ломал себе голову, он не мог придумать, как ему снова включиться в жизнь делового мира. Узнав, что Роберт создал свой трест, он тотчас отбросил всякую мысль об участии в скромном предприятии фабриканта из Индианы. У него хватало гордости и чувства меры, чтобы понять, как нелепо было бы тягаться с братом, столь бесспорно превосходившим его своими финансовыми возможностями. Он навел справки о новой ассоциации и убедился, что Брейсбридж отнюдь не преувеличил ее размаха и мощи. Это было миллионное дело. У самостоятельных мелких фабрикантов не оставалось ни малейших шансов уцелеть. Так неужели же плестись в хвосте за своим знаменитым братом? Нет, это слишком унизительно. Метаться и изворачиваться в неравной борьбе против нового треста, зная, что родной брат волен раздавить или пощадить тебя и что против тебя используется принадлежащий тебе по праву капитал? Нет, невозможно, лучше переждать. Что-нибудь да подвернется. А пока еще у него есть на что жить, и за ним остается право, если он того пожелает, снова стать пайщиком компании Кейн. Но желает ли он этого? Вот вопрос, на который Лестер никак не мог ответить. Он все еще был в плену своих колебаний и сомнений, когда в один прекрасный день к нему явился некий Сэмюел Росс, агент по продаже недвижимого имущества, чьи огромные рекламы на деревянных щитах красовались по всей прерии, окружавшей Чикаго. Лестер раза два встречался с ним в клубе, слышал о нем как о смелом и удачливом дельце и помнил кричащий фасад его конторы на углу улиц Вашингтона и Ла-Саль. Россу было лет пятьдесят, орлиный нос с нервными ноздрями и густые кудрявые волосы. Лестеру запомнилась его мягкая, кошачья походка и выразительные узкие белые руки с длинными пальцами. Мистер Росс явился к мистеру Кейну с деловым предложением. Мистер Кейн, разумеется, знает, кто он такой? Со своей стороны, мистер Росс полностью осведомлен о мистере Кейне. Известно ли мистеру Кейну, что совсем недавно он, Росс, вместе с Мистером Норманом Иэйлом, представителем оптовой бакалейной торговли «Иэйл, Симпсон и Райс», создал новый пригород — Иэйлвуд? Да, мистеру Кейну это было известно. Еще не прошло и полутора месяцев, как последние участки в Иэйлвуде были проданы; в среднем они принесли сорок два процента прибыли. Росс перечислил еще несколько осуществленных им сделок по продаже недвижимости, о которых Лестер тоже кое-что слышал. Росс откровенно признал, что в его деле бывают неудачи; он сам пострадал раза два. Но, как известно, гораздо чаще торговля недвижимостью приносит доход. Так вот, поскольку Лестер больше не связан с компанией Кейн, он, вероятно, не прочь хорошо поместить свои деньги. Есть интересное предложение. Лестер согласился выслушать мистера Росса, и тот, поморгав круглыми, как у кошки, глазками, приступил к изложению сути дела. Сводилось оно к тому, что он предлагал Лестеру войти с ним в долю для покупки и эксплуатации большого участка земли площадью в сорок акров, расположенного на юго-восточной окраине города и ограниченного улицами Пятьдесят пятой, Семьдесят первой, Холстед и Эшленд. Цены на землю в этом районе неминуемо должны возрасти, — намечается настоящий бум, и притом надолго. Муниципалитет уже решил замостить Пятьдесят пятую улицу. Трамвайную линию по Холстед-стрит предполагается продолжить. Компания проходящей поблизости железной дороги Чикаго — Берлингтон — Куинси, несомненно, захочет построить в новом пригороде пассажирскую станцию. За землю нужно заплатить сорок тысяч долларов, — этот расход они поделят поровну. Нивелировка, размежевание участков, мощение улиц, посадка деревьев, фонари — все это обойдется примерно в двадцать пять тысяч. Нужно будет затратить известную сумму на рекламу, в течение двух или, вернее, трех лет по десять процентов от вложенного капитала — всего девятнадцать-двадцать тысяч долларов. В общей сложности им вдвоем придется вложить в дело девяносто пять, от силы — сто тысяч, из которых на долю Лестера падает пятьдесят. Затем мистер Росс перешел к исчислению прибылей. О перспективах на продажу намеченной земли и повышение ее в цене можно судить по прилегающим к ней участкам севернее Пятьдесят пятой улицы и восточное Холстед-стрит. Взять хотя бы участок Мортимера, на углу Холстед и Пятьдесят пятой. В 1882 году он продавался по сорок пять долларов за акр. Через четыре года акр стоил уже пятьсот долларов — такую цену в 1886 году заплатил за этот участок мистер Джон Слоссен. В 1889 году, то есть еще через три года, он перепродал землю мистеру Мортимеру по тысяче долларов за акр. По такой цене предлагается сейчас и новый, еще не разработанный кусок земли. Его можно разбить на участки площадью пятьдесят футов на сто и распродать по пятьсот долларов. Это ли не верная прибыль. Лестер согласился, что прибыль как будто обеспечена. Росс не без хвастовства стал объяснять, как наживают барыши на недвижимости. Непосвященному человеку нечего и соваться в это дело. В несколько недель, даже в несколько лет нельзя надеяться достичь того умения, какое у знатоков вроде него самого вырабатывалось целых четверть века. Тут важен и престиж, и вкус, и чутье. Если они договорятся и начнут действовать, руководить операциями будет он. В его распоряжении хорошо обученный штат подчиненных и крупные подрядчики. У него есть знакомства в налоговом управлении, в управлении водоснабжения — словом, во всех отделах городского хозяйства, от которых зависит судьба нового района. Если Лестер войдет с ним в долю, он. Росс, гарантирует ему барыш; сколько — это он в точности не может сказать: самое меньшее — пятьдесят тысяч долларов, но скорее полтораста иди двести. Как только Лестер изъявит желание, он ознакомит его со всеми подробностями и разъяснит, как претворить этот план в жизнь. Пораздумав несколько дней. Лестер решил, что проект мистера Росса заслуживает внимания.Глава 49
Сомневаться в успехе задуманной операции не было, казалось, никаких оснований. Огромный опыт и здравое суждение мистера Росса служили залогом успеха для любого его начинания. Он досконально изучал свое дело, он умел убедить кого угодно и в чем угодно, лишь бы ему дали время подробно осветить все стороны вопроса. Лестер не сразу позволил себя увлечь, хотя, в общем, операции с недвижимостью были в его вкусе. Земля его интересовала. Он считал, что это — солидное помещение капитала, если не размахиваться слишком широко. До сих пор он не пробовал вкладывать деньги в земельные участки, но только потому, что вращался в кругах, далеких от этих интересов. Он был человеком «безземельным», а сейчас в некотором роде и безработным. Мистер Росс ему нравился, он, видимо, понимал толк в своем деле. Его посулы не трудно было проверить, и Лестер не преминул этим заняться. К тому же он помнил рекламные щиты Росса в прерии и его объявления в газетах. И пора было наконец прекратить затянувшееся безделье и хоть сколько-нибудь приумножить свой капитал. К сожалению, Лестер за последнее время разучился вникать в мелкие подробности. С самого начала его деятельности в отцовском предприятии ему поручались задачи общего характера — закупки крупных партий товаров, размещение оптовых заказов, обсуждение вопросов, касающихся работы всей фирмы и далеких от практических деталей, которые имеют первостепенное значение для торговцев помельче. На фабрике не он, а Роберт исчислял до последнего цента издержки производства, следил за тем, чтобы нигде не было ни малейшей утечки. Лестер же добросовестно и с интересом выполнял поручения более общего порядка. И сейчас, когда он обдумывал предложение Росса, его интересовали широкие перспективы, а не мелочи. Он прекрасно знал, что Чикаго быстро растет и земля не может не подниматься в цене. Там, где сейчас голая прерия, очень скоро, через несколько лет, будут густо застроенные жилые пригороды. Невозможно допустить, чтобы цены на землю упали. Продажа участков может затянуться, и цены могут расти не всегда одинаково быстро, но упасть они не могут. В это убеждал его Росс, да и сам Лестер был в этом уверен. Целого ряда случайностей он не предусмотрел. Он не подумал о том, что сам мистер Росс не вечен; что району, который сейчас представляется идеальным для жилого пригорода, может повредить застройка соседних с ним кварталов; что неблагоприятная финансовая конъюнктура может вызвать понижение цен на землю, более того — паническую распродажу участков за бесценок, перед которой не устоять даже таким опытным маклерам, как мистер Сэмюел Росс. Несколько месяцев Лестер изучал обстановку, обрисованную его новым наставником и руководителем, а затем, придя к заключению, что риск если и есть, то очень незначительный, решил продать часть акций, приносивших ему жалкие шесть процентов, и вложить деньги в новое предприятие. Первым его взносом были двадцать тысяч долларов — половина цены на землю, которую они по соглашению с Россом оплачивали поровну; это соглашение должно было оставаться в силе до тех пор, пока не будут распроданы все участки. Затем он дал двенадцать с половиной тысяч на производство работ, а затем — еще две с половиной тысячи на уплату налогов и на различные непредвиденные расходы. Оказалось, что из-за особенностей почвы нивелировка обходится дороже, чем было предусмотрено сметой; что деревья не всегда принимаются с первого раза; что для успешного завершения некоторых работ нужно «подмазать» кое-кого в газовом или водопроводном отделе городского хозяйства. Всем этим занимался мистер Росс, но, поскольку это влекло за собой увеличение расходов, он не мог не держать Лестера в курсе дела. Приблизительно через год после их первой беседы участки были готовы, но чтобы создать им надлежащую рекламу, следовало подождать весны. Для покрытия рекламных расходов Лестеру пришлось сделать третий взнос, и он продал еще на пятнадцать тысяч акций, считая необходимым довести дело до конца, а затем уже ждать обещанных прибылей. Поначалу Лестер был вполне доволен осуществлением своих планов. Росс, безусловно, показал себя толковым и проницательным дельцом, умеющим охватить множество разнообразных деталей. Участки были разработаны превосходно. Новому району было присвоено заманчивое название Гринвуд — Зеленый лес, хотя, как отметил Лестер, леса там и в помине не было. Но Росс уверил его, что людям, подыскивающим себе пригородный участок, такое название придется по душе; а увидев, как энергично идет посадка молодых деревьев, долженствующих разрастись в тенистые аллеи и сады, они легко примут мечты за действительность. Лестер улыбнулся в ответ на этот довод. Первой тенью, омрачившей светлое будущее Гринвуда, был слух, будто «Интернациональная Консервная» — одна из крупнейших компаний, объединившихся в мясоконсервный трест, чья контора помещалась на углу Холстед-стрит и Тридцать второй, — решила выделиться из треста и основать самостоятельное предприятие. В газетах писали, что «Интернациональная» намерена обосноваться южнее, по всей вероятности в районе Пятьдесят пятой улицы и Эшленд-авеню. Квартал этот непосредственно примыкал с запада к земле Лестера, а одного подозрения, что по соседству открывается консервный завод, было достаточно, чтобы погубить перспективы зарождающегося дачного пригорода. Росс был вне себя от ярости. Быстро оценив обстановку, он решил, что единственный выход — это разрекламировать новые участки в газетах и постараться распродать их, пока не возникли еще какие-нибудь помехи. Он изложил свою точку зрения Лестеру, и тот согласился, что так будет лучше всего. Они уже истратили на рекламу шесть тысяч долларов, а теперь за десять дней еще три тысячи, чтобы создать впечатление, будто Гринвуд — идеальный район, оборудованный по последнему слову современной техники, по красоте и тишине не имеет и не будет иметь себе равных в Чикаго. Но это не помогло. На несколько участков нашлись покупатели; однако зловещие слухи о планах «Интернациональной Консервной» упорно держались; теперь Гринвуд годился разве что под поселок для рабочих иностранцев; а затея с дачным пригородом явно потерпела полный провал. Лестера этот новый удар привел в полное отчаяние. Пятьдесят тысяч долларов — две трети его состояния, если не считать годового дохода, завещанного отцом, — оказались замороженными; нужно было платить налоги, производить ремонт и приготовится к тому, что цены на землю начнут падать. Он высказал предположение, что оставшиеся участки можно бы продать по себестоимости или заложить, отказавшись от дальнейшей эксплуатации; но Росс смотрел на дело куда более мрачно. Раза два он уже попадал в такие переделки. Он был суеверен и считал, что если дело не пошло гладко с самого начала, значит не судьба и как ни старайся — беде все равно не поможешь. По горькому опыту он знал, что многие его коллеги думают так же. Они продержались около трех лет, а потом участки пошли с молотка. На долю Лестера, вложившего в них пятьдесят тысяч долларов, пришлось чуть больше восемнадцати тысяч; и кое-кто из умудренных жизнью людей уверял его, что он еще легко отделался.Глава 50
Операции с пригородными участками были в самом разгаре, когда миссис Джералд решила переселиться в Чикаго. Живя в Цинциннати, она многое узнала об обстоятельствах жизни Лестера, вызвавших столько пересудов и нареканий. Вопрос о том, женат ли он на Дженни, так и остался открытым. Но до миссис Джералд дошла — правда, в искаженном виде — вся история Дженни и рассказы о том, как чикагская газета изобразила Лестера в роли миллионера, пожертвовавшего из любви к ней всем своим состоянием, а также совершенно точные сведения, что Роберт отстранил брата от участия в делах «Компании Кейн». Ей было обидно и больно, что Лестер губит себя. Прошел год, а он ничего не сделал. Пройдет еще два года — и будет слишком поздно. В Лондоне он сказал ей, что у него почти не осталось иллюзий. Может быть, Дженни — одна из них? Что он, действительно любит ее или просто жалеет? Летти было очень интересно выяснить этот вопрос. В Чикаго она сняла роскошный особняк на бульваре Дрексел. «Эту зиму я проведу в Ваших краях, — писала она Лестеру, — и надеюсь, что мы с Вами будем часто встречаться. В Цинциннати я умираю от скуки. После Европы здесь так… ну, Вы понимаете. В субботу видела миссис Ноулз, она о Вас спрашивала. Имейте в виду, что она прекрасно к Вам относится. Ее дочь весной выходит замуж за Джимми Севренса». Лестер ждал приезда миссис Джералд со смешанным чувством удовольствия и неловкости. Она, конечно, будет устраивать вечера и приемы. Что, если ей взбредет на ум пригласить его с Дженни? Но нет, едва ли. Надо полагать, что теперь-то она узнала, как обстоит дело. И по письму ее это видно. Она намерена «часто встречаться» с ним — значит именно с ним, а не с Дженни. Он решил рассказать Летти все начистоту и предоставить ей самой определить, какими будут в дальнейшем их отношения. Он выбрал для откровенного разговора минуту, когда они сидели в уютной гостиной вдвоем с Летти — прелестным видением в бледно-желтых шелках. Как раз в это время он стал сомневаться в успешном исходе своих земельных операций, настроение у него было неважное, и он как никогда нуждался в сочувствии и понимании. Дженни он еще ни слова не сказал о своих заботах. Когда горничная удалилась, подав хозяйке чай, а Лестеру коньяк с содовой, Летти решила помочь ему и сама нарушила молчание. — А я много слышала о вас, Лестер, с тех пор как вернулась из Европы. Расскажите мне о себе. Вы знаете, как близко я принимаю к сердцу все, что касается вас. — Что же вы слышали, Летти? — спросил он спокойно. — Ну, во-первых, слышала о завещании вашего отца и о том, что вы больше не участвуете в делах компании, а еще — всякие сплетни о миссис Кейн, которые меня не особенно интересуют. Вы меняпонимаете. Но неужели вы не хотите упорядочить свою жизнь, чтобы получить то, что принадлежит вам по праву? Мне кажется, это такая огромная жертва, если, конечно, у вас нет настоящего глубокого чувства. Верно, Лестер? — спросила она лукаво. Он ответил не сразу. — Не знаю даже, что и сказать вам, Летти. Иногда мне кажется, что я люблю ее, иногда я в этом далеко не уверен. Я буду говорить с вами вполне откровенно. Никогда в жизни я еще не оказывался в таком затруднительном положении. Вы ко мне так хорошо относитесь, а я… не стану говорить, какого я мнения о вас. Но, во всяком случае, я не хочу иметь от вас тайн. Я не женат. Он умолк. — Я так и думала, — сказала она. — И потому не женат, — продолжал он, — что слишком долго колебался. Когда я в первый раз увидел Дженни, я решил, что обольстительнее нет женщины на свете. — Не много же я для вас значила в то время, — перебила его миссис Джералд. — Если хотите, чтобы я говорил, не перебивайте меня — улыбнулся Лестер. — Скажите мне одно, и больше я ничего не буду спрашивать. Это было в Кливленде? — Да. — Мне так и говорили, — подтвердила она. — В ней было что-то такое… — Любовь с первого взгляда, — снова не утерпела Летти, у нее стало очень горько на душе. — Это бывает. — Вы мне дадите говорить? — Простите меня, Лестер. Что же делать, если мне взгрустнулось о прошлом. — Ну, в общем, я потерял голову. Я видел в ней идеал, совершенство, хоть и знал, что она мне не пара. Мы живем в демократической стране. Я думал; сойдусь с ней, а потом… ну, вы знаете, как это бывает. Вот ту-то я и допустил ошибку. Я никогда не думал, что это окажется так серьезно. До этого мне не нравилась ни одна женщине кроме вас, да и то — буду откровенным до конца — я вовсе не был уверен, что хотел бы жениться на вас. Мне казалось, что женитьба вообще не для меня. И я сказал себе; лишь бы Дженни стала моей, а потом, когда надоест, можно и расстаться. Я позабочусь о том, чтобы она не нуждалась. Прочее мне будет безразлично. И ей тоже. Понимаете? — Понимаю, — ответила она. — Так вот, Летти, из этого ничего не вышло. Она женщина совсем особого склада. Ее душевный мир необычайно богат. Она не образованна в том смысле, как мы понимаем это, но обладает врожденной утонченностью и тактом. Она прекрасная хозяйка, безупречная мать. У нее какой-то неиссякаемый источник любви к людям. Отцу и матери она была предана всей душой. Ее любовь к дочери — это ее дочь, не моя — не знает границ. Светскости в ней нет ни на грош. Она никогда не блеснет метким словечком, неспособна поддержать легкий, остроумный разговор. И думает она, вероятно, медленно. Самые серьезные ее мысли даже не всегда выражаются в словах, но нетрудно понять, что она все время и думает и чувствует. — Вы чудесно говорите о ней, Лестер, — сказала миссис Джералд. — А как же иначе, Летти, — отвечал он. — Дженни хорошая женщина. Но что бы я ни говорил, порою мне кажется, что меня привязывает к ней только жалость. — Сомневаюсь! — И она погрозила ему пальцем. — Да, да, но мне много пришлось вытерпеть. Теперь-то я вижу, что должен был сразу жениться на ней. Но потом возникли такие осложнения и столько было споров и уговоров, что я как-то запутался. А тут еще отцовское завещание. Я, если женюсь, теряю восемьсот тысяч и даже гораздо больше, поскольку компания теперь реорганизована в трест. Да, пожалуй, два миллиона. Если я не женюсь, я через два года, даже меньше, лишаюсь всего решительно. Конечно, можно бы сделать вид, будто я с ней расстался, но лгать я не хочу, Это было бы слишком мучительно для ее самолюбия, она не заслуживает такой обиды. Положа руку на сердце, я сейчас даже не могу сказать, хочу я расстаться с ней или нет. Честное слово, просто не знаю, что мне делать. Лестер умолк, закурил сигару и устремил невидящий взор в окно. — Да, это очень, очень трудная задача, — сказала Летти, опустив глаза. Потом она встала и, подойдя к Лестеру, положила руку на его крупную, красивую голову. Чуть надушенный желтый шелк ее платья касался его плеча. — Бедный Лестер, — сказала она. — Ну и узел же вы затянули! Но это гордиев узел, мой милый, и придется его разрубить. Почему бы вам не поговорить с нею начистоту, вот как сейчас со мной, и не выяснить, что она сама думает? — Это было бы очень жестоко, — сказал он. — Но что-то нужно сделать, Лестер, уверяю вас, — настаивала Летти. — Нельзя больше плыть по течению. Вы себе страшно этим вредите. Жениться я вам не могу посоветовать — и право же, я забочусь не о себе, а впрочем, я с радостью вышла бы за вас, хотя вы когда-то и пренебрегли моей любовью. Не скрою; все равно, придете вы ко мне или нет, я вас люблю и всегда буду любить. — Я это знаю, — сказал Лестер. Он встал, взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза. Потом отвернулся, Летти перевела дух, взволнованная его взглядом. — Нет, Лестер, — продолжала она, — такой большой человек, как вы, не может успокоиться на десяти тысячах годового дохода. И нельзя вам сидеть сложа руки — вас слишком хорошо знают. Вы должны снова занять свое место и в деловом мире и в свете. Никто не станет чинить вам помехи, никто не заикнется о вашем прошлом; только получите свою долю отцовского состояния — и вы сами можете диктовать условия. А она, если узнает правду, наверное, не будет возражать. Если она вас любит, как вы говорите, она охотно пойдет на жертву. В этом я не сомневаюсь. Вы, разумеется, щедро обеспечите ее. — Дженни не деньги нужны, — мрачно возразил Лестер. — Ну, все равно, она может прожить и без вас; а если у нее окажется много денег, ей будет и легче жить и интереснее. — Пока я жив, она ни в чем не будет нуждаться, — торжественно заявил он. — Вы должны от нее уйти, должны, — твердила Летти все более настойчиво. — Каждый день дорог. Почему не решить и не сделать это теперь же — сегодня же. Почему? — Не спешите, — возразил он. — Это — дело нелегкое. Сказать по правде, меня страшит объяснение с Дженни. Это так несправедливо по отношению к ней, так жестоко. Я ведь, как правило, не распространяюсь о своих личных делах. И до сих пор я ни с кем не хотел говорить, даже с родителями. Но в вас я почему-то всегда чувствовал близкого человека, а со времени нашей последней встречи мне все думалось, что нужно вам об этом рассказать. И хотелось. Вы мне очень дороги. Не знаю, может быть, это покажется вам странным при нынешних обстоятельствах, но это так. Я даже не подозревал, что вы мне настолько близки и как человек и как женщина. Не хмурьте брови. Вы ведь хотели слышать правду? Вот вам правда. А теперь, если можете, объясните мне, что я такое. — Я не хочу с вами спорить, Лестер, — сказала она мягко, коснувшись его руки. — Я хочу только любить вас. Я прекрасно понимаю, как это все сложилось. Мне грустно за себя. И грустно за вас. И грустно… — она запнулась, — за миссис Кейн. Она — обаятельная женщина. Она мне нравится, очень нравится. Но не такая женщина вам нужна, Лестер. Поверьте мне, вам нужно другое. Нехорошо, конечно, что мы с вами говорим о ней такие вещи, но ведь это правда. У каждого свои достоинства. И я убеждена, что если высказать ей все так же, как вы сейчас высказали мне, она поймет и согласится. Будь я на ее месте, Лестер, я бы отпустила вас, правда. Я думаю, вы мне поверите. Всякая порядочная женщина поступила бы так же. Мне было бы очень больно, но я отпустила бы вас. И ей будет больно, но она вас отпустит. Уверяю вас. Мне кажется, я понимаю ее не хуже вас, даже лучше, потому что я женщина. Ах, — добавила она, помолчав, — если бы я могла сама поговорить с ней! Я бы ей все объяснила. Лестер глядел на Летти и дивился ее рвению. Она была хороша, притягательна, она так много обещала… — Не спешите, — повторил он. — Дайте мне подумать. У меня еще есть время. Летти приуныла, но не сдалась. — Действовать нужно сейчас же, — повторила она, подняв на Лестера взгляд, в который вложила всю душу. Она добивалась этого человека и не стыдилась показать ему это. — Так я подумаю, — сказал он смущенно и, поспешно распростившись с нею, ушел.Глава 51
Лестер уже достаточно долго и серьезно обдумывал свое положение; он, пожалуй, и предпринял бы что-нибудь, и очень скоро, если бы жизнь в его доме не омрачило одно из тех печальных обстоятельств, которые так часто нарушают наши планы: здоровье Герхардта стало быстро сдавать. Постепенно ему пришлось отказаться от всех своих обязанностей по дому, а потом он слег. Дженни заботливо ухаживала за ним. Веста навещала его по несколько раз на дню, заходил и Лестер. Кровать Герхардта стояла у окна, и он часами глядел на деревья сада и видневшуюся за ними улицу, думая о том, как-то идет хозяйство без его надзора. Он был уверен, что кучер Вудс небрежно чистит лошадей и сбрую, что почтальон неаккуратно доставляет газеты, а истопник изводит слишком много угля и все-таки в доме недостаточно тепло. Эти мелкие заботы составляли всю его жизнь. Он был прирожденным домоправителем. Сам он неуклонно выполнял добровольно взятые на себя обязанности и теперь серьезно опасался, что без него все пойдет вкривь и вкось. Дженни подарила ему роскошный стеганый халат, крытый синим шелком, и мягкие теплые ночные туфли, но он их почти не носил. Он предпочитал лежать в кровати, читать Библию и лютеранские газеты да выслушивать от Дженни домашние новости. — Ты бы сходила в подвал, посмотрела, что делает этот молодчик. Вон какой холод в комнатах, — жаловался Герхардт. — Я-то знаю, чем он занимается — сидит и книжку читает, а о топке тогда только вспомнит, когда весь уголь прогорит. И пиво у него там под рукой. Ты бы заперла чулан. Почем ты знаешь, что он за человек. Может быть, негодяй какой-нибудь. Дженни пробовала убедить отца, что в доме достаточно тепло, что истопник — очень славный и вполне порядочный американец, что, ели он и выпьет стаканчик пива, вреда от этого не будет. Герхардт сейчас же начинал сердиться. — Вот вы всегда так, — твердил он запальчиво. — Ничего не понимаете в экономии. Чуть я недосмотрю — все распускаются. «Славный!» Откуда ты знаешь, что он славный? Топит он как следует? Нет! Дорожки подметает? Нет! Все они хороши, за ними нужен глаз да глаз. Тебе надо самой за хозяйством присматривать. — Хорошо, папа, я присмотрю, — ласково успокаивала его Дженни. — Ты не тревожься. А пиво я запру. Принести тебе чашечку кофе с сухариками? — Нет, вздыхал Герхардт, — у меня что-то желудок не в порядке. Хоть бы поскорей поправиться! Дженни пригласила к отцу доктора Мэйкина, старого, опытного врача, считавшегося лучшим в этой части города. Он рекомендовал покой, горячее молоко, сердечные капли, но предупредил Дженни, что на полное выздоровление надеяться нельзя. — Как-никак, годы берут свое. Он очень ослабел. Будь он на двадцать лет моложе, я поставил бы его на ноги, а так… Впрочем, дело его не совсем плохо. Он, возможно, еще поживет; может быть, даже встанет с постели; впрочем, за это не ручаюсь. Никто, знаете ли, не вечен. Я вот совсем не тревожусь, что мне осталось мало жить. Дожил до старости — и хорошо. Мысль о близкой смерти отца печалила Дженни, но ее утешало, что свои последние дни он проводит в покое и довольстве, окруженный всяческими заботами. Скоро всем стало ясно, что дни Герхардта сочтены, и Дженни решила известить братьев и сестер. Она написала о болезни отца Бассу, но он в ответном письме сообщил, что очень занят и едва ли приедет, если только нет непосредственной опасности. Еще он писал, что Джордж живет в Рочестере, работает на обойной фабрике — кажется, компании Шефф-Джефферсон, Марта с мужем уехали в Бостон, живут в Белмонте, это пригород, но недалеко от центра. Уильям в Омахе, работает техником в электрической компании. Вероника замужем, ее муж, Альберт Шериден, служит в Кливленде, на складе аптекарских товаров. «Она у меня совсем не бывает, — обиженно добавил Басс, — но я дам ей знать». Дженни написала всем по письму. От сестер пришли коротенькие ответы: им очень жаль, и пусть Дженни известит их, если что-нибудь случится. Джордж написал, что ему нечего и думать выбраться в Чикаго, разве что отцу станет совсем плохо, я просил держать его в курсе дел. Уильям, как Дженни узнала позднее, не получил ее письма. Дженни тяжело переживала медленное умирание отца; в прошлом они были далеки друг от друга, но последние годы очень сблизили их. Герхардт понял наконец, что отвергнутая им дочь — сама доброта, особенно в своем отношении к нему. Она никогда не ссорилась с ним, ни в чем ему не перечила. Во время его болезни она по многу раз в день заходила к нему, спрашивала, не нужно ли ему чего, понравился ли ему обед или завтрак. Когда он ослабел еще больше, она стала подолгу просиживать у него в комнате с книгой или с шитьем. Однажды, когда она поправляла ему подушку, он взял ее руку и поцеловал. Она удивленно подняла голову, и сердце у нее заныло. Вид у Герхардта был беспомощный и жалкий, в глазах стояли слезы. — Ты добрая девочка, Дженни, — сказал он прерывающимся голосом. — Ты хорошо со мной обошлась. Я часто сержусь и ворчу, но ведь я старик. Ты уж прости меня. — Ну что ты, папа! — взмолилась она, чуть не плача. — Что мне прощать? Это мне нужно просить у тебя прощения. — Нет, нет, — сказал он. Дженни опустилась на колени у его кровати и заплакала. Он погладил ее по голове высохшей желтой рукой. — Не плачь, — сказал он тихо, — я теперь многое понимаю. Век живи — век учись. Она вышла из комнаты, сказав, что хочет умыться, и, оставшись одна, дала волю слезам. Неужели он наконец простил ее? А она столько ему лгала! Она старалась еще заботливее ухаживать за ним, но это едва ли было возможно. А Герхардт после этого примирения стал как будто и счастливее и спокойнее, и они провели вместе немало хороших часов. Однажды он сказал ей: — Ты знаешь, я чувствую себя совсем мальчишкой. Если бы не ломило кости, так бы, кажется, и стал резвиться на траве. Дженни улыбнулась и всхлипнула. — Скоро тебе станет лучше, папа, — сказала она. — Ты поправишься. Тогда мы с тобой поедем кататься. Она опять порадовалась, что благодаря ей Герхардт в свои последние годы не знал нужды и забот. Лестер был внимателен и приветлив к старику. Каждый вечер он первым делом спрашивал: «Ну, как он сегодня?» — и еще до обеда непременно заглядывал на несколько минут в комнату больного. — Вид у него ничего, — сообщал он Дженни. — Он, по-моему, еще поживет. Ты не тревожься. Веста тоже проводила много времени с дедом, к которому нежно привязалась. Она вслух учила уроки в его комнате, если это ему не мешало, или, оставив его дверь открытой, играла ему на рояле. Лестер подарил ей красивую музыкальную шкатулку, и Веста иногда заводила ее у Герхардта в комнате. Случалось, что его тяготило все, кроме Дженни, ему хотелось остаться наедине с ней. Тогда она тихонько сидела подле него с рукоделием. Ей было ясно, что скоро наступит конец. Верный себе, Герхардт обдумывал все, что нужно будет сделать после его смерти. Он пожелал, чтобы его похоронили на маленьком лютеранском кладбище здесь же, на Южной стороне, и чтобы заупокойную службу служил полюбившийся ему пастор из той церкви, в которую он всегда ходил. — Пусть все будет просто, — сказал он. — Наденьте на меня черный костюм и мои воскресные штиблеты и галстук черный, шнурком. Больше мне ничего не надо. Так будет хорошо. Дженни просила его не говорить о таких вещах, но ему это доставляло удовольствие. Однажды, часа в четыре дня, им овладела страшная слабость. Дженни держала руки отца, следя за его дыханием; раза два он открыл глаза и улыбнулся ей. — Я не боюсь смерти, — сказал он. — Я сделал, что мог. — Не нужно говорить о смерти, папа, — взмолилась Дженни. — Все равно конец, — сказал он. — Ты была добра ко мне. Ты хорошая женщина. Это были его последние слова. К пяти часам его не стало. Спокойный и ясный конец этой тяжелой жизни глубоко потряс Дженни. В ее добром, отзывчивом сердце Герхардт жил не только как отец, но и как друг и советчик. Теперь он предстал перед ней в своем истинном виде — честный, трудолюбивый немец, все силы положивший на то, чтобы поднять семью и прожить безгрешную жизнь. Дженни была самым тяжким его бременем, но он так до конца и не узнал всей правды о ней. Она думала о том, где-то он теперь, знает ли, что она ему солгала. И простит ли он ее? Ведь он сказал, что она — хорошая женщина. Всем детям послали телеграммы. Басс ответил, а на следующий день приехал и сам. Остальные телеграфировали, что не могут приехать, и просили сообщить все подробности. Дженни написала им письма. Лютеранский священник прочел над покойником молитвы и сговорился о дне похорон. Устройство их было поручено толстому, самодовольному агенту из похоронного бюро. Зашел кое-кто из соседей — как-никак, не все они порвали знакомство с этим домом. Похороны состоялись на третий день. Лестер вместе с Дженни, Вестой и Бассом отправились в краснокирпичную лютеранскую церковку и мужественно высидел до конца скучную, сухую службу. Он покорно прослушал длинную проповедь о блаженстве загробной жизни, досадно поеживаясь при упоминании о преисподней. Басс тоже скучал, но вел себя, как подобало случаю. Герхардт уже давно стал для него чужим человеком. Одна Дженни искренне оплакивала отца. Перед ней проходила вся его жизнь — долгие годы, полные забот и лишений, то время, когда он ходил по дворам пилить дрова и когда жил на чердаке над фабричным складом, убогий домишко на Тринадцатой улице, мучительные дни на Лорри-стрит в Кливленде, все горе, причиненное ему грехами дочери и смертью жены, его нежные заботы о Весте и, наконец, эти последние недели перед смертью. «Он был очень хороший человек, — думала Дженни. — Он так старался, чтобы все было к лучшему». Когда запели гимн «Господь нам сила и оплот», она разрыдалась. Лестер потянул ее за рукав. Он был глубоко взволнован ее горем. — Нельзя же так, — шепнул он. — Подумай о других. Я не могу видеть твоих слез, кажется, сейчас встану и уйду. Дженни утихла, но она чувствовала, как рвутся последние осязаемые нити, связывавшие ее с отцом и сердце ее обливалось кровью. На лютеранском кладбище, где Лестер распорядился купить место, простой гроб опустили в могилу и засыпали землей. Лестер задумчиво поглядывал на голые деревья, на сухую, побуревшую траву, на разрытую лопатами бурую землю прерии. Кладбище было убогое, бедное — последний приют рабочего человека, но раз Герхардт хотел, чтобы его похоронили именно здесь, значит так и нужно. Лестер всматривался в худое смышленое лицо Басса и гадал, какие планы тот строит на будущее. Почему-то ему казалось, что у Басса успешно пошла бы табачная торговля. Он видел, как Дженни вытирает покрасневшие глаза, и снова говорил себе; «Да, это поразительно». Чувство ее было так непритворно и сильно. «Хорошая женщина — это необъяснимая загадка», — думал он. Все вместе они возвращались домой по пыльным, ветреным улицам. — Дженни слишком близко принимает все к сердцу, — сказал Лестер. — Уж очень она впечатлительна, вот жизнь и представляется ей мрачнее, чем она есть на самом деле. У всех у нас свои горести, у кого больше, у кого меньше, и нужно с ними как-то справляться. Неверно, будто одни люди намного счастливее других. Забот на всех хватает. — Что же я поделаю, — сказала Дженни, — когда мне так жалко некоторых людей. — Дженни всегда была чувствительная, — вставил свое слово Басс. Он все время думал о том, какой Лестер замечательный человек, как богато они живут, какой знатной дамой стала его сестра. Видно, он в свое время не понял, что она собой представляет. Как странно получается в жизни — ведь еще совсем недавно он считал, что Дженни ни на что не годится и жизнь ее безнадежно загублена. — Ты все же постарайся взять себя в руки, пойми, что нельзя каждое событие в жизни принимать как катастрофу, — сказал Лестер напоследок. Басс был с ним вполне согласен. Дженни молча глядела в окно кареты. Вот сейчас они вернутся в огромный тихий дом, а Герхардта там уже нет. Подумать только, что она больше никогда его не увидит. Карета свернула во двор. В гостиной Жаннет, притихшая и заплаканная, уже накрывала стол к чаю. Дженни занялась привычными домашними делами. Ее не оставляла мысль, что-то с ней будет после смерти.Глава 52
Лестер отнесся к смерти Герхардта довольно равнодушно, он только сочувствовал Дженни, Сам он ценил в старике его бесспорные достоинства, но личной привязанности к нему не питал. Он увез Дженни на десять дней к морю, чтобы дать ей отдохнуть и оправиться, а вскоре после возвращения в Чикаго решил наконец посвятить ее в свои дела и вместе с ней обсудить положение. Задачу эту отчасти облегчало то обстоятельство, что о неудаче его земельных операций Дженни уже знала. Не были для нее тайной и его визиты к миссис Джералд. Лестер сам ей говорил, что поддерживает это знакомство. Один раз миссис Джералд пригласила его в гости вместе с Дженни, но сама к ним не приехала и, как хорошо понимала Дженни, не собиралась приезжать. Похоронив отца, Дженни все больше стала задумываться о своей дальнейшей судьбе; на брак с Лестером она уже не надеялась, и ничто в его поведении не давало ей повода для таких надежд. Случилось так, что в это время Роберт тоже пришел к выводу о необходимости решительных действий. Он более не считал возможным повлиять на самого Лестера — с него достаточно было прежних попыток, — но почему бы не попробовать договориться с Дженни? По всей вероятности, она может внять голосу разума. Если Лестер до сих пор на ней не женился, она, конечно, понимает, что это не входит в его намерения. Нужно поручить какому-то надежному третьему лицу повидаться с ней, объяснить, как обстоит дело, и, разумеется, предложить ей солидное обеспечение. Может быть, она согласится уйти от Лестера и покончить с этой неприятной историей. Лестер, как-никак, ему брат, обидно будет, если он потеряет свое состояние. Роберт теперь мог позволить себе этот великодушный жест, — он успел основательно прибрать к рукам дела нового треста. В конце концов он решил, что самым подходящим посредником будет мистер О'Брайн из юридической конторы «Найт, Китли и О'Брайн». Он любезен, добродушен, обходителен, даром что юрист. Он сумеет деликатно разъяснить Дженни, как смотрят на нее родные Лестера и чего сам Лестер лишится, если не порвет с ней. Если Лестер женат, О'Брайн сумеет об этом разузнать. Дженни будет обеспечена, она получит пятьдесят, сто, пусть даже полтораста тысяч долларов. Роберт вызвал к себе мистера О'Брайна и дал ему соответствующие инструкции, предварительно разъяснив, что, поскольку он является душеприказчиком Арчибалда Кейна, в его обязанности входит позаботиться о том, чтобы Лестер принял надлежащее решение. Мистер О'Брайн отбыл в Чикаго. Прямо с вокзала он позвонил Лестеру и к полному своему удовлетворению узнал, что тот на весь день уехал из города. Тогда он отправился в Хайд-Парк и вручил Жаннет свою визитную карточку. Через несколько минут к нему вышла Дженни, не подозревавшая, с каким важным поручением он к ней явился. Мистер О'Брайн поздоровался с ней изысканно любезным тоном. — Я имею удовольствие говорить с миссис Кейн? — спросил он, склонив голову набок. — Да, — ответила Дженни. — Как вы могли убедиться, взглянув на мою визитную карточку, я мистер О'Брайн, фирма «Найт, Китли и О'Брайн». Мы являемся поверенными и душеприказчиками покойного мистера Кейна, отца вашего… мм… мистера Кейна. Мой визит может показаться вам странным, но дело в том, что в завещании отца мистера Кейна имеются некоторые оговорки, близко касающиеся его и вас. Эти пункты столь существенны, что мне представляется необходимым ознакомить вас с ними, если, конечно, мистер Кейн сам этого не сделал. Я… простите меня, но, принимая во внимание характер этих пунктов, я готов допустить, что он, возможно, о них умолчал. Мистер О'Брайн сделал паузу, всем своим видом, каждой черточкой лица изобразив вопрос. — Я не совсем поняла, — сказала Дженни. — Про завещание я ничего не знаю. Если там есть что-нибудь, что мне следует знать, мистер Кейн, вероятно, мне скажет. Пока он ничего не говорил. — Ага; — удовлетворенно вздохнул мистер О'Брайн. — Значит, я не ошибся. Так позвольте, я вкратце изложу вам суть дела, после чего вы решите, желаете ли вы узнать все подробности. Может быть, вы присядете? До сих пор они разговаривали стоя, Дженни села, и мистер О'Брайн придвинул себе стул и сел рядом. — Итак, начнем, — сказал он. — Мне, разумеется, незачем распространяться о том, что отец мистера Кейна очень неблагожелательно смотрел на союз между вами и своим сыном. — Я знаю… — начала было Дженни, но тут же замолчала. — Незадолго до своей смерти, — продолжал юрист, — мистер Кейн-старший имел на эту тему беседу с вашим… мм… с мистером Лестером Кейном. В своем завещании он поставил некоторые условия относительно раздела своего имущества, несколько затрудняющие его сыну, вашему… мм… супругу, получение причитающейся ему доли. При обычных обстоятельствах он унаследовал бы четвертую часть капитала «Компании Кейн», составляющую в настоящее время около миллиона долларов, возможно, даже больше, а также четвертую часть остального имущества, которая оценивается примерно в пятьсот тысяч. Насколько я могу судить, мистер Кейн-старший очень хотел, чтобы его сын унаследовал это состояние. Но, согласно условию, поставленному его отцом, мистер Лестер Кейн может получить свою долю лишь в том случае, если он исполнит… гм… одно его предсмертное желание. Мистер О'Брайн умолк, только глаза его тревожно бегали из стороны в сторону. Несмотря на всю свою предубежденность, он успел почувствовать обаяние Дженни. Он уже понимал, почему Лестер наперекор всем советам и уговорам не захотел с ней расстаться. Ожидая ее ответа, он незаметно наблюдал за ней. — И какое же это было желание? — спросила она наконец, когда напряженное молчание стало ей невмоготу. — Я вам чрезвычайно признателен за ваш вопрос, — сказал мистер О'Брайн. — Самому мне было бы очень трудно заговорить на эту тему, очень трудно. Я пришел к вам в качестве представителя фирмы, в качестве одного из душеприказчиков по завещанию отца мистера Кейна. Я знаю, как болезненно отнесетесь к этому вы. Но это один из тех весьма тягостных случаев, когда вопроса не обойти, когда его так или иначе нужно разрешить. И сколь мне не трудно, я должен вам сказать, что мистер Кейн-старший оговорил в своем завещании, что если… — глаза его опять забегали по сторонам, — если его сын не сочтет возможным расстаться с вами… — мистер О'Брайн перевел дух, — он не получит в наследство ничего, вернее, только очень незначительный годовой доход в десять тысяч, и то лишь при условии, что он на вас женится. — Снова пауза. — Добавлю еще, что согласно завещанию, ему было дано три года для принятия окончательного решения. Срок этот в ближайшее время истекает. Он замолчал, готовый выдержать бурную сцену, но Дженни только обратила на него взгляд, затуманенный удивлением, растерянностью, горем. Она поняла: ради нее Лестер пожертвовал своим состоянием. Операция с недвижимостью была попыткой стать на ноги, восстановить свое независимое положение. Теперь ясно, почему он в последнее время часто бывал озабочен, расстроен, недоволен. Отец просто-напросто лишил его наследства. Он глубоко несчастен, он неотступно думает о предстоящей потере, а ей не говорит ни слова. Мистер О'Брайн тоже был взволнован и смущен. Изменившееся лицо Дженни преисполнило его жалости. Однако он обязан был сказать ей всю правду. — Я очень сожалею, — заговорил он снова, видя, что она не собирается отвечать, — очень сожалею, что мне выпало на долю сообщить вам эту неприятную новость. Уверяю вас, положение мое не из легких. Сам я не питаю к вам никаких дурных чувств, — это вы, конечно, понимаете. Семейство Кейн в настоящее время тоже не питает к вам дурных чувств, — надеюсь, вы этому поверите. Как я уже говорил мистеру Кейну в тот день, когда читалось завещание, я лично считал решение его отца несправедливым, но, будучи всего лишь исполнителем его воли, не мог, разумеется, ничему помешать. И я считаю, что вам следует знать всю правду, для того чтобы вы, если возможно, помогли вашему… вашему супругу… — он сделал многозначительную паузу, — прийти к тому или иному решению. Я, так же как и члены его семьи, глубоко сожалею о том, что он теряет все свое состояние. Дженни, которая до сих пор сидела, отвернувшись и опустив голову, обратила на адвоката твердый, спокойный взгляд. — Он не потеряет своего состояния, — сказала она. — Это было бы несправедливо. — Мне очень отрадно слышать это от вас, миссис Кейн, — сказал он, впервые, наперекор фактам, смело обращаясь к ней как к жене Лестера. — Скажу вам по совести, я боялся, что вы примете эту новость совсем по-иному. Вам, конечно, известно, что семейство Кейн придает огромное значение браку. Миссис Кейн, мать вашего супруга, была женщина гордая, даже несколько надменная; его сестры и брат предъявляют вполне определенные требования к тем, кого они могут принять в свою семью. Ваши отношения они считают ненормальными и — простите мне невольную жестокость — недопустимыми. За последние годы это столько раз обсуждалось, что мистер Кейн-старший уже не надеялся уладить дело путем семейных переговоров. Он считал, что его сын с самого начала поступил неправильно. И потому он особо обусловил в своем завещании, что ваш супруг… простите, что его сын, если он не пожелает расстаться с вами и, следовательно, получить свою долю капитала, должен, чтобы получить хоть что-нибудь — те самые десять тысяч в год, о которых я уже упоминал… простите меня, если мои слова прозвучат грубо, право же, это не преднамеренно, — должен на вас жениться. Дженни вся сжалась. Как жестоко было сказать ей это в лицо! Да, попытка прожить вместе, не узаконив брака, не могла кончиться добром. И теперь из этой печальной путаницы есть только один выход — им нужно расстаться. Чтобы Лестер жил на десять тысяч в год — да это просто нелепо! Мистер О'Брайн с интересом поглядывал на Дженни. По его мнению, Лестер ошибся только в одном: почему он тогда же не женился на ней? Она очаровательная женщина. — Мне остается сказать вам только одну вещь, миссис Кейн, — проговорил он ласково. — Я теперь понимаю, что для вас это не имеет значения, но я должен выполнить все, что мне поручено. Надеюсь, вы не истолкуете моего предложения превратно. Не знаю, посвящены ли вы в финансовые дела вашего мужа? — Нет, — просто ответила Дженни. — Ну, это все равно. Так вот, чтобы облегчить вам задачу в том случае, если вы решите помочь вашему мужу разрешить этот сложнейший вопрос, скажем откровенно; в том случае, если вы сочтете нужным по собственному почину уехать от него и жить отдельно, я счастлив заявить, что любая сумма… скажем… гм… Дженни встала и, стиснув руки, как слепая, шагнула к окну. Мистер О'Брайн тоже поднялся. — Это на ваше усмотрение. Но мне поручено вам сказать, что если вы решите расторгнуть ваш союз, вам будет охотно предоставлена любая разумная сумма, какую вы пожелаете назвать, — пятьдесят, семьдесят, семьдесят пять, сто тысяч долларов… — Мистер О'Брайн казался себе необыкновенно благородным и щедрым. — Она будет, так сказать, храниться для вас, чтобы вы в любую минуту могли ее востребовать. Вы не должны ни в чем нуждаться. — Прошу вас, довольно, — сказала Дженни, чувствуя, что она не в силах больше слушать и что от страшной, почти физической боли вот-вот лишится дара речи. — Прошу вас, не продолжайте. Прошу вас, оставьте меня. Я могу от него уехать. Я это сделаю. Все будет хорошо. Но прошу вас, не говорите мне больше ни слова. — Я вполне понимаю ваши чувства, миссис Кейн, — произнес О'Брайн, осознав наконец, какие страдания он ей причинил. — Поверьте, я сочувствую вам всей душой. Я сказал все, что имел вам сказать. Это было трудно, очень трудно. Прискорбная необходимость. У вас есть моя карточка. Вы можете вызвать меня в любое время или написать мне. Больше я не буду отнимать у вас время. Прошу прощения. Надеюсь, вы не сочтете нужным рассказывать о моем визите вашему мужу — было бы лучше, если бы вы решили этот вопрос самостоятельно. Я весьма дорожу его расположением. Мне очень жаль, прошу прощения. Дженни стояла молча, опустив голову. Мистер О'Брайн направился в переднюю. Дженни нажала кнопку звонка, и Жаннет вышла проводить гостя. Он бодро зашагал прочь по дорожке сада, а Дженни, оставшись одна, вернулась в библиотеку. Она сидела, подперев руками подбородок, и в причудливых узорах шелкового турецкого ковра ей рисовались странные картины. Вот она сама в каком-то маленьком коттедже, одна с Вестой; вот Лестер, далеко, словно в другом мире, и рядом с ним — миссис Джералд. Вот опустел их большой, прекрасный дом, а дальше — потянулись долгие годы, а дальше… Она тяжело вздохнула, сдерживая рыдания, и жгучие слезы выступили у нее на глазах. Потом она встала. «Так надо, — подумала она. — Давно надо было с этим покончить. — И тут же вспомнила; — Какое счастье, что папа умер, что он не дожил до этого дня!»Глава 53
Объяснение, без которого Лестер не считал больше возможным обойтись, независимо от того, приведет ли оно к разрыву или к узаконению их связи, произошло очень скоро после посещения мистера О'Брайна. В самый день этого посещения Лестер уезжал в Хегевиш, небольшой промышленный город в Висконсине, куда его пригласили на испытания нового мотора для лифтов, — он подумывал о том, чтобы стать пайщиком компании, производившей такие моторы. Когда он на следующий день вернулся домой, по привычке готовясь, даже сейчас, несмотря на свое намерение расстаться с Дженни, рассказать ей о своей поездке, его поразило царившее в доме уныние: Дженни, хоть и пришла к разумному твердому решению, не в силах была скрывать свои чувства. Она печально обдумывала будущее, все время помня, что уехать необходимо, но опасаясь, что у нее не хватит мужества для разговора с Лестером. А уехать, не поговорив с ним, нельзя — он должен согласиться на разрыв. По глубокому убеждению самой Дженни, это был единственно правильный выход. Мысль, что ради нее Лестер мог пойти на такую огромную жертву, просто не укладывалась у нее в голове. Ее поражало, как он мог молчать до сих пор, когда все его будущее уже так давно висело на волоске. Услышав, что он вошел в дом, Дженни попыталась встретить его своей обычной улыбкой, но получилось лишь слабое подобие. — Все в порядке? — спросила она, как спрашивала изо дня в день. — Разумеется, — ответил он. — А у тебя как дела? — Да как всегда. Они вместе прошли в библиотеку, и Лестер, подойдя к камину, помешал кочергой угли. Был холодный январский день, в пять часов уже стемнело. Дженни спустила штору на окне. Когда она вернулась к Лестеру, он вопросительно взглянул на нее. — Что-то ты сегодня не такая, как всегда, — сказал он, сразу почувствовав в ней перемену. — Да нет, я ничего — ответила она, но губы ее дрогнули, и это не ускользнуло от его взгляда. — По-моему, ты что-то скрываешь, — сказал он, не сводя с нее глаз. — Что с тобой? Что-нибудь случилось? Она отвернулась, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Потом опять подняла на него глаза. — Да, случилось, — выговорила она. — Мне нужно с тобой поговорить. — Я вижу. Он улыбнулся, хотя чувствовал, что за ее словами кроется что-то очень серьезное. Она еще немного помолчала, кусая губы, не зная, с чего начать, и наконец заговорила: — Здесь вчера был один человек — мистер О'Брайн, из Цинциннати. Ты его знаешь? — Да, знаю. Что ему было нужно? — Он приезжал поговорить со мною о тебе и о завещании твоего отца. Она умолкла, заметив, как потемнело его лицо. — Какого черта ему понадобилось говорить с тобой о завещании моего отца! — воскликнул он. — Что он тебе наболтал? — Пожалуйста, не сердись, Лестер, — спокойно сказала Дженни, понимая, что ничего не добьется, если не сумеет сохранить полное самообладание. — Мистер О'Брайн рассказал мне, какую жертву ты приносишь, и предупредил, что осталось очень мало времени и ты можешь потерять свою часть наследства. Не думаешь ли ты, что тебе пора действовать? Пора со мной расстаться? — Проклятие! — злобно выругался Лестер. — Как он смеет соваться в мои дела! Неужели нельзя оставить меня в покое? — Он возмущенно передернул плечами. — Будь они прокляты! — взорвался он снова. — Это все Роберт орудует. К чему бы «Найт, Китли и О'Брайн» стали вмешиваться в мои дела? Ох, и устрою же я им скандал! Он был в бешенстве, лицо побагровело, глаза метали молнии. Дженни, напуганная его гневом, не могла выговорить ни слова. Немного успокоившись, Лестер спросил: — Ну, так что же он тебе сказал? — Сказал, что если ты на мне женишься, у тебя будет всего десять тысяч годового дохода. А если не женишься, но будешь по-прежнему со мной, тогда у тебя ничего не будет. Если ты от меня уйдешь или я от тебя, ты получишь полтора миллиона. Не думаешь ли ты, что нам нужно теперь же расстаться? Она не собиралась задать ему этот — самый главный — вопрос так скоро — слова вырвались у нее против воли. И в то же мгновение она поняла, что, если Лестер ее действительно любит, он ответит ей решительным «нет». Если ему все равно, он будет колебаться, тянуть, он постарается отсрочить развязку. — Не знаю, почему, — возразил он раздраженно. — Не вижу необходимости ни для вмешательства, ни для поспешных действий. Меня бесит, что они являются сюда и суют нос в чужие дела! Дженни была глубоко уязвлена его равнодушием, этой вспышкой злобы вместо слов любви. Для нее важно было одно — предстоящая разлука. А он снова и снова возвращался к визиту О'Брайна. Кто-то посмел вмешаться в его дела, когда он еще не принял решения, — вот о чем он не мог забыть. А Дженни, вопреки всему, надеялась, что, прожив с нею столько лет, когда и радость и горе — все было пополам, Лестер любит ее глубоко, и это чувство не позволит ему порвать с ней, даже если видимость разрыва и окажется необходимой. Пусть он не женился на ней — для этого было так много серьезных причин. Но сейчас, когда все кончилось, он мог бы сказать ей о своей любви, хотя бы перед тем, как отпустить ее. Ей показалось, что, прожив с ним столько лет, она совсем не знает его, а вместе с тем она его понимала. По-своему он ее любит. Он не способен на излияния, не умеет говорить о чувствах. Когда-то он сумел покорить ее и сделать своей, но его любви не хватает на то, чтобы удержать ее теперь, когда возникли препятствия. Вот сейчас он решает ее судьбу. Ей мучительно больно, сердце обливается кровью, но на этот раз решение ее твердо. Хочет того Лестер или нет — она не допустит, чтобы он пошел на такую жертву. Она должна от него уйти, если он сам не уйдет от нее. Не для чего ей оставаться. Ответ может быть только один. Но неужели он не найдет для нее ласкового слова? — Не думаешь ли ты, что пора действовать? — продолжала Дженни, все еще надеясь, что он вспомнит о ней. — Ведь осталось совсем мало времени! Она машинально передвинула взад-вперед лежавшую на столе книгу, с одной мыслью — лишь бы сохранить внешнее спокойствие. Что ей еще сказать, что сделать? Гневные вспышки Лестера всегда страшили ее. Но ведь сейчас ему не так трудно уйти — у него есть миссис Джералд. Только бы он захотел, а он должен захотеть. Ведь состояние для него куда важнее, чем Дженни. — Это не твоя забота, — упрямо сказал Лестер, все еще снедаемый злобой на брата, сестер, О'Брайна. — Времени хватит. Я пока ничего не решил. Нет, какая наглость! А впрочем, я не желаю больше говорить об этом. Обед готов? Помня лишь о своем оскорбленном самолюбии, Лестер даже не давал себе труда говорить вежливо. Он совсем забыл о Дженни, о ее чувствах. Он ненавидел Роберта и с радостью свернул бы шею Найту, Китли и О'Брайну — порознь или всем вместе. Тема, разумеется, не была исчерпана, она снова возникла уже за обедом. Дженни немного успокоилась и собралась с мыслями. Она не могла говорить свободно в присутствии Весты и Жаннет, но все же сделала новую попытку. — Я бы могла снять небольшой коттедж, — сказала они тихо, в надежде, что он успел остыть. — Здесь я не хочу оставаться. Что мне делать одной в таком большущем доме… — Пожалуйста, прекрати этот разговор, — резко перебил ее Лестер. — Я не в настроении его поддерживать. Я вовсе еще не решил, что так будет. Я еще ничего не решил. Он упорствовал, затаив обиду на О'Брайна, и Дженни наконец отступилась. Веста, привыкшая видеть отчима приветливым и учтивым, с удивлением смотрела на его мрачно сдвинутые брови. У Дженни уже создалось впечатление, что при желании она могла бы удержать его — очень уж он колебался. Но она этого не желала. Это было бы нехорошо по отношению к Лестеру. Да и по отношению к себе самой это было бы нехорошо, жестоко, непорядочно. И на следующий день она продолжала его уговаривать. — Так нужно, Лестер, уверяю тебя. Я не буду больше к тебе приставать, но так нужно. Ничего другого я тебе не позволю сделать. Этот спор возобновлялся теперь каждый день — то в спальне, то в библиотеке, то за завтраком, хотя не всегда он выражался в словах. Дженни не скрывала своей тревоги, Она была убеждена, что Лестера нужно заставить действовать. Когда он стал к ней внимательней и ласковей, это убеждение укрепилось еще больше. Она не знала, что нужно делать, но тоскливо поглядывала на него, стараясь помочь ему принять решение. Она уверяла себя, что будет счастлива — будет счастлива мыслью о его счастье, когда они наконец расстанутся. Он хороший человек, ему дано все, кроме, может быть, дара любви. Он не любит ее по-настоящему, вероятно, не может после всего, что было, хоть она и любит его глубоко. А на него повлияло ожесточенное сопротивление его семьи. Это она тоже поняла. Теперь ей было ясно, что, несмотря на свой светлый ум, он не может вырваться из заколдованного круга. Он слишком порядочный человек, чтобы грубо разрубить узел и бросить ее, слишком деликатный, чтобы откровенно заботиться о своих интересах да и о ее будущем, но это его долг. — Решай, Лестер, — твердила она снова и снова. — Отпусти меня. Почему ты сомневаешься? Мне будет хорошо. Может быть, после, когда все устроится, ты захочешь ко мне вернуться. Ну и вернешься, я буду тебя ждать. — Я еще не пришел ни к какому решению, — был его неизменный ответ. — Я вовсе не уверен, что хочу с тобой расстаться. Мое наследство, конечно, интересует меня, но деньги — это еще не все. Если нужно, я могу прожить на десять тысяч в год. Мне это невпервой. — Да, но сейчас у тебя такое видное положение в обществе, — возражала она. — Сейчас об этом и думать нечего. Ты вспомни, во сколько тебе обходится один этот дом. А тут полтора миллиона долларов — да я просто не допущу, чтобы ты их лишился. Я лучше сама от тебя уеду. — А куда бы ты делась, если бы до этого дошло? — спросил он с любопытством. — О, я нашла бы какое-нибудь местечко. Помнишь Сэндвуд, такой маленький городок, не доезжая Кеноши? Я часто думала, что там было бы очень приятно жить. — Мне тяжело думать об этом, — не выдержал он наконец. — Это так несправедливо. Все, все было против нас. Наверно, я должен был сразу на тебе жениться. Напрасно я этого не сделал. Дженни чуть не разрыдалась, но промолчала. — Все равно, я постараюсь, чтобы это не был конец, — сказал он напоследок. Он думал, что, может быть, все и обойдется. Нужно получить деньги, а потом… Однако всякие сделки с совестью и уловки были ему глубоко противны. Они наконец договорились, что в последних числах февраля Дженни съездит в Сэндвуд и попробует что-нибудь там себе присмотреть. Лестер сказал ей, чтобы она не стеснялась расходами, — у нее будет все, что ей нужно. И сам он будет приезжать к ней в гости. Про себя он решил, что кое-кто жестоко поплатится за доставленные ему тяжелые минуты. Он вызовет к себе мистера О'Брайна и крупно поговорит с ним. Нужно же отвести душу — пусть узнает, что о нем думают! И все это время в глубине его сознания жила миссис Джералд — обольстительная, утонченная, совершенная во всех отношениях. Он старался не думать о ней, но не мог отогнать от себя ее образ. И все чаще у него мелькала мысль: «Почему бы и нет?» К началу февраля решение его было принято.Глава 54
Городок Сэндвуд, «не доезжая Кеноши», как выразилась Дженни, был совсем близко от Чикаго, всего час с четвертью езды дачным поездом. Состоял он из каких-нибудь трехсот домиков, разбросанных в живописной местности на берегу озера. Жители его были не богаты. Дома стоили не дороже пяти тысяч долларов, но построены были по большей части со вкусом, а окружающие их вечнозеленые деревья придавали всему городку по-летнему веселый вид. Когда-то Дженни с Лестером проезжали здесь в коляске, запряженной парою быстрых лошадей, и она залюбовалась белой колоколенкой в зелени деревьев и лодками, тихо покачивающимися на спокойной воде озера. — Хорошо бы пожить в таком месте, — сказала тогда Дженни, а Лестер ответил, что, на его взгляд, место скучное. — Когда-нибудь меня, может, и потянет сюда, но только не сейчас. Очень уж здесь тихо. Дженни не раз вспоминала его слова. Они приходили ей на ум, когда жизнь казалась особенно тяжелой и трудной. Если она останется одна и у нее будут средства, как было бы славно оказаться в таком городке! Садик, куры, высокий шест со скворечником, и кругом — цветы, трава, деревья. Жить в маленьком коттедже с видом на озеро, летними вечерами сидеть на веранде с шитьем… Веста будет возвращаться из школы; может быть, появятся новые знакомые. Она полюбила читать, по многу раз перечитывала «Книгу очерков» Вашингтона Ирвинга, «Элию» Лэма, «Дважды рассказанные истории» Хоторна. Дженни уже начинало казаться, что ей будет неплохо одной, хотя будущее Весты не переставало ее беспокоить. Веста радовала ее своими успехами в музыке. Девочка была необычайно музыкальна. У нее было врожденное чувство ритма, она особенно любила песни и пьесы, проникнутые печальным, взволнованным настроением, и сама неплохо играла и пела. Голос ее еще не установился — ей было всего четырнадцать лет, — но слушать ее было приятно. В ней причудливо сочетались черты матери и отца: от Дженни она унаследовала мягкую задумчивость, от Брэндера — энергию и живость ума. Она вполне разумно беседовала с матерью о природе, о книгах, о платьях, о любви, и Дженни, следя за развитием ее интересов, прозревала новые миры, которые открывались перед ее дочкой. У девочки прибавлялись новые предметы, и Дженни вместе с ней постигала жизнь современной школы, ее разнообразную программу, в которой находилось место и для музыки и для естественной истории. Веста обещала стать многосторонней и дельной женщиной, не чересчур бойкой, но вполне самостоятельной. Мать утешалась мыслью, что она сумеет за себя постоять, и возлагала большие надежды на ее будущее. Коттедж в Сэндвуде, на котором остановила свой выбор Дженни, был одноэтажный, с мезонином и верандой на красных кирпичных столбах, соединенных зеленой деревянной решеткой. Все пять комнат выходили окнами на озеро. В столовой были стеклянные двери, полки большой библиотеки могли вместить множество книг, угловая гостиная с тремя окнами весь день была залита солнцем. На участке возле дома росло несколько красивых деревьев. Прежний арендатор разбил в саду клумбу и приготовил зеленые кадки для кустов и декоративных растений. Домик был белый, с зелеными ставнями и зеленой гонтовой крышей. Лестер предложил было Дженни оставить за собой дом в Хайд-Парке, но этого она не захотела. Одна мысль о том, чтобы жить здесь без Лестера, была ей невыносима — столько воспоминаний населяло этот дом. Сначала она даже не хотела ничего с собой увозить, но потом все же последовала совету Лестера — отобрать нужную для ее нового жилища мебель, занавески и столовое серебро. — Мало ли что тебе может понадобиться, — сказал он. — Бери все. Мне ничего не нужно. Коттедж был снят на два года с правом продления арендного срока или последующей покупки. Решившись, наконец, отпустить Дженни, Лестер проявлял большую щедрость — он не допускал мысли, что ей придется в чем-нибудь нуждаться. Он был озабочен тем, как объяснить перемену в их жизни Весте. Он любил девочку и хотел оградить ее от тяжелых переживаний. — Может быть, устроим ее до весны в какую-нибудь закрытую школу? — предложил он однажды. Но учебный год был в разгаре, и от этой мысли пришлось отказаться. Тогда они решили сказать Весте, что Лестеру нужно надолго уехать из Чикаго по делам, а вдвоем с матерью им будет лучше в маленьком городке. Когда-нибудь Дженни объяснит дочери, что ушла от Лестера, и придумает причину. У Дженни было горько на душе. Она понимала, что решение Лестера разумно, но какая за ним крылась бессердечность! Да, если он и любит ее, то очень мало. В отношениях между мужчиной и женщиной, которые мы наблюдаем с таким горячим интересом, надеясь найти в них какую-то разгадку тайны бытия, самыми трудными и тягостными бывают минуты, когда взаимная привязанность приносится в жертву внешним обстоятельствам, столь далеким от красоты и силы самого чувства. И Лестер и Дженни жестоко страдали в последние дни перед разлукой, когда рушилась их совместная жизнь в этом доме, где все было устроено с такой любовью, где они провели столько счастливых часов. У Дженни сердце разрывалось на части, ведь она была из тех постоянных натур, которые не ищут никаких перемен, лишь бы чувствовать, что тебя любят и что ты нужна. Вся ее жизнь, как из невидимых нитей, состояла из привязанностей и воспоминаний, соединяющих разрозненные впечатления в гармоничное и прочное целое. И одной из таких нитей был этот дом в Хайд-Парке, ее дом, украшенный ее любовью и бережным вниманием ко всем его обитателям, к каждой безделушке. Теперь всему этому настал конец. Если бы когда-нибудь раньше Дженни владела подобными сокровищами, ей теперь было бы не так тяжело, хотя в своих чувствах она отнюдь не руководствовалась материальными соображениями. В ее любви к жизни и к людям не было и тени корысти. И вот она бродила по комнатам, отбирая здесь ковер, там картину или столик с диваном и креслами и непрерывно мучаясь тем, что ей приходится этим заниматься. Подумать только — пройдет еще немного времени, и Лестер не будет больше возвращаться домой по вечерам! Утром ей не нужно будет вставать первой, чтобы проверить, готов ли кофе для ее повелителя и хорошо ли накрыт стол в столовой. Каждый день она ставила на стол букет из самых пышных цветов, какие только были в зимнем саду, всегда помня, что делает это для него. Теперь и букеты будут не нужны — он их не увидит. Когда привыкнешь ждать по вечерам знакомого шороха колес по гравию, раздающегося все ближе и ближе, когда прислушиваешься и в час и в два часа ночи и легко и радостно просыпаешься от звука шагов на лестнице, — тогда разлука, пресекающая все одним ударом, невыразимо мучительна. И Дженни неотступно думала о том, что каждый день, каждый час приближает ее к этой разлуке. Лестер тоже страдал, но по-иному. Его терзала не отвергнутая, растоптанная любовь, а тягостное сознание вины, которое испытывает человек, зная, что ради низменного расчета он поступился добротой, преданностью, чувством. Теперь перед ним открывались широчайшие перспективы, Не связанный больше с Дженни, щедро обеспечив ее, он волен пойти своим путем, отдаться многообразным обязанностям, какие налагает большое богатство. Но он все время думал о том, как много сделала для него Дженни, как она всегда старалась, чтобы жизнь его была удобной, приятной, красивой. Он знал наперечет все ее достоинства и отдавал им должное. Теперь он был вынужден признать за ней еще одно неоценимое качество — она умела страдать не жалуясь. Эти последние дни она держалась по отношению к нему как всегда — не лучше, не хуже. Она не закатывала истерик, как поступала бы на ее месте другая женщина; не старалась казаться более стойкой, чем была на самом деле, или делать веселое лицо с одной мыслью — чтобы он все же догадался о ее страданиях. Она оставалась спокойной, мягкой, внимательной, по-прежнему интересовалась его планами и делами, но не раздражала лишними вопросами. Лестер был поражен ее благородством, он восхищался ею. Что бы ни говорили люди, она — замечательная женщина. Жалко и стыдно, что жизнь ее сложилась так несчастливо. И в то же время Лестер слышал зов другого, широкого мира. Этот мир не всегда был гостеприимен, Лестер помнил его звериный оскал. Так смеет ли он ослушаться этого зова? И вот они уже оповестили кое-кого из соседей, что уезжают за границу, и Лестер уже снял себе номер в отеле «Аудиториум», и сдана на хранение вся лишняя обстановка, и настала пора распрощаться с Хайд-Парком. Дженни в сопровождении Лестера несколько раз побывала в Сэндвуде. Он подробно осмотрел городок и остался при своем первом впечатлении, что там красиво, но скучновато. Однако приближалась весна, а Дженни так любила цветы. Она собиралась нанять садовника. — Прекрасно, — сказал Лестер. — Все что хочешь, лишь бы тебе здесь было хорошо. Тем временем он энергично занимался и своими делами. Через своего поверенного мистера Уотсона он дал знать конторе «Найт, Китли и О'Брайн», чтобы к такому-то числу ему была передана его доля отцовских акций. Он решил, что, раз обстоятельства вынудили его пойти на это, он предпримет и ряд других, не менее бессердечных шагов. По всей вероятности, он женится на миссис Джералд. Он войдет в правление «Каретного треста» — теперь, когда у него в руках такой пакет акций, они не смогут этому помешать. Если в его распоряжении будут деньги миссис Джералд, он заберет в свои руки «Тракторную компанию» в Цинциннати, с которой связывает большие надежды его братец, а также «Западную Сталеплавильную», при которой Роберт состоит главным консультантом. Да, это будет не то положение, какое он занимал в последние годы! Дженни не находила себе места от одиночества и тоски. Этот дом так много для нее значил. Когда они сюда переехали и соседи стали приходить в гости, она вообразила, что для нее начинается новая жизнь, что со временем Лестер на ней женится. А потом посыпались удар за ударом, и нет больше ее мечты, и нет больше дома. Умер отец, отпущена Жаннет и другие слуги, мебель свезена на склад, и Лестер — Лестер ушел из ее жизни. Дженни ясно понимала, что он не вернется. Раз он мог уйти от нее сейчас — пусть с колебаниями, с болью, — чего же ждать от того времени, когда он будет свободен и вдали от нее? Увлеченный своими важными делами, он просто забудет о ней. И правильно сделает. Она не годится ему в жены. Сколько раз она в этом убеждалась. Любви в этом мире недостаточно. Это всякому ясно. Нужно еще воспитание, богатство, умение добиваться своего и интриговать. А заниматься этим она не хочет. Да и не сумела бы. Наконец большой дом был заперт, и прежняя жизнь осталась позади. Лестер проводил Дженни в Сэндвуд и немного побыл с ней в коттедже, стараясь внушить ей, что домик отличный и она легко привыкнет к новой обстановке. Он обещал скоро навестить ее, а потом он собрался уезжать, и перед неизбежностью разлуки его слова сразу потеряли всякое значение. Дженни поцеловала его на прощанье, пожелала ему счастья, успехов, душевного покоя — и ушла к себе в спальню. Увидев в окно, как он удаляется от дома по кирпичной дорожке, плотный и элегантный, в новом костюме, с перекинутым через руку пальто, — воплощение самоуверенности и благополучия, — она почувствовала, что сейчас умрет. Однако когда через некоторое время к ней заглянула Веста, глаза ее были сухи. Осталась только тупая, ноющая боль. Так начиналась ее новая жизнь — жизнь без Лестера, без отца, с одной только Вестой. «Удивительная у меня все-таки судьба!» — думала она, спускаясь в кухню. Она решила, что часть домашней работы будет выполнять сама. Ей нужно отвлечься. Нельзя все время думать. Если бы не Веста, она поступила бы куда-нибудь на работу. Только не уходить в себя, не то можно лишиться рассудка.Глава 55
В последующие год или два деловые и светские круги Чикаго, Цинциннати, Кливленда и других городов были свидетелями своеобразного возрождения Лестера Кейна. За время связи с Дженни он отдалился от многих людей и начинаний и, казалось, потерял к ним всякий интерес; теперь же, расставшись с нею, он вновь появился на сцене во всеоружии своих огромных средств, стал вникать в любое дело как человек, уверенный в своей силе, и быстро был признан авторитетом в области коммерции и финансов. Правда, он постарел. В некоторых отношениях это был уже не прежний Лестер. До встречи с Дженни его отличала самоуверенность, свойственная всякому, кто не знал поражений. Когда ты воспитан в роскоши, когда ты видишь общество только с его приятной стороны, такой убедительно-обманчивой, когда имеешь дело с крупными предприятиями не потому, что ты их создал, а потому, что ты сам являешься частью их и они при тебе от рождения, как воздух, которым ты дышишь, — тогда, естественно, создается иллюзия нерушимости бытия, способная затуманить самый светлый ум. Трудно иметь представление о том, чего мы не видели, почувствовать то, чего самим не пришлось пережить. Подобно вселенной, которая кажется нам вечной и незыблемой только потому, что мы ничего не знаем о создавших ее силах, мир Лестера казался ему и незыблемым и вечным. Лишь когда сгустились грозовые тучи и налетел ураган, когда на него пошли войной все силы общественных условностей — лишь тогда он понял, что, возможно, переоценил себя, что его личные желания и взгляды — ничто перед мнением общества, что он не прав. Ему представлялось, что дух времени — Zeitgeist, как называют его немцы, — стоит на страже некой системы, что наше общество организовано по какому-то загадочному, недоступному для человеческого понимания образцу. Он не мог вступить в единоборство с этим обществом. Не мог отмахнуться от его велений. Его современники считали такое общественное устройство необходимым, и Лестер убедился, что, нарушив его законы, легко оказаться за бортом. Все отвернулись от него — отец, мать, сестры, знакомые, друзья. Боже милостивый! Какую бурю вызвал его поступок! Сама судьба словно решила его покарать. Его операция с недвижимостью окончилась неслыханным провалом. Почему? Неужели боги стоят на страже законов общества, которыми он хотел пренебречь? Очевидно. Так или иначе его вынудили сдать позиции, и вот он снова в своем прежнем мире, полный энергии и решимости, несколько помятый после всего пережитого, но все же достаточно крупная и влиятельная фигура. Эта сдача после долгой борьбы не прошла для него безнаказанно — он сильно ожесточился, Он чувствовал, что его толкнули на первый в его жизни некрасивый и жестокий поступок. Дженни заслуживала лучшей доли. Позорно было бросить ее, получив от нее так много. Что и говорить, она превзошла его в благородстве. А главное — нельзя оправдать себя безвыходностью положения. Он мог бы прожить на десять тысяч в год; мог бы обойтись без полутора миллионов, которыми теперь владеет. Мог бы обойтись и без светского общества, которое, оказывается, не потеряло для него своей притягательной силы. Мог бы, но не захотел и еще усугубил свою вину мыслью о другой женщине. Чем она лучше Дженни? Вот вопрос, постоянно встававший перед Лестером. Добрая ли она? Разве не делала она самых откровенных попыток отнять его у женщины, которую обязана была считать его женой? И разве это похвально? Разве женщина с большим сердцем поступила бы так? В конце концов достаточно ли она хороша для него? Может, ему не следует на ней жениться? Может, ему вообще не следует жениться, поскольку он если не юридически, то морально еще связан с Дженни? Какой из него выйдет муж? Эти мысли не давали ему покоя, и он не мог отделаться от сознания, что идет на бессердечный и неблаговидный поступок. Он сделал ложный шаг, следуя материальным соображениям, а теперь готов поступиться соображениями нравственными. Второй ошибкой он пытается исправить первую. Но даст ли это ему удовлетворение, окупится ли с материальной и моральной точки зрения, принесет ли ему душевный покой? Он упорно думал об этом, пока перестраивал свою жизнь применительно к прежним, вернее, к новым условиям, но покоя не было. Скорее ему становилось хуже, им овладело мрачное, мстительное чувство. Порою он думал, что если женится на Летти, так только для того, чтобы при помощи ее денег жестоко расправиться со своими врагами, и тут же начинал презирать себя за такие мысли. Он жил в отеле «Аудиториум», ездил в Цинциннати на заседания правления, где держал себя надменно и вызывающе; мучился от внутреннего разлада и собственного равнодушия ко всему на свете. Но с Дженни он по-прежнему не встречался. Само собой разумеется, миссис Джералд с живым интересом приняла известие о новом повороте в жизни Лестера. Немного выждав для приличия, она написала ему на его адрес в Хайд-Парк, словно не зная, что он переехал. «Где вы скрываетесь?» — спрашивала она. Лестер в это время только-только стал привыкать к происшедшей с ним перемене. Он говорил себе, что нуждается в понимании и сочувствии — разумеется, женском. В гости его стали приглашать, как только выяснилось, что он живет один и его финансовое положение восстановлено. Он уже побывал в нескольких загородных домах в сопровождении одного только слуги-японца — лучший признак того, что он снова стал холостяком. О его прошлом никто не упоминал ни словом. Получив письмо миссис Джералд, Лестер решил, что нужно навестить ее. Он перед ней виноват — последние месяцы до отъезда Дженни он даже не заглядывал к ней. Но и сейчас он не стал спешить. Через некоторое время она по телефону пригласила его на обед, и тогда он, наконец, поехал. Миссис Джералд была великолепна в роли гостеприимной хозяйки. Среди ее гостей были пианист Альбони, скульптор Адам Раскевич, английский ученый сэр Нельсон Киз, а также, к удивлению Лестера, мистер и миссис Берри Додж, с которыми он не встречался, кроме как мимоходом, уже несколько лет. Лестер и хозяйка дома весело обменялись приветствиями, как люди прекрасно понимающие друг друга и радующиеся случаю провести время вместе. — И не совестно вам, сэр? — сказала она, чуть Лестер появился в дверях. — Разве можно забывать старых друзей? Выбудете за это наказаны. — Я был страшно занят, — ответил он. — А какое меня ждет наказание? Надеюсь, девяносто плетей хватит? — Девяносто плетей — как бы не так — возразила она. — Вы хотите легко отделаться. Я забыла, как это наказывают преступников в Сиаме? — Наверное, бросают в кипящее масло. — Вот это скорей подойдет. Я уж придумаю для вас какую-нибудь страшную казнь. — Ну, когда придумаете — сообщите мне, — засмеялся он, но тут миссис де Линкум, помогавшая хозяйке принимать гостей, увела его, чтобы представить знатным иностранцам. Завязался оживленный разговор. Лестер, который всегда чувствовал себя в такой обстановке, как рыба в воде, ощущал необыкновенный прилив бодрости. Обернувшись, он вдруг увидел рядом с собой Берри Доджа. Додж расплылся в любезнейшей улыбке. — Где ты обретаешься? — спросил он. — Мы тебя не видели не помню сколько лет. Пойдем к миссис Додж, она хочет с тобой поговорить. — Да, давненько не видались, — беззаботно подтвердил Лестер, вспомнив их последнюю встречу и тон Доджа, так непохожий на его сегодняшнее обхождение. — Живу я в «Аудиториуме». — А я только на днях о тебе справлялся. Ты Джексона Дюбуа знаешь? Ну, конечно, знаешь. Так вот, мы с ним собираемся махнуть в Канаду, поохотиться. Ты нам не составишь компанию? — Сейчас не могу, — ответил Лестер. — Я очень занят. Как-нибудь в другой раз — с удовольствием. Додж не отходил от него. Совсем недавно он прочел, что Лестер избран в правление еще одной компании, — видимо, человек опять пошел в гору. Но тут доложили, что обед подан, и Лестер оказался по правую руку от миссис Джералд. — Вы не собираетесь побывать у меня с менее официальным визитом? — спросила она вполголоса, пользуясь минутой, когда беседа за столом стала особенно оживленной. — Собираюсь, — отвечал он, — и в самом скором времени. Право же, я давно хотел к вам зайти. Но вы знаете, как сейчас обстоят мои дела? — Знаю. Я многое слышала. Поэтому я и хочу, чтобы вы пришли. Нам нужно поговорить. Через десять дней он к ней пришел. Ему хотелось повидать ее; он скучал, не находил себе места; после долгих лет, проведенных под одним кровом с Дженни, жизнь в отеле казалась ему невыносимой, нужно было излить кому-то душу, а где же искать сочувствия, как не здесь? Летти только о том и мечтала, чтобы его утешить. Будь ее воля, она обняла бы его и стала гладить по голове, как ребенка. — Ну-с, — сказал он, после того как они по привычке обменялись шутками, — никаких объяснений вы от меня не ждете? — Вы сожгли свои корабли? — спросила она? — Ох, не знаю, — ответил он задумчиво. — И вообще не могу сказать, чтобы все это меня особенно радовало. — Я так и думала, — вздохнула миссис Джералд. — Я же вас знаю. Могу представить себе все, что вы перечувствовали. Я следила за каждым вашим шагом и хотела только одного — чтобы вы обрели душевный покой. Такие вещи всегда даются трудно, но я сейчас убеждена, что это к лучшему. То было не для вас. И все равно вы бы не выдержали. Нельзя вам жить, как улитке в своей раковине. Вы не созданы для этого, так же как и я. Вы жалеете о том, что сделали, но если бы вы этого не сделали, то жалели бы еще больше. Нет, продолжать такую жизнь вам было невозможно — разве вы не согласны со мной? — Право, не знаю, Летти. Я ведь давно хотел к вам прийти, но считал, что не имею права. Внешне борьба окончена — вы меня понимаете? — Понимаю, — сказала она ласково. — Но внутри она продолжается. Я еще не во всем разобрался. Мне не ясно, насколько меня связывает мое финансовое положение. Скажу вам откровенно, я даже не знаю, люблю ли я ее. Но мне ее жаль, а это уже немало. — Она, разумеется, хорошо обеспечена. — Это прозвучало не как вопрос, а как мимолетное замечание. — Конечно. Но Дженни — человек особого склада. Ей много не нужно. Она по натуре домоседка, внешний блеск ее не привлекает. Я снял для нее коттедж в Сэндвуде, это на озере, к северу от Чикаго; но она знает, что может жить где ей угодно; денег в ее распоряжении вполне достаточно. — Я понимаю, каково ей, Лестер. И понимаю, каково вам. Первое время она будет жестоко страдать — все мы страдаем, когда лишаемся того, что любим. Но все проходит, а жизнь течет своим чередом. И с ней так будет. Сначала будет очень тяжело, а потом она успокоится и не затаит на вас обиды. — Дженни меня никогда не упрекнет, это я знаю, — возразил он. — Я сам буду упрекать себя, и еще долго. Таков уж я человек. Сейчас я, хоть убей, не могу сказать, вызвана ли моя теперешняя тревога силой привычки или более глубоким чувством. Иногда мне сдается, что я самый тупой человек на свете. Я слишком много думаю. — Бедный Лестер! — сказала она нежно. — Я-то вас понимаю. Тоскливо вам жить одному в гостинице? — Очень, — отвечал он. — Почему бы вам не уехать на несколько дней в Вест-Баден? Я тоже туда еду. — Когда? — спросил он. — В будущий вторник. — Минутку, — сказал он. — Сейчас посмотрим. — Он перелистал записную книжку. — Я мог бы приехать в четверг, на несколько дней. — Вот и отлично. Вам нужно побыть с людьми. Мы там погуляем, поговорим. Так приедете? — Приеду. Она подошла к нему, волоча за собой шлейф бледно лилового платья. — Нельзя так много думать, сэр, — сказала она беспечно. — Обязательно вам нужно докопаться до корня. Зачем это? Впрочем, вы всегда были такой. — Что ж поделаешь, — ответил он. — Я не умею не думать. — Ну, одно я знаю. — Она легонько ущипнула его за ухо. — Второй раз ваши добрые чувства не заставят вас совершить ошибку. Я этого не допущу, — добавила она смело. — Вы должны быть свободны, пока не обдумаете все как следует и не решите, что вам нужно. Иначе нельзя. А я хочу вас попросить взять на себя управление моими делами. Вы могли бы давать мне куда более ценные советы, чем мой поверенный. Он встал, отошел к окну и исподлобья посмотрел на нее. — Знаю я, что вам нужно, — сказал он хмуро. — А почему бы и нет? — спросила она, снова подходя к нему. В ее взгляде была и мольба и вызов. — Почему бы нет? — Вы сами не знаете, что делаете, — проворчал он, но не отвел от нее взгляда; она стояла перед ним во всем обаянии зрелой женщины, умная, настороженная, полная участия и любви. — Летти, — сказал он, — напрасно вы хотите выйти за меня замуж. Я этого не стою, уверяю вас. Я человек холодный, безнадежный скептик. Ничего из этого не выйдет. — А по-моему, выйдет, — не сдавалась она. — Я знаю, какой вы человек. И мне все равно. Вы мне нужны. Он взял ее за руки, потом притянул к себе и обнял. — Бедная Летти! — сказал он. — Я этого не стою. — Смотрите, пожалеете. — Нет, не пожалею, — возразила она. — Я знаю, что делаю. Мне все равно, какого вы мнения о себе. — Она приникла щекой к его плечу. — Вы мне нужны. — Так вы, чего доброго, меня добьетесь, — сказал он и, наклонившись, поцеловал ее. — Ах! — воскликнула она и спрятала лицо у него на груди. «Нехорошо, — думал он, обнимая ее, — не следовало мне этого делать». Но он все держал ее в объятиях, и когда она, подняв голову, снова потянулась к нему, он целовал ее еще много раз.Глава 56
Если бы не влияние некоторых обстоятельств, Лестер, возможно, со временем и вернулся бы к Дженни. Он хорошо понимал, что, крепко взяв в руки управление своим состоянием и выждав, пока улягутся страсти, он мог бы пойти на дипломатическую уловку и в той или иной форме возобновить свои отношения с нею. Но для этого ему пришлось бы поступиться неизменным правилом — выполнять свои обязательства, даже если они нигде прямо не оговорены. К тому же он не мог отделаться от мысли о широчайших возможностях, которые открыла бы перед ним женитьба на миссис Джералд. Искреннее влечение к Дженни не мешало ему сознавать, как много значат личность и богатство ее соперницы — одной из интереснейших представительниц высшего света. В мыслях он постоянно противопоставлял друг другу этих женщин. Одна — изысканная, образованная, привлекательная, искушенная во всех тонкостях светского обращения и достаточно богатая, чтобы удовлетворить любую свою прихоть; другая — непосредственная, любящая, ласковая, не обученная светским манерам, но как никто способная чувствовать красоту жизни и все, что есть прекрасного в человеческих отношениях. Миссис Джералд понимала и признавала это. Осуждая связь Лестера, она критиковала не Дженни, но неразумность этой связи с точки зрения его карьеры. Другое дело брак с нею самой — это было бы идеальным завершением его самых честолюбивых замыслов. Это было бы хорошо во всех отношениях. Он будет с нею так же счастлив, как с Дженни — почти так же, — и вдобавок ему приятно будет сознавать, что он самая значительная фигура в светских и финансовых кругах Среднего Запада. Его материальные проблемы тоже разрешались в этом случае наилучшим образом. Лестер много и серьезно думал и наконец решил, что нет смысла тянуть и откладывать. Расставшись с Дженни, он уже нанес ей непоправимую обиду. Не все ли равно, если теперь к ней прибавится вторая? Дженни обеспечена, у нее есть решительно все, что ей нужно, кроме разве его, Лестера. Она сама признала, что им следует расстаться. Так, устав от своей неустроенной и неуютной жизни, он выдумывал себе оправдания и постепенно привыкал к мысли о новом союзе. Постоянное общение с миссис Джералд и явилось тем решающим обстоятельством, которое помешало Лестеру вновь соединиться с Дженни. Все как нарочно складывалось так, что именно она должна была спасти его от утомительного внутреннего разлада. Пока он жил один, он мог время от времени бывать в гостях, но это его мало интересовало. Он был слишком тяжел на подъем, чтобы самостоятельно собрать вокруг себя людей, которые были бы ему по душе, тогда как женщине, подобной миссис Джералд, ничего не стоило себя ими окружить. Вдвоем это было бы им особенно легко. Где бы они ни решили жить, их дом всегда был бы полон интересных людей. Лестеру оставалось бы только появляться среди гостей и наслаждаться беседой. Летти прекрасно разбирается в том, какой образ жизни его привлекает. Ей нравятся те же люди, что и ему. У них столько общих интересов, жизнь с нею была бы сплошным удовольствием. Итак, Лестер провел несколько дней с миссис Джералд в Вест-Бадене, а в Чикаго предоставил себя в ее распоряжение для обедов, прогулок и выездов в свет. В ее доме он чувствовал себя почти хозяином — она сама этого добивалась. Она подробно рассказывала ему о своих делах, объясняя, почему ей нужен его совет по тому или иному вопросу. Она не хотела надолго оставлять его одного с его мыслями и сожалениями. И он шел к ней, когда хотел утешиться, забыться, отдохнуть от забот. Он много с кем встречался у нее в доме, и среди их знакомых уже стали поговаривать о том, что они собираются пожениться. Поскольку прежняя связь Лестера вызвала так много пересудов, Летти решила ни в коем случае не устраивать торжественной свадьбы. Достаточно будет коротенькой заметки в газетах, а через некоторое время, когда все успокоится и сплетни утихнут, она, ради его блага, ослепит весь город своими приемами. — Может, нам пожениться в апреле и уехать на лето за границу? — предложила она однажды. В том, что брак — их дело решенное, ни он, ни она уже не сомневались. — Поедем в Японию. А осенью вернемся и снимем дом на набережной. Лестер расстался с Дженни так давно, что совесть уже не мучила его с прежней силой. Внутренний голос еще не совсем умолк, но Лестер старался заглушить его. — Ну что ж, — ответил он почти шутливым тоном, — только, пожалуйста, без всякого шума. — Ты правда согласен, милый? — воскликнула она, радостно глядя на него; перед этим они спокойно провели вечер за чтением и разговорами. — Я достаточно долго думал, — ответил он, — и не вижу причин откладывать. Она подошла, села к нему на колени и положила руки ему на плечи. — Мне просто не верится, что ты это сказал, — промолвила она, удивленно глядя на него. — Что же мне, взять свои слова обратно? — Нет, нет! Значит, решено, в апреле. И мы поедем в Японию. Теперь ты уже не передумаешь. И шума никакого не будет. Но, бог ты мой, какое я себе закажу приданое! Она весело взъерошила ему волосы. Он улыбнулся чуть напряженной улыбкой; чего-то недоставало в его безоблачном счастье, может быть, это сказались годы.Глава 57
Тем временем Дженни понемногу привыкла к совершенно новой обстановке, в которой ей отныне предстояло проводить свои дни. Сначала это было страшно — жить без Лестера. Дженни и сама была незаурядной личностью, но все ее существование так переплелось с существованием Лестера, что казалось, разорвать и распутать эти нити невозможно. В мыслях она непрестанно была с ним, словно они и не разлучались. Где он сейчас? Что делает? Что говорит? Как выглядит? По утрам она просыпалась с ощущением, что он рядом с ней. По вечерам ей казалось, что нельзя лечь спать, пока его нет. Он должен скоро вернуться… Ах, нет, он не вернется никогда… Боже мой, подумать только! Никогда. А она так о нем тоскует. Нужно было наладить жизнь до последних мелочей, и это тоже давалось нелегко — уж очень резкой и болезненной оказалась ломка. Самое главное — нужно было как-то объяснить все происшедшее Весте. Девочка уже многое замечала и много думала, и теперь у нее были свои сомнения и догадки. Веста вспоминала разговоры о том, что, когда она родилась, ее мать не была замужем. В свое время она видела воскресную газету с романтической историей про Дженни и Лестера — эту газету ей показали в школе, — но она оказалась достаточно умна, чтобы ничего не сказать об этом дома: она почувствовала, что это не понравилось бы матери. Исчезновение Лестера безмерно удивило ее; однако за последние два-три года она убедилась, как чувствительна ее мать и как легко сделать ей больно, Поэтому она воздержалась от вопросов. Дженни пришлось самой рассказать дочери, что Лестер мог лишиться своего состояния, если бы не оставил их, поскольку Дженни была ниже его по общественному положению. Веста спокойно выслушала ее, но заподозрила правду. Она прониклась огромной жалостью к матери и, видя, как та угнетена, старалась быть особенно бодрой и веселой. Уехать в закрытую школу она наотрез отказалась и как можно больше времени проводила с Дженни. Она выбирала самые интересные книги, чтобы читать их вслух, упрашивала мать пойти с ней в театр, играла ей на рояле, показывала ей свои рисунки и спрашивала ее мнения. Подружившись с несколькими девочками в превосходной Сэндвудской школе, она приводила их по вечерам к себе, и коттедж наполнялся шумным весельем. Дженни все больше ценила чудесный характер девочки и все больше привязывалась к ней. Лестер ушел, но зато у нее есть Веста. Вот кто будет ей опорой на закате ее жизни. Дженни знала, что ей нужно будет объяснить свое положение соседям и новым знакомым. Бывает, что человеку удается прожить в уединении, не распространяясь о своем прошлом, но обычно что-нибудь да приходится рассказать. Люди любопытны — особенно такие люди, как мясники и булочники, — и уйти от их расспросов трудно. Так было и с Дженни. Она не могла сказать, что ее муж умер, — ведь Лестер мог вернуться. Пришлось говорить будто она сама от него уехала, чтобы создалось впечатление, что она вольна разрешить или не разрешить ему вернуться. Это было хорошо придумано — к ней стали относиться с сочувственным интересом. А она зажила тихой, однообразной жизнью в ожидании неведомой развязки. Скрашивали ее существование любовь Весты и сказочно красивая природа Сэндвуда. Дженни не уставала любоваться озером, по которому с утра до вечера скользили быстрые лодки, и живописными окрестностями городка. У нее был шарабан и лошадь — одна из той пары, на которой они ездили, когда жили в Хайд-Парке. Со временем появились и другие любимцы, и среди них собака-колли, которую Веста назвала «Мышка». Дженни привезла ее из Чикаго щенком, а теперь это был прекрасный сторожевой пес, умный и ласковый. Была у них и кошка, Джимми Вудс, — Веста окрестила ее так в честь знакомого мальчика, на которого кошка, по ее словам, была очень похожа. Был певчий дрозд, тщательно охраняемый от хищных набегов Джимми Вудса, и аквариум с золотыми рыбками. И жизнь в коттедже текла спокойно и безмятежно, а бурные переживания и чувства были глубоко скрыты от людских глаз. Первое время после своего отъезда Лестер не писал Дженни; он целиком ушел в дела, связанные с его возвращением в коммерческие сферы, а кроме того, считал, что нехорошо зря волновать Дженни письмами, которые при данных обстоятельствах все равно ничего не значили. Он решил дать ей и себе передышку, с тем чтобы потом трезво и спокойно написать обо всех своих делах. Он молчал месяц, а потом действительно сообщил ей письмом, что был по горло завален делами и несколько раз уезжал из Чикаго (это соответствовало действительности), а в будущем думает бывать там лишь изредка. Он спрашивал о Весте, о том, как идет жизнь в Сэндвуде. «Я, возможно, скоро побываю у вас», — писал он, но на самом деле у него не было такого намерения, и Дженни это сразу поняла. Прошел еще месяц, и он опять написал, теперь уже совсем коротенькое письмо. Отвечая ему в первый раз, Дженни подробно рассказала о своей жизни. О своих чувствах она не обмолвилась ни словом, но упомянула, что всем довольна и в Сэндвуде ей очень хорошо. Она надеется, что для него все теперь сложится к лучшему, и от души рада, что все трудные вопросы наконец разрешены. «Не думай, что я несчастлива, — писала она, — это неверно. Я убеждена, что мы поступили правильно, и не была бы счастлива, если бы все было иначе. А ты строй свою жизнь так, чтобы тебе было как можно лучше. Ты достоин большого счастья, Лестер. Что бы ты ни сделал, по мне все будет хорошо. Я заранее согласна». Она думала о миссис Джералд, и Лестер это понял, читая ее письмо, как понял и то, сколько самопожертвования и молчаливых мук скрыто за ее великодушием. Только это и заставило его так долго колебаться, прежде чем сделать решительный шаг. Как бесконечно далеки друг от друга написанное слово и тайная мысль! После шести месяцев Лестер почти перестал писать, после восьми — их переписка окончательно прекратилась. Однажды утром, просматривая газету, Дженни увидела в отделе светской хроники следующую заметку.«Во-вторник, в своем доме на бульваре Дрексел № 4044, миссис Мальком Джералд объявила собравшимся у нее близким друзьям о своей помолвке с Лестером Кейном, младшим сыном ныне покойного Арчибалда Кейна из Цинциннати. Свадьба состоится в апреле».Газета выпала у нее из рук. Несколько минут она сидела неподвижно, глядя в одну точку. «Неужели это возможно? — думала она. — Неужели это случилось?» Она знала, что так будет, и все-таки… все-таки надеялась. На что она надеялась, почему? Разве она не сама настояла, чтобы он ушел от нее? Не сама дала ему понять, что так будет лучше? И вот это произошло. Что же ей теперь делать? Остаться здесь, жить на его деньги? Нет, только не это! А между тем Лестер предоставил в ее полное распоряжение большие средства. В банке на Ла-Саль-стрит хранилось на семьдесят пять тысяч долларов железнодорожных акций, ежегодный доход с которых — четыре с половиной тысячи — выплачивался непосредственно ей. Могла ли она отказаться от этих денег? Ведь нужно было думать о Весте. Дженни чувствовала себя уязвленной до глубины души, но тут же поняла, что сердиться было бы глупо. Жизнь всегда обходилась с ней жестоко. Наверно, так будет до конца. Ну, попробует она жить самостоятельно, сама зарабатывать себе на хлеб, а какое это будет иметь значение для Лестера? И для миссис Джералд? Она, Дженни, заперта в четырех стенах в этом маленьком городке, незаметная, одинокая, а он там, в широком мире, живет полной жизнью, наслаждается свободой. Нехорошо это, несправедливо. Но к чему плакать? К чему? И глаза ее были сухи, но душа исходила слезами, она медленно встала, спрятала газету на дно чемодана и заперла чемодан на ключ.
Глава 58
Теперь, когда его помолвка с миссис Джералд стала свершившимся фактом, Лестеру уже не так трудно было примириться с новым положением вещей. Да, несомненно, все к лучшему. Он глубоко сочувствовал Дженни. Миссис Джералд тоже ей сочувствовала, но утешалась мыслью, что так будет лучше и для Лестера и для этой бедной женщины. Он будет много счастливее, это уже сейчас видно. А Дженни со временем поймет, что поступила умно и самоотверженно, и будет черпать радость в сознании собственного великодушия. Сама же миссис Джералд, никогда не питавшая нежных чувств к своему покойному мужу, была на седьмом небе: наконец-то, хоть и с некоторым запозданием, сбылись ее девичьи мечты! Ничего лучше жизни с Лестером она не могла себе представить. Куда они только не поедут, чего только не увидят! Будущей зимой она, новоиспеченная миссис Лестер Кейн, покажет всему городу, какие бывают балы и приемы! А Япония… Просто дух захватывает, как это будет чудесно. Лестер написал Дженни о своей предстоящей женитьбе. Он не дает ей никаких объяснений, они были бы излишни. Он считает, что ему следует жениться на миссис Джералд. И что ей, Дженни, следует об этом знать. Он надеется, что она здорова. Она должна всегда помнить, что он принимает ее судьбу близко к сердцу. Он всеми силами постарается сделать ее жизнь возможно приятнее и легче. Пусть не поминает его лихом. И передаст от него привет Весте. Ее нужно отдать в самую лучшую среднюю школу. Дженни слишком хорошо понимала, как обстоит дело. Она знала, что Лестера тянуло к миссис Джералд с тех самых пор, как они встретились в Лондоне, в отеле «Карлтон». Эта женщина долго ловила его. Теперь она его добилась! Все в порядке. Пусть будет счастлив. Дженни так и написала в ответ, добавив, что объявление о помолвке видела в газете. Получив ее письмо, Лестер задумался; между строк он прочел много больше, чем она написала. Даже сейчас он подивился твердости ее духа. Несмотря на все обиды, которые он ей нанес и еще собирался нанести, он знал, что его чувство к Дженни не совсем угасло. Она благородная, обаятельная женщина. Сложись обстоятельства по-другому, он не готовился бы к женитьбе на миссис Джералд. И все-таки он женился на ней. Бракосочетание состоялось пятнадцатого апреля в доме у миссис Джералд; венчал их католический священник. Лестер отнюдь не был примерным сыном церкви. Он был неверующий, но решил, что раз уж он воспитан в лоне церкви, нет смысла отказываться от церковного брака. Собралось человек пятьдесят гостей — все близкие друзья. Обряд прошел без малейшей заминки. Новобрачных оглушили поздравлениями, осыпали пригоршнями риса и конфетти. Гости еще пировали, когда Лестер и Летти выскользнули из дома через боковой подъезд, где их ждала карета. Через четверть часа веселая погоня устремилась за ними на вокзал железнодорожнойдороги Чикаго — Рок Айленд — Сан-Франциско. Но когда провожающие прибыли, счастливая пара уже сидела в своем купе. Снова смех, оживленные возгласы, шампанское, и вот, наконец, поезд тронулся — молодые отправились в путь. — Итак, ты меня добилась, — весело сказал Лестер, усаживая Летти рядом с собой. — Ну, и что? — Вот что! — воскликнула она и, крепко обняв его, горячо расцеловала. Через четыре дня они были на берегу Тихого океана, еще через два уже неслись на самом быстром пароходе в страну микадо. А Дженни осталась одна со своим горем. Узнав, что Лестер женился в апреле, она стала внимательно просматривать газеты в поисках подробностей. Наконец она прочла, что свадьба состоится в полдень пятнадцатого апреля, в доме миссис Джералд. Несмотря на все свое смирение и покорность судьбе, Дженни с жадностью тянулась к этому недоступному счастью — так смотрит голодный бродяжка на рождественскую елку в освещенном окне. Настало пятнадцатое апреля. Дженни едва дождалась, пока пробьет двенадцать. Она так остро переживала все события этого дня, словно сама в них участвовала. В мыслях она видела прекрасный особняк, кареты, гостей, венчальный обряд, веселый свадебный пир. Она чувствовала, как им хорошо в их роскошном купе, какое им предстоит увлекательное путешествие. В газетах упоминалось, что медовый месяц молодые проведут в Японии. Медовый месяц! Ее Лестер! И миссис Джералд так хороша. И ее — новую миссис Кейн, единственную настоящую миссис Кейн — обнимает Лестер! Когда-то он также обнимал ее. Он ее любил! Да, любил! У Дженни сжималось горло. О господи! Она вздохнула, до боли стиснула руки, но облегчения не было — тоска по-прежнему давила ее. Когда этот день миновал, ей стало легче; дело сделано, и никакими силами нельзя ничего изменить. Веста, которая тоже читала газеты, прекрасно понимала, что произошло, и от всей души жалела мать, но молчала. Через два-три дня Дженни немного успокоилась, примирившись с неизбежным, но прошло еще много времени, прежде чем острая боль утихла, уступив место привычной глухой тоске. Дженни считала дни и недели до их возвращения, хотя знала, что ей больше нечего ждать. Но очень уже далекой казалась Япония, и Дженни почему-то было легче, когда она знала, что Лестер близко от нее, в Чикаго. Прошла весна, за ней лето, и наступил октябрь. Однажды в холодный, ветреный день Веста, вернувшись из школы, пожаловалась на головную боль. Дженни, помня наставления матери, напоила ее горячим молоком, посоветовала положить на затылок мокрое полотенце, и девочка ушла к себе и легла. На следующее утро у нее немного поднялась температура. Местный врач, доктор Эмри, сразу заподозрил брюшной тиф — в округе уже было отмечено несколько случаев заболевания. Врач сказал Дженни, что организм у девочки крепкий и, по всей вероятности, она справится с болезнью, но, возможно, будет болеть тяжело. Не полагаясь на свое умение, Дженни выписала из Чикаго сестру милосердия, и потянулись дни ожидания, когда мужество сменялось отчаянием, страх — надеждой. Скоро все сомнения отпали; у Весты действительно был брюшной тиф. Дженни не сразу написала Лестеру, хотя и думала, что он в Нью-Йорке: судя по газетам, он собирался провести там зиму. Но через неделю, когда врач определил форму болезни как тяжелую, она решила все-таки написать — как знать, что может случиться. Лестер так любил девочку. Наверно, ему захотелось бы о ней узнать. Лестер не получил этого письма: когда оно прибыло в Нью-Йорк, он уже отплыл в Вест-Индию. Дженни пришлось самой дежурить у постели Весты. Добрые соседи, понимая серьезность положения, навещали ее и участливо справлялись о больной, но они не могли оказать Дженни настоящей нравственной поддержки, которую мы чувствуем, лишь когда она исходит от близких нам людей. Одно время казалось, что Весте лучше; и врач и сестра готовы были обнадежить Дженни. Но потом девочка стала заметно терять силы. Доктор Эмри объяснил, что болезнь дала осложнения на сердце и на почки. И вот уже тень смерти нависла над домом. Лицо врача стало сосредоточенно-серьезным, сестра на все отвечала уклончиво. А Дженни молилась — ибо что же и назвать молитвой, если не страстное желание, на котором сосредоточены все помыслы, — только бы Веста поправилась! В последние годы девочка стала так близка ей; она любила мать, она уже понимала своим детским умом, как много матери пришлось выстрадать. А сама Дженни благодаря ей прониклась более глубоким чувством ответственности. Она теперь знала, что значит быть хорошей матерью. Если бы Лестер захотел, если бы она была законной женой, как она была бы рада иметь от него детей. И притом она всегда чувствовала себя в долгу перед Вестой; долгую, счастливую жизнь — вот что она обязана дать своей девочке, чтобы искупить позор ее рождения и раннего детства. Дженни с такой радостью наблюдала, как ее маленькая дочь превращается в красивую, грациозную, умную девушку. И вот теперь она умирает. Доктор Эмри вызвал на консилиум знакомого врача из Чикаго. Вдумчивый, доброжелательный старик только покачал головой. — Лечение было правильным, — сказал он. — Видимо, организм недостаточно крепок. Не все одинаково способны бороться с этой болезнью. Врачи вынесли приговор; если через три дня не будет поворота к лучшему, нужно ждать конца. От Дженни не сочли возможным скрыть истину; она сидела у постели дочери без кровинки в лице, без мысли, поглощенная одним чувством, натянутая, как струна. Казалось, все ее существо отзывается на каждую перемену в состоянии Весты, она физически ощущала малейший прилив сил у девочки, малейшее ухудшение. Одна из соседок Дженни, миссис Дэвис, полная, немолодая женщина, относилась к ней с чисто материнской нежностью. Глубоко сочувствуя Дженни, она вместе с доктором и сестрой с самого начала делала все, чтобы не дать ей впасть в отчаяние. — Вы бы пошли к себе и прилегли, миссис Кейн, — говорила она Дженни, видя, что та не сводит глаз с Весты или бесцельно бродит по комнатам. — Я тут за всем пригляжу. Справлюсь не хуже вас. Вы что же, думаете, я не сумею? Я сама семерых родила, троих схоронила. Разве я не понимаю? Однажды Дженни расплакалась, припав головой к ее мягкому, теплому плечу. Миссис Дэвис всплакнула с ней вместе. — Бедная вы моя, разве я не понимаю! Ну, пойдемте со мной. И она увела ее в спальню. Но Дженни не могла долго оставаться одна. Через несколько минут, совсем не отдохнув, она уже вернулась к дочери. И наконец, однажды в полночь, после того как сестра с уверенностью сказала, что до утра ничего случиться не может, в комнате больной началась какая-то суета. Дженни, которая только что прилегла в соседней комнате, услышала это и встала. У постели Весты, тихо совещаясь, стояли сестра и миссис Дэвис. Дженни все поняла. Подойдя к дочери, она впилась долгим взглядом-в ее восковое лицо. Девочка едва дышала, глаза ее были закрыты. — Она очень слаба, — шепнула сестра. Миссис Дэвис взяла Дженни за руку. Проходили минуты, уже часы в передней пробили час. Время от времени сестра подходила к столику с лекарствами и, окунув тряпочку в воду, смачивала губы Весты. В половине второго ослабевшее тело шевельнулось. Послышался глубокий вздох. Дженни жадно наклонилась вперед, но миссис Дэвис потянула ее за руку. Сестра сделала им знак отойти. Дыхание прекратилось. Миссис Дэвис крепко обхватила Дженни за плечи. — Бедная моя, хорошая, — зашептала она, видя, что Дженни сотрясается от рыданий. — Ну не надо плакать, слезами горю не поможешь. Дженни опустилась на колени у кровати и погладила еще теплую руку дочери. — Веста, — молила она, — не уходи от меня, не уходи. Словно издалека до нее доносился ласковый голос миссис Дэвис: — Не надо так убиваться, милая. Все в руке божией. Что он ни делает, все к лучшему. Дженни чувствовала, что земля разверзлась под ней. Все нити порваны. Ни проблеска света не осталось в обступившем ее необъятном мраке.Глава 59
Сломленная этим новым ударом безжалостной судьбы, Дженни опять впала в то угнетенное состояние, от которого ее излечили спокойные и счастливые годы, прожитые с Лестером в Хайд-Парке, Прошло много времени, прежде чем она осознала, что Веста умерла. Исхудалое тело, на которое она смотрела еще два дня, совсем не было похоже на ее девочку. Где прежняя радость, где ловкость и быстрота движений, живой блеск глаз? Все исчезло. Осталась бледная, восковая оболочка и — тишина. Дженни не плакала, она только ощущала глубокую, неотступную боль. И не было возле нее никого, кто шепнул бы ей слова вечной мудрости — простые и проникновенные слова о том, что смерти нет. Доктор Эмри, сестра, миссис Дэвис и другие соседи — все были участливы, внимательны к Дженни. Миссис Дэвис телеграфировала Лестеру о смерти Весты, но он был далеко, и ответа не последовало. Кто-то готовил обед и старательно поддерживал порядок в комнатах — сама Дженни ничем не интересовалась. Она только перебирала и разглядывала любимые вещи Весты, вещи, когда-то подаренные Лестером или ею самой, и вздыхала при мысли, что девочке они больше не понадобятся. Дженни распорядилась, чтобы тело Весты перевезли в Чикаго и похоронили на кладбище Спасителя, — когда умер Герхардт, Лестер приобрел там участок земли. По ее просьбе священник лютеранской церкви, в которую всегда ходил Герхардт, должен был сказать несколько слов над могилой. Дома, в Сэндвуде, были соблюдены все обряды. Священник местной методистской церкви прочел начало первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, хор одноклассниц Весты пропел «К тебе, господь, к тебе». Были цветы, и белый гроб, и несчетные соболезнования, а потом Весту увезли. Гроб спрятали в ящик, погрузили в поезд и доставили на лютеранское кладбище в Чикаго. Дженни прожила эти дни как во сне. Оглушенная своим горем, она почти ничего не чувствовала и не воспринимала. Миссис Дэвис и по ее настоянию еще четыре соседки поехали в Чикаго на похороны. Когда гроб опускали в могилу, Дженни стояла, смотрела и казалась безучастной, словно окаменела. После похорон она вернулась в Сэндвуд, но ненадолго. Ей хотелось быть в Чикаго, поближе к Весте и к отцу. Оставшись одна, Дженни попыталась обдумать свою дальнейшую жизнь. Она чувствовала, что ей необходимо работать, хоть это и не вызывалось материальной нуждой. Можно стать сестрой милосердия, тогда надо сейчас же начать учиться. Вспоминала Дженни и про своего брата Уильяма. Уильям не женат. Может быть, он захочет жить вместе с ней. Вот только адрес его ей неизвестен, и Басс как будто тоже не знает, где его можно найти, Дженни решила поискать работы в каком-нибудь магазине. Надо что-то делать. Не может она жить здесь одна, предоставив соседям заботиться о ее судьбе. Как ей ни тяжело, все же легче будет, если она переедет в Чикаго и, остановившись в гостинице, поищет себе работу или снимет домик неподалеку от кладбища Спасителя. А еще можно взять на воспитание ребенка. В городе сколько угодно сиротских приютов. Лестер возвратился с женой в Чикаго недели через три после смерти Весты и тут только нашел первое письмо Дженни, телеграмму и еще коротенькое письмо с извещением о смерти девочки. Он искренне печалился, потому что был по-настоящему привязан к ней. Охваченный жалостью к Дженни он тут же сказал жене, что поедет навестить ее. Его тревожило будущее Дженни. Нельзя, чтобы она жила одна. Может быть, он сумеет дать ей какой-нибудь полезный совет. Он поехал в Сэндвуд, но узнал там, что Дженни перебралась в отель «Тремонт» в Чикаго. В отеле он ее тоже не застал — она ушла на могилу дочери. Он заехал еще раз в тот же день, и ему сказали, что она дома. Когда ей подали карточку Лестера, Дженни страшно взволновалась, сильнее, чем волновалась, встречая его в прежние дни, потому что сейчас он был ей нужнее. Лестер все еще много думал о своем поступке — этому не помешали ни его сверхблагополучный брак, ни вновь обретенное богатство и почет. Его сомнения и недовольство собой не улеглись до сих пор. Мысль, что он обеспечил Дженни, не утешала его — он всегда знал, как мало значат для нее деньги. Любовь — вот смысл ее жизни. Без любви она была как утлая лодка в открытом море, — это он хорошо знал. Ей нужен был только он сам, и Лестер испытывал глубокий стыд при мысли, что сострадание к ней оказалось бессильным перед чувством самосохранения и жаждой богатства. В тот день, когда он поднимался на лифте отеля «Тремонт», совесть жестоко мучила его, хоть он и понимал, что теперь не в его власти что-либо исправить. Он кругом виноват — и в том, что увлек Дженни, и в том, что не остался с нею до конца наперекор всему свету. Но теперь уже ничего не поделаешь. Нужно только обойтись с Дженни как можно мягче, поговорить с нею, по мере сил помочь ей сочувствием и советом. — Здравствуй, Дженни, — сказал он приветливо, когда она отворила ему дверь. Как изменили ее перенесенные страдания! Она похудела, бледные щеки ввалились, глаза казались огромными. — Какое страшное несчастье, — заговорил он смущенно. — Кто бы мог подумать, что это случится. То были первые слова утешения, которые дошли до сердца Дженни с тех пор, как Веста умерла, с тех пор, как сам Лестер ее покинул. Его приход глубоко тронул ее; от волнения она не могла говорить. Слезы задрожали у нее на ресницах и потекли по щекам. — Не плачь, Дженни, — сказал он, обняв ее и ласково прижимая к плечу ее голову. — Мне так жаль. Я о многом жалею, да поздно об этом говорить. Мне бесконечно жаль Весту. Где ты ее похоронила? — Рядом с папой, — ответила Дженни и разрыдалась. — Бедняжка, — сказал он тихо и замолчал. Немного успокоившись, она отошла от него и, вытерев глаза, пригласила его сесть. — Так обидно, что меня не было здесь, когда это случилось, — продолжал Лестер. — А то я все время был бы с тобой. Ты теперь, вероятно, не захочешь больше жить в Сэндвуде? — Я не могу, Лестер, — сказал она. — Просто сил нет. — Куда же ты думаешь переехать? — Еще не знаю. Там мне просто не хотелось обременять соседей. Я думала снять где-нибудь маленький домик и, может быть, взять на воспитание ребенка или поступить на работу… Мне так не хочется жить одной. — А это неплохая мысль — взять на воспитание ребенка, — сказал он. — Тебе будет не так тоскливо. Ты уже справлялась о том, что для этого нужно? — Я думаю, нужно просто обратиться в какой-нибудь приют. — Возможно, что это несколько сложнее, — сказал он в раздумье. — Полагается соблюсти какие-то формальности, я точно не знаю, какие. В приютах требуют, чтобы ребенок оставался в их поле зрения или что-то в этом роде. Ты посоветуйся с Уотсоном, он тебе все разъяснит. Выбери себе младенца, а остальное предоставь ему. Я с ним поговорю, предупрежу его. Лестер понимал, как страшно для Дженни одиночество. — Где твой брат Джордж? — спросил он. — Джордж в Рочестере, но он ко мне не приедет. Басс писал, что он женился. — А больше никого нет из родных, кто согласился бы жить с тобой? — Может быть, Уильям; только я не знаю, где он сейчас. — Если ты думаешь жить в Чикаго, посмотри новый квартал к западу от Джексон-Парка, — посоветовал он. — Там, помнится, есть очень миленькие коттеджи. Не обязательно сразу покупать. Сначала сними на какой-нибудь срок, а там увидишь, подходит это тебе или нет. Дженни решила, что это прекрасный совет, — ведь она получила его от Лестера! Какой он добрый, он интересуется всеми ее делами, значит, они все-таки не совсем чужие. Она ему не безразлична. Она стала расспрашивать его о здоровье жены, о том, доволен ли он своим путешествием, долго ли пробудет в Чикаго. А он, отвечая ей, все время думал о том, как жестоко поступил с нею. Он подошел к окну и стал смотреть вниз, на людную улицу. Экипажи, фургоны, встречные потоки пешеходов — все сливалось в причудливую головоломку. Так движутся тени в сновидении. Уже темнело, тут и там зажигались огни. — Я хочу тебе кое-что сказать, Дженни, — проговорил Лестер, стряхнув с себя задумчивость. — После всего, что случилось, это может показаться тебе странным, но ты и сейчас мне дорога. Я не Переставал о тебе думать. Мне казалось, что, расставшись с тобой, я поступил благоразумно, — так уж тогда все складывалось. Мне казалось, что, раз Летти мне нравится, я могу жениться на ней. С известной точки зрения я и сейчас готов признать, что так лучше, но большого счастья это мне не дало. Счастливее, чем я был с тобой, я никогда не буду. По-видимому, дело здесь не во мне; отдельный человек вообще мало значит. Не знаю, поймешь ли ты меня, но, по-моему, все мы более или менее пешки. Нами распоряжаются силы, над которыми мы не властны. — Я понимаю, Лестер, — сказала она. Я ни на что не жалуюсь. Так лучше. — В конце концов жизнь очень похожа на фарс, — продолжал он горько. — Глупая комедия, и больше ничего. Единственное, что можно сделать, это сохранить свое «я». А честности, насколько я могу судить, от нас никто не требует. Дженни не вполне уловила смысл его слов, но она поняла, что он недоволен собой, и ей стало жаль его. Она попыталась его утешить: — Ты не тревожься за меня, Лестер. Я ничего, я проживу. Сперва, когда я только привыкала жить одна, было очень трудно. А теперь ничего. Как-нибудь проживу. — Но ты помни, что мое отношение к тебе не изменилось, — горячо сказал он. — Мне важно все, что тебя касается. Когда ты устроишься на новом месте, я приду посмотреть, все ли у тебя есть. Я и сюда еще зайду к тебе через несколько дней. Ты понимаешь, что у меня на душе? — Да, — сказал она, — понимаю. Он взял ее руку и погладил. — Не горюй, — сказал он. — Не надо. Я сделаю все, что могу. Как хочешь, а ты для меня прежняя Дженни. Я скверный человек, но кое-что хорошее во мне все же есть. — Ничего, ничего, Лестер. Я ведь сама настояла, что бы ты так поступил. Все к лучшему. И ты, наверно, счастлив теперь, когда… — Не надо, Дженни, — перебил он ее. Потом ласково привлек ее к себе и улыбнулся. — Ты меня не поцелуешь по старой памяти? Она положила руки ему на плечи, долго смотрела в глаза, потом поцеловала. Когда их губы встретились, она почувствовала, что дрожит. Лестер тоже с трудом овладел собой. Заметив его волнение, Дженни заставила себя заговорить. — Теперь иди, — сказал она твердо. — На улице уже совсем темно. Он ушел, сознавая, что ему хочется одного — остаться; Дженни до сих пор была для него единственной женщиной на свете. А Дженни стало легче, хотя им по-прежнему предстояло жить в разлуке. Она не пробовала разобраться в этической или нравственной стороне этой загадки. В отличие от многих Дженни не стремилась охватить необъятное или связать изменчивый мир одной веревочкой, называемой законом. Лестер все еще любит ее немножко. Летти он тоже любит. Ну и хорошо. Когда-то она надеялась, что никто, кроме нее, не будет ему нужен. Это оказалось ошибкой, но разве немножко любви — ничто? Нет, конечно. И сам Лестер был того же мнения.Глава 60
В последующие пять лет пути Лестера и Дженни разошлись еще дальше. Они прочно обосновались каждый в своем мире, так и не возобновив прежних отношений, к которым, казалось, могли привести их несколько встреч в отеле «Тремонт». Лестер едва поспевал справляться со своими деловыми и светскими обязанностями; он вращался в сферах, о которых скромная Дженни и не помышляла. А сама Дженни вела жизнь тихую и однообразную. В простеньком домике, на прекрасной, но отнюдь не фешенебельной улице, близ Джексон-Парка, на Южной стороне, она жила вдвоем со своей приемной дочкой Розой, темноволосой девочкой, которую она взяла из Западного приюта для подкидышей. Новые соседи знали ее под именем Дж. Г. Стовер — она сочла за благо расстаться с фамилией Кейн. А мистер и миссис Кейн, когда жили в Чикаго, занимали огромный особняк на набережной, где приемы, балы и обеды сменялись с поразительной, прямо-таки каледойскопической быстротой. Впрочем, сам Лестер в последнее время проявлял склонность к более спокойной, содержательной жизни. Из списка своих знакомых он вычеркнул многих людей, которые в смутные годы, уже отошедшие в область воспоминаний, показали себя не в меру щепетильными или фамильярными, или равнодушными, или болтливыми. Лестер был теперь членом, а в некоторых случаях даже председателем правления девяти крупнейших финансовых и торговых компаний Среднего Запада: «Объединенной Тракторной» с центром в Цинциннати, «Западной Сталеплавильной», «Объединенной Каретной», Второго национального банка в Чикаго, Второго Национального банка в Цинциннати и нескольких других, не менее значительных. В делах «Каретного треста» он не принимал непосредственного участия, предпочитая действовать через своего поверенного мистера Уотсона, однако не переставал интересоваться ими. Роберта он не видел уже семь лет, Имоджин — года три, хотя она жила в Чикаго. Луиза, Эми, их мужья и знакомые стали для него чужими людьми. Юридическую контору «Найт, Китли и О'Брайн» он и близко не подпускал к своим делам. С годами Лестер немного отяжелел, а его взгляды на жизнь приобрели явно скептическую окраску. Все меньше и меньше смысла находил он в окружающем мире. Когда-то, в отдаленные времена, произошло непонятное явление: стала эволюционировать крошечная органическая клетка, она размножалась делением, научилась соединяться с другими клетками, образуя всевозможные организмы — рыб, зверей, птиц, наконец, человека. И вот человек — скопление клеток — в свою очередь пробивает себе путь к более обеспеченному и разнообразному существованию, объединясь с другими людьми. Почему? Одному богу известно. Взять хотя бы его, Лестера Кейна. Он наделен недюжинным умом и кое-какими талантами, он получил в наследство свою меру богатства, которого он, если вдуматься, ничем не заслужил, — просто ему повезло. Но поскольку он использует это богатство так же разумно, практично и созидательно, как это сделал бы на его месте всякий другой человек, нельзя сказать, что для других оно было бы более заслуженным. Он мог бы родиться в бедности, и тогда был бы доволен жизнью не больше и не меньше, чем любой другой бедняк. К чему жаловаться, тревожиться, строить догадки? Чтобы он ни делал, жизнь будет неуклонно идти вперед, повинуясь своим собственным законам. В этом он убежден. Так к чему волноваться? Решительно не к чему. Порою Лестеру казалось, что с тем же успехом он мог бы и вовсе не появляться на свет. Дети — «нам свыше посланная радость», как сказал поэт, — отнюдь не были в его глазах чем-то обязательным или желанным. И этот его взгляд полностью разделяла миссис Кейн. У Дженни, которая по-прежнему жила на Южной стороне со своей приемной дочкой, тоже не сложилось никакого четкого представления о смысле жизни. В отличии от Лестера и миссис Кейн она не умела мыслить аналитически. Она всего насмотрелась в жизни, много выстрадала, кое-что прочла, без выбора и без системы. В специальных отраслях знания она не разбиралась вовсе. История, физика, химия, ботаника, биология и социология — все это было для нее темный лес, не то что для Летти и Лестера. Вместо знаний у нее было смутное ощущение, что мир устроен неладно и не прочно. Вероятно, никто ничего не понимает до конца. Люди рождаются и умирают. Одни считают, что мир был сотворен шесть тысяч лет назад; другие — что он существует уже много миллионов лет. И что кроется за всем этим — слепой случай или какой-то направляющий разум, какой-то бог? Что-нибудь, наверно, должно быть, думалось Дженни, какая-то высшая сила создала всю окружающую нас красоту — цветы, траву, деревья, звезды. Природа так прекрасна! Жизнь порою кажется жестокой, но красота природы непреходяща. Эта мысль поддерживала Дженни, которая часто и подолгу утешалась ею в своем одиночестве. Дженни с детства была трудолюбива. Она никогда не сидела сложа руки, но работа не мешала ей думать. За последние годы она пополнела, хоть и не сверх меры; вид у нее был представительный и благообразный, на лице ни морщинки, несмотря на пережитые заботы и горе. В ее прекрасных каштановых волосах уже появилась седина. Взгляд голубых глаз проникал в самую душу Соседи отзывались о ней как о женщине ласковой, доброй и гостеприимной. О прошлом ее ничего не было известно, кроме того, что она приехала из Сэндвуда, а раньше жила в Кливленде. Она очень скупо говорила о себе. Дженни умела хорошо и с любовью ухаживать за больными, одно время она думала, что поучившись, будет работать сиделкой или сестрой милосердия. Но от этой мысли ей пришлось отказаться: она узнала, что на такую работу берут только молодых женщин. Подумала она и о том, чтобы вступить в какое-нибудь благотворительное общество. Однако ей была непонятна входившая тогда в моду новая теория, согласно которой следует только учить людей собственными силами выходить из трудного положения. Дженни казалось, что если бедняк просит помощи, ему нужно помочь, не вдаваясь в рассуждения о том, насколько он этого заслуживает; вот почему во всех учреждениях, где она робко наводила справки, Дженни встречала холодное равнодушие, если не прямой отказ. Наконец, она решила усыновить еще одного ребенка, чтобы Роза росла не одна. Ее вторым приемышем был четырехлетний мальчик Генри, получивший фамилию Стовер. Как и прежде, банк регулярно выплачивал Дженни ее доход, так что она была вполне обеспечена. Ни к торговле, ни к спекуляции у нее не было ни малейшей склонности, ей куда больше нравилось растить детей, ухаживать за цветами и вести хозяйство. Одним из косвенных последствий разрыва между Дженни и Лестером было свидание братьев впервые после чтения отцовского завещания. Роберт часто вспоминал о Лестере и с интересом следил за его успехами. Известие о женитьбе Лестера доставило ему истинное удовольствие; он всегда считал, что миссис Джералд — идеальная жена для его брата. По целому ряду признаков Роберт понял, что посмертное распоряжение отца, а также его собственные попытки захватить в свои руки «Компанию Кейн» отнюдь не способствовали хорошему отношению к нему Лестера. Однако ему казалось, что их взгляды, особенно в деловой области, не так уж сильно расходятся. Сейчас Лестер процветает. Он может позволить себе великодушный жест, может пойти на мировую. Ведь Роберт не жалея сил старался в свое время образумить брата, и руководили им самые благие побуждения. Будь они друзьями, работай за одно — перед ними открылись бы еще более широкие возможности обогащения, Роберт все чаще подумывал о том, не прельстит ли Лестера такая перспектива. Однажды, когда Роберт гостил в Чикаго, он нарочно попросил знакомых, с которыми ехал в коляске, свернуть на набережную. Ему хотелось своими глазами увидеть роскошный особняк Кейна, о котором он столько слышал. И вдруг на него пахнуло атмосферой отцовского дома: Лестер, купив этот особняк, пристроил к нему сбоку зимний сад, какой был у них в Цинциннати. В тот вечер Роберт послал Лестеру приглашение пообедать с ним в «Юнион-Клубе». Он писал, что пробудет в городе не больше двух-трех дней и хотел бы повидаться с братом. Он, разумеется, помнит, что между ними когда-то произошла размолвка, но ему хотелось бы вместе обсудить одно дело. Не приедет ли Лестер, хотя бы в четверг? Получив это письмо, Лестер сдвинул брови и сразу помрачнел. В душе он все еще страдал от удара, который нанес ему отец; его до сих пор передергивало, когда он вспоминал как бесцеремонно отмахнулся от него Роберт. Правда, Роберту было из-за чего хлопотать — сейчас-то это понятно. Но как-никак Лестер ему брат, и будь он сам в то время на месте Роберта, он, надо надеяться, не поступил бы так подло. А теперь Роберту зачем-то понадобилось видеть его. Сначала Лестер решил совсем не отвечать. Потом решил написать Роберту, что не может с ним встретиться. Но им овладело любопытство, захотелось узнать, изменился ли Роберт, что ему нужно, какую комбинацию он затеял. И Лестер еще раз передумал. Да, они встретятся; вреда от этого не будет. Правда, и хорошего ничего не получится. Они, возможно, пообещают друг другу забыть старое, но слова останутся словами. Прошлого не воротишь. Нельзя разбитую чашку сделать целой. Можно только склеить ее к назвать целой, но целой она от этого не станет. Он написал брату, что приедет. В четверг утром Роберт позвонил ему из «Аудиториума» и напомнил о предстоящем свидании, Лестер жадно прислушивался к звуку его голоса. «Да, да я помню», — сказал он. В полдень он поехал в деловую часть города, и здесь, в изысканном «Юнион-Клубе», братья встретились и оглядели друг друга. Роберт за это время похудел, волосы у него немного поседели. Взгляд остался твердым и пронзительным, но около глаз появились морщинки. Движения у него были быстрые, энергичные. В Лестере сразу угадывался человек совсем другого склада — плотный, грубоватый, флегматичный. В те дни многие находили его несколько жестким. Голубые глаза Роберта нисколько его не смутили, не оказали на него никакого действия. Он видел брата насквозь, потому что умел и наблюдать и делать выводы. А Роберту было трудно определить, в чем именно Лестер изменился за эти годы. Он пополнел, но почему-то не седеет, у него все такой же здоровый цвет лица и вообще он производил впечатление человека, готового принять жизнь такой, как она есть. Роберт беспокойно поежился от его строгого взгляда — было очевидно, что Лестер полностью сохранил и мужество и ясный ум, которые его всегда отличали. — Мне очень хотелось с тобой повидаться, Лестер, — начал Роберт, после того как они, по старой привычке, обменялись крепким рукопожатием. — Мы давно не встречались — почти восемь лет. — Да, около того, — отвечал Лестер. — Ну, как твои дела? — Все по-старому. А ты прекрасно выглядишь. — Я никогда не болею, — сказал Лестер, — разве что изредка насморк схвачу. А так, чтобы лежать в постели, — и не припомню. Как жена? — Спасибо, жива и здорова. — А дети? — Ральфа и Беренис мы почти не видим, у каждого из них своя семья, а остальные пока дома. Надеюсь, твоя жена тоже в добром здоровье, — добавил он нерешительно, чувствуя, что ступает на скользкую почву. Лестер окинул его спокойным взглядом. — Да, — ответил он. — Здоровье у нее прекрасное. И сейчас она ни на что не жалуется. Они еще поговорили о том о сем; Лестер справился о делах треста, спросил, как поживают сестры, откровенно признавшись, что совсем потерял их из виду. Роберт рассказал обо всех понемножку и, наконец, приступил к делу. — А поговорить я хотел с тобой вот о чем, — сказал он. — Меня интересует «Западная Сталеплавильная компания». Я знаю, что ты лично не состоишь в числе ее директоров, тебя представляет твой поверенный Уотсон, — очень, кстати сказать, толковый человек. Так вот, управление компанией поставлено скверно, это нам всем известно. Для того, чтобы получить надлежащие прибыли, нам нужно иметь во главе ее человека практичного и сведущего. До сих пор я неизменно действовал заодно с Уотсоном, потому что находил его предложения вполне разумными. Он, как и я, считает, что многое нужно изменить. Сейчас представилась возможность купить семьдесят акций, которыми владеет вдова Росситера. Вместе с твоей и моей долей это составило бы контрольный пакет. Я бы очень хотел, чтобы именно ты купил эти семьдесят акций, хотя с тем же успехом могу их взять и на свое имя — лишь бы сохранить их за нами. Тогда ты сделаешь президентом кого захочешь, а дальше все пойдет как по маслу. Лестер улыбнулся. Предложение было заманчивое. Он уже знал от Уотсона, что в делах этой компании Роберт держит его сторону, и давно догадывался о намерении брата пойти на мировую. Так вот она — оливковая ветвь в виде контроля над компанией с полуторамиллионным капиталом! — Это очень мило с твоей стороны, — сказал он серьезно. — Прямо-таки щедрый подарок. С чего это тебе вздумалось? — Что ж, Лестер, я скажу тебе правду, — отвечал Роберт. — Мне все эти годы не давала покоя та история с завещанием и то, что ты лишился должности секретаря-казначея, и другие недоразумения. Я не хочу ворошить старое — ты, я вижу, улыбаешься, — но почему не высказать тебе моих мыслей? В прошлом я был порядком честолюбив. И как раз в то время, когда умер отец, я носился с планами создания Каретного треста и боялся, что ты их не одобришь. С тех пор я часто думал, что поступил нехорошо, но дело уже было сделано. Но то, с чего я сегодня начал… — Могло бы служить некоторой компенсацией, — спокойно закончил Лестер. — Ну, не совсем так, Лестер… хотя, пожалуй, в этом роде. Я понимаю, что теперь такие вещи не имеют для тебя большого значения. Я понимаю, что важнее было что-то предпринять тогда, а не сейчас. Но все же я искренне думал заинтересовать тебя своим предложением. Я думал, оно послужит началом. Скажу по совести, я хотел, чтобы это был первый шаг к нашему примирению, ведь мы как-никак братья. — Да, — сказал Лестер, — мы братья. Он думал о том, сколько иронии в этих словах. Много ли братские чувства Роберта помогли ему в прошлом? По существу никто иной, как Роберт, толкнул его на брак с миссис Джералд; и хотя истинно страдающим лицом оказалась одна Дженни, Лестер до сих пор на него досадовал. Правда, Роберт не лишил его четвертой части отцовского состояния, но зато и не помог получить ее. А теперь воображает, что своим предложением сразу поправит дело. Не хорошо это. И глупо. И вообще странная штука — жизнь! — Нет, Роберт, — сказал он наконец твердо и решительно. — Я понимаю твои мотивы. Но не вижу, зачем это мне. Случай представился тебе, ты им пользуйся. А я не хочу. Если ты купишь эти акции, я согласен на все мероприятия, какие ты найдешь нужным провести. Я теперь достаточно богат. Что прошло, то прошло. Я не отказываюсь время от времени встречаться и беседовать с тобой. А ведь это все, что тебе нужно. Комбинация, которую ты мне предлагаешь, — попросту штукатурка, чтобы заделать старую трещину. Тебе нужно мое расположение — пожалуйста. Я не питаю к тебе злобы. И не собираюсь тебе вредить. Роберт посмотрел на брата и усмехнулся. Как бы он ни обидел Лестера в прошлом, как бы ни был обижен им сейчас, все же это замечательный человек. — Может быть, ты и прав, Лестер, — сказал он. — Но знай, что мною руководили не мелочные соображения. Мне действительно хотелось помириться с тобой. Больше я не буду к этому возвращаться. Ты в ближайшее время в Цинциннати не собираешься? — Да как будто нет, — отвечал Лестер. — А я хотел предложить тебе остановиться у нас. Приезжай с женой. Вспомним молодость. Лестер невесело улыбнулся. — Что ж, с удовольствием, — сказал он вежливо, а сам подумал, что во времена Дженни не дождался бы такого приглашения. Ничто не заставило бы его родных отнестись к ней по-человечески. «А впрочем, они, может быть, и не виноваты, — подумал он. — Бог с ними». Братья поговорили еще немного. Потом Лестер вспомнил, что у него назначено деловое свидание, и взглянул на часы. — Мне скоро придется тебя покинуть, — сказал он. — Да и мне пора, — сказал Роберт. Они встали. — Как бы там ни было, — добавил старший брат, спускаясь по лестнице, — я надеюсь, что впредь мы будем не совсем чужими друг другу. — Разумеется, сказал Лестер. — Время от времени будем встречаться. Они пожали друг другу руки и расстались вполне дружески. Глядя вслед быстро удаляющемуся Лестеру, Роберт испытывал смутное чувство раскаяния и не выполненного долга. Лестер — незаурядный человек. Почему же всегда, даже до появления Дженни, между ними стояла какая-то стена? Потом Роберт вспомнил своя давнишние мысли о «темных сделках». Да, вот чего не хватает Лестеру — в нем нет коварства, он не способен на жестокость. Ах ты, черт возьми! А Лестер думал о брате с досадой, но без враждебного чувства. Не так уж он плох — не хуже многих и многих других. К чему осуждать его? Еще неизвестно, как он сам поступил бы на месте Роберта. Роберт купается в деньгах. Он тоже. Теперь ему ясно, как все получилось, — почему он оказался жертвой, почему управление огромным отцовским состоянием было доверено Роберту. «Такова жизнь, — думал он. — Не все ли равно? У меня достаточно средств. Так о чем же еще беспокоиться?»Глава 61
По каким-то стародавним подсчетам, или, вернее, согласно освященной веками библейской формуле, человеку отпущено для жизни семьдесят лет. Формула эта, бесконечно повторяемая из рода в род, так крепко внедрилась в сознание людей, что принимается как непреложная истина. На самом же деле человек, хотя бы и считающий себя смертным, органически способен прожить в пять раз дольше, и жизнь его в самом деле была бы много продолжительнее, если бы только он знал, что живет не тело, а дух, что возраст — это иллюзия и что смерти нет. Однако веками укореняющуюся мысль — плод неведомо каких материалистических гипотез — чрезвычайно трудно вытравить из сознания, и каждый день люди умирают, словно повинуясь этой, с покорностью и страхом принятой ими математической формуле. Верил в эту формулу и Лестер. Ему перевалило за пятьдесят. Он считал, что жить ему осталось самое большее двадцать лет, а может, и меньше. Ну что ж, он прожил завидную жизнь. Жаловаться не на что. Если смерть придет, он готов к ней. Он встретит ее без жалоб, без борьбы. Ведь жизнь в большинстве своих проявлений всего только глупая комедия. Куда ни глянь — одни иллюзии, это нетрудно доказать. А может быть, жизнь вообще только иллюзия? Во всяком случае, она очень похожа на сон, подчас — на скверный сон. Что поддерживает в нем изо дня в день сознание реальности жизни? Видимое общение с людьми: заседания правлений, обсуждение всевозможных планов с отдельными лицами и организациями, светские приемы жены. Летти обожала его и называла своим мудрым старым философом. Так же, как Дженни, она восхищалась его невозмутимой твердостью перед лицом всяческих передряг. Казалось, ни удары, ни улыбки судьбы не способны были взволновать Лестера или вывести его из равновесия. Он не желал пугаться. Не желал отступать от своих убеждений, симпатий и антипатий, и его приходилось отрывать от них силой, что не всегда удавалось. По собственному выражению, он желал одного: «смотреть фактам в глаза» и бороться. Заставить его бороться было не трудно, но эта борьба выражалась в упорном сопротивлении. Он сопротивлялся всем попыткам насильно столкнуть его в воду. Даже если в конце концов его все же сталкивали, взгляд его на необходимость сопротивления оставался неизменным. Его запросы всегда были преимущественно материального порядка, он хотел только земных благ и соглашался лишь на самое лучшее. Стоило внутренней отделке его дома хоть немного поблекнуть, как он требовал, чтобы гардины были сорваны, мебель продана и весь дом отделан заново. Во время его путешествий деньги должны были прокладывать и расчищать ему дорогу. Он не терпел пререканий, ненужных разговоров, «дурацкой болтовни», как он сам называл это. С ним полагалось либо беседовать на интересующие его темы, либо не разговаривать совсем. Летти прекрасно понимала его. Она шутливо трепала его по щеке или брала обеими руками за голову и уверяла, что он медведь, но очень симпатичный и милый медведь. — Да, да, знаю, — ворчал он. — Я животное. А ты, надо полагать, бесплотное средоточие ангельской сущности. — Ну, довольно, замолчи, — говорила она, потому что он, хоть и без злого умысла, делал ей иногда очень больно. Тогда Лестер спешил утешить ее лаской — он хорошо знал, что она, несмотря на всю свою энергию и самостоятельность, зависит от него. А ей всегда было ясно, что он может обойтись и без нее. Жалея ее, он пытался это скрывать, притворялся, что она ему необходима, но ему не удавалось обмануть ни ее, ни себя, Летти же действительно цеплялась за него всеми силами. Так важно, когда в нашем изменчивом непрочном мире рядом с тобой есть столь определенная и постоянная величина, как этот мужественный человек. Чувствуешь себя как у приветливой лампы в темной комнате или у пылающего костра на холодной улице. Лестер ничего не боится. Он уверен, что умеет жить и сумеет умереть. Такой темперамент, естественно, должен был проявляться на каждом шагу и по всякому поводу. Теперь, когда Лестер привел в порядок свои финансовые дела и крепко держал в руках все нити, когда большая часть его состояния была вложена в акции крупнейших компаний, директорам которых не было другого дела, кроме как санкционировать инициативу своих честолюбивых администраторов, у него оставалось вдоволь свободного времени. Он много разъезжал с Летти по модным курортам Европы и Америки. Он полюбил азартные игры — ему нравилось делать крупные ставки, рискуя все потерять, если не вовремя остановится колесо или не туда покатится шарик; он еще больше пристрастился к спиртному — не как пьяница, но как человек, который любит пожить в свое удовольствие и хорошо провести время с друзьями. Пил он либо неразбавленные виски, либо лучшие сорта вин — шампанское, искристое бургундское, дорогие, веселящие душу белые вина. Он мог пить помногу и ел соответственно. Все, что появлялось у него на столе, — закуски, супы, рыба, жаркое, дичь, — должно было непременно быть первосортное, и он давно уже пришел к выводу, что имеет смысл держать только самого дорогого повара. Они разыскали и наняли старого француза, Луи Бердо, когда-то служившего в поварах у миллионера-мануфактурщика. Лестер платил ему сто долларов в неделю, а на все недоуменные вопросы по этому поводу отвечал, что жизнь дается нам только раз. Проникнувшись такими взглядами, Лестер был бессилен что-либо изменить, что-либо исправить; помимо его воли все стремилось к неведомой ему цели. Если бы он женился на Дженни и получал сравнительно скромный доход в десять тысяч годовых, он все равно не отказался бы от этих взглядов. Он жил бы так же безвольно, довольствуясь обществом двух-трех приятелей, говорящих на одном с ним языке и видящих в нем то, чем он был, — славного малого, и Дженни, пожалуй, жилось бы с ним немногим лучше, чем без него. Одним из важных событий в жизни Кейнов был их переезд в Нью-Йорк. Среди близких друзей миссис Кейн имелось несколько умных женщин — представительниц четырехсот лучших семейств Новой Англии; они-то и уговорили ее переселиться в Нью-Йорк. Приняв это решение, она сняла дом на Семьдесят восьмой улице, близ Мэдисон-авеню, обставила каждую комнату в стиле какой-нибудь исторической эпохи и впервые завела целый штат ливрейных лакеев, совсем на английский лад. Лестер посмеивался над ее тщеславием и любовью к пышным декорациям. — А еще толкуешь о своей демократичности, — проворчал он однажды. — Ты такая же демократка, как я — верующий христианин! — Вовсе нет! — возразила она. — Я самаянастоящая демократка. Но все мы неотделимы от своего класса. И ты тоже. Я просто подчиняюсь логике вещей. — Какая там к черту логика! Ты еще скажешь, что дворецкий и лакей, наряженные в красный бархат, продиктованы необходимостью? — Конечно! — отвечала она. — Ну, если не необходимостью, так всем укладом нашей жизни. Что тебя так возмущает? Ты же первый настаиваешь, чтобы все было безупречно, первый возмущаешься, чуть заметишь малейший изъян. — Когда это я возмущался? — Ну, может быть, я не так выразилась. Но ты хочешь, чтобы все было идеально, чтобы в каждом случае был выдержан стиль… Да ты сам это прекрасно знаешь. — Предположим, но при чем тут твоя демократичность? — Я демократка. Этого ты у меня не отнимешь. В душе я не менее демократична, чем любая другая женщина, Просто я трезво смотрю на вещи и по возможности ни в чем себе не отказываю, точно так же, как и ты. Нечего швырять камешки в мой стеклянный дом, уважаемый Повелитель. Ваш домик тоже прозрачный, я вижу каждое ваше движение. — И все-таки я демократ, а ты нет, — поддразнил ее Лестер. Впрочем, он безоговорочно одобрял все, что бы она ни делала. Порою ему казалось, что она распоряжается своим миром куда более толково, чем он — своим. Бесконечная еда и питье, воды всех по очереди целебных источников, путешествия в покое и роскоши, пренебрежение гимнастикой и спортом — все это в конце концов подорвало здоровье Лестера, — чрезмерное полнокровие тормозило теперь все функции его когда-то сильного, подвижного тела. Уже давно его желудок, печень, почки, селезенка работали с перегрузкой. За последние семь лет он очень располнел. Первыми стали отказывать почки, а также сосуды мозга. При умеренной еде, достаточно подвижном образе жизни и большем душевном равновесии Лестер мог бы прожить и до восьмидесяти и до девяноста лет. Но он позволил себе дойти до такого физического состояния, когда малейшая болезнь грозила серьезными последствиями. Результат всего этого мог быть только один, и он не замедлил сказаться. Однажды Лестер и Летти с компанией друзей отправились на яхте к северным берегам Норвегии. В конце ноября важные дела потребовали присутствия Лестера в Чикаго; он уговорился с женой, что к Рождеству они съедутся в Нью-Йорке. Известив Уотсона, чтобы тот встретил его, Лестер приехал и остановился в «Аудиториуме» — чикагский особняк уже два года как был продан. В последних числах ноября, когда Лестер в основном уже закончил свои дела, он внезапно почувствовал себя плохо. Пришел доктор и сказал, что у него кишечное расстройство, которое нередко служит проявлением серьезного общего заболевания крови или какого-нибудь важного органа. Лестер очень страдал. Врач велел тепло закутать ноги, прописал горчичники и лекарства. Боли утихли, но Лестера томило предчувствие близкой беды. Он попросил Уотсона послать телеграмму Летти. Нужно сообщить ей, что ничего серьезного нет, просто ему нездоровится. У постели Лестера дежурила сестра, его лакей стоял как на часах за дверью номера, не пропуская докучливых посетителей. Летти могла добраться до Чикаго не раньше, чем через три недели, Лестер чувствовал, что никогда больше ее не увидит. Как ни странно, он в эти дни все время думал о Дженни, и не только потому, что был в Чикаго, — просто она, как и раньше, оставалась для него самым близким человеком, Он собирался навестить ее в этот приезд, как только немного освободится. В первый же день он расспросил о ней Уотсона, и тот сказал, что она живет по-прежнему уединенно и выглядит хорошо. Лестеру очень хотелось повидаться с ней. Дни шли за днями, ему не становилось лучше, и желание это овладевало им все сильнее. Его мучили приступы страшной боли, которая словно скручивала ему все внутренности и сменялась полным упадком сил. Чтобы облегчить его страдания, врач уже несколько раз впрыскивал ему морфий. Однажды, после особенно жесткого приступа, Лестер подозвал к себе Уотсона, велел ему отослать сестру и сказал: — Я хочу попросить вас об одном одолжении. Узнайте у миссис Стовер, не может ли она навестить меня. А лучше всего съездите за ней сами. Сиделку и Козо (так звали лакея) можно отослать на полдня или на то время, пока она будет здесь. Когда бы она ни приехала, пустите ее ко мне. Уотсон понял. Это проявление чувства нашло отклик в его душе. Ему было жаль Дженни. И жаль Лестера. Он подумал о том, как удивился бы свет, узнав о романтической прихоти столь видного человека. Уотсон глубоко уважал Лестера и всегда помнил, что обязан ему собственным благосостоянием. Он готов был оказать Лестеру любую услугу. Наемный экипаж быстро доставил его на Южную сторону. Дженни оказалась дома. Она поливала цветы и удивленно подняла брови при виде Уотсона. — Я к вам с нерадостным поручением, миссис Стовер, — начал он. — Ваш… я хочу сказать, мистер Кейн серьезно болен. Он в «Аудиториуме». Жена его еще не вернулась из Европы. Он поручил мне заехать к вам и передать, что он просит вас навестить его. Он просил, если возможно, привезти вас к нему… Вы могли бы поехать со мной сейчас? — Да, конечно, — ответила Дженни, и на лице ее появилось какое-то отсутствующее выражение. Дети были в школе. Старуха шведка, единственная ее служанка, сидела в кухне. Ничто не мешало Дженни отлучиться из дому. Но тут ей внезапно вспомнился во всех подробностях сон, который она видела несколько дней назад. Ей снилось, что вокруг нее — таинственное черное озеро, над которым навис туман или облако дыма. Она услышала слабый плеск воды, и из обступившего ее мрака появилась лодка. Лодка была маленькая, без весел, она двигалась сама собой, и в ней сидели мать Дженни, Веста и еще кто-то, кого она не могла разглядеть. Лицо матери было бледно и печально, каким часто бывало при жизни. Она смотрела на Дженни строгими, но полными сочувствия глазами, и внезапно Дженни поняла, что третьим в лодке сидит Лестер. Он мрачно взглянул на нее — Дженни никогда не видела его таким, — и тут ее мать сказала: «А теперь довольно, нам пора». Лодка стала удаляться, острое чувство утраты охватило Дженни, она крикнула: «Мама, не оставляй меня одну!» Но мать только поглядела на нее глубоким, кротким, печальным взором, и лодка исчезла. Дженни в испуге проснулась, ей почудилось, что Лестер рядом с ней. Она протянула руку, чтобы тронуть его за плечо; потом, сообразив, что она одна, села в постели и протерла глаза. После этого тяжелое, гнетущее чувство два дня не давало ей покоя. И едва оно стало проходить, как явился мистер Уотсон со своей страшной вестью. Дженни вышла из комнаты и скоро вернулась в пальто и шляпе; походка, лицо — все выдавало ее волнение. Дженни еще и теперь была очень хороша собой — статная, прекрасно одетая, с ясным и добрым взглядом. В душе она не расставалась с Лестером, так же как он никогда не мог до конца оторваться от нее. Все ее мысли были с ним, как в те годы, когда они жили вместе. Самые заветные ее воспоминания были связаны с Кливлендом, где Лестер ухаживал за ней и покорил ее силой, — наверно, так пещерный человек покорял свою подругу. Теперь Дженни страстно желала чем-нибудь помочь ему. Он послал за ней — это не только потрясло ее, но и открыло ей глаза; значит, он все-таки… все-таки любит ее! Экипаж быстро катился по длинным улицам к окутанной дымом деловой части города. Поверенный деликатно молчал, не мешая Дженни думать. Скоро они подъехали к «Аудиториуму», и Уотсон проводил ее до двери номера, где лежал Лестер. Дженни так давно не бывала на людях, что сильно робела, идя по длинным коридорам отеля. Войдя в номер, она подошла к кровати Лестера и застыла, глядя на него полными жалости, широко раскрытыми голубыми глазами. Он полулежал, откинув массивную голову на подушки, в темных волосах его пробивалась седина. Умные, старые, усталые глаза смотрели на Дженни с ласковым любопытством. Жгучая боль пронзила ее при виде этого бледного, измученного лица. Она тихонько пожала руку Лестера, лежавшую поверх одеяла. Потом наклонилась и поцеловала его в губы. — Я так огорчена, так огорчена, Лестер, — прошептала она. — Но ведь ты не очень серьезно болен, правда? Тебе нужно поправляться, и как можно скорее. — Она тихонько погладила его руку. — Да, Дженни, но дела мои плохи, — сказал он. — Скрутило меня не на шутку. Не знаю, удастся ли выкарабкаться. Ты лучше расскажи о себе. Как ты живешь? — Живу по-прежнему, милый, — ответила она. — У меня все хорошо. А ты напрасно так говоришь. Ты поправишься, и очень скоро. Он горько улыбнулся. — Ты думаешь? — И с сомнением покачал головой. — Впрочем, — продолжал он, — это меня мало беспокоит. Садись, родная. Я хочу поговорить с тобой, как бывало. Хочу, чтобы ты была около меня. Он вздохнул и закрыл глаза. Дженни придвинула к постели стул, села и взяла руку Лестера в свои. Как хорошо, что он послал за ней! Жалость, любовь, благодарность переполняли ее сердце. И вдруг она похолодела от страха; он болен тяжело, это сразу видно! — Не знаю, что будет дальше, — говорил Лестер. — Летти в Европе, Мне уже давно хотелось тебя повидать. Решил — в этот приезд непременно наведаюсь, Ты ведь знаешь, мы теперь живем в Нью-Йорке. А ты немножко пополнела, Дженни. — Старею, Лестер, — улыбнулась она. — Это неважно, — возразил он, не отводя от нее глаз. — Дело не в возрасте. Все стареют. Дело в том, как кто смотрит на жизнь. Он замолчал и поднял глаза к потолку. Легкая боль напомнила ему о перенесенных мучениях. Еще несколько таких приступов, как сегодня утром, — и он не выдержит. — Я не мог умереть, не повидавшись с тобой, — заговорил он опять, когда боль отпустила. — Я давно хотел тебе сказать, Дженни, — напрасно мы расстались. Теперь я вижу, что это было не нужно. Мне это не дало счастья. Ты прости меня. Мне самому было бы легче, если бы я не сделал этого. — Ну что ты, Лестер, — возразила она, и в этот миг вся их совместная жизнь пронеслась в ее памяти. Вот оно — свидетельство их подлинного союза, их подлинной душевной близости! — Не мучай себя. Все хорошо и так. Ты был очень добр ко мне. Не мог же ты из-за меня потерять все свое состояние. И мне так гораздо спокойнее. Конечно, было тяжело, но мало ли в жизни тяжелого, мой дорогой. Она умолкла. — Нет, — сказал Лестер, — это было ошибкой. С самого начала все шло не так; но ты в этом не виновата. Прости меня. Я давно хотел тебе сказать это. Я очень рад, что успел. — Не говори так, Лестер, прошу тебя, — взмолилась Дженни. — Все хорошо. Тебе не о чем жалеть. Ты столько для меня сделал! Когда я подумаю… — Голос у нее сорвался. Любовь и жалость душили ее. Она молча сжала руку Лестера. Ей вспомнился дом в Кливленде, который он купил для ее родных, и как он приютил ее отца, и вся его забота и ласка. — Ну вот, теперь я тебе все сказал, и мне легче. Ты хорошая женщина, Дженни. Спасибо, что ты пришла ко мне. Я тебя любил. И сейчас люблю. Это я тоже хотел тебе оказать. Как странно, но, кроме тебя, я ни одной женщины не любил по-настоящему. Не надо нам было расставаться. У Дженни перехватило дыхание. Этих слов — только этих слов — она ждала долгие годы. Единственное, чего ей недоставало, — вот этого подтверждения их близости, если не физической, то духовной. Теперь жизнь будет для нее счастьем. И смерть тоже. Рыдания подступили к горлу. — Ах, Лестер! — воскликнула она и сжала его руку. Он ответил ей слабым пожатием. Некоторое время оба молчали. Потом он снова заговорил. — Ну, как твои сиротки? — Дети чудесные, — ответила она и стала подробно рассказывать ему о своих маленьких воспитанниках. Лестер слушал довольный, ее голос успокаивал его. Самое ее присутствие было ему отрадно. Когда она поднялась, чтобы уходить, брови его страдальчески сдвинулись. — Уходишь, Дженни? — Я могу остаться здесь, Лестер, — предложила она. — Возьму себе номер. А миссис Свенсон извещу запиской, и все будет хорошо. — Нет, зачем же, — сказал он, но она поняла, что нужна ему, что он боится остаться один. И до его последнего часа она уже не уходила из отеля.Глава 62
Конец настал через четыре дня, в течение которых Дженни почти не отлучалась от постели больного. Сестра была очень довольна, что у нее появилась смена и она не одна. Врач попробовал протестовать. Но с Лестером было трудно спорить. — Мне умирать, а не вам, — заявил он с мрачной иронией. — Уж разрешите мне умереть так, как мне нравится. Уотсон только улыбнулся. Такого несгибаемого мужества он еще не видел. Лестеру писали, справлялись о его здоровье по телефону, завозили карточки; заметки о его болезни появились в газетах. Роберт прочел одну из них и решил съездить в Чикаго. Пришла Имоджин с мужем. Их на несколько минут впустили к Лестеру, после того как Дженни ушла к себе в номер. Лестер почти все время молчал. Сестра предупредила, что с ним нельзя много разговаривать. Позже он сказал Дженни: — Имоджин очень изменилась. — И больше ничего не добавил. В тот вечер, когда Лестер умер, пароход, которым возвращалась на родину миссис Кейн, был в трех днях пути от Нью-Йорка. Последние дни Лестер все думал, что бы еще сделать для Дженни, но так ничего и не решил. Оставить ей еще денег? Смысла нет, они ей не нужны. И как раз когда он задумался о том, где-то сейчас Летти и когда она сможет добраться сюда, у него начались жестокие боли. Еще до того, как ему успели сделать укол, наступила смерть. Позднее выяснилось, что умер он не от кишечного заболевания, а от кровоизлияния в мозг. Дженни, изнуренная тревогой и бессонными ночами, словно окаменела от горя. Лестер так долго владел ее мыслями и чувствами, что теперь ей казалось, будто кончилась ее собственная жизнь. Она любила его так, как не могла бы, вероятно, любить никого другого, и он всегда умел показать, что она дорога ему. Горе Дженни не находило выхода в слезах, она ощущала только тупую боль, какое-то оцепенение сковало все ее чувства. Лестер — ее Лестер — даже в смерти казался таким сильным. Лицо было спокойное, но решительное, вызывающее, как прежде. Миссис Кейн известила, что приедет в среду. Было решено подождать с похоронами. Дженни узнала от мистера Уотсона, что тело перевезут в Цинциннати и похоронят там в фамильном склепе семьи Пэйс, Когда стали съезжаться родственники, Дженни уехала к себе домой, здесь ей больше нечего было делать. В погребальных церемониях можно было усмотреть своеобразную иллюстрацию того, сколько противоестественного содержит наша жизнь. Миссис Кейн сообщила по телеграфу, что тело Лестера будет перевезено из гостиницы в дом Имоджин. Нести гроб должны были Роберт, прибывший в Чикаго через несколько часов после смерти брата, Берри Додж, муж Имоджин мистер Миджли и еще три не менее почтенных джентльмена. Из Буффало приехали Луиза и ее муж, из Цинциннати — Эми с мужем. В доме было тесно от людей, приходивших проститься с покойным, — кто по искреннему желанию, а кто для приличия. Поскольку Лестер и его родные считали себя католиками, для совершения похоронного обряда был приглашен католический священник. Лестер лежал в парадной гостиной чужого ему дома, в головах и на ногах у него горели погребальные свечи, восковые пальцы придерживали на груди серебряное распятие. Он улыбнулся бы, если б мог себя увидеть. Но семья Кейн, привыкшая соблюдать условности, свято придерживавшаяся традиционных обычаев, не усматривала в этом ничего несообразного. Духовенство, разумеется, было готово к услугам. Семья богатая, всеми уважаемая, так какие же могут быть разговоры? В среду прибыла в Чикаго миссис Кейн. Горе ее было безгранично — как и Дженни, она непритворно любила Лестера. Поздно вечером, когда в доме все стихло, она спустилась в гостиную и долго стояла, склонившись над гробом, вглядываясь в любимое лицо, освещенное мигающими свечами. Слезы текли у нее по щекам, — она вспомнила, как счастлива была с Лестером. «Бедный, милый Лестер! — прошептала она. — Бедный мой герой!» — и погладила его холодные щеки и руки. Ей не сказали, что он посылал за Дженни. Никто в семье Кейн не знал об этом. А тем временем в маленьком доме на Южной стороне другая женщина в полном одиночестве несла боль и муку невозвратимой утраты. Все эти годы в душе ее упрямо теплилась надежда, что, может быть, когда-нибудь они снова соединятся. Правда, он вернулся к ней, вернулся перед самой смертью, но теперь опять ушел. Куда? Куда ушла мать, отец, куда ушла Веста? Дженни не надеялась больше увидеть Лестера; в газетах она прочла, что тело его перевезли в дом мистера Миджли; отпевание должно было происходить в одной из самых богатых католических церквей на Южной стороне — в церкви святого Михаила, прихожанами которой были Имоджин и ее муж. А затем гроб с телом увезут в Цинциннати. Это было для Дженни новым горем. Ей так хотелось, чтобы Лестера похоронили в Чикаго, — она могла бы хоть изредка ходить на его могилу. Но и этого ее лишили. Никогда она не была хозяйкой своей судьбы. Вечно ею распоряжались другие. Эти похороны в Цинциннати она переживала как последнюю, окончательную разлуку с Лестером, словно расстояние могло что-то изменить. Наконец она решила украдкой пробраться в церковь на заупокойную службу. В газете было сказано, что служба начнется в два часа; в четыре тело перевезут на вокзал; родные будут сопровождать его в Цинциннати. Дженни пришла в голову новая мысль: она может поехать и на вокзал. Незадолго до того, как похоронный кортеж достиг церкви, в нее вошла через боковую дверь женщина в черном, под густой вуалью, и скромно села в сторонке, в полутемном углу. Церковь стояла пустая, неосвещенная, и Дженни охватила тревога: верно ли она запомнила время и место; но она сомневалась недолго: над головой у нее раздался мерный похоронный звон. Затем появился служка в белом стихаре поверх черного облачения; он прошел к алтарю и стал зажигать свечи. На хорах послышались приглушенные шаги — это певчие занимали свои места. Вошли и расселись на скамьях какие-то люди — может быть, случайные прохожие, привлеченные звоном колоколов. Дженни с удивлением оглядывалась по сторонам. Она еще никогда не была в католической церкви. Полумрак, стрельчатые окна с цветными стеклами, белый алтарь, золотое пламя свечей — все это произвело на нее глубокое впечатление. Ощущение красоты и тайны, печаль и тоска по утраченному переполняли ее. Казалось, перед ней сама жизнь во всей своей туманной неопределенности. Колокол все звонил, и вот из ризницы показалась процессия мальчиков. Впереди шел самый маленький — прелестный мальчуган лет одиннадцати; он нес сверкающий серебряный крест. Остальные шли за ним парами, у каждого была в руках большая зажженная свеча. За ними следовал священник в черном облачении, отороченном кружевами, и при нем два служки. Процессия удалилась через главный выход на паперть. Прошло несколько минут, потом два хора, перекликаясь, запели по-латыни скорбное моление о милосердии и мире душевном. С первыми звуками двери церкви распахнулись. Опять показался серебряный крест, свечи, строгий священник, на ходу произносящий взволнованные слова молитвы, а за ним — тяжелый черный гроб с серебряными ручками на плечах у мерно шагающих мужчин. Дженни замерла, словно невидимая сила сковала все ее движения. Никого из этих мужчин она не знала. Она ни разу не видела ни Роберта, ни мистера Миджли. Среди множества людей, которые попарно следовали за гробом, она узнала только троих — в давно прошедшие дни Лестер ей показывал их в театре или в ресторане. Миссис Кейн шла первая, опираясь на руку какого-то мужчины; за ней Уотсон, печальный, серьезный. Он быстро огляделся по сторонам, видимо, отыскивая глазами Дженни; но, не найдя ее, снова устремил взгляд вперед. Дженни смотрела, смотрела, и сердце у нее сжималось все больнее. Этот торжественный обряд так близко касался ее, а между тем как бесконечно далека она всем этим людям! Процессия подошла к алтарю, и здесь гроб опустили наземь. На него набросили белый покров с черным крестом — эмблемой страдания, — а вокруг поставили высокие свечи. С хоров неслось стройное пение, гроб окропили святой водой, раскачивалось кадило, и молящиеся вполголоса повторяли вслед за священником «Отче наш», а потом — по католическому канону — молитву пресвятой деве. Дженни была изумлена и подавлена, но ни прекрасная церковь, ни пышный обряд не могли смягчить остроту ее горя, чувство непоправимой утраты. Свечи, запах ладана, песнопения — вся эта красота проникла в самую ее душу, отзывалась в ней глубокой печалью Словно не осталось ничего, кроме скорбной мелодии и присутствия смерти. Дженни плакала, плакала. И почему-то удивилась, увидев, что миссис Кейн тоже вздрагивает от рыданий. Служба кончилась, провожающие расселись по каретам, и гроб повезли на вокзал. Когда ушли все, приглашенные и чужие, и церковь опустела, Дженни тоже поднялась. Теперь и она поедет на вокзал — может быть ей удастся увидеть, как гроб будут вносить в вагон. Вероятно, его заранее выставят на платформу — так было, когда увозили Весту. Дженни села в экипаж и скоро уже входила под своды вокзала. Сперва она постояла близ высокой решетки, за которой тянулись железнодорожные пути, потом прошла в зал ожидания и внимательно оглядела сидевших там людей. А вот и они — миссис Кейн, Роберт, мистер Миджли, Луиза, Эми, Имоджин, и с ними еще кто-то. Дженни чувствовала, что могла бы безошибочно назвать почти каждого из них, хоть никто ее с ними не знакомил. Только сейчас она вспомнила, что завтра — праздник, День Благодарения. Огромный вокзал заполняла шумная, оживленная толпа. Веселый гул стоял кругом — люди, уезжая на праздник за город, громко смеялись и переговаривались в предвкушении отдыха и развлечений. К вокзалу беспрерывно подъезжали экипажи. Зычный голос объявлял о посадке на поезда, по мере того как их подавали к перрону. У Дженни защемило сердце, когда медленно, нараспев объявили маршрут, по которому она не раз ездила с Лестером: «Детройт — Толедо — Кливленд — Буффало — Нью-Йорк». Потом объявили поезд «Форт Уэйн — Колумбус — Питтсбург — Филадельфия — Атлантик-Сити» и, наконец, — «Индианаполис — Колумбус — Цинциннати»… Час настал. Дженни уже несколько раз переходила из зала ожидания к железной решетке, отделявшей ее от возлюбленного, гадая, удастся ли ей еще раз взглянуть на гроб, заключенный в деревянный ящик, прежде чем его погрузят в поезд. И вдруг она увидела то, чего ждала. К тому месту, где должен был остановиться багажный вагон, подкатили тележку. И на ней лежал Лестер — все, что от него осталось, — надежно защищенный от любопытных взглядов деревом, тканью, серебром. Грузчику, который возился у тележки, и в голову не приходило, сколько здесь сокрыто горя и мук. Откуда ему было знать, что в этот час богатство и общественное положение воплотилось для Дженни в виде решетки — неодолимой преграды, навек отделившей ее от любимого? Так было всегда. Всю жизнь богатство и сила, в нем воплощенная, оттесняли ее, не пускали дальше определенной черты. Видно, ей на роду было написано не требовать, а смиряться. С самого ее детства армия богатых триумфальным маршем шествовала мимо нее. Что же ей осталось теперь, кроме как с тоской глядеть им вслед? Лестер был своим в этом чужом ей мире. Ему уделяли там почетное место, а ее и знать не хотели. Пока она стояла, приникнув лицом к решетке, снова раздалось: «Индианаполис — Колумбус — Цинциннати»… К перрону подкатил длинный красный поезд с ярко освещенными окнами: багажные вагоны, пассажирские, вагон-ресторан, сверкающий серебром и белоснежными скатертями, несколько спальных вагонов-люкс, а впереди огромный черный паровоз, изрыгающий дым и снопы искр. Один из багажных вагонов поравнялся с тележкой, из него выглянул поездной грузчик в синем и, обернувшись, крикнул кому-то невидимому: — Эй, Джек, подсоби! Покойника грузить будем. Дженни ничего не слышала. Она видела одно — длинный ящик, который вот-вот скроется из глаз. Она чувствовала одно — скоро поезд тронется, и все будет кончено. Открыли ворота в решетке, пассажиры хлынули на перрон. Вот Роберт, Эми, Луиза, все они направляются к спальным вагонам в хвосте поезда. С друзьями они уже простились и теперь идут быстро, не оглядываясь. Трое рабочих «подсобили» поднять тяжелый ящик. У Дженни словно что-то оборвалось в груди, когда он исчез в глубине вагона. Потом грузили еще много сундуков и чемоданов, потом прозвонил паровозный колокольчик, и дверь багажного вагона наполовину закрылась. Слышатся возгласы «Прошу занимать места!» — и вот уже огромный паровоз медленно сдвинулся с места. Звонит колокол, со свистом вырывается пар; черный дым высоко поднимается из трубы; потом, спадая, застилает вагоны погребальным покровом. Кочегар, словно чувствуя, какой тяжелый состав предстоит вести, отворяет дверцу пылающей топки, чтобы подбросить угля. Отверстие топки светится, как огненный глаз. Дженни стояла, завороженная этой картиной; бледная, стиснув руки и широко открыв глаза, она помнила об одном — Лестера увозят. Свинцовое ноябрьское небо нависло над путями. Поезд уходил все дальше, дальше, и, наконец, красный фонарь на последнем спальном вагоне скрылся из глаз, утонув в дымном тумане. — Да, да, — сказал, проходя мимо Дженни, какой-то человек, видимо, собравшийся за город. — Мы там отлично проведем время. Ты Энни помнишь? И дядя Джим едет, и тетя Элла. Дженни ничего не слышала — ни этих слов, ни шумной суматохи вокзала. Перед глазами ее разматывался длинный свиток тоскливых, одиноких лет. Что же дальше? Она еще не стара. Нужно воспитать своих приемышей. Пройдет немного времени, они оперятся, уйдут от нее, а дальше? Бесконечная вереница дней, один, как другой, а потом?..
ТРИЛОГИЯ ЖЕЛАНИЯ (цикл)
Книга I. ФИНАНСИСТ
Роман начинается с юношеских лет американского капиталиста Фрэнка Каупервуда и заканчивается в тот период жизни главного героя, когда он, чувствуя силу накопленных им капитала и профессионального опыта, провозглашает свой жизненный лозунг, давший название всей трилогии «Мои желания прежде всего».
Глава 1
Филадельфия, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, насчитывала тогда более двухсот пятидесяти тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало — телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами. Фрэнк родился в семье мелкого банковского служащего, но десять лет спустя, когда мальчик начал любознательно и зорко вглядываться в окружающий мир, умер председатель правления банка; все служащие соответственно повысились в должностях, и мистер Генри Уортингтон Каупервуд «унаследовал» место помощника кассира с блистательным, по его тогдашним понятиям, годовым окладом в три с половиной тысячи долларов. Он тотчас же радостно сообщил жене о своем решении перебраться из дома 21 по Батнвуд-стрит в дом 124 по Нью-Маркет-стрит: и район не такой захолустный, и дом — трехэтажный кирпичный особнячок — не шел ни в какое сравнение с нынешним жилищем Каупервудов. У них имелись все основания полагать, что со временем они переедут в еще более просторное помещение, но пока и это было неплохо. Мистер Каупервуд от души благодарил судьбу. Генри Уортингтон Каупервуд верил лишь в то, что видел собственными глазами, и был вполне удовлетворен своим положением, — это открывало ему возможность стать банкиром в будущем. В ту пору он был представительным мужчиной — высокий, худощавый, подтянутый, с вдумчивым взглядом и холеными, коротко подстриженными бакенбардами, доходящими почти до мочек ушей. Верхняя губа, странно далеко отстоявшая от длинного и прямого носа, всегда была чисто выбрита, так же как и заостренный подбородок. Густые черные брови оттеняли зеленовато-серые глаза, а короткие прилизанные волосы разделялись аккуратным пробором. Он неизменно носил сюртук — в тогдашних финансовых кругах это считалось «хорошим тоном» — и цилиндр. Ногти держал в безукоризненной чистоте. Впечатление он производил несколько суровое, но суровость его была напускная. Стремясь выдвинуться в обществе и в финансовом мире, мистер Каупервуд всегда тщательно взвешивал, с кем и о ком он говорит. Он в равной мере остерегался как высказывать резкие или непопулярные в его кругу мнения по социальным или политическим вопросам, так и общаться с людьми, пользовавшимися дурной репутацией. Впрочем, надо заметить, что он не имел определенных политических убеждений. Он не являлся ни сторонником, ни противником рабовладения, хотя атмосфера тогда была насыщена борьбой между аболиционистами и сторонниками рабства. Каупервуд твердо верил, что на железных дорогах можно нажить большое богатство, был бы только достаточный капитал, да еще одна странная штука — личное обаяние, то есть способность внушать к себе доверие. По его убеждению, Эндрю Джексон был совершенно не прав, выступая против Николаса Бидла[8] и Банка Соединенных Штатов, — эта проблема волновала тогда все умы. Он был крайне обеспокоен потоком «дутых денег», находившихся в обращении и то и дело попадавших в его банк, который, конечно, все же таковые учитывал и с выгодой для себя вновь пускал в оборот, выдавая их жаждущим ссуды клиентам. Третий филадельфийский национальный банк, в котором он служил, помещался в деловом квартале, в ту пору считавшемся центром всего американского финансового мира; владельцы банка попутно занимались также игрой на бирже. «Банки штатов», крупные и мелкие, возникали тогда на каждом шагу; они бескорыстно выпускали свои банковые билеты на базе ненадежных и никому не ведомых активов и с невероятной быстротой вылетали в трубу или даже приостанавливали платежи. Осведомленность во всех этих делах была непременным условием деятельности мистера Каупервуда, отчего он и стал воплощенной осторожностью. К сожалению, ему не хватало двух качеств, необходимых для преуспеяния на любом поприще: личного обаяния и дальновидности. Крупным финансистом он не мог бы сделаться, но ему все же предстояла неплохая карьера. Миссис Каупервуд была женщина религиозная; маленькая, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами, она в молодости казалась весьма привлекательной, но с годами стала несколько жеманной и вся ушла в житейские заботы. К своим материнским обязанностям по воспитанию троих сыновей и дочери она относилась очень серьезно. Мальчики, предводительствуемые старшим, Фрэнком, служили для нее источником постоянных тревог, ибо то и дело совершали «вылазки» в разные концы города, где, чего доброго, водились с дурной компанией, видели и слышали то, что в их возрасте не полагалось ни видеть, ни слышать. Фрэнк Каупервуд в десять лет вел себя как прирожденный вожак. И в начальной и в средней школе все считали, что на его здравый смысл можно положиться при любых обстоятельствах. Характер у него был независимый, смелый и задорный. Политика и экономика привлекали его с детства. Книгами он не интересовался. С виду это был подтянутый, широкоплечий, ладно скроенный мальчик. Лицо открытое, глаза большие, ясные и серые; широкий лоб и темно-каштановые, остриженные бобриком волосы. Манеры порывистые и самоуверенные. Всех и каждого донимая вопросами, он настаивал на исчерпывающих, разумных ответах. Фрэнк не знал болезней или недомогания, отличался прекрасным аппетитом и полновластно командовал братьями: «Ну-ка, Джо!», «Живей, поворачивайся, Эд!» Его команда звучала не грубо, но авторитетно, и Джо с Эдом повиновались. Они с детства привыкли смотреть на старшего брата как на главаря, с чьими словами следует считаться. Он постоянно размышлял, размышлял без устали. Все на свете равно поражало его, ибо он не находил ответа на главный вопрос: что это за штука жизнь и как она устроена? Откуда взялись на свете люди? Каково их назначение? Кто положил всему начало? Мать рассказала ему легенду об Адаме и Еве, но он в нее не поверил. Каупервуды жили неподалеку от рыбного рынка; по дороге к отцу в банк или во время какой-нибудь «вылазки» с братьями после школьных уроков Фрэнк любил останавливаться перед витриной, в которой был выставлен аквариум; рыбаки с залива Делавэр нередко пополняли его всевозможными диковинками морских глубин. Однажды он видел там морского конька — крохотное животное, немного смахивающее на лошадку, в другой раз — электрического угря, чьи свойства объяснило знаменитое открытие Бенджамина Франклина. В один прекрасный день в аквариум пустили омара и каракатицу, и Фрэнк стал очевидцем трагедии, которая запомнилась ему на всю жизнь и многое помогла уразуметь. Из разговоров любопытствующих зевак он узнал, что омару не давали никакой пищи, так как его законной добычей считалась каракатица. Омар лежал на золотистом песчаном дне стеклянного садка и, казалось, ничего не видел; невозможно было определить, куда смотрят черные бусинки его глаз, надо думать, они не отрывались от каракатицы. Бескровная и восковидная, похожая на кусок сала, она передвигалась толчками, как торпеда, но беспощадные клешни врага каждый раз отрывали новые частицы от ее тела. Омар, словно выброшенный катапультой, кидался к тому месту, где, казалось, дремала каракатица, а та, стремительно отпрянув, укрывалась за чернильным облачком, которое оставляла за собой. Но и этот маневр не всегда был успешен. Кусочки ее тела и хвоста все чаще оставались в клешнях морского чудовища. Юный Каупервуд ежедневно прибегал сюда и, как зачарованный, следил за ходом трагедии. Однажды утром он стоял перед витриной, чуть не прижавшись носом к стеклу. От каракатицы оставался уже только бесформенный клок; почти пуст был и ее чернильный мешочек. Омар притаился в углу аквариума, видимо изготовившись к боевым действиям. Мальчик простаивал у окна почти все свободное время, завороженный этой жестокой схваткой. Теперь уже скоро, может быть через час, а может быть — завтра, каракатицы не станет; омар ее прикончит и сожрет. Фрэнк перевел глаза на зеленую, с медным отливом разрушительную машину в углу аквариума. Интересно, скоро ли это случится? Пожалуй, еще сегодня. Вечером надо будет снова прибежать сюда. Вечер настал, и что же? Ожидаемое свершилось. У витрины стояла кучка людей. Омар забился в угол, перед ним лежала перерезанная надвое, почти уже сожранная каракатица. — Дорвался наконец! — произнес кто-то рядом с мальчиком. — Я тут давно стою: с час назад омар вдруг ринулся и схватил ее. Каракатица изнемогала, у нее больше не хватало проворства. Она метнулась было от него, но омар этого и ждал. Он уже давно предусмотрел малейшее движение своей жертвы и вот сегодня, наконец, ее прикончил. Фрэнк смотрел широко раскрытыми глазами. Какая досада, что он упустил этот миг. На секунду в нем шевельнулась жалость к убитой каракатице. Затем он перевел взгляд на победителя. «Так оно и должно было случиться, — мысленно произнес он. — Каракатице не хватало изворотливости». Он попытался разобраться в случившемся. «Каракатица не могла убить омара, — у нее для этого не было никакого оружия. Омар мог убить каракатицу, — он прекрасно вооружен. Каракатице нечем было питаться, перед омаром была добыча — каракатица. К чему это должно было привести? Существовал ли другой исход? Нет, она была обречена», — заключил он, уже подходя к дому. Этот случай произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. В общих чертах он давал ответ на загадку, долго мучившую его: как устроена жизнь? Вот так все живое и существует — одно за счет другого. Омары пожирают каракатиц и других тварей. Кто пожирает омаров? Разумеется, человек. Да, конечно, вот она разгадка. Ну, а кто пожирает человека? — тотчас же спросил он себя. Неужели другие люди? Нет, дикие звери. Да еще индейцы и людоеды. Множество людей гибнет в море и от несчастных случаев. Он не был уверен в том, что и люди живут один за счет других, но они убивают друг Друга, это он знал. Взять хотя бы войны, уличные побоища, погромы. Погром Фрэнк видел однажды собственными глазами. Он возвращался из школы, когда толпа напала на редакцию газеты «Паблик леджер». Отец объяснил ему, что послужило тому причиной. Страсти разгорелись из-за рабов. Да, да, конечно! Одни люди живут за счет других. Рабы — они ведь тоже люди. Из-за этого-то и царило в те времена такое возбуждение. Одни люди убивали других людей — чернокожих. Фрэнк вернулся домой, весьма довольный сделанными им выводами. — Мама! — крикнул он, едва переступив порог. — Наконец-то он ее прикончил! — Кто? Кого? — в изумлении спросила мать. — Ступай-ка мыть руки. — Да омар, про которого я вам с папой рассказывал. Прикончил каракатицу. — Какая жалость! Но что тут интересного? Живее мой руки! — Ого, такую штуку не часто приходится видеть! Я, например, видел это в первый раз. Он вышел во двор, где была водопроводная колонка и рядом с нею врытый в землю столик, на котором стояли ведро с водой и блестящий жестяной таз. Фрэнк вымыл лицо и руки. — Папа, — обратился он к отцу после ужина, — помнишь, я тебе рассказывал про каракатицу? — Помню. — Ну так вот — ее уже нет. Омар ее сожрал. — Скажи на милость! — равнодушно отозвался отец, продолжая читать газету. Но Фрэнк еще долгие месяцы размышлял над виденным, над жизнью, с которой он столкнулся, ибо его уже начинал занимать вопрос, кем он будет и как сложится его судьба. Наблюдая за отцом, считавшим деньги, он решил, что привлекательнее всего банковское дело. А Третья улица, где служил его отец, казалась ему самой красивой, самой замечательной улицей в мире.Глава 2
Детство Фрэнка Алджернона Каупервуда протекало среди семейного уюта и благополучия. Батнвуд-стрит, улица, где он прожил до десяти лет, пришлась бы по душе любому мальчику. В основном она была застроена двухэтажными особнячками из красного кирпича с низкими ступеньками из белого мрамора и такими же наличниками на дверях и окнах. Вдоль улицы были густо посажены деревья. Мостовая, выложенная крупным округленным булыжником, после дождя блестела чистотой, а от красных кирпичных тротуаров, всегда чуть-чуть сыроватых, веяло прохладой. Позади каждого домика имелся двор, поросший деревьями, так как земельные участки здесь тянулись футов на сто в ширину, дома же были выдвинуты близко к мостовой, и за ними оставалось много свободного пространства. Отец и мать Каупервуды, люди достаточно простодушные и отзывчивые, умели радоваться и веселиться вместе со своими детьми. Поэтому ко времени, когда отец решил перебраться в новый дом на Нью-Маркет-стрит, семья, в которой после рождения Фрэнка каждые два-три года прибавлялось по ребенку, пока детей не стало четверо, представляла собой оживленный маленький мирок. С тех пор как Генри Уортингтон Каупервуд стал занимать более ответственный пост, его связи непрерывно ширились, и он мало-помалу сделался видной персоной. Он свел знакомство со многими крупнейшими вкладчиками своего банка, а так как по делам службы ему приходилось бывать и в других банкирских домах, то его стали считать «своим» и в Банке Соединенных Штатов и у Дрекселей, Эдвардов и многих других. Биржевые маклеры знали его как представителя крепкой финансовой организации, и он повсюду слыл человеком если и не блестящего ума, то в высшей степени честным и добропорядочным дельцом. Юный Каупервуд все больше вникал в детали отцовских занятий. По субботам ему частенько разрешалось приходить в банк, и он с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги. Ему хотелось знать, откуда берутся все эти ценности, для чего клиенты обращаются в банк за учетом векселей, почему банк такой учет производит и что люди делают с полученными деньгами. Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснения, так что Фрэнк в очень раннем возрасте — между десятью и пятнадцатью годами — уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки, знал, что такое банк штата и в чем его отличие от Национального, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс постоянно колеблется. Он начал уяснять себе значение денег как средства обмена и понял, что всякая стоимость исчисляется в зависимости от основной — стоимости золота. Он был финансистом по самой своей природе и все связанное с этим трудным искусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие переживания, все оттенки чувств. Золото — это средство обмена — страстно его привлекало. Узнав от отца, как оно добывается, мальчик часто во сне видел себя собственником золотоносных копей и, проснувшись, жаждал, чтобы сон обратился в явь. Не меньший интерес возбуждали в нем акции и облигации; он узнал, что бывают акции, не стоящие бумаги, на которой они отпечатаны, и другие, расценивающиеся гораздо выше своего номинала. — Вот, сынок, погляди, — сказал ему однажды отец, — такие бумажки не часто встречаются в наших краях. Речь шла об акциях Британской Ост-индской компании, заложенных за две трети номинала, в обеспечение стотысячного займа. Они принадлежали одному филадельфийскому магнату, нуждавшемуся в наличных деньгах. Юный Каупервуд с живым любопытством разглядывал пачку бумаг. — По виду не скажешь, что они стоят денег, — заметил он. — Они ценятся вчетверо выше своего номинала, — улыбаясь, отвечал отец. Фрэнк снова принялся рассматривать бумаги. — «Британская Ост-индская компания», — прочитал он вслух. — Десять фунтов. Что-то около пятидесяти долларов. — Сорок восемь долларов и тридцать пять центов, — деловито поправил его отец. — М-да, будь у нас такая пачка, не было бы надобности трудиться с утра до вечера. Обрати внимание, они почти новехонькие, — редко бывают в обороте. В закладе они, видимо, первый раз. Подержав пачку в руках, юный Каупервуд вернул ее отцу, дивясь огромной разветвленности финансового дела. Что это за Ост-индская компания? Чем она занимается? Отец объяснил ему. Дома Фрэнк тоже слышал разговоры о капиталовложениях и о рискованных финансовых операциях. Его заинтересовал рассказ про весьма любопытную личность, некоего Стимберджера,крупного спекулянта из штата Виргиния, который перепродавал мясо и недавно заявился в Филадельфию, привлеченный надеждой на широкий и легкий кредит. Стимберджер, по словам отца, был связан с Николасом Бидлом, Ларднером и другими заправилами Банка Соединенных Штатов и даже очень дружен кое с кем из них. Так или иначе, но он добивался от этого банка почти всего, чего хотел добиться. Он производил крупнейшие закупки скота в Виргинии, Огайо и других штатах и фактически монополизировал мясную торговлю на востоке страны. Это был огромный человек с лицом, весьма напоминавшим, по словам мистера Каупервуда, свиное рыло; он неизменно ходил в высокой бобровой шапке и длинном, просторном сюртуке, болтавшемся на его могучем теле. Стимберджер умудрился взвинтить цены на мясо до тридцати центов за фунт, чем вызвал бурю негодования среди мелких торговцев и потребителей и стяжал себе недобрую славу. Являясь в фондовый отдел филадельфийского банка, он приносил с собой тысяч на сто или на двести краткосрочных обязательств Банка Соединенных Штатов, выпущенных купюрами в тысячу, пять и десять тысяч долларов, сроком на год. Эти обязательства учитывались из расчета на десять — двенадцать процентов ниже номинала, а сам он платил за них Банку Соединенных Штатов векселем на полную сумму сроком на четыре месяца. Следуемые ему деньги он получал в фондовом отделе Третьего национального банка альпари[9] пачками банкнот разных банков, находившихся в Виргинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как именно в этих штатах он главным образом и производил свои расчеты. Третий национальный банк получал от четырех до пяти процентов барыша с основной сделки да еще удерживал учетный процент с западных штатов, что тоже давало немалую прибыль. В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Гранд, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также сената и палаты представителей, казалось, были для него открытой, книгой. В свое время Гранд, через посредство двух или трех маклерских контор, скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в десять — пятнадцать миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через конгресс был проведен законопроект об ассигновании пяти миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Гранд пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств, в силу особых условий их выпуска, будет оплачена полностью, остальные же — со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы, в целях наживы, скупать старые обязательства. Гранд поставил об этом в известность Третий национальный банк, а следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее это дошло до Фрэнка; его ясные большие глаза загорелись. Почему, спрашивал он себя, отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя. Ведь сам же он говорил, что Гранд и еще человека три-четыре нажили на этом тысяч по сто. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен, — когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая. Как раз в те дни к Каупервудам приехал родственник, никогда раньше их не посещавший, Сенека Дэвис, брат миссис Каупервуд, белолицый, румяный и голубоглазый здоровяк, ростом в пять футов и девять дюймов, крепкий, круглый, с круглой же головой и блестящей лысиной, обрамленной курчавыми остатками золотисто-рыжих волос. Одевался он весьма элегантно, тщательно соблюдая моду — жилет в цветочках, длинный серый сюртук и цилиндр (неотъемлемая принадлежность преуспевающего человека). Фрэнк пленился им с первого взгляда. Мистер Дэвис был плантатором и владел большим ранчо на Кубе; он рассказывал мальчику о жизни на острове — о мятежах, засадах, яростных схватках с мачете в руках на его собственной плантации и о множестве других интересных вещей. Он привез с собой целую коллекцию индейских диковинок, много денег и нескольких невольников. Один из них — Мануэль, высокий и тощий негр — неотлучно находился при нем как бы в качестве его адъютанта и телохранителя. Мистер Дэвис экспортировал со своих плантаций сахар-сырец, который сгружали в Южной гавани Филадельфии. Дядя очаровал Фрэнка своей простодушной жизнерадостностью, казавшейся в этой спокойной и сдержанной семье даже несколько грубоватой и развязной. Нагрянув в воскресенье под вечер, нежданно и негаданно, дядя поверг всю семью в радостное изумление. — Да что ж это такое, сестрица! — вскричал он, едва завидев миссис Каупервуд. — Ты ни капельки не потолстела. А я-то думал, когда ты выходила замуж за своего почтенного Генри, что тебя разнесет, как твоего братца. Нет, вы только посмотрите! Клянусь честью, она и пяти фунтов не весит. И, обхватив Нэнси-Арабеллу за талию, он подкинул ее к вящему удивлению детей, не привыкших к столь бесцеремонному обращению с их матерью. Генри Каупервуд был очень доволен и польщен приездом богатого родственника: пятнадцать лет назад, когда он был молодоженом, Сенека Дэвис просто не удостаивал его вниманием. — Вы только взгляните на этих маленьких горожан, — шумел дядя, — рожицы точно мелом вымазанные. Вот бы им приехать на мое ранчо подзагореть немножко. Восковые куклы да и только. — С этими словами он ущипнул за щеку пятилетнюю Анну-Аделаиду. — Надо сказать, Генри, вы тут недурно устроились, — продолжал он, критическим взглядом окидывая гостиную ничем не примечательного трехэтажного дома. Комната эта, размером двадцать футов на двадцать четыре, отделанная панелями под вишневое дерево и обставленная новым гарнитуром в стиле Шератона, выглядела несколько необычно, но в общем приятно. Когда Генри Каупервуд стал помощником кассира, он выписал из Европы фортепиано — большая роскошь по тогдашним понятиям. Комнату украшали и другие редкие вещи: газовая люстра, аквариум с золотыми рыбками, несколько прекрасно отполированных раковин причудливой формы и мраморный купидон с корзиной цветов в руках. Стояло лето, в распахнутые окна заглядывали, радуя взор, деревья, осенявшие своими кронами кирпичные тротуары. Дядя Сенека не торопясь вышел во двор. — Весьма приятный уголок, — заметил он, стоя под развесистым вязом и оглядывая дворик, частично вымощенный кирпичом и обнесенный кирпичной же оградой, по которой вился дикий виноград. — А где же у вас гамак? Неужели вы летом не вешаете здесь гамака? В Сен-Педро у меня их штук шесть или семь на веранде. — Мы как-то не подумали о гамаке, ведь кругом соседи. Но это было бы премило, — отвечала миссис Каупервуд. — Завтра же попрошу Генри его купить. — Я привез с собой несколько штук. Они у меня в сундуке в гостинице. Мои чернокожие на Кубе сами плетут их. Я вам завтра утром пришлю один с Мануэлем. Он сорвал листик винограда, подергал ухо Эдварда, пообещал Джозефу, младшему из мальчиков, индейский томагавк и вернулся в дом. — Вот этот мальчонка мне нравится, — сказал он немного погодя и положил руку на плечо Фрэнка. — Как его полное имя, Генри? — Фрэнк Алджернон. — Гм! Надо было назвать его иначе, как зовут меня. В этом мальчугане что-то есть… Приезжай ко мне на Кубу, сынок, я из тебя сделаю плантатора. — Меня к этому не тянет, — отвечал старший сын Каупервуда. — По крайней мере сказано откровенно! Что же ты имеешь против моего предложения? — Ничего. Только я не знаю этого дела. — А какое ты знаешь? Мальчик улыбнулся не без хитрецы. — Я пока еще мало что знаю. — Ну ладно, а что тебя интересует? — Деньги. — Вот оно что! Это, значит, в крови — по стопам папеньки пошел. Что ж, плохого тут нет! И рассуждает-то он, как мужчина. Ну, малый, мы с тобой еще побеседуем. Похоже, Нэнси, что у тебя растет финансист. Он смотрит на вещи, как настоящий делец. Дядя еще внимательнее взглянул на Фрэнка. В этом решительном юнце, несомненно, чувствовалась сила. Его большие и ясные серые глаза выражали ум. Они многое таили в себе и ничего не выдавали. — Занятный малый, — сказал мистер Дэвис зятю. — Мне нравится его прыть. У вас славные дети. Мистер Каупервуд только улыбнулся. Этот дядюшка, раз ему так нравится Фрэнк, может многое для него сделать. Например, оставить ему со временем часть своего состояния. Мистер Дэвис был богат и холост. Дядя Сенека стал часто бывать у Каупервудов, всегда в сопровождении своего чернокожего телохранителя Мануэля, говорившего, к немалому изумлению детей, по-английски и по-испански. Фрэнк все больше и больше интересовал его. — Когда мальчик подрастет и решит, кем он хочет быть, я помогу ему встать на ноги, — заметил однажды мистер Дэвис в разговоре с сестрой, и та горячо поблагодарила его. Дядя беседовал с Фрэнком о его занятиях и обнаружил, что мальчика мало интересуют книги, да и вообще большинство школьных предметов. Грамматика — просто гадость. Литература — ерунда. Латынь — бесполезная трата времени. История — ну, это еще куда ни шло. — Я люблю счетоводство и математику, — заявил Фрэнк. — А вообще мне бы хотелось покончить с этим и взяться за дело. — Рановато еще, дружок, — отозвался дядя. — Сколько тебе? Четырнадцать? — Тринадцать. — Вот видишь, а раньше шестнадцати нельзя бросить школу. Еще бы лучше проучиться лет до семнадцати-восемнадцати. Это тебе не повредит. Детства ведь потом не вернешь, мой мальчик. — Я не хочу быть мальчиком. Я хочу работать. — Не торопись, сынок. Все равно оглянуться не успеешь, и ты уже взрослый. Ты ведь, кажется, метишь в банкиры? — Да, дядя. — Ну, что ж, когда, бог даст, время придет, я помогу тебе на первых порах, если ты не передумаешь. Смотри только, веди себя хорошо. На твоем месте я бы поработал год-другой в большой хлебно-комиссионной конторе. Там можно понабраться опыта. Ты узнаешь много такого, что тебе впоследствии пригодится. А пока береги свое здоровье и учись. Когда понадобится, извести меня, где бы я ни находился. Я напишу и узнаю, как ты себя вел. Он дал мальчику золотую монету в десять долларов, чтобы тот открыл себе счет в банке. Неудивительно, что этот подвижный, уверенный в своих силах и еще не тронутый жизнью юнец расположил мистера Дэвиса ко всей семье Каупервудов.Глава 3
На четырнадцатом году жизни Фрэнк Каупервуд впервые пустился в коммерческую авантюру. Однажды, проходя по Фронт-стрит, улице импортирующих и оптовых фирм, он заметил аукционный флажок над дверью оптово-бакалейного магазина; изнутри слышался голос аукциониста: — Что мне предложат за партию превосходного яванского кофе? Оптовая рыночная цена на сегодняшний день семь долларов тридцать два цента за мешок. Сколько даете? Сколько даете? Партия идет только целиком. Сколько даете? — Восемнадцать долларов, — крикнул стоявший у двери лавочник, собственно, лишь для того, чтобы положить начало торгам. Фрэнк остановился. — Двадцать два, — произнес другой голос. — Тридцать, — послышался третий. — Тридцать пять! — воскликнул четвертый. Цена дошла до семидесяти пяти долларов, что составляло меньше половины настоящей стоимости кофе. — Семьдесят пять долларов. Семьдесят пять, — выкрикивал аукционист. — Кто больше? Семьдесят пять долларов — раз. Кто даст восемьдесят? Семьдесят пять долларов два… — Он сделал паузу и драматическим жестом занес руку. Затем резко опустил ее. — Продано мистеру Сайласу Грегори за семьдесят пять долларов. Запишите, Джерри, — обратился он к своему рыжему, веснушчатому помощнику и тут же перешел к продаже другой партии бакалейного товара: одиннадцати бочонков крахмала. Юный Каупервуд быстро прикинул в уме. Рыночная цена кофе, если верить аукционисту, семь долларов тридцать два цента за мешок; значит, лавочник, купивший его за семьдесят пять долларов, может тут же заработать восемьдесят шесть долларов четыре цента, а продав его в розницу, — и того больше. Насколько ему помнится, мать платит двадцать восемь центов за фунт. С учебниками под мышкой Фрэнк протиснулся поближе и стал еще внимательнее следить за процедурой торгов. Бочонок крахмала, как он вскоре услышал, стоит десять долларов, а здесь его продали за шесть. Несколько бочонков уксуса пошли с молотка за треть своей стоимости. Фрэнку очень захотелось принять участие в торгах, но в кармане у него была только мелочь. Аукционист заметил мальчика, стоявшего прямо перед ним, и был поражен серьезностью и упорством, написанными на его лице. — Предлагаю партию прекрасного кастильского мыла — семь ящиков, ни больше и ни меньше. Оно, надо вам знать, если вы вообще что-нибудь смыслите в мыле, стоит теперь четырнадцать центов брусок. А за ящик с вас возьмут не меньше одиннадцати долларов семидесяти пяти центов. Сколько даете? Сколько даете? Сколько даете? Он говорил быстро, с обычными интонациями аукциониста и чрезмерным пафосом, но на юного Каупервуда это не действовало. Он живо подсчитывал в уме. Семь ящиков по одиннадцать семьдесят пять — всего восемьдесят два доллара двадцать пять центов. И если эта партия пойдет за полцены… Если она пойдет за полцены… — Двенадцать долларов! — предложил кто-то. — Пятнадцать! — повысил цену другой. — Двадцать! — крикнул третий. — Двадцать пять! — надбавил четвертый. Дальше пошли надбавки по одному доллару, так как кастильское мыло не пользовалось широким спросом. — Двадцать шесть! — Двадцать семь! — Двадцать восемь! — Двадцать девять! Все молчали. — Тридцать! — решительно произнес юный Каупервуд. Аукционист, маленький, худощавый человек с изможденным лицом и взъерошенными волосами, с любопытством и несколько недоверчиво покосился на Фрэнка, ни на миг, впрочем, не умолкая. Напряженный взгляд мальчика поневоле привлек его внимание, и он как-то сразу, сам не зная почему, преисполнился доверия и решил: деньги у него есть. Возможно, он сын какого-нибудь бакалейщика. — Тридцать долларов! Тридцать долларов! Тридцать долларов за партию превосходного кастильского мыла! Отличное мыло! В розницу идет по четырнадцати центов кусок. Кто даст тридцать один доллар? Кто даст тридцать один? Кто даст тридцать один? — Тридцать один! — раздался голос. — Тридцать два! — произнес Каупервуд. Торг возобновился. — Тридцать два доллара! Тридцать два доллара! Тридцать два доллара! Кто даст за это замечательное мыло тридцать три? Семь ящиков прекрасного кастильского мыла. Кто даст тридцать три? Мозг юного Каупервуда напряженно работал. Денег у него с собой не было, но его отец служил помощником кассира в Третьем национальном банке, и Фрэнк мог сослаться на него. Все это мыло, без сомнения, удастся продать бакалейщику по соседству с домом, а если не ему, то еще какому-нибудь лавочнику. Нашлись ведь и другие, желавшие приобрести его по такой цене. Так почему бы мыло не купить Фрэнку? Аукционист сделал паузу. — Тридцать два доллара — раз! Кто даст тридцать три? Тридцать два доллара — два! Даст кто-нибудь тридцать три? Тридцать два доллара — три! Семь ящиков превосходного мыла! Кто даст больше? Раз, два, три! Кто больше? — рука его снова поднялась в воздух. — Продано мистеру… Он слегка перегнулся через стойку, с любопытством заглядывая в лицо юного покупателя. — Фрэнку Каупервуду, сыну помощника кассира Третьего национального банка, — твердым голосом проговорил мальчик. — Идет! — сказал аукционист, убежденный его уверенным взглядом. — Вы подождете, пока я сбегаю в банк за деньгами? — Хорошо! Только недолго: если вы через час не вернетесь, я снова пущу его в продажу. Фрэнк уже не ответил. Он выбежал за дверь и прежде всего помчался к бакалейщику, чья лавка была на расстоянии одного квартала от дома Каупервудов. Последние тридцать шагов он прошел медленно, потом состроил беспечную мину и, войдя в лавку, стал глазами искать кастильское мыло. Вот оно — на обычном месте, того же сорта, в таком же ящике, как и «его» мыло. — Почем у вас кусок такого мыла, мистер Дэлримпл? — осведомился Фрэнк. — Шестнадцать центов, — с достоинством отвечал лавочник. — Если я предложу вам семь ящиков точно такого товара за шестьдесят два доллара, вы возьмете? — Точно такого? — Да, сэр. Мистер Дэлримпл мысленно произвел подсчет. — Да, пожалуй, — осторожно ответил он. — И вы могли бы сегодня же заплатить мне? — Я дал бы вексель. А где товар? Мистер Дэлримпл был несколько озадачен этим неожиданным предложением соседского сына. Он хорошо знал мистера Каупервуда, да и Фрэнка тоже. — Так вы возьмете мыло, если я вам сегодня его доставлю? — Возьму, — ответил лавочник. — Вы что же, мылом занялись? — Нет, но я знаю, где его можно дешево купить. Фрэнк торопливо вышел и побежал к отцу. Операции в банке уже прекратились, но мальчик знал там все ходы и выходы и знал также, что мистер Каупервуд будет доволен, если сын заработает тридцать долларов. Ему нужно было только занять денег на один день. — Что случилось, Фрэнк? — поднимая голову от конторки, спросил мистер Каупервуд, завидев своего раскрасневшегося и запыхавшегося сына. — Я хочу попросить у тебя взаймы тридцать два доллара, папа. — Хорошо. А на что они тебе понадобились? — Я собираюсь купить мыло: семь ящиков кастильского мыла. Я знаю, где его достать, и у меня уже есть на него покупатель. Мистер Дэлримпл берет всю партию. Он предложил мне шестьдесят два доллара. А я покупаю за тридцать два. Если ты дашь мне денег, я мигом слетаю и заплачу аукционисту. Мистер Каупервуд улыбнулся. Никогда еще его сын не проявлял такой деловитости. Для мальчика тринадцати лет он был на редкость сообразителен и оборотист. — Итак, Фрэнк, — сказал он, направляясь к ящику, в котором лежало несколько ассигнаций, — ты, видно, уже становишься финансистом. А ты уверен, что не потерпишь убытка? Ты отдаешь себе отчет в своей затее? — Дай же мне деньги, папа, — с мольбой в голосе проговорил Фрэнк. — А я тебе докажу, на что я способен. Только дай деньги. Можешь мне поверить. Он походил на молодую охотничью собаку, учуявшую дичь. Отец не мог противиться его настояниям. — Разумеется, Фрэнк, я верю тебе, — сказал он, отсчитывая шесть пятидолларовых банкнот своего же Третьего национального банка и две по доллару. — Получай! Пробормотав благодарность, Фрэнк выскочил и со всех ног понесся на аукцион. В момент его прихода с торгов продавался сахар. Фрэнк протискался к столику, за которым сидел клерк. — Я хочу заплатить за мыло, — сказал он. — Сейчас? — Да. Вы мне выпишете квитанцию? — Можно! — Товар будет доставлен на дом? — Нет, у нас без доставки. Вы должны забрать его в течение суток. Неожиданное затруднение не смутило Фрэнка. — Хорошо, — сказал он, пряча квитанцию в карман. Аукционист невольно проводил его глазами. Через полчаса Фрэнк вернулся в сопровождении ломовика, околачивавшегося со своей телегой в порту и готового подработать чем угодно. За шестьдесят центов он подрядился отвезти мыло по назначению. Еще через полчаса они уже стояли перед лавкой изумленного мистера Дэлримпла, которого Фрэнк, прежде чем сгружать мыло с телеги, заставил выйти на улицу и взглянуть на ящики. В случае, если сделка не состоится, Фрэнк решил отвезти мыло домой. Несмотря на то, что это была его первая спекуляция, он все время сохранял полнейшее присутствие духа. — Н-да, — проговорил мистер Дэлримпл, задумчиво почесывая седую голову, — н-да, мыло то же самое. Я беру его. Слово надо держать. Где это вы его раздобыли, Фрэнк? — На распродаже у Биксома, тут недалеко, — откровенно и учтиво отвечал юный Каупервуд. Мистер Дэлримпл велел отнести мыло в лавку и после некоторых формальностей, осложнявшихся тем, что продавец был несовершеннолетним, выписал вексель сроком на месяц. Фрэнк поблагодарил и спрятал его в карман. Он решил еще раз пойти к отцу и учесть вексель, как это делали на его глазах другие, чтобы отдать долг и получить свой барыш наличными. Как правило, этих операций не производят после закрытия банка, но отец сделает для него исключение. Насвистывая, он отправился в путь; отец снова улыбнулся, увидев его. — Ну как, Фрэнк, выгорело твое дело? — осведомился мистер Каупервуд. — Вот вексель сроком на месяц, — сказал мальчик, кладя на стол полученное от Дэлримпла обязательство. — Пожалуйста, учти его с удержанием своих тридцати двух долларов. Отец внимательно рассматривал вексель. — Шестьдесят два доллара, — прочитал он. — Мистер Дэлримпл. Все правильно. Да, я учту его. Это обойдется тебе в десять процентов, — пошутил он. — Но почему бы тебе не оставить вексель у себя? Я могу подождать и не буду требовать свои тридцать два доллара до конца месяца. — Нет, не надо, — возразил Фрэнк, — ты лучше учти его и возьми свои деньги. Мои могут мне понадобиться. Деловитый вид сына позабавил мистера Каупервуда. — Ну, хорошо, — сказал он. — Завтра все будет устроено, а теперь расскажи мне, как тебе это удалось? И сын ему рассказал. В семь часов вечера эту историю узнала миссис Каупервуд, а несколько позднее и дядя Сенека. — Ну, что я вам говорил, Каупервуд? — воскликнул дядюшка. — Этот мальчуган подает надежды. Вы еще и не то увидите! За обедом миссис Каупервуд с любопытством вглядывалась в сына. Неужели вот этого мальчика она еще так недавно кормила грудью? Как он быстро возмужал! — Надеюсь, Фрэнк, тебе и впредь будут удаваться такие дела, — сказала она. — И я надеюсь, мама, — последовал лаконичный ответ. Правда, торги происходили не каждый день, и не каждый день были возможны сделки с бакалейщиком, но Фрэнк уже с юных лет умел наживать деньги. Он собирал подписку на журнал для юношества, работал агентом по распространению нового типа коньков, а раз даже соблазнил окрестных мальчишек объединиться и закупить себе к лету партию соломенных шляп по оптовой цене. О том, чтобы сколотить капитал бережливостью, Фрэнк и не помышлял. Он чуть не с детства проникся убеждением, что куда приятнее тратить деньги не считая и что этой возможности он так или иначе добьется. В этом же году, если не раньше, в нем начал пробуждаться интерес к девочкам. Его взгляд неизменно останавливался на самой красивой. А так как он сам был красив и обаятелен, то ему ничего не стоило заинтересовать своей особой понравившуюся ему девочку. Двенадцатилетняя Пейшенс Барлоу, жившая по соседству, была первой, на которую он загляделся, и сама она загляделась на него. Природа наделила ее блестящими черными глазами и черными волосами, которые она заплетала в две тугие косы. Изящные ножки с тонкими лодыжками легко несли ее прелестную фигурку. Родители девочки были квакеры, и на ее голове всегда красовался скромный маленький чепчик. Характер у нее, однако, был очень живой, и этот смелый, самоуверенный, прямой мальчик ей нравился. Однажды, после того как они не раз уже обменялись беглыми взглядами, он остановил ее (девочка шла в ту же сторону) и с улыбкой, смело, как всегда, спросил: — Вы ведь живете на нашей улице? Правда? — Да, — отвечала она, слегка волнуясь и раскачивая сумку с книгами, — в доме сто сорок один. — Я знаю этот дом, — сказал он. — Видел, как вы туда входили. Вы, кажется, учитесь в одной школе с моей сестрой? Ведь вас зовут Пейшенс Барлоу? Он слышал, как кто-то из его соучеников назвал ее по имени. — Да, — подтвердила она. — А откуда вы знаете? — Слышал, — улыбнулся Фрэнк. — Я вас часто вижу. Хотите лакрицы? Он порылся в кармане и вытащил несколько палочек свежей лакрицы, очень распространенного в те времена лакомства. Пейшенс ласково поблагодарила и взяла одну. — Наверно, не очень вкусно. Она уже давно лежит в кармане. На днях у меня были тянучки. — Нет, вкусно, — отозвалась она, посасывая кончик палочки. — Вы ведь знаете мою сестру, Анну Каупервуд? — спросил Фрэнк, возвращаясь к начатому разговору и как бы представляясь своей соседке. — Она, правда, классом младше вас, но, может быть, вы знакомы? — Я ее знаю. Мы встречаемся, когда идем из школы. — Я живу вон там, направо, — Фрэнк указал ей на дом, к которому они подходили, будто девочка и без того не знала, где он живет. — Надеюсь, мы теперь часто будем видеться? — Вы знакомы с Рут Мерриэм? — спросила она, когда Фрэнк уже собирался свернуть на мощеную дорожку, ведущую к его дому. — Нет, а почему вы спрашиваете? — У нее во вторник вечеринка, — как бы вскользь заметила девочка. — Где она живет? — В доме двадцать восемь. — Я был бы не прочь зайти к ней, — признался Фрэнк, сворачивая домой. — Может быть, она пригласит вас. — Пейшенс становилась все храбрее, по мере того как расстояние между ними увеличивалось. — Я ее попрошу. — Спасибо, — поблагодарил он с улыбкой. Она весело побежала дальше. Фрэнк с сияющим лицом смотрел ей вслед. Она была прелестна. Он ощутил страстное желание поцеловать ее и живо вообразил себе вечеринку у Рут Мерриэм и все, что это ему сулило. То был еще совсем детский роман, одно из ребяческих увлечений, которые время от времени охватывали Фрэнка среди вихря житейских событий. С Пейшенс Барлоу он не раз целовался в укромных уголках, прежде чем нашел себе другую. Зимой Пейшенс вместе с соседскими девочками выбегала на улицу поиграть в снежки или же в долгие зимние вечера засиживалась на скамеечке у дверей своего дома. Изловить ее в эти часы и поцеловать было так же легко, как легко было на вечеринках нашептывать ей всякий вздор. На смену ей пришла Дора Фитлер, — Фрэнку было тогда шестнадцать, лет, ей четырнадцать, — позднее, в семнадцать лет, — пятнадцатилетняя Марджори Стэффорд, белокурая, пухленькая девочка с голубовато-серыми глазами, румяная и свежая, как утренняя заря. В семнадцать Фрэнк решил бросить школу. Он всего три года проучился в старших классах, но уже был сыт ученьем по горло. С тринадцати лет все его помыслы были обращены на финансовое дело, в той его форме, какую он наблюдал на Третьей улице. Время от времени он выполнял поручения, дававшие ему возможность кое-что подработать. Дядя Сенека позволил ему помогать весовщику в грузовом порту, где под бдительным надзором правительственных инспекторов складывались в государственные пакгаузы при таможне трехсотфунтовые мешки с сахаром. Иногда, при особо спешной работе, он помогал отцу и получал за это плату. Фрэнк даже сговорился было с мистером Дэлримплом насчет работы у него в субботние дни, но вскоре после того, как ему стукнуло пятнадцать, его отец стал главным кассиром с годовым окладом в четыре тысячи долларов, и о работе за прилавком, конечно, больше не могло быть и речи. Как раз в это время в Филадельфию снова приехал дядя Сенека, еще более толстый, еще более властный, и сказал племяннику: — Вот что, Фрэнк, если хочешь приняться за дело, то я тебе для начала припас хорошее местечко. Первый год ты будешь работать без жалованья, но, если справишься, тебе, вероятно, дадут наградные. Слыхал ты про фирму «Генри Уотермен и К°» на Второй улице? — Я знаю, где помещается их контора. — Так вот они согласны взять тебя счетоводом. Это маклеры, занимающиеся перепродажей зерна и посредническими делами. Ты как-то говорил, что хочешь поработать в этой области. Когда кончится учебный год, сходи к мистеру Уотермену, сошлись на меня, и он, надо думать, тебя возьмет. Сообщи мне потом, как вы договорились. Дядя Сенека теперь был уже женат — своими деньгами он завоевал сердце одной небогатой, но честолюбивой дамы из филадельфийских светских кругов. Благодаря этому браку связи Каупервудов, по общему мнению, должны были очень укрепиться. Генри Каупервуд подумывал о том, чтобы переехать в северную часть города, на Фронт-стрит, откуда открывался великолепный вид на реку и где уже шло строительство красивых особняков. По тем временам — незадолго до Гражданской войны[10] — его четырехтысячный оклад был довольно внушительным. Генри Каупервуд, благоразумный и осторожный, никогда не вкладывал свои сбережения даже в мало-мальски рискованные дела и благодаря своей аккуратности, осмотрительности и пунктуальности имел, как полагали его сослуживцы, все основания в будущем рассчитывать на пост вице-директора или даже директора банка, в котором работал. Предложение дяди Сенеки относительно «Уотермена и К°» Фрэнк счел для начала вполне подходящим. Посему в июне месяце он отправился на Вторую улицу и был приветливо встречен Генри Уотерменом-старшим. Кроме того, как выяснилось, имелись еще Генри Уотермен-младший, двадцатилетний молодой человек, и некий Джордж Уотермен, пятидесяти лет, брат Уотермена-старшего, доверенное лицо, бывшее в курсе всех сделок. Во главе предприятия стоял Генри Уотермен-старший, пятидесяти пяти лет. Он выезжал, по мере надобности, к пригородным клиентам; за ним оставалось последнее слово в вопросах, которых брат не мог разрешить самолично, и он же затевал новые сделки, так что его компаньонам и служащим оставалось только проводить их в жизнь. С виду флегматичный, коротконогий, пузатый толстячок, с густой сетью морщинок вокруг выпуклых глаз и красной шеей, мистер Генри Уотермен-старший на деле был проницательным, добродушным, покладистым и остроумным человеком. Благодаря врожденному здравому смыслу и подкупающей благожелательности ему удалось создать прочное и процветающее дело. Но годы уже давали себя знать, и теперь он от души радовался бы сотрудничеству с сыном, если бы таковое не шло в ущерб фирме. Но об этом нечего было и мечтать. Не столь демократичный, как отец, лишенный его быстрой сообразительности и работоспособности, сын не чувствовал ничего, кроме отвращения к коммерческой деятельности. Дело, оставленное на его попечение, несомненно, пошло бы прахом. Отец это видел, огорчался и все надеялся, что сыщется какой-нибудь молодой человек, который заинтересуется делом, будет продолжать его на прежних началах и вместе с тем не вытеснит его сына, — одним словом, человек, готовый довольствоваться ролью младшего компаньона. И вот с рекомендациями от Сенеки Дэвиса явился молодой Каупервуд. Мистер Уотермен окинул его критическим взглядом. Да, подумал старик, мальчик подходящий. Из этого мальчика может выйти толк. Он держался непринужденно и в то же время с достоинством, без малейших признаков волнения или стеснительности. По его словам, он умел вести счетные книги, хотя и не разбирался во всех тонкостях хлебно-комиссионного дела. Но эта отрасль интересовала его, и он хотел бы попытать в ней счастья. — Этот малый мне нравится, — сказал брату Генри Уотермен, после того как Фрэнк ушел, получив предложение завтра утром приступить к новым обязанностям. — В нем что-то есть! Такой юный, сметливый, живой человек давно уже не переступал нашего порога. — Да, — согласился Джордж, более худой и высокий, чем брат, с карими, несколько мутными, задумчивыми глазами и жиденькими темными волосиками, еще больше подчеркивавшими белизну плеши на его яйцевидной голове. — Весьма приятный молодой человек. Странно, что отец не берет его к себе в банк. — Как знать, вероятно, у него нет такой возможности, — возразил брат. — Ведь он там всего-навсего главный кассир. — Это правда. — Что ж, испытаем его. По-моему, у него любое дело будет спориться. Многообещающий юноша! Генри Уотермен встал и направился к парадной двери, выходившей на Вторую улицу. Холодок булыжной мостовой, защищенной от утреннего солнца сплошной стеной зданий (среди них и здание его конторы), стук копыт, грохот подвод, снующая толпа — все это нравилось ему. Он посмотрел через дорогу — трех— и четырехэтажные дома, почти все из серого камня. В них тоже бурлила жизнь, и Генри Уотермен возблагодарил небо за то, что некогда ему пришла в голову мысль основать свое дело на столь бойком месте. Жаль только, что он в свое время не приобрел здесь еще несколько участков. «Хорошо бы этот молодой Каупервуд оказался подходящим для меня человеком, — мысленно сказал себе старик. — Я был бы избавлен от множества лишних хлопот». Примечательно, что пятиминутного разговора было достаточно, чтобы убедиться в деловитости этого мальчика. Генри Уотермен почти не сомневался, что надежды его сбудутся.Глава 4
Внешность Фрэнка Каупервуда в те годы была располагающей и приятной. Рослый — пять футов и десять дюймов, широкоплечий и ладно скроенный, с крупной красивой головой и густыми, вьющимися темно-каштановыми волосами. В глазах его светилась живая мысль, но взгляд их был непроницаем, по нему ничего нельзя было угадать. Походка у Фрэнка была легкая, уверенная, быстрая. Он не знал ни тяжелых ударов судьбы, ни горечи разочарований. Ему не доводилось страдать ни от болезней, ни от лишений. Правда, он видел вокруг себя людей более богатых, но ведь и он надеялся разбогатеть. Его семья пользовалась уважением, отец занимал хороший пост. Фрэнк никому никогда не был должен. Только однажды он просрочил мелкий вексель, выданный банку, и отец дал ему такой нагоняй, что он запомнил это на всю жизнь. — Да я бы на четвереньках приполз, но не допустил, чтобы мой вексель опротестовали! — восклицал мистер Каупервуд. И Фрэнк раз навсегда понял то, что, собственно, можно было понять и без таких патетических восклицаний, — значение кредита. После этого случая уже ни один выданный им вексель не был опротестован или просрочен по его небрежности. Фрэнк оказался самым дельным служащим, какого когда-либо знал торговый дом «Уотермен и К°». Сперва его засадили за книги в качестве помощника бухгалтера, на место недавно уволенного мистера Томаса Трикслера, но уже две недели спустя Джордж Уотермен сказал: — Почему бы нам не перевести Каупервуда в бухгалтеры? Он за одну минуту сообразит больше, чем наш Сэмсон за всю свою жизнь. — Хорошо, Джордж, я не возражаю, но ты об этом особенно не распространяйся. Каупервуд долго бухгалтером не останется. Посмотрим, не сумеет ли он в скором времени, заменить меня в некоторых делах. Бухгалтерия нового дома «Уотермен и К°», достаточно сложная, для Фрэнка была детской забавой. Он так легко, так быстро разобрался в книгах, что его бывший начальник Сэмсон только диву давался. — Нет, этот малый слишком прыток, — в первый же день, взглянув на работу Фрэнка, заявил он другому служащему. — Он запутается, помяните мое слово. Я эту породу знаю. Вот подождите, пусть только начнутся горячие денечки с кредитованиями и перечислениями. Вопреки предсказаниям мистера Сэмсона, Фрэнк не запутался. Не прошло и недели, как он уже знал состояние финансов фирмы Уотермен не хуже, если не лучше, самих хозяев. Он знал, кому направлять счета, в каких районах заключается больше всего сделок, кто поставляет хороший товар и кто плохой, — о последнем красноречиво свидетельствовало колебание цен в течение года. Желая проверить свои предположения, он просмотрел ряд старых счетов в гроссбухе. Бухгалтерией он интересовался лишь в той мере, в какой она регистрировала и отражала жизнь фирмы. Он знал, что долго на этой работе не останется. Там видно будет. Пока же он сразу, до мельчайших подробностей, постиг суть хлебно-комиссионного дела. Он увидел, какие серьезные убытки терпят хозяева, — вернее их клиенты, так как фирма занималась лишь посредничеством, — из-за недостаточно быстрого сбыта товаров, поступающих на консигнацию[11], а также отсутствия налаженного контакта с поставщиками, покупателями и другими комиссионными фирмами. Клиент, к примеру, отгружал фрукты или овощи, ориентируясь на устойчивые, а не то даже растущие рыночные цены. Но если это же делали одновременно десять человек или у других посредников получалось затаривание, то цены немедленно падали. Грузооборот никогда не был стабильным. Фрэнку тотчас же пришло на ум, что, занявшись сбытом крупных партий товара в качестве выездного агента, он принес бы фирме куда больше пользы, но до поры до времени решил этого вопроса не поднимать. Более чем вероятно, что в ближайшем будущем все разрешится само собою. Оба Уотермена — Генри и Джордж — не могли нахвалиться тем, как Фрэнк вел их отчетность. Самое его присутствие вселяло в них веру, что все идет хорошо. Вскоре Фрэнк обратил внимание «братца Джорджа» на состояние некоторых счетов, рекомендуя сбалансировать одни, другие же совсем закрыть, чем доставил старому джентльмену несказанное удовольствие. Деловитость этого юноши со временем сулила ему облегчение собственных его трудов; в то же время в нем росло чувство личной приязни к Фрэнку. «Братец Генри» был за то, чтобы испробовать молодого человека на внешних операциях. Поскольку наличные запасы фирмы не всегда могли удовлетворить заказчиков, приходилось обращаться за товаром в другие конторы или же на биржу, и обычно это делал глава фирмы. Однажды утром, когда прибыли накладные, предвещавшие избыток муки и недостаток зерна на рынке, — Фрэнк это заметил первым, — старший Уотермен пригласил его к себе в кабинет и сказал: — Фрэнк, я попросил бы вас подумать, как выйти из создавшегося положения. Завтра у нас образуется завал муки. Мы не можем платить полежалое, а между тем наличные заказы не поглотят всего товара. В зерне же у нас нехватка. Может быть, вам удастся сбыть лишнюю муку кому-нибудь из маклеров и раздобыть достаточно зерна на покрытие заказов? — Я попытаюсь, — отвечал Каупервуд. Из своих бухгалтерских книг Фрэнк знал адреса различных комиссионных контор. Знал также, чем располагает местная товарная биржа и что могут предложить те или иные работающие в этой отрасли посредники. Поручение устранить возникший затор пришлось ему по вкусу. Так приятно было вновь очутиться на свежем воздухе и ходить из дома в дом. Ему претило сидеть в конторе, скрипеть пером и корпеть над книгами. Много лет спустя Фрэнк сказал: «Моя контора — это моя голова». Сейчас же он поспешил к крупнейшим комиссионерам, разузнавая, как обстоит дело с мукой, и предлагая свои излишки по цене, которую он запросил бы, если бы над фирмой и не нависла угроза затоваривания. Нет ли желающих купить шестьсот бочонков первосортной муки с немедленной (другими словами, в течение двух суток) доставкой? Цена — девять долларов за бочонок. Охотников не находилось. Тогда Фрэнк стал предлагать товар мелкими партиями, и эта затея оказалась успешной. Через какой-нибудь час у него оставалось всего двести бочонков, и он решил предложить их некоему Джендермену, видному дельцу, с которым его фирма не имела торговых отношений. Джендермен, крупный мужчина с курчавой седой шевелюрой, одутловатым лицом, изрытым оспой, и маленькими глазками, хитро поблескивавшими из-под тяжелых век, с любопытством уставился на Фрэнка. — Как ваша фамилия, молодой человек? — осведомился он, откидываясь на спинку деревянного кресла. — Каупервуд. — Так вы, значит, служите у Уотерменов? Наверно, решили отличиться, а потому и пришли ко мне? Каупервуд в ответ только улыбнулся. — Ну что ж, я возьму у вас муку. Она мне пригодится. Выписывайте счет. Каупервуд поспешил откланяться. От Джендермена он прямиком пошел в маклерскую контору на Уолнат-стрит, с которой его фирма вела дела, велел закупить на бирже нужное ему зерно по рыночной цене и вернулся к себе в контору. — Быстро вы управились, — сказал Генри Уотермен, выслушав его доклад. — И продали двести бочонков старому Джендермену? Очень, очень хорошо. Он как будто и не наш клиент? — Нет, сэр. — Ну, если вам удается проводить такие дела, вы долго не засидитесь на книгах. В скором времени Фрэнка уже знали и во многих маклерских конторах и на бирже. Он скупал товарные остатки для своих хозяев, приобретал случайно попадавшиеся партии нужного товара, вербовал новых клиентов, ликвидировал излишки, сбывая их мелкими партиями совсем неожиданным покупателям. Уотермены только дивились, с какой легкостью он все это проделывал. Фрэнк обладал исключительной способностью заставлять благожелательно выслушивать себя, завязывать дружеские отношения, проникать в новые торговые круги. Свежий ключ забил в старом русле торгового дома «Уотермен и К°». Клиентура теперь обслуживалась несравненно лучше, и Джордж стал настаивать на посылке Фрэнка в сельские местности для оживления торговли, так что Фрэнк нередко выезжал за город. Перед рождеством Генри Уотермен сказал брату: — Надо сделать Каупервуду хороший подарок. Он ведь не получает жалованья. Как ты думаешь, пятисот долларов ему будет достаточно? — Это большие деньги по нынешним временам, но, по-моему, он их заслужил. Этот малый, несомненно, оправдал все наши ожидания и даже превзошел их. Он словно создан для хлебно-комиссионного дела. — А что он сам говорит об этом? Ты не слыхал, он доволен? — О, мне кажется, он вполне удовлетворен. Впрочем, ты видишь его не реже, чем я. — Ну что ж, так и порешим — пятьсот долларов. А со временем можно будет принять его компаньоном в наше дело. У него хватка настоящего коммерсанта. Распорядись насчет этих денег да скажи ему приветливое словечко от нас обоих. И вот накануне сочельника, когда Фрэнк просматривал какие-то накладные и счета, чтобы перед наступающим праздником оставить все дела в полном порядке, к его столу подошел Джордж Уотермен. — Все еще за работой? — спросил он, останавливаясь под ослепительным газовым рожком и одобрительно глядя на усердного юношу. За окном уже спустились сумерки, и мороз покрыл узорами стекла. — Так, просматриваю кое-что напоследок, — с улыбкой отвечал Каупервуд. — Мы с братом очень довольны тем, как вы работали эти полгода. Нам хотелось как-нибудь выразить нашу признательность, и потому мы просим вас принять награду в пятьсот долларов. А с будущего года мыназначаем вам регулярное жалованье — тридцать долларов в неделю. — Очень вам благодарен, — отвечал Фрэнк. — Я не рассчитывал на такой оклад. Это больше, чем я мог предполагать. Ведь работая у вас, я многому научился. — Полноте. Вы заслужили эти деньги и можете оставаться у нас, сколько захотите. Мы вам всегда рады. Каупервуд улыбнулся, как обычно приветливо и добродушно. Откровенное признание его заслуг очень ему польстило. Приятно было смотреть на него, веселого, сияющего, в хорошо сшитом костюме из английского сукна. Вечером, по дороге домой, Фрэнк размышлял о том, что представляет собою дело, в котором он работал. У него не было ни малейшего намерения долго оставаться на этой службе, несмотря на наградные и обещанное жалованье. Братья Уотермены испытывали к нему признательность — что ж тут удивительного? Он был энергичным работником, и сам знал это. Ему и в голову не приходило причислять себя к мелким служащим, напротив: со временем эта людская порода должна будет работать на него. В таком его взгляде на вещи не было ни озлобления, ни ярости против судьбы, ни страха перед неудачей. На своих хозяев он смотрел как на представителей определенного типа дельцов. Он видел их слабости и недостатки, так же как взрослый видит недостатки ребенка. После обеда, собираясь к своей приятельнице Марджори Стэффорд, Фрэнк рассказал отцу о наградных и обещанном жалованье. — Великолепно! — обрадовался Каупервуд-старший. — Ты делаешь даже большие успехи, чем я предполагал. Надо думать, ты там и останешься? — Нет, не останусь. В будущем году я от них уйду. — Почему? — Видишь ли, меня к этому не тянет. Дело неплохое, но я предпочел бы испробовать свои силы на фондовой бирже. Это мне интереснее. — А тебе не кажется, что будет нехорошо по отношению к твоим хозяевам, если ты не предупредишь их заранее? — Нисколько. Я им все равно нужен, — отвечал Фрэнк, завязывая галстук перед зеркалом и оправляя сюртук. — Матери ты рассказал? — Нет еще. Сейчас пойду к ней. Он вошел в столовую, где сидела мать, обвил руками ее хрупкие плечи и сказал: — Угадай, что я тебе расскажу, мама. — Не знаю, — отвечала она, ласково заглядывая ему в глаза. — Я сегодня получил пятьсот долларов наградных, а с будущего года мне положено жалованье — тридцать долларов в неделю. Что тебе подарить к рождеству? — Да неужели? Вот это замечательно. Как я рада! Тебя, верно, там очень любят? Ты становишься совсем взрослым мужчиной. — Что же тебе подарить к рождеству? — Ничего. Мне ничего не надо. У меня есть мои дети. Фрэнк улыбнулся. — Будь по-твоему, — ничего, так ничего. Но мать знала, что он непременно купит ей какой-нибудь подарок. Выходя, Фрэнк на мгновенье задержался в дверях, обнял за талию сестренку, предупредил мать, чтобы его не ждали рано, и поспешил к Марджори, с которой условился идти в театр. — Какой же мне сделать тебе рождественский подарок, Марджи? — спросил он, целуя ее в полутемной передней. — Я получил сегодня пятьсот долларов. Ей едва минуло пятнадцать лет, и ни хитрости, ни корысти в ней еще не было. — Ах, что ты, мне ничего не нужно. — Не нужно? — повторил он, прижимая ее к себе и снова целуя в губы. Хорошо прокладывать себе путь в этом мире, хорошо наслаждаться всеми радостями жизни!Глава 5
В октябре следующего года — месяцев через шесть после того, как ему минуло восемнадцать лет, — Фрэнк, окончательно убедившись, что хлебно-комиссионное дело (насколько он мог судить о нем по компании Уотерменов) не его призвание, решил уйти из этой фирмы и поступить на службу в банкирскую контору «Тай и К°». С мистером Таем Фрэнк познакомился как агент «Уотермена и К°» по внешним сделкам, и тот сразу же заинтересовался молодым человеком. — Ну, как дела у ваших хозяев? — иногда добродушно спрашивал он. Или осведомлялся: — Ну что, растет ваш вексельный портфель? Тревожное время, переживаемое страной, непомерно раздутый выпуск ценных бумаг, пропаганда против рабовладельчества и все прочее заставляли людей тревожиться за будущее. И Таю — он сам не мог бы объяснить почему — казалось, что с этим юношей стоило потолковать на животрепещущие темы. И годы его как будто не такие, чтобы во всем этом разбираться, а все-таки разбирается. — Благодарю вас, мистер Тай, у нас дела идут неплохо, — обычно отвечал ему Каупервуд. — Вот увидите, — однажды утром сказал Тай Фрэнку, — если эта пропаганда против рабства не прекратится, мы еще хлебнем горя. Как раз в это время невольник, принадлежавший одному приезжему кубинцу, был отобран у хозяина и отпущен на волю, ибо по законам Пенсильвании всякий негр, оказавшийся на территории штата, хотя бы даже проездом, получал свободу. Случай этот вызвал большие волнения. Несколько человек было арестовано, газеты подняли отчаянную шумиху. — Никогда не поверю, что Юг станет терпеть такое положение вещей. В наше дело это вносит сумятицу и, надо думать, в другие отрасли тоже. Помяните мое слово, мы доиграемся до отпадения Южных штатов. Мистер Тай произнес эту сентенцию с чуть заметным ирландским акцентом. — Да, к тому идет, — спокойно отвечал Каупервуд. — И ничего тут не поделаешь. Негры, конечно, не стоят всех этих волнений, но агитация в их пользу будет продолжаться. Чем же еще заниматься чувствительным людям? А нашей торговле с Югом это сильно вредит. — Я держусь такого же мнения да и слышу то же самое со всех сторон. По уходе молодого Каупервуда мистер Тай занялся другим клиентом, но нет-нет да и вспоминал юношу, поразившего его глубиной и здравостью своих суждений о финансовых делах. «Если этот молодой человек захочет переменить место, я предложу ему работать у меня», — решил он. И однажды сказал Фрэнку: — Вы не хотели бы попытать свои силы в биржевом деле? У меня как раз освободилось место. — С удовольствием, — улыбаясь, отвечал Каупервуд, видимо, польщенный. — Я и сам собирался просить вас об этом. — Ну что ж, если вы решитесь перейти ко мне, место за вами. Приступайте, когда вам будет угодно. — Я должен заблаговременно предупредить своих хозяев, — заметил Фрэнк. — Вы не могли бы подождать недели две? — Разумеется. Никакой спешки нет. Улаживайте все свои дела. Я вовсе не хочу ставить Уотерменов в затруднительное положение. Лишь две недели спустя Фрэнк распрощался с компанией Уотерменов; его интересовали, но ничуть не опьяняли открывавшиеся перед ним перспективы. Мистер Джордж Уотермен очень расстроился, а мистера Генри эта измена привела в сильнейшую досаду. — А я-то думал, что вам у нас нравится, — воскликнул он, когда Каупервуд сообщил ему о своем решении. — Может быть, вы недовольны жалованьем? — Нет, мистер Уотермен, я просто хочу заняться биржевым делом. — Так, так. Сожалею, очень сожалею. Я не хочу вас отговаривать, если это во вред вашим интересам. Вам виднее. Но мы с Джорджем собирались через некоторое время предложить вам стать нашим компаньоном. А вы вдруг, здорово живешь, сорвались с места — и до свидания. Ведь в нашем деле, черт возьми, можно заработать хорошие деньги. — Я знаю, — с улыбкой отвечал Каупервуд, — но оно мне не по душе. У меня другие планы. Я не собираюсь посвящать себя хлебно-комиссионному делу. Мистер Генри Уотермен никак не мог взять в толк, почему Фрэнка не интересует эта отрасль, если он так явно преуспел в ней. Вдобавок он опасался, как бы уход молодого человека не повредил делам фирмы. Вскоре Каупервуд пришел к заключению, что новая работа ему куда больше по вкусу — она и легче и выгодней. Начать хотя бы с того, что фирма «Тай и К°» помещалась в красивом зеленовато-сером каменном здании — дом шестьдесят шесть по Третьей улице, которая в те времена, да еще и много лет спустя была центром местного финансового мира. Тут же рядом находились банкирские дома, известные не только в Америке, но и за ее пределами: «Дрексель и К°», Третий национальный банк, Первый национальный банк, а также фондовая биржа и другие подобные учреждения. По соседству приютились еще десятка два банков и биржевых контор помельче. Эдвард Тай, глава и «мозг» фирмы, родом из Бостона, был сыном преуспевшего и разбогатевшего в этом консервативном городе ирландца-иммигранта. В Филадельфию мистера Тая привлекли широкие возможности спекуляций. «Это самое подходящее место для человека, умеющего держать ухо востро», — с легким ирландским акцентом говаривал он своим друзьям. Себя он считал именно таким человеком. Это был мужчина среднего роста, не слишком полный, с легкой и несколько преждевременной проседью, по натуре жизнерадостный и добродушный, но в то же время задорный и самоуверенный. Над верхней губой у него топорщились коротко подстриженные седые усики. — Беда с этими пенсильванцами, — жаловался он уже вскоре после переезда. — Никогда не платят наличными, норовят всучить вексель. В ту пору кредит Пенсильвании, а следовательно, и Филадельфии, несмотря на богатство штата, стоял очень низко. — Если дело дойдет до войны, — говорил мистер Тай, — то целые легионы пенсильванцев начнут предлагать векселя в уплату за обед. Проживи я целых два века, я разбогател бы на покупке пенсильванских векселей и обязательств. Когда-нибудь они, верно, расплатятся с долгами, но бог ты мой, до чего же это медленно делается! Я буду лежать в могиле раньше, чем они покроют мне хотя бы проценты по своей задолженности. Он не ошибался. Финансы штата и города находились в весьма плачевном состоянии. И тот и другой были достаточно богаты, но, поскольку казну обирали все, кому не лень, и любыми способами, то всякие новые начинания в штате требовали выпуска новых облигаций. Эти облигации или «обязательства», как их называли, гарантировали шесть процентов годовых, но, когда наступал срок уплаты процентов, казначей города или штата ставил на них штамп с датой предъявления, и проценты по «обязательству» начислялись с этого дня не только на номинал, но и на накопившиеся проценты. Иначе говоря, это было постепенное накопление процентов. Людям, нуждающимся в наличных деньгах, от этого толку было мало, ибо под залог таких «обязательств» банки выдавали не более семидесяти процентов их курсовой стоимости, продавались же они не по паритету, а по девяносто за сто. Конечно, их можно было покупать в расчете на будущее, но уж очень долго приходилось ждать. Окончательный выкуп этих обязательств опять-таки сопровождался жульническими махинациями. Зная, что те или иные «обязательства» находятся в руках «добрых знакомых», казначей опубликовывал сообщение, что такие-то номера — именно те, которые были ему известны, — будут оплачены. Более того, вся денежная система Соединенных Штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию, отдаленно напоминавшему порядок. Банк Соединенных Штатов, основанный Николасом Бидлом, в 1841 году был окончательно ликвидирован. В 1846 году министерство финансов Соединенных Штатов организовало свою систему казначейств. И все же фиктивных банков существовало столько, что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий. Правда, мало-помалу положение улучшалось, так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей. Другими словами, в обиход начали входить частные телеграфные линии, действовавшие на коротком расстоянии. Взаимный обмен информацией стал более быстрым, доступным и совершенствовался день ото дня. Железные дороги уже протянулись на юг, на восток, на север и на запад. Но еще не было автоматической регистрации курсов, не было телефона; в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты, в Филадельфии она еще не была учреждена. Ее заменяли рассыльные, метавшиеся между банками и биржевыми конторами; они же сводили балансы по банковским счетным книжкам, обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету — единственное средство для окончательного расчета по задолженности, так как твердой государственной валюты в те времена не существовало. На бирже, когда гонг возвещал о прекращении сделок на сегодняшний день, в середине зала — точь-в-точь как в Лондоне — собирались в кружок молодые люди, именовавшиеся «расчетными клерками»; они сверяли и подытоживали всевозможные покупки и продажи, аннулируя те из них, которые взаимно погашались в результате повторных сделок между фирмами. Заглядывая в счетные книги, они выкрикивали сделки, которые были произведены за день: «Делавэр и Мериленд» продала компании «Бомонт», «Делавэр и Мериленд» продала компании «Тай» и т. д. Такой способ упрощал бухгалтерию фирм, ускоряя и оживляя сделки. Место на фондовой бирже стоило две тысячи долларов. Согласно правилам, недавно введенным биржевым комитетом, сделки дозволялось заключать между десятью часами утра и тремя пополудни (раньше это делалось в любое время — с утра до полуночи). Тот же комитет установил твердые ставки за услуги, оказываемые маклерами, вместо прежних бесцеремонных поборов. Нарушители подвергались суровым взысканиям. Иными словами, делалось все возможное для укрепления биржи, и Эдвард Тай, наравне с другими маклерами, возлагал большие надежды на будущее.Глава 6
К этому времени семейство Каупервудов уже обосновалось в своем новом, более поместительном и лучше обставленном жилище на Фронт-стрит, возле самой реки. Дом был четырехэтажный, с фасадом длиной в двадцать пять футов, двора при нем не было. Здесь Каупервуды начали время от времени устраивать небольшие приемы для тех представителей различных отраслей коммерции, с которыми Генри Каупервуд встречался на своем пути, неукоснительно приближавшем его к посту главного кассира. Общество это не отличалось изысканностью, но в числе гостей бывали лица столь же преуспевшие, как и Каупервуд, — хозяева небольших предприятий, связанных деловыми отношениями с его банком, торговцы мануфактурой, кожевенными товарами, хлебом и оптовики-бакалейщики. У детей завелась своя компания. Миссис Каупервуд тоже изредка устраивала дневное чаепитие или вечер для своих знакомых по церковному приходу, и тогда Каупервуд пытался играть роль светского человека, обычно сводившуюся к тому, что он стоял с благодушно-глуповатым видом и приветствовал гостей жены. Так как он умел сохранять серьезно-торжественное выражение лица и выслушивать приветствия, не требовавшие пространных ответов, то эта церемония не особенно его обременяла. Иногда у Каупервудов пели, иногда немного танцевали; вскоре гости стали приходить запросто к обеду, чего прежде никогда не водилось. И вот в первый же год своей жизни в новом доме Фрэнк познакомился с некоей миссис Сэмпл и увлекся ею. У ее мужа был большой обувной магазин на Честнат-стрит, близ Третьей улицы, и он уже подумывал об открытии второго на той же Честнат-стрит, чуть подальше. Однажды вечером Сэмпл с женой нанесли визит Каупервудам. Мистер Сэмпл хотел побеседовать с хозяином дома о новом, только что зародившемся виде городского транспорта — конной железной дороге. Опытная линия протяженностью в полторы мили, построенная Северо-Пенсильванской железнодорожной компанией, была только что сдана в эксплуатацию. Начинаясь на Уиллоу-стрит, она шла вдоль Фронт-стрит до Джермантаун-роуд, а оттуда по разным улицам до места, известного под названием «Станция Кохоксинк». Считалось, что этот способ передвижения постепенно вытеснит сотки омнибусов, которые курсировали по городу и сильно затрудняли пешеходное движение в его торговой части. Молодой Каупервуд с самого начала заинтересовался этим предприятием. Железнодорожное дело вообще занимало Фрэнка, эта же его разновидность — в особенности. Конка вызывала оживленные споры, и Фрэнк вместе с другими любопытными отправился на нее взглянуть. Странного и непривычного вида вагон — четырнадцать футов в длину, семь в ширину и приблизительно столько же в высоту, — поставленный на маленькие железные колеса, предоставлял пассажирам несравненно больше удобств, чем омнибус. Альфред Сэмпл уже втихомолку помышлял о том, чтобы вложить деньги во вторую, намечавшуюся линию, которая, по получении санкции городских властей, должна была пройти по Пятой и Шестой улицам. Каупервуд-старший прочил этому предприятию блестящую будущность, хотя не понимал еще, откуда возьмутся средства для его осуществления. Фрэнк, со своей стороны, считал, что компании Тай следовало бы взять на себя реализацию акций будущей линии Пятой и Шестой улиц, если город выдаст разрешение на таковую. Он слышал, что акционерное общество организовалось и уже готовит большой выпуск акций, которые будут пущены в продажу по пяти долларов за штуку при паритете — в конечном итоге — в сто долларов. Фрэнк очень сожалел, что у него недостаточно денег для покупки солидного пакета этих акций. Меж тем Лилиан Сэмпл пленила Фрэнка и завладела его воображением. Трудно сказать, что влекло молодого Каупервуда к ней, ибо ни по темпераменту, ни по уму она не была ему ровней. Фрэнк уже приобрел некоторый опыт в отношениях с женщинами и по-прежнему дружил с Марджори Стэффорд. Тем не менее Лилиан Сэмпл, хотя ни умом, ни красотой она не превосходила других и вдобавок была замужем, так что он не мог иметь серьезных намерений, больше всех волновала его. Ей было двадцать четыре года, а ему всего девятнадцать, но душой и телом она казалась такой же юной, как он. Высокая, чуть выше его, хотя он к этому времени уже достиг своего предельного роста (пять футов и десять с половиной дюймов), она все же была очень изящна. От нее веяло невозмутимым спокойствием, объяснявшимся скорее поверхностностью восприятия, нежели силой характера. У Лилиан были густые пышные волосы пепельного оттенка, бледное, узкое, почти восковое лицо, нежно-розовые губы и прямой нос. Ее серые глаза в зависимости от освещения казались то голубыми, то совсем темными. Руки ее поражали тонкостью и красотой. Она не отличалась ни живостью, ни блеском ума, движения ее были медлительны и как-то бессознательно пластичны. Каупервуда увлекла ее внешность. Она вполне соответствовала его тогдашним представлениям об идеале красоты. «Как она прелестна, — думал он, — как мила, и притом сколько в ней достоинства». Если бы он мог выбирать, то выбрал бы себе именно такую жену. В своих суждениях о женщинах Каупервуд руководствовался больше чувством, чем разумом. Стремясь добиться богатства, престижа и влияния, он, конечно, придавал большое значение представительности женщины, ее положению в обществе и всему прочему. Но тем не менее некрасивые женщины никогда не привлекали его, красавицы же привлекали очень сильно. Он не раз слышал дома рассказы о самопожертвовании женщин, как, впрочем, и мужчин, слышал о женщинах-труженицах, рабски преданных своим мужьям, или детям, или семье в целом, женщинах, которые в критические минуты всем поступались для родных или друзей, движимые чувством долга и добросердечием. Но эти истории почему-то не трогали его. Он предпочитал считать всех, даже женщин, откровенно эгоистичными. Почему — объяснить он не мог. Люди, не способные к самозащите и не умеющие найти выход из любого положения, казались ему глупыми или в лучшем случае несчастными. Как много говорилось вокруг о высокой нравственности, как превозносились добродетели и порядочность, как часто воздевались к небу руки в праведном ужасе перед теми, кто нарушил седьмую заповедь или хотя бы был заподозрен в нарушении таковой! Фрэнк не принимал таких разговоров всерьез. Он и сам уже не раз нарушал эту заповедь. То же самое делали и другие молодые люди. Правда, уличные женщины претили ему. В соприкосновении с ними было много низменного и гадкого. На первых порах ему нравился мишурный, вульгарный блеск «веселых домов». В их роскоши был известный размах: красная плюшевая мебель, шикарные красные портьеры, безвкусные, зато оправленные в дорогие рамы картины и, прежде всего, сами обитательницы, здоровые и сильные или же чувственные и флегматичные, — женщины, которые (по выражению его матери) «подстерегали» мужчин. Выносливость их тела и похотливость души, способность с показной ласковостью и радушием принимать одного мужчину за другим — все это вначале изумляло Фрэнка, но вскоре стало вызывать в нем отвращение. К тому же они были тупы. От них нельзя было услышать ни одного живого слова. И подумать только, ничего другого они делать не умели. Он мысленно рисовал себе их тоскливое пробуждение после угарных ночей, отвратительный осадок в душе, который лишь отчасти могли рассеять сон и жажда наживы. И Фрэнку, несмотря на его молодость, становилось грустно. Ему хотелось близости, в которой было бы больше интимного, утонченного, оригинального, личного. И вот появилась Лилиан Сэмпл, всего лишь отдаленное подобие идеала. Тем не менее она облагородила его представление о женщине. В ней не было животной силы и необузданности, как в тех женщинах из вертепов, грубо и бесстыдно нарушавших общепринятые понятия и воззрения, — и этого одного уже было достаточно, чтобы Лилиан ему нравилась. Она жила в его мыслях даже в эти горячие дни, которые словно вспышки пламени озаряли его деятельность на новом поприще. Ибо биржевой мир, в который окунулся Каупервуд, каким бы примитивным он нам ни казался сегодня, для него был исполнен очарования. Зал фондовой биржи на Третьей улице, где собирались маклеры, их агенты и служащие, — в общей сложности человек полтораста, — отнюдь не был архитектурной достопримечательностью — просто квадратное помещение размером шестьдесят футов на шестьдесят, объединявшее два верхних этажа четырехэтажного дома. Но Фрэнка зал этот приводил в восторг. Окна там были высокие и узкие, прямо напротив входа, на западной стене, висели часы с огромным циферблатом, а северо-восточный угол загромождали конторки, стулья и целое скопище телеграфных аппаратов. В раннюю пору существования биржи в зале рядами стояли стулья, на которых сидели маклеры, прислушиваясь к всевозможным предложениям акций. Впоследствии эти стулья убрали, и в различных местах зала были установлены столбики (либо сделаны отметки на полу), указывавшие, где продаются те или иные бумаги. Вокруг таких столбиков толпились люди, заинтересованные в заключении сделок. Из коридора третьего этажа дверь вела на тесную и кое-как обставленную галерею для публики. На западной стене висела громадная черная доска, на которой отмечалась котировка[12] акций, передаваемая по телеграфу из Нью-Йорка и Бостона. В середине зала, за низенькой загородкой, находилось место официального председателя, был еще маленький балкон — на него для экстренных сообщений выходил секретарь биржевого комитета. В юго-западном углу была дверь, которая вела в комнату, где биржевики знакомились со всевозможными отчетами и годичными обзорами. Молодого Каупервуда не допустили бы на биржу ни как маклера, ни как маклерского агента или помощника, если бы Тай, нуждавшийся в нем и уверенный, что такой человек будет ему полезен, не купил для него место. Две тысячи долларов, которые оно стоило, он записал как долг Фрэнка, после чего во всеуслышанье объявил его своим компаньоном. Такое фиктивное товарищество противоречило правилам биржи, но маклеры нередко прибегали к нему. Младших компаньонов и подручных насмешливо называли «восьмушечниками» и «двухдолларовыми маклерами», потому что они гнались за любым мелким заработком и готовы были покупать и продавать по чьему угодно поручению, отчитываясь, конечно, перед своей фирмой в произведенных операциях. Несмотря на свои выдающиеся способности, Фрэнк на первых порах тоже считался «восьмушечником» и был отдан под начало мистеру Артуру Райверсу, полномочному представителю компании «Тай» на бирже. Райверс был необыкновенно энергичный человек, лет тридцати пяти, элегантный, хорошо сложенный, с чисто выбритым, жестким и словно точеным лицом, которое украшали коротко подстриженные черные усики и тонкие черные брови. Волосы его посередине разделялись аккуратным пробором. Подбородок чуть заметно раздваивался. Голос у Райверса был мягкий, манеры спокойные и сдержанные; он всегда и везде был одинаково корректен. Вначале Каупервуд недоумевал, зачем Райверсу, такому опытному дельцу, служить у мистера Тая, но впоследствии узнал, что Райверс — участник в деле. Тай был организатор, он принимал клиентов в конторе, а Райверс представлял фирму на бирже и ведал внешними сношениями. Вскоре Фрэнк убедился, что не стоит даже пытаться понять, почему акции то поднимаются, то падают. Это, конечно, определялось какими-то общими причинами, как объяснил ему Тай, но учесть их было почти невозможно. — Любая причина может вызвать на бирже и «бум», и панику, — говорил Тай со своим своеобразным акцентом, — будь то крах банка или только слух, что бабушка вашего двоюродного брата схватила насморк. Биржа совсем особый мир, Каупервуд. Никто на свете не сумеет вам его объяснить. Я видел, как вылетали в трубу акционерные общества, хотя даже самый опытный биржевик не мог бы сказать, по какой причине. Я видел также, как акции необъяснимо взлетали до небес. Ох, эти биржевые слухи! Сам дьявол не придумает ничего подобного. Обычно, если акции падают, значит, кто-то выбрасывает их на биржу или же на рынке общая депрессия. Если акции поднимаются, значит, то ли конъюнктура благоприятна, то ли кто-то скупает их. Это уже факт. Больше того… Ну, да пусть Райверс познакомит вас со всей подноготной. Об одном я должен вас предупредить: никогда не вводите меня в убыток. Это самый тяжкий грех, какой может совершить доверенный моей конторы. При этих словах Тай улыбнулся любезно, но многозначительно. Каупервуд понял, но… к его сведениям это ничего не прибавило. Этот лукавый мир нравился ему и соответствовал его темпераменту. Слухи, слухи, слухи неслись со всех сторон — о широких планах строительства железных дорог и коночных линий, об освоении новых земель, о пересмотре правительством таможенных тарифов, о войне между Францией и Турцией, о голоде в России и в Ирландии и т. д. и т. п. Первый трансатлантический кабель еще не был проложен, новости из-за границы доходили медленно и скудно. Тем не менее на биржевой арене подвизались крупнейшие финансисты, такие, как Сайрус Филд, Уильям Вандербильдт или Ф.Дрексель; они творили чудеса; и деятельность их, равно как и всевозможные слухи о ней, играла огромную роль в жизни биржи. Фрэнк быстро овладел техникой дела. Он узнал, что того, кто покупал в чаянии повышения курса, называли «быком», если же этот маклер уже скупил большие партии определенных ценных бумаг, то про него говорили, что он «нагрузился до отказа». Когда он начинал продавать, это значило, что он «реализует» свой барыш, если же его маржа[13] иссякала, — он «прогорал». «Медведем» назывался биржевик, продававший акции, которых у него по большей части не было в наличии, с расчетом на их падение, чтобы тогда по дешевке закупить их и покрыть свои запродажные сделки. Покуда он продавал бумаги, не имея их, он считался «пустым»; если же он покупал акции, чтобы удовлетворить клиента и положить в карман прибыль или с целью избежать убытка от непредвиденного повышения курсов, то на биржевом жаргоне говорили, что он «покрывается». Когда обнаруживалось, что он не может достать акций, чтобы вернуть их тем, у кого он их раньше занял для выполнения заказа, он оказывался «загнанным в угол». Тогда ему приходилось покрывать свою задолженность по ценам, назначенным лицами, которым он и другие «пустые» маклеры запродали ценности. В первое время Фрэнка забавлял таинственный вид и выражение всезнайства, свойственное молодым маклерам. Они были так искренне и так нелепо подозрительны. Более опытные их коллеги, как правило, оставались непроницаемы. Они разыгрывали равнодушие и нерешительность, но сами, как хищные рыбы, высматривали соблазнительную добычу. Мгновение, и возможность упущена: кто-то другой воспользовался ею. Каждый из них не выпускал из рук маленького блокнота. У каждого была своя манера подмигивать, своя характерная поза или жест, означавшие: «Идет. Я беру». Иногда казалось, что они почти не подтверждают своих продаж или покупок, — они ведь так хорошо знали друг друга. Но это только казалось. Когда на бирже почему-либо царило оживление, там толпилось куда больше биржевиков и их агентов, чем в дни, когда биржа работала вяло и в делах наблюдался застой. Удар гонга в десять часов утра возвещал начало операций, и когда намечалось заметное повышение или понижение акций одной или нескольких компаний, там можно было наблюдать любопытную картину. Человек пятьдесят, а то и сто сразу кричали, размахивали руками, метались как угорелые из стороны в сторону, стараясь извлечь выгоду из предлагаемых или требуемых бумаг. — Даю пять восьмых за пятьсот штук «П» и «У»! — выкликал маклер — Райверс, Каупервуд или кто-нибудь другой. — Пятьсот по три четверти! — кричал в ответ агент, получивший указание продавать по этой цене или игравший на понижение, в надежде позднее купить нужные акции и выполнить полученный заказ да еще кое-что подработать на разнице. Если акций по этой цене на бирже было много, то покупатель, Райверс к примеру, стоял на своих «пяти восьмых». Заметив, однако, что спрос на интересующие его бумаги возрастает, он платил за них и «три четверти». Если профессиональные биржевики подозревали, что Райверс получил заказ на крупную партию тех или иных акций, они всячески старались забежать вперед и купить их до него хотя бы по «три четверти», в расчете затем продать их ему с небольшой наценкой. Эти профессионалы были, конечно, тонкими психологами. Их успех зависел от способности угадать, имеет ли тот или иной маклер, представляющий какого-нибудь крупного дельца вроде Тая, достаточно большой заказ, чтобы воздействовать на рынок и дать им возможность «обернуться», как они выражались, с барышом, прежде чем он кончит свои закупки. Так коршун настороженно выжидает случая вырвать добычу из когтей соперника. Четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят человек, а временами и вся толпа, пытались использовать повышение той или иной бумаги, предлагая или покупая ее; в таких случаях поднималась невообразимая суета, и шум становился оглушительным. Отдельные группы продолжали заниматься куплей-продажей других бумаг, но подавляющее большинство бросало все свои дела, чтобы не упустить выгодного случая. Более молодые маклеры и клерки, горя желанием охватить все разом и обернуть в свою пользу падение или повышение ценностей, носились взад и вперед, возбужденно жестикулировали и обменивались знаками, подымая кверху условленное число пальцев. Искаженные лица выставлялись из-за чужих плеч, из-под чужих рук. Все как-то странно кривлялись — сознательно или бессознательно. Стоило кому-нибудь высказать намерение купить или продать бумаги по сулившей прибыль цене, как он уже оказывался втянутым в сплошной круговорот рук, плеч и голов. Вначале все это — вернее, внешняя сторона всего этого очень занимала молодого Каупервуда, так как он любил толпу, любил оживление; но вскоре живописность и драматизм сцен, в которых он сам принимал участие, померкли для него, и он начал уяснять себе внутренний смысл всего происходящего. Покупка и продажа акций были искусством, тонким мастерством, чуть ли не психической эмоцией. Подозрительность, целеустремленность, чутье — вот что нужно было для успеха. По прошествии некоторого времени он уже стал задаваться вопросом: кто же, собственно, больше всего на этом наживается? Маклеры? Ничего подобного! Кое-кто из них, правда, неплохо зарабатывал, но все они, — и Фрэнк скоро понял это, — словно стая голодных чаек или буревестников налетали с подветренной стороны, алчно выслеживая неосторожную рыбу. За их спиной стояли другие — люди неистощимого коварства, пронырливые умы. Крупные капиталисты, чьи предприятия и богатства олицетворялись этими акциями. Это они проектировали и строили железные дороги, разрабатывали рудники, создавали коммерческие предприятия и гигантские фабрики. Правда, они прибегали к услугам маклеров для биржевых операций, но все — и купля и продажа — могло быть и было только побочным явлением, — основой оставались рудники, железные дороги, урожаи, мельницы и т. п. Все остальное, что не было обыкновенной продажей с целью скорейшего получения наличного капитала или обыкновенной покупкой с целью вложения средств, оказывалось просто неприкрашенной азартной игрой, а те, кто этим занимался, — игроками. И сам он, Фрэнк, всего-навсего агент игрока. Сейчас он еще не огорчался этим, но загадки более не существовало, он знал, кто он такой. Как и раньше, когда он работал у «Уотермена и К°», он любил мысленно классифицировать своих собратьев по профессии: одни оказывались слабовольными, другие глупыми, третьи умными, четвертые неповоротливыми, но все — мелкие душонки, неполноценные люди, ибо они были агентами, орудием в чужих руках или азартными игроками. Настоящий человек никогда не станет ни агентом, ни покорным исполнителем чужой воли, ни игроком, ведущим игру, все равно в своих или в чужих интересах; нет, люди этого сорта должны обслуживать его, Фрэнка. Настоящий человек — финансист — не может быть орудием в руках другого. Он сам пользуется таковым. Он создает. Он руководит. Ясно, исчерпывающе ясно Каупервуд понял все это в девятнадцать или в двадцать лет, но в ту пору он еще не созрел для того, чтобы сделать из своего знания практические выводы. Тем не менее он твердо верил: настанет и его час.Глава 7
Меж тем, как это ни странно, увлечение Фрэнка женой мистера Сэмпла втайне продолжало расти. Однажды, получив приглашение посетить их дом, он откликнулся на это с большим удовольствием. Сэмплы жили неподалеку от Каупервудов, на Фронт-стрит. Летом их особнячок утопал в зелени. С маленькой веранды на южной стороне открывался очаровательный вид на реку; все окна и двери в верхней своей части были украшены полукружьями из мелких стекол. Внутреннее убранство дома было далеко не таким, каким хотелось бы его видеть Фрэнку. Ни малейшей утонченности, хотя мебель новая и добротная. Картины… ну что ж, картины как картины. Книги и вовсе не заслуживали упоминания — Библия, два-три модных романа, несколько более или менее солидных альманахов и куча устарелого книжного хлама, доставшегося Сэмплам по наследству. Фарфор был превосходный, нежного рисунка. Ковры и обои неприятно кричащих тонов. Зато хороша была сама Лилиан: какую бы позу ни приняла эта женщина, она оставалась неизменно прекрасной. Детей у них не было, но не по вине миссис Сэмпл, — ей очень хотелось ребенка. Она мало встречалась с людьми, если не считать девических лет, когда ее родителей порою навещали родственники и кое-кто из соседей. Двое братьев и сестра Лилиан тоже жили в Филадельфии и уже успели обзавестись семьями. Они считали, что Лилиан сделала прекрасную партию. Она никогда не была пылко влюблена в мистера Сэмпла, хотя охотно вышла за него. Сэмпл отнюдь не принадлежал к людям, способным пробудить сильную страсть в женщине. Отличительными его чертами были практичность и педантичная аккуратность. Обувной магазин у него был хороший, с большим ассортиментом модного товара, помещение светлое и очень чистое. На мистера Сэмпла иногда нападала разговорчивость, и тогда он долго толковал об обувном производстве, новых колодках и моделях. В торговый обиход тогда только начинала входить готовая обувь — частично уже и машинной выработки; у мистера Сэмпла всегда имелся запас такой обуви, но он не отказывался и от услуг сапожников-кустарей, которые шили на заказ по мерке. Миссис Сэмпл любила иногда немного почитать, но чаще сидела, словно погруженная в раздумье, что, впрочем, отнюдь не объяснялось ее глубокомыслием. Зато она при этом блистала той редкой красотой, которая делала ее похожей на античную статую или на участницу греческого хора. Без сомнения, такой именно она и представлялась Каупервуду, ибо он с самого начала не в силах был отвести от нее взора. Миссис Сэмпл замечала его восхищенные взгляды, но не придавала им особого значения. Привыкшая уважать условности и уверенная, что судьба ее навсегда связана с судьбою мужа, она наслаждалась тихим и безмятежным существованием. В первое время, когда Фрэнк стал бывать у них, она не знала, о чем с ним говорить. Лилиан приветливо встречала гостя, но бремя беседы всецело ложилось на мужа. Каупервуд то и дело взглядывал на миссис Сэмпл, следя за выражением ее лица, и будь она чуть-чуть подогадливее, она поняла бы, что за этим кроется. К счастью, она была недогадлива. Мистер Сэмпл любезно беседовал с гостем, во-первых, потому, что молодой Каупервуд заметно выдвигался в финансовом мире, был учтив и вкрадчив, а во-вторых, потому, что мистер Сэмпл был не прочь приумножить свое состояние, а Фрэнк в его глазах олицетворял финансовый успех. Однажды весенним вечером они все трое сидели на веранде и болтали — так, о пустяках — о негритянском вопросе, о конке, о только что разразившейся финансовой панике (это было в 1857 году) и о быстром развитии Запада. Мистер Сэмпл хотел узнать поподробнее о фондовой бирже, а Фрэнк, со своей стороны, расспрашивал его об обувном деле, хотя, по правде говоря, нисколько таковым не интересовался. Все это время он украдкой наблюдал за миссис Сэмпл. Какая у нее мягкая, ласковая и прелестная манера держать себя, думал он. Она подала чай с печеньем. Немного погодя все вошли в комнаты, спасаясь от комаров. Миссис Сэмпл села за рояль. В десять часов Фрэнк откланялся. После этого вечера молодой Каупервуд год или полгода покупал себе обувь у мистера Сэмпла, иногда же просто заглядывал к нему в магазин на Честнат-стрит перекинуться несколькими словами. Однажды Сэмпл спросил его, стоит ли приобрести акции коночной линии Пятой и Шестой улиц, уже получившей от города разрешение, — событие, вызвавшее большой ажиотаж на бирже. Каупервуд изложил ему свои соображения. Дело это, несомненно, сулит прибыль. Сам он уже приобрел сто акций по пять долларов и потому настоятельно советует Сэмплу последовать его примеру. Собственно, этот человек был глубоко безразличен Фрэнку, но миссис Сэмпл ему по-прежнему нравилась, хотя он и редко ее видел. Примерно через год мистер Сэмпл скончался. Это была безвременная смерть, случайный, малозначительный эпизод на фоне других событий, но печальный для близких. Поздней осенью он схватил простуду — пустячное заболевание, которое случается, когда человек промочил ноги или в сырую погоду вышел без пальто. Он все-таки отправился в магазин, несмотря на уговоры миссис Сэмпл. Человек тихий и сдержанный, он по-своему был очень упрям и неустанно пекся о своем деле. Он уже видел себя в ближайшем будущем обладателем состояния в пятьдесят тысяч долларов. И вдруг — простуда, девять дней в постели с воспалением легких, и мистера Сэмпла не стало. Обувной магазин закрыли на несколько дней, дом наполнился соболезнующими друзьями и церковнослужителями. Затем отпеванье в Кэллоухиллской пресвитерианской церкви, прихожанами которой были супруги Сэмпл, и похороны. Миссис Сэмпл горько плакала. Смерть, увиденная так близко, потрясла ее, и некоторое время она была очень удручена. Ее брат, Дэвид Уиггин, временно взял на себя ведение дела. Завещания покойный не оставил, но после того, как вопрос о наследстве был урегулирован и обувной магазин продан, миссис Сэмпл получила свыше восемнадцати тысяч долларов, ибо никто не оспаривал ее права на безраздельное владение всем имуществом. Она осталась жить на той же Фронт-стрит и слыла интересной вдовушкой. Во время всех этих событий молодой Каупервуд, которому только что исполнилось двадцать лет, вел себя достаточно активно. Он заходил во время болезни мистера Сэмпла. Присутствовал на похоронах. Помогал брату миссис Сэмпл ликвидировать обувное дело. После похорон он раза два навестил вдову и потом долго не показывался. Месяцев через пять он снова появился и с той поры уже стал навещать Лилиан каждую неделю или десять дней. Повторяем: трудно сказать, что он нашел в Лилиан Сэмпл. Может быть, красивое, бледное личико так привлекало его, а может быть, ее равнодушие распаляло его задорную натуру. Он и сам не мог бы объяснить, почему он так настойчиво и страстно желал ее. Он не мог спокойно думать о Лилиан и почти никогда не говорил о ней. В семье знали, что он у нее бывает, но Каупервуды к этому времени уже научились уважать внутреннюю силу и ум Фрэнка. Он был приветлив, жизнерадостен, большей частью весел, не будучи болтлив, и вдобавок безусловно шел в гору. Все знали, что он уже научился делать деньги. Жалованья он получал пятьдесят долларов в неделю, и у него имелись все основания вскоре ожидать прибавки. Несколько земельных участков, купленных им три года назад в западной части Филадельфии, значительно поднялись в цене. Его вложения в конные линии умножились благодаря приобретенным им пакетам в пятьдесят, сто и сто пятьдесят акций вновь организовавшихся компаний; несмотря на трудное время, эти бумаги медленно, но верно повышались и, при первоначальной стоимости в пять долларов, расценивались теперь в десять, пятнадцать и двадцать пять, а со временем должны были дойти до паритета. В финансовых кругах Фрэнка любили, будущее рисовалось ему в радужных красках. По зрелом размышлении он решил, что профессиональным биржевым игроком он не будет. Теперь он уже подумывал об учетно-вексельном деле, по его наблюдениям выгодном и, при наличии капитала, лишенном каких бы то ни было элементов риска. Благодаря своей работе и связям отца Фрэнк встречался с множеством коммерсантов, банковских деятелей и оптовых торговцев. Он знал, что они охотно поручат ему свои дела или хотя бы часть дел. В конторах «Дрексель и К°» и «Кларк и К°» к нему относились очень благожелательно, а Джей Кук, восходящее банковское светило, был его другом. Между тем Фрэнк продолжал навещать миссис Сэмпл, и чем чаще он бывал у нее, тем больше она ему нравилась. Нельзя сказать, чтобы они вели беседы блестящие и остроумные, но Фрэнк, когда хотел, мог быть приятен и занимателен. Он давал Лилиан такие разумные деловые советы, что даже ее родственники к ним прислушивались. Мало-помалу он начал нравиться ей; внимательный,спокойный и положительный, Фрэнк с готовностью растолковывал Лилиан тот или иной деловой вопрос, пока ей все не становилось ясно. Она видела, что он следит за ее делами с не меньшим вниманием, чем если бы это были его собственные, и старается упрочить ее материальное благополучие. — Какой вы добрый, Фрэнк, — однажды сказала она ему. — Я вам бесконечно благодарна. Право, не знаю, что я стала бы делать без вас. Она взглянула на его красивое лицо, с детской непосредственностью обращенное к ней. — Полноте, полноте! Мне это так приятно! Я пришел бы в отчаяние, если бы не мог быть вам полезен. Его глаза не загорелись, но засветились каким-то мягким, теплым светом. Миссис Сэмпл ощутила прилив нежности: как хорошо, когда можно опереться на такого человека. — Как бы то ни было, я вам от души благодарна. Вы очень добры ко мне. Приходите опять, в воскресенье или в любой другой вечер. Я буду дома. Как раз в пору, когда Фрэнк так зачастил к миссис Сэмпл, на Кубе умер его дядя Сенека, оставив ему пятнадцать тысяч долларов. Вместе с этими деньгами в распоряжении Фрэнка теперь оказался капитал в двадцать пять тысяч долларов, и он уже точно знал, как им распорядиться. Вскоре после смерти мистера Сэмпла финансовый мир охватила паника, наглядно показавшая Фрэнку, сколь ненадежно маклерское дело. В промышленном мире наступила полнейшая депрессия. Свободные деньги стали редки, можно сказать вовсе исчезли. Капитал, испуганный пошатнувшейся торговлей и общим денежным положением в стране, глубоко ушел в свои тайники — в банки, подвалы, чулки и кубышки. Страна, казалось, летела в пропасть. Впереди уже маячила война с Югом или его отпадение. Нервная лихорадка охватила всю нацию. Люди выбрасывали на рынок все свои ценности, лишь бы раздобыть наличные деньги. Тай уволил из своей конторы троих служащих. Он старался экономить на чем только можно и пустил в оборот все личные сбережения, лишь бы спасти вложенный в бумаги капитал. Он заложил свой дом и земельные участки — одним словом, все, что имел. Молодой Каупервуд неоднократно служил ему посредником и носил пакеты акций в разные банки с наказом получить под них сколько удастся. — Узнайте-ка, не ссудит ли мне банк вашего отца пятнадцать тысяч вот под это, — сказал он однажды Фрэнку, доставая толстую пачку акций «Филадельфия и Уилмингтон». Фрэнк помнил, что отец некогда называл их весьма солидными. — Вообще говоря, это очень хорошие бумаги, — нерешительно произнес Каупервуд-старший при виде акций. — Вернее, они были бы хороши во всякое другое время. Но сейчас так трудно с наличными. Мы с величайшим напряжением расплачиваемся по нашим собственным обязательствам. Впрочем, я поговорю с мистером Кугелем (Кугель был председателем правления банка). Последовал долгий разговор, долгое ожидание. Наконец старший Каупервуд вернулся и сообщил Фрэнку, что они вряд ли смогут провести эту операцию. Восемь процентов — установившийся в это время дисконт — слишком невыгодные условия, учитывая спрос на деньги. Мистер Кугель если и согласится, то разве что на онкольную ссуду[14] из расчета десяти процентов. Фрэнк вернулся к своему доверителю, коммерческая душа которого возмутилась при этом сообщении. — Да скажите мне, черт возьми, — негодуя воскликнул он, — неужели во всем городе нет больше денег? Ведь это же разорение, такие проценты! Я не выдержу. Ну, ладно. Забирайте обратно эти акции и тащите мне деньги. Но это никуда не годится, никуда не годится! Фрэнк снова отправился в банк. — Мистер Тай согласен на десять процентов, — спокойно объявил он. Таю был открыт кредит на пятнадцать тысяч долларов с правом немедленного его использования, и он тут же перечислил всю сумму в Джирардский национальный банк, чтобы заткнуть там «прореху». Так шли дела. Меж тем молодой Каупервуд с интересом всматривался во все осложнявшееся финансовое положение страны. Проблема рабовладельчества, разговоры об отложении Южных штатов, общий подъем или упадок благосостояния страны тревожили его лишь в той мере, в какой они непосредственно затрагивали его интересы. Он стремился стать настоящим финансистом, но теперь, ознакомившись с закулисной стороной биржевого дела, уже не был уверен в своем желании сделать карьеру биржевика. Биржевая игра при условиях, созданных этой паникой, сопряжена с чрезвычайным риском. Многие маклеры разорились. Фрэнк достаточно насмотрелся на их измученные лица, когда они врывались к мистеру Таю и просили его аннулировать те или иные их заявки. Даже дома они не чувствуют себя в безопасности, говорили они. Им грозит окончательная гибель, их жены и дети будут выброшены на улицу. Эта паника, между прочим, только помогла Фрэнку уяснить себе, чем ему в действительности хотелось заняться. Теперь, когда у него есть свободные средства, он начнет действовать самостоятельно. Даже предложение мистера Тая стать его младшим компаньоном не соблазнило Фрэнка. — Я считаю, что у вас прекрасное дело, — сказал он, объясняя свой отказ, — но я хочу открыть собственную учетно-вексельную контору. На биржевую игру ставку делать не стоит. Свое, пусть маленькое, дело я предпочитаю всем биржам на свете. — Но вы еще чертовски молоды, Фрэнк, — возразил его хозяин. — У вас уйма времени впереди для самостоятельной деятельности. В конце концов они расстались друзьями как с Таем, так и с Райверсом. — Ох, и умен же этот малый! — с сожалением заметил Тай. — Он своего добьется! — подтвердил Райверс. — Я в жизни не встречал такого способного молодого человека.Глава 8
Мир рисовался Каупервуду в розовых тонах. Он был влюблен, и у него были деньги, чтобы начать собственное дело. Под свои акции конных железных дорог, непрерывно поднимавшиеся в цене, он мог получить семьдесят процентов их курсовой стоимости. В случае надобности мог еще заложить земельные участки и таким образом раздобыть солидную сумму. У него существовала налаженная связь с Джирардским банком, — Фрэнк нравился директору, мистеру Дэвисону, и рассчитывал, что тот со временем предоставит ему кредит. Оставалось только поместить капитал так, чтобы он поддавался быстрой и безубыточной реализации. По мнению Фрэнка, отличную прибыль сулили все разветвлявшиеся линии конки. К этому времени Фрэнк приобрел лошадь и коляску, самые элегантные, какие только можно было сыскать, — затея эта обошлась ему в пятьсот долларов, — и пригласил миссис Сэмпл покататься с ним. Та сперва отказалась, но потом уступила. Он поведал ей о своих удачах, планах, о пятнадцати тысячах долларов, как с неба свалившихся на него, и, наконец, о своем намерении заняться учетно-вексельным делом. Миссис Сэмпл знала, что его отца в будущем ждал пост вице-директора Третьего национального банка, к тому же Каупервуды вообще нравились ей. Она уже начала понимать, что отношение Фрэнка к ней нельзя назвать просто дружбой. Недавний мальчик стал мужчиной, и ее влекло к нему. Это казалось ей почти смешным. Она старше его, вдова, живет тихой, уединенной жизнью. Но упрямая, спокойная решительность этого юноши красноречивей слов свидетельствовала, что его не остановят никакие условности. Каупервуд не обманывал себя и не идеализировал своего отношения к ней. Красивая Лилиан духовно и физически Неодолимо влекла его — больше он ничего знать не хотел. Ни одной другой женщине не удавалось так приковать его к себе. При этом ему и в голову не приходило, что теперь он не может или не должен интересоваться другими женщинами. Болтовня о святости домашнего очага всегда отскакивала от него, как горох от стены. На деньги миссис Сэмпл он не зарился, но, зная, что у нее есть собственный капитал, был уверен, что сумеет с пользой для нее же пустить деньги в оборот. Он жаждал обладать ею и уже с любопытством думал о детях, которые у них будут. Как хотелось ему знать, сумеет ли он заставить ее беззаветно полюбить его, удастся ли ему изгнать из ее памяти воспоминания о прежней жизни. Странное честолюбие! Можно было бы даже сказать — странная извращенность. Невзирая на все свои страхи и сомнения, Лилиан Сэмпл принимала ухаживанья и заботы Фрэнка, ибо тоже невольно тянулась к нему. Однажды ночью, ложась спать, она подошла к туалетному столику и внимательно оглядела в зеркале свое лицо, свои обнаженные плечи и руки. Как она хороша! Необъяснимое волнение охватило ее, когда она разглядывала свои длинные пепельные волосы. Она подумала о молодом Каупервуде, но перед ее глазами тотчас возник образ покойного мистера Сэмпла, — она похолодела и тут же вспыхнула от стыда, представив себе, какую бурю общественного негодования это может вызвать. — Почему вы так часто приходите ко мне? — спросила она, когда на следующий вечер Фрэнк зашел к ней. — Разве вы сами не знаете? — проговорил он, все, казалось, объясняя ей своим взглядом. — Нет! — Правда не знаете? — Как вам сказать… Я знаю, что вы были расположены к мистеру Сэмплу и ко мне как к его жене. Но мистера Сэмпла больше нет. — Зато есть вы, — ответил он. — Я? — Да. И вы мне нравитесь. Мне хорошо с вами. А вы разве не чувствуете того же? — Право, я никогда об этом не думала. Вы гораздо моложе меня. Ведь между нами разница в пять лет. — В годах, — произнес Фрэнк, — а это не имеет значения. Во всем остальном я старше вас лет на пятнадцать. Я знаю жизнь лучше, чем вы когда-либо будете ее знать. Да вы и сами в этом не сомневаетесь, — добавил он мягким, убеждающим тоном. — Да, это верно. Но зато и я знаю многое, чего не знаете вы. Она тихо засмеялась, обнажив свои прекрасные зубы. Уже стемнело. Они сидели на веранде. Река внизу тихо катила свои воды. — Возможно, — сказал Фрэнк, — потому что вы женщина. Мужчина никогда не может стать на точку зрения женщины. А я говорил о практической стороне жизни, — в этом смысле я старше вас. — Ну и что же? — Ничего. Вы спросили, зачем я прихожу к вам, вот я и объяснил. Лишь отчасти, конечно. Он умолк и стал глядеть на реку. Миссис Сэмпл подняла глаза на гостя. Его красивая фигура, с годами становившаяся все более плотной, была теперь как у вполне зрелого мужчины. Непроницаемый взгляд больших ясных глаз придавал его лицу какое-то ребяческое выражение. О том, что таилось в их глубине, она не догадывалась. Щеки у него были румяные, руки небольшие, но мускулистые и сильные. Ее нежное, хрупкое тело даже на расстоянии впитывало в себя исходившую от него энергию. — Мне кажется, вам не следует так часто бывать у меня. Люди могут заподозрить нехорошее. Она решила взять с ним любезно-сдержанный тон почтенной женщины, тон, которого придерживалась в начале их знакомства. — Люди? — повторил он. — Не тревожьтесь об этом. Люди думают о нас то, что мы хотим им внушить. Мне неприятно, что вы так сухо говорите со мной. — Почему? — Потому что я люблю вас. — Но вы не должны любить меня. Это нехорошо. Я ведь не могу выйти за вас замуж. Вы так молоды, а я уже стара. — Полноте! — решительно произнес Фрэнк. — Что за вздор! Я хочу, чтобы вы были моей женой. И вы это знаете. Лучше скажите, когда мы поженимся? — Ну что вы говорите? — воскликнула она. — В жизни ничего подобного не слыхала. Этому не бывать. — Почему? — спросил он. — Потому, что… потому, что я старше вас. Это всем показалось бы странным. И я так недавно овдовела. — Ах, недавно или давно — какое это имеет значение! — раздраженно отозвался Фрэнк. — Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: «Что скажут люди». «Люди» не строят вашу жизнь. А уж мою и подавно. Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь. Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие? — Но у меня нет этого желания, — с улыбкой перебила его Лилиан. Фрэнк встал, приблизился к ней и заглянул ей в глаза. — Ну и что? — взволнованно и насмешливо спросила она. Он продолжал смотреть на нее. — Ну и что же? — повторила она, все больше теряясь. Он наклонился, желая обнять ее, но она встала. — Нет, не приближайтесь ко мне! — умоляюще заговорила Лилиан. — Я сейчас уйду в комнаты и больше на порог вас не пущу. Это ужасно! Вы с ума сошли! Оставьте меня в покое. Она проявила такую решительность, что Фрэнк покорился. Но только на этот вечер. Он приходил опять и опять. И однажды, когда комары загнали их в комнаты и миссис Сэмпл снова начала настаивать, чтобы он прекратил свои посещения, уверяя, что его внимание к ней всем бросается в глаза и она будет опозорена, Фрэнк, невзирая на ее отчаянное сопротивление, решительно заключил ее в объятия. — Что вы, что вы! Перестаньте! — восклицала она. — Я ведь вам говорила! Это же глупо наконец! Не смейте меня целовать! О-о-о! Она вырвалась и побежала по лестнице к себе в спальню. Каупервуд быстро последовал за ней. Когда миссис Сэмпл хотела было захлопнуть дверь, он силою отворил ее, снова схватил молодую женщину в объятия и высоко поднял на воздух. — Как вы смеете! — закричала она. — Да я вас больше знать не хочу! Если вы сию же минуту не отпустите меня, ноги вашей здесь больше не будет. Пустите! — Я отпущу вас, радость моя. Я сам снесу вас вниз, — отвечал он, притягивая ее к себе и покрывая ее лицо поцелуями. Он был страшно возбужден и взволнован. Несмотря на то что Лилиан продолжала вырываться и протестовать, он снес ее вниз в гостиную и уселся в огромное кресло, по-прежнему крепко прижимая ее к себе. — Ах! — вздохнула она, поняв, что он не отпустит ее, и бессильно уронила на его плечо голову. Потом, прочитав на лице Фрэнка твердую решимость и вдруг ощутив всю его притягательную силу, она улыбнулась. — Если я выйду за вас замуж, — устало произнесла она, — как я объясню свой поступок? Что скажет ваш отец, ваша мать? — Вам ничего объяснять не придется. Это сделаю я. И волноваться незачем. Мои родные ничего не скажут. — А моя семья? — содрогаясь, сказала она. — Какое им дело? Я женюсь не на вашей семье, а на вас. Мы с вами оба материально независимы. Она стала приводить новые возражения, но Фрэнк отвечал на них новыми поцелуями. Его ласкам Нельзя было не покориться. Мистер Сэмпл никогда не бывал так пылок. Фрэнк пробудил в ней чувства, которых она раньше не ведала. Ей было и страшно и стыдно. — Так, значит, через месяц мы поженимся? — радостно спросил он, когда она замолчала. — Вы знаете, что нет! — взволнованно воскликнула Лилиан. — Что за настойчивость! Не будем об этом говорить. — Не все ли равно — когда? Рано или поздно ты станешь моей женой. Фрэнк уже думал о том, как очаровательна она будет в другой, новой обстановке. Ни она, ни его семья не умеют жить. — Но никак не через месяц. Надо подождать. Я выйду за вас, когда вы убедитесь, что действительно этого хотите. Фрэнк крепко прижал ее к себе. — Я докажу тебе это, — прошептал он. — Перестаньте. Вы делаете мне больно. — Ну, так когда же? Через два месяца? — Нет, нет. — А через три? — Может быть. — Никаких отговорок. Ты будешь моей женой. — Но ты совсем еще мальчик. — Об этом не беспокойся. Ты узнаешь, какой я мальчик. Новый мир, казалось, открылся ей, и она поняла, что никогда еще не жила по-настоящему. В этом человеке была такая сила, такие горизонты открывались перед ним, о каких ее муж не смел и помышлять. При всей своей юности он был страшен, необорим. — Хорошо, пускай через три месяца, — прошептала она, в то время как он нежно ее баюкал.Глава 9
Каупервуд начал свое учетно-вексельное дело с того, что основал маленькую контору в доме номер шестьдесят четыре по Третьей улице, и скоро к своей радости убедился, что его прежние хорошо налаженные деловые связи остались в силе. Он обращался к какой-нибудь фирме, по его предположению нуждавшейся в наличных деньгах, и предлагал либо учесть ее векселя, либо взять на себя, на комиссионных началах, распространение любых обязательств, которые она пожелает выпустить из шести процентов годовых; затем он продавал эти бумаги с небольшой накидкой клиенту, искавшему случая вложить деньги в надежное дело. Отец или кто-нибудь из знакомых время от времени давали ему советы, когда и как действовать. На таких двойных сделках он обычно выгадывал четыре-пять процентов. В первый же год, за вычетом всех накладных расходов, у него очистилось шесть тысяч долларов. Не очень много, конечно, но Фрэнк старался приумножить этот доход другим путем, сулившим, по его мнению, большие барыши в будущем. До того как по Фронт-стрит прошла первая, еще очень неторопливая конка, улицы Филадельфии были запружены сотнями безрессорных омнибусов, громыхавших по булыжной мостовой. Но теперь в Нью-Йорке, по идее Джона Стефенсона, уже были проложены двухколейные пути, и кроме линии на Пятой и Шестой улицах (вагоны шли в одну сторону по одной улице и в обратную по другой), с самого начала дававшей прекрасный доход, множество новых линий было либо запроектировано, либо уже сдано в эксплуатацию. Город спешил заменить омнибусы конкой, так же как раньше спешил заменить каналы железными дорогами. Кое-кто, конечно, противился этим новшествам. Без сопротивления в таких случаях не обходится. Начали кричать о монополии. Разоренные владельцы и оставшиеся без работы кучера омнибусов громко роптали. Каупервуд безраздельно верил в будущность конных железных дорог. Эта вера побуждала его идти на риск и вкладывать все свободные деньги в акции, выпускавшиеся новыми конно-железнодорожными компаниями. Он всегда стремился выведать закулисную сторону дела, но в данном случае сделать это оказалось нелегко; Фрэнк был еще очень молод, когда прокладывались первые линии, и не имел достаточно солидных связей в финансовых кругах, которые дали бы ему возможность проникнуть в самую суть. Линия Пятой и Шестой улиц, недавно пущенная в эксплуатацию, приносила шестьсот долларов дохода в день. Разрабатывался проект новой линии в западной части Филадельфии (по улицам Уолнат и Честнат) и еще нескольких линий, которые должны были пройти по Второй и Третьей улицам, по улицам Рейс и Вайн, Спрус и Пайн, Грин и Коутс, Десятой, Одиннадцатой и т. д. Строительство и финансирование этих линий находились в руках могущественных капиталистов, имевших связи в законодательном собрании штата и добивавшихся разрешений, несмотря на бурные протесты общественности. То и дело раздавались обвинения в подкупе. Указывалось, что городские улицы — ценная территория и что следовало бы обложить городские железнодорожные компании дорожным налогом в тысячу долларов с мили. Но главным предпринимателям всеми правдами и неправдами удалось получить нужные привилегии, и множество людей, прослышав о доходах, приносимых линиями Пятой и Шестой улиц, торопились скупить акции. В числе их был и Каупервуд; как только стало известно о прокладке новых линий на Второй и Третьей улицах, он вложил деньги в это предприятие, а несколько позднее и в линии на улицах Уолнат и Честнат. Фрэнку уже мерещилась возможность стать владельцем такой линии, но реальных путей к осуществлению этой мечты он пока не видел: его контора еще отнюдь не была финансовым Эльдорадо. В эту пору Фрэнк обвенчался с миссис Сэмпл. Свадьба была скромная, без излишнего шума, — так хотел Фрэнк, да и будущая его жена нервничала из страха перед общественным мнением. Семья Фрэнка не очень одобряла его выбор. На взгляд родителей, Лилиан была слишком стара для него, кроме того, перед Фрэнком открывались такие блестящие перспективы, что он мог бы сделать гораздо лучшую партию. Его сестра Анна считала миссис Сэмпл расчетливой и коварной, но это, конечно, было не так. Братьям Джозефу и Эдварду вся эта история казалась очень любопытной, но толком они не знали, какого мнения им держаться: как-никак миссис Сэмпл была хороша собой, и у нее водились деньги. В погожий октябрьский день Фрэнк и Лилиан предстали перед алтарем Первой пресвитерианской церкви на Кэллоухил-стрит, где пожелала венчаться невеста. Лилиан, к немалому удовлетворению Фрэнка, была прелестна в платье из белоснежных кружев с длинным шлейфом — творении, стоившем кружевницам долгих месяцев труда. На церемонии присутствовали родители Фрэнка, миссис Дэвис — вдова дяди Сенеки, братья и сестры Лилиан и несколько близких знакомых, Фрэнку и это общество казалось слишком многолюдным, но таково было желание Лилиан. Во время венчания Фрэнк стоял прямой и подтянутый, в строгом черном сюртуке, — тоже по желанию невесты, — но по окончании обряда быстро переоделся в элегантный дорожный костюм. Он устроил свои дела так, чтобы иметь возможность съездить на две недели в Нью-Йорк и Бостон. Под вечер они сели в поезд, через пять часов доставивший их в Нью-Йорк. Когда, после долгого притворства и деланного равнодушия на людях, они очутились наконец с глазу на глаз в номере отеля «Астор», Фрэнк заключил ее в объятия. — Какое блаженство, что мы наконец одни! — воскликнул он. Лилиан отозвалась на его пыл с той дразнящей ласковой робостью, которая всегда так восхищала его; но теперь эта робость была окрашена желанием, сообщившимся ей от Фрэнка. Ему казалось, что он никогда не насытится ею, ее прекрасным лицом, изящными руками, ее нежным телом. Они без конца ворковали, нежничали, катались по городу, вкусно ели и наслаждались зрелищами. Фрэнку не терпелось побывать в финансовых центрах Нью-Йорка и Бостона. Оба эти города привлекали его своей коммерческой солидностью. Осматривая первый, Фрэнк спрашивал себя, решится ли он когда-нибудь расстаться с Филадельфией. Ведь теперь, думал он, его ждет там полное счастье с Лилиан, а впоследствии, быть может, и с целым выводком юных Каупервудов. Он будет работать не щадя сил и много зарабатывать. Со своим собственным капиталом и средствами жены, поступившими теперь в его распоряжение, он надеялся вскоре стать весьма состоятельным человеком.Глава 10
Обстановка, которой окружили себя молодые, возвратясь из свадебного путешествия, по изяществу значительно превосходила ту, в которой миссис Каупервуд жила в свою бытность миссис Сэмпл. Они решили временно поселиться в ее доме на Фронт-стрит. Повинуясь овладевшему им в тот период тяготению ко всему утонченному, Фрэнк сразу же после помолвки стал возражать против стиля, вернее «бесстильности» мебели и убранства дома и просил позволения обставить их жилище в соответствии с его собственными понятиями об изяществе и красоте, понятиями, как-то инстинктивно усвоенными им в период возмужания. Ему довелось видеть множество домов, обставленных с несравненно большим вкусом, чем дом его родителей. В те времена невозможно было пройти или проехать по улицам Филадельфии, не почувствовав всеобщей тяги к более культурному и красивому быту, не заразившись ею. Улицы застраивались великолепными и дорогостоящими домами. Широкое распространение получило садоводство. В моду входили цветники вдоль фасадов. В домах мистера Тая, мистера Ли, Артура Райверса и других знакомых внимание Фрэнка привлекали изысканные, дорогие вещи — бронза, мрамор, портьеры, картины, часы, ковры. Фрэнк решил, что ценой сравнительно небольших затрат он сможет превратить свое заурядное жилище в уютный и очаровательный дом. Так, например, куда более привлекательной можно было сделать столовую, где из обоих окон, выходивших на южную террасу, открывался вид на лужайку, поросшую кустарником и деревьями, которая тянулась до самого забора, отделявшего владения мистера Сэмпла от участка соседа. Остроконечный серый частокол следует снести и заменить живой изгородью. В стене, разделяющей столовую и гостиную, надо сделать проем и завесить его красивой портьерой, а взамен двух продолговатых окошек устроить так называемый «фонарь», откуда из двустворчатых окон с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах можно будет любоваться лужайкой. Всю ветхую мебель, собранную бог весть откуда, — частью унаследованную от семьи Сэмпл, частью от семьи Уиггин, частью же благоприобретенную, — выкинуть вон или продать и взамен купить новую. Фрэнк недавно познакомился с молодым, только что сошедшим со студенческой скамьи архитектором, неким Элсуортом; они сразу почувствовали живой интерес и необъяснимое тяготение друг к другу. Уилтон Элсуорт был вдумчивым, спокойным, утонченным человеком, артистической натурой в подлинном смысле слова. Разговорившись о доме, строившемся на Честнат-стрит, — Элсуорт назвал его ужасным, — они перешли к обсуждению искусства вообще, вернее, отсутствия такового в Америке. Фрэнку тотчас же подумалось, что Элсуорт лучше всякого другого сумеет осуществить его замыслы относительно переустройства дома. Когда он сказал об этом Лилиан, она беспрекословно согласилась, так же как соглашалась со всеми планами мужа насчет перемен в их жилище. После отъезда Каупервудов в свадебное путешествие Элсуорт приступил к работе, исходя из сметы в три тысячи долларов, которая предусматривала и новую обстановку. Закончена работа была лишь через три недели после их возвращения, но зато дом стал почти неузнаваемым. «Фонарь», согласно замыслу Фрэнка, как бы висел над зеленью лужайки, а окна его с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах были снабжены бронзовыми петлями. Гостиная теперь отделялась от столовой раздвижными дверями, которые предполагалось еще украсить шелковым занавесом с изображением крестьянской свадьбы в Нормандии. Столовая была обставлена старинной английской дубовой мебелью, а гостиная и спальни — американской имитацией Чиппендейла и Шератона. Несколько скромных акварелей украшали стены, там и сям стояли бронзовые статуэтки работы Хосмера и Пауэрса. Хорошим украшением служила также мраморная Венера Поттера (ныне совсем забытого скульптора) и еще несколько вещей, впрочем, второсортных. Миссис Каупервуд была несколько смущена наготою Венеры, — это придавало дому дух европейской фривольности, не принятой в Америке, но промолчала; как-никак такое украшение радовало глаз, да кроме того, она не считала себя знатоком по этой части, Фрэнк куда лучше разбирается во всем этом. Когда наняты были слуги — горничная и лакей, Каупервуды стали устраивать небольшие приемы. Всякий, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, поймет те едва уловимые перемены, которые произошли во Фрэнке после брака, ибо любой человек, связавший себя узами Гименея, в какой-то мере подпадает под влияние своего домашнего окружения. Судя по некоторым чертам его характера, можно было предположить, что ему назначено судьбою стать образцом добропорядочного, почтенного гражданина. Фрэнк, казалось, был очень увлечен семейной жизнью. С великой радостью возвращался он по вечерам к жене отдохнуть от сутолоки, уличного шума и вечной спешки деловых кварталов. Дома он тотчас же проникался ощущением своего материального и физического благоденствия. Стол, накрытый к обеду, зажженные свечи (идея Фрэнка), Лилиан в ниспадающем до полу платье из голубого или зеленого шелка — ему очень нравились на ней эти цвета, — большой камин с пылающими в нем толстыми поленьями, и вновь Лилиан, прильнувшая к нему, — все это держало в плену его еще не созревшее воображение. Книги, как мы уже говорили, не интересовали Фрэнка, но жизнь, картины, деревья, физическая близость любимой женщины властвовали над ним, несмотря на уже захватывавшие его сложные финансовые комбинации. Богатой, радостной, полной жизни — вот чего он жаждал всем своим существом. Миссис Каупервуд, несмотря на разницу в летах, в то время казалась вполне подходящей для него подругой. Выведенная из своего полусонного состояния, она теперь горячо привязалась к Фрэнку, с готовностью откликалась на все его желания и любила помечтать вместе с ним. Им обоим хотелось ребенка, и в скором времени она шепнула Фрэнку, что ждет этого радостного события. Прежде Лилиан думала, что причина ее бесплодия кроется в ней самой, а потому была и удивлена и обрадована, когда убедилась в своей ошибке. Перед нею открывались новые горизонты — прекрасное будущее, теперь не оставлявшее места для опасений. Фрэнка радовала мысль о повторении себя в ребенке. Он думал о маленьком Каупервуде не без гордости. Многие дни, недели, месяцы и даже годы — по крайней мере первые четыре-пять лет — ему доставляло несказанное удовольствие возвращаться домой, разгуливать по двору, приглашать друзей к обеду, кататься по городу с женой, посвящать ее в свои планы. Она ничего не могла понять в его сложных финансовых комбинациях, но он особенно и не настаивал на этом. Зато любовь, прекрасное тело Лилиан, ее губы, ее спокойные манеры — притягательная сила всего этого да еще двое детей, появившихся на свет за четыре года их Супружества, давали ему полное удовлетворение. Он качал на коленях Фрэнка-младшего, своего первенца, смотрел на его пухлые ножки, на его искрящиеся глаза, на почти еще бесформенный и тем не менее похожий на бутон ротик и размышлял об удивительном процессе деторождения, Неисчерпаемый источник для раздумий: первоначальное оплодотворение, изумительный период созревания плода в утробе женщины и все опасности, с этим связанные. Он пережил тяжелые минуты, когда миссис Каупервуд рожала Фрэнка-младшего, прежде всего потому, что она сама была очень напугана. Он опасался за красоту ее тела, его страшила мысль потерять ее, и, стоя за дверью в день появления на свет ребенка, он, собственно, впервые познал настоящую тревогу, хоть и не слишком сильную, — для этого он был чересчур уравновешен, чересчур занят самим собою. И все же его страшила мысль, что жена может умереть и тогда наступит конец нынешнему счастливому житью. А потом пронзительные, душераздирающие крики, весть, что все кончилось благополучно, и позволение взглянуть на новорожденного. Переживания этого дня расширили кругозор Фрэнка, сообщили большую глубину его пониманию жизни. Он лишний раз убедился, что под поверхностью явлений, словно грубое дерево под слоем блестящего лака, таится трагедия. Фрэнк-младший, а немного позднее голубоглазая и златокудрая малютка Лилиан на время завладели его воображением. Домашний очаг — в конце концов неплохая штука! Так уж устроена жизнь, и краеугольный камень жизни — дом. Нет возможности описать здесь все как будто бы мелкие, но в общем существенные перемены, которые принесли с собой эти годы. Они происходили столь постепенно, что оставались неприметными для глаза, как медленное течение вод. За пять лет состояние Фрэнка значительно возросло, особенно если вспомнить, что он начал с грошей. Мало-помалу он сблизился (насколько коммерческие дела вообще допускают сближение) с некоторыми наиболее оборотистыми представителями непрестанно разраставшегося финансового мира Филадельфии. Во время его работы у мистера Тая и на бирже ему не раз указывали на любопытные фигуры более или менее крупных деятелей городского самоуправления или администрации штата, «подрабатывавших на политике», и деятелей государственного масштаба, приезжавших из Вашингтона повидаться с представителями банкирских домов «Дрексель и К°», «Кларк и К°» и даже «Тай и К°». Эти люди, как он узнал, были наперед осведомлены о предстоящих законодательных реформах и экономических переменах, которые неминуемо должны были отразиться на известных ценностях и отраслях торговли. В конторе «Тай и К°» молодой сослуживец как-то дернул Фрэнка за рукав. — Заметили вы человека, который сейчас прошел в кабинет к хозяину? — Да. — Это Мэртаг, городской казначей. Он, доложу я вам, играет наверняка! Все казенные деньги в его распоряжении, а отчитывается он только в основном капитале, так что проценты идут к нему в карман! Каупервуд понял. Все чиновники города и штата занимались спекуляцией. Они депонировали городские или государственные средства у определенных банкиров или маклеров, которых правительство либо уполномочивало, либо даже назначало быть хранителями вкладов. Банки не платили процентов по этим вкладам никому, кроме представителей казначейства. По секретным указаниям этих лиц они ссужали казенными деньгами биржевиков, а те помещали их в «верные» бумаги. В Филадельфии действовала целая шайка: в долю входили мэр города, несколько членов муниципалитета, казначей, начальник полиции, уполномоченный по общественным работам и другие чиновники. Их девиз был «рука руку моет». Вначале такая «деятельность» внушала Каупервуду брезгливое чувство, но многие разбогатели на его глазах, и никого это, по-видимому, не тревожило. Газеты вечно трубили о гражданском долге и патриотической гордости, но о подобных махинациях не упоминали ни словом. А люди, их совершавшие, оставались у власти и пользовались всеобщим уважением. Многие банкирские дома — круг их непрерывно ширился — считали Фрэнка заслуживающим доверия посредником для реализации платежных обязательств и взимания платежей по векселям. Он как-то сразу угадывал, куда надо обращаться за деньгами. С первого же дня Фрэнк взял себе за правило всегда иметь на руках тысяч двадцать наличными, чтобы немедленно и без лишних разговоров откликаться на выгодные предложения. Таким образом, он создал себе условия, при которых в большинстве случаев мог отвечать: «Да, разумеется, я беру это на себя!» К нему обращались с просьбами провести те или иные биржевые операции. Фрэнк тогда еще не имел собственного места на бирже и поначалу не собирался его покупать, но теперь он передумал и приобрел место не только в Филадельфии, но и в Нью-Йорке. Некий Джозеф Зиммермен, торговец мануфактурой, которому он помог реализовать ряд векселей, предложил ему взять в свое ведение его акции конных железных дорог, и Фрэнк снова стал завсегдатаем фондовой биржи. Тем временем изменилась и его домашняя жизнь, семейные устои стали более прочными, незыблемыми, быт более изысканным. Миссис Каупервуд, например, была вынуждена время от времени подвергать критическому пересмотру свои знакомства, так же как и он свои. При жизни мистера Сэмпла круг Лилиан состоял преимущественно из семей розничных торговцев и нескольких оптовиков, что помельче. Кроме того, Лилиан дружила с двумя или тремя дамами, прихожанками той же Первой пресвитерианской церкви. Изредка устраивались так называемые «приходские чаепития» и вечеринки, на которых она присутствовала с мистером Сэмплом, или же они совместно наносили скучные визиты к ее и его родственникам. Каупервуды, Уотермены и другие семьи того же ранга были счастливым исключением на общем тусклом фоне. Теперь все переменилось. Молодой Каупервуд не очень-то интересовался родственниками Лилиан, а те, со своей стороны, отдалились от нее из-за ее, с их точки зрения, неподобающего брака. Семья Фрэнка по-прежнему была связана с ним тесными узами теплых родственных чувств и общим стремлением к благополучию, но самое главное — он сумел завоевать расположение нескольких действительно видных лиц. Фрэнк приглашал к себе в гости — вовсе не для обсуждения дел, ибо это было бы совсем не в его духе, — банкиров, состоятельных людей, вкладывавших деньги в разные предприятия, и клиентов — настоящих и будущих. На берегах речек Скуилкил, Уиссахикон и во многих других местах располагались загородные рестораны, куда приятно было наведаться в воскресный день. Фрэнк и Лилиан часто ездили к вдове Сенеки Дэвиса, к судье Китчену, навещали знакомого юриста Эндрью Шарплесса, Харпера Стеджера, личного поверенного Фрэнка, и многих других. Каупервуд обладал даром приветливого и непринужденного обращения. Никто из знавших его, будь то мужчина или женщина, не подозревал всей глубины его натуры. Фрэнк думал, думал, но это не мешало ему наслаждаться жизнью. Одним из его самых ранних и наиболее искренних увлечений была живопись. Он горячо любил природу, но, сам не зная почему, считал, что лучше всего она познается в изображении художника, так же как через других лучше уясняется смысл законов и политических событий. Лилиан была к живописи более чем равнодушна, но сопровождала мужа по всем выставкам, не переставая втихомолку думать, что Фрэнк все-таки человек не без странностей. Любя ее, он пытался пробудить в ней интерес к интеллектуальным наслаждениям, но миссис Каупервуд, хотя и притворялась, будто живопись ее занимает, на самом деле была к ней слепа и безразлична: видимо, эта область оставалась для нее просто недоступной. Дети отнимали большую часть ее времени. Каупервуда, однако, это нисколько не огорчало. Он находил восхитительной и в высшей степени достойной такую материнскую привязанность. Вместе с тем ему нравились в Лилиан ее флегматичность, блуждающая улыбка и даже ее безразличие ко всему на свете, временами, впрочем, напускное, объяснявшееся в первую очередь ее умиротворением и обеспеченностью. Какими разными людьми они были! Свое второе замужество она восприняла точно так же, как и первое, — для нее это было серьезное событие, исключавшее всякую возможность каких бы то ни было колебаний в мыслях и чувствах. Что же касается Фрэнка, то он вращался в шумном мире, который, по крайней мере в финансовом отношении, весь состоял из перемен, внезапных и поразительных превратностей. Фрэнк начал временами присматриваться к жене — не слишком критически, ибо он любил ее, но стараясь правильно оценить ее сущность. Он знал Лилиан уже больше пяти лет. Но что собственно он знал о ней? Юношеский пыл в первые годы их совместной жизни заставлял его на многое закрывать глаза, но теперь, когда она уже безраздельно принадлежала ему… В эту пору медленно надвигалась и наконец была объявлена война между Севером и Югом, вызвавшая такое возбуждение умов, что все, казалось, были поглощены только ею одной. Вначале творилось нечто невообразимое. Затем начались митинги, многолюдные и бурные; уличные беспорядки; инцидент с останками Джона Брауна[15]; прибытие Линкольна, этого великого народного трибуна, в Филадельфию, проездом из Спрингфилда (штат Иллинойс) в Вашингтон, где он должен был принести присягу и вступить на пост президента; битва при Булл-Рэне, битва при Виксберге; битва при Геттисберге и так далее, и так далее. Каупервуд был в это время двадцатипятилетним молодым человеком, хладнокровным и целеустремленным; он считал, что пропаганда против рабства с точки зрения человеческой может быть и вполне обоснованна, даже несомненно так, но для коммерции крайне опасна. Он желал победы Северу, но знал, что и ему и другим финансистам может прийтись очень туго. Сам он не имел охоты воевать — нелепое занятие для человека с ярко выраженной индивидуальностью. Пусть воюют другие, на свете достаточно бедняков, простаков и недоумков, готовых подставить свою грудь под пули: они только и годятся на то, чтобы ими командовали и посылали их на смерть. Что касается его, то свою жизнь он считал священной и целиком принадлежащей семье и деловым интересам. Он помнил, как однажды, в час, когда рабочие идут домой с работы, по одной из улочек лихо промаршировал небольшой отряд вербовщиков в синих мундирах. Барабанный бой, развевающееся знамя Соединенных Штатов — все это, конечно, преследовало одну цель: потрясти душу доселе безразличного или колеблющегося гражданина, наэлектризовать его так, чтобы он утратил чувство меры и самосохранения и, памятуя лишь о том, что он нужен стране, позабыл все — жену, стариков, дом и детей и присоединился бы к отряду. Фрэнк увидел, как один рабочий, который шел, слегка помахивая обеденным котелком, и, по-видимому, отнюдь не помышлял о таком финале своего трудового дня, вдруг остановился и начал прислушиваться к топоту приближавшегося отряда, а когда солдаты поравнялись с ним, помедлил немного, проводил их ряды нерешительным и недоуменным взглядом и вдруг, пристроясь к хвосту, с торжественным выражением на лице зашагал к вербовочному пункту. Что увлекло этого рабочего? — спрашивал себя Фрэнк. Почему он так легко покорился чужой воле? Ведь он не собирался идти на войну. На его лице еще были следы масла и копоти; это был молодой человек лет двадцати пяти, по виду литейщик или слесарь. Фрэнк смотрел вслед маленькому отряду до тех пор, пока тот не скрылся за углом улочки. Как странно это внезапное пробуждение воинственного духа! Фрэнку казалось, что люди ничего слышать не хотели, кроме барабанов и труб, ничего не хотели видеть, кроме тысяч солдат, следовавших на фронт с холодной сталью ружей на плечах, ничем другим не интересовались, кроме войны и военных новостей. Несомненно, это было волнующее чувство, даже величественное, но невыгодное для тех, кто его испытывал. Оно звало к самопожертвованию, а Фрэнк этого не понимал. Если он пойдет на войну, его могут убить, а тогда — что пользы от его возвышенных чувств? Нет, лучше он будет наживать деньги и заниматься делами политическими, общественными, финансовыми. Бедный глупец, последовавший за вербовочным отрядом, — нет, не глупец, он не станет его так называть! Просто растерявшийся бедняга рабочий, — да сжалится над ним небо! Да сжалится небо над ними всеми! Воистину они не ведают, что творят! Однажды ему довелось видеть Линкольна — этот неуклюже ступавший, долговязый, костлявый, с виду простоватый человек произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. Стояло холодное и ненастное февральское утро; великий президент военной эпохи только что закончил свое торжественное обращение к народу, в котором он говорил, что связующие узы между штатами могут быть натянуты до предела, но порваны они не должны быть. Когда он выходил из Дворца Независимости[16], прославленного здания, где зародилась американская свобода, его лицо было грустным и задумчиво-спокойным. Каупервуд не спускал глаз с президента, покуда тот выходил из подъезда, окруженный штабными офицерами, представителями местной власти, сыщиками и любопытной, сочувственно настроенной толпой. Внимательно вглядываясь в необычные, грубо высеченные черты Линкольна, он проникался сознанием удивительной чистоты и внутреннего величия этой личности. — Вот настоящий человек! — говорил себе Фрэнк. — Какая необыкновенная натура! — Каждый жест президента поражал его. Глядя, как Линкольн садится в экипаж, он думал: «Так вот он, этот сокрушитель устоев, этот бывший провинциальный адвокат! Ну что ж, в критические дни судьба избрала достойнейшего». Образ Линкольна еще долго стоял перед глазами Фрэнка, и за время войны его мысли неоднократно возвращались к этому исключительному человеку. Он был убежден, что ему посчастливилось видеть одного из истинновеликих мира сего. Война и государственная деятельность не привлекали Фрэнка, но он знал, как важно порой и то и другое.Глава 11
Во время войны и после того, как стало очевидным, что это война затяжная, Каупервуду представилась возможность проявить свои способности финансиста в действительно крупном деле. Вся страна, штат, город испытывали в этот период острую нужду в деньгах. В июле 1861 года конгресс утвердил выпуск внутреннего займа на пятьдесят миллионов долларов в виде облигаций, подлежащих погашению в течение двадцати лет и приносящих держателям до семи процентов годовых; штат, в свою очередь, приблизительно на тех же условиях санкционировал выпуск займа на три миллиона. Реализацию первого займа производили бостонские, нью-йоркские и филадельфийские финансисты, второго — только филадельфийские. Каупервуд не принимал в этом участия. Он был еще недостаточно известен. В газетах он читал о заседаниях, на которых финансовые заправилы, знакомые ему лично или только по имени, «обсуждали наиболее целесообразные мероприятия по оказанию помощи стране или штату». Фрэнка они не приглашали. Меж тем он всей душой жаждал быть среди них. Он уже понял в то время, что для успеха дела часто бывает достаточно одного слова богатого человека, не надо ни денег, ни гарантий, ни конкретного обеспечения — ничего, только его слово. Если ходили слухи, что за кулисами какого-нибудь дела скрываются «Дрексель и К°», «Джей Кук и К°» или «Гулд и Фиск», — оно уже считалось надежным! Джей Кук, молодой филадельфиец, провел замечательную операцию: он взял на себя, в компании с Дрекселем, реализацию выпущенного штатом займа и распродал его по номиналу. По общему мнению, заем мог быть распространен лишь по цене девяносто долларов за сто. Кук с этим мнением не согласился. Он считал, что гордость за свой штат и патриотизм граждан помогут реализации займа среди мелких банков и частных лиц, так что сумма подписки перекроет, возможно даже с избытком, сумму выпуска. Дальнейшие события подтвердили правильность расчетов Кука, и это упрочило его деловую репутацию. Каупервуду очень хотелось сделать что-либо подобное, но он был достаточно практичен, чтобы не испытывать зависти к Куку, — он всегда исходил из фактов и реальных возможностей. Его время пришло через полгода, когда выяснилось, что Пенсильвании понадобится куда больше денег. Солдат, выставленных штатом по разверстке, нужно было обмундировать и содержать. Кроме того, необходимо было провести ряд оборонных мероприятий и вдобавок еще пополнить казну. Законодательное собрание после долгих обсуждений наконец разрешило выпуск внутреннего займа на сумму в двадцать три миллиона долларов. В финансовых кругах оживленно обсуждался вопрос о том, кому будет поручена реализация займа, — в первую очередь называли компании Дрекселя и Джея Кука. Каупервуд много думал над этим. Если бы ему добиться полномочий на реализацию части этого огромного займа, — едва ли он в состоянии был бы взять его на себя целиком, у него еще не было достаточных связей, — он значительно повысил бы свою репутацию биржевого маклера и в то же время у него очистилось бы немало денег. Какую же сумму он может взять на себя? Вот в чем вопрос. Кто станет приобретать у него облигации? Отцовский банк? Весьма вероятно. «Уотермен и К°»? На небольшую сумму! Судья Китчен? Незначительную часть! Компания «Милс-Дэвид»? Да! Он стал перебирать в памяти предприятия и частных лиц, которые по тем или иным соображениям — из побуждений личной дружбы, в силу покладистого характера, признательности за услуги в прошлом и так далее — подписались бы через него на какое-то количество этих семипроцентных облигаций. Фрэнк подытожил свои возможности и обнаружил, что после некоторой предварительной «обработки» он, по всей вероятности, мог бы разместить облигаций на один миллион долларов, если бы влиятельные политические деятели Филадельфии поспособствовали предоставлению ему этой доли займа. Наибольшие надежды Фрэнк возлагал на некоего Эдварда Мэлию Батлера, у которого были не бросающиеся в глаза, но весьма солидные связи в политическом мире. Батлер был подрядчиком, производившим работы по прокладке канализационных труб и водопроводов, по сооружению фундаментов, мощению улиц и т. д. В давно прошедшие дни, задолго до того как Каупервуд познакомился с ним, Батлер на свой страх и риск брал подряды на вывоз мусора. Город в то время еще не знал систематизированной уборки улиц, тем более на окраинах и в некоторых старых, населенных беднотою районах. Эдвард Батлер, тогда молодой бедняк-ирландец, начал с того, что бесплатно сгребал и убирал отбросы, которые шли на корм его свиньям и скоту. Позднее он обнаружил, что есть люди, готовые кое-что платить за эти услуги. А еще позднее один местный деятель, член муниципалитета и приятель Батлера, — оба они были католиками — взглянул на все это дело с совсем новой точки зрения. Отчего бы не назначить Батлера официальным подрядчиком по уборке мусора? Муниципалитет может выделить для этой цели ежегодные ассигнования. Батлеру будет дана возможность нанять несколько дюжин мусорных фургонов. Более того, никаких других мусорщиков в городе не останется. Сейчас они, конечно, существуют, но официальный договор между Батлером и муниципалитетом положит конец всякой конкуренции. Частью прибыли от этого весьма выгодного дела придется поступиться, чтобы ублажить и успокоить тех, кого обошли подрядом. Во время выборов надо будет ссужать деньгами некоторые организации и отдельных лиц, но это не беда, речь идет о небольших суммах. Итак, Батлер и член муниципалитета Патрик Гевин Комисский вступили в деловое соглашение (последний, конечно, тайно). Батлер больше уже не разъезжал сам с мусорным фургоном. Он нанял жившего по соседству расторопного ирландского парня, по имени Джимми Шихен, и тот сделался его помощником, управляющим, конюхом, бухгалтером — словом, решительно всем. Вскоре Батлер стал зарабатывать от четырех до пяти тысяч в год, — раньше он с трудом выгонял две тысячи, — переехал в кирпичный дом на южной окраине города и отдал детей в школу. Миссис Батлер бросила варить мыло и разводить свиней. Начиная с этого времени фортуна была неизменно благосклонна к Эдварду Батлеру. Раньше он не умел ни читать, ни писать, но теперь, конечно, выучился грамоте. Из бесед с мистером Комисским он выяснил, что существуют и другие формы подрядов — например, на прокладку канализационных, водопроводных и газовых магистралей, мощение улиц и так далее. Кому же и взяться за них, как не Эдварду Батлеру? Он знаком со многими членами муниципалитета. Он встречался с ними в задних комнатках пивных, на пикниках, устраиваемых заправилами города в субботние и воскресные дни, на предвыборных совещаниях и заседаниях, ибо, вкушая от щедрот города, должен был помогать ему не только деньгами, но и советом. Любопытно, что Батлер вскоре обнаружил незаурядную политическую прозорливость. Ему достаточно было взглянуть на человека, чтобы сказать, пойдет ли тот в гору. Многие из его бухгалтеров, управляющих и табельщиков сделались членами муниципалитета или законодательного собрания. Кандидатуры, которые он выдвигал на выборах, обычно проходили с успехом. Сначала он приобрел влияние в районе, где баллотировался в муниципалитет его ставленник, затем в своем избирательном участке, потом на городских собраниях своей партии, конечно вигов[17], и, наконец, его стали считать главою самостоятельной политической организации. Какие-то таинственные силы работали на него в муниципалитете. Ему доставались крупные подряды, он участвовал во всех торгах. О мусороуборочных работах он и думать забыл. Старший сын мистера Батлера, Оуэн, был членом законодательного собрания и компаньоном отца. Второй сын, Кэлем, служил в отделе городского водоснабжения и тоже участвовал в делах отца. Старшая дочь, пятнадцатилетняя Эйлин, еще училась в монастырском пансионе св. Агаты, в Джермантауне. Другая, тринадцатилетняя Нора, самая младшая в семье, была определена в частную школу, находившуюся в ведении католических монахинь. Семья Батлеров переехала из южной части Филадельфии на Джирард-авеню, поближе к аристократическому кварталу; там уже зарождалась интенсивная «светская» жизнь. Батлеры не принадлежали к избранному кругу, но у главы семьи, пятидесятипятилетнего подрядчика, «стоившего» почти что полмиллиона, нашлось много друзей в мире политическом и финансовом. Да и сам он был уже не прежний «неотесанный детина», но плотный человек с красноватым, слегка обветренным лицом, седовласый, сероглазый, с широкими плечами и могучей грудью — типичный ирландец; богатый жизненный опыт придал его лицу спокойное, умудренное и непроницаемое выражение. Большие руки и ноги напоминали о днях, когда он еще не носил прекрасных костюмов английского сукна и желтых ботинок, но ничего «простецкого» в нем не осталось, напротив, держал он себя с большим достоинством. Правда, говорил Батлер по-прежнему с ирландским акцентом, но всегда живо, любезно и убедительно. Он один из первых заинтересовался строительством конных железных дорог и, так же как Каупервуд и множество других, пришел к заключению, что это дело с большим будущим. Наилучшим доказательством служила прибыль, которую приносили купленные им акции и паи. Батлер действовал через маклеров, так как не успел вступить в эти предприятия в период их организации. Он скупал акции всех конно-железнодорожных компаний, считая, что перед любой из них открываются прекрасные перспективы, но больше всего ему хотелось целиком заполучить в свои руки контроль над одной или двумя линиями. В соответствии с этим замыслом он подыскивал надежного молодого человека, способного и честного, который действовал бы по его указаниям, делая все, что ему прикажут. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, и он вызвал его к себе письмом. Каупервуд не замедлил откликнуться, так как много слышал о Батлере, его карьере, связях и влиянии. Однажды в феврале сухим морозным утром Фрэнк-отправился к нему. Впоследствии он не раз вспоминал эту улицу — широкие кирпичные тротуары, мостовую, слегка припорошенную снегом, чахлые, оголенные деревца и фонарные столбы. Дом Батлера, хотя и не новый, — он отремонтировал его после покупки, — был неплохим образцом архитектуры своего времени. Пятидесяти футов в длину, четырехэтажный, он был сложен из серого известняка; к парадной двери вели четыре широкие белые ступени. Окна с белыми наличниками имели форму широких арок. Изнутри они были завешены кружевными гардинами, и красный плюш мебели, чуть просвечивавший сквозь кружево, выглядел как-то особенно уютно с холодной и заснеженной улицы. Нарядная горничная-ирландка открыла дверь Каупервуду; он вошел и дал ей свою визитную карточку. — Мистер Батлер дома? — Не могу сказать, сэр. Я сейчас узнаю. Возможно, он вышел. Через несколько минут Фрэнка провели наверх. Батлер принял его в комнате, несколько напоминавшей контору. Там стояли письменный стол, деревянное кресло, кое-какая кожаная мебель и книжный шкаф. Все эти предметы были разрознены и расставлены так, как не расставляют мебель ни в конторе, ни в жилой комнате. На стене висели картины: одна — написанная маслом, что-то совершенно невообразимое! — темная и мрачная; на другой — в розовых и расплывчато-зеленых тонах изображался канал с плывущей по нему баржей и, наконец, несколько неплохих дагерротипов родных и друзей. Каупервуд обратил внимание на прекрасный, слегка подцвеченный портрет двух девочек. У одной волосы были рыжевато-золотые, у другой каштановые и, должно быть, шелковистые. Это были миловидные, здоровые и веселые девочки кельтского типа; их головки почти соприкасались, глаза в упор смотрели на зрителя. Фрэнк полюбовался ими и решил, что это, наверное, дочери хозяина дома. — Мистер Каупервуд? — встретил его Батлер; он как-то странно растягивал гласные, да и вообще это был человек медлительный, важный, вдумчивый. Фрэнк обратил внимание на его крепкую фигуру, могучую, как старый дуб, закаленный дождем и ветрами. Кожа на его лице была туго натянута, да и весь он был какой-то подтянутый и подобранный. — Да, — ответил Фрэнк. — У меня есть к вам дельце — насчет покупки акций, и я подумал, что лучше вам прийти сюда, чем мне ездить к вам в контору. Здесь мы можем поговорить с глазу на глаз, кроме того, и годы мои уже не те. Он поглядел на гостя, чуть сощурив глаза. Каупервуд улыбнулся. — Я к вашим услугам, — учтиво отозвался он. — В настоящее время я заинтересован в том, чтобы выловить на бирже акции некоторых конно-железных дорог. В подробности я вас посвящу позднее. Не выпьете ли чего-нибудь? Утро сегодня холодное. — Благодарю вас, я никогда не пью. — Никогда? Нешуточное слово, ежели речь идет о виски! Но так или иначе — это похвально. Мои сыновья тоже капли в рот не берут, и меня это очень радует. Так вот, я хочу выловить на бирже кое-какие акции, но, скажу вам правду, мне еще важнее найти смекалистого молодого человека, вроде вас, скажем, через которого я мог бы действовать. Вы же сами знаете, что одно дело всегда тянет за собой другое, — и Батлер посмотрел на своего гостя испытующим, но в то же время благожелательным взглядом. — Совершенно верно, — согласился Каупервуд, приветливо улыбнувшись в ответ на взгляд хозяина дома. — Н-да, — задумчиво произнес Батлер, обращаясь то ли к Каупервуду, то ли к самому себе, — толковый молодой человек мог бы быть мне очень полезен в делах. У меня двое сыновей, неглупые ребята, но я бы не хотел, чтоб они играли на бирже, да если бы и захотел, не знаю, может, они бы и не сумели. Но дело тут, собственно, не в этом. Я вообще очень занят, и, как я вам говорил, мои годы уже не те. Я теперь не так уж легок на подъем. А будь у меня подходящий молодой человек (кстати, я все разузнал о вашей работе), он мог бы выполнять для меня разные небольшие поручения по части паев и займов — они давали бы кое-что нам обоим. У меня частенько спрашивают совета по тому или иному вопросу молодые люди, которые желали бы вложить свой капитал в дело, так что… Он замолчал и, как бы поддразнивая гостя, стал смотреть в окно, хорошо зная, что заинтересовал Каупервуда и что разговор о влиянии в деловом мире и о коммерческих связях еще больше его раззадорит. Батлер дал ему понять, что главное в этих делах — верность, такт, сметливость и соблюдение тайны. — Что ж, если вы справлялись о моей работе… — заметил Фрэнк, сопровождая свои слова характерной для него мимолетной улыбкой и не договаривая фразы. Батлер в этих немногих словах почувствовал силу и убедительность. Ему нравились выдержка и уравновешенность молодого человека. О Каупервуде он слышал от многих. (Теперь фирма называлась уже «Каупервуд и К°», причем «компания» была чисто фиктивная.) Он задал Фрэнку еще несколько вопросов относительно биржи и общего состояния рынка, осведомился, что ему известно насчет железных дорог, и наконец изложил свой план, заключавшийся в том, чтобы скупить как можно больше акций коночных линий Девятой, Десятой, Пятнадцатой и Шестнадцатой улиц, но, по возможности, исподволь и не вызывая шума. Действовать тут надо осторожно, скупая акции частью через биржу, частью же у отдельных держателей. Батлер умолчал о том, что он намерен оказать известное давление на законодательные органы и добиться разрешения на продолжение путей за теперешние конечные пункты, чтобы, когда наступит время приступить к работам, огорошить железнодорожные концерны известием, что крупнейшими их акционерами являются Батлеры, отец или сыновья, — дальновидный план, направленный на то, чтобы в конечном счете эти линии оказались целиком в руках семейства Батлеров. — Я буду счастлив сотрудничать с вами, мистер Батлер, любым угодным вам образом, — произнес Каупервуд. — Я не скажу, что у меня уже сейчас большое дело, это еще только первые шаги. Но связи у меня хорошие. Я приобрел собственное место на нью-йоркской и филадельфийской биржах. Те, кому приходилось иметь со мной дело, по-моему, всегда оставались довольны результатами. — О вашей работе мне кое-что уже известно, — повторил Батлер. — Очень хорошо. Когда я вам понадоблюсь, вы, может быть, зайдете в мою контору или напишете мне, и я приду к вам. Я сообщу вам свой секретный код, так что все вами написанное останется в строжайшей тайне. — Ладно, ладно! Сейчас мы больше не будем об этом говорить. Скоро мы вновь встретимся, и тогда в моем банке вам будет открыт кредит на определенную сумму. Он встал и взглянул в окно. Каупервуд тоже поднялся. — Кажется, отличная погода сегодня? — Прекрасная! — Ну, я уверен, что со временем мы с вами сойдемся ближе. Он протянул Каупервуду руку. — Я тоже надеюсь. Каупервуд направился к выходу, и Батлер проводил его до парадной двери. В эту самую минуту с улицы вбежала молодая, румяная, голубоглазая девушка в ярко-красной пелерине с капюшоном, накинутым на рыжевато-золотистые волосы. — Ах, папа, я чуть тебя с ног не сбила! Она улыбнулась отцу, а заодно и Каупервуду, сияющей, лучезарной и беззаботной улыбкой. Зубы у нее были блестящие и мелкие, а губы, как пунцовый бутон. — Ты сегодня рано вернулась. Я полагал, что ты ушла на весь день. — Я так и хотела, а потом передумала. Она прошла дальше, размахивая руками. — Итак, — продолжал Батлер, когда она скрылась, — подождем денек-другой. До свиданья! — До свиданья! Каупервуд спускался по лестнице, радуясь открывавшимся перед ним перспективам финансовой деятельности, и вдруг в его воображении возникла только что виденная им румяная девушка — живое воплощение юности. Какая она яркая, здоровая, жизнерадостная! В ее голосе звучала вся свежесть и бодрая сила пятнадцати или шестнадцати лет. Жизнь била в ней ключом. Лакомый кусочек, который со временем достанется какому-нибудь молодому человеку, и вдобавок ее отец еще обогатит его или по меньшей мере посодействует его обогащению.Глава 12
К Эдварду Мэлии Батлеру и обратился Каупервуд почти два года спустя, когда подумал, что он мог бы достигнуть весьма влиятельного положения, если бы ему поручили распространить часть выпущенного займа. Возможно, Батлер и сам заинтересуется приобретением пакета облигаций, а не то просто поможет ему, Фрэнку, разместить их. К этому времени Батлер уже проникся искренней симпатией к Каупервуду и в книгах последнего значился крупным держателем ценных бумаг. Каупервуду тоже нравился этот плотный, внушительный ирландец. Нравилась ему и вся история жизни Батлера. Он познакомился с его женой, очень полной и флегматичной ирландкой. Она была весьма неглупа, терпеть не могла ничего показного и до сих пор еще любила заходить на кухню и лично руководить стряпней. Фрэнк был уже знаком и с сыновьями Батлера — Оуэном и Кэлемом, и с дочерьми — Норой и Эйлин. Эйлин и была та самая девушка, с которой он столкнулся на лестнице во время первого своего визита к Батлеру позапрошлой зимой. Когда Каупервуд вошел в своеобразный кабинет-контору Батлера, там уютно пылал камин. Близилась весна, но вечера были еще холодные. Батлер предложил гостю поудобнее устроиться в глубоком кожаном кресле возле огня и приготовился его слушать. — Н-да, это не такая легкая штука! — произнес он, когда Каупервуд кончил. — Вы ведь лучше меня разбираетесь в этих вещах. Как вам известно, я не финансист, — и он улыбнулся, словно оправдываясь. — Я знаю только, что это вопрос влияния и протекции, — продолжал Каупервуд. — «Дрексель и К°» и «Кук и К°» имеют связи в Гаррисберге. У них там есть свои люди, стоящие на страже их интересов. С главным прокурором и казначеем штата они в самых приятельских отношениях. Если я предложу свои услуги и даже докажу, что могу взять на себя размещение займа, мне это дело все равно не поручат. Так бывало уже не раз. Я должен заручиться поддержкой друзей, их влиянием. Вы же знаете, как устраиваются такие дела. — Они устраиваются довольно легко, — сказал Батлер, — когда знаешь наверняка, к кому следует обратиться. Возьмем, к примеру, Джимми Оливера — он должен быть более или менее в курсе дела. Джимми Оливер был тогда окружным прокурором и время от времени давал Батлеру ценные советы. По счастливой случайности он состоял еще и в дружбе с казначеем штата. — На какую же часть займа вы метите? — На пять миллионов. — Пять миллионов! — Батлер выпрямился в своем кресле. — Да что вы, голубчик? Это ведь огромные деньги! Где же вы разместите такое количество облигаций? — Я подам заявку на пять миллионов, — мягко успокоил его Каупервуд, — а получить хочу только миллион, но такая заявка подымет мой престиж, а престиж тоже котируется на рынке. Батлер, облегченно вздохнув, откинулся на спинку кресла. — Пять миллионов! Престиж! А хотите вы только один миллион? Ну что ж, тогда дело другое! Мыслишка-то, по правде сказать, неплохая. Такую сумму мы, пожалуй, сумеем раздобыть. Он потер ладонью подбородок и уставился на огонь. Уходя в этот вечер от Батлера, Каупервуд не сомневался, что тот его не обманет и пустит в ход всю свою машину. Посему он ничуть не удивился и прекрасно понял, что это означает, когда несколько дней спустя его представили городскому казначею Джулиану Боуду, который в свою очередь обещал познакомить его с казначеем штата Ван-Нострендом и позаботиться о том, чтобы ходатайство Каупервуда было рассмотрено. — Вы, конечно, знаете, — сказал он Каупервуду в присутствии Батлера, в чьем доме и происходило это свидание, — что банковская клика очень могущественна. Вам известно, кто ее возглавляет. Они не желают, чтобы в дело с выпуском займа совались посторонние. У меня был разговор с Тэренсом Рэлихеном, их представителем там, наверху (он подразумевал столицу штата Гаррисберг), который заявил, что они не потерпят никакого вмешательства в это дело с займом. Вы можете нажить себе немало неприятностей здесь, в Филадельфии, если добьетесь своего, — это ведь очень могущественные люди. А вы уже представляете себе, где вы разместите заем? — Да, представляю, — отвечал Каупервуд. — Ну что ж, по-моему, самое лучшее теперь — держать язык за зубами. Подавайте заявку — и дело с концом. Ван-Ностренд, с согласия губернатора, утвердит ее. С губернатором же, я думаю, мы сумеем столковаться. А когда вы добьетесь утверждения, с вами, вероятно, пожелают иметь крупный разговор, но это уж ваша забота. Каупервуд улыбнулся своей непроницаемой улыбкой. Сколько всяких ходов и выходов в этом финансовом мире! Целый лабиринт подземных течений! Немного прозорливости, немного сметки, немного удачи — время и случай, — вот что по большей части решает дело. Взять хотя бы его самого: стоило ему ощутить честолюбивое желание сделать карьеру, только желание, ничего больше — и вот у него уже установлена связь с казначеем штата и с губернатором. Они будут самолично разбирать его дело, потому что он этого потребовал. Другие дельцы, повлиятельнее его, имели точно такое же право на долю в займе, но они не сумели этим правом воспользоваться. Смелость, инициатива, предприимчивость — как много они значат, да еще везенье вдобавок. Уходя, Фрэнк думал о том, как удивятся «Кук и К°». «Дрексель и К°», узнав, что он выступил в качестве их конкурента. Дома он поднялся на второй этаж, в маленькую комнату рядом со спальней, которую он приспособил под кабинет, там стояли письменный стол, несгораемый шкаф и кожаное кресло, и стал проверять свои ресурсы. Ему нужно было многое обдумать и взвесить. Он снова пересмотрел список лиц, с которыми уже договорился и на чью подписку мог смело рассчитывать. Проблема размещения облигаций на миллион долларов его не беспокоила; по его расчетам, он должен был заработать два процента с общей суммы, то есть двадцать тысяч долларов. Если дело выгорит, он решил купить особняк на Джирард-авеню, неподалеку от Батлеров, а может быть, еще лучше — приобрести участок и начать строиться. Деньги на постройку он раздобудет, заложив участок и дом. У отца дела идут весьма недурно. Возможно, и он захочет строиться рядом, тогда они будут жить бок о бок. Контора должна была дать в этом году, независимо от операции с займом, тысяч десять. Вложения Фрэнка в конку, достигавшие суммы в пятьдесят тысяч долларов, приносили шесть процентов годовых. Имущество жены, заключавшееся в их нынешнем доме, облигациях государственных займов и недвижимости в западной части Филадельфии, составляло еще сорок тысяч. Он был богатым человеком, но рассчитывал вскоре стать гораздо богаче. Теперь надо только действовать разумно и хладнокровно. Если операция с займом пройдет успешно, он сможет повторить ее, и даже в более крупном масштабе, ведь это не последний выпуск. Посидев еще немного, он погасил свет и ушел к жене, которая уже спала. Няня с детьми занимала комнату по другую сторону лестницы. — Ну вот, Лилиан, — сказал он, когда она, проснувшись, повернулась к нему, — мне кажется, что дело с займом, о котором я тебе рассказывал, теперь на мази. Один миллион для размещения я, видимо, получу. Это принесет двадцать тысяч прибыли. Если все пройдет успешно, мы выстроим себе дом на Джирард-авеню. Со временем она станет одной из лучших улиц. Колледж — прекрасное соседство. — Это будет замечательно, Фрэнк! — сказала она и погладила его руку, когда он присел на край кровати. Но в тоне ее слышалось легкое сомнение. — Нам нужно быть повнимательнее к Батлерам. Он очень мило со мной обошелся и, конечно, будет нам полезен и впредь. Он приглашал нас с тобой как-нибудь зайти к ним, не следует пренебрегать этим приглашением. Будь поласковее с его женой. Он может при желании очень многое для меня сделать. У него, между прочим, две дочери. Надо будет пригласить их к нам всей семьей. — Мы устроим для них обед, — с готовностью откликнулась Лилиан. — Я на днях заеду к миссис Батлер и предложу ей покататься со мной. Лилиан уже успела узнать, что Батлеры — во всяком случае младшее поколение — любят показной шик, что они весьма чувствительны к разговорам о своем происхождении и что деньги, по их понятиям, искупают решительно все недостатки. — Старик Батлер — человек весьма респектабельный, — заметил как-то Каупервуд, — но миссис Батлер… да и она, собственно, ничего, но уж очень простовата. Впрочем, это женщина добрая и сердечная. Фрэнк просил еще жену полюбезней обходиться с Эйлин и Норой, так как отец и мать Батлеры пуще всего гордятся своими дочерьми. Лилиан в ту пору было тридцать два года, Фрэнку — двадцать семь. Рождение двух детей и заботы о них до некоторой степени изменили ее внешность. Она утратила прежнее обольстительное изящество и стала несколько сухопарой. Лицо ее с ввалившимися щеками напоминало лица женщин с картин Россетти и Берн-Джонса[18]. Здоровье было подорвано: уход за двумя детьми и обнаружившиеся в последнее время признаки катара желудка отняли у нее много сил. Нервная система ее расстроилась, и временами она страдала приступами меланхолии. Каупервуд все это замечал. Он старался быть с ней по-прежнему ласковым и внимательным, но, обладая умом утилитарным и практическим, не мог не понимать, что рано или поздно у него на руках окажется больная жена. Сочувствие и привязанность, конечно, великое дело, но страсть и влечение должны сохраняться, — слишком уж горька бывает их утрата. Теперь Фрэнк часто засматривался на молодых девушек, жизнерадостных и пышущих здоровьем. Разумеется, похвально, благоразумно и выгодно блюсти добродетель, согласно правилам общепринятого кодекса морали, но если у тебя больная жена?.. Да и вообще, разве человек прикован к своей жене? Неужто ему уж ни на одну женщину и взглянуть нельзя? А что, если по сердцу ему пришлась другая? Фрэнк в свободное время немало размышлял над подобными вопросами и пришел к заключению, что все это не так уж страшно. Если не рискуешь быть разоблаченным, тогда все в порядке. Надо только соблюдать сугубую осмотрительность. Сейчас, когда он сидел на краю жениной кровати, эти мысли вновь пришли ему в голову, ибо днем он видел Эйлин Батлер: она пела, аккомпанируя себе на рояле, когда он проходил через гостиную. Эйлин была похожа на птичку в ярком оперении и дышала здоровьем и радостью. Олицетворенная юность! «Странно устроен мир!» — подумал Фрэнк. Но эти мысли он глубоко таил в себе и никому не собирался их поверять. Операция с займом привела к довольно любопытным результатам: правда, Фрэнк выручил свои двадцать тысяч, даже несколько больше, и вдобавок привлек к себе внимание финансового мира Филадельфии и штата Пенсильвания, но распространять заем ему так и не пришлось. У него состоялось свидание с казначеем штата в конторе одного знаменитого филадельфийского юриста, где казначей обычно занимался делами во время своих наездов в Филадельфию. Он был весьма любезен с Каупервудом — ничего другого ему не оставалось — и объяснил, как в Гаррисберге устраиваются такие дела. Средства для предвыборных кампаний добываются у крупных финансистов. У тех имеются свои ставленники в палате и в сенате штата. Губернатор и казначей, конечно, свободны в своих действиях, но им приходится помнить о существовании таких факторов, как престиж, дружба, общественное влияние и политическое честолюбие. Крупные дельцы нередко образуют замкнутую корпорацию — факт, разумеется, не совсем благовидный. Но, с другой стороны, они как-никак являются законными поручителями при выпуске крупных займов. Штат вынужден поддерживать с ними добрые отношения, особенно в такое время, как сейчас. Поскольку мистер Каупервуд располагает прекрасными возможностями для размещения облигаций на один миллион, — кажется, именно на такую сумму он претендует, — его просьбу следует удовлетворить. Но Ван-Ностренд хочет сделать ему другое предложение. Не согласится ли Каупервуд, — если этого пожелает группа финансистов, реализующая заем, — после утверждения его заявки уступить им за известную компенсацию (равную той прибыли, на которую он рассчитывал) свою долю в размещении займа? Таково желание некоторых финансистов. Сопротивляться им было бы опасно. Они отнюдь не возражают против заявки на пять миллионов, которая должна поднять престиж Каупервуда. Пусть даже считается, что он разместил один миллион, — они и против этого ничего не имеют. Но они хотят взять на себя нераздельно реализацию всех двадцати трех миллионов долларов одним кушем: так оно будет внушительнее. При этом вовсе незачем кричать во всеуслышание, что Каупервуд отказался от участия в распространении займа. Они согласны дать ему пожать лавры, которые ожидали бы его, если бы он завершил начатое дело. Беда только в том, что это может послужить дурным примером. Найдутся и другие, желающие пойти по его стопам. Но если в узких финансовых кругах из частных источников распространится слух, что на него было оказано давление и он, получив отступные, отказался от участия в размещении займа, то в будущем это удержит других от подобного шага. Если же Каупервуд не согласится на предложенные ему условия, ему могут причинить всевозможные неприятности. Например: потребовать погашения его онкольных ссуд. Во многих банках с ним в дальнейшем будут менее предупредительны. Его клиентуру могут тем или иным путем отпугнуть. Каупервуд понял. И… согласился. Поставить на колени стольких сильных мира сего — это одно уже кое-чего стоит! Итак, о нем прослышали, поняли, что он такое. Очень хорошо, превосходно! Он возьмет свои двадцать тысяч долларов или около того и ретируется. Казначей тоже был в восторге. Это позволяло ему выйти из весьма щекотливого положения. — Я рад, что повидался с вами, — сказал он, — рад, что мы вообще встретились. Когда я снова буду в этих краях, я загляну к вам, и мы вместе позавтракаем. Казначей почуял, что имеет дело с человеком, который даст ему возможность подработать. У Каупервуда был на редкость проницательный взгляд, а его лицо свидетельствовало о живом и гибком уме. Вернувшись к себе, он рассказал о молодом финансисте губернатору и некоторым знакомым дельцам. Распределение займа для реализации было наконец утверждено. После секретных переговоров с заправилами фирмы «Дрексель и К°» Каупервуд получил от них двадцать тысяч долларов и передал им свое право на участие в этом деле. Теперь в его конторе время от времени стали показываться новые лица, среди них Ван-Ностренд и уже упомянутый нами Тэренс Рэлихен, представитель другой политической группы в Гаррисберге. Однажды за завтраком в ресторане Фрэнка познакомили с губернатором. Его имя стало упоминаться в газетах, он быстро вырастал в глазах общества. Фрэнк вместе с молодым Элсуортом незамедлительно принялся за разработку проекта своего нового дома. Будет построено нечто исключительное, заявил он жене. Теперь им придется устраивать большие приемы. Фронт-стрит для них уже слишком тихая улица. Фрэнк дал объявление о продаже старого дома, посоветовался с отцом и выяснил, что и тот не прочь переехать. Успех сына благоприятно отозвался и на карьере отца. Директора банка день ото дня становились с ним любезнее. В следующем году председатель правления банка Кугель собирался выйти в отставку. Старого Каупервуда, благодаря блестящей финансовой операции, проведенной его сыном, а также долголетней службе, прочили на этот пост. Фрэнк делал крупные займы в его банке, а следовательно, был и крупным вкладчиком. Весьма положительно оценивалась и его деловая связь с Эдвардом Батлером. Фрэнк снабжал заправил банка сведениями, которых без него они не могли бы добыть. Городской казначей и казначей штата стали интересоваться этим банком. Каупервуду-старшему уже мерещился двадцатитысячный оклад председателя правления, и в значительной мере он был обязан этим сыну. Отношения между обеими семьями теперь не оставляли желать ничего лучшего. Анна (ей уже исполнился двадцать один год), Эдвард и Джозеф часто проводили вечера в доме брата. Лилиан почти ежедневно навещала его мать. Каупервуды оживленно обменивались семейными новостями, и наконец решено было строиться рядом. Каупервуд-старший купил участок в пятьдесят футов рядом с тридцатифутовым участком сына, и они вместе приступили к постройке двух красивых и удобных домов, которые должны были соединиться между собою галереей, так называемой перголой, открытой летом и застекленной зимой. Для облицовки фасада был выбран зеленый гранит, широко распространенный в Филадельфии, но мистер Элсуорт обещал придать этому камню вид, особенно приятный для глаза. Каупервуд-старший решил, что может позволить себе истратить на постройку семьдесят пять тысяч долларов (его состояние уже оценивалось в двести пятьдесят тысяч), а Фрэнк собирался рискнуть пятьюдесятью тысячами, получив эту сумму по закладной. В то же время он намеревался перевести свою контору в отдельное здание, на той же Третьей улице, но южнее. Ему стало известно, что там продается дом с фасадом в двадцать пять футов длиною, правда, старый, но если облицевать его темным камнем, то он приобретет весьма внушительный вид. Мысленному взору Фрэнка уже рисовалось красивое здание с огромным зеркальным окном, сквозь которое видна деревянная обшивка внутренних стен, а на дверях или сбоку от них бронзовыми буквами значится: «Каупервуд и К°». Смутно, но уже различимо, подобно розоватому облачку на горизонте, виделось ему его будущее. Он будет богат, очень, очень богат!Глава 13
В то время как Каупервуд неуклонно продвигался вперед по пути жизненных успехов, великая война против восставшего Юга близилась к концу. Стоял октябрь 1864 года. Взятие Мобиля и «битва в лесных дебрях»[19] были еще свежи в памяти всех. Грант стоял уже на подступах к Питерсбергу, а доблестный генерал южан Ли предпринимал последние блестящие и безнадежные попытки спасти положение, используя все свои способности стратега и воина. Иногда, например, в ту томительно долгую пору, когда вся страна ждала падения Виксберга или победоносного наступления армии, стоявшей на реке Потомак, а Ли меж тем вторгся в Пенсильванию, акции стремительно понижались в цене и рынок приходил в состояние крайнего упадка. В такие минуты Каупервуд призывал на помощь всю свою изворотливость; ему приходилось каждое мгновение быть начеку, чтобы все нажитое им не пошло прахом из-за каких-нибудь непредвиденных и пагубных вестей. Личное его отношение к войне — независимо от его патриотических чувств, требовавших сохранения целостности Союза[20], — сводилось к мнению, что это разрушительное и дорогостоящее предприятие. Он не был настолько чужд национальной гордости, чтобы не сознавать, что Соединенными Штатами, которые теперь раскинулись от Атлантического океана до Тихого и от снегов Канады до Мексиканского залива, нельзя не дорожить. Родившись в 1837 году, Каупервуд был свидетелем того, как страна добивалась территориальной целостности (если не считать Аляски). В дни его юности США обогатились купленной у испанцев Флоридой; Мексика, после несправедливой войны, уступила в 1848 году Техас и территорию к западу от него. Уладились, наконец, пограничные споры между Англией и Соединенными Штатами на далеком северо-западе. Человек с широкими взглядами на социальные и финансовые вопросы не мог не понимать всего значения этих фактов. Во всяком случае, они внушали Каупервуду сознание неограниченных коммерческих возможностей, таившихся в таком обширном государстве. Он не принадлежал к разряду финансовых авантюристов или прожектеров, усматривавших источники беспредельной наживы в каждом неисследованном ручье, в каждой пяди прерии; но уже сами размеры страны говорили о гигантских возможностях, которые, как надеялся Фрэнк, можно будет оградить от каких бы то ни было посягательств. Территория, простирающаяся от океана до океана, таила в себе потенциальные богатства, которые были бы утрачены, если бы Южные штаты отложились от Северных. В то же время проблема освобождения негров не казалась Каупервуду существенной. Он с детства наблюдал за представителями этой расы, подмечал их достоинства и недостатки, которые считал врожденными, и полагал, что этим-то и обусловлена их судьба. Так, например, он вовсе не был уверен, что неграм может быть предназначена большая роль, чем та, которую они играли. Во всяком случае, им предстоит еще долгая и трудная борьба, исхода которой не узнают ближайшие поколения. У него не было особых возражений против теории, требовавшей для них свободы, но он не видел и причин, по которым южане не должны были бы всеми силами противиться посягательствам на их достояние и экономический строй. Очень жаль, конечно, что в некоторых случаях с черными невольниками обращаются плохо. Он считал, что этот вопрос следует пересмотреть, но не видел никаких серьезных этических оснований для той борьбы, которую вели покровители чернокожих. Он сознавал, что положение огромного большинства мужчин и женщин мало чем отличается от положения рабов, несмотря на то, что их будто бы защищает конституция страны. Ведь существовало духовное рабство, рабство слабых духом и слабых телом. Каупервуд с живым интересом следил за выступлениями Сэмнера, Гаррисона, Филиппса и Бичера[21], но никогда не считал эту проблему жизненно важной для себя. Он не имел охоты быть солдатом или командовать солдатами и не обладал полемическим даром; по самому складу своего ума он не принадлежал к любителям дискуссий даже в области финансов. Его интересовало лишь то, что могло оказаться выгодным для него, и выгоде были посвящены все его помыслы. Братоубийственная война на его родине не могла принести ему пользы. По его мнению, она только мешала стране окрепнуть в торговом и финансовом отношении, и он надеялся на скорый конец этой войны. Он не предавался горьким сетованиям на высокие военные налоги, хотя знал, что для многих это тяжелое испытание. Рассказы о смертях и несчастьях очень трогали его, но, увы, таковы превратности человеческой жизни, и не в его силах что-либо изменить в ней! Так шел он своим путем, изо дня в день наблюдая за приходом и уходом воинских отрядов, на каждом шагу встречая кучки грязных, исхудалых, оборванных и полубольных людей, возвращавшихся с поля битвы или из лазаретов; ему оставалось лишь жалеть их. Эта война была не для него. Он не принимал в ней участия и знал только, что будет очень рад ее окончанию — не как патриот, а как финансист. Она была разорительной, трагической, несчастливой. Дни шли за днями. За это время состоялись выборы в местные органы власти и сменились городской казначей, налоговый уполномоченный и мэр. Но Эдвард Мэлия Батлер, видимо, продолжал пользоваться прежним влиянием. Между Батлерами и Каупервудами установилась тесная дружба. Миссис Батлер была очень расположена к Лилиан, хотя они исповедовали разную веру; обе женщины вместе катались в экипаже, вместе ходили по магазинам; правда, миссис Каупервуд относилась к своей старшей приятельнице несколько критически и слегка стыдилась ее малограмотной речи, ирландского выговора и вульгарных вкусов, точно сама она происходила не из такой же плебейской семьи. Но, с другой стороны, она не могла не признать, что эта женщина очень добра и сердечна. Живя в большом достатке, она любила делать людям приятное, задаривала и ласкала Лилиан и ее детей. «Ну, вы смотрите, беспременно приходите отобедать с нами!» (Батлеры достигли уже той степени благосостояния, когда принято обедать поздно.) Или: «Вы должны покататься со мною завтра!» «Эйлин, дай ей бог здоровья, славная девушка!» Или: «Норе, бедняжке, нынче чего-то неможется». Однако Эйлин, с ее капризами, задорным нравом, требованием внимания к себе и тщеславием, раздражала, а порой даже возмущала миссис Каупервуд. Эйлин теперь уже было восемнадцать лет, и во всем ее облике сквозила какая-то коварная соблазнительность. Манеры у нее были мальчишеские, порой она любила пошалить и, несмотря на свое монастырское воспитание, восставала против малейшего стеснения ее свободы. Но при этом в голубых глазах Эйлин светился мягкий огонек, говоривший об отзывчивом и добром сердце. Стремясь воспитать дочь, как они выражались, «доброй католичкой», родители Эйлин в свое время выбрали для нее церковь св. Тимофея и монастырскую школу в Джермантауне. Эйлин познакомилась там с католическими догматами и обрядами, но ничего не поняла в них. Зато в ее воображении глубоко запечатлелись: храм,с его тускло поблескивающими окнами, высокий белый алтарь и по обе стороны от него статуи св. Иосифа и девы Марии в голубых, усыпанных золотыми звездами одеяниях, с нимбами вокруг голов и скипетрами в руках. Храм вообще, а любой католический храм тем более, радует глаз и умиротворяет дух. Алтарь, во время мессы залитый светом пятидесяти, а то и больше свечей, кажущийся еще более величественным и великолепным благодаря богатым кружевным облачениям священников и служек, прекрасные вышивки и яркая расцветка риз, ораря и нарукавников нравились девушке и пленяли ее воображение. Надо сказать, что в ней всегда жила тяга к великолепию, любовь к ярким краскам и «любовь к любви». Эйлин с малых лет чувствовала себя женщиной. Она никогда не стремилась вникать в суть вещей, не интересовалась точными знаниями. Таковы почти все чувственные люди. Они нежатся в лучах солнца, упиваются красками, роскошью, внешним великолепием и дальше этого не идут. Точность представлений нужна душам воинственным, собственническим, и в них она перерождается в стремление к стяжательству. Властная чувственность, целиком завладевающая человеком, не свойственна ни активным, ни педантичным натурам. Сказанное выше необходимо пояснить применительно к Эйлин. Несправедливо было бы утверждать, что в то время она уже была явно чувственной натурой. Все это еще дремало в ней. Зерно не скоро дает урожай. Исповедальня, полумрак в субботние вечера, когда церковь освещалась лишь несколькими лампадами, увещания патера, налагаемая им епитимья и отпущение грехов, нашептываемые через решетчатое окошко, смутно волновали ее. Грехов своих она не страшилась. Ад, ожидающий грешников, не пугал Эйлин. Угрызения совести ее не терзали. Старики и старухи, которые ковыляли в церковь и, бормоча слова молитвы, перебирали четки, для нее мало чем отличались от фигур в своеобразном строе деревянных идолов, призванных подчеркивать святость креста. Ей нравилось, особенно в возрасте четырнадцати — пятнадцати лет, исповедоваться, прислушиваясь к голосу духовника, все свои наставления начинавшего словами: «Так вот, возлюбленное дитя мое…» Один старенький патер — француз, исповедовавший воспитанниц монастырского пансиона, своей добротой и мягкостью особенно трогал Эйлин. Его благословения звучали искренне, куда искренней, чем ее молитвы, которые она читала торопливо и невнимательно. Позднее ее воображением завладел молодой патер церкви св. Тимофея, отец Давид, румяный здоровяк с завитком черных волос на лбу, не без щегольства носивший свой пастырский головной убор; по воскресеньям он проходил меж скамьями, решительными, величественными взмахами руки кропя паству святой водой. Он принимал исповедь, и Эйлин любила иногда шепотом поверять ему приходившие ей в голову греховные мысли, стараясь при этом угадать, что думает о ней духовник. Как бы она того ни желала, она не могла видеть в нем представителя божественной власти. Он был слишком молодым, слишком обыкновенным человеком. И в ее манере с упоением рассказывать о себе, а потом смиренно, с видом кающейся грешницы, направляться к выходу было что-то коварное, задорное и поддразнивающее. В школе св. Агаты она считалась «трудной» воспитанницей, ибо, как вскоре заметили добрые сестры, была слишком жизнерадостна, слишком полна энергии, чтобы подчиняться чужой воле. — Эта мисс Батлер, — сказала однажды мать-настоятельница сестре Семпронии, непосредственной наставнице Эйлин, — очень бойкая девица. Вы наживете с ней немало хлопот, если не проявите достаточно такта. По-моему, вам надо пойти на мелкие уступки. Так вы, пожалуй, большего от нее добьетесь. С тех пор сестра Семпрония старалась угадывать желания Эйлин, а временами даже им попустительствовала. Но и это не всегда удавалось монахине — девушка была преисполнена сознанием отцовского богатства и своего превосходства над другими. Правда, иногда у нее вдруг являлось желание съездить домой или же она просила у сестры-наставницы разрешения поносить ее четки из крупных бус с крестом черного дерева и серебряной фигуркой Христа — в пансионе эти вчиталось большим почетом. Подобные преимущества, а также и другие — разрешение прогуливаться в субботу вечером по монастырским землям, рвать сколько угодно цветов, иметь несколько лишних платьев, носить украшения — предлагались ей в награду, лишь бы она тихо вела себя в классе, тихо ходила и тихо разговаривала (насколько это было в ее силах!), не забиралась в дортуары к другим девушкам после того, как гасили свет, и, внезапно проникнувшись нежностью к той или иной сестре-воспитательнице, не душила ее в объятиях. Эйлин любила музыку и очень хотела заниматься живописью, хотя никаких способностей к живописи у нее не было. Книги, главным образом романы, тоже интересовали ее, но достать их было негде. Все остальное — грамматику, правописание, рукоделие, закон божий и всеобщую историю — она ненавидела. Правила хорошего тона — это, пожалуй, еще было интересно. Ей нравились вычурные реверансы, которым ее учили, и она часто думала о том, как будет приветствовать ими гостей, вернувшись в родительский дом. Когда только Эйлин вступила в жизнь, все тонкие различия в положении отдельных слоев местного общества начали ее волновать; она страстно желала, чтобы отец построил хороший особняк, вроде тех, какие она видела у других, и открыл ей дорогу в общество. Желание это не сбылось, и тогда все ее помыслы обратились на драгоценности, верховых лошадей, экипажи и, конечно, множество нарядов — все, что она могла иметь взамен. Дом, в котором они жили, не позволял устраивать большие приемы, и Эйлин уже в восемнадцать лет познала муки уязвленного самолюбия. Она жаждала другой жизни! Но как ей было осуществить свои мечты? Комната Эйлин, полная нарядов, красивых безделушек, драгоценностей, надевать которые Эйлин случалось лишь изредка, туфель, чулок, белья и кружев, могла бы служить образцом для изучения слабостей нетерпеливой и тщеславной натуры. Эйлин знала все марки духов и косметики (хотя в последней она ничуть не нуждалась) и в изобилии накупала то и другое. Аккуратность не была ее отличительной чертой, а показную роскошь она очень любила. Пышное нагромождение портьер, занавесей, безделушек и картин в ее комнате плохо сочеталось со всем остальным убранством дома. Эйлин всегда вызывала у Каупервуда представление о невзнузданной норовистой лошадке. Он нередко встречал ее, когда она ходила с матерью по магазинам или же каталась с отцом, и его неизменно смешил и забавлял скучающий тон, какой она напускала на себя в разговоре с ним. — О господи, боже мой! Как скучно жить на свете! — говорила она, тогда как на самом деле каждое мгновение жизни для нее было исполнено трепетной радости. Каупервуд точно охарактеризовал ее духовную сущность: девушка, в которой жизнь бьет ключом, романтичная, увлеченная мыслями о любви и обо всем, что несет с собой любовь. Когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит полнейшее совершенство, какое могла бы создать природа, если бы попыталась сотворить нечто физически идеальное. У него мелькнула мысль, что в скором времени какой-нибудь счастливчик женится на ней и увезет ее с собой. Но тот, кому она достанется, вынужден будет удерживать ее обожанием, тонкой лестью и неослабным вниманием. — Это маленькое ничтожество (меньше всего она была ничтожеством) воображает, что весь свет в кармане у ее отца, — заметила однажды Лилиан в разговоре с мужем. — Послушать ее, так можно подумать, что Батлеры ведут свой род от ирландских королей! А ее деланный интерес к музыке и к искусству просто смешон. — Ну, не будь уж слишком строга к ней! — дипломатично успокаивал ее Каупервуд (в то время Эйлин уже очень нравилась ему). — Она хорошо играет, и у нее приятный голос. — Это верно, но она лишена настоящего вкуса. Да и откуда ему взяться? Достаточно посмотреть на ее отца и мать! — Я лично, право же, не вижу в ней ничего плохого, — стоял на своем Каупервуд. — У нее веселый нрав, и она хороша собой. Конечно, она еще совсем ребенок и немного тщеславна, но это у нее пройдет. К тому же она неглупа и энергична. Эйлин — он это знал — была очень расположена к нему. Он ей нравился. Она любила играть на рояле и петь, бывая у него в доме, причем пела только в его Присутствии. Его уверенная, твердая походка, сильное тело и красивая голова — все привлекало ее. Несмотря на свою суетность и свой эгоцентризм, она временами несколько робела перед ним. Но, как правило, в его присутствии становилась особенно весела и обворожительна. Самое безнадежное дело на свете — пытаться точно определить характер человека. Каждая личность — это клубок противоречий, а тем более личность одаренная. Поэтому невозможно исчерпывающе описать Эйлин Батлер. Умом она несомненно обладала, хотя неотточенным и примитивным, а также силой характера, временами обуздываемой воззрениями и условностями современного ей общества, временами же проявлявшейся стихийно и скорее положительно, чем отрицательно. Ей только что исполнилось восемнадцать лет, и такому человеку, как Фрэнк Каупервуд, она казалась очаровательной. Все ее существо было проникнуто тем, чего он раньше не встречал ни в одной женщине и никогда ни от одной из них сознательно не требовал, — живостью и жизнерадостностью. Но ведь ни одна девушка или женщина из тех, кого он когда-либо знал, не обладала этой врожденной жизненной силой. Ее волосы, рыжевато-золотистые — собственно, цвета червонного золота с чуть заметным рыжеватым отливом, — волнами подымались надо лбом и узлом спадали на затылок. У нее был безукоризненной формы нос, прямой, с маленькими ноздрями, и глаза, большие, с волнующим и чувственным блеском. Каупервуду нравился их голубовато-серый — ближе к голубому — оттенок. Ее туалеты невольно вызывали в памяти запястья, ножные браслеты, серьги и нагрудные чаши одалисок, хотя ничего подобного она, конечно, не носила. Много лет спустя Эйлин призналась ему, что с удовольствием выкрасила бы ногти и ладони в карминный цвет. Здоровая и сильная, она всегда интересовалась, что думают о ней мужчины и какой она кажется им в сравнении с другими женщинами. Разъезжать в экипажах, жить в красивом особняке на Джирард-авеню, бывать в таких домах, как дом Каупервудов, — все это значило для нее очень много; но уже и в те годы она понимала, что смысл жизни не только в этих привилегиях. Живут же люди и не имея их. И все же богатство и превосходство над другими кружили ей голову. Сидя за роялем, катаясь, гуляя или стоя перед зеркалом, она была преисполнена сознанием своей красоты, обворожительности, сознанием того, что это значит для мужчин и какую зависть внушает женщинам. Временами при виде бедных, плоскогрудых и некрасивых девушек она проникалась жалостью; временами в ней вспыхивала необъяснимая неприязнь к какой-нибудь девице или женщине, дерзнувшей соперничать с ней красотою или положением в обществе. Случалось, что дочери из видных семейств, встретившись с Эйлин в роскошных магазинах на Честнат-стрит или на прогулке в парке, верхом или в экипаже, задирали носы в доказательство того, что они лучше воспитаны и что это им известно. При таких встречах обе стороны обменивались уничтожающими взглядами. Эйлин страстно желала проникнуть в высшее общество, хотя хлыщеватые джентльмены из этого круга нимало не привлекали ее. Она мечтала о настоящем мужчине. Время от времени ей на глаза попадался молодой человек «вроде как подходящий», но обычно это были знакомые ее отца, мелкие политические деятели или члены местного законодательного собрания, стоявшие не выше на социальной лестнице, поэтому они быстро утрачивали для нее всякий интерес и надоедали ей. Старик Батлер не знал никого из подлинно избранного общества. Но мистер Каупервуд… он казался таким изысканным, сильным и сдержанным; глядя на миссис Каупервуд, Эйлин часто думала, как должна быть счастлива его жена.Глава 14
Быстрое продвижение Каупервуда, главы фирмы «Каупервуд и К°», последовавшее за блестящей операцией с займом, привело его в конце концов к встрече с человеком, весьма значительно повлиявшим на его жизнь в моральном, финансовом и во многих других отношениях. Это был Джордж Стинер, новый городской казначей, игрушка в руках других, который и сделался-то важной персоной именно по причине своего слабоволия. До назначения на этот пост Стинер работал мелким страховым агентом и комиссионером по продаже недвижимого имущества. Такие люди, как он, встречаются тысячами на каждом шагу — без малейшей прозорливости, без подлинной тонкости ума, без изобретательности, без каких бы то ни было дарований. За всю свою жизнь он не высказал ни единой свежей мысли. Правда, никто не мог бы назвать его плохим человеком. Наружность у него была какая-то тоскливая, серая, безнадежно обыденная, но объяснялось это не столько его внешним, сколько духовным обликом. Голубовато-серые, водянистые глаза, жидкие светлые волосы, безвольные, невыразительные губы. Стинер был довольно высок, почти шести футов ростом, довольно плечист, но весь какой-то нескладный. Он имел привычку слегка сутулиться, а брюшко у него немного выдавалось вперед. Речь его состояла из сплошных общих мест — газетная и обывательская болтовня да коммерческие сплетни. Знакомые и соседи относились к нему неплохо. Его считали честным и добрым, да таким он, пожалуй, и был. Жена его и четверо детей были тусклы и ничтожны, какими обычно бывают жены и дети подобных людей. Вопреки всему этому — а с точки зрения политики, пожалуй, именно благодаря этому — Джордж Стинер временно оказался в центре общественного внимания, чему способствовали известные политические методы, уже с полсотни лет практиковавшиеся в Филадельфии. Во-первых, Стинер держался тех же политических взглядов, что и господствующая партия; члены городского совета и заправилы его округа знали его как верного человека, к тому же весьма полезного при сборе голосов во время предвыборных кампаний. Во-вторых, хотя он никуда не годился как оратор, ибо не мог выжать из себя ни одной оригинальной мысли, его можно было посылать из дома в дом разузнавать настроения бакалейщиков, кузнецов или мясников; он со всеми заводил дружбу и в результате мог довольно точно предсказать исход выборов. Более того, его можно было «начинить» несколькими избитыми фразами, которые он и твердил изо дня в день, к примеру: «Республиканская партия (партия только что возникшая, но уже стоявшая у власти в Филадельфии) нуждается в вашем голосе. Нельзя допустить к управлению штатом этих мошенников-демократов». Почему нельзя — Стинер уже вряд ли мог бы объяснить. Они отстаивают рабство. Ратуют за свободу торговли[22]. Ему никогда и в голову не приходило, что все это не имеет ни малейшего касательства к исполнительным и финансовым органам города Филадельфии. Повинны демократы в этих грехах или неповинны — что от этого изменялось? Политическими судьбами города в те времена заправляли некий Марк Симпсон, сенатор Соединенных Штатов, Эдвард Мэлия Батлер и Генри Молленхауэр, богатый торговец углем и финансовый воротила. У них был целый штат агентов, приспешников, доносчиков и подставных лиц. Среди этих людей числился и Стинер — мелкое колесико в бесшумно работавшей машине их политических интриг. Едва ли такой человек мог быть избран казначеем в другом городе, но население Филадельфии отличалось поразительным равнодушием ко всему на свете, кроме своих обывательских дел. Подавляющее большинство жителей, за редким исключением, не имело собственных политических взглядов. Политика была отдана на откуп клике дельцов. Должности распределялись между теми или иными лицами, теми или иными группами в награду за оказанные услуги. Ну, да кто не знает, как вершится такая «политика»! Итак, с течением времени Джордж Стинер сделался persona grata[23] в глазах Эдварда Стробика, который стал сперва членом муниципалитета, потом заправилой своего округа и, наконец, председателем муниципалитета, а в частной жизни — владельцем каменоломни и кирпичного завода. Стробик был прихвостнем Генри Молленхауэра, самого матерого и хищного из этой тройки политических лидеров. Когда Молленхауэр своекорыстно добивался чего-нибудь от муниципалитета, Стробик служил покорным орудием в его руках. По указке Молленхауэра Стинер был избран в муниципалитет, а так как он послушно отдал свой голос за того, за кого ему приказали, то его сделали помощником заведующего дорожным управлением. Здесь он попал в поле зрения Эдварда Мэлии Батлера и начал оказывать ему небольшие услуги. Несколько позднее политический комитет республиканской партии с Батлером во главе решил, что на посту городского казначея нужен человек мягкий, послушный и в то же время безусловно преданный; таким образом имя Стинера попало в избирательный бюллетень. Стинер слабо разбирался в финансовых вопросах, хотя и был превосходным бухгалтером; но разве юрисконсульт Риган — такое же бессловесное орудие в руках всемогущего триумвирата — не мог в любое время подать ему полезный совет? Конечно, мог. Итак, проведение кандидатуры Стинера трудностей не представило. Попасть в список кандидатов было уже равносильно избранию. И после нескольких недель утомительных публичных выступлений, когда он, запинаясь, лепетал избитые фразы о том, что Филадельфии прежде всего необходимо честное городское самоуправление, Стинера официально ввели в должность. Вот и все. Вопрос о том, насколько административные и финансовые способности Джорджа Стинера соответствовали этой должности, не играл бы, вообще говоря, никакой роли, если бы Филадельфия — как ни один другой город — не страдала в тот период от крайне не удачной финансовой системы или, вернее, от полного отсутствия таковой. Дело в том, что налоговому уполномоченному и казначею предоставлялось право накапливать и хранить принадлежащие городу средства вне городских сейфов, причем никто с них даже не требовал, чтобы эти деньги приносили доход городу. Упомянутым должностным лицам вменялось в обязанность ко времени ухода с поста возвратить только основной капитал. Нигде не предусматривалось, чтобы средства, накопленные таким образом или полученные из любого другого источника, хранились в неприкосновенности в сейфах городского казначейства. Эти деньги могли быть отданы в рост, депонированы в банках или использованы для финансирования частных предприятий, лишь бы был возвращен основной капитал. Разумеется, подобная финансовая политика не была официально санкционирована, но о ней знали и политические круги, и пресса, и крупные финансисты. Так как же можно было положить этому конец? Вступив в деловой контакт с Эдвардом Мэлией Батлером, Каупервуд, помимо своей воли и сам того, в сущности, не сознавая, оказался вовлеченным в круг порочных и недостойных махинаций. Семь лет назад, уходя из конторы «Тай и К°», он дал зарок никогда больше не заниматься игрой на бирже. Теперь же он снова ей предался, только с еще большей страстностью, ибо работал уже на самого себя, на фирму «Каупервуд и К°», и горел желанием удовлетворить своих новых клиентов — представителей могущественного мира, которые все чаще и чаще прибегали к его услугам. У всех этих людей водились деньги, пусть даже небольшие. Все они раздобывали закулисную информацию и поручали Каупервуду покупать для них те или иные акции под залог, так как его имя было знакомо многим политическим деятелям и он считался весьма надежным человеком. Да таким он и был. До этого времени он не спекулировал и не играл на бирже за собственный счет. Он даже часто успокаивал себя мыслью, что за все эти годы ни разу не выступал на бирже от своего имени, строго придерживаясь поставленного себе правила ограничиваться исполнением чужих поручений. И вот теперь к нему явился Джордж Стинер с предложением, которое нельзя было вполне отождествлять с биржевой игрой, хотя по существу оно ничем от нее не отличалось. Необходимо тут же пояснить, что еще задолго до Гражданской войны и во время ее в Филадельфии практиковался обычай при недостаточности наличных средств в казначействе выпускать так называемые городские обязательства, иначе говоря, те же векселя, из шести процентов годовых, срок которых истекал иногда через месяц, иногда через три, иногда через шесть, в зависимости от суммы и от того, когда, по мнению казначея, город сможет выкупить и погасить эти обязательства. Это был обычный способ расплаты и с мелкими торговцами и с крупными подрядчиками. Но первым — поставщикам городских учреждений — в случае нужды в наличных деньгах приходилось учитывать эти векселя обычно из расчета девяносто за сто, тогда как вторые имели возможность выждать и попридержать таковые до истечения срока. Подобная система была, конечно, явно убыточна для мелкого торгового люда, но зато очень выгодна для крупных подрядчиков и банкирских контор, ибо сомнений в том, что город в свое время уплатит по этим обязательствам, быть не могло, а при такой абсолютной их надежности шесть процентов годовых были отличной ставкой. Скупая обязательства у мелких торговцев по девяносто центов за доллар, банки и маклеры, если только они имели возможность выждать, в конечном итоге загребали крупные куши. Первоначально городской казначей, вероятно, не намеревался вводить в убыток кого-либо из своих сограждан — возможно, что тогда в казначействе действительно не было наличных средств для выплаты. Однако впоследствии выпуск этих обязательств уже ничем не оправдывался, ибо городское хозяйство могло бы вестись экономнее. Но к тому времени эти обязательства, как легко можно себе представить, уже сделались источником больших барышей для владельцев маклерских контор, банкиров и крупных спекулянтов, и посему выпуск их неизменно предусматривался финансовой политикой города. Однако и в этом деле имелась своя оборотная сторона. Чтобы использовать создавшееся положение с наибольшей для себя выгодой, крупный банкир, держатель обязательств, должен был быть еще и «своим человеком», то есть находиться в добрых отношениях с политическими заправилами города; иначе, когда у него появлялась потребность в наличных деньгах и он приходил со своими обязательствами к городскому казначею, то оказывалось, что расчет по ним произведен быть не может. Но стоило ему передать их какому-нибудь банкиру или маклеру, близко стоящему к правящей клике, тогда дело другое! Городское казначейство немедленно изыскивало средства для их оплаты. Или же, если это устраивало маклера или банкира — разумеется, «своего», — срок действия векселей, выданных на три месяца и уже подлежащих выкупу, пролонгировался еще на многие годы и по ним по-прежнему выплачивалось шесть процентов годовых, хотя бы город и располагал средствами для их погашения. Так шло тайное и преступное ограбление городской кассы. «Нет денег!» — эта формула покрывала все махинации. Широкая публика ничего не знала. Да и откуда ей было знать? Газеты не проявляли достаточной бдительности, так как многие из них были на откупе у той же правящей клики. Из людей, имевших хоть какой-то политический вес, не выдвигались настойчивые и убежденные борцы против этих злоупотреблений. За время войны общая сумма непогашенных городских обязательств с выплатой шести процентов годовых выросла до двух с лишним миллионов долларов, и дело стало принимать скандальный оборот. Кроме того, некоторые из вкладчиков вздумали требовать свои деньги обратно. И вот для покрытия этой просроченной задолженности и для того, чтобы все снова было «шито-крыто», городские власти решили выпустить заем примерно на два миллиона долларов — особой точности в сумме не требовалось — в виде процентных сертификатов[24] номиналом по сто долларов, подлежавших выкупу частями, через шесть, двенадцать и восемнадцать месяцев. Сертификаты, для выкупа которых выделялся амортизационный фонд[25], поступали в открытую продажу, а на вырученные за них деньги предполагалось выкупить давно просроченные обязательства, в последнее время вызывавшие столько нежелательных толков. Совершенно очевидно, что вся эта комбинация сводилась к тому, чтобы отнять у одного и уплатить другому. Фактически ни о каком выкупе просроченных обязательств не могло быть и речи. Весь замысел сводился к тому, чтобы финансисты из той же клики по-прежнему могли потрошить городскую казну: сертификаты продавались «кому следует» по девяносто за сто и даже ниже, под тем предлогом, что на открытом рынке для них нет сбыта из-за малой кредитоспособности города. Отчасти так оно и было. Война только что кончилась. Деньги были в цене. Капиталисты могли где угодно получить более высокие проценты, если им не предоставить сертификатов городского займа по девяносто долларов. Но небольшая группа политиканов, не причастных к городской администрации и настороженно относившихся к ее деятельности, а также ряд газет и некоторые финансисты, стоявшие в стороне от политики, под влиянием общего подъема патриотизма в стране настаивали на размещении займа альпари. Поэтому в постановление о выпуске займа пришлось включить соответствующий пункт. Само собой разумеется, что это обстоятельство расстроило тайный сговор политиков и финансистов, чаявших получить сертификаты займа по девяносто долларов. Надо было так или иначе выцарапывать свои денежки, застрявшие в просроченных обязательствах города, который не выкупал их за недостатком средств. Оставался один выход — найти маклера, сведущего во всех тонкостях биржи. Этот маклер, взявшись за распространение нового городского займа, придал бы ему видимость выгодного капиталовложения и таким образом сбыл бы сертификаты на сторону по сто долларов за штуку. В дальнейшем же, если бы заем упал в цене — а это было неизбежно, — они могли скупить сколько угодно сертификатов и при первом удобном случае предъявить их городу к оплате по номинальной стоимости. Джордж Стинер, вступивший в это самое время на пост городского казначея и не обладавший достаточными финансовыми способностями для разрешения столь сложной проблемы, переживал немалую тревогу. Генри Молленхауэр, держатель множества старых городских обязательств, который желал теперь получить свои деньги для вложения их в многообещающие предприятия на Западе, нанес визит Стинеру, а также мэру города. Вместе с Симпсоном и Батлером он входил в состав «большой тройки». — Я считаю, что пора уже как-то выпутываться из положения с этими просроченными обязательствами, — заявил он. — У меня их накопилось на огромную сумму, да и у других тоже. Мы долгое время помогали городу, не говоря ни слова, но теперь нужно наконец действовать. Мистер Батлер и мистер Симпсон придерживаются того же мнения. Нельзя ли пустить сертификаты нового займа в котировку на фондовой бирже и таким путем реализовать деньги? Ловкий маклер мог бы взвинтить их до паритета. Стинер был чрезвычайно польщен визитом. Молленхауэр редко утруждал себя появлением на людях и уж если делал это, то с расчетом на соответствующий эффект. Теперь он побывал еще у мэра города и у председателя городского совета, сохраняя в разговоре с ними, как и со Стинером, высокомерный, неприступный и непроницаемый вид. Разве не были они для него просто мальчиками на побегушках? Для того чтобы уяснить себе, чем был вызван интерес Молленхауэра к Стинеру и сколь большое значение имели его визит к нему и последовавшие за этим действия казначея, необходимо бросить взгляд на политическую ситуацию, предшествовавшую описываемым событиям. Хотя Джордж Стинер и был до известной степени приспешником и ставленником Молленхауэра, но тот знал его лишь поверхностно. Правда, он несколько раз видел Стинера и кое-что слышал о нем, но на внесение его имени в кандидатский список согласился лишь в результате уговоров своих приближенных, уверявших, что Стинер — «отличный малый» — никогда не выйдет из повиновения, никому не причинит никаких хлопот и все прочее. Молленхауэр и прежде, при других местных властях, поддерживал связь с городским казначейством, но всегда настолько осторожно, что никто не мог его в этом уличить. Он был слишком видной фигурой и в политическом и в финансовом мире. Тем не менее его нисколько не покоробил план, придуманный если не Батлером, то Симпсоном: при помощи подставных лиц из политического и коммерческого мира потихоньку, без скандала, выкачать все что можно из городской казны. Итак, уже за несколько лет до описываемых нами событий для этой цели была создана особая агентура: председатель городского совета Эдвард Стробик, тогдашний мэр города Эйса Конклин, олдермены Томас Уайкрофт, Джейкоб Хармон и многие другие. Они организовали ряд фирм под самыми разнообразными фиктивными названиями, торговавших всем, что могло понадобиться для городского хозяйства, — досками, камнем, железом, сталью, цементом и прочее и прочее, — разумеется, с огромной выгодой для тех, кто скрывался за этими вымышленными названиями. Это избавляло город от заботы искать честных и добросовестных поставщиков. Поскольку дальнейший рассказ о Каупервуде будет связан по меньшей мере с тремя из этих «фирм», необходимо вкратце описать их деятельность. Возглавлял их Эдвард Стробик, один из наиболее энергичных приспешников Молленхауэра; это был юркий и пронырливый человек лет тридцати пяти, худой, черноволосый, черноглазый, с огромными черными усами. Одевался он щеголевато и вычурно — полосатые брюки, белый жилет, черная визитка и шелковый цилиндр. Ботинки необыкновенно вычурного фасона всегда были начищены до блеска. Своей безукоризненной внешностью он заслужил прозвище «пшюта». Вместе с тем это был довольно способный человек, и многие любили его. Двое из коллег, мистеры Томас Уайкрофт и Хармон, не отличались столь приятной и блистательной внешностью. Хармон, в обществе на всех наводивший скуку, очень неплохо разбирался в финансовых вопросах. Долговязый и рыжеватый, с карими глазами, он, несмотря на свою меланхолическую наружность, был весьма неглуп и всегда готов пуститься на любую аферу не слишком крупного масштаба и достаточно безопасную с точки зрения уголовного кодекса. Он не был особенно хитер, но во что бы то ни стало хотел выдвинуться. Томас Уайкрофт, последний член этого полезного, но полупочтенного триумвирата, высокий, сухопарый человек с изможденным, землистым лицом и глубоко сидящими глазами, несмотря на свою жалкую внешность, обладал недюжинным умом. По профессии литейщик, он попал в политические деятели случайно, как и Стинер, потому что сумел оказаться полезным. Ему удалось сколотить небольшое состояние благодаря участию в возглавляемом Стробиком триумвирате, занимавшемся многоразличными и довольно своеобразными делами, о которых будет рассказано ниже. Фирмы, организованные подручными Молленхауэра еще при старом составе муниципалитета, торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем — всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. Подряд, сданный городом, не подлежит аннулированию, но чтобы получить его, необходимо сперва «подмазать» кое-кого из членов городского самоуправления, а для этого нужны деньги. Фирма вовсе не обязана сама заниматься убоем скота или отливкой фонарных столбов. Она должна только организовать это дело, получить торговый патент, добиться от городского самоуправления подряда на поставку (о чем уж, конечно, позаботятся Стробик, Хармон и Уайкрофт), а потом передоверить подряд владельцам бойни или литейного завода, которые будут поставлять требуемое, выделив посреднической фирме соответствующую долю прибыли; доля эта, в свою очередь, будет разделена и частично передана Молленхауэру и Симпсону под видом доброхотного даяния на нужды возглавляемого ими политического клуба или объединения. Все это делалось очень просто и до известных пределов вполне законно. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. Стинер или кто-либо другой, ведавший в данный момент городской кассой и за невысокие проценты дававший взаймы деньги, нужные владельцу бойни или литейного завода в обеспечение поставки или для выполнения подряда, получал не только свои один или два процента, которые клал в карман (ведь так поступали и его предшественники), но еще и изрядную долю прибылей. В качестве главного помощника Стинеру рекомендовали смирного и умевшего держать язык за зубами человека «из своих». Казначея нисколько не касалось, что Стробик, Хармон и Уайкрофт, действуя в интересах Молленхауэра, время от времени употребляли часть заимствованных у города средств совсем не на то, для чего они были взяты. Его дело было ссужать их деньгами. Но посмотрим, что же дальше. Еще до того, как Стинер был намечен кандидатом в городские казначеи, Стробик — кстати сказать, один из его поручителей при соискании этой должности (что уже само по себе было противозаконно, так как, согласно конституции штата Пенсильвания, ни одно официальное должностное лицо не может быть поручителем за другое) — намекнул ему, что люди, содействующие его избранию, отнюдь не станут требовать от него чего-либо незаконного, но он должен быть покладист, не возражать против раздутых городских бюджетов, короче говоря, не кусать кормящую его руку. С не меньшей ясностью ему дали понять, что едва только он вступит в должность, кое-что начнет перепадать и ему. Как уже говорилось, Стинер всю свою жизнь бедствовал. Он видел, что люди, занимавшиеся политиканством, преуспевали материально, тогда как он, будучи агентом по страховым делам и продаже недвижимых имуществ, едва сводил концы с концами. На его долю мелкого политического прихвостня выпадало много тяжелой работы. Другие политические деятели обзаводились прекрасными особняками в новых районах города. Устраивали увеселительные поездки в Нью-Йорк, Гаррисберг или Вашингтон. В летний сезон они развлекались в загородных отелях с женами или любовницами, а ему все еще был закрыт доступ в круг баловней судьбы. Вполне естественно, что все эти посулы увлекли его и он был рад стараться. Наконец-то и он достигнет благосостояния. Когда у него побывал Молленхауэр и высказался о необходимости взвинтить курс сертификатов городского займа до паритета — хотя этот разговор и не имел прямого касательства к отношениям, которые Молленхауэр поддерживал с казначеем через Стробика и других, — Стинер, услышав повелительный голос хозяина, поспешил расписаться в своем политическом раболепстве и ринулся к Стробику за более подробной информацией. — Как бы вы поступили на моем месте? — спросил он Стробика, который уже знал о том, что Молленхауэр посетил казначея, но ждал, чтобы тот сам об этом заговорил. — Мистер Молленхауэр высказал пожелание, чтобы заем котировался на бирже и был доведен до паритета, то есть шел бы по сто долларов за сертификат! Ни Стробик, ни Хармон, ни Уайкрофт не знали, как добиться того, чтобы сертификаты городского займа, расценивавшиеся на открытом рынке в девяносто долларов, на бирже продавались по сто, но секретарь Молленхауэра, некий Эбнер Сэнгстек, надоумил Стробика обратиться к молодому Каупервуду: как-никак, с ним ведет дела Батлер, а Молленхауэр, видимо, не настаивает на привлечении к этому делу своего личного маклера, так отчего же не испробовать Каупервуда. Вот как случилось, что Фрэнк получил приглашение зайти к Стинеру. Очутившись у него в кабинете и еще не зная, что за его спиной скрываются Молленхауэр и Симпсон, он с первого взгляда на этого скуластого человека, так странно волочившего ногу, понял, что в финансовых делах казначей сущий младенец. О, если бы стать при нем советником, его единственным консультантом на все четыре года! — Здравствуйте, мистер Стинер, — мягко и вкрадчиво сказал Каупервуд, когда тот протянул ему руку. — Очень рад с вами познакомиться. Я, разумеется, много слышал о вас. Стинер стал долго и нудно излагать Каупервуду, в чем состоит затруднение. Приступив издалека, то и дело запинаясь, он объяснял, как страшат его предстоящие трудности. — Главная задача, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы добиться котировки этих сертификатов альпари. Я могу выпускать их любыми партиями и так часто, как вам будет желательно. В настоящее время я хочу выручить сумму, достаточную для погашения краткосрочных обязательств на двести тысяч долларов, а позднее — сколько удастся. Каупервуд почувствовал себя в роли врача, выслушивающего пациента, который вовсе не болен, но страстно хочет, чтобы его успокоили, и сулит за это большой гонорар. Замысловатые хитрости фондовой биржи были для него ясны, как день. Он знал, что если реализация займа безраздельно попадет в его руки, если ему удастся сохранить в тайне, что он действует в интересах города, и если, наконец, Стинер позволит ему орудовать на бирже в роли «быка», то есть скупать сертификаты для амортизационного фонда и в то же время умело продавать их при повышении курса, то он добьется блистательнейших результатов даже при самом крупном выпуске. Но он должен распоряжаться единолично и иметь собственных агентов. В голове его уже маячил план, как принудить неосмотрительных биржевиков играть на понижение: надо только заставить их поверить, что сертификатов этого займа в обращении сколько угодно и при желании они успеют скупить их. Потом они спохватятся и увидят, что достать их нельзя, что все сертификаты в руках у него, Каупервуда! Но он не сразу откроет свой секрет. О нет, ни в коем случае! Он начнет взвинчивать стоимость сертификатов до паритета, а потом пустит их в продажу. Уж тогда и он немало загребет на этом деле! Каупервуд был слишком сметлив, чтобы не догадаться, что за всем этим скрываются те же политические заправилы города и что за спиною Стинера стоят люди куда более умные и значительные. Но что с того? Как осторожно и хитро поступили они, обратившись к нему через Стинера! Возможно, что его, Каупервуда, имя начинает приобретать вес в местных политических кругах. А это немало сулит ему в будущем. — Так вот, мистер Стинер, — произнес он, выслушав объяснения казначея и осведомившись, какую часть городского займа тот хотел бы реализовать в течение ближайшего года. — Я охотно возьмусь за это дело. Но мне нужен день или два, чтобы хорошенько все обмозговать. — Разумеется, разумеется, мистер Каупервуд, — с готовностью согласился Стинер. — Спешить некуда. Но известите меня, как только вы придете к тому или иному решению. Кстати, какую вы взимаете комиссию? — Видите ли, мистер Стинер, на фондовой бирже существует определенная ставка, которой мы, маклеры, обязаны придерживаться. Это — четверть процента номинальной стоимости облигаций или обязательств. Правда, я могу оказаться вынужденным провести ряд фиктивных сделок, — как, каких именно я объясню вам позднее, — но с вас я за это ничего не возьму, если дело останется между нами. Я сделаю для вас все, что будет в моих силах, мистер Стинер, можете не сомневаться. Но дайте мне подумать день-другой. Они пожали друг другу руки и расстались: Каупервуд — довольный тем, что ему предстояла крупная финансовая операция, Стинер — тем, что нашел человека, на которого можно положиться.Глава 15
План, выработанный Каупервудом после нескольких дней размышления, будет вполне понятен каждому, кто сколько-нибудь смыслит в коммерческих и финансовых комбинациях, но останется туманным для непосвященного. Прежде всего казначей должен был депонировать городские средства в конторе Каупервуда. Далее, фактически передать в распоряжение последнего или же занести в его кредит по своим книгам, с правом получения в любое время, определенные партии сертификатов городского займа, для начала — на двести тысяч долларов, так как именно такую сумму желательно было быстро реализовать, после чего Каупервуд обязывался пустить эти сертификаты в обращение и принять меры к тому, чтобы довести их до паритета. Тогда городской казначей немедленно обратится в комитет фондовой биржи с ходатайством о включении их в список котируемых ценностей, Каупервуд же употребит все свое влияние, чтобы ускорить рассмотрение этого ходатайства. После того как воспоследует соответствующее разрешение, Стинер реализует через него, и только через него, все сертификаты городского займа. Далее Стинер позволит ему покупать для амортизационного фонда столько сертификатов, сколько Каупервуд сочтет необходимым скупить, дабы повысить их цену до паритета. Чтобы добиться этого, — после того как значительное количество сертификатов займа уже будет пущено в обращение, — может оказаться необходимым вновь скупить их значительными партиями и затем спустя некоторое время опять пустить в продажу. Законом, предписывающим продажу сертификатов только по номиналу, придется в известной мере пренебречь, а это значит, что фиктивные и предварительные сделки не будут приниматься в расчет, пока сертификаты не достигнут паритета. Каупервуд дал понять Стинеру, что такой план имеет немало преимуществ. Ввиду того, что сертификаты в конечном итоге так или иначе поднимутся до паритета, ничто не мешает Стинеру, как и всякому другому, закупить их по дешевке в самом начале реализации займа и придержать, пока они не начнут повышаться в цене. Каупервуд с удовольствием откроет Стинеру кредит на любую сумму с тем, чтобы тот рассчитывался с ним в конце каждого месяца. При этом никто не потребует от него, чтобы он действительно покупал сертификаты. Каупервуд будет вести его счет на определенную, умеренную маржу, скажем, до десяти пунктов, таким образом, Стинер может считать, что деньги уже у него в кармане. И это не говоря уже о том, что сертификаты для амортизационного фонда можно будет закупить очень дешево, ибо Каупервуд, имея в своем распоряжении основной и резервный выпуски займа, будет выбрасывать их на рынок в нужном ему количестве как раз в такие моменты, когда решит покупать, и тем самым окажет давление на биржу. А позднее цены уж наверняка начнут подниматься. Если держать нераздельно в своих руках выпуск займа, что дает возможность произвольно вызывать на бирже повышение и понижение, то можно не сомневаться, что в конечном итоге город реализует весь свой заем альпари, причем благодаря таким искусственным колебаниям, очевидно, удастся еще и неплохо подработать. Каупервуд в смысле выгоды главные свои надежды возлагал именно на это обстоятельство. За все действительно проведенные им сделки по продажесертификатов займа альпари город вознаградит его обычным куртажем (это необходимо во избежание недоразумений с биржевым комитетом). Что же касается всего прочего, например, фиктивных сделок, к которым не раз придется прибегать, то он надеется сам вознаградить себя за труд, рассчитывая на свое знание биржевой игры. Если Стинеру угодно войти с ним в долю в его биржевых махинациях — он будет очень рад. Подобная комбинация, туманная для человека непосвященного, совершенно ясна опытному биржевику. Самые разнообразные уловки искони практиковались на бирже, когда дело касалось ценностей, находящихся под нераздельным контролем одного человека или определенной группы людей. Эта комбинация ничем не отличалась от того, что позднее проделывалось с акциями «Ири», «Стандард Ойл», «медными», «сахарными», «пшеничными» и всякими другими. Каупервуд одним из первых — в бытность свою еще молодым биржевиком — понял, как устраиваются такие дела. Ко времени его первой встречи со Стинером ему было двадцать восемь лет. Когда он в последний раз «сотрудничал» с ним, ему минуло тридцать четыре. Постройка домов для семейств старого и молодого Каупервудов и переделка фасада банкирской конторы «Каупервуд и К°» быстро подвигались вперед. Фасад конторы был выдержан в раннем флорентийском стиле с окнами, суживающимися кверху, с узорчатой кованой дверью между изящными резными колонками и карнизом из бурого известняка. На середине этой невысокой, но изящной и внушительной двери была искусно вычеканена тонкая, нежная рука с вознесенным пылающим факелом. Элсуорт объяснил Каупервуду, что в старину в Венеции такую руку изображали на вывесках меняльных лавок, но теперь первоначальное значение этой эмблемы позабылось. Внутри помещение было отделано полированным деревом, узор которого воспроизводил древесный лишай. Окна сверкали множеством мелких граненых стекол, овальных, продолговатых, квадратных и круглых, расположенных по определенному, приятному для глаза, рисунку. Газовые рожки были сделаны по образцу римских светильников, а конторский сейф, как это ни странно, служил украшением: он стоял в глубине конторы на мраморном постаменте, и по его лакированной серебристо-серой поверхности было золотом выгравировано: «Каупервуд и К°». Все помещение, выдержанное в благородно строгом вкусе, в то же время свидетельствовало о процветании, солидности и надежности. Когда здание было готово, Каупервуд осмотрел его и с довольным видом похвалил Элсуорта: — Мне нравится! Это очень красиво! Работать здесь — одно удовольствие. Если и особняки получатся такие — это будет великолепно! — Подождите еще хвалить, пока они не окончены! Впрочем, думаю, что вы останетесь довольны, мистер Каупервуд. Мне пришлось немало поломать себе голову над вашим домом из-за его небольших размеров. Дом вашего отца дается мне значительно легче. Но ваш… И он пустился в описание вестибюля и гостиных, большой и малой, которые он располагал и отделывал так, чтобы они выглядели более просторными и внушительными, чем позволяли их скромные размеры. Когда строительство было закончено, оказалось, что оба дома и в самом деле весьма эффектны, оригинальны и нисколько не похожи на заурядные особняки по соседству. Их разделяла зеленая лужайка футов в двадцать шириною. Архитектор, позаимствовав кое-что от школы Тюдоров, отказался от той вычурности, которая стала позднее отличать многие особняки Филадельфии и других американских городов. Особенно хороши были двери, расположенные в широких, низких, скупо орнаментированных арках, и три застекленных фонаря необычной формы, один — во втором этаже у Фрэнка, два — внизу, на фасаде отцовского дома. Над фронтонами обоих домов виднелись коньки крыш: два у Фрэнка, четыре у его отца. Каждый фасад имел в первом этаже по окну в глубокой нише, образованной выступами наружной стены. Эти окна были защищены со стороны улицы низеньким парапетом, вернее, балюстрадой. На ней можно было поставить горшки с вьющимися растениями и цветами, что и было сделано впоследствии, так что с улицы окна, утопающие в зелени, выглядели особенно приятно. В глубине ниш Каупервуды расставили стулья. В нижнем этаже обоих домов были устроены зимние сады — один напротив другого, а посреди общего дворика — белый мраморный фонтан восьми футов диаметром, с мраморным купидоном, на которого ниспадали струи воды. Этот дворик, обнесенный высокой, с просветами, оградой из зеленовато-серого кирпича, специально обожженного в тон граниту, из которого был сложен дом, облицованный поверху белым мрамором, был весь засеян зеленой бархатистой травой и производил впечатление мягкого зеленого ковра. Оба дома, как это и было намечено с самого начала, соединялись галереей из зеленых колонок, застеклявшейся на зиму. Теперь Элсуорт уже начал постепенно отделывать и обставлять комнаты в стиле разных эпох, что сыграло большую роль в развитии художественного вкуса Фрэнка Каупервуда и расширило его представление о великом мире искусств. Весьма поучительны и ценны в этом отношении были для него долгие беседы с Элсуортом о стилях и типах архитектуры и мебели, о различных породах дерева, о применении орнаментов, о добротности тканей, о правильном использовании занавесей и портьер, о фанеровке мебели и всевозможных видах паркета. Элсуорт, наряду с архитектурой, изучал также декоративное искусство и много размышлял над вопросом о художественном вкусе американского народа: вкус этот, как он полагал, должен будет очень развиться с течением времени. Молодому архитектору до смерти надоело преобладавшее в ту пору романское сочетание загородной виллы с особняком. Настало время для чего-то нового. Он и сам еще не знал, каково будет это новое, но пока что радовался уже и тому, что спроектированные им для Каупервудов дома были оригинальны, просты и приятны для глаза. Благодаря этим качествам они выгодно выделялись на фоне архитектуры всей остальной улицы. В доме Фрэнка, по замыслу Элсуорта, в нижнем этаже помещались: столовая, зал, зимний сад и буфетная, а также главный вестибюль, внутренняя лестница и гардеробная под нею; во втором — библиотека, большая и малая гостиные, рабочий кабинет Каупервуда и будуар Лилиан, соединявшийся с туалетной и ванной. В третьем этаже, искусно спланированном и оборудованном ванными и гардеробными комнатами, находились детская, помещения для прислуги и несколько комнат для гостей. Элсуорт знакомил Каупервуда с эскизами мебели, портьер, горок, шкафчиков, тумбочек и роялей самых изысканных форм. Они вдвоем обсуждали различные способы обработки дерева — жакоб, маркетри, буль и всевозможные его сорта: розовое, красное, орех, английский дуб, клен, «птичий глаз». Элсуорт объяснял, какого мастерства требует изготовление мебели «буль» и как нецелесообразна она в Филадельфии: бронзовый или черепаховые инкрустации коробятся от жары и сырости, а потом начинают пузыриться и трескаться. Рассказывал он и о сложности и дороговизне некоторых видов отделки и в конце концов предложил золоченую мебель для большой гостиной, гобеленовые панно для малой, французский ренессанс для столовой и библиотеки, а для остальных комнат — «птичий глаз» (кое-где голубого цвета, кое-где естественной окраски), а также легкую мебель из резного ореха. Портьеры, обои и ковры, по его словам, должны были гармонировать с обивкой мебели, но не точно совпадать с нею по тонам. Рояль и нотный шкафчик в малой гостиной, а также горки, шкафчики и тумбы в зале он рекомендовал, если Фрэнка не отпугнет дороговизна, все-таки отделать в стиле «буль» или «маркетри». Элсуорт советовал еще заказать рояль треугольной формы, так как четырехугольный наводит уныние. Каупервуд слушал его, как зачарованный. Ему уже рисовался дом, благородный, уютный, изящный. Картины — если он пожелает обзавестись таковыми — должны быть оправлены в массивные резные золоченые рамы; а если он решит устроить целую картинную галерею, то под нее можно приспособить библиотеку, а книги разместить в большой гостиной на втором этаже, расположенной между библиотекой и малой гостиной. Позднее, когда у Фрэнка развилась подлинная любовь к живописи, он осуществил эту мысль. С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям — картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. В Филадельфии вообще трудно было достать подлинно изящные вещи такого рода, а в магазинах они и вовсе отсутствовали. Правда, многие частные дома изобиловали очаровательными безделушками, привезенными из дальних путешествий, но у Каупервуда пока что было мало связей с «лучшими семьями» города. В те времена славились два американских скульптора: Пауэрс и Хосмер, — у Фрэнка имелись их произведения, — но, по словам Элсуорта, это было далеко не последнее слово в искусстве, и он советовал приобрести копию какой-нибудь античной статуи. В конце концов Каупервуду удалось купить голову Давида работы Торвальдсена, которая приводила его в восторг, и несколько пейзажей Хэнта, Сюлли и Харта, в какой-то мере передававших дух современности. Такой дом, несомненно, налагает отпечаток на своих обитателей. Мы почитаем себя индивидуумами, стоящими вне и даже выше влияния наших жилищ и вещей; но между ними и нами существует едва уловимая связь, в силу которой вещи в такой же степени отражают нас, в какой мы отражаем их. Люди и вещи взаимно сообщают друг другу свое достоинство, свою утонченность и силу: красота или ее противоположность, словно челнок на ткацком станке, снуют от одних к другим. Попробуйте перерезать нить, отделить человека от того, что по праву принадлежит ему, что уже стало для него характерным, и перед вами возникает нелепая фигура то ли счастливца, то ли неудачника — паук без паутины, который уже не станет самим собою до тех пор, покуда ему не будут возвращены его права и привилегии. Глядя, как растет его новый дом, Каупервуд проникался сознанием своей значимости, а отношения, неожиданно завязавшиеся у него с городским казначеем, были как широко распахнутые двери в елисейские поля удачи. Он разъезжал по городу на паре горячих гнедых, чьи лоснящиеся крупы и до блеска начищенная сбруя свидетельствовали о заботливом попечении конюха и кучера. Элсуорт уже строил просторную конюшню в переулке, позади новых домов, для общего пользования обеих семей. Фрэнк обещал жене, как только они обоснуются в своем новом жилище, купить ей «викторию», — так назывался в те времена открытый и низкий четырехколесный экипаж, — ведь им придется много выезжать. Они будут давать вечера, говорил он, так как ему необходимо расширять круг своих знакомств. Вместе с сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом они будут пользоваться для приемов обоими домами. Почему бы Анне не сделать блестящую партию? Надо надеяться, что Джо и Эд тоже сумеют выгодно жениться, так как уже теперь ясно, что в коммерции они многого не достигнут. Во всяком случае, они могут попытаться. — Разве тебе самой все это не по душе? — спросил Фрэнк после разговора о приемах. Лилиан вяло улыбнулась. — Я привыкну, — отвечала она.Глава 16
Вскоре после соглашения между казначеем Стинером и Каупервудом сложная политико-финансовая машина заработала с целью осуществления их замыслов. Двести тысяч долларов в шестипроцентных сертификатах, подлежащих погашению за десять лет, были записаны по книгам городского самоуправления на счет банкирской конторы «Каупервуд и К°». Каупервуд начал предлагать заем небольшими партиями по цене, превышающей девяносто долларов, при этом он всеми способами внушал людям, что такое помещение капитала сулит большие выгоды. Курс сертификатов постепенно повышался, и Фрэнк сбывал их все в большем количестве, пока, наконец, они не поднялись до ста долларов и весь выпуск на сумму в двести тысяч долларов, — две тысячи сертификатов, — не разошелся мелкими партиями. Стинер был доволен. Двести сертификатов, числившиеся за ним и проданные по сто долларов за штуку, принесли ему две тысячи долларов барыша. Это был барыш незаконный, нажитый нечестным путем, но совесть не слишком мучила Стинера. Да вряд ли она и была у него. Стинеру грезилась счастливая будущность. Трудно с полной ясностью объяснить, какая невидимая, но могучая сила сосредоточилась таким образом в руках Каупервуда. Надо не забывать, что ему шел только двадцать девятый год. Вообразите себе человека, от природы одаренного талантом финансиста и манипулирующего огромными суммами под видом акций, сертификатов, облигаций и наличных денег так же свободно, как другой манипулирует шашками или шахматами на доске. А еще лучше представьте себе мастера, овладевшего всеми тайнами шахматной игры, — прославленного шахматиста из тех, что, сидя спиной к доске, играют одновременно с четырнадцатью партнерами, поочередно объявляют ходы, помнят положение всех фигур на всех досках и неизменно выигрывают. Конечно, в то время Каупервуд еще не был так искусен, но все же это сравнение вполне допустимо. Чутье подсказывало ему, как поступать с деньгами, — он умел депонировать их в одном месте наличными и в то же время использовать их для кредита и как базу для оборотных чеков во многих других местах. В результате обдуманного, последовательного проведения подобных операций он уже располагал покупательной способностью, раз в десять, а то и в двенадцать превышавшей первоначальную сумму, поступившую в его распоряжение. Каупервуд инстинктивно усвоил принципы игры на повышение и на понижение. Он не только в точности знал, какими способами изо дня в день, из года в год он будет подчинять своей воле снижение и повышение курса городских сертификатов, — разумеется, если ему удастся сохранить свое влияние на казначея, — но также, как с помощью этого займа заручиться в банках таким кредитом, какой ему раньше и не снился. Одним из первых воспользовался создавшейся ситуацией банк его отца и расширил кредит Фрэнку. Местные политические заправилы и дельцы — Молленхауэр, Батлер, Симпсон и прочие, — убедившись в его успехах, начали спекулировать городским займом. Каупервуд стал известен Молленхауэру и Симпсону, если не лично, то как человек, сумевший весьма успешно провести дело с выпуском городского займа. Говорили, что Стинер поступил очень умно, обратившись к Каупервуду. Правила фондовой биржи требовали, чтобы все сделки подытоживались к концу дня и балансировались к концу следующего; но договоренность с новым казначеем избавляла Каупервуда от соблюдения этого правила, и в его распоряжении всегда было время до первого числа следующего месяца, то есть иногда целых тридцать дней, для того, чтобы отчитаться во всех сделках, связанных с выпуском займа. Более того, это, в сущности, нельзя было даже назвать отчетом, ибо все бумаги оставались у него на руках. Поскольку размер займа был очень значителен, то значительны были и суммы, находившиеся в распоряжении Каупервуда, а так называемые трансферты[26] и балансовые сводки к концу месяца оставались простой формальностью. Фрэнк имел полную возможность пользоваться сертификатами городского займа для спекулятивных целей, депонировать их как собственные в любом банке в обеспечение ссуд и таким образом получать под них наличными до семидесяти процентов их номинальной стоимости, что он и проделывал без зазрения совести. Добытые таким путем деньги, в которых он отчитывался лишь в конце месяца, Каупервуд мог употреблять на другие биржевые операции, кроме того, они давали ему возможность занимать все новые суммы. Ресурсы его расширились теперь безгранично, — пределом им служили только время да его собственные энергия и находчивость. Политические заправилы города не имели даже представления, каким золотым дном стало для Каупервуда это предприятие, ибо не подозревали всей изощренности его ума. Когда Стинер, предварительно переговорив с мэром города Стробиком и другими, сказал Каупервуду, что в течение года переведет на его имя по книгам городского самоуправления все два миллиона займа, Каупервуд не отвечал ни слова — восторг сомкнул его уста. Два миллиона! И он будет распоряжаться ими по своему усмотрению! Его пригласили финансовым консультантом, он дал совет, и этот совет был принят! Прекрасно! Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте. Необходимо оговорить, что маневры Стинера с городскими средствами не имели никакого отношения к позиции, которую местные воротилы занимали в вопросе о контроле над конными железными дорогами; этот вопрос представлял собою новую и волнующую ступень в финансовой жизни города. В нем были заинтересованы многие из ведущих финансистов и политиков, например, Молленхауэр, Батлер и Симпсон, действовавшие здесь поодиночке, каждый на свой страх и риск. На сей раз между ними не существовало сговора, Правда, поглубже вникнув в этот вопрос, они, наверное, решили бы не допускать вмешательства постороннего лица. Но тогда в Филадельфии конно-железнодорожных линий было еще так мало, что никому не приходило на ум создать крупное объединение конных железных дорог, как это было сделано позже. Тем не менее, прознав о соглашении между Стинером и Каупервудом, Стробик явился к Стинеру и изложил ему свой новый замысел. Все они немало наживутся благодаря Каупервуду, и прежде всего сам Стробик и Стинер. Что же в таком случае мешает ему и Стинеру вместе с Каупервудом в качестве их представителя — вернее, тайного представителя Стинера, ибо Стробик не имел смелости открыто участвовать в этом деле, — скупить побольше акций одной из линий конной железной дороги и обеспечить себе контроль над нею? А потом если он, Стробик, сумеет добиться от муниципалитета разрешения на прокладку новых линий, то эти новые линии, как ни верти, окажутся в их руках. Правда, Стробик надеялся впоследствии вытеснить Стинера. Ну, да там видно будет. А пока что нужно ведь кому-нибудь провести подготовительную работу, и почему, собственно, этого не может сделать Стинер? В то же время Стробик понимал, что такая «работа» требует сугубой осмотрительности, ибо его шефы, конечно, всегда начеку и, если они обнаружат, что он впутался в подобное дело ради личной выгоды, они лишат его возможности продолжать политическую деятельность, благодаря которой он только и мог наживаться. Не следует забывать, что любая организация, например, компания, владеющая одной из уже действующих городских линий, имела право ходатайствовать перед муниципалитетом о разрешении удлинить пути. Это шло на пользу благоустройству города, и потому ходатайство подлежало удовлетворению. Вдобавок Стробик не может одновременно являться акционером конной железной дороги и мэром города. Иное дело, когда Каупервуд частным порядком действует в интересах Стинера! Примечательно, что этот план, который Стинер от имени Стробика излагал Каупервуду, в корне видоизменял позицию последнего по отношению к городским властям. Несмотря на то, что с Эдвардом Батлером Каупервуд вел дела лишь частным порядком, как его агент, и несмотря также на то, что он ни разу не виделся ни с Молленхауэром, ни с Симпсоном, он все же догадывался, что, оперируя с городским займом, фактически работает на них. С другой стороны, когда Стинер явился к нему и предложил исподволь скупать акции конных железных дорог, Фрэнк по его поведению сразу понял, что тут дело нечисто и что Стинер и сам считает свою затею противозаконной. — Скажите-ка, Каупервуд, — начал городской казначей в то утро, когда он впервые заговорил об этом деле (они сидели в кабинете Стинера в старом здании ратуши, на углу улиц Шестой и Честнат, и казначей, предвидя огромные барыши, пребывал в благодушнейшем настроении), — нет ли в обращении бумаг какой-нибудь конной железной дороги, которые можно было бы скупить, чтобы впоследствии, при наличии достаточного капитала, прибрать к рукам эту дорогу? Каупервуд знал, что такие бумаги имеются. Его быстрый ум давно уже учуял, какие возможности кроются в них. Омнибусы мало-помалу исчезали. Лучшие маршруты конки были уже захвачены. Тем не менее улиц оставалось еще достаточно, а город разрастался не по дням, а по часам. Прирост населения сулил в будущем большие перспективы. Можно было рискнуть и заплатить любую цену за уже существующие короткие линии, — если имелась возможность выждать и впоследствии удлинить их, проложив пути в более оживленных и богатых районах. В голове Каупервуда уже зародилась теория «бесконечной цепи» или «приемлемой формулы», как это было названо впоследствии, заключавшейся в следующем: скупив то или иное имущество с большой рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на сумму, достаточную не только для того, чтобы удовлетворить продавца, но и для того, чтобы вознаградить себя за труды, не говоря уже о приобретении таким путем избытка средств, которые можно будет вложить в другие подобные же предприятия, затем, базируясь на них, выпустить новые акции, и так далее до бесконечности! Позднее это стало обычным деловым приемом, но в ту пору было новинкой, и Каупервуд хранил свою идею в тайне. Тем не менее он обрадовался, когда Стинер заговорил с ним, ибо финансирование конных железных дорог было его мечтой и он не сомневался, что, однажды прибрав их к рукам, в дальнейшем блестяще поведет это дело. — Да, разумеется, Джордж, — сдержанно отвечал он, — есть две-три линии, на которых, имея деньги, можно со временем неплохо заработать. Я уже заметил, что на бирже кто-нибудь нет-нет да и предложит пакеты их акций. Нам следовало бы скупить эти акции, а там посмотрим: может быть, и еще кто-нибудь из держателей вздумает продать свой пакет. Наиболее интересным предложением мне сейчас кажутся линии Грин-стрит и Коутс-стрит. Будь у меня тысяч триста — четыреста, которые я мог бы постепенно вкладывать в это дело, я бы ими занялся. Для контроля над железной дорогой требуется каких-нибудь тридцать процентов акционерного капитала. Большинство акций распылено среди мелких держателей, которые никогда не бывают на общих собраниях и не принимают участия в голосовании. Тысяч двухсот или трехсот, по-моему, хватило бы на то, чтобы полностью забрать в свои руки контроль над дорогой. Он назвал еще одну линию, которую со временем можно было бы захватить тем же способом. Стинер задумался. — Это очень большие деньги, — нерешительно произнес он. — Ну хорошо, мы еще поговорим в другой раз, — но тут же отправился советоваться со Стробиком. Каупервуд знал, что у Стинера нет двухсот или трехсот тысяч, которые он мог бы вложить в дело. Раздобыть такие деньги он мог только одним путем, а именно: изъять их из городской казны, поступившись процентами. Но едва ли он в одиночку отважится на такое дело. Кто-нибудь стоит за его спиной, — и кто же, как не Молленхауэр, Симпсон или, возможно, даже Батлер; насчет последнего у Каупервуда не было полной уверенности, если, конечно, и здесь втихомолку не орудует «триумвират». Да и что удивительного? Политические заправилы всегда черпали из городской казны, и Каупервуд сейчас думал лишь о том, как он должен вести себя в этом деле. Что, собственно, может угрожать ему, если авантюра Стинера увенчается успехом? А какие основания предполагать, что она провалится? Но даже и в этом случае ведь он, Каупервуд, действует только как агент! Вдобавок он понимал, что, манипулируя этими деньгами в интересах Стинера, он, при благоприятном стечении обстоятельств, сможет и сам для себя добиться контроля над несколькими линиями. Больше всего он интересовался линией, недавно проложенной вблизи от его нового дома, — так называемой линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуду иногда случалось пользоваться ею, когда он поздно задерживался где-нибудь или не хотел ждать экипажа. Она проходила по двум оживленным улицам, застроенным красными кирпичными домами, и со временем, когда город разрастется, несомненно, должна была стать очень доходной. Но сейчас она еще слишком коротка. Вот если бы заполучить эту линию и связать ее с линиями Батлера, Молленхауэра или Симпсона, — как только он закрепит их за ними, — тогда можно будет добиться от законодательного собрания разрешения на дальнейшее строительство. Фрэнку уже мерещился концерн, в который входят Батлер, Молленхауэр, Симпсон и он сам. В таком составе они смогут добиться чего угодно. Но Батлер не филантроп. Для того чтобы разговаривать с ним, надо иметь солидный козырь на руках. Он должен воочию убедиться в заманчивости подобной комбинации. Кроме того, Каупервуд был агентом Батлера по скупке акций конных железных дорог, и, если именно эта линия сулила такие барыши, Батлер, естественно, мог заинтересоваться, почему акции ее не были предложены прежде всего ему. Лучше подождать, решил Фрэнк, пока дорога фактически не станет его, Каупервуда, собственностью. Тогда дело другое: тогда он будет разговаривать с Батлером, как капиталист с капиталистом. В мечтах ему уже рисовалась целая сеть городских железных дорог, которую контролируют немногие дельцы, а еще лучше он один, Каупервуд.Глава 17
С течением времени Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер ближе узнали друг друга. Вечно занятый своими делами, круг которых все расширялся, он не мог уделять ей столько внимания, сколько ему хотелось, но в истекшем году часто ее видел. Эйлин минуло уже девятнадцать лет, она повзрослела, и взгляды ее сделались более самостоятельными. Так, например, она стала различать хороший и дурной вкус в устройстве и убранстве дома. — Папа, неужели мы всегда будем жить в этом хлеву? — однажды вечером обратилась она к отцу, когда за обеденным столом собралась вся семья. — А чем плох этот дом, любопытно узнать? — отозвался Батлер, который сидел, вплотную придвинувшись к столу и заткнув салфетку за ворот, что он всегда делал, когда за обедом не было посторонних. — Не вижу в нем ничего дурного. Нам с матерью здесь совсем неплохо живется. — Ах, папа, это отвратительный дом, ты сам знаешь! — вмешалась Нора; ей исполнилось семнадцать лет, и она была такой же бойкой, как ее сестра, но только еще меньше знала жизнь. — Все говорят это в один голос. Ты только посмотри, сколько чудесных домов вокруг. — Все говорят! Все говорят! А кто эти «все», хотел бы я знать? — иронически, хотя и не без раздражения осведомился Батлер. — Мне, например, он нравится. Насильно здесь никого жить не заставляют. Кто они такие, эти «все», скажите на милость? И чем это так плох мой дом? Вопрос о доме поднимался не впервые, и обсуждение его всякий раз либо сводилось к тому же самому, если только Батлер не отмалчивался, ограничиваясь своей иронической ирландской усмешкой. В этот вечер, однако, такой маневр ему не удался. — Ты и сам прекрасно знаешь, папа, что дом никуда не годится, — решительно заявила Эйлин. — Так чего же ты сердишься? Дом старый, некрасивый, грязный! Мебель вся разваливается. А этот рояль — просто старая рухлядь, которую давно пора выбросить. Я больше на нем играть не стану. У Каупервудов, например… — Дом старый? Вот как! — воскликнул Батлер, и его ирландский акцент стал еще резче под влиянием гнева, который он сам разжигал в себе. — Грязный, вот как! И какая это мебель у нас разваливается? Покажи, сделай милость, где она разваливается? Он уже собирался придраться к ее попытке сравнить их с Каупервудами, но не успел, так как вмешалась миссис Батлер. Это была полная, широколицая ирландка, почти всегда улыбающаяся, с серыми глазами, теперь уже изрядно выцветшими, и рыжеватыми волосами, потускневшими от седины. На левой ее щеке, возле нижней губы, красовалась большая бородавка. — Дети, дети, — воскликнула она (мистер Батлер, несмотря на все свои успехи в коммерции и политике, был для нее все тот же ребенок). — Чтой-то вы ссоритесь! Хватит уж. Передайте отцу помидору. За обедом прислуживала горничная-ирландка, но блюда тем не менее передавались от одного к другому. Над столом низко висела аляповато разукрашенная люстра с шестнадцатью газовыми рожками в виде белых фарфоровых свечей — еще одно оскорбление для эстетического чувства Эйлин. — Мама, сколько раз я просила тебя не говорить «чтой-то»! — умоляющим голосом произнесла Нора, которую очень огорчали ошибки в речи матери. — Помнишь, ты обещала последить за собой? — А кто тебе позволил учить мать, как ей разговаривать! — вскипел Батлер от этой неожиданной дерзости. — Изволь зарубить себе на носу, что твоя мать говорила так, когда тебя еще и на свете не было. И ежели б она не работала всю жизнь, как каторжная, у тебя не было бы изящных манер, которыми ты сейчас перед ней выхваляешься! Заруби это себе на носу, слышишь! Она в тысячу раз лучше всех твоих приятельниц, нахалка ты эдакая! — Мама, слышишь, как он меня называет? — захныкала Нора, прячась за плечо матери и притворяясь испуганной и оскорбленной. — Эдди! Эдди! — укоризненно обратилась миссис Батлер к мужу. — Нора, детка моя, ты ведь знаешь, что он этого не думает. Правда? Она ласково погладила голову своей «малышки». Выпад против ее малограмотного словечка нисколько ее не обидел. Батлер уже и сам сожалел, что назвал свою младшую дочь нахалкой. Но эти дети — господи боже мой! — право же, они могут вывести из терпения. Ну чем, скажите на милость, нехорош для них этот дом? — Не стоит, право же, поднимать такой шум за столом, — заметил Кэлем, довольно красивый юноша, с черными, тщательно приглаженными, расчесанными на косой пробор волосами и короткими жесткими усиками. Нос у него был чуть вздернутый, уши немного оттопыривались, но в общем он был привлекателен и очень неглуп. И он и Оуэн — оба видели, что дом вправду плох и скверно обставлен, но отцу и матери все здесь нравилось, а потому благоразумие и забота о мире в семье предписывали им хранить молчание. — А меня возмущает, что нам приходится жить в такой старой лачуге, когда люди куда беднее нас живут в прекрасных домах. Даже какие-то Каупервуды… — Ну заладила — Каупервуды да Каупервуды! Чего ты привязалась к этим Каупервудам! — крикнул Батлер, повернув к сидевшей подле него Эйлин свое широкое побагровевшее лицо. — Но ведь даже их дом намного лучше нашего, хотя Каупервуд всего только твой агент! — Каупервуды! Каупервуды! Не желаю я о них слышать! Я не собираюсь идти на выучку к Каупервудам! Пускай у них невесть какой прекрасный дом! Мне-то что за дело? Мой дом — это мой дом! Я желаю жить здесь! Я слишком долго жил в этом доме, чтобы вдруг, здорово живешь, съезжать отсюда! Если тебе здесь не нравится, ты прекрасно знаешь, что я тебя задерживать не стану! Переезжай куда тебе угодно! А я отсюда не тронусь! Когда в семье происходили такие перепалки, разгоравшиеся по самому пустячному поводу, Батлер имел обыкновение угрожающе размахивать руками под самым носом у жены и детей. — Ну уж будь уверен, я скоро уберусь отсюда! — отвечала Эйлин. — Слава тебе господи, мне не придется здесь век вековать! В ее воображении промелькнули прекрасная гостиная, библиотека и будуары в домах у Каупервудов — отделка которых, по словам Анны, уже приближалась к концу. А какой у Каупервудов очаровательный треугольный рояль, отделанный золотом и покрытый розовым и голубым лаком! Почему бы им не иметь таких же прекрасных вещей? Они, наверно, раз в десять богаче. Но ее отец, которого она любила всем сердцем, был человек старого закала. Правильно говорят о нем люди — неотесанный ирландец-подрядчик. Никакого проку от его богатства! Вот это-то и бесило Эйлин: почему бы ему не быть богатым и в то же время современным и утонченным? Тогда они могли бы… Ах, да что пользы расстраиваться! Пока она зависит от отца и матери, ее жизнь будет идти по-старому. Остается только ждать. Выходом из положения было бы замужество — хорошая партия. Но за кого же ей выйти замуж? — Ну, я думаю, на сегодня хватит препирательств! — примирительно заметила миссис Батлер, невозмутимая и терпеливая, как сама судьба. Она отлично знала, что так расстраивает Эйлин. — Но почему бы нам не обзавестись хорошим домом? — настаивала та. — Или хотя бы переделать этот, — шепнула Нора матери. — Тес! Помолчи! Всему свое время, — ответила миссис Батлер Норе. — Вот посмотришь, когда-нибудь мы так и сделаем. А теперь беги да садись за уроки. Хватит болтать! Нора встала и вышла из комнаты. Эйлин затихла. Ее отец попросту упрямый, несносный человек. Но все-таки он славный! Она надула губки, чтобы заставить его пожалеть о своих словах. — Ну, полно, — сказал Батлер, когда все вышли из-за стола; он понимал, что дочь сердита на него и что нужно ее чем-нибудь задобрить. — Сыграй-ка мне на рояле, да только что-нибудь хорошенькое! Он предпочитал шумные, бравурные пьесы, в которых проявлялись талант и техника дочери, приводившие его в изумление. Вот, значит, что дало ей воспитание: как быстро и искусно играет она эти трудные вещи! — Можешь купить себе новый рояль, если хочешь. Сходи в магазин и выбери. По мне и этот хорош, но раз тебе он не нравится, делай как знаешь. Эйлин слегка сжала его руку. К чему спорить с отцом? Что даст новый рояль, если изменения требует весь дом, вся семейная атмосфера? Все же она стала играть Шумана, Шуберта, Оффенбаха, Шопена, а старик расхаживал по комнате и задумчиво улыбался. Некоторые вещи Эйлин исполняла с подлинной страстностью и проникновением, ибо, несмотря на свою физическую силу, избыток энергии и задор, она умела тонко чувствовать. Но отец ничего этого не замечал. Он смотрел на нее, на свою блестящую, здоровую, обворожительно красивую дочь, и думал о том, как сложится ее жизнь. Какой-нибудь богатый человек женится на ней, — благовоспитанный, очень богатый молодой человек, с задатками дельца, — а он, отец, оставит ей кучу денег.По случаю новоселья у Каупервудов устроили большой прием: сначала гости должны были собраться у Фрэнка, а позднее, для танцев, перейти в дом старого Каупервуда, более роскошный и обширный. В нижнем этаже его помещались большая и малая гостиные, комната, где стоял рояль, и зимний сад. Элсуорт так спланировал эти помещения, что их можно было превратить в один зал, достаточно просторный для концертов, танцев или променадов в перерывах между танцами, — одним словом, для любой цели, в какой может возникнуть надобность при большом стечении гостей. Молодой и старый Каупервуды с самого начала строительства предполагали совместно пользоваться обоими домами. Обе семьи обслуживали те же прачки, горничные и садовник. Фрэнк пригласил к своим детям гувернантку. Однако не все было поставлено на широкую ногу: дворецкий, например, совмещал свои обязанности с обязанностями камердинера Генри Каупервуда, он нарезал мясо во время обеда, руководил другими слугами и работал по мере надобности то в одном, то в другом доме. Общая конюшня находилась под присмотром конюха и кучера, а когда требовались два экипажа одновременно, оба они садились на козлы. В общем, это была удобная и экономная система хозяйства. Приготовления к приему рассматривались Каупервудом как вопрос чрезвычайной важности, ибо из деловых соображений необходимо было пригласить избранное общество. Поэтому после долгих размышлений на прием в доме Фрэнка — с последующим переходом в дом старого Каупервуда — решено было пригласить всех заранее занесенных в список, где значились мистер и миссис Тай, Стидеры, Батлеры, Молленхауэры и представители более избранных кругов, как, например: Артур Райверс, миссис Сенека Дэвис, Тренор Дрейк с женой, молодые Дрексели и Кларки, с которыми был знаком Фрэнк. Каупервуды не очень надеялись, что эти светские люди соблаговолят пожаловать, но приглашения им все же следовало послать. Позднее вечером предполагался съезд еще более почтенной публики; этот второй список предусматривал знакомых Анны, миссис Каупервуд, Эдварда и Джозефа и всех, кого наметил Фрэнк. Второй список считался «главным». Сливки общества, цвет молодежи, все, на кого только можно было воздействовать просьбой, нажимом или уговором, должны были откликнуться на приглашение. Нельзя было не пригласить Батлеров, родителей и детей, и на дневной и на вечерний приемы, поскольку Фрэнк явно симпатизировал им, хотя присутствие стариков Батлеров и было очень нежелательно. Даже Эйлин, как правильно думал Фрэнк, казалась Анне и Лилиан не совсем подходящей для собиравшегося у них общества: обсуждая список, они много говорили о ней. — Она какая-то шалая, — заметила Анна невестке, дойдя до имени Эйлин. — Бог знает что о себе воображает, а между тем не умеет даже как следует держаться. А ее отец! Да-а!.. С таким папашей я бы была тише воды, ниже травы! Миссис Каупервуд, сидевшая за письменным столиком в своем новом будуаре, слегка приподняла брови и сказала: — Поверь, Анна, я иногда очень сожалею, что дела Фрэнка вынуждают меня общаться с такими людьми. Миссис Батлер… боже, какая это скука! Сердце у нее доброе, но до чего же она невежественна! А Эйлин просто неотесанная девчонка. И развязна до невозможности. Она приходит к нам и тотчас садится за рояль, особенно когда дома Фрэнк. Мне в конце концов безразлично, как она себя ведет, но Фрэнка это, по-моему, раздражает. И пьесы она выбирает какие-то бравурные. Никогда не исполнит ничего изящного и серьезного. — Мне очень не по душе ее манера одеваться, — в тон ей отозвалась Анна. — И охота же нацеплять на себя такие экстравагантные вещи! На днях я встретила ее, когда она каталась и сама правила. Ах, я жалею, что ты не видела этой картины! Вообрази только: пунцовый жакет «зуав» с широкой черной каймой и шляпа с огромным пунцовым пером и пунцовыми лентами почти до талии. Подходящий наряд для катания! И какой самоуверенный вид. А руки! Посмотрела бы ты, как она держала руки, — вот так, слегка согнув в кистях!.. — Анна показала, как Эйлин это делала. — Длинные желтые перчатки, в одной руке вожжи, а в другой кнут. Между прочим, когда она сама правит лошадью, то мчится сломя голову, а слуга Уильям только подскакивает на запятках! Нет, я жалею, что ты не видела ее! Бог ты мой, как много она о себе воображает! — Анна хихикнула презрительно и насмешливо. — И все же нам придется пригласить ее; я не вижу, как этого избежать. Но я заранее представляю себе ее поведение: будет расхаживать по комнатам, задирая нос и позируя! — Право, не понимаю, как можно так держать себя, — подхватила Анна. — Вот Нора мне нравится! Она куда симпатичнее. И ничего особенного о себе не воображает. — Мне тоже нравится Нора, — подтвердила миссис Каупервуд. — Она очень мила, и, на мой взгляд, ее спокойная красота куда более привлекательна. — О, разумеется! Я вполне согласна с тобой! Интересно, однако, что именно Эйлин приковывала к себе все их внимание и возбуждала любопытство своими экстравагантностями. В какой-то мере они судили о ней справедливо, что, впрочем, не мешало Эйлин быть действительно красивой, а умом и силой характера значительно превосходить окружающих. Эйлин, безмерно честолюбивая, обращала на себя внимание, — а многих и раздражала, — тем, что бравировала недостатками, которые внутренне старалась побороть в себе. Девушку эту возмущало, что люди считают ее родителей — и не без основания — недостойными избранного общества и что это распространяется и на нее; Нет, она ни в чем никому не уступает! Вот, например, Каупервуд, такой способный, быстро выдвигающийся в обществе человек, понимает это. С течением времени Эйлин сблизилась с ним. Он всегда мило обходился с нею и охотно разговаривал. Когда бы он ни появлялся у них или ни встречал ее у себя в доме, он находил случай обменяться с ней несколькими словами. Обычно он близко подходил к ней и смотрел на нее весело и дружелюбно. — Ну, как поживаете, Эйлин? — спрашивал он, и она ловила устремленный на нее ласковый взгляд. — Как отец, как мама? Катались верхом? Это хорошо. Я вас сегодня видел. Вы были обворожительны. — О, что вы, мистер Каупервуд! — Право, вы были чудо как хороши! Вам очень идет амазонка. А ваши золотистые волосы я узнаю издалека. — Нет, вы не должны говорить мне этого! Вы сделаете меня тщеславной, а родители и без того корят меня тщеславием. — Не слушайте их! Я вам говорю, что вы были очаровательны, и это правда. Впрочем, вы всегда очаровательны. — О! Счастливый вздох вырвался у нее из груди. Краска залила ей щеки. Мистер Каупервуд знает, что говорит. Он все знает, и он такой сильный человек! Многие восхищаются им, в том числе ее отец, мать и, как она слыхала, даже мистер Молленхауэр и мистер Симпсон. А какой у него красивый дом, какая прекрасная контора! Но главное: его спокойная целеустремленность уравновешивала мятущуюся в ней силу. Итак, Эйлин с сестрой получили приглашение, а папаше и мамаше Батлер в самой деликатной форме дали понять, что бал по окончании приема устраивается преимущественно для молодежи. К Каупервудам съехалось множество народу. Гостей то и дело представляли друг другу. Хозяева с должной скромностью объясняли, как удалось Элсуорту разрешить стоявшие перед ним трудные задачи. Общество прогуливалось по крытой галерее и рассматривало оба дома. Многие из приглашенных были давно знакомы между собой. Они мило беседовали в библиотеках и столовых. Кто-то острил, кто-то похлопывал по плечу приятеля, в другой группе рассказывали забавные анекдоты, а когда день сменился вечером, гости разъехались по домам. Эйлин в костюме из синего шелка с бархатной пелеринкой такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид. Ее рыжевато-золотистые волосы были уложены под шляпой в огромный шиньон, а один локон ниспадал на плечо. Эйлин от природы вовсе не была такой вызывающе смелой, какой она казалась, но ей нравилось, чтобы люди именно так думали о ней. — Вы сегодня изумительны, — сказал Каупервуд, когда она проходила мимо. — Вечером я буду еще лучше! — последовал ответ. Легкой, горделивой походкой она прошла в столовую и скрылась за дверью. Нора с матерью задержались, разговаривая с миссис Каупервуд. — Ах, до чего же у вас красиво! — восхищалась миссис Батлер. — Уж и счастливы вы будете здесь, помяните мое слово! Когда мой Эдди купил дом, где мы сейчас живем, я так и выложила ему напрямик: «Знаешь,Эдди, этот дом уж больно хорош для нас, ей-богу!» А как вы думаете, что он мне ответил? «Нора, — говорит, — ни на этом, ни на том свете нет ничего слишком хорошего для тебя!» Сказал — и чмок меня в губы! Вы только подумайте, такой верзила, а ведет себя, как малый ребенок! — По-моему, это премило, миссис Батлер, — отозвалась миссис Каупервуд, нервно оглядываясь, как бы их кто-нибудь не услышал. — Мама очень любит рассказывать такие истории, — вмешалась Нора. — Пойдем, мама, посмотрим столовую! — Ну, дай вам бог счастья в новом доме. Я вот всю жизнь была счастлива в своем. И вам того же желаю, ото всей души! И миссис Батлер, добродушно улыбаясь, вперевалочку вышла из комнаты. Между семью и восемью часами вечера Каупервуды наспех пообедали в семейном кругу. В девять снова начали съезжаться гости, но теперь это была яркая и пестрая толпа: девушки в сиреневых, кремовых, розовых и серебристо-серых платьях торопливо сбрасывали кружевные шали и просторные доломаны на руки кавалеров, одетых в строгие черные костюмы. На холодной улице то и дело хлопали дверцы подъезжавших экипажей. Миссис Каупервуд с мужем и Анна встречали гостей у двери зала, а старые Каупервуды с сыновьями Джозефом и Эдвардом приветствовали их на другом его конце. Лилиан выглядела очаровательной в платье цвета «увядающей розы» со шлейфом и глубоким четырехугольным вырезом на шее, из-под которого выглядывала прелестная кружевная блузка. Ее лицо и фигура все еще были красивы, но она уже утратила ту свежесть и нежность, которые несколько лет назад пленили Фрэнка. Анна Каупервуд не была хороша собой, хотя ее нельзя было назвать и некрасивой — маленькая, смуглая, со вздернутым носиком и живыми черными глазами. Лицо ее выражало независимость, настойчивость, ум и — увы — несколько заносчивое отношение к людям. Одета она была с большим вкусом. Черное платье, усыпанное сверкающими блесткам», очень шло к ней, несмотря на ее смуглую кожу, так же как и красная роза в волосах. У Анны были нежные, приятно округлые руки и плечи. Лукавые глаза, бойкие манеры, остроумие и находчивость в разговоре придавали ей известную обаятельность, хотя, как она сама говаривала, все это было ни к чему: «Мужчинам нравятся куклы!» Вместе со всей этой толпой молодежи явились и сестры Батлер — Эйлин и Нора. Эйлин сбросила на руки своему брату Оуэну тонкую шаль из черных кружев и черный шелковый доломан. Нору сопровождал Кэлем — стройный, подтянутый, улыбающийся молодой ирландец, весь вид которого говорил о том, что он способен сделать отличную карьеру. На Норе было еще сравнительно короткое, едва закрывавшее щиколотки воздушное платье из белого шелка с бледно-сиреневым узором и крохотными, сиреневыми же, бантиками на кружевных воланах кринолина. Широкая лиловая лента стягивала ее талию, волосы были схвачены таким же бантом. Возбужденная, с сияющими глазами, Нора выглядела прелестно. Но за ней шла ее сестра в головокружительном туалете из черного атласа, покрытого чешуей серебристо-красных блесток. Ее округлые, прекрасные руки и плечи были обнажены, корсаж на груди и на спине вырезан так низко, как только позволяло приличие. Статная фигура Эйлин с высокой грудью и несколько широкими бедрами в то же время отличалась мягкой гармоничностью. Низкий треугольный вырез корсажа и черный с серебряными прожилками тюль, украшавший платье, делали ее еще более эффектной. Бело-розовая, полная и словно точеная шея девушки оттенялась ожерельем из граненого темного янтаря. Прелесть ее здорового и нежного румянца подчеркивалась крохотной черной мушкой, прилепленной на щеке. Рыжевато-золотистые волосы были искусно взбиты надо лбом, сзади весь этот каскад золота, заплетенный в две толстые косы, был уложен в черную, спускавшуюся на шею сетку, слегка подведенные брови оттеняли необычный цвет ее волос. Среди гостей Эйлин выглядела несколько слишком вызывающей, но объяснялось это не столько ее туалетом, сколько жизненной силой, бившей в ней через край. Умение показать себя в выгодном свете для Эйлин значило бы — притушить свою яркость, физическую и душевную. Но жизнь всегда толкала ее к прямо противоположным действиям. — Лилиан! Анна тихонько дотронулась до руки невестки. Ее очень огорчало, что Эйлин тоже в черном и куда интереснее их обеих. — Я вижу, — вполголоса отозвалась та. — Вот вы и вернулись! — обратилась она к Эйлин. — На улице, верно, холодно? — Право, я не заметила. Как у вас здесь прелестно! Она обвела глазами комнату, залитую мягким светом, и толпу гостей. Нора тотчас же принялась болтать с Анной. — Вы знаете, я уж думала, что так и не сумею натянуть на себя это платье! Противная Эйлин ни за что не хотела мне помочь! Эйлин быстро прошла туда, где вместе с матерью стоял Фрэнк. Она спустила с руки атласную ленту, державшую шлейф, и расправила его нетерпеливым движением. Несмотря на всю ее прирожденную заносчивость, в глазах у нее появилось молящее и преданное выражение, как у шотландской овчарки, ровные зубы ослепительно блеснули. Каупервуд прекрасно понял ее, — как понимал всякое породистое животное. — У меня нет слов сказать вам, как вы прелестны! — шепнул он ей так, словно между ними существовали какие-то давние, им одним известные отношения. — Вы — вся огонь и песня! Он и сам не знал, почему фраза эта сорвалась с его губ. Склонности к поэзии в нем, собственно, не было. Заранее он не готовился, но едва только он завидел Эйлин в вестибюле, все его мысли и чувства забились и заиграли, как норовистые кони. Появление этой девушки заставило его стиснуть зубы, полузакрыть глаза. Все мышцы его невольно напряглись, а выражение лица по мере приближения Эйлин делалось все решительнее, мужественнее, суровее. Но обеих сестер тотчас же окружили молодые люди, жаждавшие быть им представленными, записаться на танец, и Каупервуд на время потерял Эйлин из виду.
Глава 18
Зерно всякой жизненной перемены трудно постигнуть, ибо оно глубоко коренится в самом человеке. Стоило миссис Каупервуд и Анне упомянуть о бале, как Эйлин ощутила желание блеснуть на нем ярче, чем это удавалось ей до сих пор, несмотря на все богатство ее отца. Общество, в котором ей предстояло появиться, было несравненно более изысканным и требовательным, чем то, в котором она обычно вращалась. Кроме того, Каупервуд значил теперь для нее очень много, и уже ничто на свете не могло заставить ее не думать о нем. Час назад, когда Эйлин переодевалась, он все время стоял перед ее внутренним взором. Она и о своем туалете заботилась главным образом для него. Она не могла забыть тех минут, когда он смотрел на нее пытливым, ласковым взглядом. Однажды он похвалил ее руки. Сегодня он сказал, что она «изумительна», и она подумала, как легко ей будет произвести на него вечером еще более сильное впечатление, показать ему, как она хороша на самом деле. Время от восьми до девяти вечера Эйлин провела перед зеркалом, размышляя о том, что ей надеть, и лишь в четверть десятого была, наконец, совсем готова. Ее платяной шкаф — весьма обширный и громоздкий — был снабжен двумя высокими зеркалами, третье было вделано в дверь гардеробной. Эйлин стояла перед этим зеркалом, смотрела на свои обнаженные руки и плечи, на свою стройную фигуру, задумчиво рассматривала то ямочку на левом плече, то подвязки с гранатами и серебряными застежками в виде сердечек, на которых она сегодня остановила свой выбор. Корсет вначале не удавалось затянуть достаточно туго, и Эйлин сердилась на свою горничную Кетлин Келли. Потом все ее внимание поглотила прическа, и она немало повозилась, прежде чем решила окончательно, как уложить волосы. Эйлин подвела брови, слегка взбила волосы — пусть лежат свободно и оттеняют лоб. Маникюрными ножницами она нарезала кружочки из черного пластыря и стала прилеплять их на щеки. Наконец был найден нужный размер мушки и подходящее место. Она поворачивала голову из стороны в сторону, оценивая общий эффект от прически, подведенных бровей, плеч с ямочками и мушки. О, если бы сейчас ее видел какой-нибудь мужчина! Но кто? Эта мысль, словно испуганная мышка, проворно юркнула назад в нору. Несмотря на всю решительность своего характера, Эйлин страшилась мысли о нем, единственном, о ее мужчине. Затем она занялась выбором платья. Кетлин разложила перед нею целых пять; Эйлин лишь недавно познала радость и гордость, доставляемые этими вещами, и, с разрешения отца и матери, вся отдалась нарядам. Она долго осматривала золотисто-желтое шелковое платье с бретелями из кремовых кружев и шлейфом, расшитым таинственно поблескивавшими гранатами, но отложила его в сторону. Затем принялась с удовольствием разглядывать шелковое платье в белую и черную полоску, которые, сливаясь, создавали прелестный серый тон, но, как ни велик был соблазн, все же в конце концов отказалась и от него. Среди разложенных перед нею туалетов было платье каштанового цвета с лифом и оборками из белого шелка, еще одно из роскошного кремового атласа и, наконец, черное с блестками, на котором Эйлин и остановила свой выбор. Правда, сначала она еще примерила кремовое атласное, думая, что вряд ли найдет более подходящее, но оказалось, что ее подведенные брови и мушка не гармонируют с ним. Тогда она надела черное шелковое с серебристо-красной чешуей, и — о радость! — оно сразу рассеяло все ее сомнения. Серебристый тюль, кокетливо драпировавший бедра, сразу пленил ее. Тюлевая отделка тогда только начинала входить в моду; еще не признанная более консервативными модницами, она приводила в восторг Эйлин. Трепет пробежал по ее телу от шелеста этого черного наряда, она выпрямилась и слегка запрокинула голову; платье на ней сидело прекрасно. А когда Кетлин, по ее требованию, еще туже затянула корсет, она приподняла шлейф, перекинула его через руку и снова осмотрела себя в зеркале. Чего-то все-таки недоставало. Ну, конечно! Надо что-нибудь надеть на шею. Красные кораллы? Они выглядели слишком просто. Нитку жемчуга? Тоже не подходит. У нее имелось еще ожерелье из миниатюрных камей, оправленных в серебро, — подарок матери, — и бриллиантовое колье, собственно принадлежавшее миссис Батлер, но ни то, ни другое не шло к ее туалету. Наконец она вспомнила о своем ожерелье из темного янтаря, никогда ей особенно не нравившемся, и — ах, до чего же кстати оно пришлось! Каким нежным, гладким и белым казался ее подбородок на этом фоне! Она с довольным видом провела рукой по шее, велела подать себе черную кружевную мантилью и надела длинный доломан из черного шелка на красной подкладке — туалет был закончен. Бальный зал к ее приходу был уже полон. Молодые люди и девушки, которых там увидела Эйлин, показались ей очень интересными; ее тотчас же обступили поклонники. Наиболее предприимчивые и смелые из этих молодых людей сразу почувствовали, что в этой девушке таится какой-то страстный призыв, жгучая радость существования. Они окружили ее, как голодные мухи слетаются на мед. Но когда ее список кавалеров начал быстро заполняться, у нее мелькнула мысль, что скоро не останется ни одного танца для мистера Каупервуда, если он пожелает танцевать с нею. Каупервуд, встречая последних гостей, размышлял о том, какая тонкая и сложная штука взаимоотношения полов. Два пола! Он не был уверен, что этими взаимоотношениями управляет какой-нибудь закон. По сравнению с Эйлин Батлер его жена казалась бесцветной и явно немолодой, а когда он сам станет на десять лет старше, она будет и вовсе стара. — О да, Элсуорту очень удались эти два дома, он даже превзошел наши ожидания! — говорил Каупервуд молодому банкиру Генри Хэйл-Сэндерсону. — Правда, его задачу облегчала возможность сочетать их между собой, но с моим ему пришлось, конечно, труднее, он ведь более скромных размеров. Отцовский дом просторнее. Я уже и так говорю, что Элсуорт поселил меня в пристройке! Старый Каупервуд с приятелями удалился в столовую своего великолепного дома, радуясь возможности скрыться от толпы гостей. Фрэнку пришлось заменить его, да он и сам этого хотел. Теперь ему, может быть, удастся потанцевать с Эйлин. Жена не большая охотница до танцев, но надо будет разок пригласить и ее. Воя там ему улыбается миссис Сенека Дэвис — и Эйлин тоже. Черт возьми, как она хороша! Что за девушка! — Надо полагать, все ваши танцы уже расписаны? Разрешите взглянуть? Фрэнк остановился перед нею, и она протянула ему крохотную книжечку с голубым обрезом и золотой монограммой. В зале заиграл оркестр. Скоро начнутся танцы. Вдоль стен и за пальмами уже были расставлены легкие золоченые стулья. Фрэнк посмотрел ей в глаза — в эти взволнованные, упоенные и жаждущие жизни глаза. — Да у вас уже все заполнено! Дайте взглянуть. Девятый, десятый, одиннадцатый. Что ж, пожалуй, хватит. Вряд ли мае удастся много танцевать. А ведь приятно иметь такой успех! — Я не совсем уверена насчет третьего танца. Мне кажется, я что-то спутала. Если хотите, я могу оставить его для вас. Эйлин сказала неправду. Она ничего не спутала. — Вы, вероятно, не слишком интересуетесь этим вашим кавалером, — заметил Фрэнк и слегка покраснел. — Нет. Эйлин тоже вспыхнула. — Чудесно! Когда объявят танец, я найду вас. Вы — прелесть. Но я вас боюсь. Он бросил на нее быстрый испытующий взгляд и отошел. Грудь Эйлин вздымалась. Как трудно иногда бывает дышать в таком нагретом воздухе! Во время танцев — партнершами Фрэнка были сначала жена, затем миссис Дэвис и миссис Уокер — ему изредка удавалось взглянуть на Эйлин, и каждый раз его наполняло радостное ощущение ее силы, ее красоты и бурной энергии — всего, чему он вообще не умел противостоять, а в этот вечер особенно. Как она еще молода, эта девушка! Как обворожительна! И какие бы колкости ни отпускала его жена по ее адресу, он чувствовал, что она больше соответствует его прямолинейной, активной, не ведающей сомнений натуре, чем любая другая женщина. Она несколько простодушна, — этого он не мог не видеть, — но, с другой стороны, потребуется совсем немного усилий, чтобы научить ее многое понимать. Она производила на него впечатление чего-то очень большого, — не в физическом смысле, конечно, хотя и была почти одного с ним роста, — а в эмоциональном. Она вся проникнута жизнелюбием. Танцуя, Эйлин часто проносилась мимо него с сияющим взглядом, полураскрыв рот и обнажая в улыбке ослепительно белые зубы, и Каупервуд всякий раз испытывал еще незнакомое ему чувство острого восхищения; его неодолимо тянуло к ней. Вся она, каждое ее движение было исполнено прелести. — Так как же, Эйлин, свободен у вас следующий танец? — спросил он, подходя к ней перед началом третьего тура. Она только что кончила танцевать и сидела со своим кавалером в дальнем углу большой гостиной, навощенный паркет которой блестел, как зеркало. Несколько искусно расставленных пальм образовали в этом углу подобие зеленого грота. — Я надеюсь, вы извините меня? — учтиво добавил Фрэнк, вежливо обращаясь к кавалеру Эйлин. — Разумеется, — отвечал молодой человек, вставая. — Да, этот танец свободен, — сказала Эйлин. — Давайте посидим здесь; скоро уже начнется. Вы ничего не имеете против? — обратилась она к своему прежнему партнеру, подарив его ослепительной улыбкой. — Помилуйте! Я уже получил величайшее удовольствие, протанцевав с вами вальс! Он ушел. Каупервуд сел подле нее. — Если не ошибаюсь, это молодой Ледокс? Я видел, как вы танцевали с ним. Вы, кажется, любите танцевать? — Люблю до безумия. — Не могу этого сказать о себе. Хотя это, верно, увлекательное занятие. Все зависит от того, с кем танцуешь. Миссис Каупервуд тоже не большая охотница до танцев. Упоминание о Лилиан заставило девушку почувствовать свое превосходство над нею. — По-моему, вы очень хорошо танцуете. Я тоже наблюдала за вами. Позднее Эйлин укоряла себя за эти слова. Они прозвучали вызывающе, почти дерзко. — Это правда? Вы наблюдали за мной? — Да! Фрэнк был сильно взволнован, и его мысли туманились: Эйлин невольно вторгалась в его жизнь — вернее, вторглась бы, если бы он это допустил; поэтому его слова звучали как-то даже робко. Он думал о том, что бы такое сказать, подыскивал выражения, которые хоть немного могли бы сблизить их, но не находил. А высказать ему хотелось многое. — Как это мило с вашей стороны, — произнес он после довольно долгого молчания. — Но что побудило вас наблюдать за мной? Фрэнк посмотрел на нее с легкой усмешкой. Снова заиграла музыка. Танцоры начали подниматься со своих мест. Он тоже встал. Каупервуд не думал вкладывать в свой вопрос какой-либо серьезный смысл, но сейчас, когда Эйлин стояла так близко, совсем рядом с ним, он пристально посмотрел ей в глаза и с мягкой настойчивостью переспросил: — Так что же вас к этому побудило? Они вышли из-под сени пальм. Правой рукой Фрэнк обвил ее талию. Левой он держал ее вытянутую правую руку — ладонь в ладони. Левая рука Эйлин покоилась у него на плече, она стояла вплотную подле него и смотрела ему в глаза. Когда они закружились в ритмическом вихре вальса, она отвела взор и опустила глаза, не отвечая на вопрос Фрэнка. Ее движения были легки и воздушны, как полет бабочки. Фрэнк и сам ощутил какую-то внезапную легкость, словно электрический ток, передавшуюся от нее. Ему захотелось поспорить с ней гибкостью тела. Ее руки, сверканье серебристо-красных блесток на черном платье, плотно облегавшем тело, ее шея и золотистые волосы туманили его разум. Она дышала здоровьем, молодостью я казалась ему поистине прекрасной. — Вы мне все еще не ответили, — напомнил Фрэнк. — Какая прелестная музыка! Он сжал ее руку. Эйлин робко подняла на него глаза: несмотря на всю свою веселую, задорную силу, она боялась его. Он явно превосходил всех здесь присутствующих. Сейчас, во время танца, когда он был так близко от нее, он казался ей удивительно интересным, но нервы ее сдали, и она почувствовала желание убежать без оглядки. — Ну, что ж, нет так нет, — он улыбнулся чуть-чуть насмешливо. Фрэнк вообразил, что ей нравится такой тон разговора, нравится, что он поддразнивает ее намеками на свое затаенное чувство, на свое неодолимое влечение к ней. Но к чему приведет такое объяснение? — Я просто хотела посмотреть, хорошо ли вы танцуете, — несколько сухо ответила Эйлин. Испуганная тем, что между ними происходило, она постаралась сдержать свое чувство. Фрэнк заметил эту перемену и улыбнулся. Как приятно танцевать с ней! Никогда он не думал, что в танцах может быть столько прелести! — Я вам нравлюсь? — неожиданно спросил он как раз в тот миг, когда оркестр умолк. Трепет пробежал по всему телу Эйлин при этом вопросе. Кусок льда, сунутый за ворот, не заставил бы ее вздрогнуть сильнее. Вопрос, казалось бы, бестактный, но тон, которым он был задан, исключал всякую мысль о бестактности. Эйлин быстро подняла глаза, в упор посмотрела на Каупервуда, но не могла выдержать его взгляда. — Да, конечно, — ответила она, стараясь сдержать дрожь в голосе, обрадованная, что музыка уже замолкла и сейчас можно будет отойти от него. — Вы так нравитесь мне, — признался Каупервуд, — что я непременно должен узнать, нравлюсь ли я вам хоть немного. В его голосе звучала и мольба, и нежность, и даже грусть. — Да, конечно, — повторила она, стряхнув охватившее ее было оцепенение. — И вы это знаете. — Мне нужно, чтобы вы были расположены ко мне, — продолжал он тем же тоном. — Мне нужен человек, с которым я мог бы говорить откровенно. Раньше я об этом не думал, но теперь мне это необходимо. Вы не знаете, как вы прелестны! — Не надо, — перебила его Эйлин. — Я не должна… Боже мой, что я делаю. Она увидела приближавшегося к ней молодого человека и продолжала: — Я должна извиниться перед ним. Этот танец был обещан ему. Каупервуд понял и отошел. Ему стало жарко, нервы его были напряжены. Он понимал, что совершил — или по крайней мере задумал — вероломный поступок. Согласно кодексу общественной морали, он не имел права на такое поведение. Оно противоречило раз и навсегда установленным нормам, как их понимали все вокруг — ее отец, например, или его родители, или любой представитель их среды. Как бы часто ни нарушались тайком эти нормы, они всегда оставались в силе. Однажды, еще в школе, кто-то из его соучеников, когда речь зашла о человеке, погубившем девушку, изрек: — Так не поступают! Как бы там ни было, но после всего происшедшего образ Эйлин неотступно стоял перед ним. И хотя ему тотчас пришло на ум, что эта история может до крайности запутать его общественное и финансовое положение, он все же с каким-то странным интересом следил за тем, как сам умышленно, планомерно, хуже того — с восторгом разжигал в себе пламя страсти. Раздувать огонь, который может со временем уничтожить его самого, — и делать это искусно и преднамеренно! Эйлин, скучая, играла веером и слушала, что говорит ей молодой черноволосый студент-юрист с тонким лицом. Завидев вдали Нору, она попросила у него извинения и подошла к сестре. — Ах, Эйлин! — воскликнула Нора. — Я повсюду искала тебя. Где ты пропадала? — Танцевала, конечно. Где же еще, по-твоему, могла я быть? Разве ты не видела меня в зале? — Нет, не видела, — недовольным тоном отвечала Нора, словно речь шла о чем-то очень важном. — А ты долго еще думаешь оставаться здесь? — До конца, вероятно. Впрочем, там видно будет. — Оуэн сказал, что в двенадцать уедет домой. — Ну и что ж такого! Меня кто-нибудь проводит. Тебе весело? — Очень! Ах, что я тебе расскажу! Во время последнего танца я наступила одной даме на платье. Как она обозлилась! И какой взгляд бросила на меня! — Ну, ничего, милочка, не бойся, она тебя не съест. Куда ты сейчас идешь? Эйлин всегда говорила с сестрой несколько покровительственным тоном. — Хочу разыскать Кэлема. Он должен танцевать со мной в следующем туре. Я знаю, что у него на уме: он хочет ускользнуть от меня, но это ему не удастся! Эйлин улыбнулась. Нора была прелестна. К тому же она такая умница! Что бы она подумала, если бы все узнала? Эйлин обернулась — четвертый кавалер разыскивал ее. Она тотчас начала весело болтать с ним, памятуя, что должна держать себя непринужденно. Но в ушах ее неизменно звучал все тот же ребром поставленный вопрос: «Я вам нравлюсь?» — и ее неуверенный, но правдивый ответ: «Да, конечно!»Глава 19
Развитие страсти — явление своеобразное. У людей большого интеллекта, а также у натур утонченных страсть нередко начинается с восхищения известными достоинствами своего будущего предмета, впрочем, все же воспринимаемыми с бесконечными оговорками. Эгоист, человек, живущий рассудком, весьма мало поступаясь своим «я», сам требует очень многого. Тем не менее человеку, любящему жизнь, — будь то мужчина или женщина, — гармоническое соприкосновение с такой эгоистической натурой сулит очень многое. Каупервуд от рождения был прежде всего рассудочным эгоистом, хотя к этим его свойствам в значительной мере примешивалось благожелательное и либеральное отношение к людям. Эгоизм и преобладание умственных интересов, думается нам, благоприятствуют деятельности в различных областях искусства. Финансовая деятельность — то же искусство, сложнейшая совокупность действий людей интеллектуальных и эгоистичных. Каупервуд был финансистом по самой своей природе. Вместо того чтобы млеть перед созданиями природы, перед их красотой и сложностью, забывая о материальной стороне жизни, он, благодаря быстроте своего мышления, обрел счастливую способность умственно и эмоционально наслаждаться прелестями бытия без ущерба для своих непрестанных финансовых расчетов. Размышляя о женщинах, о нравственности, то есть о том, что так тесно связано с красотою, счастьем, с жаждой полноценной и разнообразной жизни, он начинал сомневаться в пресловутой идее однолюбия, считая, что она вряд ли имеет под собой какую-либо другую почву, помимо стремления сохранить существующий общественный уклад. Почему мнения стольких людей сошлись именно на том, что можно и должно иметь только одну жену и оставаться ей верным до гроба? На этот вопрос он не находил ответа. У него не было охоты ломать себе голову над тонкостями теории эволюции, о которой уже тогда много говорилось в Европе, или припоминать соответствующие исторические анекдоты. Он был слишком занятым человеком. Кроме того, он не раз наблюдал такие сплетения обстоятельств и темпераментов, которые доказывали полную несостоятельность этой идеи. Супруги не оставались верными друг другу до гроба, а в тысячах случаев если и блюли верность, то не по доброй воле. Быстрота и смелость ума, счастливая случайность — вот что помогло иным людям возмещать свои семейные и общественные неудачи; другие же из-за своей тупости, несообразительности, бедности или отсутствия личного обаяния были обречены на беспросветное прозябание. Проклятая случайность рождения, собственная безвольность или ненаходчивость заставляли их либо непрерывно страдать, либо с помощью веревки, ножа, пули или яда искать избавленья от постылой жизни, которая при других обстоятельствах могла бы быть прекрасной. «Я тоже предпочел бы умереть», — мысленно произнес Каупервуд, прочитав в газете о человеке, полунищем, прикованном к постели и все же одиноко просуществовавшем двенадцать лет в крохотной каморке на попечении дряхлой и, очевидно, тоже хворой служанки. Штопальная игла, пронзившая сердце, положила конец его земным страданиям. «К черту такую жизнь! Двенадцать лет! Почему он не сделал этого на втором или третьем году болезни?» И опять-таки совершенно ясно — доказательства тому встречаются на каждом шагу, — что все затруднения разрешает сила, умственная и физическая. Ведь вот промышленные и финансовые магнаты могут же поступать — и поступают — в сей жизни, как им заблагорассудится! Каупервуд уже не раз в этом убеждался. Более того, все эти жалкие блюстители так называемого закона и морали — пресса, церковь, полиция и в первую очередь добровольные моралисты, неистово поносящие порок, когда они обнаруживают его в низших классах, но трусливо умолкающие, едва дело коснется власть имущих, и пикнуть не смели, покуда человек оставался в силе, однако стоило ему споткнуться, и они, уже ничего не боясь, набрасывались на него. О, какой тогда поднимался шум! Звон во все колокола! Какое лицемерное и пошлое словоизвержение! «Сюда, сюда, добрые люди! Смотрите, и вы увидите собственными глазами, какая кара постигает порок даже в высших слоях общества!» Каупервуд улыбался, думая об этом. Какое фарисейство! Какое ханжество! Но так уж устроен мир, и не ему его исправлять. Пусть все идет своим чередом! Его задача — завоевать себе место в жизни и удержать его, создать себе репутацию добропорядочности и солидности, которая могла бы выдержать любое испытание и сойти за истинную его сущность. Для этого нужна сила. И быстрый ум. У него есть и то и другое. «Мои желания — прежде всего» — таков был девиз Каупервуда. Он мог бы смело начертать его на щите, с которым отправлялся в битву за место среди избранников фортуны. Но сейчас ему нужно было тщательно обдумать и решить, как поступать дальше с Эйлин; впрочем, Каупервуд, человек сильный и целеустремленный, и в этом вопросе сохранял полное самообладание. Для него это была проблема, мало чем отличавшаяся от сложных финансовых проблем, с которыми он сталкивался ежедневно. Она не казалась ему неразрешимой. Что следует предпринять? Он не мог бросить жену и уехать с Эйлин, это не подлежало сомнению. Слишком много нитей связывало его. Не только страх перед общественным мнением, но и любовь к родителям и детям, а также финансовые соображения достаточно крепко его удерживали. Кроме того, он даже не был уверен, хочет ли он этого. Он вовсе не намеревался поступаться своими деловыми интересами, которые разрастались день ото дня, но в то же время не намеревался и тотчас же отказаться от Эйлин. Слишком много радости сулило ему чувство, неожиданно вспыхнувшее в ней. Миссис Каупервуд более его не удовлетворяла ни физически, ни духовно, и это служило достаточным оправданием его увлечения Эйлин Чего же бояться? Он и из этого положения сумеет выпутаться без всякого ущерба для себя. Но минутами ему все же казалось, что практически он не сумеет найти для себя и Эйлин достаточно безопасной линии поведения, и это делало его молчаливым и задумчивым. Ибо теперь его уже неодолимо влекло к ней, и он понимал, что в нем нарастает мощное чувство, настойчиво требующее выхода. Думая о жене, Каупервуд тоже испытывал сомнения не только морального, но и материального порядка. Хотя Лилиан, овдовев, и не устояла перед его бурным юношеским натиском, но позднее он понял, что она типичная лицемерная блюстительница общественных нравов; ее холодная, снежная чистота была предназначена лишь для глаз света. На деле ею нередко овладевали порывы мрачного сладострастия. Он убедился также, что она стыдилась страсти, временами захватывавшей ее и лишавшей самообладания. И это раздражало Каупервуда, ибо он был сильной, властной натурой и всегда шел прямо к цели. Конечно, он не собирался посвящать всех встречных и поперечных в свои чувства к Лилиан, но почему они и с глазу на глаз должны были замалчивать свои отношения, не говорить о физической близости друг с другом? Зачем думать одно и делать другое? Конечно, по-своему она была предана ему — спокойно, бесстрастно, силой одного только разума; оглядываясь назад, он не мог вспомнить ее другою, разве что в редкие минуты. Чувство долга, как она его понимала, играло большую роль в ее отношении к нему. Долг она ставила превыше всего. Затем шло мнение света и все, чего требовал дух времени. Эйлин, напротив, вероятно, не была человеком долга, и темперамент, очевидно, заставлял ее пренебрегать условностями. Правила поведения, несомненно, внушались ей, как и другим девушкам, но она явно не желала считаться с ними. В ближайшие три месяца они еще больше сблизились. Прекрасно понимая, как отнеслись бы родители и свет к чувствам, которые наполняли ее душу, Эйлин тем не менее упорно думала все об одном и том же, упорно желала все того же самого. Теперь, когда она зашла так далеко и скомпрометировала себя если не поступками, то помыслами, Каупервуд стал казаться ей еще более обольстительным. Не только физическое его обаяние волновало ее, — сильная страсть не знает такого ограничения, — внутренняя цельность этого человека привлекала ее и манила, как пламя манит мотылька. В его глазах светился огонек страсти, пусть притушенный волей, но все-таки властный и, по ее представлению, всесильный. Когда, прощаясь, он дотрагивался до ее руки, ей казалось, что электрический ток пробегает по ее телу, и, расставшись с ним, она вспоминала, как трудно ей было смотреть ему прямо в глаза. Временами эти глаза излучали какую-то разрушительную энергию. Многие люди, особенно мужчины, с трудом выдерживали холодный блеск его взгляда. Им казалось, что за этими глазами, смотрящими на них, притаилась еще пара глаз, наблюдающих исподтишка, но всевидящих. Никто не мог бы угадать, о чем думает Каупервуд. В последующие месяцы Эйлин еще сильнее привязалась к нему. Однажды вечером, когда она сидела за роялем у Каупервудов, Фрэнк, улучив момент, — в комнате как раз никого не было, — наклонился и поцеловал ее. Сквозь оконные занавеси виднелась холодная, заснеженная улица и мигающие газовые фонари. Каупервуд рано вернулся домой и, услышав игру Эйлин, прошел в комнату, где стоял рояль. На Эйлин было серое шерстяное платье с причудливой оранжевой и синей вышивкой в восточном вкусе. Серая шляпа, в тон платью, с перьями, тоже оранжевыми и синими, еще более подчеркивала ее красоту. Четыре или пять колец — во всяком случае их было слишком много — с опалом, изумрудом, рубином и бриллиантом — сверкали и переливались на ее пальцах, бегавших по клавишам. Он вошел, и она, не оборачиваясь, угадала, что это он. Каупервуд приблизился к ней, и Эйлин с улыбкой подняла на него глаза, в которых мечтательность, навеянная Шубертом, сменилась совсем другим выражением. Каупервуд внезапно наклонился и впился губами в ее губы. От шелковистого прикосновения его усов трепет прошел по ее телу. Эйлин прекратила игру, грудь ее судорожно вздымалась; как она ни была сильна, но у нее перехватило дыхание. Сердце ее стучало, словно тяжкий молот. Она не воскликнула: «Ах!» или: «Не надо!», а только встала, отошла к окну и, приподняв занавесь, сделала вид, будто смотрит на улицу. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание от избытка счастья. Каупервуд быстро последовал за нею. Обняв Эйлин за талию, он посмотрел на ее зардевшееся лицо, на ясные влажные глаза и алые губы. — Ты любишь меня? — прошептал он, и от захватившего его страстного желания этот вопрос прозвучал сурово и властно. — Да! Да! Ты же знаешь! Он прижался лицом к ее лицу, а она подняла руки и стала гладить его волосы. Властное чувство счастья, радости обладания и любви к этой девушке, к ее телу пронизало Фрэнка. — Я люблю тебя, — произнес он так, словно сам дивился своим словам. — Я не понимал этого, но теперь понял. Как ты хороша! Я просто с ума схожу. — И я люблю тебя, — отвечала она. — Я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что я не должна, но… ах!.. Эйлин схватила руками его голову и прижалась губами к его губам, не отрывая затуманенного взгляда от его глаз. Затем она быстро отстранилась и опять стала смотреть на улицу, а Каупервуд отошел в глубину гостиной. Они были совсем одни. Он уже обдумывал, можно ли ему еще раз поцеловать ее, когда в дверях показалась Нора — она была в комнате у Анны, — а вслед за ней и миссис Каупервуд. Через несколько минут Эйлин и Нора уехали домой.Глава 20
После столь исчерпывающего и недвусмысленного объяснения Каупервуд и Эйлин, естественно, должны были еще более сблизиться. Несмотря на полученное ею религиозное воспитание, Эйлин не умела бороться со своими страстями. Общепринятые религиозные взгляды и понятия не были для нее сдерживающим началом. В последние девять или десять лет в ее воображении постепенно складывался образ возлюбленного. Это должен быть человек сильный, красивый, прямодушный, преуспевающий, с ясными глазами и здоровым румянцем и в то же время чуткий, отзывчивый, любящий жизнь не меньше, чем она сама. Многие молодые люди пытались завоевать ее расположение. Ближе всего к ее идеалу подходил, пожалуй, отец Давид из церкви св. Тимофея, но он был священник, связанный обетом безбрачия. Они никогда не обменялись ни единым словом, хотя догадывались о чувствах друг друга. Затем появился Фрэнк Каупервуд, который благодаря частым встречам и разговорам постепенно принял в ее мечтах образ идеального возлюбленного. Она тяготела к нему, как планета к солнцу. Неизвестно, конечно, как бы все сложилось, если бы в это время пришли в действие противоборствующие силы. Бывает иногда, что подобные чувства и отношения пресекаются в корне. Любой характер в какой-то мере поддается смягчению, меняется, но силы, на него воздействующие, должны быть очень значительны. Могучим сдерживающим началом часто становится страх, если не внушенный религиозными и моральными представлениями, то страх перед материальным ущербом; но богатство и положение в обществе, как правило, сводят его на нет. Ведь когда у тебя много денег, все так легко устраивается! Эйлин ничего не боялась. Каупервуд не привык считаться ни с моральными, ни с религиозными соображениями. Он смотрел на эту девушку и думал единственно о том, как обмануть свет и насладиться ее любовью, не запятнав своей репутации. Он любил ее всем своим существом. Дела заставляли его довольно часто бывать у Батлеров, и каждый раз он видел Эйлин. В первый же его приход после того, как он объяснился с нею, Эйлин удалось украдкой проскользнуть к нему, пожать ему руку, сорвать горячий и быстрый поцелуй. В другой раз, когда он уже уходил, она вдруг вышла из-за портьеры. — Любимый мой! Ее голос звучал просительно и нежно. Каупервуд обернулся и сделал предостерегающий жест в сторону комнаты ее отца. Но Эйлин все стояла, не двигаясь с места, протягивая к нему руки; Фрэнк торопливо приблизился. Тогда руки девушки мгновенно обвились вокруг его шеи, и он прижал ее к себе. — Я так хочу с тобой побыть! — Я тоже! Я все устрою. Я только об этом и думаю! Он высвободился из ее объятий и вышел, а она подбежала к окну и стала глядеть ему вслед. Он шел пешком, так как жил неподалеку, и она долго не сводила глаз с его широких плеч, со всей его статной фигуры. Какой у него быстрый, уверенный шаг! О, это настоящий мужчина! Ее Фрэнк! Она уже считала его своим! Отойдя от окна, Эйлин села за рояль и до самого обеда задумчиво наигрывала какие-то мелодии. Для изворотливого и не стесненного в средствах Фрэнка Каупервуда не представляло большого труда, найти выход из положения. В дни юности, когда он таскался по всевозможным «злачным местам», и впоследствии, когда ему, уже женатому, случалось сворачивать с узкой стези добродетели, он досконально изучил все ухищрения и лазейки, которыми пользуется порок. В Филадельфии — городе, где к тому времени насчитывалось более полумиллиона жителей, — имелось достаточно второразрядных гостиниц, готовых укрыть парочки от любопытных взоров. Были там и солидные с виду особняки, где за определенную плату разрешалось устроить свидание. Что же касается средств, предохранявших от зарождения новой жизни, то Каупервуд знал о них с давних пор. Осторожность и осмотрительность были его девизом. Да иначе и быть не могло, ибо Каупервуд быстро становился видной и влиятельной персоной. Эйлин, конечно, не сознавала, — а если и сознавала, то лишь очень смутно, — куда несет ее страсть; она не знала, где предел этого увлечения. Эйлин жаждала любви, хотела, чтобы ее нежили и ласкали, — о дальнейшем она не задумывалась. Мысли ее были, словно мыши: высунут голову из норки в темном углу и шмыгнут обратно, вспугнутые любым шумом. Все, связанное с Каупервудом, казалось ей прекрасным. Она еще не была уверена, что он любит ее так, как она того хочет; но это придет! Эйлин не понимала, что посягает на права его жены, ей почему-то казалось, что это не так. Ну что потеряет миссис Каупервуд, если Фрэнк будет любить еще и ее, Эйлин! Как объяснить такой самообман, внушенный необузданностью и страстью? Мы сталкиваемся с ним на каждом шагу. Страсть упорна, а все, что происходит в природе вне малого человеческого существа, свидетельствует о том, что природа к ней безразлична. Мы знаем кары, постигающие страсть: тюрьмы, недуги, разорения и банкротства, но знаем также, что все это не влияет на извечные стремления человеческой натуры. Неужели нет для нее законов, кроме изворотливой воли и силы индивидуума, стремящегося к достижению цели? Если так, то, право же, давно пора всем знать об этом, всем без исключения! Мы тогда все равно стали бы поступать как прежде, но по крайней мере отпали бы вздорные иллюзии о божественном вмешательстве в людские дела. Глас народа — глас божий. Итак, они стали встречаться, с глазу на глаз проводить чудесные часы, как только разгоревшаяся в Эйлин страсть заставила ее позабыть о страхе и огромном риске, связанном с такими встречами. После случайных минутных встреч в его доме, когда никто не видел, они перешли к тайным свиданиям за городом. Каупервуд не принадлежал к числу людей, способных потерять голову и забросить все дела. Чем больше он думал о неожиданно нахлынувшей на него страсти, тем больше крепла в нем решимость не допускать ее вторжения в дела, в разумную трезвость его суждений. Контора требовала от него неусыпного внимания с девяти утра до трех пополудни. Но он, увлеченный работой, как правило, засиживался там до половины шестого. А поскольку в этом не было необходимости, его отсутствие раза два в неделю от половины четвертого до половины шестого или шести никому не могло броситься в глаза. У Эйлин вошло в привычку почти каждый день от половины четвертого до пяти или шести кататься в одиночестве на паре гнедых рысаков или ездить верхом на лошади, которую отец купил для нее у известного барышника в Балтиморе. А поскольку Каупервуд тоже часто катался и в экипаже и верхом, им было удобно назначать друг другу свидания далеко за городом, у реки Уиссахикон или на Скайкилдской дороге. В недавно разбитом парке имелись уголки, не менее уединенные, чем в дремучем лесу. Правда, на дорожках всегда можно было встретить кого-нибудь из знакомых, но ведь не составляло труда и сыскать правдоподобное объяснение! Впрочем, оно было бы даже излишним: такая случайная встреча ни в ком не могла вызвать подозрений. Так поначалу протекал этот роман — влюбленное воркование, взаимные клятвы, никаких помыслов о серьезном, решающем шаге, и вдобавок очаровательно идиллические прогулки верхом в тени уже зазеленевшего парка. Новая страсть пробудила в Каупервуде такую радость жизни, какую он еще не знал. Лилиан была очень хороша в пору, когда он стал навещать ее на Фронт-стрит, и он почитал себя тогда несказанно счастливым, но с того времени прошло почти десять лет, и все это позабылось. После брака он не пережил какой-либо большой страсти, не имел сколько-нибудь длительной связи, и вдруг нежданно-негаданно среди вихря блистательных деловых успехов — Эйлин, юная телом и душой, полная страстных мечтаний. Он замечал на каждом шагу, что, несмотря на всю ее дерзкую смелость, она ничего не знает о том расчетливом и жестоком мире, в котором вращался он. Отец задаривал ее всем, что только душе угодно, мать и братья — особенно мать — баловали ее, младшая сестра ее обежала. Никому и в голову не пришло бы, что Эйлин может совершить что-нибудь дурное. Как бы там ни было, но она очень благоразумна и насквозь проникнута желанием преуспеть в обществе. Да и зачем ей помышлять о запретном, если перед нею открывалась счастливая жизнь и в скором времени ее ждал брак по любви с каким-нибудь приятным и во всех отношениях ей подходящим молодым человеком. — Когда ты выйдешь замуж, Эйлин, мы тут заживем на славу, — нередко говаривала ей мать. — Беспременно отремонтируем и перестроим весь дом, ежели только не сделаем этого раньше. Я уж заставлю Эдди взяться за дело, а не захочет, так сама возьмусь. Можешь не беспокоиться. — Хорошо бы уже сейчас приступить к перестройке, — отвечала Эйлин. Батлер с характерной для него грубоватой ласковостью похлопывал дочь по плечу и спрашивал: — Что, уже повстречала его? Или: — Ну как, онеще не торчит у тебя под окном? Если она отвечала: «Нет», — старик говорил: — Ничего, еще повстречаешь, ты не горюй, бывают беды похуже! А тяжело мне будет расставаться с тобой, доченька! Можешь жить в отцовском доме, сколько тебе угодно, и помни: ты вольна в любую минуту вернуться к нам. Эйлин не обращала внимания на его поддразнивания. Она любила отца, но то, что он говорил, звучало так банально. Все это были будни, ничем не примечательные, хотя и неизменно приятные. Зато с какой страстью отдавалась она ласкам Каупервуда под зеленеющими деревьями в чудесные весенние дни! Она не сознавала, как близко то мгновенье, когда она окончательно отдастся ему, ибо сейчас он еще только ласкал ее и говорил о своей любви. Минутами его охватывали сомнения. То, что он позволял себе все большие вольности, казалось ему вполне естественным, но из рыцарских побуждений он все-таки однажды заговорил с Эйлин о том, куда может завести их чувство. Пойдет ли она на это? Понимает ли она, что делает? В первую минуту Эйлин была напугана и озадачена. Она стояла перед Фрэнком в своей черной амазонке и шелковой шляпе, небрежно надвинутой на рыжевато-золотые волосы, коротким хлыстиком похлопывала себя по ноге и раздумывала над его словами. Он спросил, понимает ли она, что делает. Думает ли о том, куда все это заведет их? И любит ли она его по-настоящему? Они оставили коней в густой заросли, шагах в двадцати от большой дороги у быстрого ручья, на берегу которого она стояла теперь с Фрэнком, делая вид, будто старается разглядеть, хорошо ли привязаны лошади. Но смотрела она на них невидящим взглядом. Она думала о Каупервуде, о том, как красиво сидит на нем костюм и как прекрасны эти минуты. А какая у него прелестная пегая лошадка! Недавно распустившаяся листва сплеталась над их головами в прозрачное зеленое кружево. Вокруг, куда ни глянь, был лес, но они видели его словно сквозь завесу, расшитую зелеными блестками. Серые камни уже оделись легким покровом мха, ручей искрился и журчал, на деревьях щебетали первые птицы — малиновки, дрозды и вьюрки. — Крошка моя, — сказал Каупервуд, — сознаешь ли ты, что происходит? Отдаешь ли себе отчет в том, что ты делаешь, встречаясь со мной? — Думаю, что да! Она хлопнула себя хлыстом по ноге и потупилась, потом подняла глаза и сквозь листву стала глядеть на голубое небо. — Посмотри на меня, любимая! — Не хочу! — Посмотри же, голубка, я должен спросить тебя кое о чем! — Не заставляй меня, Фрэнк! Я не могу. — Нет, ты можешь, ты должна! — Не могу! Он взял ее руки в свои, она отступила, но тотчас же опять приблизилась к нему. — Ну, теперь посмотри мне в глаза! — Нет, не могу! — Посмотри же, Эйлин! — Я не могу! Не проси меня! Я отвечу тебе на все, что ты спросишь, но не заставляй: смотреть на тебя. Фрэнк нежно погладил ее по щеке. Потом положил руку ей на плечо, и она приникла к ней головой. — Радость моя, как ты прекрасна! — проговорил ой наконец. — Я не в силах отказаться от тебя. Я знаю, что мне следовало бы сделать, да и ты, наверно, тоже знаешь. Но я не могу! Ты должна быть моей. И все-таки, если об этом узнают, нам обоим придется очень плохо. Ты понимаешь меня? — Да. — Я мало знаком с твоими братьями, но по виду это люди решительные. И они очень любят тебя. — Ода! Последние слова Фрэнка слегка пощекотали ее тщеславие. — Узнай они, что здесь происходит, мне, наверно, недолго осталось бы жить. А как ты думаешь, что бы они сделали, если… ну, одним словом, если что-нибудь случится со временем? Он замолчал, вглядываясь в ее прелестное лицо. — Но ведь ничего не случится! Надо только не заходить слишком далеко. — Эйлин! — Я не стану смотреть на тебя! И не проси! Не могу. — Эйлин! Ты говоришь серьезно? — Не знаю. Не спрашивай меня, Фрэнк! — Неужели ты не понимаешь, что на этом мы не можем остановиться? Безусловно, ты понимаешь! Это не конец. И если… Ровным, спокойным голосом он начал посвящать ее в технику запретных встреч. — Тебе нечего опасаться, разве только по несчастному стечению обстоятельств наша тайна откроется. Все возможно. И тогда, конечно, нам будет не сладко. Миссис Каупервуд ни за что не согласится на развод — с какой стати! Если все обернется так, как я рассчитываю, если мне удастся нажить миллион, я не прочь хоть сейчас покончить со всеми делами. Мне вовсе не хочется работать всю жизнь. Я всегда собирался поставить точку в тридцать пять лет. К этому времени у меня будет достаточно денег. И я начну путешествовать. Но надо повременить еще несколько лет. Если бы ты была вольна… если бы твоих родителей не было в живых (любопытно, что Эйлин даже бровью не повела, выслушав это циничное замечание), тогда дело другое. Он замолчал. Эйлин все еще задумчиво смотрела на бежавший у ее ног ручей, а мысли ее были далеко — в море, на яхте, уносившей их вдвоем к берегу, где стоит какой-то неведомый дворец, в котором не будет никого, кроме нее и Фрэнка. Перед ее полузакрытыми глазами проплывал этот счастливый мир; словно завороженная, внимала она словам Каупервуда. — Хоть убей, я не вижу никакого выхода! Но я люблю тебя! — Он привлек ее к себе. — Я люблю тебя, люблю! — Да, да! — дрожа от волнения, отвечала Эйлин. — Я тоже люблю тебя! И я ничего не боюсь. — Я нанял дом на Десятой улице, — сказал он, прерывая молчание, когда они уже сели в седла. — Он еще не обставлен, но за этим дело не станет. У меня есть на примете одна женщина, которая возьмет на себя надзор за домом. — Кто она такая? — Интересная вдовушка, лет под пятьдесят. Умница, очень приятная и с большим житейским опытом. Я нашел ее по объявлению. Когда все будет устроено, зайди к ней и осмотри этот уголок. Много дела тебе с ней иметь не придется. Так, иногда. Ты согласна? Она в задумчивости продолжала путь, не отвечая на его вопрос. Как он был практичен, как неуклонно шел к своей цели! — Зайдешь? Тебе нечего опасаться. Можешь смело познакомиться с ней. Она вполне заслуживает доверия. Так зайдешь, Эйлин? — Скажи мне, когда все будет готово, — в конце концов ответила она.Глава 21
Причуды страсти! Уловки! Дерзанья! Жертвы, приносимые на ее алтарь! Прошло очень немного времени, и убежище, о котором говорил Каупервуд, предназначенное оберегать любовную тайну, было готово. За домом присматривала вдова, видимо, лишь недавно понесшая свою тяжкую утрату, и Эйлин стала часто бывать там. В такой обстановке и при таких обстоятельствах не стоило большого труда убедить ее всецело отдаться возлюбленному, ибо она не могла больше противиться бурному, слепому влечению. Ее поступок в какой-то мере искупала любовь, ей и вправду не нужно было никого на свете, кроме этого человека. Ему одному принадлежали все ее помыслы, все ее чувства. Воображение рисовало ей картины будущего, когда она и он каким-то образом станут навеки неразлучны. Разве не может случиться, что миссис Каупервуд умрет или же Фрэнк уйдет от жены к ней, Эйлин, когда у него к тридцати пяти годам накопится миллион? Все как-нибудь устроится. Сама природа предназначила ей этого человека. Эйлин безоговорочно доверяла ему. Когда он сказал, что возьмет на себя заботу о ней и не допустит, чтобы стряслась беда, она ни на минуту не усомнилась в его словах. О таком грехе, как грех Эйлин, священники часто слышат в исповедальнях. Примечательно, что христианский мир путем какого-то логического ухищрения пришел к выводу, что не может быть иной любви, кроме той, которая освящена традиционным ухаживанием и последующим браком. «Одна жизнь — одна любовь» — вот идея христианства, и в эти узкие рамки оно неизменно пытается втиснуть весь мир. Язычеству были чужды такие представления. В древнем мире для развода не надо было искать каких-то особых причин. А в мире первобытном единение полов предусматривалось, видимо, лишь на срок, необходимый для выращивания потомства. Семья новейшего времени, без сомнения, одна из прекраснейших в мире институций, если она зиждется на взаимном влечении и близости. Но из этого еще не следует, что осуждению подлежит всякая другая любовь, не столь счастливая и благополучная в конечном итоге. Жизнь нельзя втиснуть ни в какие рамки, и людям следовало бы раз навсегда отказаться от подобных попыток. Те, кому повезло заключить счастливый союз на всю жизнь, пусть поздравят себя и постараются быть достойными своего счастья. Те же, кому судьба его не даровала, все-таки заслуживают снисхождения, хотя бы общество и объявило их париями. Кроме того, вне всякой зависимости от наших суждений и теорий, в силе остаются основные законы природы. Однородные частицы притягиваются друг к другу. Изменения в характере и темпераменте неизбежно влекут за собой и перемены во взаимоотношениях. Правда, одних сдерживает догма, других — страх. Но находятся люди, в которых мощно звучит голос природы, и для таких не существует ни догмы, ни страха. Общество в ужасе воздевает руки к небу. Но из века в век появляются такие женщины, как Елена, Мессалина, Дюбарри, Помпадур, Ментенон и Нелл Гвин, указывая путь к большей свободе во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чем та, что ранее считалась дозволенной. Каупервуд и Эйлин несказанно привязались Друг к другу. Узнав Эйлин поближе, Каупервуд проникся уверенностью, что она единственная женщина, с которой он мог бы счастливо прожить остаток жизни. Она была так молода, доверчива, полна надежд и так бесстрашна. Все эти месяцы, с того самого мгновения, когда их впервые потянуло друг к другу, он не переставал сравнивать ее со своей женой. Его неудовлетворенность супружеской жизнью, до сих пор смутная, теперь становилась все более ощутимой. Правда, дети по-прежнему радовали его и дом у него был прекрасный. Вялая, похудевшая Лилиан все еще была красива. Последние годы он более или менее был удовлетворен ею, но теперь недовольство стало непрерывно расти в нем. Его жена ничем не походила на Эйлин: она не обладала ни ее молодостью, ни живостью, ни презрением к условностям. И хотя обычно Каупервуд был очень покладист, теперь им нередко овладевали приступы раздражения. Началось с вопросов, касавшихся внешности Лилиан: такие, весьма обыденные «почему» не могут не обижать и не удручать женщину. Почему она не купила себе лиловую шляпку в тон платью? Почему она не проводит больше времени на воздухе? Моцион был бы ей очень полезен. Почему она не делает того или этого? Он едва ли сам отдавал себе отчет в своем поведении, но Лилиан все замечала, догадывалась об истинной подоплеке этих вопросов и чувствовала себя оскорбленной. — Что это за бесконечные «почему» и «отчего»? — однажды возмутилась она. — Откуда столько придирок? Ты просто уже не любишь меня так, как раньше, вот и все, я это отлично понимаю. Каупервуд откинулся на спинку стула, пораженный этой вспышкой. Поводом для нее, видимо, послужила не догадка об Эйлин, а просто очередное его замечание; но полной уверенности у него не было. Он почувствовал легкий укор совести оттого, что вывел Лилиан из терпения, и извинился перед нею. — Ах, пустяки! — отвечала она. — Меня это нисколько не трогает. Но я замечаю, что ты уделяешь мне теперь куда меньше внимания. У тебя все дела, дела и дела! Ты ни на секунду не перестаешь думать о них. Каупервуд вздохнул с облегчением. Итак, она ничего не подозревает! Но по мере того как росла его близость с Эйлин, он перестал тревожиться мыслью, подозревает ли жена об его измене. Иногда, перебирая в уме возможные последствия создавшегося положения, он приходил к выводу, что так было бы, пожалуй, даже лучше. Она ведь не принадлежала к породе энергичных женщин, умеющих постоять за свои права. Зная ее характер, он порой надеялся, что она, может быть, и не станет так упорно противиться разрыву в их семейной жизни, как он опасался вначале. Не исключено, что она даст ему развод. Страсть и жажда счастья даже его заставляли рассуждать не столь трезво, как обычно. Нет, говорил он себе, теперь загвоздка вовсе не в его семье, а в Батлерах. С Эдвардом Мэлией Батлером у него установилась теснейшая деловая связь. Старик не предпринимал ни одной сделки с многочисленными ценными бумагами, держателем которых он являлся, не посоветовавшись с Каупервудом. Батлер состоял пайщиком таких предприятий, как Пенсильванская угольная компания, канал «Делавэр-Гудзон», канал «Морис-Эссекс» и Ридингская железная дорога. Поняв то значение, которое приобретали филадельфийские железные дороги, он решил возможно выгоднее сбыть имеющиеся у него ценные бумаги и вложить вырученный таким образом капитал в местные линии. Ему было известно, что так же поступают Молленхауэр и Симпсон, а уж кто лучше их разбирается в местных делах? Как и Каупервуд, он полагал, что, сосредоточив у себя достаточное количество акций конных железных дорог, он в конечном итоге добьется хотя бы сотрудничества с Молленхауэром и Симпсоном. А тогда нетрудно будет провести через соответствующие органы законы, выгодные для объединенных железных дорог. Они получат разрешение на прокладку новых линий и на продолжение уже построенных. Эти операции с ценностями Батлера, а также скупка случайных пакетов акций городских конных железных дорог и входили в обязанности Каупервуда. Через своих сыновей, Оуэна и Кэлема, Батлер в то время уже вовсю хлопотал о прокладке новой линии и о выдаче необходимого для этого разрешения; желая добиться принятия законодательным собранием нужной ему резолюции, он щедро раздавал пакеты акций и наличные деньги. Дело это, однако, было нелегкое, так как выгода, которую можно было извлечь из создавшегося положения, была ясна и многим другим, в том числе Каупервуду; усмотрев здесь источник богатой наживы, он, конечно, заботился и о собственной пользе, так что из акций, которые он скупал, только часть попадала в руки Батлера, Молленхауэра и других его клиентов. Иными словами, он не столько стремился принести пользу Батлеру или кому-нибудь еще, сколько себе самому. Вот почему предложение, с которым явился к нему Джордж Стинер — фактически от лица Стробика, Уайкрофта и Хармона, пожелавших остаться в тени, — показалось Каупервуду столь заманчивым. План Стинера заключался в том, чтобы открыть Каупервуду кредит в городской кассе из расчета двух процентов годовых или, если он откажется от комиссионных, даже безвозмездно (осторожность требовала, чтобы Стинер действовал через посредника). На эти деньги Каупервуд должен был перекупить у Северной Пенсильванской компании линию конки, проходившую по Фронт-стрит, которая не приносила большого дохода и не очень высоко котировалась из-за ее небольшого протяжения — полторы мили, — а также краткосрочности разрешения, выданного на ее эксплуатацию. В качестве компенсации за искусно проведенное дело Каупервуд получал весьма недурной куш — двадцать процентов всех акций. Стробик и Уайкрофт знали, где можно будет купить контрольный пакет, тут надо только действовать расторопно. В дальнейшем этот план предусматривал следующее: взятые из городской кассы деньги используются для продления лицензии и для продолжения самой линии; затем выпускается большой пакет акций, которые закладываются в одном из «своих» банков: таким образом через некоторое время город получает обратно занятый у него капитал, а они начинают класть в карман прибыль, приносимую линией. Для Каупервуда этот план был более или менее приемлем, если не считать того, что акции распылялись между всеми участниками аферы и ему за все его хлопоты и труды доставалась лишь сравнительно скромная доля. Но Каупервуд никогда не упускал своей выгоды. А к этому времени у него выработалась особая деловая мораль, мораль финансиста. Он считал недопустимым красть лишь в том случае, если подобный акт стяжания или наживы так и назывался кражей. Это было неблагоразумно, опасно, а следовательно — дурно. Могло случиться, что способ приобретения или наживы вызывал сомнения и порицания. Этика, в представлении Каупервуда, видоизменялась в зависимости от обстоятельств, чуть ли не в зависимости от климата. В Филадельфии укоренилась традиция (разумеется, в кругах местных политиков, а не всего городского населения), согласно которой казначей мог безвозмездно пользоваться деньгами города при условии, что со временем он возвратит их в кассу. Казначейство и казначей здесь напоминали собою полный меда улей и пчелиную матку, вокруг которой вьются, в чаянии поживы, трутни, то есть аферисты и политические деятели. Единственной неприятной стороной сговора со Стинером было то, что ни Батлер, ни Молленхауэр, ни Симпсон, то есть фактическое «начальство» Стинера и Стробика, ничего об этом сговоре не знали. Сам Стинер, а также лица, стоявшие за ним, действовали через него, Каупервуда, в своих личных интересах. Великие мира сего, прознав об этом, могут разгневаться. Если же он откажется вести столь выгодные дела со Стинером или с кем-либо другим из местных воротил, он только сам себе навредит, ибо его с готовностью заменит другой банкир или маклер. А кроме того, нет никаких оснований предполагать, что Батлер, Молленхауэр и Симпсон об этом пронюхают. Здесь следует еще сказать, что Каупервуд, случайно проехав по коночной линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, счел ее весьма соблазнительным объектом, нужно было только раздобыть необходимый капитал. Первоначально эта линия имела объявленную ценность в пятьсот тысяч долларов, но позднее, с целью ее переоборудования, была выпущена дополнительная серия акций на сумму в двести пятьдесят тысяч, и теперь компания испытывала серьезные трудности с уплатой процентов. Большая часть акций была рассеяна среди мелких держателей, и все же Каупервуду потребовалось бы не менее двухсот пятидесяти тысяч, чтобы завладеть контрольным пакетом и быть избранным в председатели правления. Зато, наложив руку на эту линию, он мог бы уже распоряжаться акциями всецело по своему усмотрению, например, временно заложить их в отцовском банке за самую крупную сумму, какую удастся получить, затем выпустить новые акции, с их помощью подкупить членов местного законодательного собрания и таким образом добиться разрешения на продление линии, а потом уже расширить дело либо посредством новых удачных закупок, либо путем соглашения с другими компаниями. Слово «подкуп» употреблено здесь в деловом, чисто американском смысле, ибо не было человека, у которого понятие о законодательном собрании штата не ассоциировалось бы со словом «взятка». Тэренс Рэлихен, представитель финансовых кругов в Гаррисберге, низкорослый, смуглолицый ирландец, щеголявший изящной одеждой и изысканными манерами, — в свое время он посетил Каупервуда по делу о размещении пятимиллионного займа, — заверял, что в столице штата ничего не добьешься без денег или их эквивалента, то есть ценных бумаг. Каждого более или менее влиятельного члена законодательного собрания следовало «подмазать», чтобы получить его голос или поддержку. Ирландец намекнул, что если Каупервуду понадобится провести какую-нибудь комбинацию, то он, Рэлихен, рад будет с ним потолковать. Каупервуд уже не раз обдумывал свой план покупки коночной линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, но все еще окончательно не решался взяться за это дело. У него имелось множество других обязательств, однако соблазн был велик, и он без устали размышлял над этим вопросом. Кредит, предложенный Стинером для манипуляций с Северной Пенсильванской линией, делал более реальной и аферу с линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуд в это время, в интересах городского казначейства, неусыпно следил за курсом облигаций городского займа: скупал крупные пакеты, когда на бирже намечалась тенденция к их падению, и продавал, правда, с большими предосторожностями, но не менее крупными партиями, заметив, что их курс поднимается. Для всех этих манипуляций ему необходимо было иметь в своем распоряжении немалые наличные суммы. Он все время опасался, как бы на бирже не произошел крах, ибо это привело бы к падению всех имевшихся у него ценностей и вдобавок от него еще потребовали бы покрытия задолженности. Правда, тогда никакой бури не предвиделось, и Каупервуд надеялся, что избегнет катастрофы, но все же не хотел слишком распылять свои средства. Теперь многое переменилось. Если он возьмет из городских средств сто пятьдесят тысяч долларов и вложит их в линию Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, это не будет значить, что он распыляет капитал, ибо новое предложение Стинера позволит ему обратиться к казначею, за большими кредитами для проведения других дел. Но если что-нибудь стрясется?.. Ну, да там будет видно! — Фрэнк, — сказал однажды Стинер (они уже давно называли друг друга по имени), зайдя к нему после четырех часов — время, когда работа в конторе приближалась к концу, — Стробик считает, что дело с Северной Пенсильванской линией достаточно подготовлено и нам пора за него приниматься. Мы выяснили, что контрольный пакет акций находится в руках некоего Колтона, не Айка Колтона, а Фердинанда. Не правда ли, странное имя? Потолстевший Стинер благодушно ухмыльнулся. Большие перемены произошли в его жизни с тех пор, как о случайно попал в городские казначеи. Вступив в эту должность, он стал прекрасно одеваться, и вся его особа светилась таким благодушием, такой самоуверенностью, что, посмотри он на себя со стороны, он, наверно, сам бы себя не узнал в своем новом обличье. Его маленькие глазки перестали шнырять из стороны в сторону, а вечная настороженность сменилась безмятежным спокойствием. Толстые ноги Стинера были обуты в добротные ботинки из мягчайшей кожи; плотный торс и жирные ляжки скрадывались отлично скроенным серовато-коричневым костюмом; остроконечный белый воротничок и коричневый шелковый галстук завершали его туалет. Широкая грудь постепенно переходила в округлое брюшко, на котором красовалась тяжелая золотая цепь, в белоснежных манжетах сверкали большие золотые запонки с довольно крупными рубинами. Весь он был какой-то розовый и упитанный. Одним словом — человек, явно преуспевающий. Из деревянного двухэтажного домишка на Девятой улице он переехал с семьей в куда более обширный каменный дом на Спринг-Гарден-стрит. Его жена завела знакомство с женами других местных политиканов. Дети учились в средней школе, что в свое время было для него несбыточной мечтой. Он владел теперь в разных частях города четырнадцатью или пятнадцатью дешевыми земельными участками, которые со временем обещали стать ценной недвижимостью, и состоял негласным акционером Южно-Филадельфийского металлургического общества и компании «Американская говядина и свинина» — двух предприятий, существовавших только на бумаге, вся деятельность которых заключалась в том, что они, получив от города подряды, передоверяли их скромным владельцам литейных мастерских и мясных лавок, умевшим выполнять приказания, не задавая лишних вопросов. — Да, имя необычное, — согласился Каупервуд. — Так, значит, он держатель акций? Я всегда считал, что эта линия не окупит себя: она слишком коротка. Ее следовало бы продолжить на три мили в сторону Кенсингтонского квартала. — Совершенно верно, — поддакнул Стинер. — Стробик не говорил вам, сколько Колтон хочет за свои акции? — Как будто по шестьдесят восемь долларов. — То есть по текущему курсу. Что ж, аппетит у него неплохой, а? По такой цене, Джордж, это составит, — он быстро прикинул в уме стоимость акций, находившихся в руках Колтона, — около ста двадцати тысяч только за его пакет. А это далеко не все. Есть еще судья Китчен, да Джозеф Зиммермен, да сенатор Доновэн. — Каупервуд имел в виду члена пенсильванского сената. — В общем, дельце обойдется вам недешево. А сколько еще придется затратить на продление линии! По-моему, это слишком накладно! Каупервуд подумал о том, как просто было бы слить эту линию с вожделенной линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, и, немного помолчав, спросил: — Скажите, Джордж, почему вы все ваши комбинации проводите через Стробика, Уайкрофта и Хармона? Разве мы вдвоем не могли бы справиться с этим делом, не привлекая еще нескольких участников! По-моему, это было бы куда выгоднее для вас! — Разумеется, разумеется! — воскликнул Стинер, и его круглые глаза уставились на собеседника с какой-то беспомощной мольбой. Каупервуд импонировал ему, и он всегда надеялся сблизиться с ним не только как с дельцом, но и как с человеком. — Я уже начал подумывать об этом. Но у них, Фрэнк, больше опыта в таких делах, чем у меня, ведь они уже столько времени занимаются ими. А я пока еще не очень-то хорошо во всем этом разбираюсь. Каупервуд мысленно улыбнулся, хотя лицо его оставалось бесстрастным. — Плюньте на них, Джордж! — продолжал он дружеским, конфиденциальным тоном. — Мы с вами можем и знаем столько же, сколько они, и справимся с этим делом не хуже, если не лучше их. Я знаю, что говорю. Возьмите хотя бы эту интересующую вас комбинацию с конкой. Мы вдвоем провели бы ее не хуже, чем с участием Уайкрофта, Стробика и Хармона. Высшей мудростью они не обладают. Деньги вносят не они, а вы. Их дело только протащить все это предприятие через законодательное собрание и муниципалитет. Причем в законодательном собрании они добьются не больше, чем кто-либо другой, я, например. Все зависит от договоренности с Рэлихеном, а на это нужно лишь ассигновать известную сумму. Что же касается городского совета, то в Филадельфии не один Стробик туда вхож. Каупервуд надеялся, что, заполучив в свои руки контроль над какой-нибудь дорогой, он переговорит с Батлером и добьется, чтобы тот ему посодействовал. Это, кстати, утихомирило бы Стробика и его присных. — Я не предлагаю вам менять ваши намерения относительно Северной Пенсильванской. Это, пожалуй, было бы неудобно. Но существуют ведь и другие комбинации. Может быть, в будущем мы с вами проведем вместе какое-нибудь дельце! Вам это будет весьма выгодно, да и мне тоже. На городском займе мы неплохо подработали, этого вы отрицать не станете. Подработали они и впрямь очень неплохо. Не говоря уже о барышах, доставшихся «китам», сам Стинер своим новым домом, земельными участками, счетом в банке, хорошими костюмами, всем своим изменившимся мироощущением был обязан удачным манипуляциям Каупервуда с сертификатами городского займа. К описываемому нами времени уже были выпущены четыре серии облигаций по двести тысяч долларов каждая; оборот Каупервуда с этими облигациями достигал почти трех миллионов, так как он то покупал, то продавал их, играя на повышение или на понижение, в зависимости от конъюнктуры. Стинер обладал теперь состоянием по крайней мере тысяч в сто пятьдесят долларов. — Я знаю здесь в городе одну линию, которую, при небольшой затрате энергии, можно было бы сделать очень доходной, — задумчиво продолжал Каупервуд. — Она слишком коротка, так же как Северная Пенсильванская, и обслуживает лишь малую территорию. Ее следует продолжить. Если бы нам с вами заполучить эту линию, мы могли бы объединить ее с управлением Северной Пенсильванской или какой-нибудь другой дороги. Таким образом, мы сэкономили бы на содержании конторы, служащих и на многом другом. Короче, при большом оборотном капитале всегда можно найти прибыльное дело. Он замолчал и, раздумывая о том, что сулит ему будущее, стал смотреть в окно своего изящно обставленного, обшитого полированным деревом кабинета. Окно это выходило на задворки здания, прежде бывшего жилым домом, а теперь занятого под конторы. Во дворе зеленела чахлая травка. Красная стена дома и старинная кирпичная ограда чем-то напомнили Каупервуду их дом на Нью-Маркет-стрит, куда приезжал дядя Сенека, кубинский негоциант, в сопровождении своего чернокожего слуги. Глядя в окно, Каупервуд видел его перед собой как живого. — Так почему же, — с важным видом спросил Стинер, клюнув на приманку, — нам с вами не завладеть этой линией! С финансовой стороны, думается мне, я мог бы обеспечить эту операцию. Какая, по-вашему, нам нужна сумма? Каупервуд снова улыбнулся тайком. — Точно я сейчас сказать не могу, — ответил он, помолчав. — Мне нужно досконально изучить этот вопрос. Беда в том, что я и без того уже взял немалые суммы из средств городского казначейства. Как вам известно, за мною числится двести тысяч долларов, выданных для операций с городским займом. Такая комбинация потребовала бы еще тысяч двести или триста. Если бы не это обстоятельство… Он думал о необъяснимых биржевых паниках, о столь типичных для Америки депрессиях, которые обусловливались не столько общим положением в стране, сколько характером самих американцев. — Если бы дело с Северной Пенсильванской линией было уже закончено… Он потер подбородок и разгладил свои холеные, шелковистые усы. — Больше не расспрашивайте меня, Джордж, — сказал он наконец, видя, что его собеседник уже ломает голову над тем, о какой линии идет речь. — И никому ни слова! Я сперва хорошенько проверю все, а потом мы с вами потолкуем. По-моему, есть смысл заняться этим несколько позднее, когда с Северной Пенсильванской все уже будет на мази. У меня сейчас столько хлопот, что я не решаюсь взяться еще за какое-нибудь дело. Пока что помалкивайте, а там увидим!.. Он склонился над своим столом, и Стинер встал. — Как только вы решите, Фрэнк, что пора действовать, я открою вам кредит на ту сумму, какая вам понадобится! — воскликнул он, дивясь про себя, что Каупервуд не так уж горит желанием взяться за это дело, несмотря на то, что может рассчитывать здесь на его, Стинера, поддержку, как, впрочем, и во всякой другой выгодной комбинации. Почему бы этому талантливому, оборотистому Каупервуду не обогатить их обоих? — Вы только уведомьте Стайерса, и он вам пришлет чек. Стробик находит, что мы должны действовать без промедления. — Я займусь этим, Джордж, — уверил его Каупервуд. — Все будет в порядке. Положитесь на меня. Стинер подрыгал толстыми ногами, расправляя брюки, и протянул Каупервуду руку. Погруженный в обдумывание нового замысла, он вышел на улицу. Спора нет, если он сумеет как следует спеться с Каупервудом, богатство ему обеспечено: этот человек на редкость удачлив и в высшей степени осторожен. Его новый дом, прекрасная контора, растущая популярность и хитроумные комбинации, которые он проводил в жизнь вместе с Батлером и другими, — все это внушало Стинеру настоящее благоговение. Еще одна линия конной железной дороги! Они завладеют и ею и Северной Пенсильванской! Ну, если так пойдет дальше, он, Джордж Стинер, жалкий агент по страхованию жизни и продаже недвижимого имущества, станет магнатом, да, да, настоящим магнатом! Погруженный в эти мечтания, он шел по улице, забыв о том, что существуют такие понятия, как гражданский долг и общественная нравственность.Глава 22
В ближайшие полтора года Каупервуд оказывал многочисленные тайные услуги Стинеру, Стробику. Батлеру, казначею штата Ван-Ностренду, члену пенсильванского сената Рэлихену, так называемому «представителю финансовых кругов» в Гаррисберге, и различным банкам, с которыми эти джентльмены поддерживали дружественные отношения. В интересах Стинера, Стробика, Уайкрофта, Хармона, не позабыв, конечно, и самого себя, он провел дело с Северной Пенсильванской линией, после чего сделался держателем пятой части всех акций этой дороги. Вместе со Стинером он скупил акции коночной линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц и также на паях с ним начал игру на фондовой бирже. Летом 1871 года, когда Каупервуду было около тридцати четырех лет, его банкирская контора оценивалась в два миллиона долларов, из которых едва ли не полмиллиона принадлежали ему лично, и, судя по перспективам, открывавшимся перед ним, он в скором времени мог стать соперником любого американского богача. Город — в лице своего казначея Стинера — был его вкладчиком на сумму около пятисот тысяч долларов. Штат — в лице своего казначея Ван-Ностренда — доверил ему свыше двухсот тысяч долларов. Боуд накупил акций конных железных дорог на пятьдесят тысяч долларов, Рэлихен — на точно такую же сумму. Целая орава политических деятелей и их прихвостней держала у него свои деньги. Онкольный счет Эдварда Мэлии Батлера временами доходил до ста пятидесяти тысяч. Задолженность Каупервуда различным банкам, зависевшая от того, какие из его ценностей находились в закладе, колебалась от семисот до восьмисот тысяч долларов. Подобно пауку в серебристой паутине, каждая нить которой им самим тщательно соткана и испытана, Каупервуд, находясь в центре сети блистательных деловых связей, зорко следил за всем, что происходило вокруг. Заветным его делом, которому он предавался с большей страстью, чем всем другим, были манипуляции с акциями конных железных дорог, и прежде всего — с акциями линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, фактический контроль над которой находился в его руках. Благодаря авансовому кредиту, открытому Стинером банкирской конторе Каупервуда в то время, когда акции этой линии котировались особенно низко, ему удалось скупить пятьдесят один процент всех акций для себя и для Стинера, и теперь он мог распоряжаться дорогой по собственному благоусмотрению. Для этого ему пришлось прибегнуть к методам весьма «своеобразным», как их впоследствии называли в финансовых кругах, но зато он скупил акции по цене, назначенной им самим. Сначала он через своих агентов вчинил компании ряд исков, требуя возмещения убытков, якобы вызванных неуплатой причитавшихся с нее процентов. Небольшой пакет акций в руках подставного лица, ходатайство перед судом о назначении ревизии, которая установила бы, не следует ли учредить опеку по делам компании, одновременная атака с нескольких сторон на бирже, где акции этой компании стали предлагать на три, пять, семь и десять пунктов ниже курса, — совокупность всех этих действий заставила перепуганных акционеров выбросить свои бумаги на рынок. Банки пришли к заключению, что эта линия конки — слишком рискованное предприятие, и потому потребовали от компании погашения задолженности. Банк, где работал отец Каупервуда, в свое время выдал ссуду одному из главных акционеров дороги и теперь тоже потребовал возвращения денег. Затем — опять-таки через подставное лицо — начаты были переговоры с крупнейшими акционерами: им, мол, предоставляется возможность выпутаться из создавшегося положения, продав свои акции из расчета по сорок долларов за сто. Поскольку у них не было никакой возможности установить, откуда сыплются все эти напасти, они вообразили, — хотя в этом не было и крупицы истины, — что дорога находится в запущенном состоянии. Лучше отделаться от нее! Деньги у Каупервуда и Стинера уже были наготове, и они стали обладателями пятидесяти одного процента акций. Но поскольку Каупервуд, как и в афере с Северной Пенсильванской линией, втихомолку скупал у мелких акционеров все, что можно было скупить, контрольный пакет, равный пятидесяти одному проценту акций, практически оказался в его руках, а Стинер являлся держателем еще двадцати пяти процентов. Это опьянило Каупервуда, ибо он теперь увидел возможность осуществить свою давнишнюю мечту, а именно: реорганизовать эту линию путем слияния ее с Северной Пенсильванской, выпустить по три новых акции на каждую старую, сбыть их все, за исключением контрольного пакета, затем, с помощью вырученных сумм, войти пайщиком в другие компании конных железных дорог, раздуть ценность новоприобретенных бумаг и в конце концов продать их по этой раздутой цене. Короче говоря, Каупервуд был одним из тех первых дерзких спекулянтов, которые позднее захватили в свои руки другие, еще более важные отрасли американского хозяйства и в целях личного обогащения в конце концов целиком подчинили его себе. Что же касается этого первого слияния нескольких линий, то план Каупервуда состоял в следующем: распустить слухи о предстоящем слиянии двух компаний, исхлопотать в законодательных органах разрешение на продолжение линий, отпечатать заманчивые рекламные проспекты, а позднее и годичные отчеты и в результате взвинтить акции на фондовой бирже, насколько ему позволят его с каждым днем все возрастающие материальные ресурсы. Трудность этой операции заключалась в том, что для создания возможностей, благоприятствующих распространению и сбыту такой огромной партии акций (на сумму свыше полумиллиона), да еще при намерении оставить на полмиллиона этих акций у себя, необходимо располагать очень большим капиталом. В подобных случаях недостаточно производить на бирже фиктивные покупки, тем самым вызывая фиктивный спрос. Когда такой искусственный ажиотаж введет публику в заблуждение и позволит сбыть значительную часть акций, придется еще довольно долго поддерживать их курс, для того чтобы окончательно с ними разделаться. Если бы, к примеру, Каупервуд, как это и было в данном случае, продал пять тысяч акций, а пять тысяч оставил за собой, ему пришлось бы приложить все усилия, чтобы поддержать на определенном уровне курс сбытых им акций, ибо в противном случае неминуемо упали бы в цене и акции, оставшиеся у него на руках. Если же — как это делалось почти всегда — он заложил бы свои акции в банке, а полученные под них деньги использовал в других сделках, то при резком падении курса его акций банк, отстаивая свои интересы, потребовал бы добавочного обеспечения или даже полного покрытия задолженности. А это уже значило бы, что его афера потерпела крах и ему самому грозит банкротство. Сейчас Каупервуд проводил сложнейшую финансовую кампанию в связи с выпуском городского займа, курс которого непрерывно колебался, но в данном случае эти колебания были для него более чем желательны, ибо в конечном счете он на них наживался. Новое нелегкое бремя, при всей заманчивости предприятия, требовало удвоенной бдительности. Продав акции по высокому курсу, он сможет вернуть ссуду, взятую у городского казначея. Его собственные акции в результате прозорливости, умения извлекать выгоду даже из отдаленного будущего и ловко составленных проспектов и отчетов будут котироваться по нарицательной стоимости или только чуть-чуть уступят ей. У него будут деньги, которые он вложит в другие конно-железнодорожные линии. Не исключено, что он со временем приберет к рукам финансовое руководство всей системой конных железных дорог и тогда станет миллионером. Одна из хитроумных выдумок Каупервуда, свидетельствовавшая о дальновидности и недюжинном уме этого человека, заключалась в том, что по мере удлинения существующих линий или прокладки новых веток он всякий раз создавал самостоятельные предприятия. Скажем, владея линией протяжением в две-три мили и пожелав продолжить ее на такую же дистанцию и по той же улице, Каупервуд не передавал этот новый участок существующему акционерному обществу, а создавал новую компанию, которая и контролировала эти дополнительные две-три мили конной дороги. Это предприятие он капитализировал в определенную сумму, на которую выпускал акции и облигации, что давало ему возможность немедленно приступать к прокладке новой линии и быстро пускать ее в действие. Покончив с этим, он вливал дочернее предприятие в первоначальную компанию, выпуская при этом новую серию акций и облигаций, которым предварительно обеспечивал широкий сбыт. Даже братья, работавшие на него, не знали всех многочисленных разветвлений его деятельности и только слепо выполняли его приказания. Случалось, что Джозеф озадаченно говорил Эдварду: — Гм! Фрэнк, надо думать, все-таки отдает себе отчет в своих действиях. С другой стороны, Каупервуд внимательно следил за тем, чтобы все его текущие обязательства оплачивались своевременно или даже досрочно, так как ему важно было показать всем свою неукоснительную платежеспособность. Ничего нет ценнее хорошей репутации и устойчивого положения. Его дальновидность, осторожность и точность очень нравились руководителям банкирских домов, и за ним действительно укрепилась слава одного из самых здравомыслящих и проницательных дельцов. И все же случилось так, что к лету 1871 года ресурсы Каупервуда оказались изрядно распыленными, хотя и не настолько, чтобы положение его можно было назвать угрожающим. Под влиянием успеха, всегда ему сопутствовавшего, он стал менее тщательно обдумывать свои финансовые махинации. Мало-помалу, преисполненный веры в воплощение всех своих замыслов, он и отца убедил принять участие в спекуляциях с конными железными дорогами. Старый Каупервуд, пользуясь средствами Третьего национального банка, должен был частично финансировать сына и открывать ему кредит, когда тот срочно нуждался в деньгах. Вначале старый джентльмен немного нервничал и был настроен скептически, но, по мере того как время шло и ничего, кроме прибыли, ему не приносило, он осмелел и почувствовал себя гораздо увереннее. — Фрэнк, — спрашивал он иногда, глядя на сына поверх очков, — ты не боишься зарваться? В последнее время ты заимствовал очень большие суммы. — Не больше, чем бывало раньше, отец, если учесть мои ресурсы. Крупные дела нельзя делать без широкого кредита. Ты знаешь это не хуже меня. — Это, конечно, верно, но… Возьмем, к примеру, линию Грин и Коутс, — смотри, как бы тебе там не увязнуть. — Пустое. Я досконально знаком с положением дел этой компании. Ее акции рано или поздно должны подняться. Я сам их взвинчу. Если понадобится, я пойду на то, чтобы слить эту дорогу с другими моими линиями. Старый Каупервуд удивленно посмотрел на сына. Свет еще не видывал такого дерзкого, бесстрашного комбинатора! — Не беспокойся обо мне, отец! А если боишься, лучше потребуй погашения взятых мною ссуд. Мне любой банкир даст денег под мои акции. Я просто предпочитаю, чтобы прибыль доставалась твоему банку. Генри Каупервуд сдался. Против таких доводов ему нечего было возразить. Его банк широко кредитовал Фрэнка, но в конце концов не шире, чем другие банки. Что же касается его собственных крупных вложений, в предприятия сына, то Фрэнк обещал заблаговременно предупредить его, если настанет критический момент, Братья Фрэнка тоже всегда действовали под его диктовку, и теперь их интересы были уже неразрывно связаны с его собственными. Богатея день ото дня, Каупервуд вел все более широкий образ жизни. Филадельфийские антиквары, прослышав о его художественных наклонностях и растущем богатстве, наперебой предлагали ему мебель, гобелены, ковры, произведения искусства и картины — сперва американских, а позднее уже исключительно иностранных мастеров. Как в его собственном доме, так и в отцовском было ещенедостаточно красивых вещей, а вдобавок существовал ведь и дом на Десятой улице, который ему хотелось украсить как можно лучше. Эйлин всегда неодобрительно отзывалась о жилище своих родителей. Любовь к изящным вещам была неотъемлемой особенностью ее натуры, хотя она, возможно, и не сознавала этого. Уголок, где происходили их тайные встречи, должен быть уютно и роскошно обставлен. В этом они оба был-и твердо убеждены. Итак, постепенно дом превратился в подлинную сокровищницу: некоторые комнаты здесь были меблированы еще изысканнее, чем в особняке Фрэнка. Он начал собирать здесь редкие экземпляры средневековых церковных риз, ковров и гобеленов. Приобрел мебель во вкусе эпохи короля Георга — сочетание Чиппендейла, Шератона и Хеплуайта, несколько видоизмененное под влиянием итальянского ренессанса и стиля Людовика Четырнадцатого. Он ознакомился с прекрасными образцами фарфора, скульптуры, греческих ваз, с восхитительными коллекциями японских резных изделий из слоновой кости. Флетчер Грей, молодой совладелец фирмы «Кейбл и Грей», специализировавшейся на ввозе произведений искусства, как-то зашел предложить Каупервуду гобелен XIV столетия. Подлинный энтузиаст антикварного дела, он сразу сумел заразить Каупервуда своей сдержанной и вместе с тем пламенной любовью ко всему прекрасному. — В создании одного только определенного оттенка голубого фарфора различают пятьдесят периодов, мистер Каупервуд! — рассказывал Грей. — Мы знаем ковры по меньшей мере семи различных школ и эпох — персидские, армянские, арабские, фламандские, современные польские, венгерские и так далее. Если вы когда-нибудь заинтересуетесь этим делом, я бы очень советовал вам приобрести полную — я хочу сказать, характерную для одного какого-нибудь периода или же всех периодов в целом — коллекцию ковров. Как они прекрасны! Некоторые коллекции я видел собственными глазами, о других только читал. — Вам не так уж трудно обратить меня в свою веру, — отвечал Каупервуд. — Искусство со временем еще приведет меня к разорению. Я по самой своей природе к нему неравнодушен, а вы с Элсуортом и Гордоном Стрейком, — он имел в виду знакомого юношу, страстного любителя живописи, — совсем меня доконаете. Стрелка осенила блестящая идея. Он предлагает, чтобы я незамедлительно начал собирать образцы шедевров, характерные для различных школ и эпох, и уверяет, что полотна крупных мастеров со временем будут возрастать в цене и то, что я теперь куплю за несколько сот тысяч, впоследствии будет оцениваться в миллионы. Но он не советует мне заниматься американскими художниками. — Он прав, хотя и не в моих интересах хвалить конкурента! — воскликнул Грей. — Только для этой затеи нужны огромные деньги. — Не такие уж огромные. И, во всяком случае, не сразу. Для осуществления такого замысла потребуются годы. Стрейк считает, что и сейчас можно раздобыть прекрасные образцы разных школ с тем, чтобы впоследствии заменить их, если представится что-нибудь лучшее. Несмотря на внешнее спокойствие Каупервуда, его душа всегда чего-то искала. Вначале единственным его устремлением было богатство да еще женская красота. Теперь он полюбил искусство ради него самого, и это было как первые проблески зари на небе. Он начал понимать, что женская красота должна быть окружена всем самым прекрасным в жизни и что для подлинной красоты есть только один достойный фон — подлинное искусство. Эта девочка — Эйлин Батлер, еще такая юная и вся светящаяся прелестью, пробудила в нем стремление к красоте, раньше ему не свойственное до таких пределов. Невозможно определить те тончайшие реакции, которые возникают в результате взаимодействия характеров, ибо никто не знает, в какой степени влияет на нас предмет нашего восхищения. Любовь, вроде той, что возникла между Каупервудом и Эйлин, — это капля яркой краски в стакане чистой воды или, вернее, неизвестное химическое вещество, привнесенное в сложнейшее химическое соединение. Короче говоря, Эйлин Батлер, несмотря на свою юность, была несомненно сильной личностью. Ее почти безрассудное честолюбие являлось своего рода протестом против серого домашнего окружения. Не следует забывать, что, родившись в семье Батлеров, она в течение многих лет была одновременно и носительницей и жертвою их примитивно-антихудожественных мещанских взглядов на жизнь, тогда как теперь благодаря общению с Каупервудом она узнала о таких сокровищах жизни, даруемых человеку богатством и высоким общественным положением, о каких раньше и не подозревала. Как пленяла ее, например, мысль о будущих светских успехах, когда она станет женой Фрэнка Каупервуда! А его яркий и блестящий ум, раскрывавшийся перед нею в долгие часы свиданий, ум, которым она не могла не восхищаться, слушая четкие, ясные объяснения и наставления Фрэнка! Как великолепны были его мечты и планы, касающиеся финансовой карьеры, искусства, общественного положения. А главное, главное — она принадлежала ему, и он принадлежал ей! Бывали минуты, когда у нее голова шла кругом от восторга и счастья. И в то же время сознание, что все в Филадельфии помнили ее отца как бывшего мусорщика («навозный жук» — называли его старые знакомые), ее собственные тщетные усилия в борьбе с безвкусицей и вульгарностью их домашнего быта, невозможность получить доступ в роскошные особняки, казавшиеся ей «святая святых» незыблемой респектабельности и высокого положения, — все это заронило в ее юную душу неукротимую вражду к атмосфере отцовского дома. Жизнь там не идет ни в какое сравнение с жизнью в доме Каупервудов. Она любит отца, но до чего он невежествен! И все же этот исключительный человек, ее возлюбленный, снизошел до любви к ней, снизошел даже до того, что видит в ней свою будущую жену! О боже, только бы это сбылось! Вначале она надеялась через Каупервудов свести знакомство со светской молодежью, особенно с мужчинами, стоящими выше ее на общественной лестнице, — их должна увлечь ее красота и положение богатой наследницы. Но эта надежда не оправдалась. Каупервуды и сами, несмотря на художественные наклонности Фрэнка и его растущее богатство, еще не проникли в замкнутый круг высшего общества. В сущности, они были от этого еще очень далеки, если не считать того поверхностного и, так сказать, предварительного внимания, которое им оказывалось. Тем не менее Эйлин инстинктивно угадывала, что Каупервуд поможет ей найти выход из нынешнего положения и обеспечит для нее великолепное будущее. Этот человек поднимется до высот, о которых он и сам еще не смеет мечтать, она в этом уверена. В нем таились — пусть в неясной, едва различимой форме — великие задатки, сулившие больше того, о чем помышляла Эйлин. Она жаждала роскоши, блеска и положения в обществе. Ну что ж, все это придет, если он будет принадлежать ей. Правда, на их пути стояли препятствия, на первый взгляд непреодолимые, но ведь оба они целеустремленные люди. Как два леопарда в чаще, обрели они друг друга. Ее помыслы, незрелые, лишь наполовину сложившиеся и наполовину выраженные, по своей силе и неуклонной прямоте не уступали его дерзким стремлениям. — По-моему, папа просто не умеет жить, — сказала она однажды Каупервуду. — Это не его вина, и он тут, собственно, ни при чем. Он и сам это сознает и сознает, что я-то уж сумела бы устроить жизнь. Сколько лет я пытаюсь вытащить его из нашего старого дома! Он понимает, как нам необходимо переехать. Но, впрочем, от этого тоже не будет никакого проку. Она умолкла и устремила на Фрэнка свой прямой, ясный и смелый взгляд. Он любил ее строгие черты, их безукоризненную, античную лепку. — Не огорчайся, девочка моя, — отвечал он, — со временем все уладится. Я еще не знаю сейчас, как вылезти из всей этой путаницы, но, кажется, лучше всего будет открыться Лилиан, а затем уж обдумать дальнейший план действий. Я должен устроить все так, чтобы дети не пострадали. У меня есть возможность прекрасно обеспечить их, и я нисколько не удивлюсь, если Лилиан отпустит меня с миром. Я почти уверен, что она захочет избежать сплетен и пересудов. Он смотрел на все это с чисто практической и притом мужской точки зрения, строя свои расчеты на любви Лилиан к детям. Эйлин вопросительно взглянула на него. Способность сочувствовать горю ближнего была до какой-то степени заложена в ней, но в данном случае она считала всякое сострадание излишним. Лилиан никогда не относилась к ней дружелюбно, у них были слишком различные взгляды на жизнь. Миссис Каупервуд не понимала, как может девушка так задирать нос и «воображать о себе», а Эйлин не могла понять, как может Лилиан Каупервуд быть такой вялой и жеманной. Жизнь создана для того, чтобы скакать верхом, кататься в экипаже, танцевать, веселиться. И еще для того, чтобы задирать нос, дразнить, пикироваться, кокетничать. Тошно смотреть на эту женщину: жена такого молодого, такого замечательного человека, как Каупервуд, — неважно, что она пятью годами старше его и мать двоих детей, — а ведет себя, словно для нее уже не существует ни романтики, ни восторгов и радостей жизни. Конечно, Лилиан не пара Фрэнку. Конечно, ему нужна молодая женщина, нужна она, Эйлин, и судьба должна соединить их. О, как восхитительно они заживут тогда! — Ах, Фрэнк, если бы все наконец уладилось! — то и дело восклицала она. — Как ты считаешь, можем мы надеяться или нет? — Можем ли мы надеяться? Еще бы! Это только вопрос времени. По-моему, если я скажу Лилиан все без обиняков, она и сама не захочет, чтобы я оставался с ней. Только смотри, веди себя осторожно! Если твой отец или братья заподозрят меня, в городе произойдет грандиозный скандал, а не то и что-нибудь похуже. Они либо убьют меня на месте, либо доведут до полного разорения. Скажи, ты тщательно взвешиваешь все свои поступки? — Я ни на секунду не забываю об этом. Если что-нибудь случится, я буду начисто все отрицать. Доказать они ничего не могут. Рано или поздно я все равно стану твоей навсегда! Разговор происходил в доме на Десятой улице. Без ума влюбленная Эйлин ласково провела рукой по лицу Фрэнка. — Для тебя я сделаю все на свете, любимый, — сказала она. — Я готова умереть за тебя. О, как я тебя люблю! — Ну, девочка моя, это тебе не грозит. Умирать тебе не придется. Будь только осмотрительна.Глава 23
И вот после нескольких лет тайной связи Каупервуда с Эйлин, в продолжение которых узы их взаимного влечения и понимания не только не ослабели, но даже окрепли, грянула буря. Беда обрушилась нежданно, как гром среди ясного неба и вне всякой зависимости от человеческой воли или намерений. Вначале это был всего только пожар, к тому же случившийся вдали от Филадельфии — знаменитый чикагский пожар 7 октября 1871 года, когда город, вернее, его обширный торговый район, выгорел дотла, и эта катастрофа мгновенно вызвала отчаянную, хотя и непродолжительную панику в финансовом мире Америки. Пожар, вспыхнувший в субботу, с неослабной силой бушевал вплоть до среды, уничтожив банки, торговые предприятия, пристани, железнодорожные пакгаузы и целые кварталы жилых домов. Наибольший урон, естественно, понесли страховые компании, и большинство их вскоре прекратило платежи. Вследствие этого вся тяжесть убытков легла на иногородних промышленников и оптовых торговцев, имевших дела с Чикаго, а также на чикагских коммерсантов. Огромные потери понесли и многие капиталисты Восточных штатов, вот уже много лет являвшиеся владельцами или арендаторами великолепных контор и особняков, которыми Чикаго уже тогда мог поспорить с любым городом на материке. Сообщение с Чикаго прервалось, и Уолл-стрит в Нью-Йорке, Третья улица в Филадельфии и Стэйт-стрит в Бостоне по первым же депешам учуяли всю серьезность положения. В субботу и воскресенье уже ничего нельзя было предпринять, так как первые вести пришли после закрытия биржи. Зато в понедельник новости стали поступать непрерывным потоком. Тотчас же держатели акций и облигаций — железнодорожных, государственных, городских, иными словами, ценностей всех видов и разрядов — начали выбрасывать их на рынок, с целью выручить наличные деньги. Банки, естественно, стали требовать погашения ссуд, и в результате на фондовой бирже возникла паника, по своим размерам равная «Черной пятнице», случившейся за два года до того в Нью-Йорке. Когда пришло сообщение о пожаре, ни Каупервуда, ни его отца не было в городе. Вместе с несколькими банковскими деятелями они отправились осматривать трассу пригородной конно-железнодорожной линии, на продолжение которой испрашивалась ссуда. Они проехали в кабриолетах вдоль значительной части будущей линии и, вернувшись в воскресенье поздно вечером в Филадельфию, услышали крикливые голоса мальчишек-газетчиков: — Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Подробности чикагского пожара! — Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Чикаго в огне! Экстренный выпуск! Протяжные, зловещие, душераздирающие крики. В сумерках этого тоскливого вечера, когда город словно пребывал в созерцательно-молитвенном настроении после воскресного дня, а в воздухе и листве деревьев уже чувствовалось умирание лета, они заставляли сердца сжиматься в мрачном предчувствии беды. — Эй, мальчик! — прислушавшись, окликнул Каупервуд маленького оборвыша, вынырнувшего из-за угла с кипой газет под мышкой. — Что такое? Чикаго горит?! Многозначительно переглянувшись с отцом и другими дельцами, он протянул руку за газетой, пробежал глазами заголовки и мгновенно оценил размеры беды.ЧИКАГО В ОГНЕ! Со вчерашнего вечера пламя безудержно бушует в торговой части города. Банки, торговые и общественные здания обращены в пепел. Прямая телеграфная связь прервана сегодня с трех часов пополудни. Никакой надежды на скорое окончание катастрофы.— Дело, по-видимому, серьезное, — спокойно произнес Каупервуд, обращаясь к своим спутникам; в его глазах и в голосе промелькнуло что-то холодное и властное. Отцу он немного позже шепнул: — Это грозит паникой, если только банки и биржевые конторы не станут действовать заодно. Быстро, отчетливо и ясно он воссоздал картину своей собственной задолженности. В банке отца заложено на сто тысяч акций его конно-железнодорожных линий, под них взято шестьдесят процентов, а под сертификаты городского займа, которых у него имелось на пятьдесят тысяч долларов, — семьдесят процентов. Для проведения биржевых операций с этими ценностями старый Каупервуд дал ему свыше сорока тысяч долларов наличными. Банкирский дом «Дрексель и К°» по книгам Фрэнка открыл ему кредит на сумму в сто тысяч долларов; они, конечно, потребуют немедленного погашения задолженности, если ими не овладеет внезапный приступ милосердия, что маловероятно. Компания «Джей Кук» тоже кредитовала его на полтораста тысяч. Они, несомненно, потребуют уплаты. Четырем банкам помельче и трем биржевым конторам он задолжал тысяч по пятьдесят долларов. Участие городского казначея в его делах выражалось в-сумме около пятисот тысяч, и если это откроется — скандал неизбежен; казначей штата тоже внес в его контору двести тысяч. Далее имелись еще сотни мелких счетов на суммы от ста до пяти и десяти тысяч долларов. Биржевая паника повлечет за собой не только востребование вкладов и необходимость погасить ссуды, но и сильно ударит по курсу ценных бумаг. Как ему реализовать свои ценности? Вот в чем вопрос. Как умудриться продать их ненамного ниже курса, ибо иначе это поглотит все его состояние и он неизбежно разорится? Он быстро взвешивал в уме все, чем грозило ему создавшееся положение, пока прощался с друзьями, которые расходились по домам тоже в мрачном раздумье о предстоявших затруднениях. — Поезжай домой, отец, а мне нужно отправить несколько телеграмм (телефон тогда еще не был изобретен). Я скоро вернусь, и мы вместе обсудим положение. Дело скверное! Никому ни слова, прежде всего переговорим между собой. Необходимо выработать план действий. Старший Каупервуд уже пощипывал свои бакенбарды с растерянным и встревоженным видом. Он напряженно думал о том, что будет с ним, если сын обанкротится, так как по уши увяз в его делах. Лицо старика от испуга посерело, ибо, идя навстречу пожеланиям сына, он далеко перешагнул за пределы дозволенного. Если Фрэнк не в состоянии будет, по требованию банка, завтра же погасить ссуду в полтораста тысяч долларов, вся ответственность, весь позор падет на отца. Фрэнк со своей стороны напряженно обдумывал ситуацию, еще более усложнявшуюся его связью с городским казначеем и тем, что в одиночку ему, конечно, не удастся поддержать курс ценностей на бирже. Тем, кто мог бы его выручить, самим приходилось туго. Обстоятельства складывались весьма неблагоприятно. Компания «Дрексель» в последнее время вздувала курс железнодорожных акций и брала под них крупные ссуды. Компания «Джей Кук» финансировала Северную Тихоокеанскую железную дорогу, изо всех сил стараясь не допускать других к участию в строительстве этой грандиозной трансконтинентальной линии. Разумеется, они теперь сами очутились в весьма щекотливом положении. При первом тревожном известии они бросятся сбывать наиболее надежные ценности — правительственные облигации и тому подобное, — лишь бы спасти другие свои бумаги, на которых можно спекулировать. «Медведи» сразу почуют наживу и примутся без зазрения совести сбивать цены, распродавая решительно все. Он же не смеет следовать их примеру. Так можно живо сломать себе шею, а для него самое главное — выгадать время. О, если бы у него было время, три дня, неделя, десять дней, гроза, несомненно, прошла бы стороной. Больше всего он тревожился из-за полумиллиона долларов, вложенных Стинером в его предприятие. Приближались осенние выборы. Кандидатура Стинера, хотя он уже пробыл на своем посту два срока, была выставлена в третий раз. Злоупотребления, обнаруженные в городском казначействе, привели бы к весьма серьезным последствиям. Служебной карьере Стинера пришел бы конец, сам он скорее всего оказался бы на скамье подсудимых. А для республиканской партии это означало провал на выборах. Ему, Каупервуду, тоже не удастся остаться в стороне, слишком глубоко он увяз во всем этом деле. Если гроза разразится, он должен будет держать ответ перед заправилами республиканской партии. При сильном нажиме он неминуемо обанкротится, а тогда выплывет на свет не только то, что он пытался наложить руки на конные железные дороги — эти «заповедники», которые политические дельцы бережно хранили для себя, но еще и делал это при помощи незаконных ссуд из городского казначейства, из-за чего им теперь грозит поражение на выборах. На такие дела они не станут смотреть сквозь пальцы. Ему не помогут заверения, что он платил за эти деньги два процента годовых (в большинство договоров он из осторожности включал этот пункт) или же что он действовал лишь как агент Стинера. Люди непосвященные еще могли бы этому поверить, но опытных политиков так просто не проведешь. Они и не такие виды видывали. Одно лишь обстоятельство не давало Каупервуду окончательно пасть духом: он слишком хорошо знал, как орудуют политические заправилы его города. Каждый из них, какое бы высокое положение он ни занимал, в эти критические минуты отбросит свою спесь, ибо все они, снизу и до самых верхов, извлекают для себя выгоды из предоставляемых городом льгот. Батлер, Молленхауэр и Симпсон — Каупервуд это знал — наживались на подрядах, как будто бы вполне законных, но распределявшихся только между «своими», и на огромных суммах, взимаемых городом в виде налогов — поземельного, налога на воду и т. д. — и депонируемых в тех банках, которые рекомендовала эта тройка и некоторые другие лица. Считалось, что банки оказывают городу услугу, храня его деньги в своих сейфах; поэтому они не платили процентов по этим вкладам, но пускали их в оборот, спрашивается, в чьих же интересах? У Каупервуда не было никаких оснований быть недовольным пресловутой тройкой, эти люди относились к нему совсем неплохо, но почему они считают себя монополистами по использованию всех доходов города? Он не знал лично ни Молленхауэра, ни Симпсона, но ему было известно, что они, так же как и Батлер, неплохо нажились на его махинациях с выпуском городского займа. Опять-таки Батлер был к нему чрезвычайно расположен. Не исключено, что, если все обернется из рук вон плохо и он, Каупервуд, откроет свои карты Батлеру, тот, учитывая всю напряженность положения, придет ему на помощь. Он уже мысленно решил так и поступить, если не удастся вывернуться без всякой огласки, с помощью одного только Стинера. Но прежде всего, думал он, разрабатывая план действий, следует отправиться к Стинеру на дом и потребовать у него дополнительной ссуды в триста — четыреста тысяч долларов. Стинер и всегда-то отличался сговорчивостью, а в данном случае он, конечно, поймет, как важно, чтобы полумиллионная недостача в его кассе не сделалась достоянием гласности. Далее необходимо раздобыть еще денег, как можно больше. Но откуда? Придется вступить в переговоры с директорами банков и акционерных компаний, с крупными биржевиками и прочими деловыми людьми. Что же касается тех ста тысяч долларов, которые он должен Батлеру, то старый подрядчик, пожалуй, согласится повременить с востребованием этой суммы. Каупервуд поспешил домой, еще с порога велел закладывать экипаж и поехал к Стинеру. К вящему его огорчению оказалось, что Стинера нет в городе — он уехал с друзьями в бухту Чезапик стрелять уток и ловить рыбу; его ждали лишь через несколько дней. А сейчас он бродит по болотам, вблизи одного маленького городка. Каупервуд отправил срочную депешу в ближайший к этому городку телеграфный пункт и для большей уверенности телеграфировал еще в несколько мест той округи, прося Стинера немедленно вернуться. Несмотря на все это, он отнюдь не был уверен, что Стинер успеет приехать вовремя, и не знал, что делать дальше. Ему нужна была помощь, безотлагательная помощь из какого угодно источника. Внезапно у него мелькнула обнадеживающая мысль. Батлер, Молленхауэр и Симпсон — крупнейшие акционеры конных железных дорог. Они должны объединиться, чтобы поднять цены на бирже и тем самым оградить свои же интересы. Они могут вступить в переговоры с такими крупными банками, как «Дрексель и К°», «Кук» и прочие, и настоять, чтобы те поддержали рынок. Они могут повлиять на конъюнктуру, совместно скупая акции; при такой поддержке он сумеет продать свои ценные бумаги на сумму, которая даст ему возможность обернуться, более того, не исключено, что ему удастся сыграть на понижение и неплохо заработать. Это была блестящая идея, достойная лучшего применения, и единственным слабым ее местом было отсутствие полной уверенности в том, что она осуществима. Он решил тотчас же ехать к Батлеру, сокрушаясь лишь о том, что придется выдать себя и Стинера. Но что поделаешь! Каупервуд сел в экипаж и помчался к Батлеру. В это время старый подрядчик сидел за обеденным столом. Он не слыхал, как газетчики выкликали экстренные выпуски, и еще ничего не знал о грандиозном пожаре в Чикаго. Когда слуга доложил о Каупервуде, Батлер встал и, приветливо улыбаясь, пошел ему навстречу. — Милости просим, присаживайтесь. Что прикажете: чаю или кофе? — Благодарю вас, — отвечал Каупервуд. — Но я сегодня очень спешу. Мне необходимо потолковать с вами несколько минут, затем я должен ехать дальше. Я вас долго не задержу. — Ну что ж, ежели так, я сейчас буду к вашим услугам. И Батлер вернулся в столовую положить салфетку, которая была заткнута у него за воротник. Эйлин, также сидевшая за столом, узнала голос Каупервуда и насторожилась. Как бы его повидать? Что привело его к отцу в столь неурочный час? Ей неловко было тут же встать из-за стола, но она надеялась до ухода Каупервуда успеть перекинуться с ним словечком. Каупервуд думал о ней даже сейчас, когда над ним вот-вот могла разразиться гроза, как думал и о жене и о многом другом. Если он не избегнет краха, тяжело придется всем, кто с ним связан. Он не мог сказать, во что все это выльется, ведь пока тучи еще только застилали горизонт. Каупервуд снова и снова напряженно обдумывал положение, продолжая сохранять полное спокойствие духа. Спокойными оставались и его классически правильные черты, только глаза ярче обычного сияли холодным, стальным блеском. — Итак, я слушаю, — сказал Батлер, возвращаясь. Лицо его выражало полное довольство судьбой и всем миром. — Что у вас приключилось? Надеюсь, ничего серьезного? Слишком уж сегодня хороший день! — Я и сам надеюсь, что ничего особенно серьезного, — отвечал Каупервуд. — Но все же мне необходимо с вами поговорить. Не лучше ли подняться к вам в кабинет? — Я это как раз хотел предложить, — отозвался Батлер. — Да, кстати, и сигары у меня наверху. Они пошли к лестнице, Батлер впереди, Каупервуд — следом за ним; когда старый подрядчик стал подниматься наверх, из столовой, шурша шелковым платьем, вышла Эйлин. Ее великолепные волосы, зачесанные кверху со лба и с затылка, сплетались на макушке, образуя причудливую золотисто-рыжую корону. Лицо ее пылало, а оголенные руки и плечи, выступая из темно-красного платья, казались ослепительно белыми. Она сразу почувствовала что-то неладное. — А, мистер Каупервуд, как поживаете? — воскликнула она, протягивая ему руку, меж тем как ее отец продолжал подниматься по лестнице. Она старалась задержать Фрэнка, чтобы перекинуться с ним несколькими словами, и ее развязно-небрежная манера обращения предназначалась для окружающих. — Что случилось, дорогой? — прошептала она, когда отец уже был на верхней площадке. — У тебя озабоченный вид. — Надеюсь, ничего страшного, девочка, — отвечал он. — Чикаго горит, и завтра здесь поднимется невероятная суматоха. Мне нужно поговорить с твоим отцом. Она успела только произнести сочувственное и испуганное «ой!», а Каупервуд, высвободив руку, последовал за ее отцом. Еще раз сжав его локоть, Эйлин прошла в гостиную. Там она села и погрузилась в раздумье, ибо никогда еще не видела на лице Каупервуда столь сосредоточенно-сурового выражения. Спокойное лицо, словно вылепленное из воска, и холодное, как воск, глаза глубокие, проницательные, непостижимые!.. Чикаго горит! Какое это имеет к нему отношение? При чем здесь Фрэнк? Он никогда не посвящал ее в свои дела: она поняла бы в них не больше, чем миссис Каупервуд. Но тем не менее тревога охватила ее; ведь все это, видимо, касалось Фрэнка, с которым она была связана, по ее мнению, неразрывными узами. Литература, если не говорить о классиках, дает нам представление только об одном типе любовницы: лукавой, расчетливой искусительнице, чье главное наслаждение — завлекать в свои сети мужчин. Журналисты и авторы современных брошюр по вопросам морали с необычайным рвением поддерживают ту же версию. Можно подумать, что господь бог установил над жизнью цензуру, а цензорами назначил крайних консерваторов. Меж тем существуют любовные связи, ничего общего не имеющие с холодной расчетливостью. В подавляющем большинстве случаев женщинам чужды лукавство и обман. Обыкновенная женщина, повинующаяся голосу чувства и глубоко, по-настоящему любящая, не способна на коварство, так же как малый ребенок; она всегда готова пожертвовать собой и стремится возможно больше отдать. Покуда длится любовь, она только так и поступает. Чувство может измениться, и тогда — «ад не знает пущей злобы», но все же любовниц чаще всего отличают жертвенность, готовность безраздельно отдать себя любимому и нежная заботливость. Такие отношения, противопоставленные алчности законного брака, и причинили твердыням супружества более всего разрушений. Человек — будь то мужчина или женщина — не может не преклоняться, не благоговеть перед подобными проявлениями бескорыстия и самопожертвования. Они равны высоким жизненным призваниям, сродни вершине искусства, то есть величию духа, каковым прежде всего отличается прекрасное полотно, прекрасное здание, прекрасная статуя, прекрасный узор, — величию, которое и есть способность щедро, неограниченно дарить себя, излучать свою красоту. Отсюда и необычное для Эйлин состояние духа. Поднимаясь вслед за Батлером наверх, Каупервуд снова и снова перебирал в уме все подробности создавшегося положения. — Присаживайтесь, прошу! Не выпить ли нам чего-нибудь? Ах да, вы ведь не пьете: помню, помню! Ну хоть сигару возьмите! Итак, чем это вы сегодня расстроены? Через окна со стороны густонаселенных кварталов смутно доносились крики: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Подробности пожара в Чикаго! Весь город объят пламенем!» — Вот чем я расстроен, — прислушавшись к этим выкрикам, отвечал Каупервуд. — Вы знаете новость? — Нет. О чем это кричат газетчики? — В Чикаго грандиозный пожар. — А-а!.. — отозвался Батлер, все еще не уяснив себе значения этого события. — Вся деловая часть города в огне, мистер Батлер, — мрачно продолжал Каупервуд, — и не позднее завтрашнего дня у нас здесь произойдут финансовые потрясения. Вот об этом я и пришел поговорить с вами. Как у вас обстоят дела с капиталовложениями? Основательно вы увязли? По выражению лица Каупервуда Батлер вдруг понял, что происходит нечто катастрофическое. Откинувшись назад в широком кожаном кресле, он поднял свою большую руку, прикрыв ею рот и подбородок. Над толстыми суставами пальцев, над широким и хрящеватым носом поблескивали из-под косматых бровей его большие глаза. Голову ровной жесткой щетиной покрывали коротко остриженные седые волосы. — Вон оно что! — произнес он. — Вы полагаете, завтра и у нас разразится буря? А как ваши собственные дела? — У меня все будет более или менее в порядке, если только наши финансовые тузы сохранят хладнокровие и не поддадутся панике. Завтра, а то еще и сегодня нам всем понадобится много здравого смысла. Ведь мы накануне настоящей биржевой паники. Вы должны посмотреть правде в глаза, мистер Батлер! Долго эта паника не продлится, но и за короткий срок может произойти немало бед. Завтра, с первой же минуты открытия биржи, ценности полетят вниз на десять или пятнадцать пунктов. Банки начнут требовать погашения ссуд, и только предварительная договоренность может удержать их от такого шага. Но ни один человек не в состоянии воздействовать на них в одиночку. Здесь необходимы совместные усилия группы людей. Вы вместе с мистером Симпсоном и мистером Молленхауэром можете этого добиться, склонив банковских заправил объединиться и поддержать рынок. Все конные железные дороги попадут под удар. Если не поддержать курса, их акции катастрофически полетят вниз. Я знаю, что вы сделали крупные вложения в эти дороги. Вот я и подумал, что, возможно, вы, Молленхауэр и некоторые другие пожелаете принять свои меры. В противном случае, не скрою, мне тоже придется туговато. Я недостаточно силен, чтобы справиться самостоятельно. Он ломал себе голову над тем, как открыть Батлеру всю правду насчет Стинера. — Н-да, неважно получается, — задумчиво процедил старик. Он думал о собственных делах. Паника и ему, конечно, не пойдет на пользу, но положение не так уж скверно. Банкротства ему нечего опасаться. Конечно, он может понести известные потери — не очень серьезные, — прежде чем ему удастся привести в порядок дела. А он не желал ничего терять. — Как же это вы оказались в таком затруднительном положении? — полюбопытствовал он. Его интересовало, почему Каупервуд так страшится краха компаний конных железных дорог. — Разве у вас есть вложения в эти предприятия? Перед Каупервудом встал вопрос — лгать или говорить правду; но нет, лгать было слишком рискованно. Если ему не удастся заручиться сочувствием и поддержкой Батлера, он может обанкротиться, и тогда правда все равно выплывет наружу. — Я ничего не стану от вас скрывать, мистер Батлер, — сказал он, уповая на доброжелательное отношение старика и глядя на него тем смелым и уверенным взглядом, который так нравился Батлеру. Тот порою гордился Каупервудом не меньше, чем своими сыновьями. Кроме того, он чувствовал, что молодой банкир так заметно выдвинулся именно благодаря ему, Батлеру. — Надо вам сказать, что я уже довольно давно скупаю акции конных железных дорог, правда, не только для себя. Может быть, мне не следовало бы открывать вам то, что я сейчас открою, но, поступив иначе, я причиню ущерб и вам и многим другим лицам, которых я хотел бы от этого уберечь. Мне, разумеется, известно, что вы заинтересованы в исходе предстоящих осенью выборов. И я не хочу скрывать от вас, что я покупал много акций для Стинера и кое-кого из его друзей. Не буду утверждать, что средства для этих покупок всегда шли из городского казначейства, но в большинстве случаев это, видимо, было так. Я понимаю, как мое банкротство может отразиться и на Стинере, и на республиканской партии, и на ваших интересах. Конечно, мистер Стинер не в одиночку додумался до такой комбинации, и я здесь заслуживаю не меньшего порицания, чем остальные, но все это само собой вытекало из других дел. Как вам известно, я, по предложению Стинера, распространял выпуск городского займа, и после этой операции кое-кто из его друзей предложил мне вложить их средства в конные железные дороги. С тех пор я не переставал вести для них эти дела. Я лично занимал у Стинера большие суммы из двух процентов годовых. Скажу больше: первоначально все сделки покрывались именно таким образом, и я вовсе не хочу сваливать свою вину на других. Ответственность падает на меня, и я готов ее нести, но если я потерплю крах, имя Стинера будет запятнано, и это пагубно отразится на всем городском самоуправлении. Разумеется, я не хочу оказаться банкротом, да для этого и нет никаких оснований. Если бы не угроза паники, я мог бы сказать, что мои дела никогда еще не были так хороши. Но я не в силах выдержать бурю, если не получу помощи, и я хочу знать, окажете ли вы мне ее. Если я вывернусь, то даю вам слово принять все меры для скорейшего возврата денег в городское казначейство. Жаль, что мистера Стинера сейчас нет в городе, не то я привез бы его к вам, чтобы он подтвердил мои слова. Каупервуд лгал самым беззастенчивым образом, говоря о намерении привезти с собою Стинера; возвращать деньги в городское казначейство он тоже не собирался, разве что частями и в удобные ему сроки. Но звучало все это честно и убедительно. — Какую сумму вложил Стинер в ваше предприятие? — осведомился Батлер. Он был несколько огорошен столь неожиданным оборотом дел. Вся эта история выставляла Каупервуда и Стинера в весьма невыгодном для них свете. — Около пятисот тысяч долларов, — отвечал Каупервуд. Старик выпрямился в кресле. — Неужто так много? — вырвалось у него. — Да, приблизительно… может быть, немного меньше или больше, — я точно не знаю. Старый подрядчик со скорбным и важным видом слушал все, что излагал ему Каупервуд, в то же время обдумывая, как это отзовется на интересах республиканской партии и на его собственных договорах с городским самоуправлением. Каупервуд внушал ему симпатию, но дело, о котором он сейчас рассказывал, выглядело сомнительным и очень нечистым. Батлер был человек медлительный, тяжелодум, но если уж он начинал думать над каким-нибудь вопросом, то додумывал его до конца. В филадельфийские конные железные дороги у него был помещен значительный капитал — не менее восьмисот тысяч долларов; у Молленхауэра, вероятно, и того больше. Сколько вложил в это дело сенатор Симпсон, он не знал. Но Каупервуд в свое время говорил ему, что и сенатор являлся держателем крупных пакетов таких акций. Большинство этих бумаг у них всех, как и у Каупервуда, было заложено в разных банках, а полученные под них деньги помещены в другие предприятия. Требование погашения ссуд не сулило им ничего хорошего, но все-таки ни у кого из этого триумвирата дела не были в таком уж отчаянном состоянии. Они сумеют вывернуться без особых хлопот, хотя, возможно, и не без убытков, если тотчас же примут все меры для самозащиты. Батлер не придал бы делу такого значения, если бы Каупервуд сообщил ему, что Стинер всадил в это предприятие тысяч семьдесят пять или сто. Это можно было бы как-нибудь уладить. Но пятьсот тысяч!.. — Большие деньги! — сказал Батлер, дивясь необычайной смелости Стинера, но еще не связывая ее с хитроумными махинациями Каупервуда. — Тут надо хорошенько пораскинуть мозгами. Если завтра начнется паника, нам нельзя терять ни минуты. А много ли вам будет проку от того, что мы поддержим рынок? — Очень много, — отвечал Каупервуд, — хотя, конечно, мне придется доставать деньги еще и другим путем. Кстати, у меня числится ваш вклад в сто тысяч долларов. Как вы полагаете, потребуются они вам в ближайшие дни? — Возможно. — Не исключено, что и мне эти деньги будут так нужны, что я не сумею немедленно вернуть их вам без серьезного ущерба для себя, — заметил Каупервуд. — И это только одно из многих звеньев всей цепи. Если бы вы, сенатор Симпсон и Молленхауэр объединились — основная масса акций ведь в ваших руках — и воздействовали на мистера Дрекселя и мистера Кука, вам удалось бы заметно разрядить атмосферу. Я отлично выйду из положения, коль скоро от меня не потребуют погашения задолженности, а если на бирже не произойдет слишком резкого падения курсов, то никто с меня этого не потребует. В противном случае все мои бумаги будут обесценены, и я не выдержу. Старик Батлер встал. — Дело серьезное, — сказал он, — не надо было вам связываться со Стинером. Все это, как ни верти, выглядит достаточно неприглядно. Скверная, скверная история, — сурово добавил он. — Тем не менее я сделаю все возможное. Многого не обещаю, но я к вам всегда хорошо относился и не хочу оставлять вас в беде, разве только у меня не будет иного выхода. Неприятно, очень неприятно! И помните еще, что не я один решаю дела в нашем городе! При этих словах Батлер подумал, что Каупервуд, собственно говоря, поступил вполне порядочно, своевременно предупредив его об угрозе собственным его интересам и выборам в муниципалитет, хотя, с другой стороны, он тем самым спасал и свою шкуру. Так или иначе, но Батлер решил сделать для него все возможное. — Нельзя ли устроить, чтобы эта история со Стинером и городским казначейством не предавалась огласке день-другой, пока я не успею получше разобраться во всем происходящем? — осторожно спросил Каупервуд. — Не обещаю, — отвечал Батлер, — хотя и сделаю все, что от меня зависит. Но вы можете быть спокойны: история эта не пойдет дальше, чем будет необходимо для вашего же блага. Сейчас он уже раздумывал над тем, как им выпутаться из последствий совершенного Стинером преступления, если Каупервуд все-таки обанкротится. — Оуэн! — позвал он, открыв дверь и перегибаясь через перила лестницы. — Что, отец? — Вели Дэну закладывать кабриолет и ждать у подъезда. А сам одевайся, поедешь со мной. — Хорошо, отец. Батлер вернулся в комнату. — Н-да! Изрядная буря в стакане воды, а? В Чикаго пожар, а мне здесь, в Филадельфии, хлопот не обобраться! Ну и ну! Каупервуд уже встал и направился к двери. — А вы куда? — Домой. Ко мне придут несколько человек, с которыми нужно повидаться. Но если вы разрешите, я еще раз заеду попозднее. — Да, да, конечно, — ответил Батлер. — Я думаю, что к двенадцати наверняка уже буду дома. Ну, прощайте! Впрочем, мы, вероятно, еще увидимся. Я расскажу вам все, что мне удастся узнать. Он вернулся зачем-то к себе в кабинет, и Каупервуд один спустился по лестнице. Стоявшая у портьеры Эйлин знаком подозвала его к себе. — Я надеюсь, ничего страшного не случилось, дорогой? — с тревогой спросила она, заглядывая в его глаза, сегодня какие-то торжественно-серьезные. Сейчас было не время для любовного воркования, и Каупервуд это чувствовал. — Нет, — почти холодно ответил он, — надо думать, что ничего страшного. — Только смотри, Фрэнк, не забывай обо мне надолго из-за своих дел! Не забудешь? Правда? Я ведь так люблю тебя! — Нет, нет, не забуду! — отвечал он серьезно и быстро, хотя по тону чувствовалось, что мысли его далеко. — Ты же знаешь! Разве могу я тебя забыть? — Он хотел было поцеловать ее, но его вспугнул какой-то шорох. — Тес! Каупервуд направился к двери, и Эйлин проводила его влюбленным, исполненным сочувствия взглядом. Что, если с ее Фрэнком стрясется какая-нибудь беда? Разве мало на свете несчастий? Что ей тогда делать? Эта мысль больше всего ее мучила. Что она предпримет, как она может помочь ему? Он сегодня выглядит таким бледным, таким утомленным.
Глава 24
Чтобы правильно осветить положение, в котором оказался Каупервуд, нам придется сказать несколько слов об отношениях, существовавших в ту пору между республиканской партией в Филадельфии и Джорджем Стинером, Генри Молленхауэром, сенатором Марком Симпсоном и другими. Батлер, как мы уже видели, связанный с Каупервудом обычными деловыми интересами, вдобавок еще был дружески расположен к нему. Стинер служил слепым орудием в руках Каупервуда. Молленхауэр и сенатор Симпсон небезуспешно соперничали с Батлером во влиянии на городские дела. Симпсон представлял в законодательном собрании штата республиканскую партию, которая в случае необходимости могла потребовать от городского самоуправления изменения местных избирательных законов, пересмотра уставов городских учреждений, расследования деятельности политических организаций и отдельных лиц. К услугам Симпсона был целый ряд влиятельных газет, акционерных обществ, банков. Молленхауэр, человек солидный и почтенный, представлял филадельфийских немцев, несколько американских семейств и несколько крупных акционерных обществ. Все трое были сильными, ловкими людьми и опасными противниками для тех, кто сталкивался с ними на политическом поприще. Последние двое немало рассчитывали на популярность Батлера среди ирландцев, некоторых местных партийных лидеров и почтенных католиков, которые верили ему так, словно он был их духовным отцом. Батлер, со своей стороны, платил своим приверженцам покровительством, вниманием, помощью и неизменным благожелательством. В награду за эти попечения город — через Молленхауэра и Симпсона — передавал ему крупные подряды на мощение улиц, постройку мостов и виадуков, прокладку канализации. Но получать эти подряды можно только при условии, что дела республиканской партии, видным деятелем которой он был и которая, так сказать, кормила его, ведутся чинно и благопристойно. С другой стороны, почему он, собственно,обязан заботиться об этом больше, чем Молленхауэр или Симпсон, — ведь Стинер не его ставленник. По службе казначей подчинялся главным образом Молленхауэру. Вот о чем, изрядно обеспокоенный всем случившимся, думал Батлер, садясь с сыном в кабриолет. — У меня только что был Каупервуд, — сказал он Оуэну, который в последнее время начал отлично разбираться в финансовых делах, а в вопросах политических и общественных выказывал даже большую прозорливость, чем отец, хотя и не был столь сильной личностью. — Говорит, что очутился в весьма затруднительном положении. Вот, слышишь? — добавил он, когда до них донеслись крики: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» — Чикаго в огне. Завтра на бирже начнется паника. Наши железнодорожные акции заложены в разных банках. Надо держать ухо востро, а не то от нас потребуют погашения ссуд. Завтра мы прежде всего должны позаботиться, чтобы этого не случилось. У Каупервуда есть моих сто тысяч долларов, но он просит не изымать их, а кроме того, говорит, что у него вложены в дело деньги Стинера. — Стинера? — удивился Оуэн. — Он, что же, балуется на бирже? — До Оуэна доходили слухи о Стинере и его присных, но он как-то не придал им значения и ничего еще не успел рассказать отцу. — И много у Каупервуда его денег? Батлер ответил не сразу. — Немало, — процедил он наконец. — По правде сказать, даже очень много: около пятисот тысяч. Если это станет известно, шум поднимется невообразимый. — Ого! — вырвалось у изумленного Оуэна. — Пятьсот тысяч долларов! Господи ты боже мой! Неужели Стинер заграбастал полмиллиона? По совести говоря, я бы не поверил, что у него хватит ума на такое дело! Пятьсот тысяч! То-то будет скандал, если об этом узнают! — Ну, ну, обожди малость! — отозвался Батлер, стараясь возможно яснее представить себе, как это могло произойти. — Мы не знаем всех подробностей. Возможно, что Стинер сначала и не собирался брать так много. Все еще может уладиться. Деньги вложены в разные предприятия. Каупервуд еще не банкрот. И деньги покуда не пропали. Теперь надо решить, что предпринять для его спасения. Если он говорит правду — а до сих пор еще не было случая, чтоб он солгал, — он может вывернуться, лишь бы акции городских железных дорог завтра утром не полетели вверх тормашками. Я сейчас повидаюсь с Молленхауэром и Симпсоном. Они тоже заинтересованы в этих бумагах. Каупервуд просил меня поговорить с ними; может, мне удастся воздействовать на банки, чтобы те поддержали рынок. Он думает, что мы укрепим свои активы, если завтра на бирже начнем скупать эти акции для поддержания курса. Оуэн быстро перебирал в уме все, что ему было известно о Каупервуде. По его мнению, Каупервуда следовало основательно проучить. Все это его затея, а не Стинера, тут Оуэн не сомневался. Его удивляло только, что отец сам этого не видит и не возмущается Каупервудом. — Вот что я тебе скажу, отец, — помолчав, произнес он несколько театральным тоном. — Каупервуд накупил акций на взятые у Стинера деньги и сел в лужу. Не случись пожара, это сошло бы ему с рук, но сейчас он еще хочет, чтобы ты, Молленхауэр, Симпсон и другие вытаскивали его. Он славный малый, и я неплохо отношусь к нему, но с твоей стороны будет безумием действовать по его указке. Он и без того захватил в свои руки больше, чем следовало. На днях я слышал, что линия Фронт-стрит и большая часть линии Грин и Коутс принадлежат ему, да еще он совместно со Стинером является владельцем линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Но я не поверил и все собирался спросить тебя, так ли это. Я подозреваю, что Каупервуд в том и другом случае припрятал для себя контрольный пакет акций. Стинер только пешка; Каупервуд вертит им как угодно. Глаза Оуэна зажглись алчностью и неприязнью. Каупервуд должен понести примерное наказание: надо продать с молотка его предприятие, а его самого изгнать из акционеров конных железных дорог. Оуэн давно жаждал занять в этом деле ведущее положение. — Видишь ли, — глухо отвечал Батлер, — я всегда полагал, что этот молодой человек умен, но что он такой пройдоха, я не думал. Все разыграл как по нотам. Да и ты, я вижу, тоже не из простачков, а? Ну, надо хорошенько все взвесить, и, может, мы еще это дело уладим. Здесь есть одно очень существенное обстоятельство. Мы прежде всего должны помнить о республиканской партии. Наш успех, как тебе известно, неразрывно связан с ее успехом. — Он замолчал и посмотрел на сына. — Если Каупервуд обанкротится и деньги не будут возвращены в кассу… — Старик внезапно оборвал начатую фразу. — В этой истории меня беспокоит только Стинер и городское казначейство. Если мы ничего не предпримем, то республиканской партии туго придется осенью на выборах, а заодно могут полететь и некоторые наши подряды. Не забывай о том, что в ноябре выборы! Я все думаю, брать у него или не брать эти сто тысяч долларов? Утром мне понадобится немало денег, чтобы покрыть задолженность. Курьезная психологическая подробность: только сейчас Батлер начал по-настоящему уяснять себе всю трудность положения. В присутствии Каупервуда, который красноречиво излагал ему свои нужды, он до такой степени поддался воздействию его личности и своего расположения к нему, что даже толком не разобрался в том, насколько эта история затрагивает его собственные интересы. И только теперь, на свежем вечернем воздухе, беседуя с Оуэном, лелеявшим собственные честолюбивые замыслы и нимало не склонным щадить Каупервуда, Батлер начал трезво смотреть на вещи, и вся история предстала перед ним в более или менее правильном освещении. Ему пришлось согласиться, что Каупервуд серьезно скомпрометировал республиканскую партию и поставил под угрозу городское казначейство, а попутно и его, Батлера, личные интересы. И все же старик питал к нему симпатию и не намеревался бросить его на произвол судьбы. Сейчас он ехал к Молленхауэру и Симпсону, чтобы спасать Каупервуда, — правда, заодно еще и республиканскую партию и свои собственные дела. Но все же какой срам! Он сердился и возмущался. Что за прохвост этот молодой человек! Кто бы мог подумать, что он пустится в такие авантюры. Тем не менее Батлер и сейчас не утратил расположения к нему; он чувствовал, что должен предпринять какие-то шаги для спасения Каупервуда, если только его еще можно спасти. Не исключено даже, что он исполнит его просьбу и, если и другие тоже отнесутся к нему с сочувствием, до последней минуты не тронет своего стотысячного вклада. — Право же, отец, — помолчав, сказал Оуэн, — я не понимаю, почему ты должен беспокоиться больше, чем Молленхауэр и Симпсон. Если вы втроем захотите помочь Каупервуду выпутаться, дело ваше; но, убей меня, я не понимаю, зачем вам это нужно! Конечно, если эта история выплывет до выборов, то ничего хорошего не получится, но разве нельзя до тех пор замолчать ее? Твои вложения в конные железные дороги куда важнее этих выборов, и, если бы ты нашел способ прибрать к рукам конку, тебе больше не пришлось бы волноваться о выборах. Мой совет: завтра же утром потребовать свои сто тысяч долларов, чтобы удовлетворить претензии банков, в случае если курс акций сильно упадет. Это может повлечь за собой банкротство Каупервуда, но тебе нисколько не повредит. Ты явишься на биржу и скупишь его акции; меня не удивит, если он сам прибежит к тебе с таким предложением. Ты должен повлиять на Молленхауэра и Симпсона, пусть они припугнут Стинера и потребуют, чтобы он больше ни одного доллара не давал взаймы Каупервуду. Если ты этого не сделаешь, он бросится к Стинеру и возьмет у него еще денег. Стинер зашел уж слишком далеко. Может, Каупервуд не захочет распродать свой пай, это его дело, но он почти наверняка вылетит в трубу, и тогда ты сумеешь скупить на бирже сколько угодно его акций. Я лично думаю, что он будет распродаваться. А портить себе кровь из-за этих стинеровских пятисот тысяч тебе незачем. Никто не заставлял его одалживать их Каупервуду. Пусть выпутывается как знает. Правда, партия может попасть под удар, но сейчас не это самое важное. Вы с Молленхауэром окажете давление на газеты, и они будут молчать до окончания выборов. — Обожди, обожди малость! — сказал сыну старый подрядчик и снова погрузился в размышления.Глава 25
Генри Молленхауэр, как и Батлер, жил в одной из новых частей города, на Брод-стрит, неподалеку от тоже нового и красивого здания библиотеки. Дом у него был обширный и очень типичный для жилища новоиспеченного богача того времени — четырехэтажное здание, облицованное желтым кирпичом и белым камнем, без всякого определенного стиля, но все-таки довольно приятное для глаза. Широкие ступени вели на просторную веранду, посредине которой красовалась Тяжелая резная дверь, а по бокам ее — узкие окна, украшенные светло-голубыми, очень изящными жардиньерками. Во всех двадцати комнатах этого дома были великолепные паркетные полы и очень дорого стоившие по тем временам деревянные панели. В первом этаже помещалась зала, огромная гостиная и обшитая дубом столовая, размером не меньше тридцати квадратных футов; во втором — комната, где стоял рояль, отданный в распоряжение трех дочерей хозяина, мнивших себя музыкантшами, библиотека, кабинет самого Молленхауэра и будуар его жены с прилегающими к нему ванной комнатой и небольшим зимним садом. Молленхауэр считался и сам считал себя очень важной персоной. В финансовых и политических делах он обладал исключительной проницательностью. Хотя он был немцем, вернее, американцем немецкого происхождения, внешность у него была типично американская и притом очень внушительная. Холодный и острый ум светился в его глазах. Роста он был высокого, сложения плотного. Его могучая грудь и широкие плечи прекрасно гармонировали с красивой головой, казавшейся в зависимости от ракурса то круглой, то удлиненной. Выпуклый лоб тяжело нависал над живыми, пытливыми, колючими глазами. Нос, рот, подбородок, а также полные гладкие щеки — словом, все крупное, выразительное, правильное лицо Молленхауэра свидетельствовало о том, что этот человек знает, чего хочет, и умеет поставить на своем, наперекор всем препятствиям. С Эдвардом Мэлией Батлером Молленхауэра связывала тесная дружба — насколько она возможна между двумя дельцами, — а Марка Симпсона он уважал приблизительно так, как один тигр уважает другого. Он умел ценить выдающиеся способности и всегда был готов играть честно, если честно велась игра. В противном случае его коварство не знало границ. Молленхауэр не ждал ни Эдварда Батлера, ни его сына в воскресный вечер. Этот человек, владевший третьей частью всех богатств Филадельфии, сидел у себя в библиотеке, читал и слушал игру на рояле одной из своих дочерей. Жена и две другие дочери ушли в церковь. По натуре он был домосед. А так как воскресный вечер в мире политиков вообще считается удобным временем для всевозможных совещаний, то Молленхауэр предполагал, что кто-нибудь из его видных собратьев по республиканской партии может заглянуть к нему. Поэтому когда лакей — он же дворецкий — доложил о Батлере с сыном, он даже обрадовался. — Кого я вижу! — приветствовал он Батлера, протягивая ему руку. — Очень, очень рад! И Оуэн с вами? Как дела, Оуэн? Чем прикажете потчевать вас, джентльмены, и что вы предпочитаете курить? Для начала надо выпить по рюмочке. Джон, — обратился он к слуге, — подайте-ка чего-нибудь крепкого!.. А я сидел и слушал, как играет Каролина. Но вы, очевидно, смутили ее. Он придвинул Батлеру кресло и указал Оуэну на место по другую сторону стола. Не прошло и минуты, как слуга вернулся с изящным серебряным подносом, в изобилии уставленным бутылками виски, старого вина и коробками с разными сортами сигар. Оуэн принадлежал к новому типу дельцов, воздерживавшихся от вина и от курения. Отец его в очень умеренном количестве позволял себе и то и другое. — Уютный у вас дом! — сказал Батлер, поначалу умалчивая о причине своего посещения. — Неудивительно, что вы и в воскресенье вечером никуда не выезжаете. Что новенького в городе? — Ничего особенного, насколько мне известно, — спокойно отвечал Молленхауэр. — Все идет как по маслу. Но вы, кажется, чем-то обеспокоены? — Да, немножко, — отвечал Батлер, допивая коньяк с содовой. — Тревожные известия. Вы еще не читали вечерних газет? — Нет, не читал. — И Молленхауэр выпрямился в кресле. — А разве сегодня вышли вечерние выпуски? Что же такое случилось? — Ничего, если не считать пожара в Чикаго. И похоже, что завтра утром у нас на фондовой бирже начнется изрядная суматоха. — Что вы говорите! А я еще ничего не слышал. Значит, вышли вечерние газеты?.. Так, так… Что же, большой там пожар? — Говорят, весь город в огне, — вставил Оуэн, с интересом наблюдавший за выражением лица знаменитого политического деятеля. — Да… Вот это новость! Надо послать за газетой. Джон! — кликнул он слугу и, когда тот появился, сказал: — Раздобудьте мне где-нибудь газету. Почему вы считаете, что это может отразиться на здешних делах? — обратился он к Батлеру после ухода слуги. — Видите ли, существует одно обстоятельство, о котором я ничего не знал до самой последней минуты. Наш милейший Стинер, возможно, недосчитается изрядной суммы в своей кассе, если только дело не обернется лучше, чем кое-кто предполагает, — спокойно пояснил Батлер. — А такая история, как вы сами понимаете, едва ли произведет выгодное впечатление перед выборами, — добавил он, и его умные серые глаза впились в Молленхауэра, который ответил ему таким же пристальным взглядом. — Откуда вы это узнали? — ледяным тоном осведомился Молленхауэр. — Неужели он намеренно произвел растрату? И сколько он взял, вам тоже известно? — Довольно приличный куш, — по-прежнему спокойно отвечал Батлер. — Насколько я понял, около пятисот тысяч долларов. Пока это еще не растрата. Но как дело обернется в дальнейшем, неизвестно. — Пятьсот тысяч! — в изумлении воскликнул Молленхауэр, стараясь, однако, сохранить обычное самообладание. — Не может быть! Когда же он начал брать деньги? И куда их девал? — Он ссудил около пятисот тысяч молодому Каупервуду с Третьей улицы, тому самому, что проводил реализацию городского займа. На эти деньги они — в своих личных интересах — пускались в разные аферы, главным образом скупали акции конных железных дорог. При упоминании о конных дорогах бесстрастное лицо Молленхауэра чуть-чуть дрогнуло. — По мнению Каупервуда, этот пожар завтра вызовет биржевую панику, и он опасается, что ему не выйти из положения без солидной поддержки. Если же он обанкротится, то в городском казначействе окажется дефицит в пятьсот тысяч долларов, который уже нельзя будет восполнить, Стинера нет в городе, а Каупервуд явился ко мне с просьбой найти способ поддержать его. Надо сказать, что он в свое время выполнял для меня кое-какие поручения и потому понадеялся, что теперь я приду к нему на помощь, то есть склоню вас и сенатора воздействовать на крупные банки, чтобы таким образом поддержать завтра курс ценностей на бирже. Иначе Каупервуду грозит крах, а скандал, который, по его мнению, неизбежно разразится, может повредить нам на выборах. Мне кажется, что он тут не ведет никакой игры, а просто хлопочет о том, чтобы по возможности спасти себя и не подвести меня или, вернее, нас. Батлер умолк. Молленхауэр, коварный и скрытный, даже виду не подал, что встревожен этим неожиданным известием. Но так как он всегда был уверен, что у Стинера нет ни крупицы финансовых или организационных способностей, то его любопытство было изрядно возбуждено. Значит, его ставленник пользовался средствами казначейства тайком от него и теперь оказался перед угрозой судебного преследования! Каупервуда Молленхауэр знал лишь понаслышке, как человека, приглашенного в свое время для проведения операции с займом. На этой операции кое-что нажил и он, Молленхауэр. Ясно, что этот банкир околпачил Стинера и на полученные от него деньги скупал акции конных железных дорог! Следовательно, у него и у Стинера должно быть немало этих бумаг — обстоятельство, чрезвычайно заинтересовавшее Молленхауэра. — Пятьсот тысяч долларов! — повторил он, когда. Батлер закончил свой рассказ. — Н-да, кругленькая сумма! Если бы Каупервуда могла спасти одна только поддержка рынка, мы, пожалуй, пошли бы ему навстречу, но в случае серьезной паники такой маневр останется безрезультатным. Если этот молодой человек сильно стеснен в средствах, а на бирже начнется резкое падение ценностей, то для его спасения понадобится еще целый ряд дополнительных мероприятий. Мне это известно по опыту. Вы случайно не знаете, каков его пассив? — Нет, не знаю, — отвечал Батлер. — Денег, вы говорите, он у вас не просил? — Он хочет только, чтобы я не брал у него своих ста тысяч, покуда не определится его положение. — А Стинера и в самом деле нет в городе? — осведомился недоверчивый по природе Молленхауэр. — Так утверждает Каупервуд. Мы можем послать кого-нибудь проверить. Молленхауэр уже обдумывал, как бы поумнее выйти из положения. Поддержать курс ценностей — это, конечно, самое лучшее, если таким образом удастся спасти Каупервуда, а заодно с ним казначея и честь республиканской партии. Стинер окажется вынужденным возвратить в казну пятьсот тысяч долларов, для чего ему придется продать свои акции, и тогда почему бы ему, Молленхауэру, не купить их? Но тут, видимо, нужно будет учесть и интересы Батлера. А что, спрашивается, он может потребовать? Из дальнейшего разговора с Батлером Молленхауэр выяснил, что Каупервуд готов возместить недостающие пятьсот тысяч долларов, если только ему удастся сколотить такую сумму. Насчет его паев в разных линиях конки у них пока разговора не было. Но какая могла быть уверенность в том, что Каупервуда удастся спасти таким способом и что у него даже в этом случае будет желание и возможность собрать пятьсот тысяч долларов и вернуть их Стинеру? Он сейчас нуждается в наличных, но кто даст их ему теперь, когда надвигается неминуемая паника? Какое обеспечение может он предложить? С другой стороны, если хорошенько нажать, можно будет принудить их обоих — его и Стинера — отдать за бесценок свои железнодорожные акции. Если ему, Молленхауэру, удастся заполучить их, то какое ему, собственно, дело, победит его партия осенью на выборах или потерпит поражение; впрочем, он, как и Оуэн, считал, что поражения можно избежать. Вернее, можно по примеру прежних лет купить победу. Растрату Стинера, если из-за краха Каупервуда он окажется растратчиком, несомненно, удастся скрыть до победы на выборах. Впрочем, мелькнула у него мысль, еще желательнее было бы припугнуть Стинера, чтобы он отказал в дополнительной помощи Каупервуду, а затем резко сбить цену на его акции конных железных дорог и тем самым на акции всех других держателей, не исключая Батлера и Симпсона. В Филадельфии эти линии со временем станут одним из главнейших источников обогащения. Но сейчас надо делать вид, что в первую очередь его заботит спасение партии на предстоящих выборах. — Я, конечно, не могу решать за сенатора, — задумчиво начал Молленхауэр, — и не знаю, какова будет его точка зрения. Но я лично готов сделать все от меня зависящее, чтобы поддержать курс ценностей, если это принесет какую-нибудь пользу. Готов хотя бы уже потому, что банки и от меня могут потребовать погашения задолженности. Но сейчас нам надо прежде всего позаботиться об избежании огласки до конца выборов, если Каупервуд все-таки вылетит в трубу. Ведь у нас нет никакой уверенности, что наши усилия поддержать рынок увенчаются успехом. — Никакой! — хмуро подтвердил Батлер. Оуэну уже стало казаться, что Каупервуд обречен. Но в это время у дверей позвонили. Горничная, заменившая посланного за газетой лакея, доложила о сенаторе Симпсоне. — А, легок на помине! — воскликнул Молленхауэр. — Просите! Сейчас мы узнаем его мнение. — Я думаю, что мне следует оставить вас, — обратился Оуэн к отцу. — Я пойду к мисс Каролине и попрошу ее спеть мне что-нибудь. Я буду ждать тебя, отец, — добавил он. Молленхауэр подарил его одобрительной улыбкой, и Оуэн вышел, в дверях столкнувшись с сенатором Симпсоном. Никогда еще в Пенсильвании, которая дала миру немало интересных личностей, не процветал более любопытный тип, чем сенатор Симпсон. В противоположность Батлеру и Молленхауэру, сейчас тепло приветствовавших его, внешне он выглядел довольно невзрачно: невысокого роста — пять футов девять дюймов, тогда как рост Молленхауэра достигал шести, а Батлера — пяти футов и одиннадцати дюймов, с постным лицом и круто срезанным подбородком — у двух других щеки были как налитые, а тяжелые челюсти выдавались вперед. Взгляд у него тоже был не столь открытый, как у Батлера, и не столь надменный, как у Молленхауэра. Зато в его глазах светился недюжинный ум. Это были странные, глубоко сидящие, бездонные глаза; они напоминали глаза кошки, высматривающей добычу из темного угла со всем коварством кошачьей породы. Копна черных волос ниспадала на его красивый низкий белый лоб, а лицо отличалось синеватой бледностью, как у людей с плохим здоровьем. Несмотря на такую наружность, в этом человеке таилась своеобразная, упорная, незаурядная сила, с помощью которой он подчинял себе людей, — хитрость, научившая его распалять алчность обещаниями наживы и быть беспощадным в расправе с теми, кто осмеливался ему перечить. Симпсон был тихоня, как многие люди такого склада, хилый, с холодными, скользкими руками и вялой улыбкой, но глаза своей выразительностью искупали все недостатки его наружности. — Добрый вечер, Марк, рад вас видеть, — приветствовал его Батлер. — Здравствуйте, Эдвард, — негромко отозвался гость. — Ну, дорогой мой сенатор, время не оставляет на вас никаких следов. Что прикажете вам налить? — Нет, Генри, я ничего пить не буду, — отвечал Симпсон. — Я к вам заглянул на несколько минут, по пути домой. Моя жена здесь неподалеку, у Кэвеноу, и мне надо еще заехать за ней. — Вы даже не подозреваете, как кстати вы явились, сенатор, — начал Молленхауэр, усаживаясь после того, как сел гость. — Батлер только что рассказывал мне о небольшом затруднении политического характера, возникшем с тех пор, как мы с вами не виделись. Вы, наверно, слышали, что в Чикаго грандиозный пожар? — Да, мне только что рассказал об этом Кэвеноу. По-видимому, дело очень серьезное. Завтра утром надо ожидать резкого падения ценностей. — Я тоже так считаю, — подтвердил Молленхауэр. — А вот и вечерняя газета! — воскликнул Батлер, увидев слугу, входящего с газетой в руках. Молленхауэр взял ее и развернул на столе. Это был один из первых экстренных выпусков в Америке; заголовки, набранные огромными буквами, сообщали, что пожар в «озерном» городе, начавшийся еще вчера, с каждым часом распространяется все шире. — Вот ужас, — произнес Симпсон. — Душа болит за Чикаго. У меня там много друзей. Будем надеяться, что на деле все окажется не так страшно, как об этом пишут. Симпсон везде и при любых обстоятельствах выражался несколько высокопарно. — То, о чем мне сейчас рассказывал Батлер, — продолжал Молленхауэр, — до некоторой степени связано с этим бедствием. Вам известно, что наши казначеи имеют обыкновение давать взаймы городские деньги из двух процентов годовых… — Ну и что же? — спросил Симпсон. — Так вот, мистер Стинер, как выяснилось, довольно широко ссужал городскими средствами молодого Каупервуда с Третьей улицы — того, что занимался реализацией нашего займа. — Что вы говорите? — воскликнул Симпсон, изображая удивление. — И много он ему выдал? Сенатор, так же как и Батлер и Молленхауэр, сам немало наживался на выгодных ссудах из того же источника, которые под видом вкладов предоставлялись различным банкам. — Стинер, видимо, ссудил ему около пятисот тысяч долларов, и если Каупервуд не устоит перед грозой, то у Стинера обнаружится недостача этой суммы; как вы сами понимаете, такая история произведет весьма неблагоприятное впечатление на избирателей. Каупервуд должен сто тысяч мистеру Батлеру и сегодня приходил к нему для переговоров. Через мистера Батлера он просит нас помочь ему извернуться. В противном случае, — Молленхауэр сделал рукой многозначительный жест, — он банкрот. Симпсон провел тонкой рукой по своим странно изогнутым губам и подбородку. — Что же они сделали с полумиллионом долларов? — осведомился он. — Эти ловкачи малость подрабатывали на стороне, — с усмешкой сказал Батлер. — В числе прочего они, кажется, скупали акции конных железных дорог, — добавил он, закладывая большие пальцы за проймы жилета. Молленхауэр и Симпсон кисло улыбнулись. — Так, так, — произнес Молленхауэр. Сенатор Симпсон молчал, и только выражение его лица свидетельствовало о напряженной работе мысли. Он тоже думал о том, до чего бессмысленно обращаться с такой просьбой к группе политиков и дельцов, тем более перед лицом надвигающегося кризиса. Правда, мелькнуло у него в уме, существует неплохой выход: он, Батлер и Молленхауэр объединяются и оказывают Каупервуду поддержку, в благодарность за что тот уступает им все свои акции конных железных дорог. В таком случае, пожалуй, можно будет и замолчать эту историю с казначейством; но, с другой стороны, какая существует гарантия, во-первых, что Каупервуд согласится расстаться со своими акциями и, во-вторых, что Батлер и Молленхауэр пойдут на эту сделку с ним, Симпсоном. Батлер, очевидно, пришел сюда замолвить словечко за Каупервуда. Что касается Молленхауэра, тот всегда втайне соперничал с ним. Хотя они и сотрудничали на политической арене, но финансовые цели у обоих были в корне различные. У них не было общих финансовых интересов, как, впрочем, не было их и у Батлера с Молленхауэром. Далее, Каупервуд совсем не так уж прост. И его вина в этом деле не идет ни в какое сравнение с виною Стинера: ведь заимодавец-то Стинер, а не Каупервуд. Стоит ли открывать коллегам то хитроумное решение вопроса, которое пришло ему в голову, спросил себя сенатор и тут же решил — нет, не стоит. Молленхауэр слишком коварен, чтобы можно было рассчитывать на его сотрудничество в таком деле. Шансы, правда, блестящие, но и риск немалый. Лучше действовать в одиночку. А пока они потребуют от Стинера, чтобы он заставил Каупервуда вернуть пятьсот тысяч долларов. Если из этого ничего не выйдет, то Стинером, видимо, придется пожертвовать в интересах партии. Что же касается Каупервуда, то наличие такой точной информации о состоянии его дел дает полную возможность неплохо заработать на бирже при помощи подставных лиц. Те сперва распустят слухи о безвыходном положении, в которое попал Каупервуд, а затем предложат ему уступить свои акции — за бесценок, конечно. Нет, не в добрый час обратился Каупервуд к Батлеру. — Вот что я вам скажу, — заговорил сенатор после продолжительного молчания. — Я, разумеется, очень сочувствую мистеру Каупервуду и далек от мысли упрекать его за скупку акций конных железных дорог, поскольку у него имелась к тому возможность; но я, право, не вижу, чем можно ему помочь, да еще в столь критический момент. Не знаю, как вы, джентльмены, но я сейчас при всем желании не вправе таскать из огня каштаны для других. Прежде всего мы должны решить, так ли уж велика грозящая партии опасность, чтобы нам стоило раскошеливаться. Как только речь зашла о том, чтобы выложить наличные деньги, лицо Молленхауэра помрачнело. — Я тоже, вероятно, не смогу оказать мистеру Каупервуду сколько-нибудь существенную поддержку, — со вздохом произнес он. — Черт возьми! — воскликнул Батлер и со свойственным ему чувством юмора добавил; — Похоже, что мне поневоле придется забрать у него свои сто тысяч долларов! С этого я и начну завтрашний день. На сей раз ни Симпсон, ни Молленхауэр не снизошли даже до той кислой улыбки, которая раньше нет-нет да появлялась на их лицах. Они сохраняли непроницаемое и торжественное выражение. — Что же касается денег, взятых из городского казначейства, — продолжал Симпсон, когда все несколько успокоились, — то это дело нам придется хорошенько обмозговать. Если мистер Каупервуд обанкротится и казначейство потеряет такую сумму, мы попадем в весьма затруднительное положение. А какими линиями конки в первую очередь интересовался этот Каупервуд? — спросил он как бы между прочим. — Право, не знаю, — отвечал Батлер, не находя нужным открывать то, что сообщил ему Оуэн по пути к Молленхауэру. — Но если нам не удастся заставить Стинера возместить недостающую сумму раньше, чем обанкротится Каупервуд, то ведь впоследствии все равно не избежать больших неприятностей, — сказал Молленхауэр. — С другой стороны, если Каупервуд поймет, что мы ждем от него возмещения убытков, он, вероятно, немедленно прикроет свою лавочку. Так что тут, собственно, ничего толкового и сделать нельзя. Кроме того, было бы нехорошо но отношению к нашему другу Эдварду, если бы мы что-нибудь предприняли до того, как он закончит свое дело с Каупервудом. Он подразумевал заем Батлера Каупервуду. — Разумеется, разумеется, — дипломатично подтвердил Симпсон, обладавший острым политическим чутьем. — Будьте спокойны, свои сто тысяч я завтра же выручу! — вставил Батлер. — Если наши опасения оправдаются, — сказал Симпсон, — мне кажется, нам надо будет приложить все усилия, чтобы скрыть беду до конца выборов. Газеты можно заставить помолчать. Но я предложил бы еще, — добавил он, вспомнив об акциях конки, так ловко скупленных Каупервудом, — предостеречь городского казначея с тем, чтобы он, учитывая создавшееся положение, никому больше не давал ссуды. А то Каупервуд, чего доброго, потребует с него еще денег. Вашего слова, Генри, будет вполне достаточно, чтобы воздействовать на него. — Хорошо, я с ним поговорю, — угрюмо отозвался Молленхауэр. — А по-моему, пусть выкручиваются сами, как умеют, — неопределенно заметил Батлер, подумав о том, как просчитался Каупервуд, обратившись за помощью к сим достойным блюстителям общественных интересов. Так рухнули надежды Каупервуда на то, что Батлер и другие финансовые тузы поддержат его в эти трудные минуты. Расставшись с Батлером, Каупервуд с обычной своей энергией стал разыскивать других лиц, которые могли бы оказать ему помощь. Он попросил миссис Стинер немедленно сообщить ему, как только придет какая-нибудь весть от ее мужа. Разыскав Уолтера Ли из банкирского дома «Дрексель и К°», Эвери Стоуна из фирмы «Джей Кук и К°» и президента Джирардского национального банка Дэвисона, Каупервуд хотел узнать их точку зрения на происходящее, а также переговорить с Дэвисоном насчет займа под все свое движимое и недвижимое имущество. — Я ничего не могу сказать вам, Фрэнк, — упорно повторял Уолтер Ли, — я не знаю, как завтра развернутся события. Очень хорошо, что вы приводите свои дела в порядок. Это необходимо. Я готов во всем пойти вам навстречу. Но, если шефы решат, что необходимо потребовать погашения ссуд известной категории, мы будем вынуждены повиноваться, ничего не поделаешь. Я приложу все усилия к тому, чтобы по возможности разрядить атмосферу. Но если Чикаго и правда стерт с лица земли, страховые компании — или часть их, во всяком случае, — вылетят в трубу, а тогда… только держись! Я полагаю, что вы сами потребуете от своих должников возвращения денег? — Только в случае крайней необходимости. — Ну что ж, точно так же смотрят на это и у нас! Они обменялись рукопожатием. Эти двое симпатизировали друг другу. Ли был светский человек, обладавший врожденным изяществом манер, что не мешало ему иметь подлинно здравый смысл и богатый житейский опыт. — Вот что я вам скажу, Фрэнк, — добавил он на прощание. — Я уже давно думал, что вы несколько зарвались с конными железными дорогами. Если вы сумеете удержать акции, это, конечно, будет очень здорово, но в такую тяжелую минуту, как сейчас, на них можно сильно обжечься. Вы привыкли чересчур уж быстро «делать деньги» на этих бумагах да еще на облигациях городского займа. Он посмотрел своему старому приятелю прямо в глаза, и оба улыбнулись. Примерно такой же разговор повторился и со Стоуном, и с Дэвисоном, и со всеми другими. К приходу Каупервуда слухи о надвигающейся катастрофе уже дошли до них. Ни один человек не мог с уверенностью сказать, что принесет с собою завтрашний день. Но хорошего он обещал мало. Каупервуд решил снова заехать к Батлеру, ибо был убежден, что тот уже повидался с Молленхауэром и Симпсоном. Батлер, как раз обдумывавший, что сказать Каупервуду, встретил его довольно любезно. — А, вы уже вернулись! — сказал он, увидев Фрэнка. — Да, мистер Батлер. — Должен вам сказать, что мои попытки не увенчались особым успехом. Боюсь, что ничего не выйдет, — осторожно начал он. — Вы мне задали трудную задачу. Молленхауэр, по-видимому, намерен поддержать рынок ради собственной выгоды, и я думаю, что он так и сделает. У Симпсона тоже есть свои интересы, которые он будет отстаивать. Ну и я, конечно, буду покупать для себя. Он замолчал, видимо, собираясь с мыслями. — Мне пока что не удалось уговорить их устроить совещание с кем-либо из крупных капиталистов, — продолжал он, тщательно подбирая слова. — Они хотят выждать и посмотреть, как сложатся обстоятельства завтра утром. Но все же на вашем месте я не стал бы падать духом. Если дело обернется очень плохо, они, возможно, еще изменят свое решение. Мне пришлось рассказать им про Стинера все как есть. История скверная, но они надеются, что вам удастся вывернуться, и тогда вы все уладите. Я тоже на это надеюсь. Что же касается моего вклада у вас, — ну что ж, утро вечера мудренее. Если я смогу обойтись, я его брать не буду. Но об этом мы лучше поговорим завтра. Кстати, на вашем месте я не пытался бы получить у Стинера еще денег. Все это и так уже имеет достаточно неприглядный вид. Каупервуду сразу стало ясно, что от этих людей ему нечего ждать помощи. Единственное, что взволновало его, — это упоминание о Стинере. Неужели они уже снеслись с ним, предостерегли его? В таком случае визит к Батлеру был неудачным ходом; но, с другой стороны, если завтра его ждет банкротство, то как он мог поступить иначе? По крайней мере эти господа знают, в каком он положении. Когда его окончательно загонят в угол, он снова обратится к Батлеру, и тогда уже их воля — помочь ему или нет! Если они ему откажут и он вылетит в трубу, а республиканская партия потерпит поражение на выборах, им некого будет винить, кроме самих себя. Теперь важно опередить их и первым повидать Стинера; надо надеяться, что у него хватит ума не подвести себя под удар. — Сейчас мое положение выглядит довольно мрачно, мистер Батлер, — сказал он напрямик, — но я думаю, что мне все же удастся вывернуться. Во всяком случае, я не теряю надежды. Очень сожалею, что потревожил вас. Мне хотелось бы, конечно, чтобы вы, джентльмены, нашли нужным и возможным помочь мне, но на нет и суда нет. Я сам могу еще принять кое-какие меры. Кроме того, я надеюсь, что вы оставите у меня ваш вклад, пока это будет возможно. Он быстро вышел, и Батлер задумался. «Умница этот молодой человек, — мысленно произнес он. — Очень жаль его. Но не исключено, что он сумеет выкрутиться». Каупервуд поспешил домой; отец еще не ложился и сидел, погруженный в мрачное раздумье. Разговор между ними был проникнут глубокой сердечностью: отец и сын понимали друг друга с полуслова. Фрэнк любил отца. Он сочувствовал его неутомимому стремлению выбиться из низов и ни на минуту не забывал, что мальчиком видел от него только ласку и внимание. Кредит, полученный им в Третьем национальном банке под обеспечение не очень-то ценных акций линии Юнион-стрит, ему, по всей вероятности, удастся погасить, если только на бирже не произойдет катастрофического падения курсов. Эту ссуду он должен возвратить во что бы то ни стало. Но как быть с отцовскими вложениями в конные железные дороги, которые увеличивались по мере роста его собственных и достигли в общей сложности двухсот тысяч долларов, как спасти эти деньги? Акции были давно заложены, а полученные под них кредиты использованы для других целей. Необходимо внести дополнительное обеспечение в банки, где получены эти ссуды. Ссуды, ссуды и ссуды, и ни конца, ни края заботам. Если бы только заставить Стинера выдать ему еще тысяч двести или триста! Но перед лицом возможных финансовых затруднений это уже граничило бы с преступлением. Теперь все зависело от завтрашнего дня. Настал серый и пасмурный понедельник, 9 октября. Каупервуд встал с первыми проблесками света, побрился, оделся и через серо-зеленую галерею прошел к отцу. Старик не спал всю ночь и был уже на ногах. Его седые брови и волосы растрепались, бакенбарды сегодня отнюдь не выглядели благообразными. Глаза старого джентльмена смотрели устало, лицо его посерело. Каупервуд сразу заметил, как сильно он встревожен. Отец поднял глаза от маленького изящного письменного стола, где-то раздобытого для него Элсуортом, сидя за которым он методически сводил сейчас свой актив и пассив. Каупервуда передернуло. Он всегда страдал, видя отца встревоженным, а сейчас был бессилен ему помочь. Когда они вместе строили эти новые дома, он был убежден, что дни забот и тревог навсегда миновали для старика. — Подсчитываешь? — привычно шутливым тоном спросил он, стараясь по мере сил подбодрить отца. — Оцениваю свои ресурсы, чтобы знать, с чем я буду иметь дело, если… — Он искоса посмотрел на сына, и Фрэнк улыбнулся. — Не надо волноваться, отец! Я уже говорил тебе: я все устроил так, что Батлер и его приятели будут вынуждены поддержать рынок. Я попросил Райверса, Таргула и Гарри Элтинджа помочь мне сбыть на бирже мои бумаги — это ведь лучшие маклеры. Они будут действовать очень осторожно. Я не мог поручить этого Эду или Джо, ведь тогда все сразу поняли бы, что со мной происходит. А эти ребята создадут впечатление, будто сбивают курс ценностей, но в то же время не станут сбивать его слишком сильно. Мне нужно выбросить на биржу столько акций, чтобы, продав их на десять пунктов ниже курса, реализовать пятьсот тысяч долларов. Возможно, что бумаги ниже не упадут. Сейчас трудно что-нибудь предугадать. Не может же падение длиться без конца! Если бы мне только узнать, что намерены делать крупные страховые общества! Утренней газеты еще не приносили? Каупервуд хотел позвонить, но подумал, что слуги вряд ли встали. Он сам пошел в переднюю. Там лежали «Пресса» и «Паблик леджер», еще влажные от типографской краски. Бросив беглый взгляд на первые страницы, он сразу изменился в лице. В «Прессе» был помещен большой, на всю полосу, план Чикаго, имевший устрашающе мрачный вид: черной краской на нем была отмечена горевшая часть города. Никогда еще ему не приходилось видеть столь подробного плана Чикаго. Белое пространство на плане — озеро Мичиган, а вот река, разделяющая город на три почти равные части — северную, западную и южную. Каупервуду вдруг бросилось в глаза, что город распланирован несколько необычно и чем-то напоминает Филадельфию. Торговая его часть площадью в две или три квадратные мили была расположена на стыке трех главных частей города, к югу от основного русла реки, там, где после слияния юго-западного и северо-западного рукавов она впадала в озеро. Это был большой квартал в центре, но, судя по карте, он весь выгорел. «Чикаго — сплошное пожарище!» — гласил огромный жирный заголовок во всю ширину листа. Затем следовали подробности — страдания тех, кто остался без крова, число погибших в огне и число потерявших все свое состояние. Далее обсуждался вопрос о том, как отразится пожар на Восточных штатах. Высказывались мнения, что страховые общества и промышленники, возможно, окажутся не в силах выдержать такие огромные убытки. — Проклятие! — мрачно буркнул Каупервуд. — Черт меня дернул впутаться в эти биржевые дела. Он вернулся в гостиную и углубился в чтение газет. Затем, несмотря на ранний час, поехал вместе с отцом в контору. Там его уже ждала почта — больше десятка писем с предложением аннулировать те или иные сделки или же продать бумаги. Пока он стоя просматривал корреспонденцию, мальчик-рассыльный принес еще три письма. Одно из них было от Стинера, сообщавшего, что он будет в городе к полудню — раньше ему никак не успеть. Каупервуд одновременно почувствовал и страх и облегчение. Ему потребуются крупные суммы для погашения ряда задолженностей еще до трех часов. Сейчас дорога каждая минута. Необходимо перехватить Стинера на вокзале и переговорить с ним раньше всех других. Да, день предстоял тяжелый, хлопотный и напряженный. К прибытию Каупервуда Третья улица уже кишела банкирами и биржевиками, которых привела сюда крайняя острота минуты. Все куда-то спешили, в воздухе чувствовалась та наэлектризованность, Которая отличает сборище сотни встревоженных людей от людей спокойных и ничем не озабоченных. На бирже атмосфера тоже была лихорадочная. Одновременно с ударом гонга зал наполнился невообразимым шумом. Еще не отзвучал протяжный, металлический гул, как двести человек, составлявших местную биржевую корпорацию, издавая какие-то нечленораздельные звуки, ринулись — кто сбывать ценности, кто, напротив, перехватывать выгодные в данный момент предложения. Интересы присутствующих были так разнообразны, что посторонний наблюдатель не мог бы разобраться, что же сейчас выгоднее — продавать или покупать. Райверс и Таргул получили указание оставаться в самой гуще, а братья Каупервуды — Джозеф и Эдвард — сновать вокруг в поисках случая продать акции по более или менее сносной цене. «Медведи» упорно сбивали курс, так что все зависело от того, постараются ли агенты Молленхауэра, Симпсона и Батлера, а также другие биржевики поддержать акции конных железных дорог и сохранят ли эти бумаги какую-нибудь ценность. Накануне, расставаясь с Каупервудом, Батлер сказал, что они сделают все от них зависящее. Они будут скупать акции до последней возможности. Обещать неограниченную поддержку рынка он, конечно, не мог, так же как не мог поручиться за Молленхауэра и Симпсона. Да он и не знал, в каком состоянии их дела. Когда возбуждение достигло наивысшего предела, вошел Каупервуд. Он еще в дверях стал искать глазами Райверса, но в эту минуту снова прозвучал гонг, и сделки прекратились. Вся толпа мгновенно повернулась к балкончику, с которого секретарь биржи оглашал поступившие сообщения. И в самом деле, этот маленький смуглый человечек лет тридцати восьми, чье тщедушное сложение и бледное, типично чиновничье лицо свидетельствовали о методическом,чуждом дерзновенных взлетов уме, уже стоял на своем месте, а позади него зияла открытая дверь. В правой руке у него белел листок бумаги. — Американское общество страхования от пожара в Бостоне объявляет о своей несостоятельности. Снова ударил гонг. И в тот же миг разразилась буря, еще более неистовая, чем раньше. Если в это сумрачное утро по прошествии какого-нибудь часа с минуты открытия биржи уже лопнула одна страховая компания, то что же сулят ближайшие четыре-пять часов и последующие дни? Это значило, что чикагские погорельцы уже не смогут восстановить свои предприятия. Это значило, что банки уже потребовали или сейчас потребуют погашения всех ссуд, связанных с обанкротившейся компанией. Выкрики перепуганных «быков», все дешевле предлагавших пакеты по тысяче и по пяти тысяч акций железнодорожных компаний — Северной Тихоокеанской, Иллинойс-Сентрал, Ридинг, Лейк-Шор и Уобеш, а также акций конных железных дорог и облигаций реализованного Каупервудом займа, надрывали сердца всех, кто был причастен к этим предприятиям. Каупервуд, воспользовавшись минутой затишья, подошел к Артуру Райверсу; но тот тоже ничего не мог ему сказать. — По-моему, агенты Молленхауэра и Симпсона не слишком усердно поддерживают цены! — озабоченно произнес Каупервуд. — Они получили извещение из Нью-Йорка, — хмуро отозвался Райверс. — Тут уж нечего и стараться. Насколько я понял, там вот-вот лопнут еще три страховые компании. Об их банкротстве могут объявить в любую минуту. Они ненадолго вышли из этого кромешного ада, чтобы обсудить дальнейшие мероприятия. По соглашению со Стинером Каупервуд был уполномочен скупать облигации городского займа на сумму до ста тысяч долларов, независимо от биржевой игры, на которой они оба тоже немало зарабатывали. Но это только в случае необходимости поддержать падающий курс. Сейчас Каупервуд решил купить облигаций на шестьдесят тысяч долларов и обеспечить ими полученные в других местах ссуды. Стинер немедленно возместит ему эту сумму и снова даст наличные деньги. Так или иначе, эта комбинация поможет ему или по крайней мере даст возможность поддержать на какой-то срок другие ценности и реализовать их еще до катастрофического падения курса. О, если бы у него были средства для того, чтобы играть сейчас на понижение! Если бы такая игра не грозила ему немедленным крахом! И даже в столь опасную минуту от Каупервуда не укрылось, что те обстоятельства, которые при нынешнем его стесненном положении грозили ему банкротством, в другое время принесли бы хорошую прибыль. Но сейчас он не мог ими воспользоваться. Нельзя стоять одновременно и на той и на другой стороне. Либо ты «медведь», либо ты «бык» — и необходимость заставила его быть «быком». Странный оборот событий, но ничего не поделаешь! Вся его изворотливость была сейчас бесполезна. Он совсем уже собрался уйти, чтобы повидать одного банкира, у которого надеялся получить денег под заклад своего дома, когда снова зазвучал гонг. И снова прекратились сделки. Артур Райверс со своего места возле стойки, где шла продажа ценных бумаг штата и облигаций городского займа, — к скупке этих облигаций он только что приступил, — выразительно посмотрел на Каупервуда. В ту же минуту к нему подбежал Ньютон Таргул. — Все против вас! — воскликнул он. — Не стоит и пытаться продавать при такой конъюнктуре. Бесполезное занятие! Они вышибают у вас почву из-под ног. Напряжение дошло до предела. Через несколько дней наступит перелом. Может быть, вы сумеете продержаться? Ну, готовьтесь к новой неприятности. Он глазами указал на балкончик, где уже опять появился секретарь биржевого комитета. — Восточное и Западное общества страхования от пожара в Нью-Йорке объявляют о своей несостоятельности! Гул прокатился по залу, нечто вроде протяжного «о-о-ох!». Секретарь постучал молотком, призывая к порядку. — Общество страхования от пожара «Ири» в Рочестере объявляет о своей несостоятельности! Снова — «о-о-ох!». И опять стук молотка. — Американская кредитная компания в Нью-Йорке прекратила платежи! — О-о-ох! Гроза бушевала. — Ну, что скажете? — спрашивал Таргул. — Разве мыслимо устоять против такого шторма? Вы не могли бы прекратить продажу и продержаться несколько дней? Не лучше ли вам играть на понижение? — Сейчас следовало бы закрыть биржу, — буркнул Каупервуд. — Это был бы превосходный выход. Иначе делу не поможешь. Он торопливо подошел к группе биржевиков, очутившихся в одинаковом с ним положении; может быть, они своим влиянием посодействуют осуществлению его идеи. Это было бы жестоким ходом против тех, для кого конъюнктура была благоприятна и кто пожинал сейчас богатый урожай. Но что ему до них! Дело есть дело. Распродавать бумаги по разорительно низким ценам было бессмысленно, и он отдал своим агентам распоряжение временно прекратить продажу. Если банкиры не пожелают оказать ему из ряда вон выходящую услугу, если фондовая биржа не будет закрыта, если не удастся убедить Стинера немедленно предоставить ему кредит еще на триста тысяч долларов, он разорен. Не теряя ни минуты, он отправился повидать нескольких банкиров и биржевиков, чьи конторы находились на той же Третьей улице, и предложил им потребовать закрытия биржи. А за несколько минут до двенадцати помчался на вокзал встречать Стинера, но, к величайшему своему огорчению, не встретил. Возможно, Стинер не поспел на этот поезд. Но Каупервуд почуял какой-то подвох и решил поехать сначала в ратушу, а затем к Стинеру на дом. Может быть, тот вернулся, но старается избежать встречи с ним? Не найдя Стинера в ратуше, Каупервуд велел везти себя к нему домой. И даже не удивился, столкнувшись с ним у подъезда. Стинер был бледен и явно расстроен. При виде Каупервуда он побледнел еще больше. — А! Здравствуйте, Фрэнк! — растерянно произнес он. — Откуда вы? — Что случилось, Джордж? — в свою очередь, спросил Каупервуд. — Я рассчитывал встретить вас на вокзале Брод-стрит. — Да, я сначала думал сойти там, — отвечал Стинер (физиономия у него при этом была дурацкая), — но потом сошел на Западной станции, чтобы успеть забежать домой переодеться. Мне предстоит сегодня множество дел. Я собирался зайти к вам. После срочной телеграммы Каупервуда такое объяснение звучало довольно глупо, но молодой делец пропустил его мимо ушей. — Садитесь в мой экипаж, Джордж! — пригласил он Стинера. — Нам нужно серьезно поговорить. Я вам телеграфировал, что на бирже возможна паника. Так оно и случилось. Нам нельзя терять ни минуты. Акции катастрофически упали, и банки уже требуют погашения большинства моих ссуд. Я должен знать, дадите ли вы мне взаймы на несколько дней триста пятьдесят тысяч долларов из четырех или пяти процентов годовых. Я вам верну все до единого цента. Деньги мне нужны до зарезу. Без них я вылетаю в трубу. Вы понимаете, что это значит, Джордж? Весь мой актив до последнего доллара будет заморожен, а заодно и ваши вложения в конные железные дороги. Я не смогу отдать их вам для реализации, и вся эта история с ссудами из городского казначейства предстанет в весьма неприглядном свете. Вам невозможно будет покрыть дефицит в кассе, а чем это пахнет, вы, я думаю, сами понимаете. Мы с вами оба влипли. Я хочу, чтобы вы смогли выйти сухим из воды, но не в состоянии сделать это без вашей помощи. Вчера я вынужден был обратиться к Батлеру относительно его вклада, и я прилагаю все усилия, чтобы раздобыть деньги еще из других источников. Но боюсь, что я не выкарабкаюсь, если вы откажете мне в содействии. Каупервуд замолчал. Он стремился как можно яснее обрисовать Стинеру всю картину, прежде чем тот успеет ответить отказом, — пусть знает, что и его положение не лучше. На деле же случилось именно то, что со свойственной ему проницательностью заподозрил Каупервуд. Стинера успели перехватить. Накануне вечером, как только Батлер и Симпсон ушли, Молленхауэр вызвал своего секретаря Эбнера Сэнгстека — весьма расторопного молодого человека — и поручил ему разыскать казначея. Сэнгстек отправил подробную телеграмму Стробику, уехавшему на охоту вместе со Стинером, настойчиво рекомендуя ему предостеречь Стинера против Каупервуда. Растрата в казначействе обнаружена. Он, Сэнгстек, встретит Стробика и Стинера в Уилмингтоне (чтобы опередить Каупервуда) и сообщит подробности. Под страхом судебной ответственности Стинер должен прекратить выплату ссуд Каупервуду. Прежде чем встречаться с кем бы то ни было, Стинеру рекомендуется повидать Молленхауэра. Получив ответную телеграмму от Стробика, извещавшего, что они рассчитывают прибыть завтра в полдень, Сэнгстек поехал встречать их в Уилмингтон. Вот почему Стинер не попал прямо с вокзала в деловой квартал, а сошел на окраине под предлогом, что ему нужно заехать домой и переодеться, на деле же, чтобы повидать Молленхауэра до свидания с Каупервудом. Он был смертельно напуган и хотел выиграть время. — Нет, не могу, Фрэнк, — жалобно произнес он. — Я и без того здорово увяз в этом деле. Секретарь Молленхауэра приезжал встречать нас в Уилмингтон именно затем, чтобы предостеречь меня от этого шага. Стробик держится того же мнения. Они знают, сколько у меня роздано денег. Либо вы сами, либо кто-то другой сообщил им об этом. Я не могу идти против Молленхауэра. Всем, что у меня есть, я обязан ему. Это он устроил мне место казначея. — Выслушайте меня, Джордж! Как бы вы сейчас ни поступили, не позволяйте сбивать себя с толку болтовней о долге перед партией. Вы в очень опасном положении, и я тоже. Если вы сейчас вместе со мной не примете мер к своему спасению, никто вас не спасет — ни теперь, ни после! Не говоря уже о том, что «после» будет поздно. Я убедился в этом вчера вечером, когда просил Батлера помочь нам обоим. Они уже знают о нашей заинтересованности в акциях конки и любыми способами хотят нас выпотрошить — в том-то вся и беда! Вопрос сейчас стоит так: кто кого? И нам остается либо спасать себя и обороняться, либо вместе пойти ко дну — вот все, что я хотел вам сказать. Молленхауэра ваша судьба трогает так же мало, как судьба вот этого фонаря. Его беспокоят не деньги, которые вы мне дали, а вопрос, кто на них заработает и сколько. Неужели вам непонятно: они узнали, что мы с вами прибираем к рукам конку, и это им не по нутру. Как только они вырвут у нас акции, мы тотчас же перестанем для них существовать, запомните это раз и навсегда! Если наши вложения пойдут прахом, вы конченый человек и я тоже: никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь нам, даже из соображений политических. Я хочу, чтобы вы до конца уразумели эту печальную истину, Джордж. И прежде чем вы скажете мне «нет», потому что этого требует от вас Молленхауэр, вы должны хорошенько продумать мои слова. Он в упор смотрел на Стинера, пытаясь силой своей воли заставить казначея согласиться на тот единственный шаг, который мог спасти его, Каупервуда, хотя бы Стинеру в конечном итоге от этого было мало проку. Интересно отметить, что Стинер сейчас вовсе не интересовал его. Он был для него просто пешкой, которой двигал по своему усмотрению всякий, кому она попадала в руки. И наперекор Молленхауэру, Симпсону и Батлеру Каупервуд старался удержать эту пешку. Он впился взглядом в Стинера, как змея в кролика, стараясь подчинить его себе и пробудить в этом полумертвом от страха человеке хотя бы инстинкт самосохранения. Но Стинер растерялся, и на него уже ничто не могло подействовать. Лицо у него сделалось какого-то серовато-синего цвета, веки опухли, глаза ввалились, руки и губы стали влажными. Боже, в какую он влип историю! — Все это так, Фрэнк! — с отчаянием в голосе воскликнул казначей. — Я знаю, что вы правы. Но вдумайтесь, в каком я окажусь положении, если дам вам эти деньги. Ведь они меня живьем съедят. Поставьте себя на мое место. Ах, если бы вы не обращались к Батлеру! Вам нужно было сперва переговорить со мной! — Как же я мог переговорить с вами, Джордж, когда вы где-то там стреляли уток! Я во все концы рассылал телеграммы, пытаясь связаться с вами! Что мне оставалось делать? Я вынужден был действовать. Кроме того, я полагал, что Батлер относится ко мне дружелюбнее, чем это оказалось на деле. Сейчас не время корить меня за то, что я обратился к Батлеру; надо выходить из положения. Мы оба попали в неприятную историю. Речь идет о том, выплывем мы или пойдем ко дну. Мы, а никто другой, понимаете вы это? Батлер не мог или не захотел сделать то, о чем я его просил: уговорить Молленхауэра и Симпсона поддержать курс ценностей. Они сейчас делают как раз обратное. Ведь они ведут свою игру, и сводится она к тому, чтобы выпотрошить нас. Неужели вы этого не понимаете? Они хотят отнять у нас все, что мы накопили. Нам надо спасать себя самим, Джордж, вот для чего я к вам приехал. Если вы не дадите мне трехсот пятидесяти или хотя бы трехсот тысяч долларов, — мы оба конченые люди. И вам, Джордж, придется хуже, чем мне, потому что юридически я не несу никакой ответственности! Но дело не в этом. Я хочу спасти и себя и вас, я знаю средство, которое на всю жизнь избавит нас от денежных затруднений, что бы они там ни говорили, что бы против нас ни злоумышляли; и в вашей власти воспользоваться им к нашей обоюдной выгоде. Неужели вы сами не понимаете? Я хочу спасти свое дело, а тогда будут спасены и ваше имя и ваши деньги. Каупервуд замолк в надежде, что ему удалось, наконец, убедить Стинера, но тот по-прежнему колебался. — Что же я могу поделать, Фрэнк? — слабым и жалобным голосом возразил он. — Мне нельзя идти против Молленхауэра. Если я сделаю то, о чем вы просите, они отдадут меня под суд. С них станется. Нет, Фрэнк! Я недостаточно силен. Если бы они ничего не знали, если бы вы не сообщили им, тогда… может быть, тогда — другое дело, но сейчас!.. Он покачал головой, его серые глаза выражали беспредельное отчаяние. — Джордж, — снова начал Каупервуд, понимая, что если ему и удастся чего-нибудь добиться, то только при помощи самых неоспоримых доводов, — не будем больше говорить о том, что я сделал. Я сделал то, что было необходимо. Вы уже утратили всякое самообладание и готовы совершить непоправимую ошибку. Я не хочу допустить этого. Я разместил в ваших интересах пятьсот тысяч долларов городских денег — частично, правда, и в своих интересах, но больше все-таки в ваших… Это утверждение не вполне соответствовало истине. — …И вот в такую минуту вы колеблетесь, не знаете, защищать вам свои интересы или нет. Я отказываюсь понимать вас! Ведь это кризис, Джордж! Акции летят ко всем чертям, не нам одним грозит разорение. На бирже паника, паника, вызванная пожаром, и тому, кто ничего не предпринимает для своей защиты, конечно, не сносить головы. Вы говорите, что обязаны местом казначея Молленхауэру и боитесь, как бы он не расправился с вами. Вдумайтесь хорошенько в свое и мое положение, и вы поймете, что он ничего не может вам сделать, покуда я не банкрот. Но если я объявлю себя банкротом, что будет с вами? Кто вас тогда спасет от суда? Уж не воображаете ли вы, что Молленхауэр прибежит и внесет за вас в казначейство полмиллиона долларов? Этого вам не дождаться. Если Молленхауэр и другие считаются с вашими интересами, то почему они не поддерживают меня сегодня на бирже? Я-то знаю почему. Они зарятся на наши акции конных железных дорог, а на то, что вас потом упрячут в тюрьму, им наплевать. Будьте благоразумны и послушайтесь меня. Я добросовестно относился к вашим интересам, вы этого не можете отрицать. Благодаря мне вы загребали деньги, и немалые! Одумайтесь, Джордж, поезжайте в казначейство и, прежде чем что-либо предпринять, выпишите мне чек на триста тысяч долларов. Не встречайтесь и не разговаривайте ни с одним человеком, пока это не будет сделано. Семь бед — один ответ. Никто не может вам запретить выдать мне этот чек. Вы — городской казначей. Как только деньги будут у меня в руках, я выпутаюсь из этой передряги и через неделю, самое большее через две верну вам все сполна — к тому времени паника, без сомнения, уляжется. Когда эти деньги будут возвращены в казначейство, мы договоримся и относительно тех пятисот тысяч. Через три месяца, а может быть и раньше, я устрою так, что вы сможете покрыть дефицит. Да что говорить, я и через две недели смогу это сделать, дайте мне только снова встать на ноги! Время — вот все, что мне нужно. Вы не потеряете своих вложений, а когда вернете деньги, никто не станет чинить вам неприятностей. Они ни за что не пойдут на публичный скандал. Ну, так как же вы намерены поступить, Джордж? Молленхауэр не может помешать вам выписать мне чек, так же как я не могу принудить вас к этому. Ваша судьба в ваших собственных руках. Говорите же, как вы намерены поступить? Стинер продолжал раздумывать и колебаться, хотя и был на краю гибели. Он боялся действовать, боялся Молленхауэра, боялся Каупервуда, боялся жизни и самого себя. Мысль о панике, о грозившей ему катастрофе в его представлении связывалась не столько с его имущественным положением, сколько с положением в обществе и в политическом мире. Мало есть людей, понимающих, что такое финансовое могущество. Мало кто чувствует, что значит держать в своих руках власть над богатством других, владеть тем, что является источником жизни общества и средством обмена. Но те, кто уразумел это, жаждут богатства уже не ради него самого. Обычно люди смотрят на деньги как на средство обеспечить себе известные жизненные удобства, но для финансиста деньги — это средство контроля над распределением благ, средство к достижению почета, могущества, власти. Именно так, в отличие от Стинера, относился к деньгам Каупервуд. Стинер, всегда предоставлявший Каупервуду действовать за него, теперь, когда Каупервуд ясно и четко обрисовал ему единственный возможный выход из положения, трусил как никогда. Его способность рассуждать помрачилась от страха перед угрозой ярости и мести Молленхауэра, возможным банкротством Каупервуда и собственной неспособностью мужественно встретить беду. Врожденный финансовый талант Каупервуда сейчас уже не внушал ему доверия. Очень уж молод этот банкир и недостаточно опытен. Молленхауэр старше и богаче. Симпсон и Батлер тоже. Эти люди с их капиталами олицетворяли собою необоримую мощь. И кроме того, разве сам Каупервуд не признался ему, Стинеру, что он в опасности, что его загнали в тупик? Никакое признание не могло бы больше напугать Стинера, но Каупервуд вынужден был его сделать, ибо у Стинера не хватало мужества взглянуть опасности прямо в лицо. Поэтому и в экипаже, по пути в казначейство, Стинер продолжал сидеть бледный, пришибленный, не в силах собраться с мыслями, не в силах быстро, отчетливо, ясно представить себе свое положение и единственно возможный выход из него. Каупервуд вошел в казначейство вместе с ним, чтобы еще раз попытаться воздействовать на него. — Итак, Джордж? — сурово произнес он. — Я жду ответа. Время не терпит. Нам нельзя терять ни минуты. Дайте мне деньги, и я быстро выкарабкаюсь из этой истории, — идет? Повторяю еще раз: дорога каждая минута. Не поддавайтесь запугиванью этих господ. Они ведут игру ради собственной выгоды, — следуйте их примеру. — Я не могу, Фрэнк, — слабым голосом отвечал, наконец, Стинер: воспоминание о жестоком и властном лице Молленхауэра заглушало в нем боязнь за собственное будущее. — Я должен подумать. Так сразу я не могу. Стробик расстался со мной за несколько минут до вашего прихода, и он считает… — Бог с вами, Джордж! — негодующе воскликнул Каупервуд. — Что вы мне толкуете про Стробика! Он-то тут при чем! Подумайте о себе! Подумайте о том, что будет с вами! Речь идет о вашей судьбе, а не о судьбе Стробика. — Я все понимаю, Фрэнк, — упорствовал несчастный Стинер, — но, право, не представляю себе, как это сделать. Честное слово! Вы сами говорите, что не уверены, удастся ли вам выпутаться из этой истории, а еще триста тысяч долларов… это как-никак целых триста тысяч! Нет, Фрэнк. Не могу! Ничего не выйдет. Кроме того, мне необходимо сперва поговорить с Молленхауэром. — Боже мой, что за чушь вы городите! — Каупервуда, наконец, взорвало; злобно, с нескрываемым презрением посмотрел он на казначея. — Ладно! Бегите к Молленхауэру! Спросите его, как вам половчей перерезать себе горло ради его выгоды! Одолжить мне еще триста тысяч долларов — нельзя, а рискнуть пятьюстами тысячами, уже взятыми из казначейства, и потерять их — можно. Так я вас понял? Ведь вы явно норовите потерять эти деньги, а с ними и все остальное. По-моему, вы просто рехнулись. Первое же слово Молленхауэра напугало вас до полусмерти, и вы уже готовы все поставить на карту: свое состояние, репутацию, положение! Понимаете ли вы, что будет с вами, если я обанкрочусь? Вы попадете под арест. Вас посадят за решетку, Джордж, вот и все. А ваш Молленхауэр, который уже успел указать вам, чего не следует делать, пальцем не шевельнет для вас, когда вы опозоритесь. Вспомните: разве я не помогал вам, а? Разве я до последней минуты не вел успешно ваши дела? Что вы вбили себе в голову, хотел бы я знать? Чего вы боитесь? Стинер собрался было привести еще какой-то малоубедительный аргумент, когда в кабинет вошел управляющий его канцелярией Альберт Стайерс. Стинер был так взволнован, что не сразу его заметил. Каупервуд же фамильярно обратился к нему: — Что скажете, Альберт? — Мистер Сэнгстек, по поручению мистера Молленхауэра, желает видеть мистера Стинера. При звуке этого страшного имени Стинер съежился, как опавший лист. Это не укрылось от Каупервуда. Он понял, что рушится его последняя надежда получить от Стинера триста тысяч долларов. Но все же не сложил оружия. — Ну что ж, Джордж, — сказал он, когда Стайерс отправился сообщить Сэнгстеку, что Стинер готов принять его, — мне все ясно. Этот человек вас загипнотизировал. Вы слишком напуганы и уже в себе не властны. Пусть все остается как есть: я еще вернусь. Только, ради бога, возьмите себя в руки. Подумайте, что поставлено на карту. Я уже сказал вам, чем все кончится, если вы не одумаетесь. Послушайтесь меня, и вы будете независимым, богатым человеком. В противном случае — вас ждет тюремная решетка. Решив еще раз попытаться найти помощь у банкиров и биржевиков, прежде чем ехать к Батлеру, Каупервуд быстро вышел из казначейства и вскочил в дожидавшийся его легкий рессорный кабриолет. Это был очаровательный экипаж желтого цвета с таким же желтым кожаным сиденьем, запряженный резвой гнедой кобылой. Каупервуд останавливался то у одного, то у другого здания и с напускным безразличием взбегал по ступеням банков и биржевых контор. Но все было тщетно. Его выслушивали внимательно, даже сочувственно и тут же ссылались на шаткость положения. Джирардский национальный банк отказался отсрочить ссуду хотя бы на час, и Каупервуду пришлось немедленно переслать им толстую пачку своих наиболее ценных бумаг для покрытия разницы, вызванной падением биржевых курсов. В два часа пришел рассыльный от старого Каупервуда: как председатель Третьего национального банка он вынужден потребовать погашения ссуды в сто пятьдесят тысяч долларов. Акции, заложенные Фрэнком, по мнению директоров, недостаточно надежны. Каупервуд немедленно выписал чек на свой пятидесятитысячный вклад в этом банке, прибавил к нему двадцать пять тысяч долларов, хранившихся у него в конторе наличными, потребовал от фирмы «Тай и К°» погашения ссуды в пятьдесят тысяч долларов, продал за треть номинала акции конки линии Грин и Коутс — той самой, с которой у него было связано столько надежд. Все полученные таким путем суммы он отправил в Третий национальный банк. Старому Каупервуду показалось, что камень свалился у него с души, но вместе с тем он был глубоко удручен. В полдень старик сам отправился узнавать, сколько он может получить за свои бумаги. Поступая таким образом, он отчасти компрометировал себя, но его отцовское сердце страдало, а кроме того, ему следовало подумать и о своих личных интересах. Заложив дом и получив ссуду под залог обстановки, экипажей, земельного участка и акций, он реализовал сто тысяч долларов, которые и положил в своем банке на имя Фрэнка. Но при таком сильном шторме это был все-таки очень ненадежный якорь. Фрэнку необходимо было добиться отсрочки платежей по меньшей мере на трое-четверо суток. В два часа этого рокового дня, еще раз взвесив положение своих дел, Каупервуд угрюмо пробормотал: «Нет, этот Стинер должен ссудить меня тремястами тысячами, вот и все. А теперь надо повидать Батлера, не то он еще потребует свой вклад до закрытия конторы». Он снова вскочил в экипаж и, как одержимый, помчался к Батлеру.Глава 26
Многое изменилось с того часа, когда Каупервуд беседовал с Батлером. Старик весьма дружелюбно откликнулся тогда на предложение объединиться с Молленхауэром и Симпсоном и поддержать курс ценных бумаг на бирже, но утром, в этот памятный понедельник, и без того запутанное положение осложнилось одним новым обстоятельством, которое заставило Батлера коренным образом пересмотреть занятую им позицию. В девять часов утра того самого дня, когда Каупервуд добивался помощи от Стинера, Батлер вышел из дому и уже собирался сесть в экипаж, когда почтальон вручил ему четыре письма, и он помедлил, чтобы просмотреть их. Первое было от мелкого подрядчика О'Хиггинса, второе — от духовника Батлеров, отца Михаила, священника церкви св. Тимофея, благодарившего за пожертвование в приходский фонд для бедных, третье — от «Дрекселя и К°», относительно какого-то вклада, четвертое — анонимное, на плохой бумаге, от лица, по-видимому, не слишком грамотного, скорее всего от женщины. Неразборчивыми каракулями там было написано следующее:«Милостивый государь! Сообщаю вам, что ваша дочка Эйлин путается с человеком, с которым ей негоже иметь дело, — с неким Фрэнком Каупервудом, дельцом. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице. Тогда вы убедитесь собственными глазами».Ни подписи, ни каких-либо признаков, по которым можно было бы судить, откуда пришло письмо. У Батлера сразу же сложилось впечатление, что оно написано кем-то живущим по соседству с указанным домом. Старик иногда отличался необычайной остротой интуиции. Письмо и в самом деле пришло от девушки, прихожанки церкви св. Тимофея, жившей поблизости от указанного в письме дома; она знала в лицо Эйлин и ненавидела ее за вызывающий вид и роскошные туалеты. Эта девушка — бледное, худосочное, вечно неудовлетворенное создание — была одной из тех натур, которые почитают своим долгом следить за чужой нравственностью. Живя наискосок от дома, тайно нанятого Каупервудом, она наблюдала за подъездом и мало-помалу выяснила, — так ей по крайней мере казалось, — что к чему. Ей потребовалось лишь дополнить факты домыслами и связать все это вместе при помощи той догадливости, которая нередко близка к подлинному знанию. Плодом ее стараний и явилось письмо, очутившееся перед глазами Батлера во всей своей неприкрашенной откровенности. У ирландцев склад ума философский и вместе с тем практический. Первый и непосредственный импульс всякого ирландца, попавшего в неприятное положение, — это найти выход из него и представить себе все в возможно менее печальном свете. Когда Батлер в первый раз прочел письмо, мурашки забегали у него по телу. Челюсти его сжались, серые глаза сощурились. Неужели это правда? Но иначе разве кто-то осмелился бы так решительно писать: «Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице». Разве простая деловитость этих слов не является сама по себе неопровержимым доказательством? И речь идет о том самом человеке, который лишь накануне обращался к нему за помощью, о человеке, для которого он так много сделал? В медлительном, но остром уме Батлера ярче, чем когда-либо, возник образ его прелестной дочери, и он вдруг отчетливо понял, что такое Фрэнк Алджернон Каупервуд. Чем объяснить, что он, Батлер, не разгадал коварства этого негодяя? Как могло случиться, что Каупервуд и Эйлин ни словом, ни жестом не выдали себя, если между ними действительно существовали какие-то отношения? Родители обычно уверены, что они отлично знают своих детей, и время только укрепляет их в этом заблуждении. Ничего дурного до сих пор не случилось, ничего не случится и впредь. Они видят их каждый день, но видят затуманенными любовью глазами. Ослепленные этой любовью, они убеждены, что видят своих детей насквозь и что те, как бы они ни были привлекательны, безусловно, застрахованы от всяких соблазнов. Мэри — хорошая девушка, правда немного взбалмошная, но какая может с ней приключиться беда? Джон — прямодушный, целеустремленный юноша, — разве он способен поддаться злу? И какие душераздирающие стоны издает большинство родителей, когда случайно раскрывается печальная тайна их детей. «Мой Джон! Моя Мэри! Это невозможно!» Но это возможно. Весьма возможно. И даже очень вероятно. Многие родители, недостаточно опытные, недостаточно понимающие жизнь, озлобляются, становятся жестоки. Вспоминая нежность, затраченную на-детей, и все принесенные им жертвы, они чувствуют себя оскорбленными. Одни вовсе падают духом перед лицом столь явной неустойчивости нашей жизни, перед лицом опасностей, которыми она изобилует, и загадочными процессами, совершающимися в душе человека. Другие — те, кому жизнь уже преподала суровые уроки, либо те, кто от природы одарен интуицией и проницательностью, относятся ко всем таким явлениям, как к неисповедимому таинству жизни, и, зная, что борьба здесь почти бесцельна, если возможна лишь скрытыми мерами, стараются не видеть худшего или примириться с ним на время, чтобы обдумать положение. Всякий мыслящий человек знает, что жизнь — неразрешимая загадка; остальные тешатся вздорными выдумками да еще попусту волнуются и выходят из себя. Итак, Эдвард Батлер, человек умный и многоопытный, стоя на ступеньках своего дома, держал в огрубелой жилистой руке клочок дешевой бумаги с начертанным на нем страшным обвинением против его дочери. Он мысленно увидел ее перед собой совсем еще маленькой (Эйлин была его старшей дочкой). Как заботился он о ней все эти годы! Она была прелестным ребенком; ее золотистая головка так часто прижималась к его груди, его жесткие, грубые пальцы тысячи раз ласкали ее нежные щечки! А теперь Эйлин уже двадцать три года, и она красавица, бедовая и своенравная. Мрачные, нелепые, тяжелые думы одолевали Батлера, он не знал, как взглянуть на все это, на что решиться, что предпринять. В конце концов неизвестно, кто тут прав и кто виноват, мысленно произнес он. Эйлин, Эйлин! Его Эйлин! Если жена узнает об этом, ее старое сердце не выдержит. Нет, она ничего не должна знать, ничего. А может быть, ей все-таки следует сказать? Родительское сердце! Любовь в этом мире движется путаными, нехожеными тропами. Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична и в то же время бескорыстна. Она ни от чего не зависит. Любовь мужа к жене или любовника к любовнице — это сладостные узы единодушия и взаимности, соревнование в заботе и нежности. Любовь отца к сыну или дочери — когда эта любовь существует — заключается в том, чтобы давать щедро, без меры, ничего не ожидая взамен; это благословение и напутствие страннику, безопасность которого вам дороже всего, это тщательно взвешенное соотношение слабости и силы, заставляющее скорбеть о неудачах любимого и испытывать гордость при его успехах. Такое чувство великодушно и возвышенно, оно ни о чем не просит и стремится только давать разумно и щедро. «Лишь бы мой сын преуспевал! Лишь бы моя дочь была счастлива!» Кто не слыхал этих слов, кто не задумывался над этими выражениями родительской мудрости и любви? По пути в центр города Батлер со всей быстротой, доступной его недюжинному, но медлительному и до некоторой степени примитивному уму, перебирал все возможные последствия этого внезапного, прискорбного и тревожного открытия. Почему Каупервуд не довольствуется своей женой? Зачем ему понадобилось проникнуть в его, Батлера, дом и там завязать эту недостойную, тайную связь? В какой мере повинна здесь Эйлин? Она отнюдь не глупа и должна бы отдавать себе отчет в своих поступках. Кроме того, она добрая католичка, во всяком случае по воспитанию. Все эти годы она ходила к исповеди и причащалась. Правда, в последнее время Батлер стал замечать, что она не очень ревностно посещает церковь и порою изыскивает предлоги, чтобы в воскресенье остаться дома, но ведь, как правило, она все же ездит туда. А теперь, теперь… Тут мысли Батлера заходили в тупик, он снова возвращался к самому главному, и все начиналось сначала. Медленно поднялся он по лестнице к себе в контору, сел за стол и опять стал думать, думать. Пробило десять часов, затем одиннадцать. Сын несколько раз обращался к нему с деловыми вопросами, но, убедившись, что отец в мрачном настроении, оставил его в покое. Пробило двенадцать, затем час, а Батлер по-прежнему сидел и думал, когда ему вдруг доложили о Каупервуде. Не застав Батлера дома и не найдя там Эйлин, Каупервуд поспешил к нему в контору. В том же здании находилось управление нескольких линий конных железных дорог, крупнейшим акционером которых он был. Контора, как обычно, была разгорожена на помещения для бухгалтеров и счетоводов, дорожных смотрителей, кассира и так далее. Оуэн Батлер и его отец занимали в самой глубине ее маленькие, но изящно обставленные кабинеты; там вершились все важнейшие дела. По дороге Каупервуда — в силу странного предчувствия, так часто возникающего у человека перед бедой, — неотступно преследовала мысль об Эйлин. Он думал о необычных узах, связывавших его с нею, и о том, что сейчас он спешит за помощью к ее отцу! Тяжелое чувство охватило его, когда он поднимался по лестнице, но он, естественно, не придал ему значения. С первого же взгляда на Батлера ему стало ясно, что произошло неладное. Батлер не приветствовал его, как обычно, смотрел исподлобья, и на лице его была написана такая суровость, какой Каупервуд у него никогда раньше не видел. Он сразу понял, что дело тут не в одном только нежелании Батлера оказать ему помощь, оставив свой вклад невостребованным. Что же случилось? Эйлин? Должно быть, так. Кто-то донес на них. Верно, их видели вместе. Ну и что же? Это еще ничего не доказывает. Он ни словом не выдаст себя. Но вклад Батлер, несомненно, потребует обратно. Что же касается дополнительного займа, то и без разговоров ясно, что на нем надо поставить крест. — Я зашел узнать, что вы надумали с вашим вкладом, мистер Батлер, — прямо и как всегда непринужденно произнес Каупервуд. Ни по его поведению, ни по выражению его лица нельзя было предположить, что он что-то заметил. Батлер — они были одни в кабинете — в упор смотрел на него из-под косматых бровей. — Мне нужны мои деньги, — отрывисто и угрюмо произнес он. При виде этого развязного лицемера, погубившего честь его Эйлин, в груди Батлера вспыхнула ярость, какой он уже давно не испытывал, и старик впился глазами в своего посетителя. — Судя по тому, как развернулись события, я и полагал, что вы потребуете свои деньги, — спокойно, без дрожи в голосе отвечал Каупервуд. — Все рушится, насколько я понимаю. — Да, все рушится и, думаю, не скоро придет в порядок. Деньги понадобятся мне сегодня же. Я не могу ждать. — Хорошо, — сказал Каупервуд, ясно чувствовавший всю шаткость своего положения. Старик был не в духе. По тем или иным причинам присутствие Каупервуда раздражало, более того — оскорбляло его. Каупервуд уже не сомневался, что все дело в Эйлин, что Батлер знает что-то или по крайней мере подозревает. Надо сделать вид, будто дела заставляют его торопиться, и положить конец этому разговору. — Весьма сожалею, — сказал он. — Я надеялся на отсрочку, но ничего не поделаешь. Деньги будут вам приготовлены. Я немедленно пришлю их. Он повернулся и быстро пошел к двери. Батлер встал. Он думал, что все будет по-другому. Он собирался разоблачить Каупервуда, может быть, даже дать ему пощечину. Он собирался сказать что-то, что спровоцировало бы Каупервуда на резкость, бросить ему обвинение прямо в лицо. Но тот уже удалился, сохраняя свой обычный непринужденно-любезный вид. Старик пришел в невероятное волнение, он был разъярен и разочарован. Открыв маленькую дверь, соединявшую его кабинет с соседней комнатой, он позвал: — Оуэн! — Да, отец? — Пошли кого-нибудь в контору Каупервуда за деньгами. — Так ты все-таки решил забрать свой вклад? — Да. Оуэн был озадачен гневом старика. «Что бы это могло значить?» — спрашивал он себя и решил, что у отца произошла какая-нибудь стычка с Каупервудом. Он вернулся к своему столу, написал требование и позвал клерка. Батлер подошел к окну и стал смотреть на улицу. Он был огорчен, озлоблен, взбешен. — Собака! — неожиданно для самого себя прохрипел он. — Я ему ни доллара не оставлю, до нитки раздену! И еще в тюрьму упрячу! Я его уничтожу! В два счета! Он сжал свои огромные кулаки и стиснул зубы. — Я с ним разделаюсь! Я ему покажу! Собака! Подлая тварь! Никогда в жизни не испытывал он такой ярости, такого желания мстить без пощады. Он зашагал по кабинету, обдумывая, что предпринять. Допросить Эйлин — вот с чего надо начать. Она будет запираться, но если он увидит по ее лицу, что его подозрения верны, он расправится с Каупервудом. Достаточно этой истории с городским казначеем. Правда, формально Каупервуд не несет уголовной ответственности, но уж он, Батлер, сумеет повернуть все так, что этому прохвосту не поздоровится. Приняв такое решение, Батлер приказал клерку передать Оуэну, что скоро вернется, вышел, сел на конку и поехал домой. В дверях он столкнулся со своей старшей дочерью, как раз собиравшейся уходить. На ней был костюм из алого бархата с узенькой золотой оторочкой и эффектная алая с золотом шляпа. Ноги ее были обуты в ботинки из оранжевой кожи, а руки обтянуты длинными замшевыми перчатками бледно-лилового цвета. В ушах у Эйлин красовались длинные серьги из темного янтаря — янтарь был ее последним увлечением. При виде дочери старый ирландец понял яснее чем когда-либо, что вырастил птичку с редкостным оперением. — Куда это ты собралась, Эйлин? — спросил он, безуспешно стараясь скрыть страх, горе и кипевшую в нем злобу. — В библиотеку, — спокойно отвечала она, но в тот же миг почувствовала, что с отцом творится неладное. Лицо у него было какое-то отяжелевшее, серовато-бледное. Он казался угрюмым и утомленным. — Поднимись на минуту ко мне в кабинет, — произнес Батлер. — Мне нужно с тобой поговорить. Эйлин повиновалась со смешанным чувством любопытства и удивления. Как странно, что отцу вдруг понадобилось говорить с ней в кабинете, да еще в минуту, когда она собиралась уходить! Его тон и вид не оставляли сомнения, что за этим необычным приглашением последует неприятный разговор. Как и всякий человек, преступивший правила морали своего времени, Эйлин то и дело возвращалась мыслью к гибельным последствиям возможного разоблачения. Не раз уже думала она о том, как отнесется семья к ее поступку, но ясно ничего себе представить не могла. Отец — человек очень решительный. Правда, она ни разу не видела, чтобы он холодно или жестоко отнесся к кому-нибудь из членов своей семьи, и тем более к ней! Он всегда так любил ее, что, казалось, ничто и никогда не оттолкнет его от дочери. Но кто знает? Батлер шел впереди, медленно ступая по лестнице своими большими ногами. Эйлин поднималась вслед за ним; она успела бросить на себя беглый взгляд в стенное зеркало и теперь думала о том, как она хороша и что ее ждет сейчас. Чего хочет от нее отец? При мысли о разговоре, который может произойти, кровь на мгновение отхлынула от ее лица. Батлер вошел в свой душный кабинет и опустился в огромное кожаное кресло, несоразмерное со всей остальной мебелью и соответствовавшее только письменному столу. Перед этим столом, против окна, стояло кресло для посетителей; в него Батлер усаживал тех, чьи лица ему хотелось рассмотреть получше. Когда Эйлин вошла, он рукой указал на это кресло, что тоже показалось ей зловещим признаком, и сказал: — Садись сюда! Эйлин села, все еще не понимая, к чему он клонит. Она твердо помнила обещание, данное ею Каупервуду: запираться во что бы то ни стало. Если отец намерен допрашивать ее, это ни к чему не приведет. Ее долг перед Фрэнком — все отрицать. Красивое лицо Эйлин сделалось жестким и напряженным. Два ряда мелких белых зубов крепко сжались, и Батлеру стало ясно, что она насторожилась, ожидая нападения. В этом он усмотрел подтверждение ее вины и преисполнился еще большей скорби, стыда, гнева и сознания своего несчастья. Он порылся в левом кармане сюртука, вытащил пачку бумаг и затем извлек из этой пачки роковое письмо, столь невзрачное с виду. Его толстые пальцы дрожали, когда он вынимал листок из конверта. Эйлин не-сводила глаз с его лица и рук, не догадываясь, что он хочет показать ей. Наконец Батлер протянул дочери бумажку, казавшуюся крохотной в его большой руке, и буркнул: — Читай! Эйлин взяла и на секунду почувствовала облегчение: по крайней мере можно опустить глаза. Но это чувство мгновенно исчезло: ведь сейчас ей опять придется смотреть отцу прямо в лицо. «Милостивый государь! Сообщаю вам, что ваша дочка Эйлин путается с человеком, с которым ей негоже иметь дело, — с неким Фрэнком Каупервудом, дельцом. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице. Тогда вы убедитесь собственными глазами.» Вопреки ее воле, лицо Эйлин побелело, но кровь тотчас же снова прилила к нему бурной, горячей волной. — Это ложь! — воскликнула она, поднимая глаза на отца. — Кто смеет писать про меня такие мерзости? Какая наглость! Кто этот подлец? Старый Батлер пристально смотрел на дочь. Ее бравада не обманула его. Будь Эйлин в самом деле ни в чем не повинна, она, при ее характере, вскочила бы возмущенная, негодующая. А сейчас она поспешила надеть личину высокомерия. Сквозь ее пылкий протест он читал правду, свидетельствовавшую против нее. — А почем ты знаешь, дочка, что я не велел наблюдать за этим домом? — насмешливо спросил он. — Почем ты знаешь, что никто не видел, как ты входила туда? Только торжественное обещание, данное Эйлин возлюбленному, спасло ее от этой ловушки. Она побледнела, но перед ее глазами тотчас возник образ Фрэнка, строго спрашивающего ее, что она скажет, если тайна их будет раскрыта. — Это ложь! — прерывающимся голосом снова воскликнула она. — Я никогда не бывала в доме под таким номером, и никто не видел, как я входила туда! Как ты можешь подозревать меня в этом, отец? Несмотря на обуревавшие егосомнения, странно мешавшиеся с чувством непоколебимой уверенности в виновности Эйлин, Батлер не мог не залюбоваться ее смелостью: какой у нее вызывающий вид, с какой решимостью она лжет, чтобы защитить себя. Ее красота оказывала ей при этом большую услугу и возвышала ее в глазах отца. В конце концов, что можно поделать с подобной женщиной! Ведь она уже не десятилетняя девчонка, какой он продолжал мысленно видеть ее. — Тебе не следовало бы говорить мне неправду, Эйлин, — сказал он. — Нехорошо лгать. Религия запрещает ложь. Кто стал бы писать такие вещи, будь это не так? — Но это не так, — настаивала Эйлин, притворяясь разгневанной и негодующей. — И я считаю, что ты не имеешь права оскорблять меня такими подозрениями. Я не была в этом доме и не путаюсь с мистером Каупервудом! Боже мой! Ведь я едва знакома с ним и только изредка вижу его в обществе. Батлер угрюмо покачал головой. — Это большой удар для меня, дочка! Большой удар, — повторил он. — Я готов поверить твоим словам. Но не могу не думать о том, как прискорбно, если ты лжешь. Я никому не поручал следить за этим домом. Письмо пришло только сегодня утром. И то, что в нем сказано, видимо, неправда. Надеюсь, что неправда. Но сейчас мы не станем больше говорить об этом. Если ж в нем есть хоть доля истины и ты не зашла слишком далеко и еще можешь спасти свою душу, я просил бы тебя подумать о твоей матери, сестре, братьях и быть умницей. Вспомни о церкви, которая тебя воспитала, об имени, честь которого ты должна поддерживать. Пойми — если ты сделала что-нибудь дурное и люди узнают об этом, то как ни велика Филадельфия, а нам в ней недостанет места. Твоим братьям нужно составить себе доброе имя, они работают в этом городе. Ты и Нора когда-нибудь захотите выйти замуж. Как ты будешь смотреть людям в глаза, как ты будешь жить, если то, что написано здесь, правда и эта правда выйдет наружу? Голос старика звучал глухо от странных, грустных и непривычных чувств, обуревавших его. Он не хотел верить, что дочь виновна, и тем не менее знал, что это так. Он не хотел делать то, что, как человек волевой и религиозный, считал своим долгом, то есть сурово осудить ее. Другой отец, подумал он, при подобных обстоятельствах выгнал бы свою дочь из дому или, предварительно все проверив, убил бы Каупервуда. Но он этого не сделает. Если ему придется мстить, он отомстит как финансист и политик, вытеснит негодяя из финансового и политического мира. Но предпринять что-либо решительное в отношении Эйлин, — об этом он и думать не мог. — Ах, отец, — отозвалась Эйлин, искусно пользуясь своими актерскими способностями и разыгрывая оскорбленную невинность, — как ты можешь такое говорить, когда знаешь, что я не виновата? Клянусь тебе! Но старый ирландец с глубокой грустью читал правду под ее притворной обидой и видел, что одна из его самых заветных надежд рассыпается прахом. Он многого ждал от Эйлин и в смысле ее карьеры в обществе и в смысле счастливого замужества. Сколько прекрасных молодых людей были бы счастливы ее благосклонностью, она родила бы ему прелестных внуков — утеху в старости. — Не будем больше говорить об этом, дочка, — усталым голосом произнес он. — Ты так много всегда значила для меня, что мне трудно всему этому поверить. Видит бог, я и не хочу верить. Ты взрослая женщина, и если ты поступаешь дурно, то мне тебя уж не остановить. Я мог бы, конечно, выгнать тебя из дому — многие отцы поступили бы именно так, но я ничего подобного делать не стану. Однако, если ты в самом деле ведешь себя предосудительно, — Батлер поднял руку, чтобы предупредить протест Эйлин, — помни: рано или поздно я узнаю правду, и тогда Филадельфия станет тесна для меня и того человека, который причинил мне это горе! Я доберусь до него, — угрожающе произнес старый Батлер вставая, — я доберусь до него, и тут уж… Он побледнел и отвернулся. Эйлин ясно поняла, что Фрэнку, помимо всех грозящих ему неприятностей, предстоит еще помериться силами с ее отцом. Не потому ли он так сурово взглянул на нее вчера? — Твоя мать умерла бы от горя, если б узнала, что кто-то дурно говорит о тебе, — дрожащим голосом продолжал Батлер. — У этого человека есть семья — жена и дети. Ты не должна причинять им зло. Их и без того, если я не ошибаюсь, ждут в ближайшем будущем крупные неприятности. — У Батлера плотнее сжались челюсти. — Ты красивая девушка. Ты молода. Ты богата. Десятки молодых людей почли бы за честь назвать тебя своей женой. Что бы ты ни замышляла, что бы ты ни делала, не губи понапрасну свою жизнь. Не губи свою бессмертную душу. Не разбивай вконец и моего сердца! Эйлин, по натуре совсем не злая, мучительно боролась с противоречивыми чувствами — дочерней любовью и страстью к Каупервуду, — она с трудом сдерживала рыдания. Всей душой жалея отца, она не поколебалась в своей любви и верности Фрэнку. Она хотела что-нибудь сказать, еще убедительнее выразить свое возмущение, но понимала, что это бесполезно. Отец знал, что она лжет. — Мне нечего больше сказать, отец, — проговорила она, вставая. За окном уже смеркалось. Внизу негромко хлопнула дверь, — очевидно, вернулся кто-то из сыновей Батлера. У Эйлин пропало всякое желание идти в библиотеку. — Все равно ты мне не поверишь. Но повторяю, меня оговорили напрасно. Батлер поднял свою большую смуглую руку, требуя молчания. Эйлин поняла, что ее позорная связь уже не тайна для отца и мучительный разговор с ним окончен. Она повернулась и вышла, красная от стыда. Батлер ждал, покуда ее шаги не замерли в отдалении. Тогда он встал. И снова сжал огромные кулаки. — Негодяй! — вслух произнес он. — Негодяй! Я выживу его из Филадельфии, хотя бы мне пришлось истратить для этого все мои деньги, до последнего доллара!
Глава 27
Впервые в жизни Каупервуд столкнулся со своеобразным явлением, именуемым уязвленным отцовским чувством. Не зная точно, что именно привело Батлера в такую ярость, он все же догадывался, что дело в Эйлин. Каупервуд и сам был отцом. Своим сыном, Фрэнком-младшим, он не особенно восхищался. Но изящная маленькая Лилиан, со светлой, точно нимбом окруженной головкой, всегда внушала ему нежность. Она вырастет очаровательной женщиной, думал он, и жаждал упрочить ее положение в жизни. Он любил говорить ей, что у нее «глазки-бусинки», «не ножки, а кошачьи лапки», и ручки, как у куколки, такие они были крохотные. Девочка обожала отца, постоянно отыскивала его, где бы он ни был — в библиотеке, в гостиной, в кабинете или за обеденным столом, — и задавала ему бесконечные вопросы. Отношение к собственной дочери позволяло ему представить себе те чувства, которые должно было возбудить в Батлере поведение Эйлин. Он спрашивал себя, что ощущал бы сам, если бы речь шла о его крошке Лилиан. Но ему как-то не верилось, чтобы он стал тревожить себя и мучить ее из-за такой истории, будь она в летах Эйлин. Ведь дети рано или поздно выходят из повиновения родительской воле, и отцу всегда трудно руководить ими, если они по натуре своей строптивы и не желают, чтобы ими руководили. Каупервуд мрачно улыбнулся, подумав о том, сколько бед на него посыпалось. Чикагский пожар, несвоевременный отъезд Стинера, полное безразличие Батлера, Молленхауэра и Симпсона к судьбе Стинера и его собственной. А теперь еще, возможно, разоблачена его связь с Эйлин. Он не был уверен, что их тайна раскрыта, но чутье подсказывало ему, что это так. Как будет держать себя Эйлин, чем она оправдается, если отец вдруг призовет ее к ответу, — вот что сейчас сильно тревожило Каупервуда. Только бы как-нибудь снестись с ней! Но если приходится возвращать Батлеру его вклад и погашать другие ссуды, которые тоже не сегодня завтра будут востребованы, то нельзя терять ни минуты. Надо или платить, или тотчас же признать себя несостоятельным. Ярость Батлера, Эйлин, опасность, грозившая ему самому, — все это временно отошло на задний план. Его разум всецело сосредоточился на одной мысли — как спасти свое финансовое положение. Он поспешил повидать Джорджа Уотермена, своего шурина Дэвида Уиггина, ставшего к этому времени состоятельным человеком, Джозефа Зиммермена, крупного торговца мануфактурой, с которым ему в прошлом случалось вести дела, бывшего судью Китчена, богатого человека и крупного предпринимателя, казначея штата Пенсильвания Фредерика Ван-Ностренда, заинтересованного в акциях конных железных дорог, и многих других. Из всех, к кому он обращался за помощью, один действительно не в состоянии был ему помочь, другой трусил, третий алчно прикидывал в уме, как бы побольше с него содрать, четвертый был недостаточно решителен и требовал непомерно много времени на размышление. Все догадывались об истинном положении его дел, всем требовалось время подумать, а времени у него как раз и не было. Судья Китчен все же согласился одолжить ему тридцать тысяч долларов — жалкую сумму! Джозеф Зиммермен не пожелал рискнуть больше чем двадцатью пятью тысячами. Каупервуд убедился, что в общей сложности ему удастся собрать семьдесят пять тысяч долларов, заложив для этого акций на вдвое большую сумму. Но это была смехотворная цифра! Он снова принялся подсчитывать, с точностью до одного доллара, и пришел к выводу, что сверх всей его наличности ему нужно достать по меньшей мере двести пятьдесят тысяч, в противном случае он вынужден будет закрыть контору. Завтра к двум часам все выяснится. Если он не сумеет обернуться, то в десятках гроссбухов Филадельфии рядом с его именем появится слово «банкрот». Недурной финал для человека, еще совсем недавно заносившегося так высоко в своих надеждах! В первую очередь он должен погасить стотысячную ссуду Джирардского национального банка. Это был крупнейший в Филадельфии банк, и, сохранив расположение его заправил своевременной уплатой долга, Фрэнк мог и впредь, что бы ни случилось, рассчитывать на их благосклонность. Сейчас он еще даже не представлял себе, где добудет деньги. Однако, после недолгого раздумья, решил в тот же вечер передать судье Китчену и Зиммермену акции, под которые те согласились выплатить ему ссуды, и взять у них чеки или наличные. Затем он уговорит Стинера выдать ему чек на шестьдесят тысяч долларов — стоимость купленных им утром на бирже сертификатов городского займа. Из них он возьмет двадцать пять тысяч, недостающих для уплаты банку. И тогда в его распоряжении останется еще тридцать пять тысяч. Единственная отрицательная сторона такого плана заключалась в том, что он был построен на дальнейшем запутывании истории с сертификатами. Купив их еще утром, Каупервуд не только не сдал их, как полагалось, в амортизационный фонд (они были доставлены к нему в контору в половине второго), но тут же заложил, для того чтобы погасить очередной долг. Это был рискованный шаг, если принять во внимание, что Каупервуд находился под угрозой банкротства и не был уверен, что сумеет вовремя выкупить сертификаты. Но, с другой стороны, размышлял Каупервуд, существует ведь соглашение между ним и городским казначеем (конечно, незаконное), благодаря которому такая комбинация может сойти за вполне благовидную и формально оправданную даже в случае его банкротства, так как он не обязан балансировать свои сделки до конца месяца. Если он прогорит и в амортизационном фонде не окажется этих облигаций, он может сказать, что обычно сдавал облигации позднее и потому попросту забыл о них. Таким образом, если он возьмет чек в уплату за эти еще не сданные облигации, то, собственно говоря, — оставляя в стороне закон и этику, — его поступок будет внешне вполне обоснован. Правда, город потеряет еще шестьдесят тысяч долларов. Но какое это имеет значение, раз казначейству все равно грозит дефицит в пятьсот тысяч? Будет, значит, пятьсот шестьдесят. Привычная осторожность Каупервуда сталкивалась здесь с необходимостью, и потому он решил повременить с этим чеком, пока Стинер окончательно не откажет ему в выдаче трехсот тысяч, — в этом случае он будет вправе потребовать чек. Вероятнее всего, Стинер даже не спросит, сданы ли облигации в амортизационный фонд, а если спросит, придется солгать, только и всего! Каупервуд снова вскочил в экипаж и помчался обратно в контору: там, как он и думал, его уже ждало письменное требование Батлера. Он немедленно выписал чек на те сто тысяч долларов, которыми любящий отец кредитовал его в своем банке, и отослал Батлеру. За это время пришло еще письмо от Альберта Стайерса, секретаря Стинера, с предупреждением больше не покупать и не продавать облигации городского займа, так как до особого распоряжения эти сделки не будут приниматься в расчет. Каупервуд сразу понял, откуда ветер дует. Стинер советовался с Батлером или Молленхауэром, и те поспешили предостеречь и запугать его. Несмотря на это, Каупервуд прямиком отправился в городское казначейство. После свидания с Каупервудом у Стинера снова был разговор с Сэнгстеком, Стробиком и другими лицами, подосланными к нему для того, чтобы как следует его припугнуть. В результате этого разговора казначей решительно воспротивился всем планам Каупервуда. Стробик и сам был очень встревожен. Он, Уайкрофт и Хармон тоже пользовались средствами городского казначейства — правда, в значительно меньших размерах, ибо им был не свойствен финансовый размах Каупервуда, — и теперь они должны были покрыть долг до того, как грянет буря. Если Каупервуд обанкротится и у Стинера обнаружится дефицит, не исключена возможность проверки всего бюджета, а тогда выплывут на свет и их махинации. Чтобы не быть обвиненными в должностном преступлении, необходимо так или иначе возвратить деньги. — Отправляйтесь к Молленхауэру, — посоветовал Стинеру Стробик вскоре после ухода Каупервуда, — и откройте ему все. Он поддерживал вашу кандидатуру и устроил вас на пост казначея. Расскажите ему, в каком вы положении, и спросите, что делать. Он уж найдет выход. Предложите ему ваши акции за помощь. Вам придется на это пойти. Ничего другого попросту не остается. А Каупервуду, черт возьми, не давайте больше ни доллара! Помните, что он толкнул вас в пропасть, из которой вы не знаете, как выкарабкаться. Наконец, если Молленхауэр откажется вам помочь, пусть он хоть заставит Каупервуда вернуть деньги в казну. Молленхауэр сумеет воздействовать на него. Стробик привел еще множество доводов, и после его ухода Стинер со всех ног кинулся к Молленхауэру. Он был так перепуган, что задыхался и готов был броситься на колени перед этим американским немцем, великим финансистом и политиком. Если бы мистер Молленхауэр согласился ему помочь! Тогда есть надежда выпутаться из этой истории и не угодить в тюрьму! — О боже мой! Боже мой! — шептал он, торопясь к Молленхауэру. — Что мне делать? Позиция, занятая Генри Молленхауэром, жестким политиком и дельцом, прошедшим суровую школу, была такова, какую занял бы любой капиталист в этих сложных обстоятельствах. Перебирая в памяти то, что сказал ему Батлер, Молленхауэр прежде всего прикинул, какие выгоды он может извлечь из создавшегося положения. Надо — если, конечно, это можно сделать, не скомпрометировав себя, — завладеть акциями конных железных дорог, находящимися во владении Стинера. Эти акции нетрудно перевести через биржевых маклеров на имя какого-нибудь подставного лица, а затем уж на имя его, Молленхауэра. Для этого придется основательно нажать на казначея, когда тот явится сегодня к нему; что же касается недостачи пятисот тысяч долларов в кассе казначейства, то Молленхауэр еще не представлял себе, что тут можно сделать. Вероятнее всего, Каупервуд не сумеет покрыть свою задолженность; ну что ж, город в таком случае понесет убыток, но скандал необходимо замять до окончания выборов. Если остальные лидеры партии не проявят великодушия, как и полагал Молленхауэр, то Стинеру, конечно, не миновать разоблачения, ареста, суда, конфискации имущества и, возможно, даже тюрьмы. Правда, когда волна общественного негодования несколько схлынет, можно будет добиться от губернатора смягчения приговора. Было ли здесь налицо преступное соучастие Каупервуда — этим Молленхауэр не интересовался. Сто против одного — что нет. Этот человек достаточно хитер и осторожен. Впрочем, если представится возможность выгородить казначея, свалив вину на Каупервуда, и таким образом снять пятно с партии, Молленхауэр, конечно, не станет возражать. Но сначала нужно разузнать подробнее историю взаимоотношений этого биржевика со Стинером и попутно прибрать к рукам все, чем тот успел поживиться на посту казначея. Войдя к Молленхауэру, Стинер окончательно обессилел и упал в кресло. Мозг его отказывался работать, нервы сдали, страх окончательно завладел им. — Что скажете, мистер Стинер? — внушительным тоном спросил Молленхауэр, притворяясь, будто не знает, что привело к нему казначея. — Я пришел поговорить относительно ссуд, предоставленных мною мистеру Каупервуду. — А в чем, собственно, дело? — Он должен мне или, вернее, городскому казначейству пятьсот тысяч долларов. Насколько мне известно, ему грозит банкротство, и в таком случае он не сможет вернуть эти деньги. — Кто вам сказал, что ему грозит банкротство? — Мистер Сэнгстек, а позднее мистер Каупервуд и сам заезжал ко мне. Он объяснил, что во избежание краха ему необходимо раздобыть еще денег. И просил у меня дополнительно триста тысяч долларов. Уверял, что эта сумма нужна ему во что бы то ни стало. — Вот это здорово! — воскликнул Молленхауэр, разыгрывая крайнее изумление. — Но вы, надо думать, не согласились. У вас и без того хватит неприятностей. Если он пожелает знать, почему вы ему отказываете, направьте его ко мне. И не давайте ему больше ни единого доллара. В противном случае, если дело дойдет до суда, вам не будет пощады. Я и так не знаю, что можно для вас сделать. Но если вы не станете больше ссужать его деньгами, мы, возможно, что-нибудь придумаем. Не ручаюсь, конечно, но попытаемся. Только смотрите: чтобы ни один доллар больше не утек из казначейства на продолжение этого темного дела. Оно и без того имеет достаточно неприглядный вид. Молленхауэр вперил в Стинера предостерегающий взгляд. Тот, измученный и разбитый, уловив в словах своего покровителя слабый намек на милосердие, соскользнул с кресла и упал перед ним на колени, воздевая руки, как молящийся перед распятием. — О мистер Молленхауэр, — бормотал он, задыхаясь и всхлипывая, — поверьте, я не хотел сделать ничего дурного! Стробик и Уайкрофт уверяли меня, что это вполне законно. Вы сами направили меня к Каупервуду. Я делал только то, что делали другие, — так по крайней мере мне казалось. Мистер Боуд, мой предшественник, поступал точно так же: он вел эти дела через фирму «Тай и К°». У меня жена и четверо детей, мистер Молленхауэр. Моему младшему только семь лет. Подумайте о них, мистер Молленхауэр! Подумайте, что означает для них мой арест! Я не хочу попасть в тюрьму! Я не думал, что поступаю незаконно, честное слово, не думал. Я отдам все, что у меня есть. Возьмите мои акции, и дома, и земельные участки, все; все, только выручите меня из беды! Не дайте им посадить меня за решетку. Толстые побелевшие губы казначея судорожно подергивались, горячие слезы струились по его лицу, только что бледному, а теперь багровому. Зрелище почти неправдоподобное, но, к сожалению, не столь уж редкое, когда приоткрывается завеса над жизнью титанов финансового и политического мира! Молленхауэр смотрел на него спокойно и задумчиво. Он часто видел перед собою слабых людей, не более бесчестных, чем он сам, но лишенных его ума и мужества, и они точно так же молили его — не обязательно на коленях, но все равно это были люди со сломленной волей и духом. Жизнь, в представлении этого человека с богатым и сложным житейским опытом, была безнадежно запутанным клубком. Что прикажете делать с так называемой моралью и нравственными заповедями? Этот Стинер считает себя бесчестным человеком, а его, Молленхауэра, честным. Вот он кается перед ним в своих преступлениях и взывает к нему, словно к праведнику или святому. А между тем Молленхауэр знает, что сам он столь же бесчестен, но более хитер, дальновиден и расчетлив. Дело не в том, что Стинер безнравствен, а в том, что он труслив и глуп. В этом его главная вина. Есть люди, воображающие, что существует какой-то таинственный кодекс права, какой-то идеал человеческого поведения, оторванный и бесконечно далекий от практической жизни. Но он, Молленхауэр, никогда не видел, чтобы они претворяли его в жизнь, а случись так, это привело бы их только к финансовой (не нравственной, этого он не стал бы утверждать) гибели. Люди, которые цеплялись за этот бессмысленный идеал, никогда не были выдающимися деятелями в какой-либо практической области. Они навеки оставались нищими, жалкими, обойденными мечтателями. При всем желании он не мог бы заставить Стинера все это понять, да и не стремился просветить его. Жаль, разумеется, детишек Стинера, жаль его жену! Ей, вероятно, тоже пришлось немало поработать в жизни, как, впрочем, и ее мужу, чтобы пробить себе дорогу и хоть чего-то достичь. И вдруг это неожиданное бедствие, этот чикагский пожар, погубивший все их труды! Странное стечение обстоятельств! Если что-нибудь и заставляло Молленхауэра сомневаться в существовании благого и всемогущего провидения, то именно такие финансовые или общественные события, обрушивавшиеся как гром среди ясного неба и приносившие гибель и разорение множеству людей. — Встаньте, Стинер, — спокойно сказал он после недолгого молчания. — Нельзя так распускаться. Плакать тут нечего, слезами делу не поможешь. Соберитесь с мыслями и хорошенько обдумайте свое положение. Может быть, оно не так уж безнадежно. Пока Молленхауэр говорил, Стинер снова уселся в кресло и беспомощно всхлипывал, утирая глаза платком. — Я сделаю все, что возможно, Стинер, хотя ничего конкретного сейчас не обещаю и за результат ручаться не могу. В нашем городе действуют различные политические силы. Может быть, мне и не удастся спасти вас, но я попытаюсь. Зато вы должны полностью довериться мне. Не говорите и не делайте ничего, предварительно не посоветовавшись со мной. Время от времени я буду посылать к вам своего секретаря с указаниями, как действовать. Ко мне не являйтесь, пока я сам вас не позову. Вы меня поняли? — Да, мистер Молленхауэр. — Ну, теперь вытрите слезы. Из моей конторы неудобно выходить с заплаканными глазами. Поезжайте к себе в казначейство, а я пришлю к вам Сэнгстека. От него вы узнаете, что делать. Выполняйте в точности его слова. А как только я дам вам знать, приходите немедленно. Он поднялся, большой, самоуверенный, спокойный. Его туманные обещания вернули Стинеру душевное равновесие. Сам мистер Молленхауэр, великий, могущественный Молленхауэр, поможет ему выпутаться из беды. В конце концов не исключено, что тюрьма и минует его. Когда через несколько минут Стинер отправился в казначейство, на его лице, правда, еще красном от слез, уже не заметно было других следов пережитого потрясения. Не прошло и часа, как в казначейство, вторично за этот день, явился Эбнер Сэнгстек, смуглый человечек с высохшей правой ногой, обутой в тяжелый башмак на утолщенной подошве. На его скуластом, необычайно умном лице светились живые, пронизывающие, но непроницаемые глаза. Сэнгстек как нельзя лучше подходил для роли секретаря Молленхауэра. Достаточно было взглянуть на него, чтобы уже не сомневаться, что он заставит Стинера поступать точно по указке их общего хозяина. Сейчас его задачей было уговорить казначея немедленно перевести через маклеров Батлера — «Тая и К°» свои акции конных железных дорог на имя одного мелкого агента из клики Молленхауэра, который потом, в свою очередь, должен был перевести их на имя патрона. То немногое, что Стинеру предстояло получить за эти бумаги, должно было пойти на покрытие дефицита в казначействе. «Тай и К°» сумеют так повести дело, что никто не перехватит этих ценностей, и в то же время придадут ему вид обыкновенной биржевой операции. Сэнгстек уже успел, в интересах своего шефа, проверить состояние дел Стинера и попутно узнал, для чего брали деньги в казначействе Стробик, Уайкрофт и Хармон. Этой тройке, через другого посредника, тоже был предложен выбор: либо немедленно продать все имеющиеся у них акции, либо предстать перед судом. С ними не стоило церемониться: они были лишь мелкими шестеренками в политической машине Молленхауэра. Строго-настрого наказав Стинеру ни на кого не переписывать остатков своего имущества и не слушать ничьих советов, а главное, коварных наставлений Каупервуда, Сэнгстек удалился. Едва ли стоит упоминать, что Молленхауэр остался весьма удовлетворен таким оборотом дела. Теперь Каупервуд скорее всего будет вынужден обратиться к нему, но даже если он этого не сделает, в руках Молленхауэра уже все равно немалое количество тех предприятий, в которых Каупервуд так недавно играл ведущую роль. Если же ему всеми правдами и неправдами удастся заполучить еще и остальные, то Симпсону и Батлеру нечего и заикаться о конных железных дорогах! Его доля в этом деле теперь не только не уступала доле других держателей, но, может быть, даже превосходила ее.Глава 28
Таково было положение вещей в понедельник, к концу дня, когда Каупервуд снова приехал к Стинеру. Казначей сидел в своем служебном кабинете одинокий, подавленный, в состоянии, близком к невменяемости. Он жаждал еще раз повидать Каупервуда, но в то же время боялся встречи с ним. — Джордж, — без промедления начал Каупервуд, — у меня нет ни одной лишней минуты, и я пришел, чтобы в последний раз сказать вам: вы должны дать мне триста тысяч долларов, если не хотите, чтобы я обанкротился. Дела сегодня обернулись очень скверно. Я буквально в безвыходном положении. Но долго такая буря свирепствовать не может, это очевидно по самому ее характеру. Он смотрел на Стинера и читал в его лице страх и мучительное, но несомненное упорство. — Чикаго горит, но очень скоро его примутся отстраивать заново. И тогда начнется тем больший подъем в делах. Так вот, возьмитесь за ум и помогите мне. Не поддавайтесь страху! — Стинер растерянно заерзал в кресле. — Не позволяйте этим политическим авантюристам так запугивать вас. Паника утихнет через несколько дней, и мы с вами станем богаче, чем были. Вы виделись с Молленхауэром? — Да. — И что же он вам сказал? — То, что я и ожидал услышать. Он запретил мне иметь с вами дело. Я не могу, Фрэнк, понимаете, не могу! — завопил Стинер, вскакивая. Он так нервничал, что не в состоянии был усидеть на месте во время этого разговора. — Я не могу! Они меня прижали к стене, затравили, им известны все наши дела. Послушайте, Фрэнк, — Стинер нелепо взмахнул руками, — вы должны вызволить меня из беды! Вы должны возвратить эти пятьсот тысяч долларов, иначе я погиб! Если вы не вернете долг и обанкротитесь, меня упекут в тюрьму. А у меня жена и четверо детей, Фрэнк! Я не могу этого вынести. Вы слишком широко размахнулись! Я не имел права так рисковать! Да я и не пошел бы на этот риск, если бы вы меня не уговорили. Поначалу я не представлял себе, чем это может кончиться. С меня довольно, Фрэнк! Не могу! Я отдам вам все свои акции, а вы верните мне эти пятьсот тысяч, и мы будем квиты. Голос Стинера прерывался, он вытирал рукою вспотевший лоб и с тупой мольбой вглядывался в Каупервуда. Тот, в свою очередь, смотрел на него несколько секунд холодным, неподвижным взглядом. Он хорошо знал человеческую натуру, и никакие странности поведения, особенно в минуты паники, не могли его удивить; но Стинер превзошел все ожидания. — С кем вы еще виделись, Джордж, после моего ухода? Кто у вас был? Зачем вы понадобились Сэнгстеку? — Он сказал мне то же, что и Молленхауэр. Никому и ни при каких обстоятельствах не давать больше взаймы, а главное, как можно скорее вытребовать назад пятьсот тысяч долларов. — И вы полагаете, что Молленхауэр хочет помочь вам, не так ли? — спросил Каупервуд, безуспешно стараясь скрыть свое презрение к этому человеку. — Надеюсь, что так. Кто же еще может помочь мне, Фрэнк, если не он? Молленхауэр — великая сила в нашем городе. — Выслушайте меня, — снова начал Каупервуд, сверля Стинера взглядом. Он выдержал короткую паузу. — Как Молленхауэр приказал вам распорядиться вашими акциями конных железных дорог? — Продать их через контору «Тай и К°», а деньги внести в казначейство. — А кому продать? — спросил Каупервуд, напряженно вдумываясь в последние слова Стинера. — Странный вопрос — вероятно, любому, кто пожелает их купить. — Все понятно, — произнес Каупервуд, уразумев, в чем дело. — Я, собственно, мог и сам догадаться. Джордж, они вас грабят, норовят присвоить ваши ценности. Молленхауэр водит вас за нос. Он знает, что я не в состоянии сейчас удовлетворить ваше требование, то есть вернуть вам пятьсот тысяч долларов. Поэтому он заставляет вас выбросить ваши акции на биржу, а там уж он сумеет их заграбастать. Можете быть уверены, что у него все подготовлено. Как только вы его послушаетесь, я окажусь у него в лапах, так, во всяком случае, он думает, вернее, они — он, Батлер и Симпсон. Они втроем хотят прибрать к рукам всю городскую конку, я это знаю, чувствую. Я уже давно этого жду. Молленхауэр так же мало помышляет о помощи вам, как о том, чтобы взмахнуть крылышками и полететь. Помяните мое слово: как только вы продадите ваши акции, он потеряет к вам всякий интерес. Неужели вы воображаете, что он хоть пальцем шевельнет, чтобы спасти вас от тюрьмы, когда вы уже не будете иметь касательства к конным железным дорогам? Какой вздор! Если вы на это надеетесь, Джордж, значит, вы еще глупее, чем я полагал! Не сходите с ума! Нельзя же до такой степени теряться! Образумьтесь и взгляните опасности в лицо. Я вам все объясню. Если вы меня сейчас не поддержите, если, самое позднее завтра утром, вы не дадите мне трехсот тысяч долларов, — я конченый человек и вы тоже! А между тем наши дела, по существу, обстоят неплохо. Наши акции имеют сегодня не меньшую ценность, чем имели раньше. Поймите же, черт возьми, что эти акции обеспечены существующими железными дорогами! Дороги — доходное дело. Линия Семнадцатой и Девятнадцатой улиц уже сейчас приносит тысячу долларов в день. Каких еще доказательств вам нужно? Линия Грин и Коутс дает пятьсот долларов ежедневно. Вы трусите, Джордж! Вас запугали эти проклятые аферисты. Вы имеете такое же право давать взаймы деньги, как ваши предшественники — Боуд и Мэртаг. Они этим занимались постоянно. Пока вы делали то же самое в интересах Молленхауэра и его приспешников, все было в порядке! Разберемся, что значит положить в банк средства городского казначейства? Разве это не та же ссуда? Каупервуд имел в виду широко практиковавшееся обыкновение депонировать часть городских средств, например, амортизационный фонд, на очень низких процентах или вовсе безвозмездно в банках, с которыми были связаны Молленхауэр, Батлер и Симпсон. Это почиталось их «законным» доходом. — Не отказывайтесь от последних шансов на спасение, Джордж! Не складывайте оружия! Через несколько лет у вас будут миллионы, и тогда вы до конца жизни сможете сидеть сложа руки. Вам останется одна забота — сохранять то, что у вас есть. Ручаюсь вам, если вы меня не поддержите, они отрекутся от вас в ту же секунду, как я окажусь банкротом, спокойно предоставят вам сесть в тюрьму. Кто внесет за вас в городское казначейство полмиллиона долларов, Джордж? Где в такое время раздобудет их Молленхауэр, или Батлер, или кто-либо другой? Сейчас это немыслимо. Да они и не собираются этого делать. Когда придет конец мне, придет конец и вам, но запомните, в уголовном порядке будут преследовать вас, а не меня. Мне, Джордж, они ничего не могут сделать. Я просто маклер. Я не звал вас. Вы пришли ко мне по доброй воле. Если вы мне не поможете, ваша песенка спета, и вы прямиком отправитесь в тюрьму, за это я ручаюсь. Почему вы не защищаетесь, Джордж? Почему вы не хотите постоять за себя? У вас жена и дети, о которых вы обязаны подумать. Что может измениться от того, что вы ссудите мне еще триста тысяч? Если вас привлекут к ответственности, это никакой разницы не составит. А главное, если вы одолжите мне эти деньги, ни о каком суде уже не будет и речи. Тогда мне не угрожает банкротство. Через неделю, через десять дней буря утихнет, и мы снова будем богаты. Бога ради, Джордж, не раскисайте! Соберитесь с духом и действуйте разумно. Он замолчал, так как лицо Стинера от отчаяния стало походить на расплывающийся студень. — Не могу, Фрэнк! — заныл он. — Говорю вам — не могу. Они со мной расправятся без зазрения совести. Они меня сживут со света. Вы не знаете этих людей! В позорной слабости Стинера Каупервуд прочитал свой приговор. Что можно сделать с таким человеком? Как вдохнуть в него бодрость? Нет, это безнадежно! С жестом, выражающим омерзение, гордое равнодушие и отказ от всех дальнейших увещаний, он направился к выходу, но в дверях остановился. — Джордж, — сказал он, — мне очень жаль, от души жаль вас, а не себя. Я рано или поздно вывернусь. Я буду богат. Но вы, Джордж, совершаете величайшую в своей жизни ошибку. Вы станете нищим, каторжником, и, кроме себя, вам некого будет винить. Вся эта биржевая конъюнктура вызвана пожаром. Мои дела, если не считать падения ценностей на бирже вследствие паники, в полнейшем порядке. А вы сидите тут при деньгах и позволяете запугивать себя шайке интриганов и шантажистов, знающих о ваших и моих делах не больше, чем первый встречный. Они интересуются вами лишь постольку, поскольку надеются вас выпотрошить. Поймите: они удерживают вас от единственного шага, который еще мог бы вас спасти! Из-за каких-то несчастных трехсот тысяч, которые я через три или четыре недели вернул бы вам в пятикратном размере, вы готовы обречь меня на разорение, а себя на каторгу. Я отказываюсь понимать вас, Джордж! Вы не в своем уме! Вы до самой смерти будете раскаиваться в этом решении. Он подождал несколько секунд: вдруг его слова в последнюю минуту возымеют какое-нибудь действие; но, убедившись, что Стинер по-прежнему глух ко всем доводам рассудка, скорбно покачал головой и вышел. Впервые за всю свою жизнь Каупервуд на мгновение ощутил душевную усталость, более того — отчаяние. Он всегда насмешливо относился к греческому мифу о человеке, преследуемом фуриями. Но теперь злой рок словно и вправду преследовал его. Очень уж на то похоже. Но так или иначе, он не даст себя запугать. И даже в эти первые минуты тяжелых переживаний он вышел своей обычной бодрой походкой, высоко подняв голову и расправив плечи. В большой комнате, примыкавшей к кабинету Стинера, Каупервуд встретил Альберта Стайерса, управляющего канцелярией и секретаря городского казначея. Каупервуд относился к нему по-приятельски и не раз обсуждал с ним второстепенные сделки, касавшиеся городского займа, так как Стайерс разбирался в тонкостях финансовых операций и в отчетности несравненно лучше своего начальника. При виде Стайерса Каупервуд внезапно вспомнил о сертификатах городского займа, которые он купил на шестьдесят тысяч долларов. Он не сдал их в амортизационный фонд и в ближайшее время не собирался сдавать, хотя бы за полной невозможностью это сделать, пока у него на руках снова не будет значительных денежных ресурсов. Дело в том, что эти сертификаты он употребил на погашение неотложных платежей, а денег для их выкупа, вернее, реализации, у него не было, как, впрочем, не было и желания выкупать их. Согласно закону, Каупервуд обязан был немедленно депонировать сертификаты на счет городского казначейства и только после этого получить за них компенсацию у казначея. Иными словами, городской казначей не имел права оплачивать операцию такого рода, пока Каупервуд, лично или через своих агентов, не представил ему подтверждения сдачи приобретенных им сертификатов в банк или другое финансовое учреждение. На деле же ни Каупервуд, ни Стинер этого закона не соблюдали. Каупервуд мог покупать сертификаты городского займа для амортизационного фонда на любую сумму, закладывать их где ему было угодно и получать соответствующую компенсацию из городского казначейства без всяких подтверждений от кого бы то ни было. К концу месяца казначейству обычно удавалось из разных источников собрать столько сертификатов, сколько нужно было для покрытия дефицита, но — и это случалось не раз — на дефицит вообще смотрели сквозь пальцы, если деньги, полученные от заклада сертификатов, нужны были Каупервуду для его биржевых махинаций. Конечно, это противоречило закону, но ни Каупервуд, ни Стинер не считались, вернее, не хотели считаться с законом. Затруднение в данный момент заключалось в том, что Каупервуд получил от Стинера приказ воздержаться как от покупки, так и от продажи сертификатов; этот приказ ставил его в строго официальные отношения с городским казначейством. Правда, последняя покупка была совершена до получения письма, но Каупервуд не сдал сертификатов в фонд. Сейчас ему нужно было раздобыть чек на израсходованную им сумму; но ведь не исключено, что старая и удобная система сведения баланса к концу месяца уже отменена. Стайерс может потребовать у него расписку банка о сдаче сертификатов. Тогда ему не видать, как своих ушей, этого чека на шестьдесят тысяч долларов, ибо на руках у него нет бумаг, и, следовательно, депонировать их невозможно. Если же Стайерс ничего не потребует, то Каупервуд получит необходимый чек, но впоследствии такая махинация может послужить основанием для судебного преследования. Если он до банкротства не сдаст сертификатов, ему потом могут предъявить обвинение в мошенничестве. Однако, говорил себе Каупервуд, ведь может случиться, что он и не обанкротится. Если хоть несколько банков, с которыми он ведет дела, по той или иной причине изменят свою позицию и перестанут требовать от него погашения задолженности, он спасен. Интересно, поднимет ли Стинер шум, если он все-таки получит необходимый ему чек? И как отнесутся к этому заправилы города? Сыщется ли прокурор, который даст ход этому делу, если Стинер вчинит иск? Нет, едва ли; и вообще тут бояться нечего. Любой суд примет во внимание соглашение, существовавшее между ним и Стинером, между маклером и клиентом. И вообще, когда деньги окажутся у него в руках, сто шансов против одного, что Стинер и не вспомнит о них. Эта сумма будет причислена к другим непогашенным обязательствам — и дело с концом. Все эти соображения с быстротой молнии промелькнули в мозгу Каупервуда. Надо рискнуть. Он подошел к столу секретаря. — Послушайте, Альберт, — негромко произнес он, — я утром приобрел для амортизационного фонда на шестьдесят тысяч долларов сертификатов городского займа. Завтра я пришлю к вам за чеком, а не то лучше выпишите-ка мне его сейчас. Ваше уведомление о приостановке операций я получил. Сейчас я еду к себе в контору. Вы можете попросту занести в амортизационный фонд восемьсот облигаций из расчета семьдесят пять — восемьдесят долларов за штуку. Подробную опись я вам пришлю позднее. — Прошу вас, мистер Каупервуд! — с готовностью согласился Альберт. — Акции, я слышал, чертовски летят вниз? Надеюсь, вас эта паника не коснулась? — Только отчасти, Альберт, — с улыбкой отвечал Каупервуд, между тем как Стайерс уже выписывал чек. А что, если по нелепой случайности сейчас выйдет из кабинета Стинер и не допустит выдачи чека, хотя это и законная операция? Он, Каупервуд, имеет право на этот чек — конечно, при условии, что, как полагается, депонирует облигации у хранителя амортизационного фонда. Каупервуд с волнением ждал, пока Альберт заполнит бланк, и только когда чек уже был у него в руках, вздохнул с облегчением. Шестьдесят тысяч долларов у него есть, а вечером он постарается реализовать обещанные ему семьдесят пять тысяч. Завтра надо будет снова повидаться с Китченом, Уолтером Ли, представителями «Джей Кук и К°», «Кларк и К°» — со всеми лицами и представителями фирм, которым он должен деньги (их набрался целый длинный список), — и узнать, как обстоит дело. Только бы выиграть время! Только бы добиться отсрочки хоть на одну неделю!Глава 29
Но ни о какой отсрочке в такой напряженный момент не могло быть и речи. Семьдесят пять тысяч долларов, взятых взаймы у друзей, и шестьдесят тысяч, добытых у Стайерса, пошли на погашение задолженности Джирардскому национальному банку; остаток — тридцать пять тысяч — Каупервуд положил в сейф у себя дома. Затем он в последний раз обратился к банковским и финансовым деятелям с просьбой о помощи и получил отказ. Но даже в этот тяжелый для него час Каупервуд не проявил ни малейших признаков слабости. Он только поглядел из окна своего кабинета на маленький дворик и вздохнул. Что еще мог он предпринять? Он отправил отцу записку, прося его прийти к завтраку. Вторую такую же записку послал юрисконсульту Харперу Стеджеру, своему сверстнику, которого он очень любил. Ум Каупервуда лихорадочно разрабатывал все новые и новые планы получения отсрочки — Обращения к кредиторам и тому подобное, — но, увы, его банкротство было неизбежно. Хуже всего, что тогда откроются его махинации с городским казначейством и выйдет не только общественный, но и политический скандал. Самая большая из всех опасностей, грозящих ему, — это обвинение в соучастии, если не юридическом, то моральном, при расхищении городских средств. Его соперники немало поусердствуют, чтобы раздуть дело! Конечно, он и после банкротства сумеет постепенно встать на ноги, но это будет очень нелегко! А отец!.. Его тоже не пощадят. Возможно, он будет вынужден уйти с поста директора банка. Вот какие мысли одолевали Каупервуда, когда в его кабинет вошел конторский рассыльный и доложил об Эйлин Батлер и Альберте Стайерсе, приехавшем почти одновременно с нею. — Проси мисс Батлер, — сказал Каупервуд, вставая. — Мистеру Стайерсу предложи подождать. Эйлин вошла быстрыми, решительными шагами. Эффектный золотисто-коричневый костюм с темно-красными пуговками подчеркивал красоту ее фигуры. На голову она сегодня надела маленькую коричневую шляпку с длинным пером, которая, по ее убеждению, очень шла к ней; шею охватывала тройная нитка золотых бус. Руки ее, как обычно, были затянуты в перчатки, маленькие ноги обуты в изящные башмачки. Выражение глаз у нее было какое-то ребячески-печальное, что она, впрочем, всячески старалась скрыть. — Любимый мой! — воскликнула она, протягивая руки к Фрэнку. — Что случилось? Мне так хотелось вчера вечером обо всем расспросить тебя! Неужели правда, что тебе грозит банкротство? Отец и Оуэн говорили об этом вчера. — Что именно ониговорили? — спросил Каупервуд, обнимая ее и спокойно вглядываясь в ее тревожные глаза. — Ах, ты знаешь, папа очень зол на тебя! Он подозревает нас. Кто-то написал ему анонимное письмо. Вчера он подверг меня форменному допросу, но из этого ничего не вышло. Я все отрицала. Я уже два раза приходила сюда сегодня утром, но тебя не было. Я гак боялась, что отец увидит тебя раньше и ты проговоришься. — Я, Эйлин? — Нет, конечно, нет! Я этого не думала. Впрочем, я и сама не знаю, что я думала. Мой милый, я в такой тревоге! Я всю ночь не спала. Я считала себя более сильной, но в душе так беспокоилась за тебя! Знаешь, что он сделал: посадил меня в кресло возле своего стола, прямо напротив окошка, чтобы лучше видеть мое лицо, и показал мне это письмо. В первую минуту я опешила и теперь даже не знаю, что и как отвечала ему. — Что же ты все-таки сказала? — Кажется, я сказала: «Какое бесстыдство! Это ложь!» Но сказала не сразу. Сердце у меня стучало, как кузнечный молот. Боюсь, что он все понял по моему лицу. У меня даже дыхание перехватило. — Твой отец умный человек, — заметил Каупервуд. — Он знает жизнь. Теперь ты видишь, в каком мы трудном положении. Еще слава богу, что он показал тебе письмо, а не вздумал следить за домом. На это ему, верно, было слишком тяжело решиться. А теперь он ничего не может доказать. Но он все знает, его не обманешь! — Почему ты думаешь, что он знает? — Я вчера виделся с ним. — Он что-нибудь говорил тебе? — Нет. Но я видел его лицо: с меня было достаточно того, как он смотрел на меня. — Милый мой! Мне ведь очень жаль и отца! — Разумеется. Мне тоже. Впрочем, теперь уже поздно. Об этом надо было думать раньше. — Но я тебя так люблю! Ох, дорогой мой, он мне этого никогда не простит! Он меня обожает. Он не должен знать! Я ни в чем не признаюсь! Но… О боже, боже! Она прижала руки к груди, а Каупервуд смотрел ей в глаза, стараясь ее успокоить. Веки Эйлин дрожали, губы подергивались. Ей было больно за отца, за себя, за Фрэнка. Глядя на нее, Каупервуд представлял себе всю силу родительской любви Батлера, а также всю силу и опасность гнева старого подрядчика. Сколько же разных обстоятельств тут переплеталось и как трагически могло все это кончиться! — Полно, полно! — сказал он. — Теперь уж делу не поможешь. Где же моя сильная, смелая Эйлин? Я считал тебя мужественной. Неужели я ошибся? А сейчас мне так нужно, чтобы ты была храброй. — Правда? — Еще бы! — У тебя большие неприятности? — Меня, по-видимому, ожидает банкротство, дорогая. — Не может быть! — Да, девочка! Я загнан в тупик. И пока не вижу выхода. Я жду сейчас отца и Стеджера, моего юриста. Тебе нельзя здесь оставаться, моя прелесть. Твой отец тоже может в любую минуту зайти сюда. Мы должны где-нибудь встретиться завтра, скажем, во второй половине дня. Ты знаешь Индейскую скалу на берегу Уиссахикона? — Знаю. — Можешь быть там завтра в четыре? — Могу. — Смотри только, не следят ли за тобой. Если я не приду до половины пятого, не жди меня. Это будет значить, что я подозреваю слежку. Впрочем, бояться нечего, надо только соблюдать осторожность. А теперь иди, моя родная! В доме 931 нам уже нельзя бывать. Придется подыскать что-нибудь другое. — Ах, родной мой, как все это ужасно! — Ничего, Эйлин, я знаю, что ты возьмешь себя в руки и будешь храброй девочкой. Ты сама видишь, как это важно для меня! Каупервуд впервые выглядел при ней удрученным. — Хорошо, дорогой, хорошо! — отвечала Эйлин, обнимая его и притягивая к себе. — Да, да, ты можешь на меня положиться! О, Фрэнк, как я тебя люблю! Я просто убита горем! Но, может быть, ты еще избегнешь банкротства? Впрочем, что нам до этого, родной мой, ведь все равно ничто не изменится, правда? Разве мы будем меньше любить друг друга? Я на все готова для тебя, дорогой! И во всем буду тебя слушаться. Верь мне! От меня никто ничего не узнает. Она всматривалась в его суровое, бледное лицо, и готовность бороться за любимого человека постепенно нарастала в ней. Ее любовь была греховной, беззаконной, безнравственной, но это была любовь, а любви, отверженной законом, присуща пламенная отвага. — Я люблю тебя! Люблю, Фрэнк, очень люблю! — прошептала она. Он высвободился из ее объятий. — Иди, моя радость! Помни — завтра в четыре. Я жду тебя. И главное — молчи. Никому ни в чем не сознавайся. — Будь спокоен! — И не тревожься обо мне. Все как-нибудь образуется. Он едва успел поправить галстук и в непринужденной позе усесться у окна, как в кабинет ворвался управляющий канцелярией Стинера — бледный, расстроенный, очевидно вне себя от волнения. — Мистер Каупервуд, помните тот чек, который я вчера вечером выписал вам?.. Так вот, мистер Стинер говорит, что это незаконно, что я не должен был этого делать, и грозит всю ответственность возложить на меня. Он говорит, что меня могут арестовать за соучастие в преступлении, что он меня уволит, если я не верну чека, и немедленно отправит в тюрьму. Мистер Каупервуд, ведь я еще совсем молод. Я только что начал жизнь. У меня на руках жена и маленький сын. Неужели вы допустите, чтобы он так расправился со мной? Ведь вы отдадите мне этот чек! Правда? Без него я не могу возвратиться в казначейство. Он уверяет, что вас ждет банкротство, что вы это знали и потому не имели права брать у меня чек. Каупервуд с любопытством глядел на него. Его поражало, до чего разнолики были все эти вестники бедствия. Да, если уж начинают сыпаться несчастья, то они сыплются со всех сторон. Стинер не вправе возводить на своего подчиненного такое обвинение. Операция с чеком не была противозаконной. Видно, казначей от страха совсем спятил. Правда, он, Каупервуд, получил распоряжение больше не покупать и не продавать облигаций городского займа, но оно пришло уже после покупки этой партии и обратной силы не имеет. Стинер стращал и запугивал своего несчастного секретаря, человека, значительно более достойного, чем он сам, лишь бы получить обратно этот чек на шестьдесят тысяч долларов. Жалкий трус! Правильно сказал кто-то, что неизмеримы глубины низости, до которых может пасть глупец! — Подите к Стинеру, Альберт, и скажите ему, что это невозможно. Облигации городского займа были приобретены до того, как пришло его распоряжение, это легко проверить по протоколам фондовой биржи. Здесь нет ничего противозаконного. Я имею право на этот чек, и любой суд, если я пожелаю к нему обратиться, решит дело в мою пользу. Ваш Стинер совсем потерял голову. Я еще не банкрот. Вам не грозит никакое судебное преследование, а если что-нибудь подобное и случится, то я найду способ защитить вас. Я не могу вернуть вам чек, потому что у меня его нет, но даже если бы он и был, я не стал бы его возвращать. Ибо это значило бы, что я позволил дураку одурачить меня. Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. — О мистер Каупервуд! — В глазах Стайерса блеснули слезы. — Стинер меня уволит! Он конфискует мой залог! Меня выгонят на улицу! Кроме жалованья, у меня почти ничего нет! Он стал ломать руки, но Каупервуд только скорбно покачал головой. — Не так все это страшно, как вам представляется, Альберт. Стинер только угрожает. Он ничего вам не может сделать. Это было бы несправедливо и незаконно. Вы можете подать на него в суд и получить то, что вам причитается. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Но этот чек на шестьдесят тысяч долларов я вернуть не могу, потому что у меня его нет, понимаете? Здесь я бессилен. Повторяю: его у меня нет. Он пошел в уплату за облигации. Этих облигаций у меня тоже нет. Они в амортизационном фонде или будут там в ближайшее время. Каупервуд оборвал свою речь, пожалев, что упомянул об этом. Последние слова нечаянно сорвались у него с языка; это случалось с ним чрезвычайно редко и сейчас объяснялось лишь исключительной трудностью положения. Стайерс продолжал умолять, но Каупервуд заявил ему, что это бесполезно. Наконец молодой человек ушел, испуганный, разбитый, надломленный. В глазах у него стояли слезы. Каупервуд от души его жалел. Едва дверь успела закрыться за Стайерсом, как Каупервуду доложили о приходе отца. Старик выглядел вконец измученным. Накануне они беседовали с Фрэнком почти до рассвета, но плодом этой беседы явилось только чувство полной неуверенности в будущем. — Добрый день, отец! — бодро приветствовал его Фрэнк, заметив подавленное состояние старика. Он и сам теперь понимал, что надежды на спасение уже не осталось, но что пользы было в этом сознаваться? — Ну, как дела? — спросил Генри Каупервуд, с усилием поднимая глаза на сына. — Да как тебе сказать, тучи нависли грозовые. Я решил, отец, созвать своих кредиторов и просить об отсрочке. Ничего другого мне не остается. Я лишен возможности реализовать сколько-нибудь значительную сумму. Я надеялся, что Стинер передумает, но об этом не может быть и речи. Его секретарь только что вышел отсюда. — Зачем он приходил? — осведомился Каупервуд-старший. — Хотел, чтобы я вернул ему чек на шестьдесят тысяч, выданный мне в уплату за облигации городского займа, которые я купил вчера. Фрэнк, однако, умолчал как о том, что он заложил эти облигации, так и о том, что чек он употребил на погашение задолженности Джирардскому национальному банку и сверх того еще оставил себе тридцать пять тысяч наличными. — Ну, это уж из рук вон, — возмутился старый Каупервуд. — Я полагал, что у него больше здравого смысла. Ведь это совершенно законная сделка. Когда, ты говоришь, он уведомил тебя о необходимости прекратить покупку облигаций? — Вчера около двенадцати. — Он рехнулся! — лаконически заметил старик. — Это все дело рук Молленхауэра, Симпсона и Батлера — я знаю. Они подбираются к моим акциям конных железных дорог. Но у них ничего не выйдет! Разве только после учреждения опеки по моим делам и после того, как уляжется паника. Преимущественное право приобретения этих бумаг будет предоставлено моим кредиторам. Пусть покупают у них, если хотят! Не будь этой истории со ссудой в пятьсот тысяч, я бы и не беспокоился. Мои кредиторы поддержали бы меня. Но как только это получит огласку!.. А тут еще выборы на носу! Надо тебе сказать, что я не желал портить отношения с Дэвисоном и заложил эти облигации. Я рассчитывал собрать достаточно денег и выкупить их. Ведь им, собственно говоря, следовало бы находиться в амортизационном фонде. Старый джентльмен сразу понял, в чем дело, и нахмурился. — Ты можешь нажить себе таким образом большие неприятности, Фрэнк! — Это вопрос чисто формальный, — отвечал сын. — Кто знает, быть может, я намеревался выкупить их. Да я и постараюсь это сделать сегодня до трех часов, если успею. В моей практике случалось, что проходило и восемь и десять дней, прежде чем я сдавал сертификаты в амортизационный фонд. В такую бурю, как сейчас, я имею право изворачиваться по собственному усмотрению. Каупервуд-старший потер подбородок. То, что он услышал, до крайности встревожило его, но выхода из создавшегося положения он не видел. Его личные ресурсы были исчерпаны. Он потеребил бакенбарды и уставился в окно на зеленый дворик. Возможно, что это и вправду вопрос чисто формальный, — кто знает? Финансовые отношения городского казначея с другими маклерами и до Фрэнка не были как следует упорядочены. Это известно каждому банковскому деятелю. Может быть, и в данном случае этот обычай примут во внимание? Трудно сказать! Но как бы там ни было, дело это рискованное и не совсем чистое. Хорошо, если бы Фрэнк успел изъять облигации и депонировал их как положено. — На твоем месте я постарался бы выкупить их, — посоветовал старый Каупервуд. — Я так и сделаю, если смогу. — Сколько у тебя денег? — В общей сложности тысяч двадцать. Нужно же мне иметь немного наличности на случай прекращения платежей. — У меня к вечеру наберется тысяч восемь — десять. Старик рассчитывал получить эту сумму, перезаложив дом. Каупервуд спокойно посмотрел на него. Он все сказал отцу, больше ему говорить было нечего. — После твоего ухода я в последний раз попробую уломать Стинера, — сказал он. — Мы пойдем к нему вместе с Харпером Стеджером, которого я жду с минуты на минуту. Если Стинер будет стоять на своем, я разошлю извещения всем кредиторам, а также уведомлю секретаря биржи. Что бы ни случилось, отец, прошу тебя, не унывай! Впрочем, ты умеешь держать себя в руках. Я лечу в пропасть, а между тем, будь у Стинера капля ума… — Фрэнк помолчал. — Но что пользы говорить об этом идиоте! Он стал смотреть в окно, думая о том, как легко могло бы все уладиться с помощью Батлера, не будь этого злополучного анонимного письма. Вместо того чтобы вредить своей же партии, Батлер в такой крайности, несомненно, выручил бы его. Но теперь… Отец встал, собираясь уходить. Отчаяние, как лихорадочный озноб, насквозь пронизывало его. — Так, так, — устало пробормотал он. Каупервуду было мучительно больно за старика. Какой позор! Его отец!.. Он чувствовал, как из глубины его души поднимается волна глубокой печали, но минуту спустя уже овладел собой и стал думать о делах, соображая по обыкновению быстро и четко. Как только старик вышел, Каупервуд велел просить Харпера Стеджера. Они обменялись рукопожатием и тотчас же отправились к Стинеру. Но тот обмяк, словно порожний воздушный шар, и накачать его было уже невозможно. Каупервуд и Стеджер ушли ни с чем. — По-моему, вам еще рано горевать, Фрэнк, — заметил Стеджер. — Мы на самых законных основаниях оттянем это дело до выборов и даже дольше, а тем временем вся шумиха уляжется. Тогда вы созовете кредиторов и попытаетесь образумить их. Они не захотят поступиться своими ценностями, даже если Стинер угодит в тюрьму. Стеджер еще не знал об облигациях на шестьдесят тысяч долларов, заложенных Каупервудом. Так же как не знал об Эйлин Батлер и безудержной ярости ее отца.Глава 30
За это время произошло еще одно событие, о котором не догадывался Каупервуд. В тот самый день, когда почта доставила Батлеру анонимное письмо, касающееся его дочери, миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд получила почти точную копию этого письма, но почему-то без упоминания имени Эйлин. «Вам, вероятно, неизвестно, что ваш муж путается с другой женщиной. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице.» В понедельник утром, когда миссис Каупервуд поливала цветы в оранжерее, горничная подала ей это письмо. Настроение у Лилиан в то утро было самое безмятежное, ибо она пребывала в полном неведении относительно долгого совещания минувшей ночью. Случалось, что Фрэнк и раньше бывал озабочен финансовыми бурями, но они обычно проносились мимо, не причиняя ему вреда. — Положите письмо на стол в библиотеке, Энни. Я потом прочту. Она полагала, что это какое-нибудь светское приглашение. Через несколько минут Лилиан неторопливо — она не умела торопиться — поставила лейку и направилась в библиотеку. Письмо лежало на зеленом кожаном бюваре, составлявшем одно из украшений огромного стола. Она взяла в руки конверт, не без любопытства посмотрела на него — бумага была дешевенькая — и распечатала. Прочитав письмо, она слегка побледнела, и рука у нее задрожала, но лишь чуть-чуть. Не умея страстно любить, она, следовательно, не умела и сильно страдать. Она была оскорблена, возмущена, в первую минуту даже взбешена, а главное — испугана, но не потеряла присутствия духа. Тринадцать лет жизни с Каупервудом многому научили ее. Она знала, что он эгоистичен, занят только собой и далеко не так увлечен ею, как раньше. Ее былые опасения насчет разницы в их возрасте постепенно оправдались. С некоторых пор Фрэнк уже не так любил ее, и она это чувствовала. Что тому причиной? — спрашивала она себя, и этот вопрос порой подразумевал: кто тому причиной? Может быть, дела так поглощали ее мужа и он целиком ушел в свои финансы? А теперь означает ли это письмо, что наступил конец ее владычеству? Может ли быть, что Фрэнк собирается ее бросить? Куда же она денется? Что будет делать? Беспомощной она, конечно, не была, так как у ней имелся свой капитал, который она доверила Фрэнку. Но кто эта другая женщина? Молода ли она, хороша ли собой, каково ее положение в обществе? Неужели это… У миссис Каупервуд перехватило дыхание: неужели… она невольно раскрыла рот… это Эйлин Батлер? Лилиан стояла неподвижно, уставившись на письмо, отгоняя от себя эту мысль. Несмотря на всю осторожность Эйлин и Каупервуда, она не раз замечала, что их тянет друг к другу. Каупервуд был расположен к Эйлин и вечно за нее заступался. Лилиан и сама не раз Думала, что у них удивительно схожие характеры. Фрэнк любил молодежь. Но ведь Эйлин стоит несравненно ниже его на общественной лестнице, вдобавок он женат и у него двое детей… Его положение в обществе и в финансовом мире прочно и солидно, а этим не шутят. Тем не менее миссис Каупервуд задумалась: сорок лет, двое детей, морщинки под глазами и сознание, что ты уже не так любима, как некогда, способны заставить задуматься любую женщину, даже богатую и независимую. Она может уйти от него, но куда? Что скажут люди? Как быть с детьми? Удастся ли ей изобличить его в незаконной связи? Захватить с поличным? Да и хочет ли она этого? Сейчас она поняла, что никогда не любила Фрэнка так, как некоторые жены любят своих мужей. Ее чувство не было обожанием. Все эти годы она считала его неотъемлемой принадлежностью своей жизни и надеялась, что он, в свою очередь, достаточно привязан к ней, чтобы сохранять верность, или по крайней мере настолько увлечен своими делами, что никакая пошлая связь вроде той, о которой говорилось в этом письме, не выведет его из душевного равновесия, не станет помехой в его блестящей карьере. Очевидно, она ошиблась. Что же ей теперь делать? Что говорить? Как действовать? Ее отнюдь не блестящий ум отказывался помочь ей в эту критическую минуту. Она не умела ни думать о будущем, ни бороться. Заурядный ум в лучшем случае напоминает собой простейший механизм. Его функции подобны органическим функциям устрицы, вернее, даже моллюска. Через свой сифонный мыслительный аппаратик он соприкасается с могучим океаном фактов и обстоятельств. Но этот аппаратик поглощает так мало воды, так слабо гонит ее, что его работа не отражается на беспредельном водном пространстве, каким является жизнь. Противоречивости бытия такой ум не замечает. Ни малейший отзвук житейских бурь и бедствий не доходит до него, разве только случайно. Когда грубый и наводящий на размышление факт — каким в данном случае оказалось письмо — вдруг заявляет о себе среди мерного хода событий, в таком уме происходит мучительное смятение, вся, так сказать, нормальная работа его расстраивается. Сифонный аппарат перестает действовать надлежащим образом. Он всасывает страх и страдание. Плохо прилаженные части скрипят, как засоренная машина, и жизнь либо угасает, либо едва теплится. Миссис Каупервуд обладала заурядным умом. В сущности, она совсем не знала жизни, и жизнь ничему не могла научить ее. Ее мозг почти не воспринимал то, что происходит вокруг. Она была начисто лишена живости, которой отличалась Эйлин Батлер, хотя и воображала себя очень живой. Увы, это было заблуждение! Лилиан была прелестна в глазах тех, кто ценит безмятежность. Для людей иного склада она была лишена всякой прелести. В ней не было ни обаяния, ни блеска, ни силы. Фрэнк Каупервуд недаром почти с первых дней спрашивал себя, зачем он, собственно, женился на ней. Теперь он уже не задавался такими вопросами, ибо считал неразумным копаться в ошибках и неудачах прошлого. Сожалеть о чем-то, по его мнению, было нелепостью. Он смотрел только вперед и думал только о будущем. И все же по-своему миссис Каупервуд была глубоко потрясена; она бесцельно бродила по дому во власти своих горьких дум. В письме ей советовали собственными глазами убедиться в измене Каупервуда, но она решила повременить с этим. Надо еще придумать, как установить слежку за домом 931, если уж решаться на такое дело. Фрэнк ни о чем не должен догадываться. Если окажется, что это Эйлин Батлер, хотя скорей всего это не она, надо будет известить ее родителей. Но, с другой стороны, это значило бы выставить себя на посмешище. Лилиан решила по мере сил не обнаруживать своих чувств за обедом, но Каупервуд к обеду не пришел. Он был так занят, столько времени проводил в частных беседах с разными лицами, в совещаниях с отцом и другими дельцами, что Лилиан почти не видела его ни в этот понедельник, ни в последующие дни. Во вторник в половине третьего Каупервуд созвал своих кредиторов, а в половине шестого уже было решено, что он сдает дела под опеку. Но даже в эти часы, лицом к лицу с главными кредиторами — их было человек тридцать, — ему не казалось, что произошла катастрофа. Все это только временные затруднения. Конечно, сейчас картина складывалась мрачная. История с его долгом городскому казначейству наделает много шума. Не меньший шум поднимется из-за заложенных им облигаций городского займа, если Стинер не предпочтет смолчать об этом. Но как бы там ни было, а Каупервуд не считал себя обреченным человеком. — Джентльмены, — сказал он, заканчивая свою речь, не менее четкую, самоуверенную, независимую и убедительную, чем всегда, — вы видите теперь, как обстоит дело. Эти бумаги стоят сейчас не меньше, чем когда-либо, так как с материальными ценностями, которые они олицетворяют, ровно ничего не случилось. Если вы предоставите мне отсрочку на пятнадцать или, скажем, на двадцать дней, я, несомненно, приведу свои дела в полный порядок. И я, пожалуй, единственный, кто в состоянии это сделать, ибо мне досконально известно положение на бирже. Биржа скоро придет в нормальное состояние. Более того, в делах наступит небывалый подъем. Мне нужно только время. При данной конъюнктуре время — это все. Я прошу вас сказать, могу ли я рассчитывать на пятнадцать или двадцать дней отсрочки, или, если вы сочтете это возможным, на месяц. Вот все, что мне требуется. Он вышел из приемной, где предусмотрительно были опущены все шторы, и заперся в своем кабинете, чтобы предоставить кредиторам возможность свободно обмениваться мнениями. Среди них были и друзья, стоявшие за него. Он ждал час, другой, третий, а они все совещались. Наконец к нему вошли Уолтер Ли, судья Китчен, Эвери Стоун — представитель «Джей Кук и К°» — и еще несколько человек. Это был комитет, выбранный для подробного выяснения того, как обстоят его дела. — Сегодня уже ничего сделать не удастся, Фрэнк, — спокойным тоном сообщил Уолтер Ли. — Большинство настаивает на ревизии отчетности. В этих запутанных сделках с городским казначеем, о которых вы говорили, кое-что остается неясным. По всей видимости, вам так или иначе следует временно объявить себя неплатежеспособным; не исключено, что впоследствии вам будет дана возможность возобновить свое дело. — Очень жаль, джентльмены, — сдержанно отвечал Каупервуд. — Будь моя воля, я предпочел бы что угодно, только не прекращать платежей даже на час, ибо мне известно, что это значит. Если вы будете рассматривать принадлежащие мне ценные бумаги с учетом их настоящей рыночной стоимости, то убедитесь, что мой актив значительно превосходит пассив, но какой от этого прок? Если двери моей конторы будут закрыты, мне перестанут доверять. Мне следовало бы продолжать дело. — Мне крайне неприятно, Фрэнк, дружище, — сказал Ли, сердечно пожимая ему руку, — я лично предоставил бы вам любую отсрочку. Но эти старые дураки не желают прислушаться к голосу благоразумия. Они до смерти напуганы паникой. Видимо, им самим приходится туго, так что их особенно и винить нельзя. Я не сомневаюсь, что вы снова встанете на ноги, хотя, конечно, лучше было бы не закрывать лавочку. Но с этими господами ничего не поделаешь. Черт возьми, о банкротстве тут не может быть и речи. Дней через десять ваши бумаги снова поднимутся до полной стоимости. Судья Китчен тоже выразил Каупервуду сочувствие. Но от этого было не легче. Его принуждали закрыть дело. Решено было пригласить эксперта-бухгалтера для проверки конторских книг. Но ведь Батлер тем временем может предать огласке историю с городским казначейством, а Стинер заявить в суд о его последней операции с покупкой облигаций городского займа. Человек шесть друзей, желавших быть ему полезными, оставались с ним до четырех часов утра, но ему все-таки пришлось закрыть контору. Сделав это, Каупервуд понял, что его мечтаниям о богатстве и славе нанесен сокрушительный удар, а может быть, и окончательное поражение. Оставшись, наконец, совсем один в своей спальне, он поглядел на себя в зеркало. Лицо у него было бледное и усталое, но по-прежнему мужественное и энергичное. «К черту! — мысленно произнес он. — Им меня не осилить! Я еще молод! И я выкручусь из этой передряги. Непременно выкручусь. Я найду выход!» Погруженный в тяжелое раздумье, он начал медленно, словно бы нехотя, раздеваться. Потом вытянулся на кровати и несколько мгновений спустя — как это ни странно при обстоятельствах столь сложных и запутанных — уже спал. Такова была его натура — он мог спать, безмятежно посапывая, тогда как его отец бродил взад и вперед по комнате, не находя себе покоя. Старому джентльмену все рисовалось в самых мрачных красках, будущее было исполнено безнадежности. А перед его сыном все-таки брезжила надежда. В это же время Лилиан Каупервуд у себя в спальне ворочалась и металась на постели, потрясенная свалившимся на нее новым бедствием. Из отрывочных разговоров с отцом, мужем, Анной и свекровью она поняла, что Фрэнк накануне банкротства или уже обанкротился — точно еще никто ничего не знал. Фрэнк был слишком занят, чтобы вдаваться в объяснения. Всему виною был пожар в Чикаго. Об истории с городским казначейством пока еще не упоминалось. Фрэнк попал в западню и теперь отчаянно боролся за свое спасение. В эти тяжкие минуты миссис Каупервуд на время забыла о письме, в котором говорилось об измене мужа, вернее, не думала о нем. Она была поражена, испугана, ошеломлена. Ее маленький прелестный мирок вдруг бешено завертелся перед глазами. Нарядный корабль их благосостояния стало немилосердно кидать из стороны в сторону. Ей казалось, что она обязана лежать в постели и стараться уснуть, но глаза ее были широко раскрыты и голова болела от дум. Несколько часов назад Фрэнк настойчиво убеждал ее не беспокоиться за него, говоря, что она все равно ничем ему помочь не может; и Лилиан ушла от него в мучительном недоумении: в чем же заключается ее долг, какую линию поведения ей избрать? Кодекс условных приличий повелевал ей оставаться при муже. Так она и решила сделать. То же самое подсказывала ей религия, а также привычка. Надо подумать о детях. Они ни в чем не виноваты. Надо отвоевать Фрэнка, если еще возможно. Это пройдет. Но все же какой тяжелый удар!Глава 31
Весть о неплатежеспособности банкирской конторы «Фрэнк Каупервуд и К°» вызвала сильное возбуждение на фондовой бирже и вообще в Филадельфии. Очень уж это было неожиданно, и очень уж о большой сумме шла речь. Фактически Каупервуд обанкротился на миллион двести пятьдесят тысяч долларов, а его актив при сильно снизившемся курсе ценных бумаг едва достигал семисот пятидесяти тысяч. Немало труда было потрачено на составление баланса Каупервуда; когда же этот баланс был официально опубликован, курс акций упал еще на три пункта, и на другой день газеты посвятили этому событию множество статей под жирными заголовками. Каупервуд не намеревался объявлять себя полным банкротом. Он думал лишь временно приостановить платежи, с тем чтобы спустя некоторое время договориться с кредиторами и вновь открыть дело. Только два препятствия стояли на пути к этому; во-первых, история с пятьюстами тысячами долларов, взятыми из городских средств под смехотворно низкие проценты, что ясно показывало, как велись дела в казначействе; во-вторых, чек на шестьдесят тысяч долларов. Финансовая сметка Каупервуда натолкнула его на мысль расписать имевшиеся у него акции на имя наиболее крупных кредиторов, что впоследствии должно было помочь ему возобновить дело. Все тот же Харпер Стеджер заготовил документы, по которым «Джей Кук и К°», «Эдвард Кларк и К°», «Дрексель и К°» и некоторые другие банкирские дома получили преимущественные права. Каупервуд прекрасно понимал, что если даже мелкие кредиторы возмутятся и подадут на него в суд, добиваясь пересмотра этого решения или даже объявления его банкротом, то это большой роли не сыграет, — гораздо важнее, что он проявил намерение в первую очередь удовлетворить претензии наиболее влиятельных кредиторов. Это придется им по душе, и впоследствии, когда все уляжется, не исключено, что они пожелают помочь ему. Кроме того, множество исков в такую критическую минуту — прекраснейшее средство для оттяжки времени, покуда биржа и настроение умов не придут в норму, и Каупервуд даже хотел, чтобы исков было побольше. Харпер Стеджер хмуро улыбнулся — хотя в разгар этого финансового урагана улыбки были редкостью, — когда они вдвоем подсчитали количество исков. — Право же, вы молодец, Фрэнк! — воскликнул он. — Вы скоро будете окружены такой сетью исков, что никто через нее не пробьется. Все ваши кредиторы будут вести непрерывные тяжбы друг с другом. Каупервуд усмехнулся. — Я хочу только выиграть время, ничего больше, — отозвался он. И все же впервые в жизни он чувствовал себя несколько подавленным, ибо дела, в течение стольких лет поглощавшего всю его энергию и умственные силы, более не существовало. Главной причиной его беспокойства были не пятьсот тысяч долларов, которые он взял из городского казначейства, хотя он знал, что весть об этом займе до крайности взбудоражит общественное мнение и финансовый мир, — но в конце концов это была законная или по крайней мере полузаконная операция, — а шестьдесят тысяч долларов в сертификатах городского займа, которые он своевременно не сдал в амортизационный фонд и теперь не мог бы сдать, даже если бы нужная для их выкупа сумма свалилась на него с неба. Сертификаты от него ускользнули, и это было неоспоримым фактом. Каупервуд день и ночь думал, как выйти из положения. Единственное, что можно теперь сделать, решил он наконец, это пойти к Молленхауэру или Симпсону — он лично не знал ни того, ни другого, но после разрыва с Батлером ему больше не к кому было обратиться — и сказать им: правда, в настоящее время я не в состоянии вернуть пятьсот тысяч долларов, но если против меня не возбудят преследования, которое лишит меня возможности позднее возобновить свое дело, то я даю слово вернуть все эти деньги до последнего цента. Если они на это не пойдут и его делу будет нанесен непоправимый ущерб, тогда пусть дожидаются, пока он соблаговолит возместить эти деньги, чего, по всей вероятности, никогда не будет! Но, по совести говоря, он и сам толком не знал, как даже они, при всем их могуществе, могли бы приостановить судебное преследование. В его бухгалтерских книгах значилось, что он должен эту сумму городскому казначейству, а в книгах городского казначейства значилось, что пятьсот тысяч долларов числятся за ним. Кроме того, существовала местная организация, именовавшая себя «Гражданской ассоциацией помощи городскому самоуправлению», которая время от времени ревизовала общественные фонды. Присвоение Каупервудом городских средств не укроется от нее, и тогда может быть назначено общественное расследование. Об этом деле уже знали многие частные лица, к примеру, кредиторы, проверявшие сейчас его отчетность. Так или иначе, но Каупервуд считал необходимым встретиться с Молленхауэром или Симпсоном. Предварительно он решил переговорить с Харпером Стеджером. Итак, спустя несколько дней после закрытия конторы он вызвал его и рассказал ему об этой операции, умолчав, впрочем, о том, что он вовсе не собирается сдавать облигации в амортизационный фонд, прежде чем его дела не придут в порядок. Харпер Стеджер, высокий, худощавый, элегантный, обладал приятным голосом и прекрасными манерами, хотя поступь его странным образом напоминала поступь кота, почуявшего близость собаки. Его удлиненное, тонкое лицо принадлежало к тому типу, который очень нравится женщинам; глаза у него были голубые, а волосы каштановые, с рыжеватым отливом. Его пристальный, загадочный взгляд, устремленный поверх тонкой руки, — он имел обыкновение в задумчивости прикрывать ею рот и подбородок, — производил сильное впечатление на собеседника. Это был в полном смысле слова жестокий человек, но жестокость его сказывалась не в действиях, а в полном равнодушии ко всему на свете; ничего святого для него не существовало. Он не был беден, не был и рожден в бедности. Природа наделила его острым умом, направленным главным образом на то, что было движущим стимулом в его работе, — на достижение еще большего богатства и известности. Сотрудничество с Каупервудом открывало широкий путь к обогащению. Кроме того, Каупервуд очень интересовал его. Никем другим из своей клиентуры Стеджер так не восхищался. — Пусть возбуждают судебное преследование, — сказал он, мгновенно вникнув, как опытный юрист, во все детали положения. — Обвинение будет чисто формальным. Если даже дело дойдет до суда, что я считаю маловероятным, то обвинение сведется к растрате или присвоению сумм доверенным лицом. В данном случае доверенным лицом были вы. И единственный выход из положения для вас — показать под присягой, что вы получили чек с ведома и согласия Стинера. Тогда, думается мне, вам будет предъявлено чисто формальное обвинение в превышении прав, и вряд ли найдется состав присяжных, который решится вынести обвинительный приговор только на том основании, что между вами и городским казначеем существовал не вполне официальный сговор. И все-таки я ни за что не ручаюсь, — никогда не знаешь заранее, что скажут присяжные. Это выяснится лишь в процессе разбирательства. Все будет зависеть от того, к кому суд отнесется с большим доверием — к вам или к Стинеру, и еще от того, насколько желательно будет заправилам города найти козла отпущения и выгородить Стинера. Тут все дело в предстоящих выборах. Если бы эта паника приключилась в другое время… Каупервуд движением руки остановил Стеджера. Это он знал и сам. — Все зависит от того, как сочтут нужным действовать наши политики. А в них я не слишком уверен. Очень сложное создалось положение. Сейчас это дело уже не замолчишь. — Разговор происходил в доме Каупервуда, в его рабочем кабинете. — Будь что будет, — добавил он. — А скажите, Харпер, что мне грозит, если меня обвинят в присвоении собственности доверителя и суд признает меня виновным? Сколько лет тюремного заключения это сулит в худшем случае? Стеджер в задумчивости потер подбородок. — Как вам сказать, — произнес он наконец, — вопрос вы мне задали серьезный. Закон гласит: от одного до пяти лет. Но обычно по таким делам приговор не превышает трех лет. Конечно, в вашем случае… — Ах, оставьте, — не без досады прервал его Каупервуд. — Мое дело нисколько не отличается от других таких же, и вы прекрасно это знаете. Если господа политики пожелают назвать это растратой, так это и будет называться. Он задумался, а Стеджер встал и неторопливо прошелся по комнате. Он тоже думал. — А скажите, посадят меня в тюрьму до полного окончания дела, то есть пока оно не пройдет все инстанции, или нет? — с суровой прямотой спросил Каупервуд. — Видите ли, во всех судебных процессах такого рода, — теребя себя за ухо и стараясь выражаться как можно мягче, отвечал Стеджер, — на первых стадиях разбирательства еще можно избежать заключения, но после того, как суд вынесет обвинительный приговор, это уже трудно, даже невозможно. По закону только в тюрьме можно дожидаться разрешения на пересмотр дела и подтверждения обоснованности кассационной жалобы, а на это требуется обычно дней пять. Молодой делец пристально смотрел в окно, и Стеджер добавил: — Сложная получается история. — Еще бы не сложная! — отозвался Каупервуд и про себя добавил: «Тюрьма! Пять дней в тюрьме!..» Принимая во внимание все прочие обстоятельства, это было для него страшным ударом. Пять дней в тюрьме, пока не будет подтверждена обоснованность кассационной жалобы, — если такое подтверждение вообще последует. Нет, этого надо избежать во что бы то ни стало. Тюрьма! Исправительная тюрьма! Его репутации финансиста будет нанесен сокрушительный Удар.Глава 32
Необходимость собраться вместе и окончательно разрешить наболевший вопрос стала ясна всем трем финансистам — Батлеру, Молленхауэру и Симпсону, ибо положение час от часу становилось все более угрожающим. На Третьей улице носились слухи, что, помимо крупного банкротства, самым неблагоприятным образом отозвавшегося на финансовой конъюнктуре, и без того катастрофической после чикагского пожара, Каупервуд с помощью Стинера — или Стинер с помощью Каупервуда — ограбили городское казначейство на пятьсот тысяч долларов. Теперь вставал вопрос, как замолчать это дело до окончания выборов, которые должны были состояться только через три недели. Банкиры и маклеры перешептывались о том, что Каупервуд, уже зная о предстоящем ему банкротстве, взял из городского казначейства какой-то чек, да еще без ведома Стинера. Кроме того, возникла опасность, что дело дойдет до сведения некоей достаточно беспокойной организации, известной под названием «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению», председателем которой был весьма популярный в Филадельфии владелец железоделательного завода Скелтон Уит, человек исключительной честности и высокой нравственности. Уит уже много лет вел наблюдение за ставленниками находившейся у власти республиканской партии в тщетной надежде пробудить в них политическую совесть. Это был человек серьезный и суровый, одна из тех непреклонных и справедливых натур, которые смотрят на жизнь сквозь призму долга и, не смущаемые никакими низменными страстями, идут своим путем, стремясь доказать, что десять заповедей стоят превыше порядков, заведенных людьми. Первоначально эта ассоциация была создана с целью искоренить злоупотребления в налоговом аппарате. Но затем в промежутках между выборами она начала неустанно расширять круг своей деятельности: полезность ее временами подтверждалась то случайной газетной заметкой, то спешным покаянием какого-нибудь второстепенного городского деятеля, который после этого обычно прятался за спину могущественных политических заправил, вроде Батлера, Молленхауэра и Симпсона, и тогда уже чувствовал себя в полной безопасности. В данный момент ассоциации нечего было делать, и прекращение платежей конторой Каупервуда, замешанной в злоупотреблении средствами городского казначейства, по мнению многих политиков и банкиров, как раз и являлось тем полем деятельности, которого она давно искала. Совещание, решавшее судьбу Каупервуда, состоялось дней через пять после его банкротства, в доме сенатора Симпсона на Риттенхауз-сквер, в центре района, населенного потомственной финансовой знатью Филадельфии. Симпсон, родом из квакерской семьи, обладал недюжинным художественным вкусом и врожденным чутьем финансиста, которым он широко пользовался для того, чтобы добиться политического влияния. Он проявлял исключительную щедрость в тех случаях, когда деньгами можно было завербовать могущественного или хотя бы полезного политического приверженца, и широко раздавал назначения на посты ревизоров, попечителей, судей, уполномоченных республиканской партии и прочие административные должности тем, кто преданно и беспрекословно творил его волю. Могуществом своим он намного превосходил и Молленхауэра и Батлера, так как олицетворял собой власть штата и всего государства. Когда главари республиканской партии готовились развернуть предвыборную кампанию по всей стране и жаждали узнать, какую позицию в отношении этой партии займет штат Пенсильвания, они обращались именно к сенатору Симпсону. И Симпсон давал им исчерпывающие ответы. Давно перешагнув с политической арены штата на общегосударственную политическую арену, он был заметной фигурой в сенате Соединенных Штатов в Вашингтоне, и его голос имел большой вес на всех совещаниях по финансовым вопросам. Четырехэтажный дом в венецианском стиле, который он занимал, выделялся множеством необычных архитектурных деталей: оконным витражом, дверью со стрельчатой аркой, медальонами цветного мрамора, вделанными в стены. Сенатор был пламенным поклонником Венеции. Он часто посещал ее, так же как Афины и Рим, и вывез оттуда много прекрасных образцов искусства минувших времен. Он очень любил строгие бюсты римских императоров, а также уцелевшие фрагменты статуй мифических богов и богинь, красноречиво свидетельствующие о художественных замыслах эллинов. На антресолях причудливого дома хранилось одно из ценнейших сокровищ его коллекции: резной мраморный цоколь с установленным на нем конической формы монолитом, фута в четыре вышиной, который венчала на редкость похотливая голова Пана; рядом с монолитом виднелись маленькие ножки, отломанные до колен и, по всей вероятности, некогда принадлежавшие прелестной нагой нимфе. Цоколь, поддерживавший монолит и ножки нимфы, был украшен бычьими черепами, высеченными из того же куска мрамора и увитыми розами. Приемная Симпсона была уставлена бюстами Калигулы, Нерона и других римских императоров, а вдоль лестницы шли барельефы, изображавшие шествие нимф и жрецов, влекущих к алтарям жертвенных животных. В одном из отдаленных уголков дома висели часы с музыкальным боем — каждые четверть часа они издавали странные, мелодичные и жалобные звуки. Стены комнат были увешаны фламандскими гобеленами, в бальном зале, в библиотеке, в большой и малой гостиных стояла резная мебель времен итальянского Возрождения. В живописи сенатор себя знатоком не считал и потому не полагался на свой вкус, но все картины, имевшиеся у него, принадлежали кисти выдающихся мастеров. Больше, чем картины, его занимали горки с экзотическими бронзовыми статуэтками, венецианским стеклом и китайским нефритом. Симпсон не был рьяным коллекционером, но отдельные редкостные экземпляры доставляли ему огромное удовольствие. Разбросанные там и сям тигровые и леопардовые шкуры, диван, покрытый шкурой мускусного быка, и столы, на которых тисненая кожа и сафьян заменяли обычное сукно, — все это делало его жилище элегантным и изысканно роскошным. Изящнейшая столовая Симпсона была выдержана встиле жакоб, а за пополнением его винного погреба заботливо следил лучший филадельфийский специалист. Сенатор Симпсон любил устраивать большие приемы, и, когда двери его дома распахивались для званого обеда, банкета или бала, можно было с уверенностью сказать, что у него соберутся сливки местного общества. Совещание происходило в библиотеке сенатора, встретившего своих коллег со щедрым радушием человека, знающего, что предстоящая беседа сулит ему только приятное. На столе были приготовлены сигары, вина, разные сорта виски. Обмениваясь в ожидании Батлера общими замечаниями на темы дня, Молленхауэр и Симпсон покуривали сигары, и каждый таил про себя свои сокровенные мысли. Случилось так, что накануне Батлер узнал от окружного прокурора мистера Дэвида Петти об операции с чеком на шестьдесят тысяч долларов. В то же самое время Стинер сообщил об этом Молленхауэру. И Молленхауэр (а не Батлер) тотчас же сообразил, что, воспользовавшись положением Каупервуда, можно, пожалуй, отвести обвинение от партии, а заодно еще и выманить у него принадлежащие ему акции конных железных дорог, разумеется, тайком и от Батлера и от Симпсона. Для этого следовало только припугнуть Каупервуда судебным преследованием. Вскоре вошел и Батлер, прося извинить его за опоздание. Пытаясь скрыть свое семейное горе за личиной благодушия, он сказал: — Ну, доложу вам, и жизнь! Все банки, вынь да положь, требуют обеспечения своих ссуд! Он взял сигару и закурил. — Положение действительно не слишком обнадеживающее, — с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. — Прошу вас, господа, садитесь. Я несколько часов назад имел разговор с Эвери Стоуном из банкирской конторы «Джей Кук и К°». По его словам, на Третьей улице уже поговаривают о причастности Стинера к банкротству этого Каупервуда, и газеты, конечно, не замедлят поднять отчаянный шум, если не будут приняты соответствующие меры. Я не сомневаюсь, что эта новость весьма скоро дойдет до ушей мистера Уита, главы «Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению». Нам предстоит, джентльмены, сейчас же решить, как мы будем действовать. Прежде всего, по-моему, мы должны без лишней шумихи вычеркнуть кандидатуру Стинера из наших списков. Эта история может повлечь за собой очень серьезные последствия, и нам необходимо тотчас же сделать все от нас зависящее, чтобы их предотвратить. Молленхауэр затянулся сигарой и выпустил голубовато-серое облачко дыма. Он молчал и, казалось, был погружен в созерцание гобеленов на противоположной стене. — Совершенно ясно, — продолжал сенатор Симпсон, видя, что его коллеги отмалчиваются, — если мы в кратчайший срок не возбудим судебного преследования по своей инициативе, это сделает кто-нибудь другой, и вся история предстанет в весьма невыгодном свете. Мое мнение таково: выждать, пока не обнаружится, что кто-то уже готов действовать, пусть та же пресловутая ассоциация, и тогда самим обратиться в суд, сделав вид, будто это наше давнишнее намерение. Самое важное — выгадать время: поэтому я предлагаю всеми возможными способами затруднить доступ к книгам городского казначейства. Если же ревизия все-таки начнется — а я вполне допускаю эту возможность, — надо постараться, чтобы она устанавливала факты как можно медленнее. Сенатор не считал нужным говорить обиняками со своими влиятельными собратьями, когда дело касалось важных вопросов, и предпочитал в таких случаях вопреки обычной для него напыщенности речи называть вещи своими именами. — Что ж, по-моему, предложение весьма благоразумное, — сказал Батлер, поглубже усаживаясь в кресле и всячески стараясь скрыть свое подлинное настроение. — Не сомневаюсь, что наши люди сумеют затянуть ревизию недельки на три. Они, насколько мне известно, спешить не любят. Произнося это, он только думал, как бы ему перевести разговор на самого Каупервуда и посоветовать возможно скорее возбудить против него судебное преследование, но так, чтобы никто не мог упрекнуть его, Батлера, в том, что он пренебрегает интересами партии. — Да, мысль неплохая, — спокойно подтвердил Молленхауэр, выпуская кольцо дыма и думая о том, как бы вообще избежать разговора о Каупервуде и его преступлении до того, как он, Молленхауэр, с ним повидается. — Нам нужно тщательно разработать план действий, — снова заговорил сенатор Симпсон, — чтобы в случае необходимости немедленно приступить к его выполнению. Я считаю, что это дело всплывет не позже чем через неделю, а то и раньше, так что времени терять нельзя. Мой совет: пусть мэр города напишет городскому казначею и запросит у него объяснения по этому делу, а казначей ответит на это письмо; далее, пусть мэр с согласия членов муниципалитета временно отрешит казначея от должности — по-моему, закон дает ему такое право — или по меньшей мере лишит его основных полномочий. Разумеется, мы не станем предавать эти мероприятия огласке, пока не окажемся к тому вынужденными. Но письма будут у нас наготове, и мы немедленно опубликуем их в случае, если нас заставят действовать. — Если джентльмены не возражают, я позабочусь о том, чтобы письма были заготовлены, — спокойно, но не без поспешности вставил Молленхауэр. — Да, это разумная предосторожность, — непринужденно заметил Батлер. — При сложившейся обстановке мы, пожалуй, ничего другого и не можем сделать, разве только переложить ответственность на кого-нибудь еще, в этом смысле я и хотел бы высказаться. Может статься, что мы совсем не так уж беспомощны, если учесть все обстоятельства. В его глазах блеснул торжествующий огонек, а по лицу Молленхауэра пробежала легкая тень досады. Итак, Батлер знает, а может быть, и Симпсон тоже! — Что вы хотите этим сказать? — спросил сенатор и с любопытством взглянул на Батлера. Он ничего не знал об истории с чеком, так как вообще не очень внимательно следил за деятельностью городского казначейства и со времени предыдущего совещания не виделся ни с кем из своих коллег. — Неужели кто-нибудь посторонний причастен к этому делу? Его острый ум политика усиленно заработал. — Гм!.. Посторонним я бы его не назвал, — учтиво продолжал Батлер. — Я имею в виду самого Каупервуда. С тех пор как мы виделись в последний раз, джентльмены, выяснились кое-какие подробности, из которых я заключаю, что этот молодой человек далеко не так чист, как мы полагали. Похоже на то, что он был зачинщиком всей авантюры и втянул в нее Стинера вопреки его желанию. Я по своему почину занялся этим делом, и, думается мне, Стинер здесь не так уж виноват. По некоторым данным выяснилось, что Каупервуд многократно грозил Стинеру всевозможными неприятностями, если тот не даст ему еще денег, и только на днях обманом выманил у него крупную сумму, из чего следует, что он виновен не менее, чем Стинер. Город заплатил ему шестьдесят тысяч долларов за облигации городского займа, а они почему-то не значатся в амортизационном фонде. И если теперь под угрозой оказалась репутация партии, то я не вижу, почему мы должны церемониться с Каупервудом. Батлер замолчал, убежденный, что нанес Каупервуду серьезный удар, и он не ошибался. Сенатор и Молленхауэр оба были крайне удивлены, так как на первом совещании Батлер, казалось, был весьма расположен к молодому банкиру, а то, что он сейчас им сообщил, едва ли могло служить достаточным основанием для столь враждебного выступления. Особенно удивлен был Молленхауэр, ибо в симпатии Батлера к Каупервуду он в свое время усматривал возможный камень преткновения для своих планов. — Скажите на милость! — задумчиво произнес сенатор Симпсон, проводя по губам своей холеной белой рукой. — Да, я могу это подтвердить, — спокойно сказал Молленхауэр, видя, что его собственный, так хорошо продуманный план застращать Каупервуда и отнять у него акции конных железных дорог рассыпается прахом. — У меня на днях был разговор со Стинером обо всем этом деле: он уверяет, что Каупервуд пытался выманить у него еще триста тысяч долларов, но, убедившись, что ничего не выйдет, умудрился без его ведома и согласия получить шестьдесят тысяч. — Но каким же образом? — недоверчиво спросил сенатор Симпсон. Молленхауэр рассказал о проделке Каупервуда. — Вот оно что! — заметил сенатор, когда Молленхауэр кончил. — Ну и ловкач! И вы говорите, что облигации не сданы в амортизационный фонд? — Нет, не сданы, — с готовностью подтвердил Батлер. — Что ж, нам это только на руку. — Симпсон облегченно вздохнул. — Козел отпущения, пожалуй, найден. Это-то нам и нужно. При подобных обстоятельствах я не вижу смысла выгораживать Каупервуда. Напротив, если понадобится, мы можем даже сделать его центром внимания. И тогда пусть себе газеты болтают на здоровье. В конце концов они для того и существуют. Мы же постараемся должным образом осветить дело, и тогда выборы успеют пройти, прежде чем выяснятся все подробности, даже если вмешается мистер Уит. Я охотно возьму на себя заботу о прессе. — Ну, если так, — сказал Батлер, — то этим наши хлопоты сейчас, пожалуй, исчерпываются; однако я считаю, что Каупервуд должен понести наказание наравне со Стинером. Он виновен не меньше, а может быть, и больше, и я лично хочу, чтобы он получил по заслугам. Ему место в тюрьме, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы его туда отправить. Молленхауэр и Симпсон с удивлением посмотрели на своего обычно столь благодушного коллегу; что значило это внезапное стремление покарать Каупервуда? По мнению Молленхауэра и Симпсона, — в другое время к этому так же отнесся бы и Батлер, — Каупервуд, преступив юридические права, не преступил своих человеческих прав. Они значительно меньше винили его за то, что он сделал, чем Стинера за то, что тот позволил ему это сделать. Но раз Батлер избрал такую точку зрения и формально преступление было налицо, то они, естественно, желали обернуть все это на благо республиканской партии, даже если Каупервуду и придется сесть в тюрьму. — Возможно, что вы правы, — осторожно заметил сенатор Симпсон. — Итак, заготовьте письма. Генри, и если уж нам придется до выборов возбуждать против кого-нибудь преследование, то, пожалуй, целесообразнее всего будет возбудить его против Каупервуда. О Стинере мы упомянем только в случае крайней необходимости. Я оставляю это дело на ваше попечение, так как в пятницу мне необходимо уехать в Питтсбург; не сомневаюсь, что вы ничего не упустите из виду. Сенатор встал. Он всегда дорого ценил свое время. Батлер был очень доволен исходом совещания. Теперь, в случае протеста общественности или каких-либо выпадов против республиканской партии, триумвират уж не пощадит Каупервуда. Важно только, чтобы поскорее раздались протестующие голоса, но, судя по всему, ждать этого остается недолго. Надо еще хорошенько вникнуть в дела и без того раздраженных кредиторов Каупервуда: если удастся скупить у них векселя и тем самым помешать Каупервуду возобновить свое дело, то песенка его спета. Да, добром ему уж не придется помянуть тот день, когда он совратил Эйлин с пути истинного, подумал Батлер. Расплата приближается.Глава 33
Все виденное и слышанное только укрепляло Каупервуда в мысли, что городские политиканы намереваются сделать из него козла отпущения, и притом в ближайшем будущем. Через несколько дней после того, как Каупервуд закрыл свою контору, к нему зашел Альберт Стайерс и сообщил немаловажные новости. Стайерс все еще состоял на службе в городском казначействе, — как, впрочем, и Стинер, — и давал требуемые объяснения Сэнгстеку и еще одному уполномоченному Молленхауэра, которые занимались ревизией книг казначейства. Стайерс пришел к Каупервуду, чтобы получить от него дополнительные сведения относительно чека в шестьдесят тысяч долларов, а кстати поговорить и о своей собственной причастности к этому делу. Стинер, как выяснилось, пугал своего управляющего судом, утверждая, что он виноват в недостаче этой суммы и что поручителям придется отвечать за него. Каупервуд, услышав его слова, только рассмеялся и уверил Стайерса, что все это сплошной вздор. — Альберт, — улыбаясь, сказал он, — уверяю вас, вся эта история выеденного яйца не стоит. Вы не несете никакой ответственности за то, что выдали мне чек. Вот что я вам предложу: посоветуйтесь с моим юрисконсультом Стеджером. Это вам не будет стоить ни цента, и он точно скажет, что следует предпринять. А теперь возвращайтесь к себе в казначейство и не волнуйтесь больше. Я очень сожалею, что причинил вам столько неприятностей, но все равно из ста шансов только один за то, что вы сохранили бы свое место при новом казначее. А я со временем подыщу вам подходящую должность. В это же время Каупервуда заставило серьезно задуматься письмо от Эйлин с подробным изложением разговора, происшедшего у Батлера за обеденным столом в отсутствие отца семейства. Оуэн говорил о том, что деятели республиканской партии — ее отец, Молленхауэр и Симпсон — собираются «прижать к ногтю» Фрэнка за противозаконную финансовую комбинацию, — какую именно, она толком не поняла, но, кажется, речь шла о каком-то чеке. Эйлин с ума сходила от беспокойства. Неужели они хотят засадить его в тюрьму, спрашивала она в письме. Ее возлюбленного! Ее ненаглядного Фрэнка! Неужели с ним вправду может стрястись такое несчастье? Прочитав это письмо, Каупервуд насупился и злобно стиснул зубы. Необходимо что-то предпринять, может быть, повидать Молленхауэра, или Симпсона, или того и другого и через них предложить городу какое-то компромиссное решение. В настоящее время он не мог обещать им наличных денег, только векселя, но не исключено, что это их устроит. Неужели они намерены погубить его из-за такого пустячного дела, как эта операция с чеком? Да тут и противозаконного-то ничего нет. Что же тогда сказать о пятистах тысячах, которые ему выдал Стинер, или о сомнительных операциях прежних городских казначеев! Какая подлость! Ловко задумано с точки зрения политики, но до чего же это низко и какая страшная опасность грозит ему. Симпсона, однако, не оказалось в городе, он уехал на десять дней, а Молленхауэр, памятуя высказанное Батлером предложение воспользоваться промахом Каупервуда в интересах партии, уже предпринял те шаги, о которых они договорились. Письма были составлены и только ждали отправки. Кроме того, после описанного нами совещания мелкие сошки из республиканской партии, беря пример со своих повелителей, стали на всех углах трубить об этой истории с чеком, утверждая, что ответственность за дефицит в городском казначействе в основном ложится на Каупервуда. Молленхауэр с первого же взгляда понял, с каким сильным человеком он имеет дело. Каупервуд не выказал ни малейшего страха. Как всегда спокойно и учтиво, он заявил, что имел обыкновение занимать в городском казначействе деньги под низкие проценты, что биржевая паника сильно ударила по нему и в настоящий момент у неге нет возможности вернуть долг. — До меня дошли слухи, мистер Молленхауэр, — говорил он, — что против меня, как соучастника в проступке казначея, собираются возбудить дело. Я все же надеюсь, что городские власти не прибегнут к такой мере и что вы вашим влиянием предотвратите этот шаг. Мои дела отнюдь не в плохом состоянии, и для того, чтобы окончательно привести их в порядок, мне требуется лишь некоторое время. Я предлагаю моим кредиторам пятьдесят центов за доллар наличными и векселя сроком на один, два и три года для погашения остальной задолженности. Что же касается ссуды, полученной мною из городского казначейства, то, если мы придем к какому-нибудь соглашению, я рассчитаюсь доллар за доллар и хочу просить лишь о небольшой отсрочке. Курс ценных бумаг, как вы сами понимаете, должен подняться, и, если не говорить об уже понесенных мною убытках, я опять буду на коне. Насколько мне известно, дело зашло достаточно далеко. Газеты в любой миг могут поднять шум, если им не заткнут рот те, кто ими распоряжается. — Каупервуд выразительно поглядел на Молленхауэра. — Если бы при разбирательстве этого дела мне удалось остаться более или менее в стороне, то, конечно, с незапятнанным именем я бы скорее встал на ноги. Так било бы выгоднее и для города, ибо тогда я безусловно сполна погасил бы свою задолженность. Он улыбнулся самой приятной и самой вкрадчивой улыбкой. На Молленхауэра, видевшего его в первый раз, он безусловно произвел впечатление. Тот не без любопытства поглядывал на молодого Давида из мира финансистов. Если бы существовала хоть малейшая возможность принять предложение Каупервуда, хоть слабая надежда, что деньги в самом деле будут возвращены и Каупервуд в недалеком будущем снова встанет на ноги, Молленхауэр как следует обдумал бы свой ответ. Ведь в таком случае можно было бы рассчитывать, что Каупервуд переведет на него то, что ему удастся спасти из своего состояния. Но при сложившихся обстоятельствах почти не было надежды, что он когда-нибудь оправится от удара. Молленхауэр слышал, будто «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению» зашевелилась и не то уже приступила, не то собиралась приступить к расследованию. А уж если она приложит руку к этому делу, то, без всякого сомнения, доведет его до конца. — Видите ли, мистер Каупервуд, — любезным тоном отвечал он, — вся беда в том, что дело зашло слишком далеко и фактически находится вне сферы моего влияния. Я не имею к нему почти никакого касательства. Но если я правильно понял, вас беспокоит не столько вопрос о пятистах тысячах долларов, заимствованных из казначейства, сколько этот чек на шестьдесят тысяч долларов, полученный вами только на днях. Мистер Стинер утверждает, что вы завладели чеком незаконно, и всячески поносит вас. Об этом уже узнал мэр города и другие официальные лица, и, конечно, не исключено, что они предпримут какие-нибудь действия. Я не в курсе дела. Молленхауэр говорил явно неискренне. Это было заметно по тому, как уклончиво он упомянул о мэре города, пешке в его руках. Каупервуд с первых же его слов понял это. Он почувствовал сильное негодование, но совладал с собой и сохранил учтиво-почтительный тон. — Я получил чек на шестьдесят тысяч долларов, — с напускной откровенностью отвечал он, — накануне объявления моей неплатежеспособности, это верно. Но он предназначался в уплату за сертификаты, которые я приобрел по распоряжению мистера Стинера, и деньги мне причитались на законном основании. Они были мне нужны, и я их потребовал. В чем же здесь правонарушение? — Никакого правонарушения и нет, если операция была произведена с соблюдением всех формальностей, — благодушно согласился Молленхауэр. — Но ведь, насколько я понимаю, эти сертификаты были приобретены для амортизационного фонда, а между тем они туда не поступили. Чем вы это объясняете? — Простым упущением, — самым невинным тоном и с таким же благодушием, как и Молленхауэр, отвечал Каупервуд. — Сертификаты были бы там, если бы мне не пришлось совершенно внезапно объявить себя неплатежеспособным. Я не в состоянии был самолично за всем уследить. Да у нас и порядка такого не было, чтобы немедленно передавать сертификаты в фонд. Если вы спросите мистера Стинера, он вам это подтвердит. — Вот как! — промолвил Молленхауэр. — Из разговора со Стинером у меня сложилось другое впечатление. Так или иначе, в амортизационном фонде их нет, и с точки зрения закона это составляет весьма существенную разницу. Я лично в этом деле ни с какой стороны не заинтересован — или, во всяком случае, не больше, чем всякий добрый республиканец. В сущности, я не вижу, как вам помочь. В чем, по-вашему, может выразиться мое вмешательство? — Не думаю, чтобы вы могли что-нибудь для меня сделать, мистер Молленхауэр, — довольно сухо отвечал Каупервуд, — разве только вы соизволите быть со мною совершенно откровенным. Я ведь не новичок в политических делах Филадельфии. И мне известны силы, которые движут ими. Я считал, что вы можете в корне пресечь эту затею преследовать меня судебным порядком и дать мне время снова встать на ноги. За эти шестьдесят тысяч долларов я несу не большую уголовную ответственность, чем за те пятьсот тысяч, которые раньше получил в казначействе, — пожалуй, даже меньшую. Не я посеял эту панику на бирже. Не я поджег Чикаго. Мистер Стинер и его приятели извлекли немало выгод из деловых отношений со мной. Неужели же я не имел права после всех услуг, оказанных мною городу, сделать попытку спасти себя; неужели я не мог рассчитывать на некоторую снисходительность городского управления, которому принес столько пользы! Я поддерживал паритет городского займа. Что же касается денег, которые мне давал взаймы мистер Стинер, то ему жаловаться не на что — он имел с этого дела более чем высокий процент. — Совершенно верно, — согласился Молленхауэр, глядя в упор на Каупервуда и невольно проникаясь уважением к самообладанию этого человека и к трезвости его ума. — Я прекрасно понимаю, как все это вышло, мистер Каупервуд. Мистер Стинер несомненно многим обязан вам — равно как и все городское самоуправление. Я не касаюсь того, как должен поступить муниципалитет. Я знаю только, что вы вольно или невольно попали в очень каверзную историю и что общественное мнение в некоторых кругах чрезвычайно возбуждено против вас. Я лично не становлюсь ни на ту, ни на другую сторону, и, если бы не создалась ситуация, при которой уже ничего нельзя предпринять, я не возражал бы против оказания вам посильной помощи. Но теперь что же можно сделать? Республиканская партия накануне выборов оказалась в очень тяжелом положении. И ответственность за это, хотя бы и невольная, ложится на вас, мистер Каупервуд. Мистер Батлер, по причине мне неизвестной, настроен в отношении вас крайне недоброжелательно. А мистер Батлер пользуется у нас огромным влиянием… «Возможно ли, чтобы Батлер открыл им, какая ему нанесена обида?» — подумал Каупервуд, но тут же отогнал от себя эту мысль. Такое предположение было слишком невероятно. — Я от души сочувствую вам, мистер Каупервуд, но единственное, что я могу вам посоветовать, — переговорите с мистером Батлером и мистером Симпсоном. Если они найдут какой-нибудь способ оказать вам помощь, я охотно присоединюсь к ним. Ничего другого я, право, придумать не могу. Сколько-нибудь значительного влияния на дела города я не имею. Собственно говоря, Молленхауэр ожидал, что тут-то Каупервуд и предложит ему свои ценные бумаги, но тот этого не сделал. Он лишь сказал: — Очень вам благодарен, мистер Молленхауэр, за любезный прием. Охотно верю, что вы помогли бы мне, будь у вас такая возможность. Но теперь мне придется самому вести борьбу, в меру своих сил, конечно. Разрешите откланяться. Каупервуд поднялся и вышел. Он только сейчас понял, как безнадежна была его попытка. Тем временем, заметив, что хотя слухи об этой истории в казначействе растут и ширятся, но никто, по-видимому, не собирается предпринимать каких-либо шагов для ее выяснения, мистер Скелтон Уит, президент «Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению», в конце концов был вынужден (отнюдь не против своего желания) созвать в зале заседаний на Маркет-стрит комитет из десяти филадельфийских граждан, председателем которого он состоял, и доложить собравшимся о том, как произошло банкротство Каупервуда. — Мне думается, джентльмены, — заявил он, — что нашей организации представляется случай оказать городу и его жителям немалую услугу и таким образом в полной мере оправдать название, которое мы для себя избрали, надо только как можно тщательнее произвести расследование и выявить всю подноготную этого дела. А затем уже, опираясь на факты, решительно требовать, чтобы раз навсегда был положен конец тем безобразным злоупотреблениям, которые имели место в данном случае. Я знаю, что эта задача не из легких. Республиканская партия и те, на кого она опирается — в городе и в штате, — будут, конечно, против нас. Ее лидеры, разумеется, боятся шума — это может помешать прохождению их списка во время выборов — и не станут равнодушно взирать на развиваемую нами деятельность. Но если мы проявим достаточную стойкость, то тем самым будет сделано большое и полезное дело. В нашей общественной жизни далеко не все обстоит благополучно. Нельзя допускать, чтобы принципы права попирались до бесконечности. Пора уже научиться соблюдать их. Посему я и ставлю этот вопрос на ваше благосклонное рассмотрение. Мистер Уит опустился на свое место, и комитет немедленно занялся рассмотрением вопроса. Прежде всего решено было выделить комиссию (так впоследствии гласило официальное сообщение комитета) «для расследования странных слухов, разнесшихся по городу и порочащих один из наиболее важных отделов городского самоуправления». Комиссии было предложено доложить о результатах расследования на заседании комитета, назначенном уже на следующий вечер. За сутки, прошедшие между двумя заседаниями, четыре члена комитета, крупные знатоки финансового дела, выполнили возложенную на них задачу и представили тщательно разработанный отчет, правда, не в точности соответствовавший фактам, но все же близкий к истине настолько, насколько можно было к ней приблизиться за такой короткий срок.«Как выяснилось (говорилось в отчете после вступительных слов, объясняющих, с какой целью была создана комиссия), в городском казначействе в течение многих лет практиковался обычай при выпуске утвержденных городским советом займов поручать реализацию таковых какому-нибудь биржевому маклеру; последний, как правило, через небольшие промежутки времени, обычно первого числа каждого месяца, отчитывался перед городским казначеем в суммах, вырученных от продажи облигаций. В данном случае таким маклером является Фрэнк А.Каупервуд, в отношениях с которым казначейство, по-видимому, не придерживалось даже этой порочной и отнюдь не деловой системы. События последних дней — пожар в Чикаго, вызванное им падение ценностей на фондовой бирже и последовавшее за этим банкротство Фрэнка А.Каупервуда — до такой степени запутали дело, что комиссия не в состоянии была точно установить, практиковалась ли вообще какая-нибудь регулярная отчетность. Но, судя по тому, как мистер Каупервуд орудовал облигациями городского займа, закладывая их в банках и так далее, можно вывести заключение, что он ни перед кем не отчитывался и что в его распоряжении всегда находились сотни тысяч долларов, принадлежащих городу, в наличных деньгах, а также ценные бумаги, посредством которых он проделывал различные финансовые операции. К сожалению, мы еще не имели возможности детально разобраться, к каким результатам привели эти операции. Некоторые из них заключались в том, что крупные партии облигаций закладывались еще до их выпуска, причем заимодавцу выдавалось подтверждение из канцелярии казначея, что ордер на соответствующее количество облигаций выписан и оформлен. Такие методы, видимо, практиковались уже довольно давно, и так как это вряд ли могло делаться без ведома городского казначея, то остается предположить существование между ним и мистером Каупервудом преступного сговора, целью которого было незаконное использование средств города в своих личных интересах. Помимо того, город уплачивал немалые проценты по вышеупомянутым закладным операциям, а деньги, вырученные этим путем, оставались в руках приглашенного казначеем биржевого маклера и, следовательно, городу никакой прибыли не приносили. Платежи по краткосрочным обязательствам города временно приостанавливались, а на те деньги, которым следовало находиться в городской кассе, мистер Каупервуд крупными партиями и по пониженной цене скупал эти обязательства. В результате законные держатели ордеров на облигации городского займа не могли получить того, что им причиталось, а городское казначейство терпело еще больший убыток, чем составляет сам по себе дефицит, превышающий пятьсот тысяч долларов. В настоящее время отчетность городского казначея проверяется экспертом-бухгалтером, и через несколько дней точно выяснится, как производились все эти операции. Будем надеяться, что огласка дела положит конец таким порочным методам».
К отчету была приложена копия статьи уголовного кодекса о злоупотреблении общественным доверием. Далее говорилось, что если никто из налогоплательщиков не пожелает возбудить судебное дело против замешанных в этом преступлении лиц, то комиссия почтет своим долгом взять это на себя, не считаясь с тем, что подобные действия едва ли входят в ее компетенцию. Отчет был немедленно передан в газеты. И хотя Каупервуд и лидеры республиканской партии были уже ко всему готовы, это явилось для них большим ударом. Стинер совсем потерял голову от страха. Холодный пот прошиб его, когда он увидел заметку, сдержанно озаглавленную: «Заседание Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению». Все газеты были так тесно связаны с политическими и финансовыми заправилами города, что не осмелились открыто выступить с комментариями. Редакторы и издатели уже с неделю были в основном осведомлены о подробностях дела, но от Молленхауэра, Симпсона и Батлера поступил приказ: большого шума не поднимать. Это, мол, весьма невыгодно отразится на делах города, принесет ущерб торговле и так далее. Не следует пятнать честь Филадельфии. Словом, старая история! В первую очередь, конечно, возник вопрос, кто же главный виновник — городской казначей, биржевой маклер или, может быть, они оба? Сколько денег фактически исчезло из казначейства? Куда они ушли? Кто такой Фрэнк Алджернон Каупервуд? И почему он не арестован? Каким образом ему удалось до такой степени втереться в доверие лиц, возглавляющих финансовые учреждения города? И хотя тогда еще не наступила эпоха так называемой «желтой прессы», бойко комментирующей жизнь и поступки отдельных личностей, местные газеты, даже те, что были по рукам и ногам связаны волей политических и финансовых магнатов, не сочли возможным обойти это дело молчанием. Появились неизбежные передовицы. В торжественных и очень сдержанных тонах они повествовали о том, какой позор и бесчестье может навлечь один человек на большой город и благородную политическую партию. Тогда-то и был пущен в ход план, сфабрикованный Молленхауэром, Батлером и Симпсоном «на крайний случай» и состоящий в том, чтобы, взвалив всю вину на Каупервуда, тем самым хотя бы на время снять пятно позора с республиканской партии. Забавно было видеть, с какой готовностью все газеты и даже «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению» согласились, что главный, если не единственный виновник всего Каупервуд. Конечно, Стинер выдал ему ссуду, более того — отдал в его руки реализацию городских займов, но все же считалось, почему — неизвестно, что Каупервуд нагло злоупотребил доверием казначея. Затем следовали неясные намеки на то, что он получил чек на шестьдесят тысяч долларов за облигации, которых не оказалось в амортизационном фонде; категорически утверждать это до получения точных сведений никто не решался, так как и газеты и производившая расследование комиссия знали, что законы штата предусматривают суровую кару за клевету. В надлежащее время муниципалитет передал в прессу безупречно подготовленную переписку. В одном из писем мэр города Джейкоб Борчардт требовал, чтобы мистер Джордж Стинер немедленно объяснил свое странное поведение; другое являлось ответом мистера Стинера на запрос мистера Борчардта. Лидеры республиканской партии считали, что это послужит наилучшим доказательством стремления партии очистить свои ряды от всяких темных личностей и вместе с тем оттянет дело до окончания выборов.
КАНЦЕЛЯРИЯ МЭРА ГОРОДА ФИЛАДЕЛЬФИИ 18 октября 1871 г. Городскому казначею мистеру Джорджу Стинеру. Милостивый государь! К нам поступили сведения, что значительный пакет облигаций городского займа, выпущенных Вами для продажи от лица городского казначейства — и, соответственно, с разрешения мэра города, — очутился вне Вашего контроля, а вырученные за продажу указанных облигаций суммы не были переданы в казначейство. Далее нам стало известно, что крупная сумма принадлежащих городу денег попала в руки одного, а может быть, и нескольких биржевых маклеров или банкиров, имеющих конторы на Третьей улице, и что означенные биржевые маклеры или банкиры оказались в затруднительном финансовом положении, вследствие чего интересам города может быть нанесен существенный ущерб. Посему просим Вас безотлагательно сообщить, соответствуют ли эти сведения истине, дабы я, как мэр города, если эти прискорбные факты действительно имели место, мог своевременно принять меры, возлагаемые на меня долгом и обязанностями.С совершенным уважением Джейкоб Борчардт, мэр города Филадельфии.
КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗНАЧЕЯ ГОРОДА ФИЛАДЕЛЬФИИ 19 октября 1871 г. Достопочтенному Джейкобу Борчардту. Милостивый государь! Настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 18-го сего месяца и весьма сожалею, что в данный момент не в состоянии представить запрошенных Вами сведений. К сожалению, я должен подтвердить, что городское казначейство действительно переживает затруднения, проистекающие от нарушения долга тем биржевым маклером, который в течение ряда лет ведал реализацией городских займов. Довожу также до Вашего сведения, что с того момента, как это было обнаружено, я не переставал и не перестаю прилагать все старания к тому, чтобы предупредить или хотя бы уменьшить грозящие городу потери.С глубоким почтением Джордж Стинер.
КАНЦЕЛЯРИЯ МЭРА ГОРОДА ФИЛАДЕЛЬФИИ 21 октября 1871 г. Городскому казначею мистеру Джорджу Стинеру. Милостивый государь! При сложившихся обстоятельствах считаем необходимым отменить предоставленные Вам полномочия по размещению городского займа в той его части, которая еще не реализована. Всякие обращения за облигациями, разрешенными к выпуску, но еще не выпущенными, следует направлять в нашу канцелярию.Писал ли мистер Джейкоб Борчардт те письма, под которыми значилась его подпись? Нет, не писал. Их составил мистер Энбер Сэнгстек в конторе мистера Молленхауэра, и мистер Молленхауэр, ознакомившись с их содержанием, заметил, что, «пожалуй, так будет хорошо, даже очень хорошо». А писал ли мистер Стинер, казначей города Филадельфии, свой сугубо дипломатический ответ? Нет, не писал. Мистер Стинер находился в состоянии полной прострации и однажды, принимая ванну, даже расплакался. Письмо это тоже написал мистер Энбер Сэнгстек и только дал его подписать мистеру Стинеру. А мистер Молленхауэр, просмотрев письмо перед отправкой, нашел, что оно составлено «как надо». Время сейчас было такое, что все крысята и все мыши притаились в своих норках, ибо из темноты на них глядел огромными горящими глазами свирепый кот — общественное мнение, — действовать осмеливались лишь самые старые, самые мудрые крысы. В это самое время господа Молленхауэр, Батлер и Симпсон уже несколько дней совещались с окружным прокурором мистером Петти относительно мер, которые, способствуя официальному обвинению Каупервуда, дали бы Стинеру возможность выйти сухим из воды. Батлер, само собой разумеется, настаивал на судебном преследовании Каупервуда. Петти утверждал, что обелить Стинера нельзя, поскольку бухгалтерские книги Каупервуда пестрят записями о приобретении для него акций конных железных дорог. Что же касается Каупервуда… «Дайте мне подумать!» — сказал он. Потом они обсуждали вопрос, не следует ли арестовать Каупервуда и, если понадобится, судить его, ибо самый факт его ареста в глазах общества послужит доказательством его виновности, а попутно и благородного негодования городского самоуправления, и таким образом до окончания выборов отвлечет внимание общественности от той сомнительной роли, которую в данном случае играла республиканская партия. В результате всех этих переговоров вечером 26 октября 1871 года Молленхауэр отправил к мэру города Эдварда Стробика, представителя городского совета, с официальным заявлением, в котором Фрэнк Каупервуд — биржевой маклер, приглашенный городским казначеем для реализации займа, — обвинялся в растрате и присвоении чужих средств. То, что такое же обвинение одновременно было предъявлено и Джорджу Стинеру, роли не играло. Козлом отпущения был избран Каупервуд.С совершенным почтением Джейкоб Борчардт, мэр города Филадельфии.
Глава 34
Разительный контраст, который являли собой в то время Каупервуд и Стинер, заслуживает того, чтобы на нем ненадолго остановиться. Лицо Стинера сделалось пепельно-серым, губы посинели. Каупервуд, невзирая на очень невеселые мысли о возможном тюремном заключении, о том, как воспримут это его родители, жена, дети, коллеги и друзья, оставался спокойным и уравновешенным, что объяснялось, конечно, исключительной стойкостью его духа. В этом вихре бедствий он ни на секунду не утратил трезвости мышления и мужества. Совесть, которая терзает человека и нередко даже приводит его к гибели, никогда не тревожила Каупервуда. Понятия греха для него не существовало. Жизнь, с его своеобразной точки зрения, имела лишь две стороны — силу и слабость. Пути праведные и неправедные? Такое различие ему было неведомо. В его представлении все это было метафизическими абстракциями, раздумывать над которыми он не имел охоты. Добро и зло? Пустяки, придуманные попами для наживы. Что же касается благосклонного отношения общества или, напротив, остракизма, которому так часто подвергается человек, попавший в полосу несчастий, то что такое, собственно, остракизм? Разве ему или его родителям был когда-нибудь открыт доступ в избранное общество? Нет! А затем ведь вовсе не исключено, что после того как пронесутся эти бедствия, общество вновь признает его. Нравственность и безнравственность? Сущий вздор. Вот сила и слабость — это другое дело. Если человек силен, он всегда может постоять за себя и принудить других считаться с ним. Если же человек слаб, ему надо бежать в тыл, удирать с линии огня. Он, Каупервуд, был силен, знал это и всегда верил в свою счастливую звезду. Словно чья-то рука — он не мог бы сказать, чья именно, и это было единственное из области метафизики, что занимало его, — всегда и во всем ему помогала, все улаживала, хотя бы в самую последнюю минуту. Она раскрывала перед ним изумительные возможности. Почему он был наделен такой проницательностью? Почему ему так везло и в финансовых делах и в личной жизни? Он ничем этого не заслужил, ничем этого не оправдывал. Случайность?.. Но как тогда объяснить никогда не покидавшее его ощущение уверенности, его деловые «наития», внезапные и не раз им испытанные «побуждения» к действию? Жизнь — темное, неразгаданное таинство, но, как бы там ни было, ее составные части — сила и слабость. Сила одерживает победу, слабость терпит поражение. Теперь ему осталось лишь полагаться на свою быструю сообразительность, на точность расчетов, верность суждений, ни на что больше. И право же, Каупервуд, оживленный, развязный, холеный и щегольски одетый, с подкрученными усами, в тщательно выутюженном костюме, со здоровым румянцем на чисто выбритом лице, мог бы служить образцом неукротимой энергии и отваги. Он сам отправился к Скелтону Уиту и попытался изложить ему свою точку зрения на всю эту историю, настаивая на том, что он поступал точно так же, как многие другие до него. Уит выслушал его недоверчиво. Он не понимал, например, почему в амортизационном фонде нет скупленных облигаций на шестьдесят тысяч долларов. Ссылки Каупервуда на обычай не произвели на него впечатления. Правда, мистер Уит согласился, что другие люди из мира политики наживались не хуже Каупервуда, и предложил ему самолично выступить свидетелем обвинения, на что Каупервуд, не задумываясь, ответил отказом. — Я не доносчик, — напрямик заявил он мистеру Уиту. Тот в ответ только криво усмехнулся. Мистер Батлер ликовал, несмотря на всю свою озабоченность предстоящими выборами, так как теперь «этот негодяй» попался в сети, из которых ему скоро не выпутаться. В случае победы республиканской партии на пост окружного прокурора вместо Дэвида Петти намечался ставленник Батлера — молодой ирландец Деннис Шеннон, не раз консультировавший Батлера по юридическим вопросам. Два других лидера охотно согласились на его кандидатуру. Этот Шеннон, умный малый, пяти футов десяти дюймов ростом, атлетического сложения, красивый, светловолосый, синеглазый и румяный, был весьма искусным и темпераментным судейским оратором и юристом. Он очень гордился расположением старого Батлера, соблаговолившего включить его в списки кандидатов на распределяемые республиканской партией посты, и обещал в случае своего избрания по мере сил и уменья выполнять его волю. Но для лидеров республиканской партии в этой бочке меда была все-таки и ложка дегтя, а именно: в случае осуждения Каупервуда та же участь ждала и Стинера. Сыскать лазейку, через которую мог бы выскочить городской казначей, увы, не представлялось возможным. Если Каупервуд виновен в том, что обманом присвоил шестьдесят тысяч долларов городских денег, тогда Стинер присвоил пятьсот тысяч. Это грозило тюремным заключением сроком на пять лет. Стинер мог отрицать свою вину, доказывая, что он действовал в духе установившихся традиций; мог уклониться от горькой необходимости признать себя виновным, но это не спасло бы его. Никакой состав присяжных не решился бы пройти мимо столь красноречивых фактов. Что касается Каупервуда, то, несмотря на предубеждение общества, можно было еще сомневаться, будет ли ему вынесен обвинительный приговор. В отношении же Стинера сомнений быть не могло. Необходимо вкратце рассказать, как развертывались события, после того как Каупервуду и Стинеру было предъявлено официальное обвинение. Юрисконсульт Каупервуда Стеджер пронюхал, что преследование уже возбуждено, еще до того как это стало общеизвестно. Он посоветовал своему клиенту тотчас же предстать перед следственными органами, не дожидаясь приказа об аресте, и тем самым предотвратить газетную шумиху, которая возникла бы неизбежно, если бы за ним явилась полиция. А когда мэр города подписал ордер на арест Каупервуда, тот, следуя указаниям Стеджера, явился вместе с ним к мистеру Борчардту и внес залог — двадцать тысячдолларов (его поручителем был президент Джирардского национального банка мистер Дэвисон) в обеспечение своей явки в Центральное управление полиции на слушание дела. Для защиты интересов города председатель городского совета Стробик пригласил адвоката Марка Олдслоу. Мэр с любопытством смотрел на Каупервуда, так как, будучи человеком сравнительно новым в политическом мире Филадельфии, он раньше не знал его. Каупервуд отвечал ему приветливым взглядом. — Изрядная комедия, сэр, — спокойно заметил Каупервуд, и Борчардт, улыбнувшись, любезно возразил, что он лично смотрит на всю эту процедуру как на формальность, неизбежную в такое тревожное время. — Ведь вы и сами это понимаете, мистер Каупервуд, — заключил он. — Да, конечно, понимаю! — с усмешкой отвечал тот. Затем последовало еще несколько довольно небрежно произведенных дознаний в так называемом центральном суде, где Каупервуд, когда ему вручили обвинительный акт, заявил, что не признает себя виновным. На ноябрь здесь же был назначен предварительный разбор его дела, и Каупервуд, учитывая сложность обвинения, составленного Петти, счел за благо предстать перед присяжными, решающими вопрос о предании суду. Последние, под нажимом вновь избранного окружного прокурора Шеннона, постаравшегося обставить все это очень торжественно, постановили, что дело будет слушаться 5 декабря под председательством судьи Пейдерсона из Первого отдела квартальной сессии, то есть местного отделения пенсильванского суда, разбирающего уголовные дела такого характера. Суд над Каупервудом состоялся, как и следовало ожидать, уже после бурных осенних выборов. Благодаря хитроумным махинациям Молленхауэра и Симпсона, не гнушавшихся даже насилием над личностью избирателя и фальсификацией бюллетеней, выборы принесли новую победу республиканской партии, хотя ее ставленники и получили меньшее число голосов, чем в прошлый раз. «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению», несмотря на понесенное на выборах поражение, объяснявшееся мошенническими приемами противников, отважно продолжала громить тех, кого она считала главными злоумышленниками. Все это время Эйлин Батлер следила за перипетиями дела Каупервуда по крикливым газетным статьям и городским пересудам; следила со всею горячностью, страстью и напряжением, на какие только была способна ее недюжинная и сильная натура. Там, где было замешано чувство. Эйлин не умела рассуждать: она часто виделась с Фрэнком, и он многое рассказывал ей, — насколько, конечно, ему позволяла его природная осторожность, — и потому, несмотря на газетную шумиху и разговоры, слышанные ею дома за столом и у чужих людей, она была твердо убеждена, что каким бы дурным его ни изображали, он на самом деле вовсе не таков. Только одна заметка, вырезанная Эйлин из филадельфийской газеты «Паблик леджер» вскоре после того, как Каупервуду было предъявлено формальное обвинение в мошенничестве, немного утешила и успокоила ее. Эйлин спрятала заметку у себя на груди, так как эти строки почему-то казались ей доказательством, что ее обожаемый Фрэнк не так уж виноват и что на него возведено много напраслины. Заметка же эта была просто сокращенным изложением одного из многочисленных «манифестов», которые выпускала «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению». Она гласила:«Дело обстоит, видимо, гораздо серьезнее, чем можно было предполагать. Дефицит в пятьсот тысяч долларов образовался не вследствие продажи облигаций городского займа и отсутствия должной отчетности за таковую, а в результате ссуд, предоставлявшихся городским казначеем своему биржевому маклеру. Кроме того, комитет получил достоверные сведения, что ежемесячный расчет за проданные биржевым маклером облигации городского займа производился по самому низкому курсу истекшего месяца, разницу же между этим курсом и тем, по которому фактически продавались облигации, городской казначей и его маклер делили между собой. Отсюда следует, что в их обоюдных интересах было время от времени оказывать давление на рынок с целью добиться низкого расчетного курса. Тем не менее комитет рассматривает судебное преследование, возбужденное против биржевого маклера, мистера Каупервуда, лишь как попытку отвлечь общественное внимание от подлинных виновников и тем самым дать им возможность наивыгоднейшим для себя образом уладить дело».«Вот! — сказала себе Эйлин, прочитав заметку. — Теперь все ясно!» Эти политиканы — в том числе и ее отец, как она поняла из его разговора с нею, — пытаются свалить на Фрэнка вину за свои собственные преступления. Фрэнк совсем не такой дурной человек, каким его изображают. В отчете «Ассоциации» это прямо сказано. Она упивалась словами: «…попытку отвлечь общественное внимание от подлинных виновников». Разве не то же самое говорил он ей в те счастливые часы, которые они проводили то в одном, то в другом месте, преимущественно же в доме на Шестой улице, нанятом им для свиданий с нею после того, как они вынуждены были расстаться со своим прежним убежищем. Фрэнк гладил ее пышные волосы, ласкал ее и уверял, что вся эта история подстроена местными политическими заправилами с целью взвалить вину на него и, по возможности, выгородить партию вообще и Стинера в частности. Он, Каупервуд, конечно, выпутается, но все-таки Эйлин должна держать язык за зубами. Он не отрицал, что продолжительное время состоял в деловых и обоюдовыгодных отношениях со Стинером, и точно объяснил ей, в чем заключались эти отношения. Эйлин все поняла или по крайней мере думала, что поняла. Но так или иначе, Фрэнк заверял ее в своей невиновности, и этого для нее было достаточно. Что же касается домов старшего и младшего Каупервудов, столь недавно и с таким блеском объединившихся в дни процветания, а теперь связанных горестными узами общей беды, то жизнь в них почти замерла. Источником этой жизни был Фрэнк Алджернон. Он придавал силу и мужество отцу, вдохновлял и благодетельствовал братьев, был надеждою детей, опорой жены, величием и гордостью семейства Каупервудов. В нем воплощались для всех его близких удача, сила, честолюбивые стремления, достоинство и счастье. Но теперь его ярко горевшая звезда померкла и, видимо, близилась к закату. С того самого утра, когда роковое письмо, словно бомба, разрушило весь привычный жизненный уклад Лилиан Каупервуд, она пребывала в каком-то полумертвом состоянии. Вот уже несколько недель Лилиан, по-прежнему методически выполняя свои обязанности — во всяком случае так это выглядело со стороны, — предавалась неотвязным и мучительным думам. Она была глубоко несчастна. Ей минуло сорок лет, и к этому времени ее жизнь, казалось бы, должна была покоиться на прочной, незыблемой основе, а теперь жестокая рука грозила вырвать ее из благодатной почвы, где она жила и цвела, и выбросить увядать в палящем зное горестей и унижений. У Каупервуда-старшего все дела тоже стремительно шли под уклон. Как мы уже говорили, его вера в сына была безгранична, но он понимал и без конца твердил себе, что Фрэнк в какой-то миг, видимо, совершил ошибку и теперь жестоко расплачивается за нее. Старик, конечно, считал, что Фрэнк был вправе попытаться спастись уже известным нам способом, но не мог не страдать от сознания, что его сын попался в капкан обстоятельств, вызывавших сейчас все эти толки. Фрэнк, по его мнению, был на редкость блестящим человеком. Он мог бы добиться исключительных успехов, не связываясь ни с городским казначеем, ни с политическими воротилами. Конные железные дороги и политики-спекулянты погубили его. По целым дням шагая из угла в угол, старый Каупервуд все яснее понимал, что его звезда близится к закату, что крах Фрэнка — и его крах, что этот позор — публичное обвинение в бесчестных действиях — несет погибель и ему. За несколько недель его волосы окончательно поседели, походка стала медлительной, лицо побледнело, глаза ввалились. Живописные бакенбарды напоминали сейчас старые флаги — украшения лучших, безвозвратно ушедших дней. Единственным его утешением было то, что Фрэнк полностью рассчитался с Третьим национальным банком, не остался должен ему ни единого доллара. И все-таки старик знал, что правление банка не примирится с пребыванием в его составе человека, чей сын способствовал расхищению городской кассы и фигурировал сейчас во всех связанных с этим делом газетных сообщениях. Кроме того, Генри Каупервуд был стар. Ему пришла пора уходить в отставку. Развязка наступила в тот день, когда Фрэнк был арестован по обвинению в присвоении общественных средств. Старик был предупрежден сыном, которого, в свою очередь, предупредил Стеджер, что этого не миновать, и, как всегда, отправился в банк, хотя ему и казалось, что тяжкое бремя пригибает его к земле. Прежде чем выйти из дому после бессонной ночи, он написал на имя председателя правления Фруэна Кессона прошение об отставке, дабы немедленно вручить ему эту бумагу. Мистер Кессон, коренастый, хорошо сложенный и весьма привлекательный с виду мужчина лет пятидесяти, в душе облегченно вздохнул при виде прошения. — Я понимаю, как вам тяжело, мистер Каупервуд, — сочувственно сказал он. — Мы — я вправе сказать это от имени всех членов правления — переживаем вместе с вами ваше горе. Нам вполне понятно, каким образом ваш сын оказался причастным к этой истории. Он не единственный банковский деятель, замешанный в делах городского управления. Далеко не единственный! Это старая система. Мы высоко ценим вашу верную тридцатипятилетнюю службу. Если бы у нас была хоть малейшая возможность помочь вам в преодолении этих временных трудностей, мы были бы только счастливы, но вы сами банковский деятель и понимаете, что сейчас такой возможности нет. Во всех делах сумятица невообразимая. Если бы буря улеглась, если бы хоть знать, когда она уляжется… Он замолчал, ибо не мог заставить себя сказать, что ему и правлению банка чрезвычайно прискорбно расставаться с мистером Каупервудом при таких обстоятельствах. Пусть уж лучше говорит сам мистер Каупервуд. Во время его речи старый Каупервуд делал над собой огромные усилия, чтобы вообще произнести хоть слово. Он достал большой полотняный платок и высморкался, затем выпрямился в кресле и довольно спокойно положил руки на стол. Но нервы его были напряжены до крайности. — Я не вынесу этого! — вдруг вырвалось у старика. — Сделайте милость, оставьте меня сейчас одного! Кессон, щеголеватый, холеный джентльмен, поднялся и вышел из комнаты. Он очень хорошо понимал, в каком напряженном состоянии должен находиться человек, с которым он только что разговаривал. Дверь едва успела закрыться за ним, как старый Каупервуд уронил голову на руки, и тело его затряслось от судорожных рыданий. «Никогда, никогда я не думал, что доживу до этого! — бормотал он про себя. — Никогда не думал!» Потом он вытер горячие, соленые слезы, подошел к окну и, глядя на улицу, стал думать о том, чем ему теперь заняться.
Глава 35
Время шло, а Батлер все больше терялся в догадках и все чаще задумывался над тем, как поступить с дочерью. Ее скрытность и явное стремление всячески избегать разговоров с ним убеждали его в том, что она продолжает встречаться с Каупервудом, а это рано или поздно должно кончиться публичным скандалом. Он хотел даже пойти к миссис Каупервуд и заставить ее воздействовать на мужа, но потом передумал. Во-первых, у него все же не было полной уверенности, что Эйлин встречается с Каупервудом, а во-вторых, миссис Каупервуд могла и не знать об измене мужа. Потом он вознамерился пойти к самому Каупервуду и пригрозить ему, но это была уже крайняя мера, и опять-таки он не имел никаких доказательств. Обращаться в сыскное бюро он не решался, как не решался и довериться кому-нибудь из членов своей семьи. Однажды он сам отправился побродить вокруг дома номер 931 по Десятой улице, но без толку. Дом сдавался внаем: Каупервуд уже успел от него отказаться. Наконец Батлер решился отправить Эйлин погостить куда-нибудь подальше — в Бостон или в Новый Орлеан, где жила ее тетка со стороны матери. Но действовать следовало очень тонко, а Батлер был не мастер на такие дела; тем не менее он начал подготовку. Написал письмо к свояченице в Новый Орлеан, спрашивая, не может ли она, конечно не выдавая его, попросить сестру на время отпустить к ней дочь и одновременно послать приглашение самой Эйлин. Но потом порвал это письмо. Через несколько дней Батлер случайно узнал, что миссис Молленхауэр и ее три дочери — Каролина, Фелиция и Альта — собираются в первых числах декабря в Европу, намереваясь побывать в Париже, на Ривьере и в Риме, и решил поговорить с Молленхауэром, пусть он убедит жену пригласить с собой Нору и Эйлин или в крайнем случае одну Эйлин; мотивировать это можно тем, что миссис Батлер не хочет оставлять его одного, а девушкам надо повидать свет. Это был бы прекрасный способ на некоторое время удалить Эйлин. Они собирались провести в Европе не менее полугода. Молленхауэр охотно исполнил его просьбу: обе семьи были очень дружны. Миссис Молленхауэр не менее охотно согласилась — из соображений светского характера, — и приглашение состоялось. Нора была в восторге. Она жаждала хоть недолго пожить в Европе и давно мечтала о подобной возможности. Эйлин была польщена вниманием миссис Молленхауэр. Случись это на несколько лет раньше, она не замедлила бы согласиться. Но сейчас она восприняла приглашение лишь как новую помеху, как еще одно, пусть второстепенное, препятствие к ее встречам с Каупервудом. Не успела ничего не подозревавшая миссис Батлер заговорить о приглашении, полученном от навестившей ее миссис Молленхауэр, как Эйлин холодно отвергла его. — Она очень хочет, чтобы вы поехали с ними, если отец ничего не будет иметь против, — настаивала мать. — И я уверена, что вы прекрасно проведете время. Они поживут в Париже, а потом отправятся на Ривьеру. — Ах как чудесно! — воскликнула Нора. — Мне всегда так хотелось побывать в Париже! А тебе, Эйлин? Вот было бы замечательно. — Мне что-то не хочется ехать, — отозвалась Эйлин. Она решила с самого начала не проявлять никакого интереса к этой затее, чтобы не обнадеживать отца. — Кроме того, у меня нет зимних туалетов. Я лучше подожду и поеду в другой раз. — Что с тобой, Эйлин, опомнись! — возмутилась Нора. — Ты десятки раз говорила, что хочешь побывать за границей зимою. А теперь, когда представляется такой случай… Наряды можно сшить и там. — Да уж за границей, наверно, найдется что-нибудь подходящее, — поддержала ее миссис Батлер. — Кроме того, у тебя еще две или три недели до отъезда. — А они не хотят, чтобы с ними поехал кто-нибудь из мужчин, мама, в роли сопровождающего или советчика, что ли? — спросил Кэлем. — Я тоже не прочь предложить свои услуги, — сдержанно заметил Оуэн. — Право слово, не знаю, — миссис Батлер усмехнулась, прожевывая кусок. — Придется вам, сынки, спросить у них! Эйлин стояла на своем. Ей не хочется ехать. Это слишком неожиданно. То не так, и это не так. Тут как раз вошел старый Батлер и уселся на обычное место во главе стола. Прекрасно зная, о чем идет речь, он старательно делал вид, будто это его не касается. — Ты ведь не будешь возражать, Эдвард? — спросила его жена, в общих чертах изложив ему суть дела. — Возражать? — с прекрасно разыгранной грубоватой шутливостью отозвался Батлер. — Что я себе враг, что ли? Да я счастлив буду на время избавиться от всей вашей компании! — Вот это да! — воскликнула миссис Батлер. — Воображаю, как бы ты жил здесь один! — А я не был бы один, уж поверь, — сказал Батлер. — В нашем городе найдется немало домов, где мне будут рады, так что я и без вас обойдусь. — В нашем городе найдется немало домов, куда бы тебя на порог не пустили, если б не я. Это уж как пить дать! — благодушно срезала его миссис Батлер. — Что ж, тут тоже спорить не приходится, — согласился Батлер, с нежностью взглянув на нее. Эйлин была непреклонна. Все доводы Норы и матери оказывались тщетными. Но Батлер, раздосадованный крушением своего плана, еще не сложил оружия. Убедившись, что Эйлин все равно не уговоришь принять приглашение миссис Молленхауэр, он еще немного подумал и решил прибегнуть к услугам сыщика. В те времена особенно славилось агентство знаменитого сыщика Уильяма Пинкертона. Этот человек, выходец из бедной семьи, после многих жизненных перипетий занял очень видное положение в своей своеобразной и для многих неприятной профессии. Но в глазах людей, которых те или иные печальные обстоятельства побуждали прибегнуть к услугам Пинкертона, его патриотическое поведение во время Гражданской войны и близость к Аврааму Линкольну служили лучшей рекомендацией. Это он, вернее, подобранные им люди охраняли Линкольна в продолжение всего бурного периода его пребывания у власти. Созданное Пинкертоном предприятие имело отделения в Филадельфии, Вашингтоне, Нью-Йорке и во многих других городах. Батлер не раз видел вывеску филадельфийского отделения, но не пожелал туда обратиться. Приняв окончательное решение, он надумал поехать в Нью-Йорк, где, как ему говорили, находилось главное агентство. Накануне он попросту сказал, что уезжает на один день, как делал это неоднократно. До Нью-Йорка было пять часов езды по железной дороге, и он прибыл туда к двум часам дня. В конторе, расположенной в нижней части Бродвея, Батлер спросил директора и был принят высоким мужчиной лет пятидесяти, седоволосым и сероглазым, грузного сложения, с крупным, несколько одутловатым, но умным и хитрым лицом. Его короткие руки с толстыми пальцами во время разговоров с клиентами непрерывно барабанили по столу. Одет он был в темно-коричневый сюртук, показавшийся Батлеру чересчур франтоватым, а в галстуке у него красовалась брильянтовая булавка в форме подковы. Сам старый Батлер неизменно одевался в скромный серый костюм. — Добрый день! — произнес он, когда мальчик ввел его к этому достойному мужу, отпрыску ирландца и американки, носившему фамилию Мартинсон. Мистер Гилберт Мартинсон кивнул в ответ, потом измерил Батлера взглядом и, угадав в нем человека с сильным характером, вероятно, занимающего видное положение в обществе, встал и предложил ему стул. — Прошу садиться, — сказал он, рассматривая посетителя из-под густых косматых бровей. — Чем могу служить? — Вы директор, если не ошибаюсь? — осведомился Батлер, испытующе глядя на него. — Да, сэр, — просто отвечал Мартинсон. — Я занимаю здесь пост директора. — А что, самого мистера Пинкертона, владельца конторы, сейчас нет? — осторожно спросил Батлер. — Не сочтите за обиду, но я хотел бы поговорить с ним лично. — Мистер Пинкертон сейчас в Чикаго, и я жду его обратно не раньше чем через неделю или дней десять, — отвечал Мартинсон. — Вы можете говорить со мной так же откровенно, как с ним. Я здесь его замещаю. Но, конечно, вам видней. Батлер немного поколебался, мысленно оценивая собеседника. — Скажите, вы человек семейный? — задал он, наконец, несколько неожиданный вопрос. — Да, сэр, — серьезно отвечал Мартинсон. — У меня жена и двое детей. Как опытный сыщик он понял, что речь сейчас пойдет о предосудительном поведении кого-нибудь из членов семьи — сына, дочери, жены. С такими случаями он сталкивался нередко. — Я, видите ли, думал поговорить с самим мистером Пинкертоном, но если вы его замещаете… — Батлер не докончил фразы. — Да, сэр, я здесь руковожу всей работой, — сказал Мартинсон. — Вы можете довериться мне так же, как доверились бы самому мистеру Пинкертону. Попрошу вас ко мне в кабинет. Там нам удобнее будет беседовать. Он поднялся и показал Батлеру на смежную комнату с окнами, выходящими на Бродвей; в ней стоял массивный продолговатый стол из гладкого отполированного дерева и четыре стула с кожаными спинками, на стене висело несколько картин, изображающих эпизоды Гражданской войны, которые привели к победе северян. Батлер не без колебания последовал за Мартинсоном. Мысль посвятить постороннего человека в дела Эйлин претила ему. Даже сейчас он еще не был уверен, что решится заговорить. Он только посмотрит, «что представляют собой эти ребята», — говорил себе старик, и тогда уж решит, как ему быть. Он подошел к одному из окон и уставился на улицу, кишевшую бесчисленными омнибусами и экипажами. Мистер Мартинсон спокойно затворил дверь. — Итак, чем могу быть вам полезен, мистер… — Он остановился, рассчитывая с помощью этого невинного трюка узнать фамилию посетителя. Иногда это ему удавалось, но Батлер был не так-то прост. — Я все еще в нерешительности, начинать ли мне это дело, — медленно произнес Батлер. — Тем более, пока у меня нет полной уверенности, что все будет обставлено должным образом. Мне нужно кое-что разузнать про… получить кое-какие сведения… Но это дело сугубо частного характера… Он замолчал, обдумывая, как лучше выразиться, и в то же время не спуская глаз с Мартинсона. Тот отлично понял его душевное состояние. Таких случаев он навидался немало. — Разрешите мне прежде всего сказать вам, мистер… — Скэнлон, если вам непременно нужно это знать, — мягко прервал его Батлер. — Оно не хуже всякого другого, а своего настоящего имени я до поры до времени предпочитаю не называть. — Пусть будет Скэнлон, — так же мягко повторил Мартинсон. — Мне, право, все равно, настоящее это ваше имя или нет. Я только что собирался вам сказать, что вы можете и совсем не называть себя; но это зависит лишь от того, какого рода сведения вам нужны. Дело же ваше, смею вас уверить, останется в тайне, словно вы никогда и ни с кем о нем не говорили. Престиж нашей организации зиждется на оказываемом нам доверии, и мы не можем им злоупотреблять. Это привело бы к нежелательным последствиям. Среди наших служащих есть мужчины и женщины, работающие свыше тридцати лет, — мы никогда никого не увольняем, разве только за очень серьезный проступок, но мы подбираем таких людей, которых и не приходится увольнять за серьезные проступки. Мистер Пинкертон великолепно разбирается в людях. У нас есть сотрудники, которые даже считают себя сердцеведами. За год мы выполняем свыше десяти тысяч поручений во всех концах Соединенных Штатов. Мы ведем дело лишь до тех пор, пока это угодно клиенту. И стараемся узнать лишь то, что ему нужно знать. Мы не вмешиваемся без необходимости в чужие дела. Если оказывается, что мы не можем получить требуемые сведения, мы немедленно сами заявляем об этом. От многих дел мы отказываемся наотрез и даже не начинаем их. Может случиться, что и ваше дело принадлежит к их числу. Мы не гонимся за поручениями и не скрываем этого. Некоторые дела политического характера или же дела, имеющие целью сведения личных счетов, мы просто отказываемся вести, не желая быть к ним причастными. Теперь судите сами. Вы, надо думать, человек бывалый. Я тоже. Так можете ли вы себе представить, чтобы такая организация, как наша, злоупотребляла чьим-либо доверием? Он замолчал и пристально посмотрел на Батлера, ожидая ответа. — Едва ли, — сказал Батлер. — Вы правы. Но все-таки нелегко выставлять на свет свои частные дела, — с грустью добавил старик. Оба некоторое время молчали. — Ну что ж, — произнес, наконец, Батлер. — Вы производите на меня впечатление порядочного человека, а мне нужен совет. Учтите, я готов хорошо заплатить, и то, что меня интересует, нетрудно выяснить. Мне желательно узнать, встречается ли некий субъект, проживающий в том же городе, что и я, с одной женщиной, и если встречается, то где именно. Я думаю, для вас это не представит затруднений? — Ничего не может быть проще, — отвечал Мартинсон. — Мы все время выполняем такие поручения. Разрешите, мистер Скэнлон, облегчить вам задачу. Мне совершенно ясно, что вы не желаете говорить больше того, что необходимо, и мы тоже не хотим узнавать от вас ничего лишнего. Нам, конечно, нужно знать, какой город вы имеете в виду, а также одно из имен — его или ее, — не обязательно оба, если только вы сами не захотите пойти нам в этом смысле навстречу. Иногда, зная имя одного лица — его, например, — и имея описание женщины — конечно, совершенно точное — или ее фотографию, мы через некоторое время уже сообщаем то, что интересует клиента, хотя, разумеется, более точные данные упрощают нашу работу. Но это уж как вы считаете для себя удобнее. Сообщите мне ровно столько, сколько найдете нужным, и я гарантирую, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добыть интересующие вас сведения. — Гм! В таком случае, — сказал Батлер, решившись, наконец, хотя и не без внутреннего сопротивления, — я буду откровенен с вами. Моя фамилия не Скэнлон, а Батлер. Я живу в Филадельфии. Там есть один делец, некий Каупервуд — Фрэнк А.Каупервуд… — Одну минутку, — прервал его Мартинсон, доставая из кармана блокнот и карандаш. — Сейчас я запишу. Как вы назвали его? Батлер повторил. — Так. Я слушаю вас. — У него контора на Третьей улице — «Фрэнк А.Каупервуд» — там вам любой покажет. Он недавно обанкротился. — А, понятно! — вставил Мартинсон. — Я о нем слышал. Он замешан в какой-то истории с растратой городских средств. Вы, вероятно, не пожелали обратиться в наше филадельфийское отделение, чтобы не посвящать тамошних агентов в свои тайны. Не так ли? — Совершенно верно, и человек этот тот самый, о котором вы слышали, — подтвердил Батлер. — Я не хочу, чтобы в Филадельфии кто-нибудь знал о моем деле. Потому я и приехал сюда. Этот Каупервуд живет в собственном доме на Джирард-авеню, номер девятнадцать тридцать семь. Его тоже нетрудно сыскать. — Само собой разумеется, — сказал Мартинсон. — Так вот я хочу узнать о нем… и об одной женщине, вернее девушке… Старый Батлер умолк, и лицо его страдальчески нахмурилось при необходимости упомянуть имя Эйлин. Он никак не мог примириться с этой мыслью, — он так любил свою дочь, так гордился своей Эйлин! В груди его накипала ненависть к Каупервуду. — Это ваша родственница, надо полагать? — деликатно осведомился Мартинсон. — Вам не нужно ничего более сообщать мне, если можно, опишите только ее наружность. Нам этого будет достаточно. Он ясно видел, что имеет дело с почтенным старым человеком и что тот сильно удручен. Об этом свидетельствовало вдруг окаменевшее, печальное лицо Батлера. — Вы можете говорить со мной откровенно, мистер Батлер, — добавил он. — Я понимаю вашу нерешительность. Мы хотим получить от вас только такие сведения, которые дадут возможность нам действовать, ничего больше. — Да, — угрюмо отвечал Батлер, — это моя родственница. Скажу вам прямо: она моя дочь. Вы кажетесь мне честным, разумным человеком. Я ее отец и ни за что на свете не хотел бы причинить ей хоть малейшее зло. Я пытаюсь спасти ее — и только. Он — вот кто мне нужен! Его огромная рука сжалась в кулак. Этот жест не укрылся от Мартинсона; он сам был отцом двух дочерей. — Я понимаю ваши чувства, мистер Батлер, — сказал он. — Я ведь тоже отец. Мы сделаем для вас все, что в наших силах. Если вы мне подробно ее опишете или дадите возможность одному из моих агентов взглянуть на нее, как бы случайно, у вас дома или в конторе, я думаю, что мы очень скоро сумеем вам сказать, происходят ли между ними более или менее регулярные встречи. Это, кажется, все, что вы хотите узнать, не правда ли? — Все, — хмуро подтвердил Батлер. — Что ж, тут много времени не потребуется, мистер Батлер: дня три-четыре, если нам повезет, в крайнем случае — неделя, десять дней, две недели, но уж никак не больше. Все зависит от того, как долго вы поручите нам следить за ними, в случае если в первые дни ничего не удастся обнаружить. — Я хочу узнать правду, сколько бы это ни заняло времени, — с горечью отвечал Батлер. — Я должен знать все, хотя бы потребовался месяц, два, три. Должен! — с этими словами старик поднялся, исполненный решимости, непреклонный. — Пришлите мне людей опытных и тактичных. Лучше всего человека, который сам отец, если у вас есть такой и если он умеет держать язык за зубами. — Я вас понимаю, мистер Батлер, — ответил Мартинсон. — Положитесь на меня. Вы будете иметь дело с лучшими агентами, заслуживающими полного доверия. Они не проболтаются. Я сделаю так: пошлю к вам сперва одного человека, чтобы вы сами могли судить, годится он вам или нет. Я ему ничего говорить не стану. Вы сами потолкуете с ним. Если он вам подойдет, расскажите ему суть дела, а он уж будет знать, как действовать. Если ему понадобится помощь, я пришлю еще людей. Где вы живете? Батлер дал ему свой адрес. — И все это останется между нами? — еще раз спросил он. — Можете быть спокойны. — Когда же ваш агент явится ко мне? — Завтра, если вам угодно. У меня есть на примете человек, которого я сегодня же могу послать в Филадельфию. Сейчас он ушел, не то я позвал бы его, чтобы вы могли сами с ним поговорить. Впрочем, я ему все растолкую. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Репутация вашей дочери будет в надежных руках. — Очень вам благодарен, — произнес Батлер, несколько смягчившись. — Премного обязан. Вы окажете мне большую услугу, и я хорошо заплачу… — Не стоит об этом говорить, мистер Батлер, — перебил его Мартинсон. — Вы можете пользоваться всеми услугами нашей организации по обычному тарифу. Он проводил Батлера до двери и подождал, покуда она не закрылась за ним. Батлер вышел подавленный и жалкий. Подумать только, что он вынужден пустить сыщиков по следу своей дочери, своей Эйлин!Глава 36
На другой же день в контору к Батлеру явился долговязый, угловатый, мрачного вида человек, черноволосый и черноглазый, с длинным лицом, обтянутым пергаментного цвета кожей, с головой, удивительно напоминающей голову ястреба. Проговорив с Батлером больше часа, он удалился. Под вечер, в обеденное время, он снова пришел к нему, уже на дом, и в кабинете Батлера, с помощью небольшой хитрости, получил возможность взглянуть на Эйлин. Батлер послал за ней, а сам остался в дверях, отступив немного в сторону, чтобы девушку было хорошо видно, когда она подойдет к нему. Сыщик стоял за одной из тяжелых портьер, уже повешенных на зиму, и делал вид, будто смотрит на улицу. — Кто-нибудь выезжал сегодня на Сестричке? — спросил Батлер у дочери. Кобыла Сестричка была любимицей в семье Батлера. Его план заключался в том, чтобы в случае, если Эйлин заметит сыщика, выдать его за барышника, пришедшего купить или продать лошадь. Сыщик Джонас Олдерсон по внешности мог вполне сойти за барышника. — Кажется, нет, отец, — отвечала Эйлин. — Сама я никуда не ездила. Но я сейчас спрошу. — Не стоит. Я только хотел знать, не понадобится ли она тебе завтра утром? — Я могу обойтись без нее, если она тебе нужна. Меня вполне устраивает Джерри. — Хорошо! В таком случае пусть она остается в конюшне. Батлер спокойно закрыл дверь. Эйлин решила, что речь идет о продаже лошади. Но так как она была уверена, что, не посоветовавшись с ней, отец не продаст Сестричку, на которой она любит ездить, то тотчас же забыла об этом разговоре. После ее ухода Олдерсон вышел из-за портьеры и заявил, что больше ему ничего не требуется. — Это все, что мне нужно было знать, — сказал он. — Я извещу вас, как только мне удастся что-нибудь выяснить. Он ушел, и через тридцать шесть часов дом и контора Каупервуда, дом Батлера, контора Харпера Стеджера, а также сам Каупервуд и Эйлин уже находились под пристальным наблюдением. Сначала для этого потребовалось шесть человек, потом, когда была обнаружена вторая квартира, нанятая Каупервудом на Шестой улице, туда откомандировали седьмого сыщика. Все они были присланы из Нью-Йорка. Через неделю Олдерсон уже все знал. Он условился с Батлером, что известит его, когда у Эйлин будет свидание с Каупервудом, чтобы тот мог немедленно отправиться по указанному адресу и застать ее на месте преступления. Батлер не собирался убивать Каупервуда — Олдерсон не допустил бы этого, по крайней мере у себя на глазах, — но изругать негодяя последними словами, избить его и увести Эйлин — тут уж никто не мог ему помешать. О, тогда она перестанет уверять его, что не встречается с Каупервудом! Перестанет рассуждать и своевольничать. Ей придется покориться отцовской власти. И она либо сама исправится, либо он пошлет ее в исправительное заведение. Подумать только, какой пример для ее сестры или какой-нибудь другой честной девушки! Теперь уж она поедет в Европу, поедет в любое место, которое он ей укажет! Батлер вынужден был поделиться с Олдерсоном этими замыслами, и тот напрямик заявил, что в его обязанности входит охранять Каупервуда от каких бы то ни было посягательств на его личность. — Мы не вправе позволить вам бить его или вообще прибегать к насилию, — сказал он Батлеру, когда об этом впервые зашел разговор. — Это против наших правил. Вы войдете в дом, где они встречаются, для этого, если нужно, мы добудем ордер на обыск, конечно, скрыв вашу причастность к делу. Мы скажем, что ведем слежку за одной нью-йоркской девушкой. Но войдете вы туда в присутствии моих людей. А они не допустят скандала. Вы можете забрать свою дочь — мы уведем ее, а если вы пожелаете, также и его. Но в таком случае вам придется предъявить ему какое-то обвинение. Кроме того, не исключено, что это заметит кто-нибудь из соседей, и мы не можем поручиться, что вы, таким образом, не соберете толпу любопытных. Батлера и самого мучили сомнения. Конечно, такое предприятие связано с большим риском огласки. И все же он хотел знать правду. Хотел застращать Эйлин, воздействовать на нее самыми суровыми мерами. Итак, через неделю Олдерсон узнал, что Эйлин и Каупервуд встречаются на Шестой улице, по-видимому, в частном доме. На деле же это был настоящий дом свиданий, но только самого высокого класса. В этом четырехэтажном кирпичном здании с облицовкой из белых каменных плит имелось восемнадцать комнат, обставленных с кричащей роскошью, но весьма опрятных. Клиентура была самая фешенебельная, и доступ туда открывался лишь по рекомендациям старых клиентов. Это обеспечивало сохранность тайны, в которой так нуждаются всякие запретные дела. Достаточно было сказать: «У меня тут назначено свидание», — и хозяйка, если обе стороны были знакомы ей, немедленно отводила гостей в удобные апартаменты. Каупервуду этот дом был давно известен, и когда им пришлось расстаться с уютной квартиркой на Десятой улице, он предложил Эйлин встречаться с ним здесь. Олдерсон, узнав, какое это заведение, сказал Батлеру, что проникнуть в него и разыскать там кого-нибудь — дело чрезвычайно трудное. Для этого требовался ордер на обыск, получить который очень нелегко. Можно, конечно, ворваться силой, как это иногда и практикуется в делах об оскорблении общественной нравственности. Но тогда возникает риск натолкнуться на отчаянное сопротивление владельцев и посетителей дома. Это могло случиться и здесь. Единственное верное средство избежать шума — договориться с хозяйкой при помощи солидной суммы денег. — Но в данном случае этого делать, пожалуй, не стоит, — заметил Олдерсон. — У меня есть основания полагать, что хозяйка весьма расположена к интересующему вас человеку. По-моему, лучше рискнуть и попытаться застигнуть их врасплох. — Помимо руководителя операции, — пояснил он, — нам потребуется человека три или четыре. Один из них, после того как дверь отворят на звонок, войдет в переднюю, а остальные последуют за ним и окажут ему поддержку. Затем необходимо будет быстро произвести обыск, потребовав, чтобы были открыты все двери. Что касается слуг — если они там окажутся, — их нужно любым способом заставить молчать. Иногда это достигается посредством денег, иногда физической силой. Далее кто-нибудь из сыщиков под видом слуги легонько постучится в одну дверь, в другую, в третью (Батлер вместе с остальными агентами должен следовать за ним), и когда дверь откроют, можно будет установить, находится ли в комнате то лицо, которое они разыскивают. Если на стук не отворят, придется взломать дверь. Дом стоит в густонаселенном квартале, так что удрать из него можно только через парадный или черный ход, а там будут поставлены люди. Это был смело задуманный план, дававший возможность, невзирая на все препятствия, в суматохе незаметно увести Эйлин. Когда Батлеру изложили столь неприятную процедуру, он очень взволновался. Подумал было отказаться от этой затеи, ограничившись разговором с дочерью; надо сказать ей, что ему все известно и что ее запирательство бесцельно. А затем предложить ей выбор: Европа или исправительный пансион. Но отчасти из-за врожденной грубости собственной натуры, отчасти же из-за того, что горячий, необузданный нрав Эйлин невольно внушал ему опасения, Батлер в конце концов избрал другой путь. Он только предложил Олдерсону еще раз тщательно все обдумать и, как только будет установлено, что Эйлин или Каупервуд вошли в дом, сообщить ему. Он придет немедленно и с помощью сыщиков изобличит Эйлин. План был дикий и отвратительный, недостойный отца и нисколько не эффективный в смысле исправления заблудшей дочери. Насилие никогда до добра не доводит. Но Батлер этого не понимал. Он стремился напугать Эйлин, заставить ее путем сильной встряски осознать всю чудовищность ее поступка. Целая неделя прошла в ожидании, и наконец, когда нервы Батлера уже напряглись до предела, наступила развязки. Каупервуду к тому времени уже было предъявлено официальное обвинение, и он ожидал суда. Эйлин время от времени сообщала ему, как, по ее мнению, относится к нему ее отец. Свои догадки она строила, конечно, не на разговорах с Батлером — он держал себя с дочерью крайне замкнуто, не желая, чтобы она знала, как неустанно он хлопочет об окончательном крушении Каупервуда, — а на случайных замечаниях Оуэна, который делился услышанным с Кэлемом, а тот, ничего не подозревая, в свою очередь, пересказывал все это сестре. Так, например, она узнала, кто намечен кандидатом на пост окружного прокурора и какую он займет позицию в деле Каупервуда, ибо этот человек часто бывал у Батлеров дома и в конторе. Оуэн сказал Кэлему, что Шеннон, видимо, сделает все от него зависящее, чтобы «упечь» Каупервуда, и что, по словам «старика», это будет только справедливо. Она узнала еще, что ее отец хочет помешать Каупервуду вновь открыть свою контору, ибо это было бы незаслуженным снисхождением. — Да просто счастье будет, если общество наконец избавится от этого проходимца! — сказал как-то Оуэну Батлер, прочитав в газете заметку о борьбе, которую Каупервуд вел во всех судебных инстанциях. Оуэн потом спрашивал брата, не знает ли он, почему отец так ожесточен против Каупервуда. Но тот тоже ничего не понимал. Через Эйлин все эти разговоры доходили до Каупервуда. Так он услышал, что судья Пейдерсон, который должен был судить его, — старый приятель Батлера и что Стинера, вероятно, приговорят к тюремному заключению на срок, предусмотренный законом, но вскоре исхлопочут ему помилование. Каупервуд держался по-прежнему бодро. Он уверял Эйлин, что в финансовом мире у него есть могущественные друзья, которые в случае, если суд вынесет и ему обвинительный приговор, обратятся к губернатору с ходатайством о помиловании. Да и вообще он не думает, что будет осужден, так как обвинение недостаточно обосновано. Все дело в том, что политические воротилы, напуганные недовольством публики и подстрекаемые Батлером, решили отыграться на его шкуре. Вся эта история началась после получения Батлером анонимного письма. — Если бы не твой отец, радость моя, — говорил он Эйлин, — я бы мигом разделался с этим обвинением. Я убежден, что ни Молленхауэр, ни Симпсон лично против меня ничего не имеют. Правда, они хотят вырвать из моих рук конные железные дороги и, естественно, в первую очередь стремятся облегчить участь Стинера. Но если бы не твой отец, они, конечно, не зашли бы так далеко, не избрали бы меня своей жертвой. Вдобавок твой отец вертит этим самым Шенноном и всей прочей мелюзгой как ему заблагорассудится. В том-то вся и беда! А раз начав, они уже не могут остановиться. — Ах, я знаю! — отозвалась Эйлин. — Все это из-за меня! Если бы не я и не эти его подозрения, он бы, конечно, пришел тебе на помощь. Иногда мне кажется, что это я принесла тебе несчастье. Я уж не знаю, что и делать. Я готова даже не встречаться с тобой какое-то время, если это может помочь тебе, но сейчас, верно, уже ничем не поможешь. О, как я люблю тебя, Фрэнк, как люблю! Для тебя я готова на все! Какое мне дело до того, что думают или говорят люди. Я люблю тебя! — Тебе только так кажется! — пошутил он. — Понемногу разлюбишь! Найдутся другие. — Другие! — воскликнула Эйлин, и голос ее зазвучал презрительно и негодующе. — Теперь для меня не существует других. Мне нужен только ты, Фрэнк! Если ты когда-нибудь меня бросишь, я покончу с собой. Вот увидишь! — Не говори так. Эйлин! — рассердился Каупервуд. — Не хочу слушать глупости. Ничего ты с собой не сделаешь. Я тебя люблю, и ты знаешь, что я тебя не брошу. Но если бы ты теперь бросила меня, тебе было бы лучше. — О, какой вздор! — воскликнула она. — Бросить тебя! И я, по-твоему, на это способна? Но если ты меня бросишь, помни, что я тебе сказала! Клянусь, я так и сделаю. — Ну, полно, полно! Замолчи! — Клянусь тебе! Клянусь моей любовью! Клянусь твоим благополучием и моим собственным счастьем! Я наложу на себя руки. Мне нужен только ты! Каупервуд встал. Страсть, которую он разбудил в ней, теперь пугала его. Эта страсть была опасна и неизвестно куда могла завести их обоих. Был пасмурный ноябрьский день, когда Олдерсон, извещенный дежурным сыщиком о приходе Эйлин и Каупервуда в дом на Шестой улице, появился в конторе Батлера и предложил ему немедленно ехать с ним. Но даже теперь Батлер с трудом верил, что найдет свою дочь в таком месте. Какой позор! Какой ужас! Что он скажет ей? И хватит ли у него сил ее упрекать? Как ему быть с Каупервудом? Его большие руки тряслись при мысли о том, что ему предстояло. За несколько домов до места назначения показался другой сыщик, дежуривший на противоположной стороне улицы. Батлер и Олдерсон вышли из пролетки и вместе с ним направились к подъезду. Было уже около половины пятого. В одной из комнат дома, к которому они подошли, в это время сидел Каупервуд без сюртука и жилета и слушал сетования Эйлин. Комната, где они встречались, была очень типична для царившего в те времена мещанского представления о роскоши. Большинство «роскошных» гарнитуров мебели, выпускавшихся на рыноктогдашними мебельными фабрикантами, представляли собой имитацию стиля одного из Людовиков. Портьеры, как правило, были тяжеловесные, расшитые серебром или золотом и чаще всего красные. Ковры отличались яркостью узора и густым бархатистым ворсом. Мебель, из какого бы дерева ее ни делали, поражала своей тяжеловесностью, громоздкостью и обилием украшений. В упомянутой нами комнате стояла тяжелая ореховая кровать, гардероб, комод и туалетный столик из того же дерева. Над столиком висело большое прямоугольное зеркало в золоченой раме. На стенах, в таких же золоченых рамах, красовалось несколько безвкусных пейзажей и изображений нагих женщин. Золоченые стулья были обиты парчой, расшитой пестрыми цветами и приколоченной блестящими медными гвоздиками. На толстом, розоватом брюссельском ковре были вытканы большие голубые корзины с цветами. В общем, комната производила впечатление светлой, пышно обставленной и немного душной. — Знаешь, мне иногда становится страшно, — говорила Эйлин. — Ведь вполне возможно, что отец следит за нами. Я уже не раз спрашивала себя, что делать, если он застигнет нас здесь. Тут уж никакая ложь не поможет. — Да, конечно, — согласился Каупервуд. Он, как всегда, находился во власти ее очарования. У нее были такие прелестные, нежные руки, такая стройная и белая шея; рыжевато-золотистые волосы ярким ореолом окружали голову, большие глаза сверкали. Она вся была исполнена цветущей, женственной прелести — увлекающаяся, неуравновешенная, романтическая и… восхитительная. — Чему быть, того не миновать, — проговорил Фрэнк. — И все-таки я уж сам думал, не лучше ли нам на время воздержаться от встреч. Собственно, это письмо должно было научить нас уму-разуму. Он обнял Эйлин, которая стояла у туалета, приводя в порядок волосы, и поцеловал ее прелестные губы. — Кокетка ты у меня, Эйлин, но милей тебя нет никого на свете, — шепнул он ей на ухо.В это самое время Батлер и второй сыщик притаились в стороне от входной двери, а Олдерсон, принявший на себя руководство операцией, дернул звонок. Дверь открыла чернокожая служанка. — Что, миссис Дэвис дома? — любезным тоном осведомился Олдерсон, называя фамилию хозяйки. — Я хотел бы ее повидать. — Войдите, пожалуйста, — отвечала ничего не подозревавшая служанка, указывая на дверь приемной справа от входа. Олдерсон снял мягкую широкополую шляпу и вошел. Не успела служанка уйти наверх за хозяйкой, как он вернулся в прихожую и впустил Батлера и двух сыщиков. Никем не замеченные, они теперь уже вчетвером вошли в приемную. Через несколько минут появилась сама «мадам», как принято называть хозяек таких заведений. Высокая, плотная и довольно приятная с виду блондинка, с голубыми глазами и приветливой улыбкой. Частое общение с полицией и разнузданная жизнь в молодые годы развили в ней осторожность и недоверие к людям. Зарабатывая свой хлеб способами, ничего общего не имевшими с честным трудом, и не зная другого ремесла, она прежде всего была озабочена тем, чтобы жить в мире с полицией и клиентами, как, впрочем, и любой коммерсант в любой другой отрасли. На ней был просторный пеньюар в голубых цветах, схваченный у ворота голубым бантом так, что сквозь вырез проглядывало дорогое белье. Средний палец ее левой руки украшало кольцо с большим опалом, в уши были продеты ярко-голубые бирюзовые серьги. Желтые шелковые туфельки с бронзовыми пряжками довершали ее туалет. В общем, внешность хозяйки вполне гармонировала с приемной, отделка и обстановка которой состояли из обоев с золотыми цветами, кремового с голубыми разводами брюссельского ковра, гравюр, оправленных в массивные золоченые рамы и изображающих нагих женщин, и огромного, от пола до потолка, трюмо — тоже в золоченой раме. Нужно ли говорить, что Батлер до глубины души был потрясен этой атмосферой разврата, гибельные чары которой пленили, по-видимому, и его дочь. Олдерсон подал знак одному из сыщиков, и тот немедленно встал позади женщины, отрезав ей путь к отступлению. — Весьма сожалею, что потревожил вас, миссис Дэвис, — сказал Олдерсон, — но нам нужно видеть одну парочку, которая находится в вашем доме. Речь идет о девушке, бежавшей из дома. Никакого шума не будет, нам надо только найти ее и увести с собой. Миссис Дэвис побледнела и открыла рот. — Только не вздумайте кричать, — добавил он, заметив это. — Иначе мы вынуждены будем принять свои меры! Мои люди караулят дом со всех сторон. Никто отсюда выйти не может. Известен вам некий мистер Каупервуд? К счастью, миссис Дэвис не принадлежала к натурам слишком нервным или особо воинственным и к жизни относилась более или менее философски. В Филадельфии она еще не успела установить контакт с полицией и потому опасалась разоблачения. Что пользы кричать, подумала она. Дом все равно окружен, и поблизости нет никого, кто мог бы спасти эту пару. Хозяйка не знала их подлинных имен. Для нее они были мистер и миссис Монтегью. — Я не знаю такого человека, — взволнованно отвечала она. — Разве здесь нет рыжеволосой девушки? — спросил один из помощников Олдерсона. — И мужчины с каштановыми усами, одетого в серый костюм? Они пришли полчаса назад. Неужели вы их не заметили? — Во всем доме сейчас только одна пара, но я не знаю, те ли это, кого вы ищете. Если вам угодно, я попрошу их спуститься сюда. Только, ради бога, не поднимайте шума! — Ведите себя тихо, и никакого шума не будет, — отвечал Олдерсон. — Не волнуйтесь! Нам нужно только найти эту девушку и увести ее отсюда. Оставайтесь на месте. В какой они комнате? — Во втором этаже, вторая комната. Но, может быть, вы разрешите мне проводить вас? Так будет лучше. Я постучусь к ним и попрошу их выйти. — Нет, это мы сделаем сами. Оставайтесь здесь. Вам нечего бояться. Только оставайтесь на месте, — настойчиво повторил сыщик. Олдерсон жестом пригласил Батлера следовать за ним, но тот вдруг спохватился, что совершил большую ошибку, ввязавшись в это грязное дело. Что с того, если он вломится в комнату и заставит Эйлин выйти, раз ему нельзя убить Каупервуда? Достаточно, если ее заставят спуститься сюда. Она поймет, что ему все известно. Не стоит, решил он, обличать Каупервуда на людях. Он боялся этой сцены, боялся самого себя. — Пусть она сходит туда, — угрюмо произнес он, указывая на миссис Дэвис. — А вы только следите за нею. Скажите девушке, чтобы она спустилась ко мне. Сразу смекнув, что дело касается какой-то семейной трагедии, и надеясь, что теперь ей удастся благополучно вывернуться, миссис Дэвис тотчас же отправилась наверх; Олдерсон и его помощники следовали за ней по пятам. Подойдя к комнате, занятой Каупервудом и Эйлин, она легонько постучала в дверь. В это время они вдвоем сидели в большом кресле. Услышав стук, Эйлин побледнела и вскочила на ноги. Не будучи особенно нервной, она почему-то весь этот день предчувствовала беду. Взгляд Каупервуда мгновенно сделался жестким. — Не волнуйся, это, наверно, кто-нибудь из прислуги, — сказал он. — Я пойду открою. Он направился к двери, но Эйлин остановила его. — Подожди. — Немного успокоившись, она подошла к шкафу и, достав оттуда халат, накинула его на себя. Стук повторился. Тогда Эйлин чуть-чуть приотворила дверь. — Миссис Монтегью, — взволнованно, но стараясь овладеть собой, вымолвила миссис Дэвис, — внизу какой-то джентльмен спрашивает вас! — Меня?! — воскликнула Эйлин, побледнев еще сильнее. — Вы уверены, что меня? — Да, он сказал, что хочет вас видеть. С ним еще несколько человек. Мне кажется, там кто-то из ваших родственников. И Эйлин и Каупервуд мгновенно поняли, что происходит. Кто-то выследил их — Батлер или миссис Каупервуд, — скорее всего Батлер. Каупервуд прежде всего подумал о том, как защитить Эйлин. За себя, даже в эту минуту, он особенно не боялся. В нем было достаточно рыцарства, чтобы не дать страху взять над собою верх там, где дело касалось женщины. Не исключено, что Батлер пришел с намерением убить его, но он не испугался, даже не позволил себе остановиться на этой мысли, хотя оружия при нем не было. — Я оденусь и спущусь вниз, — сказал он, взглянув на бледное лицо Эйлин. — Ты оставайся здесь. И прошу тебя, не волнуйся, все будет в порядке. Только спокойно!.. Предоставь все мне. Я во всем виноват, я и распутаю это дело. — Он снял с вешалки пальто, шляпу и добавил: — Одевайся скорее, а я пойду вперед. Не успела дверь закрыться за миссис Дэвис, как Эйлин стала одеваться — торопливо, в страшной тревоге. Мозг ее работал, как мотор, запущенный на полную скорость. Может ли быть, что это отец? — спрашивала она себя. Нет, нет, это не он. Наверно, в доме есть другая женщина, которая и в самом деле носит фамилию Монтегью. Но если это все-таки отец — как великодушно, что он хранил ее тайну, не посвятил в нее никого из домашних. Он любил ее, она это знала. Для девушки, попавшей в такую историю, очень много значит, если дома ее любят, ласкают и балуют. А Эйлин любили, ласкали, баловали. Она не могла себе представить, чтобы отец способен был прибегнуть к грубому физическому воздействию по отношению к ней или к кому-то Другому. Но каково ей будет сейчас встретиться с ним, взглянуть ему в глаза. Образ отца, возникший в ее воображении, тотчас же подсказал ей, что нужно делать. — Нет, Фрэнк, — взволнованно шепнула она Каупервуду, — если это отец, то лучше пойти мне. Я знаю, как нужно говорить с ним. Мне он ничего не сделает. А ты оставайся здесь. Я не боюсь, право, нисколько не боюсь! Если ты мне понадобишься, я позову тебя. Фрэнк подошел к ней, взял в обе руки ее прелестное личико и серьезно посмотрел ей в глаза. — Не бойся ничего, — сказал он. — Я сойду вниз. Если это твой отец, уезжай с ним. Я уверен, что он ничего не сделает ни тебе, ни мне. А потом черкни мне в контору. Я буду там. Если я смогу быть тебе полезен, дай мне знать. Мы что-нибудь придумаем. Тебе незачем вступать в какие-либо объяснения. Не отвечай ему ничего. Он уже успел надеть сюртук и пальто и теперь стоял у двери со шляпой в руке. Эйлин была почти одета и торопливо застегивала платье, с трудом справляясь с рядом малиновых пуговок на спине. Каупервуд помог ей. Когда она была уже в шляпе и в перчатках, он еще раз повторил: — Разреши мне пойти вперед. Я хочу посмотреть, кто там. — Нет, прошу тебя, Фрэнк! — храбро запротестовала она. — Пусти меня вперед. Это отец, я знаю. Больше ведь некому! — В ту же минуту у нее мелькнула мысль, что Батлер привел с собой сыновей, но она тотчас ее отогнала. Нет, этого не может быть. — Ты придешь, если я позову тебя, — продолжала она. — Мне он ничего плохого не сделает, если же пойдешь ты, он сразу впадет в ярость. Пусти меня, а сам оставайся здесь в дверях. Если я тебя не позову, значит, все в порядке. Хорошо? Ее прекрасные руки лежали у него на плечах, пока он напряженно обдумывал эти слова. — Хорошо, — сказал он наконец, — но я пойду вслед за тобой. Они подошли к порогу, и он открыл дверь. В коридоре стоял Олдерсон со своими двумя помощниками, а в нескольких шагах от них миссис Дэвис. — В чем дело? — резко обратился Каупервуд к Олдерсону. — Там внизу дожидается джентльмен, который хочет видеть эту даму, — отвечал сыщик. — Надо полагать, это ее отец, — спокойно присовокупил он. Каупервуд посторонился, пропуская Эйлин; она быстро прошла мимо, взбешенная тем, что эти люди проникли в ее тайну. К ней сразу вернулась вся ее отвага. Она была возмущена: как смел отец выставить ее на посмеяние? Каупервуд двинулся было за нею. — Я бы не советовал вам идти туда сейчас, — благоразумно предостерег его Олдерсон. — Это ее отец. Ее фамилия Батлер, не так ли? Вы его мало интересуете, он хочет забрать свою дочь. Каупервуд тем не менее пошел дальше и остановился на площадке. — Зачем ты сюда пришел, отец? — донесся до него голос Эйлин. Ответа Батлера он не расслышал и вдруг успокоился, вспомнив, как сильно этот человек любит дочь. Очутившись лицом к лицу с отцом, Эйлин хотела было заговорить вызывающе и с негодованием, но взгляд его серых, глубоко сидящих глаз, смотревших на нее из-под косматых бровей, свидетельствовал о такой муке, о таком великом горе, что она, невзирая на свое озлобление, как-то сникла. Все это было слишком печально. — Никогда я не думал найти тебя в таком месте, дочка, — проговорил Батлер. — Я полагал, что ты больше уважаешь себя. — Голос его дрогнул и прервался. — Я знаю, с кем ты здесь, — продолжал он, грустно покачивая головой. — Негодяй! Я с ним еще разделаюсь! По моему приказу за тобой все время следили. И зачем только я дожил до такого позора! До такого позора!.. Немедленно поедем домой! — В том-то и беда, отец, что ты нанял людей выслеживать меня, — начала Эйлин. — Мне казалось, что ты должен бы… Она умолкла, потому что он поднял руку каким-то странным, страдальческим, но вместе повелительным жестом. — Замолчи! Замолчи! — крикнул он, мрачно глядя на нее из-под насупленных седых бровей. — Я не выдержу… Не вводи меня в грех! Мы еще в стенах этого заведения. И он тоже еще здесь! Немедленно поедем домой! Эйлин поняла. Он говорил о Каупервуде. Это ее испугало. — Я готова, — взволнованно вымолвила она. Старик Батлер, подавленный горем, пошел вперед. Он знал, что никогда в жизни ему не забыть этих тяжких минут.
Глава 37
Несмотря на всю свою ярость, всю свою решимость расправиться с Каупервудом любыми средствами, Батлер был так ошеломлен и потрясен поведением Эйлин, что стал словно совсем другим человеком, чем сутки назад. Она держала себя смело, более того, вызывающе, а он был уверен, что, захваченная на месте преступления, она падет духом. И вот теперь, когда они наконец выбрались из злополучного дома, он, к вящему своему отчаянию, обнаружил, что пробудил в девушке боевой задор, весьма схожий с тем, который обуревал его самого. У Эйлин характер был не менее твердый, чем у него и у Оуэна. Она сидела рядом с отцом в наемной пролетке, которая увозила их домой, и лицо ее то заливалось краской, то бледнело под наплывом проносившихся в ее голове мыслей. Раз скрывать уже было нечего, то Эйлин решила не отступаться, открыто заявить отцу о связи с Каупервудом, о своей любви к нему, о своих взглядах на такого рода отношения. Что ей за дело до того, о чем думает сейчас отец, говорила она себе. Снявши голову, по волосам не плачут! Она любит Каупервуда; в глазах отца она навеки обесчещена. Так не все ли равно, что он еще скажет? Несмотря на свою отцовскую любовь, он пал так низко, что шпионил за нею, опозорил ее в глазах посторонних людей — сыщиков и в глазах Каупервуда. Разве могла она после этого питать к нему прежние чувства? Он совершил ошибку. Совершил бессмысленный и недостойный поступок, которому все равно не было оправдания, как бы дурно ни поступила она сама. Чего он достиг тем, что осрамил ее, сорвал завесу с сокровеннейших тайников ее души, да еще в присутствии чужих — и кого? — сыщиков! О, какой мукой были для нее эти несколько шагов от спальни до приемной! Никогда она не простит отца — никогда, никогда, никогда! Он убил ее любовь к нему. Отныне между ними завяжется беспощадная борьба. И в то время как они ехали в полном молчании, ее маленькие кулаки злобно сжимались и разжимались, ногти впивались в ладони, губы складывались в холодную усмешку. Вопрос, приносит ли пользу грубое насилие, никем еще не разрешен. Насилие так неотъемлемо связано с нашим бренным существованием, что приобретает характер закономерности. Более того, возможно, что именно ему мы обязаны зрелищем, именуемым жизнью, и это, пожалуй, даже можно доказать научно. Но тогда какая же цена всему этому? Чего стоит такое «зрелище»? Чего, в частности, стоит сцена, разыгравшаяся между Эйлин и ее отцом? Старый Батлер ехал и думал: единственное, что теперь предстоит ему, — это поединок с дочерью, который бог весть куда заведет их обоих. Что он может с ней поделать? Вот они едут под свежим впечатлением этой страшной сцены, а она не говорит ни слова. Она даже посмела спросить его, зачем он туда пришел! Как ему справиться с ней, если ее не сломило и то, что ее поймали на месте преступления? Его хитрый замысел, казавшийся таким удачным, в нравственном смысле полностью провалился. Они подъехали к дому, и Эйлин вышла из пролетки. Старый Батлер, слишком потрясенный, чтобы сразу предпринимать какие-то дальнейшие действия, решил поехать к себе в контору. Но по дороге остановил пролетку и пошел пешком — поступок для него необычный, ибо уже много лет он не знал, что значит идти в тяжком раздумье. Поравнявшись с католической церковью, где шла служба, он вошел туда и стал молить небо просветить его. Полумрак, неугасимая лампада перед дарохранильницей и высокий белый алтарь, уставленный свечами, несколько умиротворили его взволнованные чувства. Недолго пробыв в церкви, он отправился домой. Эйлин не вышла к обеду, и старику кусок не шел в горло. Запершись в своем кабинете, он снова стал думать, думать и думать. Мысль об Эйлин, застигнутой в непотребном доме, не давала ему покоя. Подумать только, что Каупервуд осмелился привести в такое место Эйлин, балованное дитя старых Батлеров! Но молитвы молитвами, а все-таки, несмотря на свою неуверенность, сопротивление Эйлин и мучительность всей этой истории, он должен вызволить дочь из беды. Ей необходимо на время уехать, отказаться от Каупервуда. По всей вероятности, его засадят в тюрьму, и на свете едва ли найдется человек, который бы в большей мере заслуживал такой участи! Уж он, Батлер, постарается привести в движение все пружины. Это в конце концов его долг. Чтобы добиться своего, ему достаточно намекнуть в судебном мире, что он этого хочет. Он не станет прибегать к подкупу присяжных заседателей, это было бы преступлением, но проследит, чтобы дело было освещено надлежащим образом. А уж когда Каупервуду будет вынесен приговор, никто, кроме бога, ему не поможет. Его не спасут тогда никакие ходатайства друзей-финансистов. Судьи всех инстанций прекрасно понимают свою выгоду. Они соответственно взглянут на дело в угоду тем, кто в данный момент стоит у власти, — этого он сумеет добиться. Тем временем Эйлин усиленно старалась разобраться в создавшемся положении. Несмотря на обоюдное молчание по пути домой, она знала, что ей предстоит разговор с отцом. Это неизбежно. Он потребует, чтобы она куда-нибудь уехала. Вероятнее всего, он в той или иной форме снова поднимет разговор о поездке в Европу — Эйлин поняла теперь, что приглашение миссис Молленхауэр было очередной хитростью отца, — и ей надо решать, поедет ли она или нет. Неужели она покинет Каупервуда как раз теперь, когда ему предстоит суд? Нет, ни за что! Она должна знать, что с ним происходит. Лучше уж ей убежать из дому — к кому-нибудь из родных, друзей, к чужим людям, наконец, — и попросить приюта. У нее есть немного денег. Отец время от времени давал ей довольно крупные суммы. Она возьмет кое-что из одежды и скроется. Домашние, конечно, попросят ее вернуться, после того как некоторое время проживут без нее. Мать совсем обезумеет. Нора, Кэлем и Оуэн будут вне себя от печали и изумления, а отец — ну что говорить об отце, достаточно на него посмотреть. Может быть, ее побег заставит его образумиться. Невзирая на свою взбалмошность, Эйлин была гордостью и душой всего дома и отлично это знала. Вот в каком направлении работал ее мозг, когда через несколько дней после унизительного разоблачения отец позвал ее к себе в кабинет. В этот день он рано вернулся из конторы, рассчитывая застать Эйлин дома и с глазу на глаз поговорить с нею. Расчет его оказался правильным. Последнее время у нее не было никакого желания выезжать, — слишком напряженно ждала она всяких неприятностей. Она только что отправила Каупервуду письмо, прося его встретиться с нею завтра на Уиссахиконе, даже если он убедится, что за ним следят. Она должна с ним повидаться. Отец, писала она, ничего пока не сделал, но наверняка попытается что-нибудь предпринять. Об этом ей и нужно поговорить с Фрэнком. — Я все время думаю о тебе, Эйлин, и о том, что нам делать, — без всяких предисловий начал Батлер, как только они очутились вдвоем в его кабинете. — Ты на пути к погибели. Ужас охватывает меня при мысли о том, как ты губишь свою бессмертную душу. Я хочу помочь тебе, дитя мое, покуда еще не поздно. Все это время я не переставал упрекать себя и думал, может, я или твоя мать что-нибудь сделали неверное или, напротив, что-нибудь упустили в твоем воспитании, и вот ты попала в такую беду. Конечно же, дитя мое, это лежит на моей совести. Ты видишь перед собой человека с разбитым сердцем. Мне уж никогда не поднять головы. Какой позор! Какой срам! Зачем только я дожил до этого! — Но дай мне сказать, отец, — прервала его Эйлин, содрогаясь при мысли, что ей предстоит выслушать длинную проповедь относительно ее долга перед богом, церковью, семьей, отцом и матерью. Ей и самой все это прежде казалось очень важным, но общение с Каупервудом, придерживавшимся других взглядов, изменило ее воззрения. Они вдвоем не раз обсуждали эти вопросы — о родителях, детях, мужьях, женах, братьях и сестрах. Каупервудовская позиция «не вмешиваться в естественный ход событий» глубоко проникла в ее душу и перестроила все ее миросозерцание. Эйлин смотрела на вещи сквозь призму его жестокой, прямолинейной формулы: «Мои желания — прежде всего». Он сожалел, что между людьми возникают мелкие разногласия, приводящие к пререканиям, ссорам, враждебности и разрыву, но считал, что бороться с этим невозможно. Один человек перерастает другого. Взгляды людей меняются — отсюда перемены во взаимоотношениях. Что же до моральных устоев, то у одних они есть, а у других нет, и ничего с этим не поделаешь. Он лично в половой связи отнюдь не видел ничего дурного. Если мужчина и женщина подходят друг другу, то их отношения чисты и прекрасны. Эйлин — его жена, невенчанная, но любимая и любящая — была не только не менее хороша и чиста, чем любая другая женщина на свете, но лучше и чище большинства из них. Человек живет при определенном общественном строе, в определенных бытовых условиях и сталкивается с определенными воззрениями своего времени. Для того чтобы добиться успеха в обществе, никого не оскорбляя, чтобы облегчить себе жизненный путь и все прочее, необходимо — пусть чисто внешне — считаться с общепринятыми нормами. Больше ничего не требуется. Держи только ухо востро! А попался — борись молча, стиснув зубы. Он так и поступал сейчас, в пору финансовых затруднений. Так он готов был поступить и в тот день, когда их застигли на Шестой улице. Вся эта житейская мудрость всплыла сейчас в мозгу Эйлин, слушавшей наставления отца. — Дай же мне сказать, отец! Я люблю мистера Каупервуда, все равно, как если бы я была его женой. Я и буду его женой, когда он добьется развода с миссис Каупервуд. Ты не хочешь понять нас. Он любит меня, и я его люблю. Я ему необходима. Батлер смотрел на нее каким-то странным, недоумевающим взглядом. — Развод, ты говоришь? — начал он, думая о догматах католической церкви. — Он разведется с женой, бросит детей — и все ради тебя? Ты ему необходима, вот как? — саркастически добавил он. — Ну, а что будет с его женой и детьми? Им, надо полагать, он не нужен, а? Что это за разговоры такие?! Эйлин вызывающе тряхнула головой. — И все же это так, — отвечала она. — Только ты не хочешь понять! Батлер не верил своим ушам. Никогда в жизни он не слышал ничего подобного. Изумление и гнев охватили его. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях политики и коммерции, но романтика — в этом он ничего не смыслил. Подумать только, его дочь — католичка — и так рассуждает. И у кого она нахваталась подобных представлений, разве только у самого Каупервуда с его коварным, все растлевающим умом! — Давно ли у тебя, дитя мое, такие взгляды? — неожиданно спокойным и ровным голосом осведомился он. — И откуда? Дома ты ничего подобного слышать не могла, за это я ручаюсь. То, что ты говоришь, бред сумасшедшего. — Ах, оставь, отец! — вспылила Эйлин, убедившись, сколь безнадежно спорить со стариком о таких вещах. — Ведь я не ребенок. Мне двадцать четыре года. Ты ничего не понимаешь: мистер Каупервуд не любит свою жену. Он постарается получить развод и тогда женится на мне. Я его люблю, и он меня любит, вот и все! — Вот и все? Отлично, — повторил Батлер, принимая непреклонное решение так или иначе образумить эту девчонку. — Значит, ты и не думаешь считаться с его женой и детьми? А то, что он скоро, сядет в тюрьму, тоже для тебя ничего не значит, надо полагать? Когда он наденет полосатую куртку, ты, вероятно, будешь любить его по-прежнему, а может быть, и больше? — (Старик был очень хорош, когда говорил с издевкой.) — Ну что ж, такое счастье тебе, пожалуй, обеспечено! Эйлин вспыхнула. — Конечно, я так и знала! — злобно выкрикнула она. — Ты только об этом и мечтаешь! Я знаю, чего ты добиваешься! И Фрэнк знает. Ты хочешь упечь его в тюрьму за преступления, которых он не совершал. И все из-за меня! О, я прекрасно понимаю! Но все напрасно. Это тебе не удастся! Он умнее и лучше, чем ты думаешь, и из всех твоих стараний ровно ничего не выйдет! Он опять выплывет! Ты хочешь покарать его за меня, но ему от этого ни жарко, ни холодно. Так или иначе, я выйду за него замуж. Я люблю его, я буду его ждать и стану его женой! А ты можешь поступать, как тебе угодно! Вот и все! — Ты станешь его женой? — с изумлением и несколько растерянно повторил Батлер. — Вот как? Ты будешь его ждать и выйдешь за него замуж? Ты отнимешь его у жены и детей, возле которых, будь в нем хоть капля порядочности, он сейчас должен был бы находиться, вместо того чтобы таскаться за тобою? Ты будешь его женой? Ты не постыдишься покрыть позором отца, и мать, и всю семью? И ты смеешь говорить это в глаза мне, который воспитал, выходил тебя, сделал из тебя человека? Чем была бы ты сейчас, если бы не я и не твоя бедная мать, эта неутомимая труженица, которая из года в год заботилась о тебе, старалась устроить твою жизнь? Но ты, надо полагать, умнее нас! Ты знаешь жизнь лучше меня, лучше всех, кто мог бы дать тебе добрый совет. Я растил тебя, как настоящую леди, и вот благодарность. Я, оказывается, ничего не смыслю, а ты твердишь мне о своей любви к грабителю, растратчику, банкроту, лжецу, вору, будущему арестанту… — Отец! — решительным тоном прервала его Эйлин. — Я не желаю этого слушать. Все, что ты о нем сказал, неправда! Я не хочу больше оставаться здесь! Она направилась к двери, но Батлер вскочил и преградил ей дорогу. Жилы на его лбу вздулись, а лицо побагровело от ярости. — Погоди, мои счеты с ним еще не кончены, — продолжал он, не обращая внимания на ее порыв уйти и почему-то убежденный, что она в конце концов поймет его. — Я с ним еще разделаюсь, и это так же верно, как то, что меня зовут Эдвард Батлер! Ведь есть же закон в нашей стране, и я добьюсь, чтобы с ним поступили по закону! Я ему покажу, как втираться в порядочные дома и красть детей у родителей! Он умолк, чтобы перевести дух, а Эйлин, побледнев, в упор смотрела на него. Как смешон порою ее отец! До чего же он отсталый человек по сравнению с Каупервудом. Подумать только: он говорит, что Каупервуд пришел к ним в дом и украл ее у родителей, когда она сама с такой готовностью пошла за ним! Какой вздор! Но стоит ли спорить? Чего она добьется, если будет стоять на своем? Эйлин замолчала и только пристально смотрела на отца. Но Батлер еще не выдохся. У него все кипело внутри, хотя он и старался сдержать свою ярость. — Мне очень жаль, дочка, — уже спокойнее продолжал он, решив, что она больше не находит возражений. — Гнев пересилил меня. Я вовсе не о том хотел говорить, когда звал тебя сюда. У меня совсем другое на уме. Я думал, что ты, может быть, захочешь теперь поехать в Европу поучиться музыке. Сейчас ты просто не в себе. Тебе необходим отдых. А для этого самое лучшее — переменить обстановку. Ты могла бы очень недурно провести там время. Если хочешь, с тобой может поехать Нора, а также твоя бывшая наставница — сестра Констанция. Ты ведь не станешь возражать против нее? При упоминании о поездке в Европу, да еще с сестрой Констанцией — музыка была явно приплетена для придания новизны старому варианту — Эйлин вскипела, но в то же время едва сдержала улыбку. Как нелепо и бестактно со стороны отца заводить разговор об этом после всех обвинений и угроз по адресу Каупервуда и ее, Эйлин. До чего же он недипломатичен в делах, которые близко его затрагивают. Просто смешно. Но она снова сдержалась и промолчала, понимая, что сейчас любые доводы бесполезны. — Не стоит говорить об этом, отец, — начала Эйлин, несколько смягчившись. — Я не хочу сейчас ехать в Европу. Не хочу уезжать из Филадельфии. Я знаю, что ты этого добиваешься, но сейчас и думать не могу о поездке. Мне нельзя уехать. Лицо Батлера вновь омрачилось. Чего она, собственно, хочет добиться своим упорством? Уж не надеется ли она переупрямить его, да еще в таком деле? Дикая мысль. Но все же он постарался овладеть собой и продолжал сравнительно мягко: — Это было бы самое лучшее для тебя, Эйлин! Не думаешь же ты оставаться здесь после… Он запнулся, так как у него чуть было не сорвалось «после того, что произошло». А он знал, как болезненно отнесется к этому Эйлин. Его собственное поведение, то, что он устроил на нее форменную облаву, так не соответствовало ее представлениям об отцовской заботе, что она, конечно, чувствовала себя оскорбленной. Но, с другой стороны, каким позором был ее проступок! — После той ошибки, которую ты совершила, — закончил он, — ты, верно, и сама пожелаешь уехать. Не захочешь же ты больше предаваться смертному греху. Это было бы противно всем законам — божеским и человеческим. Он страстно желал, чтобы в Эйлин наконец пробудилось сознание совершенного ею греха, безнравственности ее поступка. Но она была далека от этого. — Ты не понимаешь меня, отец! — с безнадежностью в голосе воскликнула Эйлин, когда он кончил. — Не способен понять. У меня свои взгляды, у тебя свои. И я ничего не могу с этим поделать! Если хочешь знать правду, я больше не верю в учение католической церкви. И этим все сказано. Едва Эйлин проговорила эти слова, как уже пожалела о них. Они нечаянно сорвались у нее с языка. На лице Батлера появилось выражение неописуемой скорби и отчаяния. — Ты не веришь в учение церкви? — переспросил он. — Нет… не совсем. Не так, как ты. Он покачал головой. — Лукавый овладел твоей душой! — сказал старик. — Мне ясно, дочь моя, что с тобой случилась ужасная беда. Этот Каупервуд погубил тебя, твое тело и душу. Нужно что-то предпринять. Я не хочу быть жестоким, но ты должна уехать из Филадельфии. Тебе нельзя здесь оставаться. Я этого не допущу. Поезжай за границу или к тетке в Новый Орлеан, куда-то уехать ты должна. Я не позволю тебе остаться здесь, это слишком опасно. Все на свете так или иначе выходит наружу. Того и гляди пронюхают газеты. Ты молода. У тебя вся жизнь впереди. Мне страшно за твою душу, но пока ты молода, пока ты полна жизни, ты еще можешь образумиться. Я буду непреклонен, это мой долг перед тобой и перед церковью. Ты должна изменить свое поведение. Должна расстаться с этим человеком. Расстаться навсегда. У него и в мыслях нет на тебе жениться, но если бы он даже захотел стать твоим мужем, это было бы преступлением перед богом и людьми. Нет, нет, этому не бывать! Он банкрот, мошенник, вор! Выйдя за него замуж, ты стала бы самой несчастной женщиной в мире! Он изменял бы тебе. Он не способен на верность. Я уж эту породу знаю! — Старик перевел дыхание; горе душило его. — Ты должна уехать, запомни твердо! Я говорю это, желая тебе добра, но требую повиновения. Я забочусь только о твоих интересах. Я тебя люблю, но уехать ты должна! Мне больно тебя отсылать, мне было бы приятнее, если б ты могла по-прежнему жить с нами. Никто больше меня не будет огорчен твоим отъездом. Но ты должна уехать. Постарайся устроить все так, чтобы матери твой отъезд не показался странным, но уехать ты должна, слышишь, должна! Он замолчал, глядя на Эйлин из-под косматых бровей грустным, но твердым взглядом. Она знала, что его решение неизменно. На лице старого Батлера застыло суровое, почти молитвенное выражение. Эйлин ничего не отвечала. Спорить она уже была не в состоянии. Все равно без толку. Но ехать… нет, она никуда не поедет. Это она знала твердо. Нервы ее были натянуты, как струны, и она стояла перед отцом бледная и решительная. — Так вот, купи необходимые вещи, — продолжал Батлер, не понимая того, что творилось в ее душе, — и собери все, что тебе потребуется. Скажи, куда ты решишь ехать, и приготовься, не мешкая, к отъезду. — Нет, отец, я не поеду, — проговорила Эйлин так же сурово и твердо, как отец. — Я не поеду! Никуда не поеду из Филадельфии! — Ты хочешь сказать, дочь моя, что отказываешь мне в повиновении, когда я прошу сделать то, что необходимо для твоего же блага? Правильно ли я тебя понял? — Да, — твердо отвечала Эйлин. — Я не поеду! Прости меня, но я не поеду! — Ты говоришь всерьез? — угрюмо и печально переспросил Батлер. — Да, отец, — так же угрюмо подтвердила Эйлин. — Тогда мне придется подумать о том, что предпринять, — сказал старик. — Ты все-таки дочь мне, какая бы ты ни была, и я не допущу, чтобы ты окончательно погубила себя неповиновением, отказом исполнить то, что является твоим священным долгом. Я дам тебе несколько дней на размышление, но все равно ты уедешь. Больше нам говорить не о чем. В этой стране все-таки существуют законы и меры воздействия на тех, кто эти законы нарушает. Я разыскал тебя, как ни больно мне это было, и я снова тебя разыщу, если ты вздумаешь меня ослушаться. Ты должна изменить свое поведение. Я не могу позволить тебе продолжать такую жизнь. Теперь тебе все понятно. Это — мое последнее слово. Откажись от этого человека, и тогда проси чего хочешь! Ты моя дочь, и я сделаю все на свете, лишь бы видеть тебя счастливой. Да и может ли быть иначе? Для чего мне еще жить, если не для моих детей! Ведь это для тебя, для вас всех я работал не покладая рук. Одумайся же, будь умницей! Разве ты не любишь своего старого отца? Я укачивал тебя, Эйлин, когда ты была еще крошкой и чуть ли не умещалась у меня на ладони. Я был тебе всегда хорошим отцом, ты не станешь этого отрицать. Посмотри на других девушек, твоих подруг. Разве кто-нибудь из них имел больше или хотя бы столько, сколько ты? Ты не пойдешь против моей воли, я уверен. Ты же любишь меня. Ведь ты любишь своего старого отца. Правда? Голос его задрожал, слезы навернулись на глаза. Он умолк и положил свою большую смуглую руку на плечо Эйлин. Ее расстроила его мольба, и она готова была смягчиться, тем более что знала, как безнадежны его усилия. Она не может отказаться от Каупервуда. Отец попросту не понимает ее. Он не знает, что такое любовь. Он, конечно, никогда не любил так, как любит она. Батлер продолжал ее увещевать, она же по-прежнему молча стояла перед ним. — Я рада была бы повиноваться тебе, — мягко, даже нежно проговорила она наконец. — Поверь, я сама была бы рада. Я люблю тебя, да, люблю. И хотела бы сделать по-твоему. Но я не могу, не могу. Я слишком люблю Фрэнка Каупервуда. Ты этого не понимаешь, не хочешь понять! При упоминании этого имени жесткая складка залегла у рта Батлера. Теперь он понял, что она одержима страстью и что его тщательно продуманная попытка воздействовать на нее потерпела крах. Значит, надо изобрести что-то другое. — Ну что ж, ладно! — произнес он с такой бесконечной грустью, что Эйлин не выдержала и отвернулась. — Поступай, как знаешь! Но хочешь ты или не хочешь, а уехать тебе придется. Другого выхода нет. Мне же осталось только молить бога, чтоб ты одумалась. Эйлин медленно вышла из комнаты, а Батлер подошел к письменному столу и опустился в кресло. — Вот беда-то, — прошептал он. — Как все запуталось!Глава 38
В нелегком положении очутилась Эйлин Батлер. Девушка, от природы менее отважная и решительная, не выдержав этих трудностей, отступила бы перед ними. Ведь, несмотря на обширный круг друзей и знакомых, Эйлин почти не к кому было прибегнуть в тяжелую минуту. В сущности, она не могла вспомнить никого, кто согласился бы без лишних расспросов приютить ее на сколько-нибудь продолжительный срок. У нее были приятельницы, замужние и незамужние, весьма расположенные к ней, но среди них не нашлось бы, пожалуй, ни одной по-настоящему ей близкой. Единственный человек, у которого она могла найти временное пристанище, была некая Мэри Келлиген, известная среди друзей под именем Мэйми; она когда-то училась вместе с Эйлин, а теперь сама была учительницей в одной из филадельфийских школ. Семья Келлигенов состояла из матери — миссис Кэтрин Келлиген, вдовы-портнихи (ее муж, специалист по передвижке домов, погиб лет десять назад при обвале стены), и двадцатитрехлетней дочери Мэйми. Они жили в двухэтажном кирпичном домике на Черри-стрит, близ Пятнадцатой улицы. Миссис Келлиген не была особенно искусна в своем ремесле, во всяком случае — в глазах семьи Батлеров, столь высоко поднявшихся по социальной лестнице. Эйлин время от времени поручала ей шитье простых домашних платьев, белья, капотов и пеньюаров, а также переделку старых своих туалетов, сшитых у первоклассной портнихи на Честнат-стрит. Эйлин бывала у Келлигенов потому, что когда-то, в лучшие дни этой семьи, вместе с Мэйми посещала школу при монастыре св. Агаты. Теперь Мэйми зарабатывала сорок долларов в месяц преподаванием в шестом классе одной из ближайших школ, а миссис Келлиген — в среднем около двух долларов в день, да и то не всегда. Занимаемый ими домик был их собственностью. Он не был заложен, но обстановка его красноречиво свидетельствовала о том, что доход обеих обитательниц не превышает восьмидесяти долларов в месяц. Мэйми Келлиген красотой не блистала и выглядела много хуже, чем некогда ее мать. Миссис Келлиген даже в свои пятьдесят лет была еще очень свежа, весела, жизнерадостна и обладала большим запасом добродушного юмора. Умом и темпераментом Мэйми тоже уступала матери. Она всегда была тихой и серьезной, что, может быть, отчасти объяснялось обстоятельствами ее жизни. Впрочем, она и от природы не отличалась ни живостью, ни женской привлекательностью. При всем том она была хорошей, честной девушкой и доброй католичкой, наделенной той своеобразной и роковой добродетелью, которая стольких людей приводила к разладу с внешним миром, то есть чувством долга. Для Мэйми Келлиген долг (вернее, соблюдение тех поучений и правил, которых она наслышалась и придерживалась с детства) неизменно стоял на первом месте и служил источником радости и утешения. Главными точками опоры для Мэйми среди странной и малопонятной жизни были: ее долг перед церковью; долг перед школой; долг перед матерью; долг перед друзьями и так далее. Миссис Келлиген, заботясь о Мэйми, нередко желала, чтобы у той было меньше чувства долга и больше женских прелестей, очаровывающих мужчин. Несмотря на то что ее мать была портнихой, Мэйми никогда не одевалась к лицу, а случись это, чувствовала бы себя не в своей тарелке. Башмаки у нее были всегда слишком большие и неуклюжие, юбки, даже сшитые из хорошей материи, отличались скверным покроем и как-то нелепо висели на ней. В те времена только что начали входить в моду яркие вязаные жакеты, очень красиво сидевшие на хороших фигурах. Увы, к Мэйми Келлиген это не относилось. Ее худые руки и плоская грудь в этой модной одежде выглядели еще более убого. Ее шляпы обычно смахивали на блин с почему-то воткнутым в него длинным пером и никак не гармонировали ни с ее прической, ни с типом лица. Мэйми почти всегда выглядела утомленной, но это была не столько физическая усталость, сколько прирожденная апатия. В ее серую жизнь романтический элемент вносила разве что Эйлин Батлер. Эйлин же привлекал в этот дом общительный характер матери Мэйми, безукоризненная чистота их бедного жилища, трогательная заботливость, с которой миссис Келлиген относилась к заказам Эйлин, и то, что обе они любили слушать ее игру на рояле. Девушка забегала к ним отдохнуть от шумных развлечений и поговорить с Мэйми Келлиген о литературе, которой они обе интересовались. Любопытно, что Мэйми нравились те же книги, что и Эйлин: «Джен Эйр», «Кенелм Чиллингли», «Трикотрин» и «Оранжевый бант». Время от времени Мэйми рекомендовала приятельнице последние новинки этого жанра, и Эйлин неизменно восхищалась ее вкусом. Потому-то в грудную минуту Эйлин и вспомнила о Келлигенах. Если отец вздумает ее притеснять и вынудит на время уйти из дому, она переберется к ним. Они ее примут, не вдаваясь ни в какие расспросы. Остальные члены семьи Батлеров почти не знали Келлигенов и никогда не вздумали бы искать там Эйлин. В уединении Черри-стрит ей нетрудно будет укрыться, и несколько недель никто не услышит о ней. Интересно, что Келлигенам, так же как и Батлерам, никогда бы и в голову не пришло, что Эйлин способна на предосудительный поступок. И если ей все же придется уйти из дому, то и те и другие объяснят это просто очередной ее причудой. С другой стороны, семья Батлеров в целом гораздо больше нуждалась в Эйлин, чем Эйлин — в ней. Присутствие Эйлин всегда способствовало хорошему настроению всех остальных, и пустоту, которая образуется с ее уходом, нелегко будет заполнить. Взять хотя бы старого Батлера: маленькая дочурка на его глазах превратилась в ослепительно красивую женщину. Он помнил, как она ходила в школу и училась играть на рояле, — по его мнению, то был верх изящного воспитания. Он видел, как менялись ее манеры, становясь все более светскими; она набиралась жизненного опыта, и это поражало его. Постепенно она научилась уверенно и остроумно судить о самых разных вещах, и он охотно прислушивался к ее словам. Она больше смыслила в искусстве и литературе, чем Оуэн и Кэлем, превосходно умела держать себя в обществе. Когда Эйлин выходила к столу, Батлер с восторгом смотрел на нее. Она была его детищем, и это сознание преисполняло старика гордостью. Разве не он обеспечивал ее деньгами для всех этих изящных туалетов? Он и впредь будет продолжать заботиться о ней. Не даст какому-то выскочке загубить ее жизнь. Он собирался и свое завещание составить так, чтобы в случае банкротства ее будущего мужа она не осталась без средств. «Вот это леди, так леди! — нередко восклицал он, добавляя с нежностью: — До чего же мы сегодня очаровательны!» За столом Эйлин обычно сидела подле него и ухаживала за ним. Это ему нравилось. Он и прежде, когда она была ребенком, всегда сажал ее возле себя. Мать тоже безмерно любила старшую дочь, а Кэлем и Оуэн проявляли к ней братскую нежность, такчто до сих пор Эйлин своей красотой и живым, веселым нравом воздавала за то, что получала от семьи, и семья это чувствовала. Стоило Эйлин отлучиться на день-два, и в доме воцарялась скука, даже еда выглядела менее аппетитной. Зато когда она возвращалась, все снова становились веселы и довольны. Эйлин это, конечно, сознавала. Теперь, когда она намеревалась уйти из дому и начать самостоятельную жизнь, лишь бы избегнуть этой ненавистной поездки, она черпала мужество в сознании своего значения для семьи. Еще раз обдумав все, что сказал ей отец. Эйлин решила действовать без промедления. На следующее же утро, после того как он ушел в контору, она оделась словно для прогулки и решила зайти к Келлигенам часов около двенадцати — в это время Мэйми как раз приходила домой завтракать. Разговор о своем намерении Эйлин решила завести как бы невзначай и, если они не станут возражать, немедленно перебраться к ним. Временами она задавала себе вопрос, почему Фрэнк, очутившись в столь тяжелом положении, не предложил ей бежать с ним куда-нибудь в далекие края. Но тут же отвечала себе, что он лучше знает, как поступать. Она была очень удручена посыпавшимися на нее напастями. Миссис Келлиген сидела дома одна и пришла в восторг, увидев Эйлин. Поговорив о городских новостях и не зная, как приступить к делу, которое привело ее сюда, Эйлин села за рояль и начала играть какую-то грустную пьесу. — Как вы чудесно играете, Эйлин! — сказала миссис Келлиген, легко впадавшая в сентиментальность. — Я наслаждаюсь, слушая вас. О, если бы вы почаще приходили к нам! Последнее время вас совсем не видно. — Я была очень занята, миссис Келлиген, — отвечала Эйлин. — Этой осенью у меня набралось столько всяких дел, что я минуты не могла урвать. Мои родные предлагали мне поехать в Европу, но я наотрез отказалась. Ах, боже мой! — вздохнула она, и пальцы ее снова забегали по клавишам, наигрывая печальную, романтическую мелодию. Дверь отворилась, и вошла Мэйми. Ее некрасивое лицо просияло при виде подруги. — Да это Эйлин Батлер! — воскликнула она. — Какими судьбами? И где ты так долго пропадала? Эйлин встала, и они расцеловались. — Ах, я была очень занята, Мэйми! Я только что говорила об этом с твоей мамой. А как ты поживаешь? Как идет работа? Мэйми с готовностью принялась рассказывать о всяких школьных неполадках: число учеников в классах все растет, работы с каждым днем становится больше. Покуда миссис Келлиген накрывала на стол, ее дочь прошла к себе в комнату, и Эйлин последовала за ней. Мэйми начала приводить в порядок прическу перед зеркалом, а Эйлин в задумчивости смотрела на нее. — Что с тобой сегодня, Эйлин? — спросила Мэйми. — У тебя такой вид… Она не договорила и еще раз пристально взглянула на подругу. — Какой же именно? — переспросила Эйлин. — Как тебе сказать? То ли неуверенный, то ли огорченный. Я никогда не видела тебя такой. Что случилось? — Ничего, — ответила Эйлин. — Просто я задумалась. Она стояла у окна, выходившего во дворик, и спрашивала себя, сможет ли она долго прожить здесь. Домишко такой крохотный, обстановка такая убогая… — Нет, что-то с тобой неладно сегодня. Эйлин! — заметила Мэйми и, подойдя ближе, заглянула ей в глаза. — На тебе лица нет! — Меня мучает одна мысль, — сказала Эйлин, — вот я все думаю и думаю. И не знаю, как мне быть, в этом вся беда. — О чем ты? — спросила Мэйми. — Что с тобой творится? И почему ты не хочешь мне сказать? — Я скажу, но не сейчас. — Эйлин немного помолчала. — Как ты думаешь, твоя мама ничего бы не имела против, если бы я немного пожила у вас? — вдруг спросила она. — По некоторым причинам мне нужно на время уйти из дому. — Как ты можешь спрашивать, Эйлин! — воскликнула подруга. — Против!.. Ты прекрасно знаешь, что она будет в восторге и я тоже. Ах, Эйлин, милая, ты в самом деле хочешь побыть у нас? Но что заставляет тебя уйти из дому? — Вот этого-то я и не могу тебе открыть до поры до времени. И не столько из-за тебя, сколько из-за твоей мамы. Понимаешь, я не уверена, как она на это посмотрит, — добавила Эйлин. — Ты меня сейчас не расспрашивай. Мне нужно подумать. Ах, боже мой!.. Но я правда хочу переехать к вам, если вы разрешите. Ты сама скажешь маме или мне поговорить с ней? — Нет, конечно, я скажу сама, — отвечала Мэйми, пораженная таким оборотом событий. — Но, право, это даже смешно — спрашивать ее! Я заранее знаю, что она скажет, да и ты тоже. Тебе надо только съездить за вещами. Вот и все! Мама ничего и спрашивать не станет, если ты сама не пожелаешь ей рассказать. Мэйми так и загорелась от радости. Ей очень хотелось подольше насладиться обществом подруги. Эйлин задумчиво посмотрела на нее, понимая, почему она пришла в такой восторг и почему, вероятно, будет рада и ее мать. Она внесет свежую струю в их однообразное существование. — Но вы никому не должны говорить, что я у вас, понимаешь? Это секрет для всех и прежде всего — для моих родных. Поверь, что у меня есть на то причины, и очень веские; сейчас я еще не могу тебе сказать, в чем дело. Так ты обещаешь молчать? — Ну, конечно! — с готовностью согласилась Мэйми. — Но ведь ты не собираешься навсегда уйти из дому, Эйлин? — тревожно, хотя и не без любопытства, добавила она. — Ах, я, право, ничего не знаю, знаю только, что мне необходимо на время уйти. Вот и все! Она замолчала, и Мэйми снова оторопело взглянула на подругу. — Да! — вырвалось у нее. — Видно, на свете еще не перевелись чудеса! Но я так рада, что ты поживешь у нас! О маме уж и говорить нечего. И, конечно, мы будем молчать, раз ты этого хочешь. У нас никто не бывает, а если кто и придет, ты можешь не показываться. Мы тебя устроим в большой комнате рядом с моей. Ах, как это будет чудесно! Я прямо в восторге! — Молоденькая учительница заметно оживилась. — Пойдем скорее, обрадуем маму. Эйлин на мгновение заколебалась: в эту минуту она еще не была уверена, что поступает правильно, но в конце концов они обе спустились вниз. У самой двери Эйлин слегка отступила, пропуская вперед подругу, и та бросилась к матери со словами: — Ах, мама, слушай, что я тебе скажу! Эйлин немного поживет у нас. Только она не хочет, чтобы об этом знали. Переедет она в ближайшие дни. Миссис Келлиген с сахарницей в руках повернулась к гостье и посмотрела на нее столь же удивленно, сколь и радостно. Ее разбирало любопытство, почему Эйлин вздумала вдруг переехать к ним и зачем ей понадобилось уходить из семьи. С другой стороны, она так любила ее, что не могла не ощутить искренней и большой радости при мысли об этом. Да и что тут такого? Разве дочь знаменитого Эдварда Батлера не взрослая, самостоятельная женщина, везде желанная представительница столь преуспевающей семьи? Миссис Келлиген была чрезвычайно польщена намерением Эйлин поселиться у них, каковы бы ни были обстоятельства, которые ее к этому побуждали. — Не понимаю, Эйлин, как это ваши родители отпускают вас. Но у нас вы все равно будете желанной гостьей. Оставайтесь, сколько вам угодно, хоть навсегда. Она радушно улыбалась. Подумать только, Эйлин Батлер просит позволения переехать к ней! Теплота, с которой миссис Келлиген ее приветствовала, и восторг самой Мэйми заставили Эйлин вздохнуть с облегчением. Затем она подумала, что ее пребывание в доме повлечет за собой лишние расходы для семьи. — Я буду, конечно, вносить свою долю денег, если перееду к вам, — сказала она, обращаясь к миссис Келлиген. — Ах, какой вздор. Эйлин! — воскликнула Мэйми. — Я этого не допущу. Ты переедешь к нам и будешь моей гостьей. — Нет, это невозможно. Если вы не позволите мне платить, я не перееду! — запротестовала Эйлин. — Вы должны согласиться. Она знала, что мать и дочь не в состоянии содержать ее. — Хорошо, хорошо, не будем сейчас говорить об этом, — вмешалась миссис Келлиген. — Переезжайте, когда вам угодно, и оставайтесь, тоже сколько вам угодно. Достань-ка чистые салфетки, Мэйми! Эйлин осталась завтракать, но вскоре ушла на свидание с Каупервудом, очень довольная, что главного затруднения более не существует. Теперь она свободна и может приехать сюда, когда только ей вздумается. Оставалось лишь собрать кое-что из вещей, а то и просто явиться, ничего не взяв с собой. Возможно, Фрэнк что-нибудь ей посоветует. Каупервуд между тем не делал попыток снестись с Эйлин после того злополучного дня, когда они были застигнуты в доме свиданий, но ждал письма от нее, которое и не замедлило прийти. Как всегда, это было длинное послание, полное надежд, любви и задора, в котором она повествовала обо всем, что происходило у нее в семье, и делилась своими планами ухода из дому. Последнее немало озадачило и обеспокоило Каупервуда. Одно дело — Эйлин в лоне семьи, всеми любимая, окруженная заботой, и другое — Эйлин одинокая, оставленная на его, Каупервуда, попечение. Ему никогда не приходило в голову, что она может уйти из дому, прежде чем он будет готов ее принять. Если она решится на это сейчас, могут возникнуть весьма неприятные осложнения. Тем не менее он любил ее, любил страстно и готов был на все для ее счастья. Содержать ее должным образом он мог бы даже теперь, если, конечно, его не посадят в тюрьму; впрочем, он и оттуда сумеет позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась. И все-таки будет гораздо лучше, если удастся уговорить ее остаться дома до окончательного выяснения его судьбы. Он ни минуты не сомневался в том, что, как бы ни обернулись ближайшие события, со временем он выпутается из всех затруднений и снова станет состоятельным человеком. Тогда он добьется развода и женится на Эйлин. Если же из этого ничего не выйдет, он куда-нибудь уедет с нею, а в таком случае, может быть, даже лучше, если она немедленно уйдет из семьи. Но, с другой стороны, его дела так запутаны, а тут еще розыски, которые, несомненно, начнет Батлер, — все это чревато опасностями. Старик способен открыто обвинить его в похищении дочери. И Каупервуд решил уговорить Эйлин остаться дома, на время прекратить встречи и переписку с ним и, более того, уехать за границу. К ее возвращению он сумеет поправить свои дела, да и она успокоится, а сейчас они должны руководствоваться прежде всего доводами рассудка. С этими мыслями он отправился на свидание, которое она назначила ему в письме, хотя и считал это несколько рискованным. — А будешь ли ты чувствовать себя там хорошо? — спросил он, выслушав ее описание жилища Келлигенов. — Уж очень все это отдает бедностью! — Да, но я их искренне люблю, — отвечала Эйлин. — И ты уверена, что они сумеют молчать? — О, конечно! В этом я уверена, совершенно уверена. — Ну что ж, — заключил он, — тебе виднее. Я ничего не хочу тебе навязывать, но на твоем месте я бы счел за благо послушаться отца и уехать на некоторое время. Его это успокоит, а я буду ждать тебя здесь. Время от времени мы могли бы даже писать друг другу. Услышав это. Эйлин нахмурилась. Она любила его так страстно, что одна мысль о разлуке была для нее, как нож в сердце. Ее Фрэнк останется тут, в беде, возможно, под судом, а она уедет! Ни за что! Неужели он не любит ее так сильно, как она его? Как может он предлагать что-либо подобное? Да и любит ли он ее вообще? — спрашивала она себя. Уж не хочет ли он бросить ее как раз в то время, когда она собирается сделать шаг, который должен еще больше их сблизить? Глаза ее затуманились, она была жестоко уязвлена. — Как ты можешь такое говорить! — воскликнула она. — Ты отлично знаешь, что сейчас я не уеду из Филадельфии. Или ты думаешь, что я оставлю тебя одного в это трудное время? Каупервуд понял ее негодование. Он был достаточно проницателен и страстно любил ее. «Боже мой, — подумал он, — все что угодно, только не причинять ей боли!» — Родная моя, — торопливо проговорил он, увидев ее затуманившиеся глаза, — ты меня не поняла. Я хочу того же, чего и ты. Ты все это придумала, чтобы не разлучаться со мной, — будь по-твоему. Не вспоминай больше о том, что я сказал! Я боялся, что твой уход из дому повредит нам обоим, но будем верить, что ничего не случится. Ты знаешь, как отец тебя любит, и надеешься, что заставишь его передумать? Отлично, переезжай к миссис Келлиген! Но помни, радость моя, что мы оба должны соблюдать величайшую осторожность. Дело принимает серьезный оборот. Если ты оставишь семью и твой отец вздумает публично обвинить меня в похищении, это кончится плачевно для нас обоих. Одного такого обвинения будет достаточно, чтобы меня засудить. И что тогда? Сейчас нам лучше встречаться пореже. Так редко, как только мы сможем выдержать. Если бы у нас в свое время достало благоразумия на какой-то срок прекратить встречи, после того как твой отец получил это письмо, все было бы благополучно. Теперь, конечно, уж ничего не поделаешь, но нам надо действовать вдвойне осторожно. Разве ты не согласна со мной? Так вот: хорошенько все обдумай и поступай, как ты сочтешь правильным. А когда решишь, дай мне знать. И как бы ты ни поступила, я заранее все одобряю, ты меня поняла? — Он привлек ее к себе и поцеловал. — Да, но у тебя ведь нет денег, правда? — спохватился он. Эйлин, глубоко растроганная его словами, на минуту задумалась, но тут же решила, что путь, избранный ею, единственно правильный. Отец горячо любит ее. Он ни за что не скомпрометирует ее в глазах общества, а следовательно, и не воспользуется ее уходом для открытого преследования Каупервуда. Вероятнее всего, он станет умолять ее вернуться домой, сказала Эйлин, и под воздействием ее доводов Каупервуд вынужден был уступить. Что пользы спорить? Никто на свете не заставит ее бросить своего возлюбленного. Впервые за все время знакомства с Эйлин он достал из кармана пачку кредиток. — Вот здесь, дорогая, двести долларов, — сказал он. — Тебе хватит этого до нашей следующей встречи, или же ты снова напишешь мне. Я позабочусь о том, чтобы ты ни в чем не нуждалась. И не смей думать, будто я не люблю тебя! Ты сама знаешь, что это вздор. Я тебя обожаю! Эйлин не хотела брать деньги — ей ничего не нужно, а кроме того, у нее дома еще кое-что есть, но он не стал ее слушать, зная, как они могут ей понадобиться. — Полно об этом говорить, родная, — сказал он. — Я ведь знаю, что деньги тебе пригодятся. Эйлин так привыкла получать крупные суммы от отца и матери, что не придала этому особого значения. Фрэнк ее любит, и какие могут быть между ними счеты? Когда она немного успокоилась, они принялись обсуждать вопрос о переписке и пришли к выводу, что самое лучшее — сыскать надежного человека, через которого можно будет передавать письма. Когда они расстались, Эйлин, только что приходившая в отчаяние из-за его, как ей казалось, недостаточно страстного отношения к ней, вновь воспрянула духом. Нет, он ее любит, решила она, и ушла со счастливой улыбкой. У нее есть Фрэнк, на которого она может опереться, и теперь она проучит отца! Каупервуд, провожая ее глазами, покачал головой. Сейчас она стала для него дополнительным бременем, но отказаться от нее он, конечно, не мог. Сорвать завесу с иллюзий, созданных ее любовью, и сделать ее несчастной, когда он сам так влюблен в нее? Нет! Да и зачем бы ему это делать? В конце концов все еще может обернуться к лучшему. Если Батлер снова прибегнет к помощи сыщиков, то выяснится, что Эйлин ушла вовсе не к нему, Каупервуду. Если же наступит минута, когда надо будет пустить в ход весь свой здравый смысл и холодную расчетливость, чтобы спастись от смертельной опасности, то он тайно сообщит Батлерам о местопребывании Эйлин. Это послужит доказательством, что он имел лишь отдаленное отношение к ее бегству, а им будет дана возможность уговорить ее вернуться. Может быть, все еще и обойдется, как знать! Во всяком случае, он будет бороться с препятствиями по мере их возникновения. Каупервуд тотчас поехал к себе в контору, а Эйлин отправилась домой с твердым намерением осуществить свой план. Отец дал ей время на размышление; возможно, что он и еще продлит этот срок, но она не станет ждать. Привыкнув к тому, что любые ее желания исполнялись, она не видела причины, почему бы ей не поступить по-своему и теперь. Скоро пять часов. Она подождет до семи, когда вся семья усядется за стол, и потихоньку выскользнет из дому. Но одно неожиданное обстоятельство заставило ее отложить осуществление своего намерения. Дома она застала гостей — мистера Стейнметса с женой. Стейнметс — известным инженер, сотрудничал с Батлером, составляя проекты для многих его подрядных работ. Был как раз канун Дня благодарения, и Стейнметсы стали наперебой уговаривать Эйлин и Нору погостить недели две у них в Уэст-Честере, в их новом доме, об уюте и красоте которого Эйлин слышала уже не раз. Люди они были очень приятные, еще не старые, и в доме у них всегда собирался обширный круг друзей. Эйлин решила повременить со своим бегством и принять приглашение. Отец разговаривал с ней самым сердечным тоном. Присутствие Стейнметсов и их просьба были для него таким же облегчением, как и для Эйлин. Уэст-Честер находился в сорока милях от Филадельфии, и, живя там. Эйлин вряд ли могла бы видеться с Каупервуд ом. Она тотчас же написала Фрэнку о перемене в своих планах и уехала, а он облегченно вздохнул, вообразив в эту минуту, что буря промчалась мимо.Глава 39
Между тем близился день, когда должно было слушаться дело Каупервуда. Он не сомневался, что суд, о чем бы ни свидетельствовали факты, сделает все возможное для вынесения ему обвинительного приговора, но не находил выхода из создавшегося положения. Разве только бросить все и уехать из Филадельфии, но об этом не стоило и думать. Единственная возможность обеспечить себе будущее и сохранить дружеские отношения с рядом лиц из финансового мира заключалась в том, чтобы как можно скорее предстать перед судом, в надежде, что если он и будет осужден, то со временем друзья помогут снова встать на ноги. Он много говорил со Стеджером о возможности лицеприятного отношения к нему состава суда, но адвокат не разделял его опасений. Во-первых, присяжных не так-то просто подкупить; во-вторых, большинство судей, несмотря на различие политических убеждений, люди честные и не пойдут дальше того, что им подскажут лидеры партии, а это в конце концов не так уж страшно. Судья, который должен был председательствовать на этом процессе, Уилбер Пейдерсон, — участник квартальной сессии — прямой ставленник республиканской партии и, следовательно, кругом обязан Молленхауэру, Симпсону и Батлеру, но, с другой стороны, Стеджер слышал о нем только как о честном человеке. — Не понимаю, — говорил Стеджер, — почему этим господам так хочется покарать вас? Разве что в назидание всему штату. Выборы-то ведь прошли. Кстати, говорят, что уже сейчас принимаются меры к тому, чтобы вызволить Стинера, в случае если он будет осужден, чего ему, конечно, не миновать. Судить его им волей-неволей придется. Ему дадут год или два, самое большее три, а потом он будет помилован, не отбыв и половины срока. То же самое, в худшем случае, предстоит и вам. Они не смогут выпустить его, а вас оставить в тюрьме. Но до этого не дойдет, помяните мое слово. Мы выиграем дело в первой же инстанции, а нет — так наша кассация будет удовлетворена в верховном суде штата. Тамошняя пятерка судей ни в коем случае не поддержит этой вздорной затеи. Стеджер искренне верил в то, что говорил, и Каупервуда это радовало. До сих пор молодой юрист отлично вел его дела. И все же мысль о том, что Батлер преследует его, не давала ему покоя. Это обстоятельство весьма осложняло дело, а Стеджер о нем даже и не подозревал. Слушая оптимистические заверения своего адвоката, Каупервуд все время помнил о Батлере. Слушание дела взбудоражило чуть ли не весь город с населением в шестьсот тысяч человек. Каупервуды решили, что никто из женщин их семьи не будет присутствовать на суде. На этом настаивал Фрэнк, не желая давать лакомую пищу газетным репортерам. Отец пойдет в суд, ибо он может понадобиться в качестве свидетеля. Накануне пришло письмо от Эйлин. Она сообщала о своем возвращении из Уэст-Честера и желала Фрэнку удачи. Исход его дела так волнует ее, что она не в состоянии оставаться вдали и вернулась в Филадельфию, не для того, чтобы присутствовать на суде, раз он этого не желает, но чтобы быть как можно ближе в минуты, когда решается его судьба. Ей хочется прибежать к нему, поздравить, если его оправдают, утешить, если он будет осужден. Она понимает, что столь поспешное возвращение, вероятно, усугубит ее конфликт с отцом, но тут уж она ничего поделать не может. Миссис Лилиан Каупервуд находилась в положении весьма трудном и фальшивом. Ей приходилось разыгрывать любящую и нежную жену, хотя она и понимала, что Фрэнку вовсе этого не хочется. Он интуитивно догадывался теперь, что она знает об его отношениях с Эйлин, и только ждал подходящей минуты, чтобы объясниться с ней начистоту. Проводив мужа до дверей в то роковое утро, Лилиан обняла его сдержанно, как все последние годы, и не могла даже заставить себя поцеловать его, хотя и сознавала, сколь тяжкое ему предстоит испытание. У него тоже не было ни малейшего желания ее целовать, но он этого не показал. Потом она все же коснулась губами его щеки и произнесла: — Я надеюсь, что все кончится благополучно! — Право, тебе незачем тревожиться, Лилиан, — бодро отозвался он. — Все будет в порядке! Он сбежал с лестницы, направился к Джирард-авеню, по которой проходила ранее принадлежавшая ему линия конки, и вскочил в вагон. Он думал об Эйлин, о том, как искренне она соболезнует ему и какой, в сущности, насмешкой стала теперь его семейная жизнь, думал, окажутся ли присяжные заседатели здравомыслящими людьми, и так далее, и так далее. Если ему не удастся, если… Да, день предстоял нелегкий! На углу Третьей улицы он вышел из вагона и торопливо зашагал к себе в контору. Стеджер уже дожидался его. — Итак, Харпер, настал решающий час! — мужественно произнес Каупервуд. Суд первого отдела четвертой сессии, в котором должно было слушаться дело, помещался в знаменитом Дворце Независимости (на углу улиц Шестой и Честнат), где тогда, так же как и сто лет назад, сосредоточивалась вся судебная и административная жизнь Филадельфии. Это было невысокое двухэтажное здание из красного кирпича; центральную его часть венчала белая деревянная башня то ли в староанглийском, то ли в голландском стиле, квадратная у основания, круглая посередине и с восьмиугольной вершиной. Само здание состояло из центрального корпуса и двух боковых крыльев, каждое из которых образовывало букву Т. Окна и двери, с мелко застекленными полукружиями наверху, были выдержаны в стиле, который так восхищает любителей «колониальной архитектуры». В этом здании и в пристройке, известной под названием «Государственные ряды», впоследствии снесенной, но тогда тянувшейся от задней стены главного корпуса по направлению к Уолнат-стрит, размещались канцелярии мэра, начальника полиции, городского казначея, залы заседаний городского совета и прочие важные административные учреждения, а также все четыре отдела квартальных сессий суда, слушавших уголовные дела, в недавнее время очень участившиеся в Филадельфии. Гигантская ратуша, впоследствии выросшая на углу Брод-стрит и Маркет-стрит, тогда еще только строилась. Для того чтобы придать не слишком просторным судебным залам более торжественный вид, в них соорудили возвышения из темного орехового дерева, на возвышениях стояли ореховые же судейские столы, но весь этот замысел оказался не слишком удачным. И столы, и места для присяжных заседателей, и барьеры были слишком громоздки и несоразмерны с помещением. Наиболее подходящим цветом для стен при темной ореховой мебели почему-то сочли кремовый, но время и пыль сделали его крайне унылым. В залах не было ни картин, ни каких-либо иных украшений, если не считать пышных и вычурных газовых светильников на столе «его чести» да люстры, свисавшей посередине. Раскормленные туши судебных приставов и судейских чиновников, озабоченных только тем, как бы не потерять своих выгодных должностей, тоже не скрашивали этого унылого помещения. Два пристава, находившиеся в зале, где должно было слушаться дело Каупервуда, только и делали, что наперебой бросались подавать судье стакан воды, если он за ним тянулся. Один, похожий на тучного, обрюзгшего нудного мажордома, предшествовал «его чести», когда тот отправлялся в туалетную комнату или возвращался оттуда. На его обязанности лежало при входе судьи в зал громко возглашать: «Суд идет — обнажить головы! Прошу всех встать!» Когда судья садился, второй пристав, стоя слева от него между местами присяжных заседателей и свидетельской скамьей, невнятной скороговоркой произносил ту прекрасную и полную человеческого достоинства декларацию обязанностей, налагаемых обществом на каждого своего представителя, которая начинается словами: «Слушайте все! Слушайте все! Слушайте все!» и заканчивается: «Всякий, кто имеет справедливое основание для жалобы, пусть приблизится, и он будет выслушан!» Но здесь эти слова, казалось, утрачивали свое значение. Привычка и равнодушие превратили их в какую-то нечленораздельную скороговорку. Третий пристав стоял на страже у дверей совещательной комнаты. Кроме приставов, в зале находились стенограф и секретарь суда — маленький человечек, чахлый, с бескровным лицом, бесцветными, как разбавленное молоко, глазами, с жидкими волосенками и бородкой цвета свиного сала, похожий на американизированного и дряхлого китайского мандарина. Судья Уилбер Пейдерсон, тощий, как селедка, председательствовавший еще при слушании дела в следственной инстанции, когда присяжные решили вопрос о предании Каупервуда суду, был довольно любопытным типом. Внимание к себе он привлекал прежде всего своей необычной худобой и худосочием. Технику судебного дела и законы он знал хорошо, но понятия не имел о том, что знают мудрые судьи, то есть о подлинной жизни, о том неуловимом сплетении обстоятельств, которые взывают к сердцу судьи, опрокидывая все писаные законы, а временами даже свидетельствуя о полной их непригодности. Достаточно было взглянуть на этого сухопарого педанта, на его курчавые седые волосы, голубовато-серые рыбьи глаза, правильные, но неодухотворенные черты лица, чтобы сказать, что он начисто лишен воображения. Правда, он бы вам не поверил и… оштрафовал бы вас за неуважение к суду! Старательно используя каждую мелкую удачу, извлекая выгоду из каждого мало-мальски удобного случая, рабски прислушиваясь к властному голосу своей партии и угодливо повинуясь всесильному капиталу, он сумел достигнуть своего нынешнего поста. Впрочем, это было не такое уж большое достижение! Жалованья он получал всего-навсего шесть тысяч долларов в год, а его скромная известность не выходила за пределы тесного мирка местных адвокатов и судейских чиновников. И все же он испытывал величайшее удовлетворение, чуть ли не ежедневно видя свое имя в газетах, сообщавших, что мистер Пейдерсон председательствовал в суде, разбиравшем такое-то дело, или вынес такой-то приговор. Он считал, что это превращает его в заметную фигуру. «Смотрите, я не такой, как все!» — часто думал он и радовался. Он бывал очень польщен, когда на повестке дня у него оказывалось какое-нибудь громкое дело, и, восседая перед тяжущимися и публикой, мнил себя поистине важной персоной. Правда, время от времени необычное сплетение житейских обстоятельств смущало его ограниченный ум; но и во всех таких случаях он неизменно помнил о букве закона. Достаточно было порыться в папках старых процессов, чтобы узнать, как разрешали такие вопросы умные люди. Кроме того, все адвокаты — великие проныры. Они подсовывают судье под нос судебные решения, не заботясь о его мнении и взглядах. — Ваша честь, в томе тридцать втором судебных решений штата Массачусетс, страница такая-то, строка такая-то, дело Эрандела против Бэннермена, вы найдете… — и так далее, и так далее. Как часто это можно слышать в суде! Много думать в большинстве таких случаев уже не приходится. А святость закона между тем вознесена, подобно стягу, во славу властей предержащих. Пейдерсона, как правильно заметил Стеджер, вряд ли можно было назвать несправедливым судьей. Но, как и всякий судья, выдвинутый определенной партией, в данном случае республиканской, он был предан ей до мозга костей, и потому был судьей пристрастным. Всем обязанный партийным заправилам, он готов был, конечно, по мере своих сил, на что угодно, лишь бы способствовать интересам республиканской партии и выгоде своих хозяев, большинство людей не дает себе труда поглубже заглянуть в механизм, называемый совестью. Если же они и удосужатся это сделать, то им, как правило, недостает умения распутать переплетенные нити этики и морали. Они искренне верят в то, что подсказывает им дух времени или деловые интересы власть имущих. Кто-то однажды обмолвился: «Судья, душою преданный концернам». И таких судей множество. Пейдерсон тоже принадлежал к их числу. Он благоговел перед богатством и силой. В его глазах Батлер, Молленхауэр и Симпсон были великими людьми, а кто могуществен, тот и прав. Он давно уже слышал про растрату, в которой участвовали Каупервуд и Стинер, и благодаря своему знакомству со многими политическими деятелями довольно точно нарисовал себе общую картину этого дела. Республиканская партия, по мнению ее лидеров, была поставлена в весьма затруднительное положение хитроумными махинациями Каупервуда. По его милости Стинер уклонился от пути праведного гораздо дальше, чем это дозволено городскому казначею; и хотя он был инициатором всего дела, главная ответственность падала на Каупервуда, толкнувшего казначея на этот гибельный поступок. Кроме того, республиканской партии нужен был козел отпущения, и для Пейдерсона этим одним уже все было сказано. Правда, теперь, когда выборы прошли и стало очевидно, что партия никакого существенного ущерба не понесла, Пейдерсон не совсем понимал, почему в это дело так настойчиво втягивают Каупервуда, но, полагая, что у лидеров имеются на то достаточные основания, не слишком ломал себе голову над этим вопросом. Из разных источников он слышал, что Батлер питает к Каупервуду личную неприязнь. В чем тут было дело, никто точно не мог сказать. Общее же мнение склонялось к тому, что Каупервуд вовлек его в какие-то сомнительные спекуляции. Так или иначе, все понимали, что этому делу решено было дать ход в интересах республиканской партии и для острастки рядовых ее членов. Ради вящего морального воздействия на общество Каупервуд должен был понести не меньшее наказание, чем Стинер. Стинеру же предстояло получить наивысший для такого рода преступлений срок заключения, дабы все поняли, как справедливы республиканская партия и суд. Впоследствии губернатор мог своею властью, если он того пожелает и если ему на это намекнут лидеры партии, смягчить наказание. В наивном представлении широкой публики судьи квартальной сессии были подобны воспитанницам монастырского пансиона, то есть жили вне мирской суеты и не ведали того, что творилось за кулисами политической жизни города. На деле же они были прекрасно обо всем осведомлены, а главное, зная, кому они обязаны своим положением и властью, умели быть благодарными.Глава 40
Когда Каупервуд, свежий, подтянутый (типичный делец и крупный финансист), вошел в сопровождении отца и адвоката в переполненный зал суда, все взоры обратились на него. Нет, не похоже, подумалось большинству присутствующих, чтобы такому человеку был вынесен обвинительный приговор. Он, несомненно, виновен, но столь же несомненно, что у него найдутся способы и средства обойти закон. Его адвокат, Харпер Стеджер, тоже показался всем умным и оборотистым человеком. Погода стояла холодная, и оба они были одеты в длинные голубовато-серые пальто, по последней моде, Каупервуд в ясную погоду имел обыкновение носить бутоньерку в петлице, но сегодня он от нее отказался. Его галстук из плотного лилового шелка был заколот булавкой с крупным сверкающим изумрудом. Если не считать тоненькой часовой цепочки, на нем больше не было никаких украшений. Он и всегда-то производил впечатление человека жизнерадостного, но сдержанного, добродушного и в то же время самоуверенного и деловитого, а сегодня эти его качества выступали как-то особенно ярко. Каупервуд с первого взгляда охватил всю своеобразную обстановку суда, теперь так остро его интересовавшую. Прямо перед ним находилась еще никем не занятая судейская трибуна, справа от нее — тоже пока пустовавшие места присяжных заседателей, а между ними, по левую руку от кресла судьи, свидетельская скамья, где ему предстояло сейчас давать показания. Позади нее уже стоял в ожидании выхода суда тучный судебный пристав, некий Джон Спаркхивер, на обязанности которого лежало подавать свидетелю потрепанную и засаленную Библию и после принесения присяги говорить: «Пройдите сюда». В зале находились и другие приставы. Один — у прохода к барьеру напротив судейского стола, где обвиняемый выслушивал приговор и где помещались места адвокатов и скамья подсудимых; другой пристав стоял в проходе, ведущем в совещательную комнату, и, наконец, третий охранял дверь, через которую впускали публику. Каупервуд тотчас заметил Стинера, сидевшего на свидетельской скамье. Казначей так дрожал за свою судьбу, что решительно ни к кому не питал злых чувств. Он, собственно, и раньше не умел злобствовать, а теперь, очутившись в столь незавидном положении, только бесконечно сожалел, что не последовал совету Каупервуда. Правда, в душе его все еще теплилась надежда, что Молленхауэр и представляемая им политическая клика в случае обвинительного приговора будут ходатайствовать за него перед губернатором. Стинер был очень бледен и порядком исхудал. От розовощекой дородности, отличавшей его в дни процветания, не осталось и следа. Одет он был в новый серый костюм с коричневым галстуком и тщательно выбрит. Почувствовав пристальный взгляд Каупервуда, он вздрогнул и опустил глаза, а затем принялся как-то нелепо теребить себя за ухо. Каупервуд кивнул ему. — Знаете, что я вам скажу, — заметил он Стеджеру, — мне жаль Джорджа. Это такой осел! Впрочем, я сделал для него все, что мог. Каупервуд искоса оглядел и миссис Стинер — низкорослую женщину с желтым лицом и острым подбородком, в очень скверно сшитом платье. «Как это похоже на Стинера — выбрать себе такую жену», — подумал он. Браки между людьми не слишком преуспевшими и вдобавок неполноценными всегда занимали его воображение. Миссис Стинер, разумеется, не могла питать добрых чувств к Каупервуду, ибо считала его бессовестным человеком, загубившим ее мужа. Теперь они опять были бедны, собирались переезжать из своего большого дома в более дешевую квартиру, и она всеми силами гнала от себя эти печальные мысли. Несколько минут спустя появился судья Пейдерсон, сопутствуемый низеньким и толстым судебным приставом, похожим скорее на зобастого голубя, чем на человека. Как только они вошли, пристав Спаркхивер постучал по судейскому столу, возле которого перед этим он клевал носом, и пробормотал: «Прошу встать!» Публика встала, как встает во всех судах всего мира. Судья порылся в кипе бумаг, лежавших у него на столе. — Какое дело слушается первым, мистер Протус? — отрывисто спросил он судебного секретаря. Покуда тянулась длинная и нудная процедура подготовки дел к слушанию и разбирались разные мелкие ходатайства адвокатов, Каупервуд с неослабевающим интересом наблюдал за всей этой сценой, в целом именуемой судом. Как он жаждал выйти победителем, как негодовал на несчастное стечение обстоятельств, приведшее его в эти стены! Его всегда бесило, хотя он и не показывал этого, судейское крючкотворство, все эти оттяжки и кляузы, так часто затрудняющие любое смелое начинание. Если бы его спросили, что такое закон, Каупервуд решительно ответил бы: это туман, образовавшийся из людских причуд и ошибок; он заволакивает житейское море и мешает плавать утлым суденышкам деловых и общественных дерзаний человека. Ядовитые миазмы его лжетолкований разъедают язвы на теле жизни; случайные жертвы закона размалываются жерновами насилия и произвола. Закон — это странная, жуткая, захватывающая и вместе с тем бессмысленная борьба, в которой человек безвольный, невежественный и неумелый, так же как и лукавый и озлобленный, равно становится пешкой, мячиком в руках других людей — юристов, ловко играющих на его настроении и тщеславии, на его желаниях и нуждах. Это омерзительно тягучее и разлагающее душу зрелище — горестное подтверждение бренности человеческой жизни, подвох и ловушка, силок и западня. В руках сильных людей, каким был и он, Каупервуд, в свои лучшие дни, закон — это меч и щит, для разини он может стать капканом, а для преследователя — волчьей ямой. Закон можно повернуть куда угодно — это лазейка к запретному, пыль, которой можно запорошить глаза тому, кто пожелал бы воспользоваться своим правом видеть, завеса, произвольно опускаемая между правдой и ее претворением в жизнь, между правосудием и карой, которую оно выносит, между преступлением и наказанием. Законники — в большинстве случаев просвещенные наймиты, которых покупают и продают. Каупервуда всегда забавляло слушать, как велеречиво они рассуждают об этике и чувствах, видеть, с какой готовностью они лгут, крадут, извращают факты по любому поводу и для любой цели. Крупные законники, в сущности, лишь великие пройдохи, вроде него самого; как пауки, сидят они в тени, посреди своей хитро сплетенной сети и дожидаются неосторожных мошек в образе человеческом. Жизнь и в лучшем-то случае — жестокая, бесчеловечная, холодная и безжалостная борьба, и одно из орудий этой борьбы — буква закона. Наиболее презренные представители всей этой житейской кутерьмы — законники. Каупервуд сам прибегал к закону, как прибег бы к любому оружию, чтобы защититься от беды; и юристов он выбирал так же, как выбирал бы дубинку или нож для самообороны. Ни к одному из них он не питал уважения, даже к Харперу Стеджеру, хотя этот человек чем-то нравился ему. Все они — только необходимое орудие: ножи, отмычки, дубинки и ничего больше. Когда они заканчивают дело, с ними расплачиваются и забывают о них. Что касается судей, то по большей части это незадачливые адвокаты, выдвинувшиеся благодаря счастливой случайности, люди, которые, вероятно, во многом уступили бы красноречиво разливавшимся перед ними защитникам, случись им поменяться ролями. Каупервуд не уважал судей — он слишком хорошо знал их. Знал, как часто встречаются среди них льстецы, политические карьеристы, политические поденщики, пешки в чужих руках, конъюнктурщики и подхалимы, стелющиеся под ноги финансовым магнатам и политическим заправилам, которые по мере надобности и пользуются ими, как тряпкой для обтирания сапог. Судьи — глупцы, как, впрочем, и большинство людей в этом дряхлом и зыбком мире. Да, его пронзительный взгляд охватывал всех, находившихся перед ним, но оставался невозмутимым. Единственное спасение Каупервуд видел в необычайной изворотливости своего ума. Никто не сумел бы убедить его, что этим бренным миром движет добродетель. Он знал слишком многое и знал себя. Покончив наконец с множеством мелких ходатайств, судья приказал огласить дело по иску города Филадельфии к Фрэнку А.Каупервуду, и секретарь возвестил о начале процесса зычным голосом. Деннис Шеннон, новый окружной прокурор, и Стеджер поспешно встали. Стеджер и Каупервуд, а также Шеннон и Стробик (последний в качестве истца, представляющего интересы штата Пенсильвания) уселись за длинный стол внутри огороженного пространства, между барьером и судейской трибуной. Стеджер — больше для проформы — предложил судье Пейдерсону прекратить дело, но его ходатайство было отклонено. Немедленно был составлен список присяжных заседателей — двенадцать человек из числа лиц, призванных в течение месяца отбывать эту повинность, — и предложен на рассмотрение сторон. Процедура составления списка была в этой инстанции делом довольно простым. Она состояла в том, что секретарь, похожий на китайского мандарина, писал на отдельном листке фамилию каждого кандидата в присяжные заседатели на данный месяц — всего их было около пятидесяти человек, — опускал эти билетики во вращающийся барабан, несколько раз его повертывал и вытаскивал первый попавшийся: такой ритуал восславлял случай и определял, кто будет присяжным номер один. Рука секретаря двенадцать раз погрузилась в барабан и извлекла имена двенадцати присяжных заседателей, которых, по мере того как объявлялись их фамилии, приглашали занять свое место. Каупервуд наблюдал за этой процедурой с глубоким интересом. Да и что сейчас могло интересовать его больше, чем люди, которым предстояло его судить? Правда, все делалось так быстро, что он не мог составить себе точного представления о них, хотя и успел заметить, что все они принадлежат к средним слоям буржуазии. В глаза ему бросился только один старик лет шестидесяти пяти, сутулый, с сильной проседью в волосах и в бороде, с косматыми бровями и бледным лицом; он показался Каупервуду человеком по натуре доброжелательным, с большим житейским опытом за плечами, такого при благоприятных обстоятельствах и с помощью достаточно убедительных доводов, пожалуй, можно будет склонить на свою сторону. Другого, по-видимому, торговца, низкорослого, с тонким носом и острым подбородком, Каупервуд почему-то сразу невзлюбил. — Надеюсь, не обязательно, чтобы этот тип вошел в состав присяжных? — тихо спросил он Стеджера. — Конечно, нет, — отвечал Стеджер. — Я отведу его. Мы имеем право, так же как и обвинители, на пятнадцать отводов без указания причин. Когда места присяжных наконец заполнились, секретарь протянул защитнику и прокурору дощечку с прикрепленными к ней записками, на которых значились фамилии двенадцати присяжных в том порядке, в каком они были выбраны: в верхнем ряду — первый, второй и третий, затем — четвертый, пятый, шестой, и так далее. Поскольку представителю обвинения дано право первому отводить кандидатов, то Шеннон встал, взял дощечку и начал спрашивать присяжных об их профессии или роде занятий, о том, что было им известно о деле до суда, и не настроены ли они заранее в пользу той или другой стороны. Стеджер и Шеннон стремились отобрать людей, которые хоть как-то могли бы разобраться в финансовых вопросах, а следовательно, и в этом не совсем обычном деле, и притом не питали бы (в этом был заинтересован Стеджер) предубеждения против человека, разумно попытавшегося защититься от финансовой бури, или же (в этомбыл заинтересован Шеннон) отнеслись бы сочувственно к средствам защиты, которые он пустил в ход, поскольку средства эти наводил» на мысль о вымогательстве, плутовстве и бесчестных махинациях. И Шеннон и Стеджер вскоре заметили, что среди присяжных преобладает та мелкая и средняя рыбешка, которую в таких случаях вытаскивают на поверхность судебные сети, закинутые в океан городской жизни. Это были преимущественно управляющие предприятиями, всякого рода агенты, торговцы, редакторы, инженеры, архитекторы, меховщики, бакалейщики, коммивояжеры, репортеры и представители других профессий, чей богатый жизненный опыт делал их пригодными для выполнения обязанностей присяжных. Людей с высоким общественным положением среди них почти не было, зато многие обладали тем примечательным качеством, которое именуется здравым смыслом. Во время этой процедуры Каупервуд хладнокровно изучал лица присяжных. Внимание его привлек один молодой владелец цветочного магазина: бледный, с широким лбом мыслителя и белыми, бескровными руками, он показался Каупервуду человеком, который не сможет устоять против его обаяния, и Каупервуд поспешил шепнуть об этом Стеджеру. Одному еврею-скорняку с хитрыми глазами был дан отвод, так как он все время следил за ходом дел на бирже и сам потерял две тысячи долларов в акциях конных железных дорог. Толстый оптовый торговец-бакалейщик, белокурый, с румяным лицом и голубыми глазами, произвел на Каупервуда впечатление тупого упрямца. Его кандидатура тоже была отведена. Среди присяжных был еще худой, щеголеватый директор небольшого магазина готового платья, которому очень хотелось увильнуть от обязанностей присяжного заседателя, почему он и заявил (хотя это была неправда), что не признает присяги на Библии. Судья Пейдерсон нахмурился, но отпустил его. Затем набралось еще человек десять — знакомые Каупервуда, знакомые Стинера, те, которые признали себя предубежденными, и, наконец, ярые республиканцы, возмущавшиеся действиями Каупервуда, — всем им разрешили удалиться. К полудню все же был установлен состав присяжных, более или менее приемлемый для обеих сторон.Глава 41
Ровно в два часа окружной прокурор Деннис Шеннон начал свою речь. Весьма обыденным и даже благодушным тоном — такая уж у него была манера — он заявил, что мистер Фрэнк А.Каупервуд, в настоящую минуту представший перед судом, обвиняется: во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, в-третьих, в присвоении собственности доверителя и наконец, в-четвертых, опять-таки в растрате известной суммы, точнее, шестидесяти тысяч долларов, полученной им по выписанному на его имя чеку девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года. Вышеупомянутые шестьдесят тысяч предназначались на покупку определенного количества сертификатов городского займа, каковые мистер Каупервуд в качестве агента или доверенного лица обязан был приобрести — согласно распоряжению городского казначея и на основании существовавшей между последним и мистером Каупервудом договоренности — для амортизационного фонда в целях выкупа срочных сертификатов. Тем не менее полученный мистером Каупервудом чек по назначению использован не был. — Теперь, джентльмены, — таким же ровным голосом продолжал Шеннон, — прежде чем перейти к рассмотрению весьма несложного вопроса, получил или не получил мистер Каупервуд в упомянутый день от городского казначея шестьдесят тысяч долларов, — во всяком случае ценных бумаг на эту сумму в амортизационном фонде не числится, — я позволю себе объяснить вам, почему ему предъявлено обвинение, во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, в-третьих, в присвоении собственности доверителя и, в-четвертых, в растрате денег, полученных по чеку. Итак, вы видите, что обвинение, говоря языком юристов, содержит четыре пункта; почему именно четыре, сейчас вам станет понятно. Человек может быть виновен одновременно в хищении и в растрате или только в хищении и только в растрате, и вот прокурор, представляющий интересы народа, иногда сомневается не в том, совершил или не совершил обвиняемый оба упомянутых преступления, а в том, подходят ли они под один пункт обвинения настолько, чтобы лицо, виновное в обоих преступлениях, понесло соответственное наказание. В таких случаях, джентльмены, принято предъявлять обвинение по отдельным пунктам, как это и сделано нами. В данном деле эти четыре пункта в известной мере совпадают и подтверждают друг друга, и ваш долг (после того, как мы детально осветим эти пункты и ознакомим вас со свидетельскими показаниями) будет заключаться в том, чтобы решить, доказано ли обвинение по одному пункту, по двум, по трем или по всем четырем, — это уже будет зависеть от вашей точки зрения или, правильнее сказать, от того, насколько доказательными вы сочтете улики и свидетельские показания. Хищением, как вам, вероятно, известно, называется присвоение чужих денег или имущества без ведома или согласия на то законного владельца, растратой же мы именуем злостное и своекорыстное использование имущества, и прежде всего денег, лицом, попечению которого они вверены. Присвоение собственности доверителя (то есть третий пункт нашего обвинения) — это лишь особый вид хищения: кража доверенным лицом имущества доверителя. Пункт четвертый, то есть растрата денег, полученных по чеку, является, собственно, уточнением формулировки обвинения по второму пункту и означает присвоение денег, выданных по чеку для какой-либо определенной цели. Все эти четыре обвинения, джентльмены, как видите, тождественны. Они совпадают и подтверждают друг друга. Итак, народ через посредство своего представителя, окружного прокурора, утверждает, что обвиняемый, мистер Каупервуд, виновен по всем четырем пунктам. А теперь, джентльмены, мы перейдем к истории совершенного преступления; для меня лично из нее явствует, что обвиняемый, мистер Каупервуд, принадлежит к наиболее коварным и преступным типам, какие только встречаются в финансовом мире, что мы и надеемся доказать вам при помощи свидетельских показаний. Пользуясь тем, что правила ведения процесса не дозволяют прерывать обвинителя во время изложения дела, Шеннон начал пространно рассказывать, как Каупервуд познакомился со Стинером, как сумел втереться к нему в доверие, как мало смыслил тогда Стинер в финансовых вопросах, и так далее. В заключение он рассказал, как Каупервуд получил чек на шестьдесят тысяч долларов без ведома городского казначея, который, по его словам, узнал о выдаче чека, когда это было уже совершившимся фактом, что и дает основание обвинить Каупервуда в хищении; завладев чеком, обвиняемый незаконно присвоил сертификаты, которые он обязан был приобрести для амортизационного фонда, если таковые вообще были приобретены. Совокупность всех этих фактов, заявил Шеннон, и дает основание признать мистера Каупервуда виновным по всем четырем пунктам. — Мы располагаем прямыми и неопровержимыми доказательствами, подтверждающими все нами сказанное, — повысив голос, закончил мистер Шеннон. — Речь идет не о каких-либо слухах или предположениях, а только о фактах. Неопровержимые свидетельские показания помогут вам уяснить себе, как все это было проделано. И если после всего вами услышанного вы все же будете считать, что этот человек невиновен, что он не совершил преступлений, в которых его обвиняют, то ваш долг его оправдать. И напротив, если вы убедитесь в правдивости свидетельских показаний, ваш долг признать его виновным и вынести ему обвинительный приговор. Благодарю вас, джентльмены, за оказанное мне внимание! Присяжные зашевелились, устраиваясь поудобнее в надежде на небольшую передышку. Но отдыхать им не пришлось, так как Шеннон вызвал Джорджа Стинера, который встал и торопливо вышел вперед, очень бледный, очень вялый и измученный. Когда он занял место на свидетельской скамье и положил руку на Библию, присягая в том, что будет говорить правду, его глаза тревожно забегали по залу. Поначалу голос его звучал едва слышно. Прежде всего он рассказал о своем знакомстве с Каупервудом, состоявшемся в начале тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, точной даты он не помнил. Это было еще во время первого срока его пребывания на посту городского казначея, так как он был впервые избран осенью тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Его тогда очень тревожило положение с городским займом, котировавшимся на рынке ниже паритета, между тем как, согласно закону, город имел право продавать его только по паритету. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, кажется, мистер Стробик; впрочем, он в этом не уверен. Городские казначеи в столь критические минуты всегда обращались к биржевым маклерам, и он, Стинер, поступил, как все. Далее Стинер, поощряемый вопросами и подсказками неугомонного Шеннона, принялся излагать содержание своей первой беседы с Каупервудом, отлично ему запомнившейся. Мистер Каупервуд уверил его, что этой беде можно помочь. Разработав, или, вернее, продумав план действия, он через некоторое время явился снова и посвятил его, Стинера, в свои замыслы. При искусной помощи Шеннона Стинер изложил суть этого плана, далеко не лестно характеризовавшего человеческую честность, но зато свидетельствовавшего о хитрости и изобретательности человеческого ума. После довольно нудного повествования об отношениях, которые установились между ним и Каупервудом, Стинер заговорил наконец о том времени, когда в результате дружеской и деловой связи, окрепшей за много лет и весьма положительно отозвавшейся на материальном положении обоих, Каупервуд стал не только ворочать миллионами долларов из средств города, но вдобавок заполучил в полное свое распоряжение пятьсот тысяч долларов на чрезвычайно низких процентах и эти деньги вложил в доходные линии конно-железных дорог в интересах своих и казначея. Стинер отнюдь не стремился внести полную ясность в этот вопрос, но Шеннон, зная, что впоследствии ему придется обвинять Стинера в этом же преступлении, и учитывая, что Стеджер вот-вот примет участие в перекрестном допросе, не позволил городскому казначею отделаться туманными фразами, Шеннон хотел во что бы то ни стало внушить присяжным, что Каупервуд — человек изворотливый и коварный, и это вполне ему удалось. По мере того, как допрашиваемый приводил примеры необычайной ловкости Каупервуда, то один, то другой присяжный оборачивался и с любопытством его разглядывал. Заметив это и стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, Каупервуд все время смотрел на Стинера спокойным, умным и проникновенным взглядом. Наконец речь зашла об истории с чеком на шестьдесят тысяч долларов, который Альберт Стайерс вручил Каупервуду девятого октября на исходе служебного дня. Шеннон предъявил этот чек Стинеру в качестве вещественного доказательства. Видел ли он таковой ранее? Да, видел. Где? В канцелярии окружного прокурора Петти в двадцатых числах октября. Он видел его тогда впервые? Да. А до этого он никогда не слышал о нем? Нет, слышал. Когда? Десятого октября. Не будет ли он любезен рассказать суду, каким образом и при каких обстоятельствах ему довелось впервые услышать об этом чеке? Стинер заерзал на стуле. Очень уж нелегко вывернуться. Прямой ответ был бы по меньшей мере нелестной характеристикой его собственных моральных качеств. Тем не менее он откашлялся и начал описывать тот краткий, но горький период своей жизни, когда Каупервуд, очутившись в тяжелом положении и на краю банкротства, явился в казначейство и потребовал, чтобы он ссудил ему дополнительно еще триста тысяч долларов. Тут между Стеджером и Шенноном возникла чуть ли не перебранка, так как Стеджер хотел создать впечатление, будто Стинер врет самым беззастенчивым образом. Улучив минуту, он заявил протест — тем самым добившись значительного отклонения от основной темы, — на том основании, что Стинер все время употребляет выражения «я думаю» или «мне кажется». — Я возражаю! — несколько раз восклицал Стеджер. — Я ходатайствую о том, чтобы заявление свидетеля было изъято из протокола как не заслуживающее доверия, голословное и не относящееся к делу. Свидетелю не дано права распространяться о том, что он думает, и обвинитель прекрасно это знает. — Ваша честь, — протестовал, в свою очередь, Шеннон, — я делаю все от меня зависящее, чтобы добиться от свидетеля простого и правдивого изложения фактов, и, по-моему, небезуспешно. — Я возражаю! — снова загремел Стеджер. — Ваша честь, я настаиваю на том, что прокурор не имеет права воздействовать на присяжных лестными отзывами об искренности свидетеля. Мнение прокурора о свидетеле и об его искренности к делу не относится. Я вынужден просить вашу честь сделать прокурору строгое предупреждение. — Ходатайство удовлетворено, — заявил судья Пейдерсон. — Попрошу обвинителя держаться ближе к делу. Шеннон продолжал допрос. Показания Стинера были чрезвычайно существенны, так как они проливали свет на то, о чем хотел умолчать Каупервуд, а именно: что у него произошел крупный разговор с казначеем; что тот наотрез отказался дополнительно ссудить его деньгами; что Каупервуд накануне получения чека, а затем и в тот самый день говорил Стинеру о своем катастрофическом финансовом положении, предупреждая, что если Стинер не поддержит его трехсоттысячной ссудой, то ему грозит крах, и тогда они оба будут разорены. Далее Стинер заявил, что девятого октября утром (то есть в день получения чека) он дал Каупервуду письменное предписание воздержаться от приобретения сертификатов для амортизационного фонда. А Каупервуд, уже после их разговора, состоявшегося в конце того же дня, мошенническим путем получил чек на шестьдесят тысяч долларов от Альберта Стайерса — без его, Стинера, ведома. Когда же Стинер послал к нему Стайерса с требованием вернуть чек, Каупервуд отказался это сделать, несмотря на то, что на другой день, в пять часов пополудни, объявил о передаче дел под опеку. Сертификаты же, на приобретение которых был взят чек, так и не были переданы в амортизационный фонд. Все эти показания крайне не благоприятствовали Каупервуду. Нечего и говорить, что перекрестный допрос неоднократно прерывался выкриками «возражаю!» или «изъять!» то со стороны Стеджера, то со стороны Шеннона. Бывали минуты, когда зал суда буквально гудел от пререканий этих двух джентльменов, и «его чести» то и дело приходилось стучать молотком по столу и грозить им штрафом за неуважение к суду. Такие вспышки негодования со стороны судьи Пейдерсона заставляли присяжных оживляться и с нескрываемым интересом прислушиваться к спору. — Джентльмены, я призываю вас прекратить препирательства, в противном случае я буду вынужден наложить на вас обоих крупный штраф! Вы в суде, а не в пивной! Мистер Стеджер, предлагаю вам немедленно извиниться передо мною и вашим коллегой! Мистер Шеннон, прошу вас воздержаться от столь агрессивных методов. Ваше недопустимое поведение оскорбляет суд. Я вас предупреждаю в последний раз. Оба юриста принесли свои извинения, как это полагается в таких случаях, но тут же взялись за прежнее. — Что сказал вам Каупервуд, — обратился Шеннон к Стинеру после одного из таких бурных перерывов, — в тот день, девятого октября, когда он явился к вам и потребовал дополнительной ссуды в триста тысяч долларов? Повторите сказанное им возможно более точно, желательно — слово в слово. — Я возражаю! — выкрикнул Стеджер. — Точные слова мистера Каупервуда запечатлены только в памяти мистера Стинера, а его память не может приниматься во внимание в данном случае. Свидетель все время пересказывал факты лишь в общих чертах. Судья Пейдерсон хмуро усмехнулся. — Ходатайство отклонено, — объявил он. — Я требую занесения в протокол! — крикнул Стеджер. — Насколько мне помнится, — отвечал Стинер, нервно барабаня пальцами по ручке кресла, — он сказал, что, если я не дам ему триста тысяч долларов, он обанкротится, а я стану нищим и угожу в тюрьму. — Я возражаю! — пронзительно крикнул Стеджер, вскакивая с места. — Ваша честь, я возражаю против самого метода допроса, применяемого обвинением! Обвинитель поступает противозаконно и беспрецедентно, пытаясь извлечь из отнюдь не надежной памяти свидетеля показания, не имеющие ровно никакого отношения к фактам, интересующим суд; эти показания не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли мистер Каупервуд полагал, что он обанкротился, или нет. Мистер Стинер может привести свою версию этого разговора или какой-либо другой беседы, имевшей место в то время, а мистер Каупервуд — свою. Факт тот, что их версии полностью расходятся. Не понимаю, чего, собственно, хочет добиться мистер Шеннон столь странными методами, разве только повлиять на присяжных заседателей и внушить им доверие к заявлениям, которые угодно делать обвинителю, хотя он при всем желании не может подтвердить их фактами. Мне думается, ваша честь, вам следует предупредить свидетеля, что он должен показывать только то, что помнит в точности, а не то, что ему «как будто помнится». Я лично полагаю, что все показания свидетеля, сделанные им за последние пять минут, следует изъять из протокола. — Ходатайство отклонено, — хладнокровно отозвался судья Пейдерсон, и Стеджер, произнесший эту тираду главным образом для того, чтобы ослабить впечатление, произведенное на присяжных показаниями Стинера, опустился на свое место. Шеннон снова принялся за Стинера: — Теперь я попрошу вас, мистер Стинер, рассказать суду, возможно более точно, что еще говорил вам тогда мистер Каупервуд. Едва ли он ограничился одним замечанием, что вы будете разорены и попадете в тюрьму. Неужели ничего другого при этом не было сказано? — Насколько мне помнится, — отвечал Стинер, — он сказал еще, что шайка политических интриганов пытается застращать меня, что, если я не дам ему трехсот тысяч долларов, мы оба будем разорены и все равно семь бед — один ответ. — Ага! — вскричал Шеннон. — Он так и сказал? — Да, сэр, он так и сказал, — подтвердил Стинер. — Но как он выразился? Не можете ли вы точно вспомнить его слова? — обрадовался Шеннон; он протянул руку к Стинеру, словно приглашая его неотчетливее вспомнить разговор, происшедший между ним и Каупервудом. — Насколько я припоминаю, он именно так и сказал, — уклончиво отозвался Стинер. — Семь бед — один ответ. — Совершенно верно! — воскликнул Шеннон и резко повернулся спиной к присяжным, чтобы бросить взгляд на Каупервуда. — Я так и предполагал! — Низкопробная уловка, ваша честь! — закричал Стеджер, вскакивая с места. — Все это делается с целью повлиять на господ присяжных заседателей. Это фиглярство! Я просил бы вас сделать предупреждение представителю обвинения, просить его придерживаться фактов, если он таковыми располагает, и оставить эти актерские замашки! В зале заулыбались. Заметив это, судья Пейдерсон сурово нахмурился. — Вы вносите возражение, мистер Стеджер? — осведомился он. — Да, конечно, ваша честь, — подтвердил неугомонный защитник. — Ходатайство отклонено. И обвинитель и защитник вольны в своих словах. Стеджер сам готов был улыбнуться, но не осмелился. Каупервуд, боясь, что показания Стинера представили его в очень уж невыгодном свете, все же с жалостью смотрел на казначея. Какая бесхарактерность! Какое слабоволие! До чего довела их обоих его трусость! Когда Шеннон, выудив у свидетеля эти неутешительные для Каупервуда сведения, кончил допрос, за Стинера принялся Стеджер, но ему удалось извлечь из казначея меньше, чем он рассчитывал. Стинер говорил сущую правду, а впечатление, производимое правдой, трудно ослабить каким-либо ловким трюком, хотя иногда это и удается. Стеджер кропотливо перебирал все детали взаимоотношений Стинера с Каупервудом, стараясь выставить обвиняемого бескорыстным посредником, а отнюдь не инициатором хитроумной и преступной авантюры. Задача, взятая им на себя, была нелегка. Стеджеру, однако, удалось произвести более или менее выгодное впечатление. И все же присяжные слушали его скептически. Быть может, думали они, несправедливо наказывать Каупервуда за то, что он с такою жадностью ухватился за представившуюся ему возможность быстрого обогащения, но, право же, не стоило и прятать под маской невинности столь явную человеческую алчность. Наконец оба — и прокурор и защитник — на время оставили в покое Стинера, и в качестве свидетеля был вызван Альберт Стайерс. Стайерс остался все тем же худощавым, подвижным и располагающим к себе человеком, каким он был во время расцвета своей служебной карьеры; пожалуй, он казался только чуть-чуть бледнее, вот и все. Свое маленькое состояние он спас благодаря Каупервуду, который посоветовал ему довести до сведения «Ассоциации помощи городскому самоуправлению», что его поручители намереваются присвоить себе его залог, тогда как по закону он должен перейти к городу, если у властей имеются обоснованные претензии, каковых в данном случае не имелось. Неизменно бдительная ассоциация выпустила по этому поводу одно из своих многочисленных «заявлений», и Альберт с удовольствием наблюдал, как Стробик и другие немедленно пошли на попятный. Естественно, что Стайерс испытывал своего рода благодарность к Каупервуду, хотя однажды напрасно со слезами молил его о помощи. Он очень хотел сейчас быть ему полезным, но, как человек по натуре правдивый, не сумел в своих показаниях изложить ничего, кроме фактов, которые частично свидетельствовали в пользу Каупервуда, частично же против него. Стайерс показал, что Каупервуд в тот день сообщил ему о приобретении сертификатов, потребовал причитающиеся за них деньги и добавил, что Стинер совершенно напрасно так напуган и еще, что ему, Стайерсу, не грозит никакая опасность. Далее Стайерс подтвердил правильность записей в предъявленных ему бухгалтерских книгах городского казначейства, а также соответствующих записей в книгах Каупервуда. Его показание, что Стинер был поражен, узнав о выдаче управляющим канцелярией чека, было против Каупервуда. Но тот надеялся, что ему удастся сгладить своими показаниями эффект этого сообщения. До этого момента и Стеджер и Каупервуд считали, что все складывается для них более или менее благоприятно и ничего не будет удивительного, если они выиграют процесс.Глава 42
Разбирательство продолжалось. Один за другим выступали свидетели обвинения, пока, наконец, Шеннон не уверился в том, что в достаточной мере изобличил Каупервуда, после чего объявил свою миссию временно законченной. Тогда с места поднялся Стеджер и начал препираться с судьей, требуя прекращения дела ввиду отсутствия таких-то и таких-то улик, подтверждающих состав преступления. Но Пейдерсон упорно стоял на своем. Он слишком хорошо знал, какое значение придают этому делу в политических кругах Филадельфии. — Я считаю, мистер Стеджер, что это не подлежит рассмотрению, — усталым голосом произнес он, выслушав пространную тираду защитника. — Традиции городской администрации мне известны, и предъявленное здесь обвинение к ним никакого отношения не имеет. Вам следует адресоваться к присяжным, а не ко мне. Я сейчас вникать в эти подробности не могу. За вами остается право возобновить ходатайство к концу рассмотрения дела. Ходатайство отклонено. Окружной прокурор Шеннон, слушавший с глубоким вниманием, опустился на свое место. Убедившись, что никакими хитроумными доводами судью не проймешь, Стеджер подошел к Каупервуду, который только улыбнулся его неудаче. — Нам, очевидно, остается возложить все надежды на присяжных! — сказал Стеджер. — Я в этом не сомневался, — отвечал Каупервуд. Тогда Стеджер обратился с речью к присяжным; вкратце изложив им свою точку зрения на дело, он перешел к выводам из свидетельских показаний. — Собственно говоря, джентльмены, особой разницы между показаниями свидетелей обвинения и свидетелей защиты быть не может. Мы не собираемся оспаривать ни того, что мистер Каупервуд получил от мистера Стинера чек на шестьдесят тысяч долларов, ни того, что он не сдал в амортизационный фонд сертификатов городского займа на означенную сумму (кстати, законно им полученную за посредничество), хотя он, по утверждению обвинителя, был обязан это сделать. Но мы, со своей стороны, утверждаем и сумеем, бесспорно, доказать, что как агент городского казначейства, свыше четырех лет находившийся в деловых отношениях с городским самоуправлением, он был вправе, согласно своей договоренности с казначеем, производить любые расчеты, а равно и сдачу сертификатов в амортизационный фонд первого числа следующего месяца, то есть ближайшего первого числа после той или иной сделки. В подтверждение наших слов мы можем назвать ряд коммерсантов и банкиров, которые в прошлом вели дела с городским казначейством на основе точно такой же договоренности. Обвинитель хочет внушить вам, во-первых, будто мистер Каупервуд, получая этот чек, уже знал о предстоящем ему банкротстве, во-вторых, будто он, вопреки его утверждению, вовсе не покупал сертификатов для передачи их в амортизационный фонд, и, наконец, будто, зная о своем предстоящем банкротстве и невозможности сдать по назначению сертификаты займа, он все же спокойно отправился к мистеру Альберту Стайерсу, управляющему канцелярией мистера Стинера, и, заявив ему, что приобрел для города такое-то количество сертификатов, обманным путем получил чек. Я не собираюсь, джентльмены, затевать излишние словопрения по этому вопросу; свидетельские показания сейчас с достаточной ясностью осветят факты. Мы предоставим слово целому ряду свидетелей и очень просим вас выслушать их со вниманием. Покорнейше прошу вас также учесть следующее: ни от одного из свидетелей, если не считать мистера Джорджа Стинера, мы не слышали даже косвенного подтверждения того, что мистер Каупервуд в момент своего визита к городскому казначею знал о грозящем ему банкротстве или что он будто бы вовсе не покупал пресловутых сертификатов, равно как и того, что он будто бы не имел права держать их у себя с тем, чтобы сдать в амортизационный фонд лишь к первому числу следующего месяца, то есть в срок, когда обычно подводился баланс его расчетов с городским казначейством. Мистер Стинер, бывший городской казначей, может, конечно, утверждать, что ему угодно. Мистер Каупервуд, со своей стороны, будет утверждать обратное. Вам, джентльмены, предстоит рассудить, кто из них внушает больше доверия: Джордж Стинер — бывший городской казначей, некогда состоявший в деловом товариществе с моим подзащитным и теперь ополчившийся на человека, чей неустанный и многолетний труд обогатил его, только потому, что чикагский пожар вызвал на бирже панику и финансовые потрясения; или мистер Фрэнк Каупервуд, видный банкир и финансист, который сделал все от него зависевшее, чтобы собственными силами противостоять буре, который с пунктуальной точностью соблюдал свое соглашение с городом и до последнего момента прилагал все усилия, чтобы преодолеть денежные затруднения, навлеченные на него пожаром и паникой. Не далее как вчера мистер Каупервуд предложил городу возместить всю свою задолженность (хотя фактически он не единственный должник) и в самом скором времени — если только ему позволят не закрывать свою контору — вернуть все до единого доллара, включая те пятьсот тысяч, о которых здесь шла речь, и таким образом доказать не на словах, а на деле, что ни у кого нет и не было никаких оснований подозревать его в нечестных намерениях. Как вы, вероятно, уже догадываетесь, джентльмены, город не соблаговолил принять его предложение; позднее я возьму на себя смелость объяснить, почему именно. Пока же мы продолжим допрос свидетелей. А я от имени защиты вторично попрошу вас внимательно выслушать их показания. Вникните в то, что будет говорить мистер Дэвисон, когда он выступит здесь в качестве свидетеля. С не меньшей тщательностью взвесьте показания мистера Каупервуда и всех прочих. Тогда вам нетрудно будет составить на этот счет свое собственное мнение и решить, имеются ли достаточные основания для этого судебного преследования! Я лично таковых не вижу. Разрешите выразить вам признательность, джентльмены, за внимание, с которым вы меня выслушали. Затем Стеджер вызвал Артура Райверса, который должен был засвидетельствовать, что во время паники на бирже он, как агент Каупервуда, скупал большими партиями облигации городского займа в целях поддержания их курса. Вслед за ним братья Каупервуда, Эдвард и Джозеф, показали, что ими были получены инструкции от Райверса покупать и продавать вышеупомянутые облигации, но главным образом — покупать. Следующим свидетелем был мистер Дэвисон, председатель правления Джирардского национального банка, крупный мужчина, не столько полный, сколько широкий и тяжеловесный Грудь и плечи у него были могучие, волосы белокурые, голова большая, с крутым, широким лбом умного и здравомыслящего человека. Толстый, чуть приплюснутый нос придавал его лицу выражение силы, губы у него были тонкие, плотно сжатые и прямые. В холодных голубых глазах мистера Дэвисона иногда мелькали искорки скептического юмора; вообще говоря, это был доброжелательный, живой, миролюбивый человек, хотя внешность его скорее свидетельствовала об обратном. С первых же его слов стало ясно, что он привык считаться лишь с непреложными фактами финансовой жизни и по самому складу своего характера тяготел к Фрэнку Алджернону Каупервуду, хотя тот как личность и не восхищал его. По неторопливым, исполненным сознания собственного достоинства движениям было видно, что он считает все эти судебные процедуры чем-то вздорным, ненужным, посягающим на достоинство подлинного финансиста, короче говоря — докучливой чепухой. На сонного пристава Спаркхивера, подавшего ему Библию для присяги, он обратил так же мало внимания, как если бы это был деревянный чурбан. Присяга в его представлении была чистой формальностью. Иногда говорить правду выгодно, иногда нет. Свои показания он давал непринужденно и просто. Мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда он знает без малого десять лет. Почти все это время он вел дела либо с ним самим, либо через него с другими лицами. О взаимоотношениях мистера Каупервуда с мистером Стинером ему ничего не известно, с последним он даже не знаком. Что касается чека на шестьдесят тысяч долларов — да, он его видел. Чек этот был передан его банку десятого октября вместе с другими ценными бумагами в обеспечение кредита, который был превышен банкирской конторой «Каупервуд и К°». Эта сумма была занесена в кредит банкирской конторы «Каупервуд и К°», а банк, со своей стороны, реализовал чек через расчетную палату. После этого никаких сумм, превышающих кредиты мистера Каупервуда, из банка взято не было, и счет этого финансиста был, таким образом, сбалансирован. Между тем мистер Каупервуд мог бы получить в банке весьма значительные суммы, и никто не заподозрил бы его в неблаговидных действиях. Он, Дэвисон, понятия не имел, что Каупервуду грозит банкротство, и никогда бы не предположил, что это может случиться так внезапно. Каупервуд неоднократно превышал свой кредит в Джирардском национальном банке, что всегда считалось самым обыденным явлением. Такое превышение кредита давало Каупервуду возможность активно использовать свои ресурсы, а в финансовом мире это называется умелым ведением дел. Превышая кредит, он всегда обеспечивал эти суммы и обычно присылал в банк целые пачки ценных бумаг и чеков, которые затем так или иначе использовались. Счет мистера Каупервуда в банке был самый крупный и самый активный, добавил мистер Дэвисон. К моменту банкротства мистера Каупервуда в Джирардском национальном банке находилось на девяносто с лишним тысяч долларов облигаций городского займа, присланных туда мистером Каупервудом в качестве обеспечения. Во время перекрестного допроса Шеннон, стремясь произвести надлежащее впечатление на присяжных, допытывался, нет ли у мистера Дэвисона каких-либо скрытых причин быть расположенным к Каупервуду. Но из этой затеи ничего не вышло. Стеджер брал слово вслед за ним и делал все от него зависевшее, чтобы благоприятные для Каупервуда показания мистера Дэвисона запечатлелись в умах присяжных; для этой цели он заставлял президента банка снова и снова повторять сказанное. Шеннон, конечно, протестовал, но тщетно. Стеджеру удалось добиться своего. Наконец защитник предоставил слово Каупервуду; как только эта фамилия была произнесена, все насторожились. Каупервуд бодрым, быстрым шагом вышел вперед. Он был спокоен и уверен в себе; сейчас решалась вся его жизнь, которую он так высоко ценил. Ни юристы, ни присяжные, ни эта марионетка — судья, ни козни судьбы не потрясли его, не смирили, не подорвали его сил. Сейчас он вдруг понял, что представляют собой эти присяжные. Он хотел помочь своему защитнику запутать Шеннона, смешать все его карты, но разум приказывал ему оперировать только неопровержимыми фактами или тем, что можно выдать за таковые. Он был уверен, что как финансист он поступил правильно. Жизнь — война, и в особенности жизнь финансиста; стратегия — ее закон, ее краеугольный камень, ее необходимость. Зачем же тревожиться из-за жалких душонок, неспособных это понять? Чтобы помочь Стеджеру и воздействовать на присяжных, он рассказал всю свою историю, которую представил в наиболее разумном и благоприятном для него освещении. Во-первых, он не по своей инициативе пошел к мистеру Стинеру, а только откликнулся на его приглашение. Во-вторых, он ни к чему не принуждал мистера Стинера. Он только обрисовал ему и его друзьям некоторые финансовые возможности, и те с благодарностью за них ухватились. (Шеннон в это время еще не сумел дознаться, как хитро были организованы конно-железнодорожные компании Каупервуда; фокус же здесь заключался в том, что этот хитрец все время оставлял за собой возможность «вытряхнуть» своих компаньонов, да так, чтобы те и пикнуть не успели. Потому-то Каупервуд и имел сейчас смелость распространяться о «блестящих возможностях», предоставленных им Стинеру. Шеннон не мог его изобличить, ибо, так же как и Стеджер, не был финансистом. Им оставалось только верить Каупервуду на слово, хотя Шеннон и не был расположен это делать.) — Как могу я нести ответственность за обычаи, укоренившиеся в казначействе? — заявил Каупервуд. — Я в конце концов только банкир и маклер. Глядя на него, присяжные верили всему, но только не версии с чеком на шестьдесят тысяч долларов, хотя и по атому пункту Каупервуд привел достаточно правдоподобное объяснение. В те дни, когда он еще бывал у Стинера, ему и в голову не приходила мысль о банкротстве. Правда, он просил Стинера одолжить ему денег, но — принимая во внимание масштаб их дел — не такую уж большую сумму, всего полтораста тысяч долларов. Стинер, по справедливости, мог бы подтвердить, что он, Каупервуд, не обнаруживал тогда ни малейшей тревоги. Казначей был для него лишь одним из источников, откуда он черпал средства. В то время у него существовало еще и множество других. Он никогда не прибегал к столь сильным выражениям, как показал Стинер, и вовсе не так уж настаивал на этой ссуде, хотя и объяснил Стинеру, что тот совершает ошибку, поддаваясь панике и отказывая ему в дальнейшем кредите. Этот источник получения средств был для него наиболее доступным и-удобным, но не единственным. Он имел все основания полагать, что его друзья из числа крупных финансистов в случае надобности расширят ему кредит, благодаря чему он успеет привести свои дела в порядок и будет продолжать работу, а тем временем буря уляжется. Он говорил Стинеру, что в первый день паники скупил на бирже значительное количество облигаций городского займа с целью поддержать их курс и что ему причитается с городского казначейства шестьдесят тысяч долларов. Стинер не возражал. Не исключено, конечно, что казначей был расстроен и недостаточно вслушался в его слова. Вслед за тем, к вящему его, Каупервуда, удивлению, на крупнейшие банкирские дома был произведен нажим — кем и в силу каких причин, он не знает, — принудивший их обойтись с ним весьма жестоко. Этот нажим, еще усилившийся на следующий день, заставил его закрыть контору, хотя он до последней минуты не верил, что это возможно. Чек на шестьдесят тысяч долларов попал к нему в руки по случайному стечению обстоятельств. Деньги ему были нужны — этого он не отрицает, — упомянутая сумма причиталась ему на законном основании, а все его служащие были в этот день очень заняты. Он попросил выписать ему чек и захватил его с собою просто ради экономии времени. Стинер прекрасно знал, что, откажись он выдать этот чек, Каупервуд взыскал бы деньги в судебном порядке. Что же касается несдачи приобретенных им сертификатов в амортизационный фонд, то это момент чисто технический, он лично в технику дел никогда не вникал. Такими делами ведал его бухгалтер, мистер Стэпли. Он, Каупервуд, даже не знал, что сертификаты не сданы по назначению. (Явная ложь: что-что, а уж это он знал!) Джирардскому национальному банку пресловутый чек был передан по чистой случайности. Сложись обстоятельства по-другому, он мог с таким же успехом попасть в какой-нибудь другой банк. В этом тоне Каупервуд и продолжал свои показания; на все хитроумные вопросы Стеджера и Шеннона он отвечал с такой располагающей откровенностью, так серьезно, деловито и внимательно относясь к судебной процедуре, что можно было поклясться: этот человек — олицетворение так называемой коммерческой чести. По правде говоря, он и в самом деле верил, что все им содеянное, все, что он сейчас изложил суду, согласуется с законом и оправдано необходимостью. Он старался изобразить присяжным дело так, как оно представлялось ему, чтобы каждый из них мог поставить себя на его место и понять его побуждения. Наконец он кончил, и надо заметить, что присяжные весьма разноречиво отнеслись как к его показаниям, так и к нему самому. Первый по жребию присяжный, Филипп Молтри, решил, что Каупервуд лжет. Он не представлял себе, чтобы человек мог не знать о предстоящем ему вскоре банкротстве. Разумеется, он знал! Да и вообще все его махинации в компании со Стинером так или иначе заслуживали наказания; в продолжение всей речи Каупервуда Молтри только и думал о том, как он в совещательной комнате произнесет: «Да, виновен!» Для этого он и обдумывал доводы, которые должны будут убедить других в виновности Каупервуда. Напротив, второй присяжный, Саймон Гласберг, текстильный фабрикант, полагал, что все поступки Каупервуда вполне правомерны, и решил голосовать за оправдательный вердикт. Безупречным он Каупервуда не считал, но и не считал его заслуживающим наказания. Третий присяжный, архитектор Флетчер Нортон, полагал, что Каупервуд виновен, но вместе с тем находил, что такого одаренного человека не стоит сажать в тюрьму. Четвертый, Чарлз Хиллеген, подрядчик ирландского происхождения, человек религиозного склада, считал, что Каупервуд виновен и должен понести наказание. Пятый, Филипп Лукаш, торговец углем, держался того же мнения. Шестой присяжный, Бенджамин Фрейзер, специалист по горному делу, слушая Каупервуда, не пришел ни к каким определенным выводам. Седьмой, Дж. Бриджес, биржевой маклер, имевший контору на Третьей улице, человек ограниченный и узкопрактический, считал Каупервуда опасным воротилой, безусловно виновным и заслуживающим наказания. Он твердо решил голосовать за обвинительный вердикт. Восьмой, Гай Трипп, управляющий небольшой пароходной компанией, колебался. Девятый, Джозеф Тисдейл, в прошлом фабрикант клея, думал, что Каупервуд, пожалуй, и виновен, но в глубине души не считал его действия преступными, — обстоятельства сложились так, что ничего другого не оставалось. Тисдейл решил голосовать за оправдание. Десятый присяжный, Ричард Марш, склонный к сентиментальности, владелец цветочного магазина, тоже сочувствовал Каупервуду. Одиннадцатый, Ричард Уэббер, бакалейщик, мелкая сошка в коммерческом мире, зато ражий детина, был против Каупервуда. Он считал его виновным. И наконец, двенадцатый, Уошингтон Томас, владелец мучного лабаза, полагая Каупервуда виновным, все же считал, что после приговора ему следовало бы ходатайствовать о помиловании. Людей надо исправлять — таков был его девиз. Вот какую позицию занимали присяжные, когда Каупервуд кончил говорить и сел, раздумывая о том, произвели ли его показания хоть сколько-нибудь благоприятное впечатление.Глава 43
Поскольку адвокату первому предоставляется право обратиться с речью к присяжным, то Стеджер, учтиво поклонившись своему коллеге, выступил вперед. Опершись руками о барьер, за которым сидели присяжные, он начал говорить спокойно, скромно и убедительно. — Господа присяжные заседатели! Мой подзащитный, мистер Фрэнк Алджернон Каупервуд, известный в нашем городе банкир и финансист, чья контора находится на Третьей улице, обвиняется штатом Пенсильвания, представленным здесь окружным прокурором, в получении из казначейства города Филадельфии обманным путем шестидесяти тысяч долларов в виде чека от девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года, выписанного на его имя неким Альбертом Стайерсом, управляющим канцелярией и главным бухгалтером тогдашнего казначея. Итак, господа, каковы же факты? Вы слышали показания ряда свидетелей и знаете в общих чертах всю историю. Возьмем для начала показания Джорджа Стинера. Он заявил, что в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году ему был необходим человек — банкир идя маклер, — который мог бы посоветовать, как поднять до паритета городской заем, котировавшийся в то время очень низко, и не только посоветовать, но и провести эту операцию в жизнь. Мистер Стинер в ту пору мало что смыслил в финансах. Мистер Каупервуд был энергичным молодым человеком и пользовался репутацией на редкость искусного биржевого маклера. Он немедленно изыскал возможность, не только абстрактную, но и практическую, повысить котировку городского займа. Мистер Каупервуд и мистер Стинер тогда же вошли а соглашение — подробности вы слышали из уст самого Стинера, — на основании которого крупный пакет облигаций городского займа был вручен мистером Стинером для реализации моему подзащитному, и тот благодаря умелому маневрированию, попеременно то покупая, то продавая облигации, — останавливаться на этом особо не стоит, замечу только, что такие операции часто и вполне легально производятся в финансовом мире, — поднял заем до паритета и, как показали свидетели, годами поддерживалего курс. Так что же теперь случилось, джентльмены, какие такие обстоятельства заставили мистера Стинера явиться в зал суда и выдвинуть против своего давнишнего агента и маклера, обвинение в хищении и растрате? Что заставило его утверждать, будто тот злонамеренно присвоил шестьдесят тысяч долларов из средств городского казначейства? Как это понимать? Может быть, мистер Каупервуд в неурочное время, с преступными намерениями, без ведома мистера Стинера и его помощников забрался в казначейство и унес оттуда шестьдесят тысяч долларов городских денег? Ничего подобного! Обвинение, как вы слышали из уст окружного прокурора, гласит, что мистер Каупервуд явился к казначею среди бела дня, между четырьмя и пятью часами, за день до того, как он объявил себя неплатежеспособным, и просидел с мистером Стинером в его кабинете около получаса. Затем он вышел оттуда, сообщил мистеру Альберту Стайерсу, что приобрел на шестьдесят тысяч долларов облигаций городского займа для амортизационного фонда, за каковые ему еще не было уплачено, попросил кредитовать эти шестьдесят тысяч в отчетности казначейства, ему же выдать чек на означенную сумму; чек был ему вручен, и он удалился. Что тут особенного, джентльмены? Или необычного? Отрицал ли кто-нибудь из свидетелей, что мистер Каупервуд был агентом города именно по такого рода сделкам? Усомнился ли кто-нибудь в том, что мистер Каупервуд действительно приобрел эти облигации городского займа? Почему же в таком случае мистер Стинер обвиняет мистера Каупервуда в мошенническом присвоении и преступной растрате шестидесяти тысяч долларов, выданных ему за облигации, которые он имел право купить и которые — чего никто не оспаривает, — он действительно купил? Вот тут-то собака и зарыта, — сейчас вы все поймете, господа присяжные заседатели! Мой подзащитный затребовал чек, взял его и положил деньги в банк на свое имя, не потрудившись — как утверждает обвинение — передать в амортизационный фонд те облигации, в оплату которых был выдан упомянутый чек. Не сделав этого своевременно и будучи вынужден под давлением финансовых событий прекратить платежи, он тем самым — так явствует из обвинения, а также из высказываний встревоженных лидеров республиканской партии — сделался растратчиком, вором, чем хотите, проще же говоря — козлом отпущения, отвлекающим общественное мнение от Джорджа Стинера и вожаков республиканской партии. Здесь мистер Стеджер дал смелую, более того, вызывающую характеристику политического положения, сложившегося после чикагского пожара и вызванной им паники, причем Каупервуд у него выглядел несправедливо оклеветанным человеком, которого политические заправилы Филадельфии до пожара ценили очень высоко, но впоследствии, опасаясь провала на выборах, избрали козлом отпущения. На это у Стеджера ушло с полчаса времени. Затем, отметив, что Стинер — прихвостень и в то же время ширма для политических воротил — был использован ими в качестве слепого орудия для осуществления финансовых замыслов, с которыми им нежелательно было связывать свои имена, он продолжал: — Теперь, после всего мною сказанного, вдумайтесь, господа присяжные, до чего смехотворно все это обвинение! До чего оно нелепо! Фрэнк Каупервуд в течение многих лет действовал как агент города в такого рода делах. В своих действиях он руководствовался определенными условиями, принятыми им вместе с мистером Стинером и, очевидно, с благословения вышестоящих лиц, ибо эти условия и правила применялись и прежними деятелями городской администрации задолго до появления на сцене мистера Стинера в качестве городского казначея. Согласно одному из таких правил, Каупервуд был обязан подводить баланс всем своим сделкам и отчитываться в них к первому числу каждого следующего месяца. Это значит, что он не должен был ни уплачивать городскому казначею какие-либо суммы, ни передавать ему какие-либо чеки, ни сдавать деньги или сертификаты в амортизационный фонд до первого числа следующего месяца, потому что — прошу вашего внимания, господа присяжные, это чрезвычайно важно! — потому что сделки, связанные с городским займом, как и все прочие, которые он заключал для городского казначейства, были так многочисленны, так молниеносны, так непосредственны, что для их проведения необходима была гибкая, не связывающая рук система расчетов, в противном случае они вообще были бы неосуществимы. Без такой системы мистер Каупервуд не мог бы удовлетворительно выполнять поручения мистера Стинера или других лиц, причастных к казначейству. Ведение постоянной отчетности было бы до крайности затруднено и для мистера Каупервуда и для городского казначея. Мистер Стинер сам признал это в своих показаниях. Альберт Стайерс это подтвердил. Итак, что же дальше? Дальше я скажу следующее. Какой же суд может предположить, какой здравомыслящий человек может поверить, чтобы при таком положении вещей мистер Каупервуд сам возился со всеми этими вкладами в различные банки, в амортизационный фонд и в городскую кассу или же напоминал своему главному бухгалтеру: «Послушайте, Стэпли, вот чек на шестьдесят тысяч долларов, позаботьтесь сегодня же передать в амортизационный фонд сертификаты городского займа на эту сумму». Нелепейшее предположение! Разумеется, у мистера Каупервуда, как и у всякого делового человека, была своя система. Когда наступал срок, определенные чеки и сертификаты автоматически передавались куда следует. Мистер Каупервуд, вручив чек своему главному бухгалтеру, больше о нем и не вспоминал. Можно ли себе представить, чтобы банковский деятель такого масштаба поступал иначе? Мистер Стеджер перевел дыхание и сделал паузу, ожидая вопросов, но, поскольку таковые не последовали, удовлетворенно продолжал: — Правда, на это можно возразить, что, мол, мистер Каупервуд знал о предстоящем ему банкротстве. Но мистер Каупервуд утверждает, что он об этом не подозревал. Сейчас только он свидетельствовал, что лишь в последнюю минуту узнал о том, как обернулись события. В таком случае, кто же мог отказать ему в выдаче чека, на который он имел законное право? Но я знаю, в чем тут дело. И думаю, что смогу все объяснить вам, если вы соблаговолите меня выслушать. Стеджер сделал попытку воздействовать на присяжных с другой позиции. — Все очень просто; мистер Джордж Стинер, напуганный пожаром и последовавшей за ним паникой, — и, может быть, именно потому, что мистер Каупервуд советовал ему не пугаться событий, происходивших на филадельфийской бирже, — вообразил, будто мистеру Каупервуду грозит банкротство. А так как у мистера Стинера в банкирской конторе Каупервуда была депонирована значительная сумма на очень низких процентах, то он решил не давать мистеру Каупервуду больше денег — даже тех, которые причитались ему за услуги и не имели ровно никакого отношения к суммам, взятым им взаймы из расчета двух с половиной процентов. Нелепейшее поведение! Но объяснялось оно тем, что мистер Джордж Стинер после пожара и паники, вначале никак не повлиявших на платежеспособность мистера Каупервуда, буквально дрожал за собственную шкуру, и если он решил не давать Фрэнку Каупервуду даже тех денег, которые тому причитались по праву, то лишь оттого, что сам он, Стинер, в своекорыстных интересах незаконно пользовался городскими средствами (правда, при посредстве мистера Каупервуда как маклера) и теперь боялся разоблачения и наказания. Разрешите спросить вас, господа присяжные, была ли хоть крупица благоразумия в таком решении мистера Стинера? И как вы себе это решение объясняете? Состоял ли еще мистер Каупервуд агентом города, когда он приобрел сертификаты займа, о которых здесь говорилось? Разумеется, состоял. А в таком случае, имел ли он право на этот чек в шестьдесят тысяч долларов? Найдется ли здесь хоть один человек, который решится это право оспаривать? Тогда что же значат все эти сомнения в его правах и в его честности? Откуда вообще могли возникнуть подобные разговоры? Я сейчас вам отвечу. Они могли возникнуть лишь в силу одной причины, а именно: ввиду желания местных политических деятелей снять подозрение с республиканской партии и свалить вину на кого-нибудь другого. Вам может показаться, господа присяжные, что я слишком далеко зашел в своих поисках подоплеки этого, мягко выражаясь, странного решения обвинить мистера Каупервуда, агента городского казначейства, в том, что он потребовал и получил законно причитавшиеся ему деньги. Но учтите положение, в котором оказалась тогда республиканская партия. Учтите, что это произошло накануне выборов и что всякое разоблачение подробностей столь крупной растраты городских средств чрезвычайно неблагоприятно отразилось бы на исходе голосования. Республиканской партии предстояло провести своих ставленников на посты казначея и окружного прокурора. Надо сказать, что среди ее лидеров укоренилась традиция давать городским казначеям и их присным возможность наживаться путем выдачи из средств города ссуд на очень низких процентах. Жалованье им полагалось небольшое, а следовательно, надо было выискивать средства для приличного существования. Можно ли считать мистера Стинера ответственным за этот обычай давать взаймы деньги, принадлежащие городу? Ни в какой мере. Ответствен ли за него мистер Каупервуд? Ни в какой мере. Эта практика установилась задолго до того, как мистер Каупервуд и мистер Стинер появились на сцене. Почему же теперь поднялась вся эта шумиха? Да потому, что и Стинер и лидеры республиканской партии убоялись разоблачения перед выборами. Ни одного городского казначея еще ни разу не выводили на чистую воду. Разоблачение бесчестных методов, которыми пользовался мистер Стинер, для широкой публики явилось бы ошеломляющей новостью. Чикагский пожар и сопровождавшая его биржевая паника грозили подорвать устойчивость и кредитоспособность многих финансовых учреждений нашего города, в том числе и конторы мистера Каупервуда. Перед многими финансистами встала опасность банкротства, следовательно, мог обанкротиться и Фрэнк Каупервуд. А обанкротившись, он задолжал бы городу Филадельфии пятьсот тысяч долларов, полученных взаймы от городского казначея на очень льготных условиях, — из расчета двух с половиной процентов. Может быть, это невыгодно характеризует мистера Каупервуда? Может быть, он сам пошел к городскому казначею и просил ссудить его деньгами из расчета двух с половиной процентов? Но даже если и так — что в этом преступного с деловой точки зрения? Разве каждому не дано право занимать деньги где угодно и на каких угодно процентах? Разве мистера Стинера принуждали давать деньги мистеру Каупервуду? Мистер Стинер показал сегодня, что он первый пригласил к себе мистера Каупервуда. Откуда же, скажите на милость, взялось это дикое обвинение в хищении, в растрате, в присвоении собственности доверителя и так далее и тому подобное? А вот откуда. Еще раз, господа присяжные, прошу вашего внимания. Лицам, стоявшим за спиной мистера Стинера, лицам, руководившим его действиями, для спасения своей политической репутации понадобился козел отпущения — а под руку им попался именно Фрэнк Алджернон Каупервуд. Вот и все. Никакой другой причины нет, не было и не могло быть. Если мистер Каупервуд в ту тяжкую минуту нуждался в деньгах, чтобы преодолеть трудности, то в их интересах было выплатить ему ссуду и предать все дело забвению. Это было бы, конечно, незаконно — так же незаконно, как и многое другое, что делалось ими, — зато куда более безопасно. Но страх, господа присяжные, страх, малодушие и неспособность взглянуть в лицо кризису помешали им так поступить. Они боялись оказать доверие человеку, который до сих пор никогда этим доверием не злоупотреблял, человеку, чья преданность и исключительная финансовая одаренность приносили немало выгоды им и городскому самоуправлению. У бывшего городского казначея не хватило мужества остаться верным своему соратнику и пренебречь слухами о его возможном банкротстве, он предпочел — чего он сам не отрицает, — спасая свою шкуру, потребовать от мистера Каупервуда возврата пятисот тысяч долларов или большей части этой суммы, фактически использованной мистером Каупервудом для его же, Стинера, выгоды, и вдобавок еще отказался возместить деньги, которые мой подзащитный, действуя согласно договоренности, израсходовал на покупку облигаций. Является ли хоть одна из сделок, совершенных мистером Каупервудом, противозаконной? Нет, не является. Был ли мистеру Каупервуду своевременно предъявлен иск на эти пятьсот тысяч долларов, которые он теперь вряд ли сможет возвратить городу из-за своего банкротства? Ничуть не бывало. Все дело в том, что Джорджа Стинера охватил бессмысленный панический страх, а лидеры республиканской партии, прознав о дефиците в казначействе, пожелали выгородить казначея и свалить ответственность на человека, не состоящего в ее рядах. Вы слышали, что показал сегодня мистер Каупервуд: ведь он и пошел-то к мистеру Стинеру как раз с тем, чтобы предотвратить подобную возможность. И именно после сделанного им предостережения мистер Стинер разволновался, утратил всякое самообладание и потребовал, чтобы мой подзащитный вернул деньги — все пятьсот тысяч долларов, которые казначей ссудил ему из расчета двух с половиной процентов. Ну разве же с финансовой точки зрения это не отъявленная глупость? Нечего сказать, подходящий момент, чтобы требовать погашения совершенно законной ссуды! Однако я возвращаюсь к пресловутой истории с чеком на шестьдесят тысяч долларов. Мистер Стинер свидетельствовал здесь, что когда мистер Каупервуд накануне банкротства явился к нему, он наотрез отказался ссудить его деньгами, и тогда мистер Каупервуд будто бы без его ведома и согласия уговорил управляющего и главного бухгалтера казначейства Альберта Стайерса выписать ему чек на шестьдесят тысяч долларов, на который мой подзащитный якобы не имел права, а потому Стинер, знай он об этом, никогда бы не разрешил ему выдать этот чек. Какой вздор! Как мог Стинер об этом не знать! Бухгалтерские книги были у него в казначействе, и он мог в любую минуту заглянуть в них. Мистер Стайерс на другое утро первым делом доложил ему об этом чеке. А мистер Каупервуд забыл уже и думать о нем, так как имел право на эти деньги и без всякого труда получил бы в любом суде исполнительный лист на эту сумму, независимо от своего банкротства. Утверждение мистера Стинера, что он задержал бы выдачу чека, попросту смехотворно. Эта мысль, несомненно, пришла ему в голову лишь на другой день, после разговора с его политическими единомышленниками, когда было решено любой ценой, любыми путями и средствами отвести подозрение от деятелей республиканской партии. Вот и вся предыстория этого дела. И вы можете быть уверены, что это прекрасно понимают те, кто так старается добиться обвинительного приговора для мистера Каупервуда. Стеджер сделал паузу и многозначительно взглянул на Шеннона. — Господа присяжные заседатели! — произнес он в заключение спокойным и проникновенным голосом. — Когда вы приступите к обсуждению этого дела в совещательной комнате, вы убедитесь, что и хищение, и растрата, и незаконное присвоение чека на шестьдесят тысяч долларов, то есть все пункты обвинения, свидетельствуют лишь о настойчивом стремлении окружного прокурора создать видимость преступления и являются просто-напросто плодом взбудораженной фантазии трусливых политиканов, спасающих за счет мистера Каупервуда собственную шкуру, иными словами — выдумкой бесчестных людей, которые преследуют только одну цель: выйти сухими из воды. Они боятся, как бы у членов республиканской партии в Пенсильвании не создалось слишком уж нелестное мнение о партийной верхушке и ее хозяйничании у нас в Филадельфии. Они стремятся по мере сил выгородить Джорджа Стинера и всю его вину свалить на моего подзащитного. Но этого не должно быть и не будет! Как честные и мыслящие люди, вы не допустите такого исхода дела. Посему я со спокойной душой заканчиваю свою речь! Стеджер порывисто отвернулся от присяжных и мат правился к своему месту рядом с Каупервудом. Тут поднялся Шеннон — молодой, спокойный, энергичный и напористый. По правде говоря, Шеннон не расходился со Стеджером в мнении о Каупервуде и не осуждал его за методы, к которым тот прибегал, чтобы «сделать деньги». Более того, Шеннон думал, что на месте Каупервуда поступил бы точно так же. Но он был только что избран окружным прокурором. Ему нужно было показать себя и вдобавок угодить своим хозяевам, то есть лидерам республиканской партии, считавшим, что при данном положении вещей Каупервуд должен быть осужден. Поэтому Шеннон крепко оперся руками о барьер, пристально посмотрел на присяжных, и, мысленно наметив несколько исходных положений, начал: — Господа присяжные заседатели! Мне кажется, что если все мы вдумчиво отнесемся к тому, что здесь сегодня выяснилось, то нам уже нетрудно будет прийти к определенному и, я бы сказал, исчерпывающе правильному заключению, — надо только добросовестно разобраться в фактах. Подсудимый мистер Каупервуд, как я уже говорил, обвиняется в хищении, в присвоении собственности доверителя, в растрате и дополнительно — в растрате шестидесяти тысяч долларов, полученных им по чеку, который был выдан девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года «Фрэнку А.Каупервуду и компания» управляющим канцелярией городского казначея от имени последнего, но за своей подписью. Мистер Каупервуд утверждает, что в этот момент он был не только вполне платежеспособен, но что он действительно приобрел сертификаты городского займа на шестьдесят тысяч долларов и депонировал их или собирался в ближайшее время депонировать в амортизационном фонде города, что явилось бы завершением обычной сделки, то есть приобретения на бирже «Фрэнком А.Каупервудом и компания» по доверенности города определенного количества облигаций городского займа с передачей их в амортизационный фонд и немедленным возмещением понесенных расходов. Теперь, джентльмены, попробуем разобраться, как все это обстояло на деле. Действительно ли «Фрэнк А.Каупервуд и компания», — кстати, никакой «компании», как вы могли сегодня убедиться, нет, есть только Фрэнк А.Каупервуд, — так вот, действительно ли упомянутый Фрэнк А.Каупервуд имел право на этот чек? Иными словами, являлся ли он в тот момент уполномоченным города или не являлся? Был ли он платежеспособен? Далее: знал ли он, что ему угрожает банкротство, и не ухватился ли за этот чек на шестьдесят тысяч долларов, как утопающий за соломинку, чтобы спасти свое положение в финансовом мире, не подумав даже о тех последствиях, которые может повлечь за собой этот поступок, если взглянуть на него с точки зрения закона, морали и так далее? Или же он действительно приобрел сертификаты городского займа на указанную им сумму, в указанное им время и указанным образом и получил только то, что причиталось ему по праву? Намеревался ли он сдать эти сертификаты городского займа, как он утверждает и как он, естественно, должен был сделать, в амортизационный фонд, или же у него этого намерения не было? Далее: в день, когда он получил этот чек на шестьдесят тысяч долларов, оставались ли его отношения с городским казначеем такими же, как прежде, или они стали иными? Было ли их деловое сотрудничество ликвидировано в результате беседы, имевшей место за четверть часа до получения чека, или за два дня, или за две недели — сроки здесь роли не играют? Как вам известно, любой делец имеет право в любую минуту расторгнуть договор, если в этом договоре особо не оговорен срок его действия. Я попрошу вас учесть это обстоятельство при рассмотрении дела. Далее: прекратил ли Джордж Стинер тогда же, девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года, то есть до того, как Каупервуду был выдан чек на шестьдесят тысяч долларов, действие этого договора, зная или предполагая, что Фрэнк Каупервуд находится в крайне стесненных обстоятельствах и не сможет в дальнейшем честно и аккуратно выполнять свои договорные обязательства? Необходимо также выяснить, действительно ли мистер Фрэнк Каупервуд, зная, что он уже не является агентом городского казначея и города, а также зная, что он неплатежеспособен, — мистер Стинер утверждает, что он сам признал это, — и не намереваясь депонировать в амортизационном фонде сертификаты, якобы приобретенные для указанного фонда, вошел в канцелярию мистера Стинера, заявил его секретарю, что приобрел на шестьдесят тысяч долларов сертификатов городского займа, попросил выписать ему чек, затем спокойно положил его в карман и ушел, даже не подумав о том, как он будет возмещать городу эту сумму, а двадцать четыре часа спустя обанкротился, задолжав городу, кроме вышеуказанной суммы, еще пятьсот тысяч долларов, взятых им ранее в казначействе? Каковы факты, которыми мы располагаем в этом деле? Что говорили выступавшие здесь свидетели? Что показали Джордж Стинер, Альберт Стайерс, председатель правления Джирардского национального банка Дэвисон и сам мистер Каупервуд? Какая картина складывается при сопоставлении всех подробностей этого дела? Господа присяжные заседатели, вам предстоит разрешить весьма своеобразную проблему! Он умолк, обвел взором присяжных, поправил манжеты, и все это с видом человека, который напал, наконец, на след ловкого, неуловимого преступника, сумевшего втереться в доверие почтенных граждан города и обвести вокруг пальца не менее почтенную коллегию присяжных. Затем он продолжал: — Итак, джентльмены, каковы же эти факты? Вы сами слышали, как происходило дело. Вы здравомыслящие люди. Мне нечего вам объяснять. Перед вами два человека: один — избранный городом Филадельфией на пост городского казначея, поклявшийся охранять интересы своего города и наивыгоднейшим для него образом вести финансовые дела, другой — маклер, к которому ввиду неустойчивой финансовой конъюнктуры обратились с просьбой помочь разрешить трудную — этого я не оспариваю — финансовую проблему. Они заключают друг с другом негласное финансовое соглашение, следствием которого является ряд противозаконных сделок, и вот один из этих двух, более коварный, умный и лучше осведомленный обо всех ходах и выходах Третьей улицы, увлекает за собой другого по опасной дорожке выгодных капиталовложений и приводит его наконец — пусть даже неумышленно — к бездне банкротства, общественного позора, разоблачений и так далее. Тогда тот, кто легче уязвим, иными словами, тот, чье положение ответственнее, то есть казначей города Филадельфии, уже не может или, скажем, не решается идти дальше за своим доверенным. И вот перед нами возникает та картина, которую обрисовал в своих показаниях мистер Стинер: матерый, алчный и беспощадный финансовый волк, оскалив хищную пасть, хватает трепещущего, наивного, ничего не смыслящего в этих аферах ягненка и рычит: «Если ты не дашь этих денег, то есть трехсот тысяч долларов, нужных мне позарез, ты станешь арестантом, твоих детей вышвырнут на улицу, твоя жена и вся твоя семья будут снова ввергнуты в нищету, и никто для тебя даже пальцем не шевельнет!» Вот что, по словам мистера Стинера, сказал ему мистер Каупервуд. Я со своей стороны нисколько не сомневаюсь, что так оно и было. Мистер Стеджер в чрезвычайно изысканных выражениях, поскольку дело касается его клиента, рисует мистера Каупервуда благородным, добрым и предупредительным человеком, маклером-джентльменом, которого чуть ли не принудили взять ссуду в пятьсот тысяч долларов из двух с половиной процентов, тогда как по онкольным ссудам на Третьей улице деньги приносят от десяти до пятнадцати процентов, а то и больше. Но вот этому я уже не верю. Мне кажется странным, чтобы такой милый, любезный, доброжелательный человек, занимающий скромное положение платного агента и, естественно, старающийся угодить своему нанимателю, мог прийти к мистеру Стинеру за три дня до этой истории с шестидесятитысячным чеком и заявить ему — мистер Стинер показал это сегодня под присягой: «Если вы немедленно, сегодня же, не дадите мне еще триста тысяч долларов из городских средств, я стану банкротом, а вы арестантом. Вам не миновать тюрьмы». Вдумайтесь в его слова! «Я стану банкротом, а вы арестантом. Меня никто не тронет, а вас арестуют. Я всего только агент». Не знаю, похоже ли это на слова милого, мягкого, ни в чем не повинного, благовоспитанного агента и наемного маклера, или же на слова наглого, высокомерного и жестокого хищника, человека, привыкшего распоряжаться, приказывать и любой ценой побеждать? Господа присяжные, я не намереваюсь защищать здесь Джорджа Стинера. По-моему, он виновен не меньше, если не больше, чем его самоуверенный сообщник, этот пронырливый финансист, явившийся как волк в овечьей шкуре к городскому казначею, чтобы толкнуть его на неправедный путь личного обогащения. Но когда при мне мистера Каупервуда называют, как это было сделано сейчас, милым, любезным, простодушным исполнителем чужих поручений, я содрогаюсь! Господа присяжные, для того чтобы составить себе обо всем правильное представление, надо вспомнить, что лет десять — двенадцать назад, когда мистер Джордж Стинер был бедным человеком и новичком в политическом мире, к нему явился этот ловкий, лукавый биржевик и научил его извлекать выгоду из городских средств. В то время никто не знал Джорджа Стинера, как, впрочем, и Фрэнка Каупервуда, когда тот впервые встретился с вновь избранным городским казначеем. О, как ясно вижу я этого человека — эту хитрую лису! — вот он явился к Стинеру, изящный, молодой, свежий, прекрасно одетый, и сказал: «Доверьтесь мне! Разрешите мне орудовать городским займом, отдайте в мои руки городские деньги из двух процентов годовых или еще того меньше!» Разве трудно вам представить себе эту картину? Разве вы не видите его в этой роли? Джордж Стинер был беден, да, пожалуй, даже очень беден, когда он впервые вступил на пост городского казначея. У него не было ничего, кроме жалкого агентства по страхованию и продаже недвижимых имуществ, приносившего ему, скажем, две с половиной тысячи в год. Он должен был содержать жену и четверых детей и не имел ни малейшего понятия о том, что называется роскошью и комфортом. Но вот является мистер Каупервуд — правда, не по своей инициативе, а приглашенный мистером Стинером, но приглашенный для дела, из которого мистер Стинер тогда еще не собирался извлекать никакой личной выгоды, — и преподносит ему свой грандиозный план манипуляций с городским займом, долженствующий обогатить их обоих. Основываясь на впечатлении, которое произвел выступавший здесь в качестве свидетеля Джордж Стинер, можете ли вы предположить, чтобы он сам придумал и предложил столь хитроумный план обогащения вот этому джентльмену? Шеннон указал пальцем на Каупервуда. — Похож ли мистер Стинер на человека, способного научить этого джентльмена чему-нибудь новому по части финансов или сложнейших биржевых комбинаций? Кажется ли он вам достаточно изобретательным, чтобы придумать все эти невероятные трюки, благодаря которым оба они впоследствии нажили изрядные капиталы? Согласно заявлению, сделанному Каупервудом своим кредиторам после банкротства, несколько недель назад он исчислял свое состояние в миллион двести пятьдесят тысяч долларов, между тем ему только недавно исполнилось тридцать четыре года. В какой цифре выражалось его состояние, когда он впервые вступил в деловые отношения с бывшим казначеем? Вы об этом не имеете понятия? Ну, так я вам скажу. Приблизительно с месяц тому назад, когда я вступил на свой пост, я затребовал сведения по этому вопросу. Что же оказалось, господа присяжные: в ту пору его состояние немногим превышало двести тысяч долларов. Двести тысяч долларов, вот и все! У меня имеется выписка из книг банкирской конторы «Дан и К°» за тот год. По ней вы можете убедиться, как быстро выросло состояние этого новоиспеченного Цезаря! Сколько прибыли принесли ему последние несколько лет! Но, может быть, и у Джорджа Стинера было не меньшее состояние ко времени, когда он был смещен со своего поста и предан суду за растрату? Как вы полагаете? Вот выписка из его актива и пассива, относящаяся к тому времени. Можете убедиться собственными глазами, джентльмены! Ровно в двухстах двадцати тысячах заключалось его состояние три недели назад, и у меня есть все основания считать эти сведения точными. Отчего же, вы полагаете, мистер Каупервуд богател так быстро, а мистер Стинер так медленно? Ведь они соучастники в преступлении. Мистер Стинер щедро ссужал мистера Каупервуда принадлежащими городу деньгами из двух процентов годовых, тогда как на Третьей улице по онкольным ссудам платили временами шестнадцать-семнадцать процентов. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что мистер Каупервуд умел с максимальной для себя выгодой употреблять так дешево доставшиеся ему деньги. Или он не похож на человека, умеющего ворочать большими делами? Вы видели его, когда он давал показания. Вы эти показания слышали. Как он был обходителен, как откровенен и чист душой! Он якобы только и думал о том, как получше услужить Стинеру и его друзьям, но тем не менее сам за шесть лет нажил не меньше миллиона, а мистеру Стинеру дал нажить не больше ста шестидесяти тысяч, ибо к началу их сотрудничества у того все же имелись кое-какие сбережения — несколько тысяч долларов. Теперь Шеннон дошел в своей речи до главного, то есть до момента, когда Каупервуд, выйдя девятого октября от Стинера, выманил у Альберта Стайерса чек на шестьдесят тысяч долларов. Возмущение прокурора — так по крайней мере казалось слушателям — столь коварными и преступными действиями не знало границ. Это явное воровство, кража в прямом смысле слова, и Каупервуд прекрасно понимал, что делает, когда просил Стайерса выписать ему чек! — Вы только подумайте! — Тут Шеннон повернулся и пристально посмотрел на Каупервуда, который совершенно спокойно и без тени смущения встретил его взгляд. — Вы только подумайте, какая выдержка у этого человека: в коварстве своем он не уступает Макиавелли. Он знал, что его банкротство неизбежно. После двух дней неусыпных хлопот, после двух дней отчаянных попыток предотвратить катастрофу, которая лишила бы его возможности продолжать свои махинации, он понял, что у него не осталось других источников спасения, кроме последнего, а именно — городского казначейства, понял, что если он и здесь не добьется помощи, то его банкротство неминуемо. Он и без того уже задолжал городской кассе пятьсот тысяч долларов и, пользуясь городским казначеем как бессловесным орудием, так запутал его, что Стинер пришел в ужас от этой колоссальной задолженности. Что же, остановило это мистера Каупервуда? Ничуть не бывало! Шеннон зловеще погрозил пальцем Каупервуду, и тот с досадой отвернулся. — Во что бы то ни стало хочет выслужиться! — шепнул Каупервуд своему адвокату. — Надо, чтобы вы сказали об этом присяжным. — Я бы рад сказать, — с горестной усмешкой согласился Стеджер, — но мне больше не дадут слова. — Вы только подумайте, — вновь загремел Шеннон, поворачиваясь к присяжным, — какая безграничная, истинно волчья алчность должна быть у человека, чтобы заявить, будто он только что приобрел на шестьдесят тысяч долларов сертификатов и желает немедленно получить чек на эту причитающуюся ему сумму. Действительно ли он приобрел эти сертификаты? Кто знает? Нет на свете человека, который сумел бы разобраться в запутанном лабиринте отчетности мистера Каупервуда. Но в лучшем случае, то есть даже если он и приобрел, как он утверждает, эти сертификаты, то городу от этого не было никакого проку, ибо мистер Каупервуд и не подумал передать их в амортизационный фонд, где им надлежало находиться. Его защитник и он сам говорят, что он не обязан был делать это раньше первого числа следующего месяца, хотя закон гласит, что передача должна производиться немедленно, и обвиняемому это известно. Его защитник и он сам утверждают, будто он не знал, что его ждет банкротство. Поэтому, мол, не было нужды беспокоиться насчет этих сертификатов. Не думаю, чтобы кто-нибудь из вас, джентльмены, этому поверил! Случалось ли мистеру Каупервуду в течение всей его финансовой деятельности так торопиться с получением чека? Известны ли нам аналогичные случаи в истории его преступных сделок? Вы прекрасно знаете, что этого еще не бывало. Никогда в жизни он сам не приходил за чеком. Но на сей раз счел за благо получить его в собственные руки. Чем это объяснить? Откуда вдруг такая спешка? По его же собственным словам, несколько часов промедления никакой роли не играли. Он мог бы послать за чеком кого-нибудь из служащих своей конторы. Так делалось всегда. Почему же вдруг все переменилось? Я сейчас вам скажу почему! — Шеннон до предела возвысил голос. — Я вам скажу почему! Каупервуд знал, что он разорен! Он знал, что последний более или менее законный путь к спасению — то есть помощь Джорджа Стинера — для него закрыт! Он знал, что честным путем, путем прямого соглашения, ему больше не получить из казначейства города Филадельфии ни одного доллара! Он знал, что если он уйдет из канцелярии казначея без чека, а затем пошлет кого-нибудь за ним, то городской казначей спохватится, предупредит своих служащих, и тогда ему не видать этих денег! Вот откуда такая спешка! Теперь, господа присяжные, вы знаете правду! Итак, я подхожу к концу своей обвинительной речи против этого корректного, честного и добропорядочного гражданина, которого вы, по словам его защитника мистера Стеджера, можете осудить, лишь совершив вопиющую несправедливость. Я еще хотел только добавить, что считаю вас людьми здравомыслящими и разумными, каких в нашей стране встречаешь на любом поприще; иными словами, вы деловитые и честные американцы. Итак, — голос Шеннона снова сделался вкрадчивым, — мне остается сказать лишь следующее: если после всего, что вы здесь слышали и видели, вы продолжаете считать, что мистер Фрэнк Каупервуд — порядочный и честный человек, что он не украл умышленно и злостно шестьдесят тысяч долларов из городской кассы Филадельфии, что он и в самом деле приобрел сертификаты городского займа и намеревался, как он утверждает, сдать их в амортизационный фонд, — тогда, конечно, вам остается только отпустить его на свободу, и к тому же поскорее, чтобы он еще сегодня мог вернуться на Третью улицу и заняться приведением в порядок своих весьма запутанных финансовых дел. В таком случае вы, как честные, справедливые люди, обязаны немедленно отпустить его на свободу и снова принять в лоно нашего общества, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить незаслуженную обиду, которая, по словам моего оппонента мистера Стеджера, была ему нанесена. Если таково ваше убеждение, вы должны тотчас признать его невиновным. Пусть вас не беспокоит судьба Джорджа Стинера! Вина этого человека установлена его собственными показаниями. Он признал себя виновным. Ему без всякого дальнейшего разбирательства вскоре будет вынесен приговор. Но этот человек — Фрэнк Алджернон Каупервуд — претендует на честность и порядочность. Он утверждает, что и не подозревал о предстоящем ему банкротстве. Он утверждает, что прибегал к угрозам, к принуждению и запугиванию не потому, что предугадывал крах, а потому, что не хотел терять время на поиски поддержки в другом месте. Как это вам нравится? Или, может быть, вы поверили, что он приобрел на шестьдесят тысяч долларов сертификатов городского займа и ему действительно причитались за них деньги? Если так, то почему же он не сдал эти бумаги в амортизационный фонд? Их там нет и поныне, так же как нет и шестидесяти тысяч долларов. Кому же достались эти деньги? Джирардскому национальному банку, в котором мистер Каупервуд превысил кредит на сто тысяч долларов! Получил ли означенный банк эти шестьдесят тысяч плюс еще сорок тысяч другими чеками и облигациями? Разумеется, получил. Почему же, собственно? А не приходит ли вам на ум, что правление Джирардского национального банка теперь будет признательно мистеру Каупервуду за ту последнюю маленькую услугу, которую он ему оказал перед своим банкротством? Не думаете ли вы, что председатель правления банка мистер Дэвисон, который, как вы слышали, всячески выгораживал здесь мистера Каупервуда, быть может, — утверждать это категорически я, конечно, не берусь, — именно потому так и расположен к мистеру Каупервуду? Вполне допустимо. Вообще же — судите сами. Так или иначе, джентльмены, но Дэвисон называет мистера Каупервуда честным и порядочным человеком, то же самое говорит о нем его защитник мистер Стеджер, Вы выслушали все показания, Теперь вам остается только обдумать и взвесить их. Если вы хотите отпустить этого человека на свободу — дело ваше. (Он устало махнул рукой.) Вы — судьи. Я бы этого не сделал. Но я в конце концов только юрист, тяжелым трудом добывающий свой хлеб. У меня одни убеждения. У вас могут быть другие — это дело ваше. (Шеннон снова выразительно, почти с презрением махнул рукой.) Я кончил, джентльмены, мне остается только поблагодарить вас за внимание. Решение вопроса предоставлено вам. Он величественно отвернулся, и присяжные зашевелились; зашевелились и праздные зрители, наполнявшие зал. Судья Пейдерсон вздохнул с облегчением. К этому времени уже совсем стемнело, и в зале ярко горели газовые светильники. За окнами шел снег. Судья утомленным движением перелистал бумаги и, придав себе торжественный вид, обратился к присяжным с традиционным напутствием, после чего те один за другим направились в совещательную комнату. Каупервуд посмотрел на отца, который торопливо шел к нему через быстро пустевший зал. — Ну, скоро все станет ясно! — сказал он. — Да, — упавшим голосом отозвался Каупервуд-старший. — Будем надеяться, что все кончится благополучно. Несколько минут назад я видел здесь Батлера. — Вот как! — удивился Каупервуд, на которого это известие произвело сильное впечатление. — Да, — подтвердил отец. — Он только что ушел. Итак, подумал Каупервуд, Батлер настолько заинтересован в его судьбе, что даже не поленился прийти в суд. Шеннон — послушное орудие в его руках. Пейдерсон в какой-то мере его ставленник. Старика можно было одолеть в деле, касавшемся его дочери, но одолеть его здесь вряд ли удастся, разве только присяжные решительно встанут на его, Каупервуда, сторону. Если же они признают его виновным, батлеровский приспешник Пейдерсон, конечно, не упустит случая приговорить его к предельному сроку заключения. Шутка сказать, пять лет тюрьмы! Мурашки забегали у него по спине при одной мысли о таком исходе дела. Но стоит ли тревожиться о том, чего еще не случилось? Стеджер подошел к нему и сообщил, что срок действия залога, под который Каупервуд был оставлен на свободе, истек в ту минуту, когда присяжные удалились в совещательную комнату, и теперь он фактически находится под надзором шерифа (кстати, им обоим знакомого), некоего Эдлея Джесперса. Если присяжные не оправдают его, добавил Стеджер, он останется под надзором шерифа до тех пор, пока приговор не будет обжалован. — На это потребуется не меньше пяти дней, Фрэнк, — сказал Стеджер, — но Джесперс — славный малый. Он будет вести себя разумно. Понятно, если нам повезет, вы обойдетесь без встречи с ним. А сейчас вам придется последовать за судебным приставом. Но надо думать, что все кончится благополучно и мы отправимся домой. Ох, и хочется же мне выиграть это дело! — добавил он. — Вот будет здорово, если мы вдвоем посмеемся над ними! Я считаю, что с вами обошлись возмутительно, и, по-моему, я достаточно разъяснил это присяжным. В случае же обвинительного приговора я найду десятки причин ходатайствовать о пересмотре дела. Он поднялся и вместе с Каупервудом и его отцом неторопливо последовал за одним из помощников шерифа, низкорослым человеком по прозванию Эдди Зандерс, которому было поручено взять Каупервуда-младшего под стражу. Они вошли в так называемую «караульную» в глубине здания, где подсудимые дожидались возвращения присяжных из совещательной комнаты. Это было высокое четырехугольное мрачное помещение с окном на Честнат-стрит и еще одной, неизвестно куда открывавшейся дверью. Потолок здесь был закопченный, пол исшарканный, вдоль стен, на которых не было ни картины, ни единого украшения, тянулись деревянные скамьи. С середины потолка спускалась газовая труба с двумя рожками. Все помещение было пропитано затхлым, едким запахом, яснее слов говорившим о тех отбросах и обломках жизни — преступных и невинных, — которым время от времени приходилось стоять или сидеть здесь, терпеливо дожидаясь решения своей участи. Каупервуда охватило отвращение, но он был слишком уравновешенным человеком и слишком хорошо владел собою, чтобы показать это. Он с детства отличался исключительной чистоплотностью и всегда тщательно, даже педантично следил за собой. А теперь ему пришлось столкнуться с такой стороной жизни, что его поневоле бросило в дрожь. Стеджер, по пятам следовавший за ним, старался что-то объяснить ему, загладить неприятное впечатление, ободрить. — Не очень-то уютная комната, — сказал он, — но потерпите немного! Я думаю, присяжные будут совещаться недолго. — Возможно, но мне от этого будет мало проку! — отозвался Каупервуд, подходя к окну. Помолчав немного, он добавил: — Чему быть, того не миновать! Старый Каупервуд насупился. Что, если Фрэнку придется отбывать длительное тюремное заключение, то есть долго находиться в этой обстановке? О боже! Он вздрогнул и впервые за много лет стал мысленно творить молитву.Глава 44
Меж тем в совещательной комнате разгорелась настоящая перепалка: все вопросы, которые во время судебного заседания каждый обдумывал про себя, теперь обсуждались вслух. Весьма интересно наблюдать, как присяжные колеблются и взвешивают все «за» и «против» при обсуждении подобных дел; любопытен тот смутный психологический процесс, в результате которого они приходят к тому или иному решению. Так называемая «истина» в лучшем случае есть нечто весьма туманное, ибо факты даже при самом честном отношении к делу нередко подвергаются различному и превратному толкованию. Сегодня перед присяжными стояла особо сложная задача, и они немало потрудились над тем, чтобы всесторонне ее рассмотреть. Суд присяжных приходит не столько к определенным выводам, сколько к определенным решениям, вердиктам, и приходит путем весьма своеобразным. Случается, что отдельные присяжные еще ничего не успели уяснить себе, а совещание в целом уже выносит вердикт. Известную роль в этом, как знают все юристы, играет время. Присяжные все вместе икаждый в отдельности обычно ропщут на излишнюю затрату времени при обсуждении дела. Не велика радость часами биться над разрешением какой-то проблемы, разве что она почему-либо оказывается захватывающе интересной. Замысловатые и темные логические тонкости в конце концов утомляют и наводят уныние. Скукой веет даже от самых стен совещательной комнаты. С другой стороны, разногласия, возникающие в процессе обсуждения, не могут не вызывать у присяжных досады. Человеческому разуму присуще созидательное начало, и любая неразрешенная проблема для него мучительна. Человеку со здоровым восприятием жизни она не дает покоя, как и всякое незаконченное дело. Присяжные в совещательной комнате подобны атомам кристалла, над которыми так много размышляют ученые и философы; они стремятся составить единое и стройное целое, сплотить ряды, ибо только тогда они становятся тем, чем из чувства долга и порядочности обязались стать, то есть как бы единым, разумным судьей. Это же инстинктивное стремление к единству замечается и в самых различных явлениях природы — в дрейфе унесенных волнами деревьев в Саргассовом море, в геометрически точном распределении пузырьков воздуха на поверхности спокойной воды, в поразительных архитектурных сооружениях, безотчетно возводимых некоторыми насекомыми, в соединении атомов, из которых слагается субстанция и структура мироздания. Временами кажется, что физическая субстанция жизни — та внешняя форма, которую наш глаз принимает за реальность, — проникнута безграничной мудростью, мудростью, которая стремится установить порядок, более того, сама является этим порядком. Атомы нашего так называемого естества, нашего так называемого разума — на деле же прихотливых душевных состояний — знают, куда им двигаться и что делать. Они олицетворяют собой порядок, мудрость, волю, от нас не зависящие. Они созидают, строят, существуют как бы вне нас. Так же работает и подсознание присяжных. Но тут надо помнить еще и о своеобразном гипнотическом воздействии одной личности на другую, о многообразном влиянии друг на друга разных типов людей, которое имеет место до того момента, когда произойдет уже полное слияние, в исконном химическом значении этого слова. В совещательной комнате четкая мысль или твердая воля двух-трех человек могут возобладать над всеми остальными и преодолеть доводы или сопротивление большинства. Один человек, умеющий постоять за свое вполне определившееся мнение, может сделаться либо победоносным вожаком податливой массы, либо мишенью, беспощадно поражаемой сосредоточенным огнем умозаключений. Люди презирают тупое, немотивированное сопротивление. Нигде от человека так не ждут твердо обоснованного мнения, как в совещательной комнате суда, если, конечно, это мнение желают выслушать. Сказать: «Я не согласен» — мало. Мы знаем случаи, когда присяжные в запальчивости доходили до драки. В тесных стенах совещательной комнаты не раз вспыхивала вражда, длившаяся потом годами. Не в меру упорные присяжные подвергались бойкоту в делах, никакого отношения к суду не имеющих, только за их не подкрепленное доводами упрямство или «особое мнение». Здесь же, после того как все сошлись на том, что Каупервуд, безусловно, заслуживает наказания, начались споры, следует ли признать его виновным по всем четырем пунктам обвинения. Не будучи в состоянии толком разобраться в различии между этими пунктами, присяжные приняли было компромиссное решение: «Виновен по всем четырем пунктам, но заслуживает снисхождения». Однако от последней формулировки тут же отказались: Каупервуд либо виновен, либо не виновен. Судья не хуже, если не лучше их разберется в смягчающих обстоятельствах. Стоит ли связывать ему руки? Тем более что такие формулировки обычно оставляются без внимания и свидетельствуют только о шаткости позиции присяжных. Итак, ночью, в десять минут первого, присяжные были наконец готовы огласить свой вердикт, о чем немедленно уведомили судью Пейдерсона, все время не покидавшего здания суда — отчасти из интереса к этому делу, отчасти же потому, что он жил поблизости. За Каупервудом и Стеджером послали пристава. Зал суда был ярко освещен. Пристав, секретарь и стенограф сидели на своих местах. Присяжные гуськом вышли из совещательной комнаты, а Каупервуд вместе со Стеджером заняли места у дверцы, которая вела в огороженную барьером часть зала: здесь подсудимым полагалось выслушивать приговор и все, что сочтет нужным сказать судья. Старый Каупервуд, очень взволнованный, стоял подле сына. Каупервуду впервые в жизни почудилось, будто все это происходит во сне. Неужели он тот самый Фрэнк Каупервуд, который два месяца назад был таким богатым, преуспевающим, уверенным в себе? Неужели сейчас только пятое или шестое декабря? (Это было после полуночи.) Почему так долго совещались присяжные? Что это может значить? Вот они уже в зале: стоят и торжественно смотрят прямо перед собой, а вот и судья Пейдерсон поднимается на свою трибуну, — его курчавые волосы забавно топорщатся. Пристав призывает всех к порядку. Судья смотрит не на Каупервуда — это было бы невежливо, — а на присяжных заседателей, которые теперь, в свою очередь, смотрят на него. На вопрос секретаря: «Господа присяжные заседатели, пришли ли вы к единодушному решению?» — старшина отвечает: «Да». — Считаете вы подсудимого виновным или невиновным? — Мы считаем подсудимого виновным в соответствии с обвинительным актом. Как они пришли к такому решению? Неужели все дело в том, что он взял чек на шестьдесят тысяч долларов, которые ему не причитались? Но ведь, в сущности, он имел право на эти деньги! Боже мой, какое значение имели шестьдесят тысяч долларов, если учесть все те суммы, которыми ворочали он и Джордж Стинер! Ровно никакого! Казалось бы, сущий пустяк, а между тем он-то и выплыл на поверхность, этот мелкий ничтожный чек, и превратился в гору вражды, в каменную стену — в тюремную стену, преградившую ему путь к дальнейшему преуспеянию. Непостижимо! Каупервуд оглянулся кругом. Какой огромный, голый, холодный зал! И все-таки он прежний Фрэнк Каупервуд! Нельзя допускать себя до таких вздорных мыслей! Его борьба за свою свободу, за свои права, за свою реабилитацию еще не кончилась. Видит бог, она еще только начинается! Через пять дней его выпустят на поруки. Стеджер подаст кассационную жалобу. Он, Каупервуд, окажется на свободе, и в его распоряжении будут целых два месяца для продолжения борьбы. Он еще не побежден. Он отстоит себя. Присяжные ошиблись. Суд высшей инстанции подтвердит это; он отменит приговор, тут не может быть сомнений. Каупервуд повернулся к Стеджеру, который в это время требовал от секретаря суда поименного опроса присяжных заседателей: может быть, хоть один из них признает, что поддался уговорам и голосовал против своей воли! — Полностью ли вы согласны с вынесенным решением? — услышал Фрэнк вопрос, обращенный к Филиппу Молтри, первому по списку присяжных. — Да! — торжественно подтвердил сей достойный гражданин. — Полностью ли вы согласны?.. — Секретарь ткнул пальцем в Саймона Гласберга. — Да, сэр! — Полностью ли вы согласны с вынесенным решением? — обратился он к Флетчеру Нортону. — Да! Так были опрошены все присяжные. Они отвечали твердо и уверенно вопреки смутной надежде Стеджера, что кто-нибудь из них передумает. Судья поблагодарил присяжных, присовокупив, что после столь долгого заседания они могут считать себя свободными на всю сессию. Теперь Стеджеру оставалось только просить судью Пейдерсона отсрочить вынесение приговора, пока не придет ответ на апелляцию перед верховным судом штата о пересмотре дела. В то время как Стеджер по всем правилам излагал свое ходатайство судье, тот с нескрываемым любопытством разглядывал Каупервуда; и поскольку дело это было весьма серьезным и верховный суд мог усомниться в правильности решения, он поспешил согласиться с доводами адвоката. После этой процедуры Каупервуду осталось только, несмотря на поздний час, отправиться под конвоем помощника шерифа в окружную тюрьму, где ему предстояло пробыть по меньшей мере пять дней, а то и дольше. Здание Мойэменсинтской тюрьмы, расположенное на углу улиц Десятой и Рид, внешне не производило гнетущего впечатления. В центральной его части помещались тюремные камеры и резиденция шерифа или другого должностного лица тюремного ведомства; к этой центральной части высотой в три этажа, с зубчатым карнизом и круглой, тоже зубчатой башней, по вышине равной одной трети здания, примыкали двухэтажные крылья, завершавшиеся опять-таки зубчатыми башенками. Весь ансамбль очень напоминал средневековый замок, а потому, с точки зрения американца, был в достаточной мере похож на тюрьму. Фасад здания, высотою не более тридцати пяти футов в средней части и не более двадцати пяти по бокам, отступал от улицы на сто футов в глубину; от крыльев в обе стороны тянулась двадцатифутовая каменная стена, замыкавшая весь квартал. Здание это не производило мрачного впечатления еще и потому, что в центральной его части окна были широкие, без решеток, а в двух верхних этажах — даже завешенные гардинами, что сообщало всему фасаду вид жилой и даже приятный. В правом крыле помещалась так называемая окружная тюрьма, предназначавшаяся для лиц, отбывающих краткосрочное заключение. В левом — тюрьма для подследственных. Сложенный из гладкого и светлого камня, этот тюремный замок скудно освещался изнутри и в такую вьюжную ночь производил впечатление странное, фантастическое, почти сверхъестественное. Когда Каупервуд туда отправился, ночь стояла морозная и ветреная. Мела поземка. Кроме отца и Стеджера, Каупервуда сопровождал Эдди Зандерс, помощник шерифа, на время квартальных сессий приставленный к суду. Это был низенький человек, темноволосый, с короткими щетинистыми усами и глуповатыми, но хитрыми глазками. В жизни у него было две заботы: поддерживать достоинство своего звания, представлявшегося ему чрезвычайно почетным, и как-нибудь да подработать. Он знал только то, что имело касательство к весьма ограниченной сфере его деятельности, а именно: умел доставлять заключенных в тюрьму и обратно, следить за тем, чтобы они не сбежали. К известному типу заключенных, то есть к богатым и зажиточным людям, он относился дружелюбно, ибо давно уже понял, что такое дружелюбие хорошо оплачивается. Сейчас, по пути в тюрьму, он любезно высказал несколько замечаний о погоде, о том, что идти совсем недалеко и что на месте они, вероятно, еще застанут шерифа Джесперса, а не то можно будет послать его разбудить. Каупервуд не слушал. Он думал о матери, о жене и об Эйлин. Когда они наконец пришли, Каупервуда введя в центральную часть тюрьмы, так как здесь находилась канцелярия шерифа Эдлея Джесперса. Джесперс, лишь недавно избранный на этот пост, тщательно соблюдал все формальности, связанные с несением службы, но в душе отнюдь не был формалистом. В определенных кругах было известно, что Джесперс для «подкрепления» своего весьма скудного оклада «сдавал» заключенным отдельные комнаты, а также предоставлял целый ряд преимуществ тем, кто в состоянии был ему заплатить. Другие шерифы до него поступали точно так же. Когда Джесперс занял свой пост, некоторые заключенные уже пользовались подобными привилегиями, и он, конечно, не стал нарушать однажды заведенного обычая. Комнаты, которые он, как он сам выражался, сдавал «кому следует», были расположены в центральной части здания, где находилась и его квартира. В этих комнатах на окнах не было решеток, и они совсем не походили на тюремные камеры. Бояться, что кто-нибудь убежит, не приходилось, так как у дверей канцелярии всегда стоял часовой, имевший наказ внимательно следить за поведением «квартирантов». Заключенный, пользовавшийся такой привилегией, во многих отношениях был практически свободным человеком. Если он хотел, ему приносили еду прямо в комнату. Он мог читать, развлекаться картами, принимать гостей и даже играть на любом музыкальном инструменте по своему выбору. Неукоснительно соблюдалось здесь только одно правило: если заключенный был видным лицом, то в случае прихода газетного репортера он обязан был спускаться вниз, в общую приемную для посетителей, дабы газеты не пронюхали, что он в отличие от других арестантов не содержится в тюремной камере. Обо всем этом Стеджер заблаговременно осведомил Каупервуда, но, когда тот переступил порог тюрьмы, его поневоле охватило какое-то странное чувство обреченности и отрезанности от мира. Каупервуда вместе с его спутниками ввели в небольшое помещение, тускло освещенное газовым рожком. Там не было ничего, кроме конторки и стула. Шериф Джесперс, тучный и краснолицый, приветствовал их самым любезным образом. Зандерса он тут же отпустил, и тот не замедлил уйти. — Прескверная погода, — заметил Джесперс и, посильнее открутив газ, приготовился к процедуре регистрации заключенного. Стеджер подошел к конторке шерифа и о чем-то заговорил с ним вполголоса; лицо мистера Джесперса просветлело. — А-а, конечно, конечно! Это можно, мистер Стеджер, будьте покойны! Ну, конечно, что ж тут такого. Каупервуд, со своего места наблюдавший за толстым шерифом, догадывался, о чем идет речь. Он уже успел вновь обрести свое обычное хладнокровие, критическое отношение ко всему происходящему и уравновешенность. Так вот она, тюрьма, а это заплывшее жиром ничтожество и есть тот шериф, который будет над ним надзирать! Пускай! Он, Каупервуд, и здесь сумеет устроиться! У него мелькнула мысль, не подвергнут ли его обыску, — ведь арестантов принято обыскивать! Но вскоре он убедился, что обыска не будет. — Ну вот и все, мистер Каупервуд! — сказал Джесперс, вставая. — Думаю, что мне удастся устроить вас с некоторым комфортом. Конечно, здесь не гостиница, — он хихикнул, — но кое-что я смогу для вас сделать. Джон! — крикнул он, и из соседней комнаты, протирая заспанные глаза, показался один из тюремщиков. — Ключ от шестого номера здесь? — Да, сэр. — Дай-ка мне его! Джон исчез и сейчас же вернулся, а Стеджер тем временем объяснил Каупервуду, что ему могут принести сюда одежду и всякие другие вещи, какие он пожелает. Он сам зайдет к нему утром поговорить о делах, а если Фрэнк захочет видеть кого-нибудь из родных, то им тоже будет разрешено навещать его. Фрэнк тут же заявил отцу, что он предпочел бы по возможности избежать этого. Пусть Джозеф или Эдвард принесут утром чемодан с бельем и всем прочим; что же касается остальных членов семьи, то им лучше подождать, пока он выйдет на волю или уж станет настоящим арестантом. Он хотел было написать Эйлин и предупредить ее, чтобы она ничего не предпринимала, но шериф подал знак, и Каупервуд спокойно последовал за ним. Сопровождаемый Стеджером и отцом, он поднялся наверх, в свое новое жилище. Это была комната размером в пятнадцать на двадцать футов, с белыми стенами и относительно высоким потолком. Здесь стояла желтая деревянная кровать с высокой спинкой, такой же желтый комод, небольшой стол «под вишневое дерево», три неказистых стула с плетеными сиденьями и резными спинками (тоже отделанные «под вишню»), деревянный умывальник в тон кровати и на нем — кувшин, таз, открытая мыльница и маленькая в розовых цветочках дешевая кружка для чистки зубов и для бритья, выделявшаяся среди других сравнительно добротных вещей и стоившая, должно быть, не более десяти центов. Шерифу Джесперсу эта комната приносила доход в тридцать — тридцать пять долларов в неделю. Каупервуд сторговался на тридцати пяти. Он порывисто подошел к окну, выходившему на занесенную снегом лужайку, и заявил, что здесь совсем недурно. Отец и Стеджер готовы были остаться, сколько он пожелает, но говорить им было не о чем. Да Каупервуду и не хотелось разговаривать. — Пусть Эд принесет мне утром белье и один или два костюма, больше ничего не нужно. Джордж соберет мои вещи, — сказал Фрэнк, подразумевая слугу, который в их семье совмещал роль камердинера с рядом других обязанностей. — Скажи Лилиан, чтобы она не беспокоилась. Мне очень хорошо. Я предпочел бы, чтоб она сюда не являлась, раз я через пять дней выйду. А не выйду, тогда успеет прийти. Поцелуй за меня детишек! — добавил он с благодушной улыбкой. После того как предсказания Стеджера относительно исхода дела в первой инстанции не оправдались, он уже боялся с уверенностью говорить о том, какое решение примет верховный суд штата. Но что-то нужно было сказать. — Мне кажется, Фрэнк, вы можете не тревожиться насчет результата моей апелляции. Я получу указание о пересмотре дела, и тогда у нас будет отсрочка месяца на два, а то и более. Не думаю, чтобы залог превышал тридцать тысяч долларов. Так или иначе, дней через пять-шесть вы отсюда выйдете. Каупервуд отвечал, что и сам надеется на такой исход, но час уже поздний и обсуждать это не стоит. После нескольких бесплодных попыток продолжить разговор старый Каупервуд и Стеджер пожелали Фрэнку спокойной ночи и оставили его размышлять в одиночестве. Каупервуд был утомлен, а потому быстро разделся, лег на свое довольно жесткое ложе и вскоре уснул крепким сном.Глава 45
Что бы ни говорилось о тюрьмах вообще, как бы ни смягчалось пребывание в них отдельной комнатой, угодливостью надзирателей и общим старанием возможно лучше устроить заключенного, — тюрьма остается тюрьмой, и от этого никуда не уйдешь. Находясь в условиях, ни в чем не уступавших пансионату средней руки, Каупервуд тем не менее проникся атмосферой той настоящей тюрьмы, от которой сам он пока был избавлен. Он знал, что где-то поблизости находятся камеры, вероятно, грязные, зловонные и кишащие насекомыми, с тяжелыми решетчатыми дверями, которые могли бы так же быстро и с таким же лязгом захлопнуться за ним, не будь у него денег, чтобы обеспечить себе лучшее существование. Вот вам пресловутое равенство, подумал он: даже здесь, в суровых владениях правосудия, одному человеку предоставляется относительная свобода, какой сейчас пользуется, например, он сам, а другой лишен даже необходимого, потому что у него нет достаточной смекалки, друзей, а главное, денег, чтобы облегчить свою участь. Наутро после суда Каупервуд проснулся, открыл глаза и вдруг с удивлением осознал, что он находится не в приятной привычной атмосфере своей спальни, а в тюремной камере, вернее, в довольно удобной меблированной комнате, ее заменяющей. Он встал и взглянул в окно. Двор и вся Пассаюнк-авеню были покрыты снегом. Несколько ломовых подвод бесшумно ехали мимо тюрьмы. Еще редкие в этот утренний час пешеходы спешили куда-то по своим делам. Он тотчас принялся размышлять о том, что ему следует предпринять, как действовать, чтобы восстановить свое дело и реабилитировать себя; погруженный в эти мысли, он оделся и дернул сонетку, которую ему указали еще вчера. На звонок должен был явиться тюремный служитель, затопить камин и принести завтрак. Служитель в поношенной гиней форме, полагая, что человек, занимающий такую комнату, должен быть весьма важной персоной, положил растопку и уголь, развел огонь, а немного погодя принес и завтрак, который при всей его скудности мало походил на тюремную пищу. После этого, несмотря на всю внешнюю предупредительность шерифа, Каупервуду пришлось терпеливо прождать несколько часов, прежде чем к нему был допущен его брат Эдвард, принесший белье и верхнюю одежду. За небольшую мзду один из служителей доставил ему газеты, которые Каупервуд равнодушно пробежал, с интересом прочитав только отдел финансовых новостей. Уже под конец дня пришел Стеджер, извинился за опоздание и сообщил, что он договорился с шерифом и тот будет пропускать к Фрэнку всех, кто явится по важному делу. К этому времени Каупервуд успел написать Эйлин, прося ее не делать никаких попыток увидеться с ним, так как к десятому числу он уже выйдет на свободу и встретится с нею либо сразу же, либо в один из ближайших дней. Он понимает, что ей не терпится повидать его, но у него имеются основания думать, что за нею следят нанятые ее отцом сыщики. Это было не так, но уже одна мысль о подобной возможности угнетала Эйлин, а если добавить сюда несколько презрительных замечаний по поводу осужденного финансиста, которыми за обеденным столом обменялись ее братья, легко понять, что чаша ее терпения переполнилась. После письма от Каупервуда, присланного на адрес Келлигенов, она решила ничего не предпринимать, пока десятого утром не прочла в газете, что ходатайство Каупервуда о пересмотре решения суда удовлетворено и что теперь он снова — хотя бы временно — на свободе. Это известие придало ей мужества осуществить, наконец, свою давнюю мечту, то есть доказать отцу, что она может обойтись без него и он все равно не заставит ее подчиниться. У Эйлин еще сохранились двести долларов, полученные от Фрэнка, и кое-что из собственных денег — всего около трехсот пятидесяти долларов. Этого, как она полагала, должно было хватить на осуществление ее затеи или, во всяком случае, до тех пор, пока она так или иначе не устроит свою судьбу. Зная, как любят ее родные, Эйлин была уверена, что от всей этой истории они будут страдать больше, чем она. Возможно, что, убедившись в твердости ее решения, отец предпочтет оставить ее в покое и помириться с ней. Во всяком случае, первый шаг должен быть сделан, и она немедленно написала Каупервуду, что уходит к Келлигенам и уже там поздравит его с освобождением. В каком-то смысле это известие порадовало Каупервуда. Он знал, что все его беды произошли главным образом вследствие происков Батлера, и совесть не укоряла его за то, что теперь он станет причиной страданий старого ирландца, который потеряет дочь. Прежнее его благоразумное стремление не выводить старика из себя не дало результатов, а раз Батлер так непреклонен, то, пожалуй, ему будет полезно убедиться, что Эйлин может постоять за себя и обойтись без отцовской помощи. Не исключено, что она, таким образом, заставит его пересмотреть свое отношение к ней и, быть может, даже прекратить политические интриги против него, Каупервуда. В бурю хороша любая гавань. А кроме того, ему теперь нечего терять; он решил, что этот шаг Эйлин может даже пойти им обоим на пользу, и поэтому не стремился ее удержать. Собрав свои драгоценности, немного белья, два-три платья, которые могли ей пригодиться, и еще кое-какие мелочи, Эйлин уложила все это в самый большой из своих портпледов. Застегнув его, она вспомнила про обувь и чулки, но, несмотря на все ее старания, эти вещи уже не влезали. Самую красивую шляпу, которую ей непременно хотелось захватить с собой, тоже некуда было сунуть. Тогда она увязала еще один узел, не слишком элегантный на вид. Но она решила пренебречь такими пустяками. Порывшись в ящике туалета, где у нее хранились деньги и драгоценности, Эйлин вынула свои триста пятьдесят долларов и положила в сумочку. Конечно, это небольшие деньги, но Каупервуд о ней позаботится! Если же он не сможет ее обеспечить, а отец останется непреклонен, то она подыщет себе какую-нибудь работу. Эйлин ничего не знала о том, как холодно встречает мир людей, практически ни к чему не подготовленных и лишенных достаточных средств. Она не знала, что такое скорбный жизненный путь. И вот десятого декабря, мурлыкая себе под нос — для бодрости — какую-то песенку, она дождалась, пока отец не спустился, как обычно, вниз в столовую, затем перегнулась через перила лестницы и, убедившись, что Оуэн, Кэлем и Нора с матерью уже сидят за столом, а горничной Кэтлин поблизости не видно, проскользнула в отцовский кабинет, достала из-за корсажа письмо, положила его на стол и поспешно вышла. Краткая надпись гласила: «Отцу», в письме же говорилось:«Дорогой папа, я не могу поступить, как ты хочешь. Я слишком люблю мистера Каупервуда и потому ухожу из дому. Не ищи меня у него. Там, где ты думаешь, меня не будет. Я ухожу не к нему. Я попробую жить самостоятельно, пока он не сможет на мне жениться. Мне очень больно, но я не могу согласиться на твое требование. И не могу забыть, как ты поступил со мною. Передай от меня прощальный привет маме, мальчикам и Норе»Для вящей уверенности, что отец найдет письмо, она положила на него очки в толстой оправе, которые тот надевал при чтении. В ту минуту она почувствовала себя так, словно совершила кражу, — это было совсем новое для нее ощущение. Ее вдруг укололо сознание своей неблагодарности. Может быть, она поступает дурно? Отец всегда был так добр к ней. Мать придет в отчаяние. Нора будет огорчена, Оуэн и Кэлем тоже. Нет, все равно они не понимают ее! А отец оскорбил ее своим поступком. Он мог бы сочувственно отнестись к ней; но он слишком стар и слишком погряз в религиозных догмах и ходячей морали — где ему понять ее. Может быть, он никогда не позволит ей вернуться домой. Ну что ж, она как-нибудь проживет и без него. Она его проучит! Если понадобится, она надолго поселится у Келлигенов, возьмет место школьной учительницы или начнет давать уроки музыки. Эйлин, крадучись, спустилась по лестнице в переднюю и, открыв наружную дверь, выглянула на улицу. Фонари уже мигали в темноте, дул холодный, резкий ветер. Портплед оттягивал ей руки, но Эйлин была сильная девушка. Она быстро прошла шагов пятьдесят до угла и повернула на юг; нервы ее напряглись до крайности; все это было как-то ново, недостойно и совсем не похоже на то, к чему она привыкла. На одном из перекрестков она наконец остановилась передохнуть и опустила на землю портплед. Из-за угла, насвистывая песенку, показался какой-то мальчуган; когда он приблизился, она окликнула его: — Мальчик! Эй, мальчик! Он подошел и с любопытством оглядел ее. — Хочешь немного подработать? — Хочу, мэм, — учтиво ответил он, сдвигая набекрень засаленную шапчонку. — Отнеси мне портплед! — сказала Эйлин. Мальчик подхватил портплед, и они двинулись дальше. Вскоре она уже была у Келлигенов и среди общего восторга водворилась в своем новом жилище. Как только она почувствовала себя в безопасности, все волнение ее улеглось, и она принялась заботливо раскладывать и развешивать свои вещи. То, что ей при этом не помогала горничная Кэтлин, прислуживавшая миссис Батлер и обеим ее дочерям, казалось Эйлин несколько странным, но ничуть не огорчительным. У нее, собственно, не было ощущения, что она навсегда лишилась всех привычных условий жизни, и потому она старалась устроиться поуютней. Мэйми Келлиген и ее мать смотрели на Эйлин с робким обожанием, что тоже напоминало ей атмосферу, в которой она привыкла жить.Эйлин.
Глава 46
Тем временем семья Батлеров собралась за обеденным столом. Миссис Батлер, исполненная благодушия, сидела на хозяйском месте. Ее седые волосы, зачесанные назад, оставляли открытым гладкий, лоснящийся лоб. На ней было темно-серое платье с отделкой из лент в серую и белую полоску, хорошо оттенявшее ее живое, румяное лицо. Эйлин выбрала фасон этого платья и проследила за тем, чтобы оно было хорошо сшито. Нора в светло-зеленом платье, с красным бархатным воротником и рукавчиками, выглядела прелестно. Она была молода, стройна и весела. От ее глаз, румянца и волос веяло свежестью и здоровьем. Она вертела в руках нитку кораллов, только что подаренную ей матерью. — Посмотри, Кэлем! — обратилась она к брату, который сидел напротив нее и легонько постукивал по столу ножом. — Правда, красивые? Это мама мне подарила! — Мама тебя слишком балует. Я бы на ее месте подарил тебе… отгадай что? — Ну, что? Кэлем лукаво посмотрел на сестру. Нора в ответ состроила ему гримаску. В эту минуту вошел Оуэн и сел на свое место. Миссис Батлер заметила гримасу дочери. — Вот погоди, брат еще рассердится на тебя за такие штучки, — сказала она. — Ну и денек выдался сегодня! — устало произнес Оуэн, разворачивая салфетку. — Работы было по горло! — Что, какие-нибудь неприятности? — участливо осведомилась мать. — Нет, мама, ничего особенного. Просто куча разных хлопот! — А ты поешь как следует и сразу почувствуешь себя лучше, — ласково сказала миссис Батлер. — Томсон (зеленщик Батлеров) прислал нам сегодня свежие бобы. Непременно попробуй. — Ну, конечно, Оуэн, — засмеялся Кэлем, — бобы все уладят. Мама уж найдет выход. — Бобы прямо замечательные, поверь моему слову, — отозвалась миссис Батлер, не замечая его иронии. — Никто и не сомневается, мама, — сказал Кэлем, — это лучшая пища для мозга. Не мешало бы нам покормить ими Нору! — Ты бы, умник, сам их поел! Что-то ты сегодня очень развеселился. Не иначе, как собираешься на свидание! — Угадала! Сама ты умничаешь! Свидание, да не с одной, а сразу с пятью или шестью. По десять минут на каждую. Я бы и тебе назначил свидание, будь ты немножко покрасивее. — Тебе пришлось бы долго дожидаться, — насмешливо отвечала Нора. — Я бы не очень-то к тебе торопилась. Плохо мое дело, если я не найду никого получше тебя. — Такого, как я, ты хочешь сказать, — поправил ее Кэлем. — Детки, детки! — со своим обычным спокойствием одернула их миссис Батлер, в то же время отыскивая глазами старого слугу Джона. — Еще немножко, и вы поссоритесь. Полно уж. А вот и отец. Где же Эйлин? Батлер вошел своей тяжелой походкой и уселся за стол. Слуга Джон явился с подносом, на котором среди других блюд красовались бобы, и миссис Батлер велела ему послать кого-нибудь за Эйлин. — Здорово похолодало! — заметил Батлер, чтобы начать разговор, и поглядел на пустующий стул старшей дочери. Сейчас она войдет — его любимица, причина всех его тревог! В последние два месяца он вел себя с ней очень осторожно, по возможности избегая в ее присутствии даже упоминать про Каупервуда. — Да, погода холодная! — подтвердил Кэлем. — Скоро настанет настоящая зима. Джон стал по старшинству обносить обедающих; все уже наполнили свои тарелки, а Эйлин все не было. — Посмотрите-ка, Джон, где Эйлин, — сказала удивленная миссис Батлер. — А то обед совсем простынет. Джон ушел и вернулся с известием, что мисс Батлер нет в ее комнате. — Не понимаю, куда она девалась! — удивленно заметала миссис Батлер. — Ну да ладно, захочет есть, так сама придет! Она знает, что время обедать. Разговор перешел на новый водопровод, на постройку ратуши, уже близившуюся к концу, на различные беды, постигшие Каупервуда, и общее состояние фондовой биржи, на новые золотые прииски в Аризоне, на предстоявший в ближайший вторник отъезд миссис Молленхауэр с дочерьми в Европу (при этом Нора и Кэлем сразу оживились) и, наконец, на рождественский благотворительный бал. — Эйлин уж, наверно, его не пропустит, — заметила миссис Батлер. — Я тоже пойду! — воскликнула Нора. — С кем же это, позвольте спросить? — вмешался Кэлем. — А это уж мое дело, сударь! — отрезала сестра. После обеда миссис Батлер не спеша направилась в комнату Эйлин узнать, почему она не вышла к столу. Батлер удалился к себе, думая, что хорошо бы поделиться с женой своими тревогами. Не успел он сесть за стол и зажечь свет, как в глаза ему бросилось письмо. Он сразу узнал почерк Эйлин. Что это значит, зачем ей вздумалось писать ему? Тяжелое предчувствие овладело им; он медленно вскрыл конверт и, надев очки, принялся читать с напряженным вниманием. Итак, Эйлин ушла! Старик вглядывался в каждое слово, и ему казалось, что все слова начертаны огненными буквами. Она пишет, что ушла не к Каупервуду. Но скорей всего он бежал из Филадельфии и увез ее с собой. Эта капля переполнила чашу. Это конец. Эйлин совращена и уведена из дому — куда, навстречу какой судьбе? И все-таки Батлеру не верилось, что Каупервуд толкнул ее на этот поступок. Слишком уж это было рискованно: такая история могла гибельно отразиться не только на Батлерах, но и на его собственной семье. Газеты живо обо всем пронюхают. Он встал, комкая в руке письмо. В это время послышался скрип двери. В кабинет вошла жена. Батлер мгновенно овладел собой и сунул письмо в карман. — Эйлин нет в ее комнате, — недоумевающим тоном сказала миссис Батлер. — Она не говорила тебе, что куда-нибудь уходит? — Нет, — честно отвечал он, думая о том мгновении, когда ему придется открыть жене всю правду. — Странно, — заметила миссис Батлер с сомнением в голосе, — должно быть, ей понадобилось что-нибудь купить. Но почему она никому про это не сказала? Батлер ничем не выдавал своих чувств, не смел выдать их. — Она вернется, — сказал он собственно лишь для того, чтобы выиграть время. Необходимость притворяться мучила его. Миссис Батлер ушла, и он закрыл за нею дверь. Потом снова достал письмо и перечитал его. Девчонка сошла с ума! Она поступила дико, безобразно, бессмысленно. Куда она могла пойти, если не к Каупервуду? Вся история и без того была на грани скандала, а теперь этого не миновать. Сейчас оставалось только одно. Каупервуд, если он еще в Филадельфии, конечно, знает, где она. Необходимо сейчас же ехать к нему, угрожать, хитрить, а если надо будет, то и просто прикончить его. Эйлин должна вернуться домой. Пусть уж не едет в Европу, но она обязана вернуться домой и прилично вести себя до тех пор, пока Каупервуд не сможет на ней жениться. На большее сейчас надеяться нечего. Пусть ждет: может быть, настанет день, когда он, ее отец, заставит себя примириться с ее безумным намерением. Ужасная мысль! Поступок Эйлин убьет мать, обесчестит сестру. Батлер встал, снял с вешалки шляпу, надел пальто и вышел. У Каупервудов его провели в приемную. Сам хозяин в это время был наверху, в своем кабинете, занятый просмотром каких-то бумаг. Как только ему доложили о Батлере, он поспешил вниз. Интересно отметить, что сообщение о приходе Батлера, как и следовало ожидать, не лишило его обычного самообладания. Итак, Батлер здесь! Это, конечно, означает, что Эйлин ушла из дому. Сейчас им предстоит помериться силами; посмотрим, кто окажется тверже духом. Каупервуд считал, что по уму, по светскому такту и во всех других отношениях он сильнейший. Его духовное «я», то, что мы называем жизненным началом, было закалено, как сталь. Он вспомнил, что хотя и говорил отцу и жене о стараниях лидеров республиканской партии — в том числе Батлера — сделать его козлом отпущения, никто все же не считает старого подрядчика заклятым врагом семьи Каупервудов, и потому сейчас следует соблюдать учтивость. Каупервуд был бы очень рад, если б ему удалось смягчить старика и в мирном, дружеском тоне поговорить с ним о том, что случилось. Вопрос об Эйлин должен быть улажен немедленно, раз и навсегда. С этой мыслью он вошел в комнату, где его ждал Батлер. Узнав, что Каупервуд дома и сейчас к нему выйдет, старый Батлер твердо решил, что их встреча должна быть краткой, но решительной. Его слегка передернуло, когда он услышал шаги Каупервуда, легкие и быстрые, как всегда. — Добрый вечер, мистер Батлер! — любезно приветствовал его хозяин, подходя и протягивая ему руку. — Чем могу служить? — Прежде всего уберите вот это, — угрюмо отозвался Батлер, подразумевая его руку. — Мне этого не требуется. Я пришел говорить с вами о моей дочери и желаю, чтобы вы мне прямо ответили: где она? — Вы спрашиваем про Эйлин? — в упор глядя на него спокойным и полным любопытства взглядом, осведомился Каупервуд собственно лишь для того, чтобы выгадать время и обдумать свои дальнейшие слова. — Что же я могу сказать вам о ней? — Вы можете сказать, где она. И можете заставить ее вернуться домой, где ей подобает находиться. Злой рок привел вас в мой дом, но я не для того пришел сюда, чтобы пререкаться с вами. Вы скажете мне, где находится моя дочь, и впредь оставите ее в покое, а не то я… — Старик сжал кулаки, грудь его вздымалась от с трудом сдерживаемой ярости. — Я вам советую быть разумным и не доводить меня до крайности, слышите? — добавил он, помолчав немного и овладев собой. — Я не желаю иметь с вами никакого дела. Мне нужна моя дочь! — Выслушайте меня, мистер Батлер, — невозмутимо произнес Каупервуд, которому эта сцена, укрепившая в нем сознание своего превосходства над противником, доставляла подлинное удовлетворение. — Если разрешите, я буду с вами вполне откровенен. Возможно, я знаю, где ваша дочь, а возможно, и нет. Возможно, я пожелаю сказать вам это, а возможно, и нет. Кроме того, она может этого не захотеть. Но если вам не угодно быть со мной вежливым, то вообще бессмысленно продолжать этот разговор. Вы вправе поступать, как вам угодно. Не подниметесь ли вы ко мне в кабинет? Там нам будет удобнее. Батлер вне себя от изумления глядел на человека, которому он некогда покровительствовал. За всю свою долгую жизнь он не встречал такого хищника — сладкоречивого, хитрого, сильного и бесстрашного. Явившись к Батлеру в овечьей шкуре, он обернулся волком. Пребывание в тюрьме нисколько не укротило его. — Я не пойду к вам в кабинет, — возразил Батлер, — и вам не удастся удрать с Эйлин из Филадельфии, если вы на это рассчитываете. Я уж об этом позабочусь! Вам, я вижу, кажется, что сила на вашей стороне, и вы думаете этим воспользоваться. Ничего у вас не выйдет! Мало вам того, что вы явились ко мне нищим, просили помочь вам, и я сделал для вас все, что было в моих силах, нет, вам понадобилось еще украсть у меня дочь! Если бы не ее мать, и сестра, да еще братья — порядочные молодые люди, которым вы в подметки не годитесь, — я бы не сходя с места проломил вам башку. Обольстить молодую невинную девушку, сделать из нее распутницу! И так поступает женатый человек! Благодарите бога, что это я разговариваю здесь с вами, а не один из моих сыновей; тогда бы вас уже не было в живых! Старик задыхался от бессильной ярости. — Весьма сожалею, мистер Батлер, — все так же невозмутимо ответил Каупервуд. — Я хотел многое объяснить вам, но вы сами затыкаете мне рот. Я не собираюсь ни бежать с вашей дочерью, ни вообще уезжать из Филадельфии. Вы знаете меня и знаете, что это на меня не похоже: мои финансовые интересы слишком обширны. Мы с вами деловые люди. Нам следовало бы обсудить этот вопрос и прийти к какому-то соглашению. Я уже думал поехать к вам и объясниться, но не был уверен, что вы пожелаете меня выслушать. Теперь, раз уж вы пришли ко мне, нам тем более следовало бы потолковать. Если вам угодно подняться ко мне наверх, я к вашим услугам, в противном случае — не обессудьте. Итак? Батлер понял, что преимущество на стороне Каупервуда. Ничего не поделаешь — придется идти наверх! Иначе ему, конечно, не получить нужных сведений. — Ладно уж, — буркнул он. Каупервуд любезно пропустил его вперед и, войдя за ним в кабинет, закрыл дверь. — Нам надо обсудить это дело и прийти к соглашению, — повторил он. — Я вовсе не такой плохой человек, как вы полагаете, хотя знаю, что у вас есть основания плохо думать обо мне. Батлер не сводил с него негодующего взгляда. — Я люблю вашу дочь, и она меня любит. Вам непонятно, как я смею говорить подобные слова, будучи женатым человеком, но уверяю вас — это правда. Я несчастлив в браке. Я намеревался договориться с женой, получить от нее развод и жениться на Эйлин. Все карты спутала эта паника. У меня честные намерения. Винить следует не меня, а обстоятельства, так неудачно сложившиеся месяца два назад. Я вел себя не особенно скромно, но ведь я человек! Ваша дочь не жалуется на это, она все понимает. При упоминании о дочери Батлер залился краской стыда и гнева, но тотчас же овладел собой. — И вы полагаете, что, если она не жалуется, значит, все в порядке? — саркастически осведомился он. — С моей точки зрения — да, с вашей — нет. У вас, мистер Батлер, свой взгляд на вещи, у меня — свой. — Еще бы! — воскликнул Батлер. — Здесь вы совершенно правы! — Это отнюдь не доказывает, однако, — продолжал Каупервуд, — моей или вашей правоты. По-моему, цель в данном случае оправдывает средства. А моя цель — жениться на Эйлин. И я это сделаю, если только мне удастся выкарабкаться из финансовых затруднений. Конечно, и я и Эйлин предпочли бы вступить в брак с вашего согласия, но если это невозможно, то на нет и суда нет. Каупервуд считал, что такое его заявление если и не успокоит старого подрядчика, то все же заставит его призвать на помощь свою житейскую мудрость. Без видов на замужество теперешнее положение Эйлин было бы очень незавидно. Пусть он, Каупервуд, в глазах общества человек, осужденный за растрату, но ведь это еще ничего не доказывает. Он добьется свободы и оправдания — наверняка добьется, и Эйлин еще будет считать почетным сочетаться с ним законным браком. Рассуждая так, Каупервуд не учитывал всей глубины религиозных и нравственных предубеждений Батлера. — Насколько я знаю, — закончил он, — вы в последнее время делали все от вас зависящее, чтобы столкнуть меня в пропасть, — по-видимому, из-за Эйлин; но этим вы только приостановили осуществление моего намерения. — А вы хотите, чтобы я помогал вам, так, что ли? — с бесконечным презрением, но сдержанно проговорил Батлер. — Я хочу жениться на Эйлин, — еще раз подчеркнул Каупервуд. — И она хочет стать моей женой. При сложившихся обстоятельствах, как вы понимаете, вам спорить не приходится, что бы вы об этом ни думали; между тем вы продолжаете меня преследовать и препятствуете мне выполнить мой долг. — Вы — негодяй, — отвечал Батлер, отлично понимая, к чему клонит Каупервуд. — Я вас считаю мошенником и не хотел бы, чтобы кто-нибудь из моих детей был связан с вами. Я не отрицаю, — раз уж так сложилось, — что, будь вы свободным человеком, наилучшим исходом для Эйлин было бы замужество с вами. Это единственный порядочный шаг, который вы могли бы сделать, если бы пожелали, в чем я сильно сомневаюсь. Но сейчас все эти разговоры ни к чему. Зачем вам нужно, чтобы она где-то скрывалась? Жениться на ней вы не можете. Развода вам не получить. У вас и без того хлопот полон рот со всеми вашими исками и с угрозой тюремного заключения. Эйлин для вас только лишний расход, а денежки вам еще ой как понадобятся для других целей. Зачем же уводить ее из порядочного дома и ставить в такое положение, что вам же самому будет зазорно на ней жениться, если уж до этого дойдет. Будь в вас хоть капля уважения к себе самому и того чувства, которое вам угодно называть любовью, вы должны были бы оставить ее в родительском доме, где она могла бы вести жизнь, достойную порядочной женщины. Зарубите себе, однако, на носу, что вам до нее все равно как до звезды небесной, несмотря на то, что вы с ней сделали. Если бы в вас была хоть капля порядочности, вы не заставили бы ее опозорить семью и разбить сердце старой матери. Какая вам от этого польза? К чему это, по-вашему, приведет? Бог мой, данайдись у вас хоть капля разума, вы бы это и сами поняли. Вы не только не облегчаете свое положение, а усугубляете его тяжесть. Да и Эйлин впоследствии вас за все это не поблагодарит! Батлер замолчал, сам дивясь тому, что позволил втянуть себя в подобный разговор. Он так презирал этого человека, что старался не смотреть ему в лицо, но его отцовским долгом, его обязанностью было вернуть Эйлин домой. Каупервуд же глядел на него так, будто внимательно вслушивался в слова собеседника. — Говоря по правде, мистер Батлер, — произнес он, — я вовсе не хотел, чтобы Эйлин уходила из дому. И если вы когда-нибудь сами спросите ее, она вам это подтвердит. Я прилагал все старания, чтобы ее отговорить, но, поскольку она стояла на своем, мне оставалось только позаботиться, чтобы в любом месте, где бы ей ни пришлось жить, она была хорошо устроена. Эйлин глубоко оскорблена тем, что вы приставили к ней сыщиков. Вот это да еще ваше требование, чтобы она куда-то уехала против своей воли, и было главной причиной ее ухода из дому. Еще раз уверяю вас, что я этого не хотел. Вы, видимо, забываете, мистер Батлер, что Эйлин — взрослая женщина и у нее есть собственная воля. Вы считаете, что я, во вред ей, руковожу ее действиями. На самом же деле я страстно люблю ее, вот уже три или даже четыре года, и если вы имеете понятие о любви, то знаете, что любовь не всегда равносильна власти. И я нимало не погрешу против истины, говоря, что Эйлин влияет на меня не меньше, чем я на нее. Я люблю ее — в том-то вся и беда. Вы пришли ко мне и требуете, чтобы я вернул вам дочь. А между тем я далеко не убежден, что могу это сделать. Я не уверен, что она меня послушается. Более того, моя просьба может обидеть ее, навести на мысль, что я ее разлюбил. А мне очень не хочется, чтобы она так думала. Как я уже говорил вам, она глубоко уязвлена вашим поступком по отношению к ней и тем, что вы принуждаете ее покинуть Филадельфию. Ее возвращение больше зависит от вас, чем от меня. Я мог бы сказать вам, где она, но я еще не уверен, правильно ли я поступлю, сделав это. Во всяком случае, я открою вам ее местопребывание не раньше, чем буду знать, как вы намерены вести себя в отношении Эйлин и всего этого дела. Он кончил, продолжая невозмутимо смотреть на старого подрядчика, который, в свою очередь, не сводил с него свирепого взгляда. — О каком это деле вы толкуете? — спросил Батлер, невольно заинтересовавшись таким неожиданным оборотом разговора. Теперь он сам, помимо своей воли, начал несколько иначе смотреть на всю эту историю. Многое представилось ему в ином свете. Каупервуд, по-видимому, говорит искренне. Возможно, конечно, что все его обещания лживы, но также возможно, что он любит Эйлин и в самом деле намерен со временем добиться развода и жениться на ней. Однако развод противоречит учению католической церкви, которую Батлер глубоко почитал. Согласно законам божеским и человеческим, Каупервуд не вправе бросить жену и детей, связать свою жизнь с другой женщиной, даже с Эйлин, даже во имя ее спасения. С точки зрения общества, это настоящее преступление, доказывающее только, какой, в сущности, негодяй Каупервуд. Но, с другой стороны, он не католик, и точка зрения Батлера для него не обязательна, а кроме того — и это самое худшее, — Эйлин окончательно скомпрометирована (отчасти, конечно, причиной тому и ее безудержная пылкость). Теперь не так-то просто будет внушить ей иные взгляды и заставить ее благопристойно вести себя; все эти «за» и «против» надо будет еще как следует обдумать, Батлер знал, что в душе никогда не примирится с таким замужеством Эйлин, конечно, нет, он не может нарушить верность церкви, но у него достало здравого смысла вдуматься в слова Каупервуда. К тому же он жаждал возвращения Эйлин и понимал, что теперь уж вопрос о ее будущем будет решать она сама. — Речь ведь, собственно, идет о малом, — продолжал Каупервуд. — Только о том, чтобы вы отказались от намерения заставить Эйлин уехать из Филадельфии и прекратили козни против меня. — При этих словах он вкрадчиво улыбнулся. Он все еще не терял надежды смягчить Батлера своим великодушным поведением. — Я, конечно, не могу принудить вас поступать против вашего желания. И заговорил я об этом, мистер Батлер, только потому, что, если бы не ваш гнев из-за Эйлин, я уверен, вы так не ополчились бы на меня. Мне известно, что вы получили анонимное письмо и в тот же день затребовали у меня свой вклад. После этого я из разных источников узнал, что вы очень восстановлены против меня, и я могу об этом лишь сожалеть. Я не виновен в растрате шестидесяти тысяч долларов, и вы это знаете. Я ничего не злоумышлял. Я не предвидел банкротства, когда воспользовался для своей надобности этими сертификатами, и если бы от меня одновременно не потребовали покрытия ряда других ссуд, я продолжал бы свое дело до конца месяца и к первому числу, как всегда, сдал бы сертификаты в амортизационный фонд. Я очень ценил ваше расположение ко мне, и мне больно было его утратить. Вот все, что я хотел вам сказать. Батлер смотрел на Каупервуда задумчивым, испытующим взглядом. В этом человеке, думал он, есть хорошие качества, но как же велико в нем и неосознанное злое начало. Батлер прекрасно знал и о том, как Каупервуд получил чек, и о многих других подробностях этого дела. А сейчас Каупервуд ловчил так же, как в тот вечер, после известия о пожаре. Нет, он попросту хитер, расчетлив и бессердечен. — Я не буду давать вам никаких обещаний, — заявил Батлер. — Скажите мне, где моя дочь, и я обдумаю этот вопрос. После всего происшедшего у вас нет оснований рассчитывать на меня, никаких одолжений вы с моей стороны ожидать не можете. Но я все-таки подумаю. — Это меня вполне удовлетворяет, — отвечал Каупервуд. — На большее я не вправе рассчитывать. Но поговорим об Эйлин. Вы продолжаете настаивать на ее отъезде из Филадельфии? — Нет, если она вернется домой и будет вести себя благопристойно. Но тому, что было между вами, необходимо положить конец. Эйлин позорит семью и губит свою душу. То же самое можно сказать и о вас. Когда вы будете свободным человеком, мы встретимся и побеседуем. Больше я ничего не обещаю. Каупервуд, довольный уже тем, что уладил дело в пользу Эйлин, хотя и не добился многого для себя, решил, что ей надо как можно скорее возвратиться домой. Кто знает, каков будет результат его апелляции в верховный суд. Ходатайство о пересмотре дела, поданное ввиду «сомнений в правильности приговора», может быть отклонено, и в таком случае он снова окажется в тюрьме. Если ему суждено сесть за решетку, Эйлин будет лучше, спокойнее в лоне семьи. В ближайшие два месяца до решения верховного суда ему не обобраться хлопот. А потом — потом он все равно будет продолжать борьбу, что бы с ним ни случилось. Во время этих переговоров Каупервуд не переставал думать о том, как ему осуществить свое компромиссное решение, не оскорбив Эйлин советом вернуться к отцу. Он знал, что она не откажется от встреч с ним, да и сам не хотел этого. Если он не подыщет достаточно веских доводов, оправдывающих в глазах Эйлин то, что он открыл Батлеру ее местопребывание, это будет выглядеть как предательский поступок с его стороны. Нет, прежде чем это сделать, надо придумать какую-нибудь версию, приемлемую для Эйлин. Каупервуд знал, что долго довольствоваться своей теперешней жизнью она не сможет. Ее бегство вызвано отчасти враждебным отношением Батлера к нему, отчасти твердой решимостью старика заставить ее покинуть Филадельфию и расстаться с ним. Правда, сейчас уже многое изменилось. Батлер, что бы он ни говорил, уже больше не был олицетворением карающей Немезиды. Он размяк, жаждал только найти свою дочь и готов был ее простить. Он потерпел поражение, был побит в им же затеянной игре, и Каупервуд ясно читал это в его взгляде. Надо с глазу на глаз поговорить с Эйлин и объяснить ей положение; ему наверняка удастся внушить ей, что сейчас в их обоюдных интересах покончить дело миром, Батлера надо заставить подождать где-нибудь, хотя бы здесь, пока он, Фрэнк, съездит и потолкует с Эйлин. Выслушав его, она, по всей вероятности, не станет с ним спорить. — Лучше всего будет, — сказал Каупервуд после недолгого молчания, — если я дня через два-три повидаюсь с Эйлин и спрошу, каковы ее намерения. Я передам ей наш разговор, и если она пожелает, то вернется домой. — Дня через два-три! — в ярости крикнул Батлер. — На черта мне это нужно! Она сегодня же должна вернуться! Мать еще не знает, что она сбежала. Сегодня же, слышите? Я немедленно поеду за ней. — Нет, из этого ничего не выйдет, — возразил Каупервуд. — Ехать надо мне. Если вам угодно будет подождать здесь, я съезжу, переговорю с ней и тотчас же поставлю вас обо всем в известность. — Ладно, — буркнул Батлер, который расхаживал взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. — Но только, ради бога, поторопитесь! Нельзя терять ни минуты. Он думал о миссис Батлер. Каупервуд позвал слугу, велел ему распорядиться насчет экипажа, приказал никого не впускать в кабинет и торопливо пошел вниз, предоставив Батлеру шагать взад и вперед по этой ненавистной для него комнате.Глава 47
Хотя Каупервуд приехал к Келлигенам уже около одиннадцати, Эйлин еще не ложилась. Она сидела наверху в спальне и делилась с Мэйми и миссис Келлиген впечатлениями светской жизни, когда вдруг раздался звонок. Миссис Келлиген пошла вниз и открыла дверь. — Если я не ошибаюсь, мисс Батлер находится здесь? — осведомился Каупервуд. — Не откажите передать ей, что к ней приехали с поручением от ее отца. Несмотря на строгий наказ Эйлин никому, даже членам семьи Батлеров, не открывать ее пребывания здесь, уверенный тон Каупервуда и упоминание имени Батлера привели миссис Келлиген в совершенную растерянность. — Подождите минуточку, — сказала она. — Я пойду узнаю. Она повернулась к лестнице, а Каупервуд быстро вошел в переднюю с видом человека, весьма довольного, что ему удалось найти ту особу, к которой он имел поручение. — Передайте, пожалуйста, мисс Батлер, что я недолго задержу ее, — крикнул он вслед поднимавшейся по лестнице миссис Келлиген в надежде, что Эйлин услышит его. И в самом деле, она тотчас же сбежала вниз. Эйлин была поражена, что Фрэнк явился так скоро, и со свойственной ей самоуверенностью решила, что дома царит ужасное волнение. Она очень огорчилась бы, будь это не так. Мать и дочь Келлиген очень хотели узнать, о чем они говорят, но Каупервуд соблюдал осторожность. Едва Эйлин сошла вниз, он предостерегающе приложил палец к губам и сказал: — Вы мисс Батлер, не так ли? — Да, это я, — стараясь не улыбаться, отвечала Эйлин. Как ей хотелось поцеловать его! — Что случилось, дорогой? — тихо спросила она. — Боюсь, девочка, что тебе придется вернуться домой, — прошептал он, — иначе поднимется невообразимая кутерьма. Твоя мать, по-видимому, еще ничего не знает, а отец сидит сейчас у меня в кабинете и ждет тебя. Если ты согласишься вернуться, то выведешь меня из больших затруднений. Я тебе сейчас объясню… Он передал ей весь разговор с Батлером и свое мнение по поводу этого разговора. Эйлин несколько раз менялась в лице при упоминании тех или иных подробностей. Но, убежденная ясностью его доводов и его уверениями, что они будут встречаться по-прежнему, она уступила. Как-никак, а капитуляция отца означала для нее немалую победу. Она тотчас же распрощалась с миссис Келлиген и Мэйми, с иронической улыбкой сказав им, что дома никак не могут обойтись без нее, добавила, что пришлет за вещами в другой раз, и вместе с Каупервудом доехала до дверей его дома. Он предложил ей подождать в экипаже, а сам пошел уведомить ее отца. — Ну? — спросил Батлер, стремительно обернувшись на скрип двери и не видя Эйлин. — Она ждет вас внизу в моем экипаже, — объявил Каупервуд. — Может быть, вам угодно воспользоваться им, чтобы доехать до дома? Я потом пришлю за ним кучера. — Нет, благодарю вас! Мы пойдем пешком. Каупервуд приказал слуге идти к экипажу, а Батлер, тяжело ступая, направился к двери. Он прекрасно понимал, что Каупервуд всецело подчинил себе его дочь, и, вероятно, надолго. Единственное, что оставалось теперь ему, Батлеру, это удерживать ее дома в надежде, что влияние семьи заставит ее образумиться. Беседуя с ней по дороге домой, он тщательно выбирал слова, боясь, как бы снова не оскорбить дочь. Спорить с нею сейчас было бессмысленно. — Ты могла бы еще разок поговорить со мной, Эйлин, прежде чем уйти из дому, — сказал он. — Не могу даже представить себе, что было бы с матерью, если б она узнала об этом. Но она ни о чем не догадывается. Тебе придется сказать, что ты осталась обедать у кого-нибудь из знакомых. — Я была у Келлигенов, — отвечала Эйлин. — Ничего не может быть проще. Мама нисколько не удивится. — У меня очень тяжело на душе. Эйлин! Но я хочу надеяться, что ты одумаешься и впредь не станешь так огорчать меня. Больше я сейчас ничего не скажу. Эйлин вернулась к себе в комнату, торжествуя победу, и в доме Батлеров все как будто пошло своим чередом. Но было бы ошибочно думать, будто понесенное Батлером поражение существенно изменило его точку зрения на Каупервуда. В эти два месяца, которые оставались в распоряжении Каупервуда со дня выхода из тюрьмы и до разбора апелляции, он изо всех сил старался наладить свои дела, претерпевшие столь сокрушительный удар. Он принялся за работу так, как будто ничего не случилось, но теперь, после вынесения ему обвинительного приговора, шансы на успех были очень невелики. Основываясь на том, что при объявлении банкротства ему удалось защитить интересы наиболее крупных кредиторов, Каупервуд надеялся, что, когда он очутится на свободе, ему снова охотно откроют кредит те финансовые учреждения, чья помощь могла быть наиболее эффективной, например: «Кук и К°», «Кларк и К°», «Дрексель и К°» и Джирардский национальный банк, — разумеется, при условии, что его репутации из-за приговора не будет нанесен слишком серьезный ущерб. В силу своего неизбывного оптимизма Каупервуд недоучел, какое гнетущее впечатление произведет этот приговор — справедливый или несправедливый — даже на самых горячих его сторонников. Лучшие друзья Каупервуда в финансовом мире пришли теперь к убеждению, что он идет ко дну. Какой-то ученый финансист однажды обмолвился, что на свете нет ничего более чувствительного, чем деньги, и эта чувствительность в значительной мере передалась самим финансистам, постоянно имеющим дело с деньгами. Стоит ли оказывать помощь человеку, который, возможно, на несколько лет сядет в тюрьму? Вот если он проиграет дело в верховном суде и уже неминуемо должен будет отправиться за решетку, тогда надо будет что-нибудь сделать для него, например, похлопотать перед губернатором, но до того времени целых два месяца, и, может быть, все еще обойдется. Поэтому при своих многократных просьбах о возобновлении кредита или принятии разработанного им плана восстановления своего дела Каупервуд неизменно наталкивался на вежливые, но уклончивые ответы. Подумаем, посмотрим, есть кое-какие препятствия… И так далее, и так далее — бесконечные отговорки людей, не желающих себя утруждать. Все эти дни Каупервуд, как обычно, бодрый и подтянутый, ходил по разным банкам и конторам, любезно раскланивался со старыми знакомыми и на вопросы отвечал, что питает самые радужные надежды и что дела его идут превосходно. Ему не верили, но это его мало заботило. Он стремился убедить или переубедить только тех, кто действительно мог быть ему полезен; этой задаче он отдавал все свои силы и ничем другим не интересовался. — А, добрый день, Фрэнк! — окликали Каупервуда приятели. — Как дела? — Недурно! Совсем недурно! — весело отвечал он. — Даже вполне хорошо! И, не вдаваясь в излишние подробности, объяснял, как он действует. Иной раз ему удавалось заразить своим оптимизмом тех, кто знал его и сочувственно к нему относился, но большинство не проявляло к его судьбе ни малейшего интереса. В эти же дни Каупервуд и Стеджер часто ходили по судам, ибо Каупервуда то и дело вызывали из-за разных исков, связанных с его банкротством. Это было мучительное время, но он не дрогнул. Он решил остаться в Филадельфии и бороться до конца — вернуть себе положение, которое он занимал до пожара, оправдаться в глазах общества. Он был вполне убежден, что добьется своего, если его не посадят в тюрьму, но даже и в этом случае — так силен был его природный оптимизм — надеялся достигнуть цели по выходе на свободу. Правда, в Филадельфии ему уже тогда не восстановить свое доброе имя, — это пустые мечты. Главными противоборствующими ему силами были неуемная вражда Батлера и происки городских заправил. Каким-то образом — хотя никто не мог бы в точности сказать, откуда это пошло, — в политических кругах сложилось мнение, что молодой финансист и бывший городской казначей проиграют дело и в конце концов угодят в тюрьму. Стинер, поначалу собиравшийся признать себя виновным и безропотно понести наказание, поддался на уговоры друзей, которые убедили его отрицать вину и в объяснение своих действий ссылаться на издавна существующую традицию; иначе, говорили они, у него не остается никакой надежды на оправдание. Он так и поступил, но все-таки был осужден. Потом, для приличия, была составлена апелляционная жалоба, и дело его сейчас находилось в верховном суде штата. Кроме того, — с легкой руки девушки, в свое время писавшей Батлеру и жене Фрэнка, — начались перешептывания о том, что дочь Батлера Эйлин состоит в любовной связи с Каупервудом. Упоминался какой-то дом на Десятой улице, который Каупервуд будто бы нанимал для нее. Нечего и удивляться, что Батлер так мстительно настроен. Это объяснение проливало свет на многие обстоятельства. В результате в деловых и финансовых кругах симпатии стали склоняться на сторону противников Каупервуда, Кто же не знает, что в начале своей карьеры Каупервуд пользовался дружеским покровительством Батлера? Нечего сказать, хороша благодарность! Самые старые и самые стойкие из его сторонников, и те укоризненно покачивали головой. Значит, Каупервуд и здесь руководствовался принципом «Мои желания — прежде всего», которым неизменно определялось все его поведение. Конечно, он человек сильный и поистине блестящий. Никогда еще Третья улица не знала такого дерзкого, предприимчивого, смелого в деловых замыслах и в то же время осторожного финансиста. Но разве чрезмерная дерзость и самомнение не могут прогневить Немезиду? Она, как и смерть, охотно избирает блестящую мишень. Разумеется, Каупервуду не следовало соблазнять дочь Батлера. И уж, конечно, он не должен был так бесцеремонно брать этот чек, особенно после ссоры и разрыва со Стинером. Слишком уж он напорист! И весьма сомнительно, чтобы при таком прошлом ему удалось снова занять здесь прежнее положение! Банкиры и предприниматели, ближе всех стоявшие к нему, смотрели на это довольно скептически. Что же касается Каупервуда, то его девиз «Мои желания — прежде всего», а также его любовь к красоте и к женщинам оставались неизменными, и в этом отношении он был по-прежнему безудержен и легкомыслен. Даже сейчас прелесть и очарование такой девушки, как Эйлин Батлер, значили для него больше, чем доброжелательность пятидесяти миллионов человек, если, конечно, он мог обойтись без этой доброжелательности. До чикагского пожара и паники его звезда всходила так быстро, что в чаду удач и успехов он не имел времени задуматься над отношением общества к его поступкам. Молодость и радость бытия кипели в его крови. Он был свеж и полон жизненных сил, как только что зазеленевшая трава. Жизнь казалась ему приятной, словно прохладный весенний вечер, и никакие сомнения не смущали его. После краха, когда рассудок как будто должен был подсказать ему необходимость хоть на время отказаться от Эйлин, он и не подумал этого сделать. Она олицетворяла для него прекрасные дни его недавнего прошлого. Она была звеном между этим прошлым и грезившимся ему победоносным будущим. Правда, теперь Каупервуда очень тревожила мысль, что если его посадят в тюрьму или официально признают банкротом, то он лишится места на фондовой бирже, и тогда в Филадельфии для него на время или даже навсегда будет закрыта широкая дорога к благосостоянию. В настоящее время на это место на бирже наложили арест как на часть его актива, и тем самым была приостановлена его биржевая деятельность. Эдвард и Джозеф, едва ли не единственные посредники, которых он еще сохранил, исподволь и по мелочам продолжали действовать за него на бирже; другие биржевики, естественно, видели в братьях Каупервуда его агентов, и если бы они стали распространять слух, будто действуют самостоятельно, это только заставило бы Третью улицу заподозрить, что Каупервуд замыслил какой-то хитрый маневр, едва ли выгодный его кредиторам и, уж во всяком случае, противозаконный. Но так или иначе, а на бирже ему необходимо остаться если не явно, то тайно, и его быстрый, изобретательный ум тотчас же нашел выход: надо за известную мзду подыскать себе фиктивного компаньона из людей, уже зарекомендовавших себя на бирже, который фактически будет подставным лицом, пешкой в его руках. После недолгих размышлений выбор Каупервуда остановился на человеке, имевшем очень скромное дело, но честном и к нему расположенном. Это был некий Стивен Уингейт, мелкий маклер, владелец небольшой конторы на Третьей улице. Сорока пяти лет от роду, среднего роста, плотный, с довольно располагающей внешностью, неглупый и трудолюбивый, он не отличался ни энергией, ни предприимчивостью. Для того чтобы сделать карьеру, если для него вообще могла идти речь о карьере, ему безусловно нужен был такой компаньон, как Каупервуд. Уингейт имел место на фондовой бирже, пользовался хорошей репутацией, его уважали, но до процветания ему было далеко. В былые времена он не раз обращался за помощью к Каупервуду, который любезно ссужал его мелкими суммами под невысокие проценты, давал ему дельные советы и прочее, причем делал это охотно, ибо был расположен к Уингейту и даже жалел его. Теперь Уингейт медленно плыл по течению навстречу не слишком обеспеченной старости и, конечно, должен был оказаться сговорчивым. В настоящее время никому и в голову не пришло бы заподозрить в нем агента Каупервуда, а, с другой стороны, Каупервуд мог быть вполне уверен, что Уингейт будет выполнять его указания с педантической точностью. Каупервуд пригласил его к себе и имел с ним продолжительную беседу. Он откровенно обрисовал положение, сказал, в чем он может быть полезен Уингейту как компаньон, на какую долю рассчитывает в делах его конторы, и Уингейт охотно на все это согласился. — Я рад буду действовать по вашим указаниям, мистер Каупервуд, — заверил его маклер. — Я знаю: что бы ни случилось, вы меня не оставите, а во всем мире нет человека, с которым я работал бы охотнее или к кому относился бы с большим уважением, чем к вам. Эта буря пронесется, и вы снова будете на коне. Во всяком случае, можно попробовать. Если дело у нас не пойдет на лад, вы поступите так, как сочтете нужным. На таких условиях было заключено это соглашение, и Каупервуд начал понемножку заниматься делами, прикрываясь именем Уингейта.Глава 48
Ко времени, когда верховный суд штата Пенсильвания рассмотрел наконец ходатайство Каупервуда об отмене приговора, вынесенного первой инстанцией, и пересмотре дела, слухи о связи Каупервуда с Эйлин успели широко распространиться. Как мы уже знаем, это обстоятельство дискредитировало его и продолжало наносить ему вред. Оно как бы подтверждало то впечатление, которое с самого начала старались создать лидеры республиканской партии, а именно, что Каупервуд-то и есть настоящий преступник, а Стинер только его жертва. Не вполне законные деловые махинации Каупервуда — плод его незаурядной финансовой одаренности — изображались как опасные происки современного Макиавелли, хотя он отнюдь не позволял себе того, чего не делали бы потихоньку другие. У Каупервуда была жена и двое детей; и филадельфийцы, ничего не знавшие об его истинных намерениях, но взбудораженные слухами, уже решили, что он не сегодня завтра собирается бросить семью, развестись с Лилиан и жениться на Эйлин. С точки зрения людей благонамеренных, это само по себе было уже преступлением, а если еще учесть финансовые затруднения Каупервуда, его процесс, обвинительный приговор и банкротство, то станет понятным, почему в Филадельфии так охотно верили всему, что говорили про него заправилы города. Он будет осужден. Верховный суд не удовлетворит его ходатайства о новом слушании дела. Так иногда наши сокровенные мысли и намерения каким-то чудом превращаются в достояние широкой публики. Люди знают многое, что, казалось бы, никак не могло дойти до них. Волей-неволей приходится думать, что существует передача мыслей на расстоянии! Таким вот путем эти слухи дошли не только до пятерых судей верховного суда штата Пенсильвания, но и до самого губернатора. За тот месяц, что Каупервуд провел на свободе после подачи апелляции, Харпер Стеджер и Дэннис Шеннон успели побывать у членов верховного суда и высказаться — один за, другой против удовлетворения ходатайства о пересмотре дела. Через своего защитника Каупервуд подал в верховный суд обстоятельно мотивированную жалобу, в которой он изобличал: во-первых, необоснованность обвинительного вердикта присяжных и, во-вторых, несостоятельность доказательств, на которых строилось обвинение в краже и других преступлениях. Два часа десять минут потребовалось Стеджеру на то, чтобы изложить свои доводы; окружной прокурор Шеннон возражал ему еще дольше, и все время пятеро судей — люди с большим юридическим опытом, но малосведущие в финансовых вопросах — слушали обоих с неослабевающим интересом. Трое из них — Смитсон, Рейни и Бекуис, чутко отзывавшиеся на политические веяния времени и пожелания своих хозяев, холодно отнеслись к истории финансовых операций Каупервуда, ибо знали о его связи с дочерью Батлера и о явно враждебной позиции, занятой этим человеком в отношении Каупервуда. Они считали, что рассматривают дело справедливо и беспристрастно, но в действительности ни на секунду не забывали о том, как Каупервуд поступил с Батлером. Двое других судей — Марвин и Рафальский, люди более широких взглядов, но не менее связанные в своих действиях соображениями политического порядка, понимали, что решение по делу Каупервуда было несправедливым, но не видели возможности это исправить. Он сам очень повредил себе в глазах политических деятелей и общества. Убежденные Стеджером, они приняли во внимание урон, уже понесенный Каупервудом; более того, судья Рафальский, у которого в свое время была почти такая же связь с молодой девушкой, хотел было возразить против обвинительного приговора, но по зрелом размышлении пришел к выводу, что было бы неразумно действовать вразрез с требованиями своих политических хозяев. И все же, когда судьи Смитсон, Рейни и Бекуис уже готовы были, не утруждая себя сомнениями, оставить вердикт в силе, Марвин и Рафальский заявили о своем «особом мнении». Таким образом, создался чрезвычайно запутанный юридический казус. Каупервуд получал возможность, опираясь на право «свободы действий», перенести дело в верховный суд Соединенных Штатов. Все равно, в любом суде — в Пенсильвании или в другом каком-нибудь штате — судьи, несомненно, пожелают тщательно разобраться в столь необычном и важном деле. А потому двое оставшихся в меньшинстве, заявив о своем «особом мнении», собственно, ничем не рисковали. Лидеры республиканской партии не выкажут недовольства, поскольку Каупервуд так или иначе будет осужден. Им это даже придется по душе, так как все приобретет куда более справедливую видимость. Кроме того, Марвин и Рафальский хотели отмежеваться от недостаточно продуманного приговора, который собирались вынести Смитсон, Рейни и Бекуис. Итак все пятеро судей, как это обычно бывает с людьми при подобных обстоятельствах, воображали, что рассматривают дело честно и беспристрастно. И Смитсон от своего имени и от имени своих коллег Рейни и Бекуиса огласил 11 февраля 1872 года следующее решение:«Обвиняемый Фрэнк Каупервуд ходатайствует об отмене вердикта присяжных заседателей в суде первой инстанции (вынесенного по делу: штат Пенсильвания против Фрэнка Каупервуда) и о назначении нового слушания упомянутого дела. Верховный суд не считает, что в отношении обвиняемого была допущена несправедливость. (Далее следовало довольно подробное изложение всех обстоятельств дела, причем указывалось, что обычай и традиции, установившиеся в городском казначействе, равно как и действительно бесцеремонное обращение Каупервуда со средствами города, не имеют никакого отношения к вопросу об ответственности Каупервуда за несоблюдение духа и буквы закона.) Получение обвиняемым на мнимо законном основании не причитающихся ему сумм (пояснил судья Смитсон от имени большинства) может быть квалифицировано как хищение. В данном случае присяжным надлежало установить, руководствовался ли обвиняемый преступным намерением. Присяжные решили дело не в пользу обвиняемого, и верховный суд считает вынесенный ими вердикт достаточно обоснованным. Для какой цели воспользовался обвиняемый чеком городского казначейства? Обвиняемый находился накануне банкротства. Он заложил в обеспечение своей задолженности переданные ему для реализации сертификаты городского займа, а еще до того получил незаконным путем ссуду в пятьсот тысяч долларов. И у присяжных имелись все основания полагать, что легальным образом ему уже не удалось бы добиться дополнительной ссуды из городского казначейства. Поэтому он явился туда и обманным путем, если не формально, то по существу, получил еще шестьдесят тысяч долларов. Присяжные усмотрели в этих действиях обвиняемого наличие преступного намерения».
В таких словах верховный суд большинством голосов отклонил ходатайство Каупервуда о пересмотре дела. Судья Марвин от своего имени и от имени Рафальского написал следующее:
«Из доказательств, которыми располагает суд, явствует, что мистер Каупервуд получил чек как агент городского казначейства, с другой же стороны, не установлено, что в качестве агента он не выполнил (или по крайней мере не намеревался выполнить) в полной мере тех обязательств, которые возлагало на него получение чека. На суде выяснилось, что количество и стоимость облигаций городского займа, купленных для амортизационного фонда, не должны были по политическим соображениям ни оглашаться на бирже, ни каким-либо иным путем становиться достоянием гласности. В то же время мистеру Каупервуду, агенту казначейства, была предоставлена полная свобода распоряжаться своим активом и пассивом при условии, что конечный итог его операций будет вполне удовлетворительным. Сроки приобретения облигаций не были обусловлены никаким соглашением, равно как и суммы, ассигнуемые на приобретение отдельных партий таковых. Подсудимый мог быть признан виновным по первому пункту, только если он пытался мошеннически завладеть чеком в своих личных интересах. Но вердиктом присяжных этот факт не установлен и, более того, на основании имеющихся данных не мог быть установлен; далее присяжные сочли подсудимого виновным и по трем остальным пунктам, не располагая для этого абсолютно никакими доказательствами. Как можем мы утверждать, что они вынесли справедливое решение по первому пункту, если в обвинении по остальным трем пунктам ими допущена столь очевидная несправедливость. По мнению, представленному меньшинством голосов, решение суда первой инстанции по обвинению подсудимого в хищении (пункт первый) необоснованно, вердикт присяжных подлежит отмене, а дело — передано на новое рассмотрение».
Судья Рафальский, человек деловитый, но склонный к созерцательности, еврей по происхождению и типичный американец по внешности, счел своим долгом написать еще третье мнение, которое должно было содержать его личные соображения, подвергнуть критике решение большинства и послужить дополнением к тем пунктам, в которых оно совпадало с мнением судьи Марвина. Вопрос о виновности Каупервуда был весьма запутанным, что явствовало прежде всего из разногласий членов верховного суда, хотя по соображениям политическим они и стремились вынести ему обвинительный приговор. Судья Рафальский, например, считал, что если Каупервудом и было совершено преступление, то это преступление не могло быть квалифицировано как хищение; к этому он присовокуплял:
«Доказательства, которыми располагает суд, не позволяют заключить, что Каупервуд не собирался в скором времени вернуть свой долг, а также что городской казначей или управляющий его канцелярией Альберт Стайерс не намеревался расстаться с теми ценностями, которые обеспечивали этот чек. Мистер Стайерс показал, что мистер Каупервуд сообщил ему о приобретении облигаций городского займа на означенную сумму, тогда как сколько-нибудь убедительных доказательств обратного мы не имеем. То обстоятельство, что облигации им не были сданы в амортизационный фонд, хотя и противоречит букве закона, но, по справедливости, должно рассматриваться как следствие давно установившегося обычая. Может быть, у Каупервуда вошло в практику поступать именно так? По моему разумению, большинство членов верховного суда слишком широко толкует понятие «хищение», в результате такого толкования получается, что всякий делец, производящий обширные и абсолютно законные операции на бирже, вдруг, неожиданно для себя, в результате биржевой паники или пожара, как это и имело место в случае с мистером Каупервудом, может оказаться преступником. То, что суд занимает позицию, создающую подобные прецеденты и приводящую к таким последствиям, кажется мне по меньшей мере достойным удивления».
Хотя Каупервуд чувствовал известное удовлетворение от того, что мнения членов верховного суда разделились, и хотя он заранее готовился к наихудшему и старался соответственно устроить свои дела, все же он испытал горькое разочарование. Было бы неверно утверждать, что этот обычно сильный и самонадеянный человек был неспособен страдать. Чувства такого порядка не были ему чужды, но всегда находились под неуловимым контролем холодного рассудка, ни на мгновение ему не изменявшего. Теперь, по словам Стеджера, Каупервуду оставалось только апеллировать к верховному суду Соединенных Штатов, ввиду того, что один из пунктов решения якобы противоречит положению об основных правах американского гражданина, записанных в конституции. А это была бы затяжная и дорогостоящая история. Кроме того, ему было не очень ясно, какой, собственно, пункт подлежал обжалованию. Опять ушло бы много времени — год, полтора, а то и больше, и в результате ему, быть может, все-таки пришлось бы отбывать заключение, не говоря уже о том, что все время ожидания тоже не удалось бы провести на свободе. Выслушав Стеджера, объяснившего ему, как обстоит дело, Каупервуд на несколько мгновений задумался и затем сказал: — Ну что ж, по-видимому, мне остается либо сесть в тюрьму, либо бежать из Америки, и я выбираю первое. Здесь, в Филадельфии, я буду продолжать борьбу и в конце концов выйду победителем. Я постараюсь добиться либо пересмотра дела в верховном суде Соединенных Штатов, либо помилования у губернатора. Я не собираюсь удирать, это ясно! И люди, которые воображают, будто положили меня на обе лопатки, глубоко заблуждаются. Я живо выкарабкаюсь и покажу этим мелкотравчатым политиканам, что такое настоящая борьба! Теперь уж им не видать от меня ни доллара! Ни цента! Если бы они не преследовали меня, я со временем возместил бы им все пятьсот тысяч. Но теперь — черта с два! Он стиснул зубы, его серые глаза угрожающе сверкнули. — Я ведь сделал все, что мог, Фрэнк, — с искренним сочувствием произнес Стеджер. — Вы должны признать, что я боролся изо всех сил. Может быть, я оказался не на высоте, вам виднее, но я сделал все от меня зависящее. Можно, конечно, предпринять еще кое-какие шаги, но стоит ли на это идти, решать вам. Как вы скажете, так и будет. — Перестаньте болтать вздор, Харпер, — с досадой отозвался Каупервуд. — Если бы я был недоволен тем, как вы действовали, я не постеснялся бы вам это сказать. Продолжайте в том же духе и постарайтесь подыскать достаточные основания для апелляции в верховный суд Соединенных Штатов, а я тем временем начну отбывать срок. Надо полагать, что судья Пейдерсон не замедлит назначить день для вынесения приговора. — Это в известной мере зависит от вас, Фрэнк. Мне нетрудно выхлопотать отсрочку на неделю или дней на десять, если вы сочтете это нужным. Я уверен, что Шеннон не будет противиться. Вся штука только в том, что завтра за вами явится Джесперс. Получив извещение, что вам отказано в пересмотре дела, он обязан будет снова взять вас под стражу. Если ему не заплатить, он поторопится вас арестовать. Но с ним можно договориться. Если вы хотите еще повременить с этим, я думаю, он согласится выпускать вас под надзором своего агента, но ночевать вам, к сожалению, придется там. После истории с Альбертсоном, происшедшей несколько лет назад, эти правила соблюдаются очень строго. Стеджер имел в виду одного банковского кассира, которого выпустили на ночь из тюрьмы будто бы под стражей, что, однако, не помешало ему сбежать. В свое время это вызвало суровые нарекания по адресу шерифа, и с тех пор осужденные, независимо от своего имущественного и общественного положения, должны были до вынесения приговора оставаться в тюрьме хотя бы в ночное время. Каупервуд спокойно обдумывал положение, стоя у окна в конторе Стеджера на Второй улице. Однажды вкусив гостеприимства Джесперса, он не особенно боялся пребывания в тюрьме под опекой этого джентльмена, но проводить ночи под замком, если это ничуть не сокращает срока его заключения, казалось ему нелепым. Впрочем, все, что он мог еще предпринять для устройства своих дел, — раз речь шла о днях, а не о месяцах, которые ему оставалось провести на свободе, — он проделает в тюремной камере почти с тем же успехом, что и в конторе на Третьей улице. К чему лишняя оттяжка? Ему предстоит отбыть тюремное заключение, — так уж лучше примириться со своей участью без лишних размышлений. Можно, конечно, помешкать еще день-другой, чтобы получше все обдумать, но о большем не стоит и хлопотать. — А если мы предоставим всему идти своим чередом, то когда мне будет вынесен приговор? — осведомился он наконец. — Думаю, что в пятницу или в понедельник на будущей неделе, — отвечал Стеджер. — Я не знаю, каковы намерения Шеннона. Надо будет зайти к нему и выяснить. — Да, придется, — согласился Каупервуд. — Пятница или понедельник — это, в сущности, безразлично. Впрочем, пожалуй, все-таки предпочтительней понедельник. Вы не могли бы уговорить Джесперса до тех пор оставить меня в покое? Он знает, что на меня можно положиться. — Ничего не могу вам обещать, Фрэнк, посмотрим! Я сегодня же вечером потолкую с ним. Возможно, что сотня долларов заставит его несколько поступиться строгостью правил. Каупервуд угрюмо усмехнулся. — Я думаю, что сотня долларов заставит Джесперса поступиться любыми правилами, — сказал он и встал, собираясь уходить. Стеджер тоже поднялся. — Я повидаюсь и с Шенноном и с Джесперсом, а потом заеду к вам. Вы после обеда будете дома? — Да. Они надели пальто и вышли на улицу, где дул холодный февральский ветер. Каупервуд поспешил обратно в свою контору на Третьей улице, Стеджер — к Шеннону, а затем к Джесперсу.
Глава 49
Поскольку окружной прокурор не возражал против небольшой отсрочки, вынесение приговора было назначено на понедельник. После разговора с Шенноном, часов в пять, когда уже совсем стемнело, Стеджер отправился в окружную тюрьму. Шериф Джесперс лениво вышел из кабинета, где он занимался чисткой своей трубки. — Здравствуйте, мистер Стеджер! — приветствовал он посетителя. — Как поживаете? Рад вас видеть. Присядьте! Надо думать, вы опять относительно Каупервуда? Я только что получил от окружного прокурора уведомление о том, что ваш клиент проиграл дело. — Увы, это так, — вкрадчивым тоном подтвердил Стеджер. — Мистер Каупервуд просил меня заглянуть к вам и узнать, как вы намереваетесь поступить. Судья Пейдерсон назначил вынесение приговора на понедельник, в десять утра, надеюсь, вы ничего не будете иметь против, если мистер Каупервуд явится к вам лишь в понедельник, часам к восьми утра или, в крайнем случае, в воскресенье вечером! Вы ведь знаете, что он человек вполне благонадежный. Стеджер осторожно нащупывал почву и говорил нарочито небрежным тоном, дабы показать, что вопрос о сроке возвращения Каупервуда в тюрьму является сущим пустяком, и тем самым избежать уплаты ста долларов. Но от Джесперса не так-то просто было отвертеться. Его жирное лицо слегка вытянулось. Как же Стеджер просит его об услуге, даже не заикнувшись о «благодарности»? — Ведь это, как вы сами понимаете, мистер Стеджер, противоречит закону, — начал он осторожно и как бы участливо. — Я всей душой рад услужить мистеру Каупервуду, но после истории, которая произошла у нас с Альбертсоном три года назад, пришлось ввести большие строгости, и… — Да, да, мне это известно, шериф, — мягко прервал его Стеджер, — но как вы сами понимаете, это случай не совсем обычный. Мистер Каупервуд очень крупный делец, и ему надо о многом позаботиться. Конечно, если бы речь шла о том, чтобы сунуть долларов семьдесят пять или сто какому-нибудь судейскому клерку или уплатить штраф, тогда ничего не могло бы быть проще, но… Стеджер умолк и тактично отвел взгляд, а с лица Джесперса тотчас же сошло разочарованное выражение. Закон, который при обычных условиях так трудно было нарушить, вдруг отодвинулся куда-то на задний план; Стеджер понял, что больше никаких доводов не потребуется. — Дело это весьма щекотливое, мистер Стеджер, — отвечал шериф услужливо, но все еще жалобным голосом. — Случись что-нибудь, и я немедленно лишусь места. Я бы ни за что не пошел на такой риск, но, вообще говоря, я знаю мистера Каупервуда и мистера Стинера, оба они мне нравятся. Кроме того, на мой взгляд, с ними поступили несправедливо. Я согласен сделать исключение для мистера Каупервуда, но только пускай он не слишком показывается на людях. Мне не хотелось бы, чтоб об этом узнали в канцелярии окружного прокурора. Надеюсь, ваш клиентне будет возражать, если я для вида приставлю к нему на это время своего человека. Закон вынуждает меня это сделать. Мой агент ничем не стеснит мистера Каупервуда, будет следовать за ним в отдалении и вообще вести себя очень деликатно. Мистер Каупервуд может просто не замечать его. Джесперс посмотрел на Стеджера почти просительным взглядом, и Стеджер кивнул в знак согласия. — Отлично, шериф, отлично! Вы совершенно правы. С этими словами он достал из кармана бумажник, а шериф, осторожности ради, повел его в свой кабинет. — Я хочу показать вам, мистер Стеджер, ряд юридических книг, которые намерен приобрести, — благодушно заметил он, засовывая в карман маленькую пачку десятидолларовых ассигнаций, переданную ему адвокатом. — Как вы сами понимаете, мы иногда очень нуждаемся в справках. Вот и я подумал, что недурно иметь эти книги под рукой. Широким жестом он указал на ряд государственных законодательных сборников, новейших изданий судебных уставов, тюремных установлений и так далее. — Хорошая мысль, шериф! Просто превосходная! Итак, вы полагаете, что если мистер Каупервуд явится сюда в понедельник утром, скажем, часов в восемь или в половине девятого, то все будет в порядке? — Полагаю, что так, — согласился Джесперс, изрядно беспокоясь, но стараясь держаться как можно предупредительнее. — Вряд ли он может нам понадобиться раньше этого срока. Но в случае чего я дам вам знать, и вы привезете его. Впрочем, я уверен, что это не пот требуется, мистер Стеджер: надо думать, все сойдет благополучно. — Они вернулись в вестибюль. — Очень рад был снова повидать вас, мистер Стеджер, очень рад, — повторил Джесперс. — Заходите, прошу вас! Любезно распростившись с шерифом, Стеджер поспешил к Каупервуду. При виде Каупервуда, поднимавшегося по возвращении из конторы в элегантном сером костюме и отлично сшитом пальто на крыльцо своего прекрасного особняка, никто бы не мог предположить, что он в эту минуту спрашивает себя, не последнюю ли ночь ему предстоит провести дома. Ни выражение его лица, ни походка не свидетельствовали об угнетенном душевном состоянии. Он вошел в прихожую, где, несмотря на ранний час, уже горел свет. Навстречу ему попался старый чернокожий слуга Симс, прозванный «судомоем», который нес ведро угля для камина. — Ну и стужа сегодня на дворе, мистер Каупервуд! — сказал Симс, считавший «стужей» любую температуру ниже шестидесяти градусов тепла по Фаренгейту. Больше всего в жизни он сожалел о том, что Филадельфия расположена не в Северной Каролине, откуда он был родом. — Да, холодновато, Симс! — рассеянно отвечал Каупервуд. Он думал сейчас о своем доме, о том, каким дом этот выглядел с Джирард-авеню, когда он сейчас подходил сюда, и о том, что думали о нем, Каупервуде, соседи, когда видели его из своих окон. Погода в этот день стояла ясная и холодная. В приемной и в гостиной горели огни, ибо с тех пор, как его дела пошатнулись, Каупервуд особенно заботился о том, чтобы его жилище не выглядело мрачным и унылым. В западном конце улицы лиловые и фиолетовые тени ложились на белую пелену снега. Зеленовато-серый дом с окнами, в которых сквозь кремовые кружевные занавеси пробивался мягкий свет, казался сейчас особенно красивым. Каупервуду вспомнилось, сколько энергии он потратил на постройку и убранство этого дома. Кто знает, удастся ли теперь сохранить его за собой? — Где миссис Каупервуд? — очнувшись от своих мыслей, спросил он негра. — Кажется, в гостиной, сэр. Каупервуд стал подниматься по лестнице, размышляя о том, что вот и старый Симс скоро лишится места, если только Лилиан после разорения не пожелает оставить его у себя. Но это было бы на нее очень не похоже. Он вошел в гостиную, где за овальным столом, стоявшим посредине комнаты, сидела миссис Каупервуд, пришивая крючок и петельку к юбочке маленькой Лилиан. Заслышав шаги мужа, она подняла глаза и улыбнулась, как все последние дни, странной, неуверенной улыбкой, свидетельствовавшей о душевной боли, страхе, мучительных подозрениях. — Что слышно, Фрэнк? — осведомилась она. Улыбку, игравшую на ее губах, можно было сравнить со шляпой, поясом или брошкой, которые по желанию снимают и надевают. — Ничего особенного, — со своей обычной беззаботностью отвечал он, — если не считать того, что я, кажется, проиграл дело. Стеджер скоро будет здесь с ответом. Он прислал мне записку, что зайдет сегодня вечером. Ему не хотелось говорить напрямик, что дело окончательно проиграно. Он знал, что Лилиан и без того в тяжелом состоянии, и не хотел ошеломлять ее еще такою вестью. — Не может быть! — со страхом и удивлением прошептала она, вставая. Она всегда вращалась в таком мире, где не думают о тюрьмах, где жизнь течет размеренно изо дня в день, в мире, куда не вторгаются такие страшные понятия, как суд или арест, и эти последние месяцы просто сводили ее с ума. Каупервуд так решительно отстранял ее от своей жизни, так мало посвящал в свои дела, что она пребывала в полной растерянности, не понимая, что, собственно, происходит. Все, что ей было известно, она узнала от родителей и сестры Фрэнка да еще из газет, которые читала тайком. Она ни о чем не подозревала даже в тот день, когда Фрэнк отправился в окружную тюрьму, и только старый Каупервуд, вернувшись, рассказал ей о случившемся. Для нее это было страшным ударом. А теперь Фрэнк так спокойно наносит ей новый удар, которого она, правда, с замиранием сердца ждала каждый день, каждый час. Это было уж слишком! Лилиан, стоявшая перед мужем с детской юбочкой в руках, все еще казалась прелестной женщиной, несмотря на то, что ей уже было сорок — на пять лет больше, чем Каупервуду. На ней было платье, сшитое в дни их недавнего процветания, из тяжелого кремового шелка с темно-коричневой отделкой, которое очень шло ей. Глаза Лилиан чуть-чуть ввалились и веки покраснели, но, помимо этого, ничто не выдавало ее тяжелых душевных переживаний. В ней отчасти еще сохранилось то мягкое спокойствие, которое десять лет назад так пленило Каупервуда. — Какой ужас! — тихо произнесла она, и ее руки задрожали. — Какой ужас! И ничего больше нельзя сделать? Неужели тебе не избегнуть тюрьмы? Ее отчаяние и страх отталкивающе подействовали на Каупервуда. Ему нравились более сильные, более решительные женщины, но все-таки она была его женой и когда-то он любил ее. — Да, похоже на то, — отвечал он, и в его голосе впервые за последние годы прозвучали теплые нотки, ибо он от души жалел Лилиан, хотя в то же время и опасался проявлять нежность, которую она могла бы ложно истолковать, тогда как он уже давно не питал к ней никаких чувств. Но Лилиан была не так глупа и понимала, что прозвучавшее в его голосе сострадание было вызвано только поражением, понесенным им, а стало быть, и ею. Она усилием воли сдержала слезы, но тем не менее была растрогана. Отзвук прежней нежности в его словах вызвал в ней воспоминания о далеких, навсегда ушедших днях. О, если бы их можно было вернуть! — Я не хочу, чтобы ты так убивалась из-за меня, — сказал Каупервуд, прежде чем она успела заговорить. — Я еще не сдался. И я выкарабкаюсь из этой истории. Мне, правда, придется сесть в тюрьму, чтобы еще больше не запутать положения. К тебе у меня одна только просьба — не унывать в присутствии других членов семьи, особенно отца и матери. Необходимо поддержать в них бодрость духа. На мгновение ему захотелось взять ее за руку, но он сдержался. Лилиан мысленно отметила это движение. Какая разница по сравнению с тем, что было десять — двенадцать лет назад! Но теперь это не причиняло ей такой боли, какую она испытала бы прежде. Она смотрела на мужа и не находила слов. Да и что могла она ему сказать? — Значит, если все так и будет, тебе скоро придется нас покинуть? — с трудом выжала она из себя. — Я еще не знаю. Возможно, даже сегодня, возможно, в пятницу. А может быть, только в понедельник. Я жду вестей от Стеджера. Он должен быть здесь с минуты на минуту. В тюрьму! В тюрьму! Фрэнк, ее муж, опора всей семьи, должен будет сесть в тюрьму! Она и сейчас еще не понимала, за какую провинность, и стояла в недоумении: что же ей теперь делать, как быть? — Может быть, нужно что-нибудь для тебя приготовить? — спросила она вдруг, словно очнувшись от сна. — Не могу ли я быть чем-нибудь полезной? Скажи, Фрэнк, а не лучше ли тебе уехать из Филадельфии? Ведь, если ты не хочешь, тюрьмы можно избежать. Впервые в жизни Лилиан изменило ее невозмутимое спокойствие. Он посмотрел на нее холодным, испытующим взглядом: трезвый ум дельца тотчас же пробудился в нем. — Это было бы равносильно признанию своей вины, Лилиан, а я невиновен, — сухо отвечал он. — Я не сделал ничего, что могло бы вынудить меня бежать, равно как и ничего, что заслуживало бы уголовного наказания. Я иду туда лишь затем, чтобы выгадать время. Нельзя без конца тянуть этот процесс. Пройдет известный срок, не слишком долгий, и меня освободят — либо по суду, либо в результате ходатайства о помиловании. Сейчас же я считаю целесообразным не опротестовывать приговора. Я и не подумаю бежать из Филадельфии. Из пяти членов верховного суда двое высказали «особое мнение», а это достаточно веское доказательство того, что преследование возбуждено против меня безосновательно. Лилиан поняла, какую ошибку она допустила. Его ответ все разъяснил ей. — Я совсем не то хотела сказать, Фрэнк, — виноватым тоном проговорила она. — Ты и сам понимаешь! Конечно, я знаю, что ты невиновен! И как могла бы я, именно я, тебя заподозрить? Она замолчала, ожидая услышать какой-нибудь ответ, может быть, ласковое слово — отзвук былой страстной любви… Но он уже сел за письменный стол, и мысли его были заняты другим. Лилиан снова до боли ощутила ложность своего положения. Как все это грустно и как безнадежно! Что же ей делать дальше? И как намерен поступить Фрэнк? Внутренняя дрожь сотрясала Лилиан, но вялая, безвольная натура заставляла ее сдерживаться и молчать — зачем отнимать у него время? О чем говорить? Все равно ничего путного из этих разговоров не выйдет. Он больше не любит ее — и этим все сказано. Ничто на свете, даже эта трагедия, не соединит их снова. Он любит другую женщину — Эйлин, и ему безразличны тревожные мысли жены, ее страхи, ее скорбь и отчаяние. В страстном желании видеть его свободным он способен был усмотреть намек на то, что он виновен, сомнение в его правоте, неодобрение его действий! Она на миг отвернулась, а он встал и направился к двери. — Я вернусь через несколько минут, — сказал он. — Ребятишки дома? — Да, они в детской, — тихо отвечала она, растерянная и подавленная. «Ах, Фрэнк!» — чуть было не сорвалось у нее, но, прежде чем она успела раскрыть рот, он уже сбежал по лестнице и скрылся. Лилиан вернулась к столу, прикрывая рукой дрожащие губы. Глаза ее подернулись дымкой глубокой грусти. Неужели, думалось ей, жизнь могла обернуться так печально, а любовь так окончательно, так бесповоротно угаснуть? Ведь десять лет назад… Нет, зачем бередить душу воспоминаниями? Значит, это возможно, и никакие размышления тут не помогут. Уже второй раз жизнь ее рассыпается прахом. Первый муж умер, а второй изменил, полюбил другую, и вдобавок ему еще грозит тюрьма. Почему на нее обрушиваются все эти несчастья? Неужели она такая дурная женщина? Что ей теперь делать? К кому обратиться? Она не представляла себе, на какой срок может быть осужден Фрэнк. На год? Или на пять лет, как пишут газеты? О боже! За пять лет дети позабудут отца. Она прижала руку ко лбу, где ощущала тупую боль. Лилиан пыталась мысленно проникнуть в будущее, но сейчас голова ее была пуста. И вдруг, помимо воли, грудь ее бурно заколыхалась, резкие болезненные спазмы сжали ей горло, глаза начало жечь, и она разразилась судорожными, горестными, безутешными рыданиями почти без слез. Сперва она не могла овладеть собой и стояла, вздрагивая всем телом, но постепенно глухая боль начала стихать, и Лилиан снова стала такой же, какой была прежде. «Зачем плакать? — с необычайной страстностью вдруг спросила она себя. — К чему сокрушаться так бурно и тщетно? Разве это поможет?» Но, несмотря на столь мудрые философские увещевания, она все еще слышала отголоски бури, потрясшей ее душу. «Зачем плакать?» Она могла с таким же успехом сказать: «Как же мне не плакать?» — могла, но не хотела. Вопреки разуму и логике она знала, что эта буря не пронеслась мимо, что тучи сгустились, нависли над нею и гроза еще грянет с новой силой.Глава 50
Приход Стеджера с известием, что шериф не станет ничего предпринимать до понедельника, когда Каупервуд должен будет сам явиться к нему, несколько разрядил атмосферу. Такая отсрочка давала возможность все обдумать не торопясь и уладить кое-какие домашние дела. Каупервуд как можно мягче сообщил обо всем родителям, переговорил с отцом и братьями о необходимости безотлагательно подготовиться к переезду в более скромное жилище. Они совместно обсудили кучу разных второстепенных подробностей — ведь рушилось очень большое хозяйство; кроме того, Каупервуд не раз совещался со Стеджером и нанес визиты Дэвисону, Эвери Стоуну (представителю фирмы «Джей Кук и К°»), Джорджу Уотермену (прежний хозяин Каупервуда Генри Уотермен уже умер), бывшему казначею штата Ван-Ностренду, после выборов больше не занимавшему этот пост, и многим другим лицам; словом, хлопот было немало. Раз уж на самом деле приходилось садиться в тюрьму, он хотел, чтобы его друзья-финансисты объединились и походатайствовали за него перед губернатором. Поводом для такого ходатайства и его отправной точкой должно было служить «особое мнение» двух членов верховного суда. Каупервуд хотел, чтобы Стеджер проследил за этим, а сам он, не щадя сил, спешил повидаться со всеми, кто мог бы оказаться ему полезен, в том числе с Эдвардом Таем, который по-прежнему имел контору на Третьей улице, Ньютоном Таргулом, Артуром Райверсом, Джозефом Зиммерменом, «текстильным королем», который теперь стал миллионером, судьей Китченом, Тэренсом Рэлихеном, бывшим представителем финансовых кругов в Гаррисберге, и множеством других. Рэлихена Каупервуд попросил связаться с газетами и постараться настроить их так, чтобы они начали кампанию за его освобождение, а Уолтера Ли — организовать сбор подписей под петицией к губернатору о помиловании. Предполагалось, что эту петицию подпишут все крупные финансисты и другие видные люди. Ли, так же, как Рэлихен и многие другие, охотно обещал ему свое содействие. Больше предпринимать было, в сущности, нечего, оставалось еще только урывками встречаться с Эйлин, что среди всех хлопот и спешных дел порою казалось совершенно невозможным. И все же он выбирал время для этих встреч, так велико было его стремление отогреться в лучах ее любви. Какие у нее были глаза все эти дни! Они пылали желанием никогда не разлучаться с ним, видеть его счастливым! Подумать только, что его так терзают — ее Фрэнка! О, она догадывалась обо всем, как бы он ни храбрился, как бы бодро ни говорил с нею! И ведь именно ее любовь привела его в тюрьму, она это знала. На какую жестокость оказался способен ее отец! А как низменны враги Фрэнка, хотя бы этот дурак Стинер, портреты которого она часто видела в газетах. Глядя на Фрэнка, Эйлин изнемогала от страданий за своего сильного, красивого возлюбленного, — самого сильного, самого отважного, самого умного, самого ласкового, самого прекрасного человека в мире! Ей ли не знать, что он сейчас переживает! Каупервуд заглядывал в ее глаза, читал в них это безрассудное, пылкое чувство и улыбался, растроганный. Какая любовь! Любовь матери к своему детищу, собаки к хозяину. Как сумел он пробудить такое чувство? Каупервуд не находил ответа, но оно было прекрасно. В эти последние тяжкие дни ему хотелось как можно чаще видеть Эйлин. За месяц, проведенный на свободе, — со дня вынесения обвинительного вердикта и до отказа в удовлетворении его ходатайства перед верховным судом, — он четыре раза встречался с нею. Теперь им оставалось еще только одно свидание — в субботу перед роковым понедельником, когда ему предстояло отправиться в тюрьму. Он не видел Эйлин с тех самых пор, как было вынесено решение верховного суда, но получил от нее письмо «до востребования» и назначил ей встречу на субботу в маленькой гостинице в Кэмдене. Этот городок, расположенный на другом берегу реки, казался Каупервуду наиболее безопасным местом в окрестностях Филадельфии. Он не представлял себе, как Эйлин примет известие о предстоящей им долгой разлуке и как она вообще будет поступать впредь, лишенная возможности советоваться с ним по всякому поводу. Необходимо поговорить с нею, успокоить ее. Но в этот раз, — как он предвидел и опасался, жалея ее, — Эйлин еще более бурно предавалась своему горю и негодованию. Издали завидев его, она поспешила к нему навстречу с той смелостью и решительностью, которую она одна позволяла себе в обращении с ним, с почти мужской отвагой, всегда так восхищавшей Каупервуда, Обвив его шею руками, она начала, захлебываясь от слез: — Милый, можешь ничего мне не говорить. Я все прочла в газетах. Не отчаивайся, родной мой! Я люблю тебя. Я буду тебя ждать. Я не покину тебя, хотя бы мне пришлось ждать десять лет. Что там десять — сто, но мне так больно за тебя, мой дорогой! В мыслях я все время буду с тобою, счастье мое, я буду любить тебя всеми силами души. Она не переставала ласкать его, а он смотрел на нее с той спокойной нежностью, которая свидетельствовала и о его самообладании и о его чувстве к Эйлин, его восхищении ею. «Разве можно не любить ее? — говорил себе Каупервуд. — Да и кто бы ее не полюбил?» В ней было столько страсти, трепета, желаний. Он обожал ее сейчас, может быть, еще больше, чем прежде, ибо, несмотря на всю свою внутреннюю силу, так и не сумел подчинить ее себе. Даже в дни, когда он был настроен замкнуто и мрачно, она обращалась с ним, как со своей неотъемлемой собственностью, своей игрушкой. Она часто — и особенно когда бывала взволнованна — разговаривала с ним так, словно он был ее маленьким баловнем, ее ребенком. Временами ему начинало казаться, что она сумеет покорить его своей воле, заставить его служить ей, до такой степени она была самобытна и уверена в своей женской прелести. Вот сейчас она нашептывала ему слова любви, словно он уже совсем пал духом и нуждается в ее материнской заботе и нежности, хотя горести отнюдь не сломили его; но на мгновение ему показалось, что он и вправду сломлен. — Мои дела совсем не так уж плохи, Эйлин, — все же решился он наконец вставить, и в его голосе зазвучало больше ласки и нежности, чем обычно, но Эйлин, не обращая ни малейшего внимания на его слова, продолжала с тем же пылом: — Нет, нет, все очень плохо складывается, мой милый. Я знаю. Ах, Фрэнк, бедняжка! Но я буду приходить к тебе. Это я уж, во всяком случае, сумею устроить. Как часто там разрешают посещать заключенных? — Говорят, только раз в три месяца, девочка, но когда я попаду туда, этот вопрос можно будет уладить. Впрочем, стоит ли тебе появляться там, Эйлин? Ведь ты знаешь, как сейчас все настроены. Не лучше ли немного выждать? Ведь так ты еще больше ожесточишь отца! Если он захочет, то может очень повредить мне и там. — Раз в три месяца! — вне себя перебила она Каупервуда, едва только он начал ее уговаривать. — Нет, Фрэнк, не может быть! Я не верю! Раз в три месяца! Я не выдержу! Об этом не может быть и речи! Я сама пойду к начальнику тюрьмы. Он разрешит мне видеться с тобой. Я уверена, что разрешит, если я сама с ним поговорю! Она задыхалась от волнения и не могла остановиться, пока Каупервуд сам не прервал ее. — Подумай, что ты говоришь, Эйлин! Опомнись! Ты забываешь о своем отце! О своей семье! Возможно, что твой отец знаком с начальником тюрьмы. Неужели ты хочешь, чтобы весь город говорил о том, что дочь Батлера бегает в тюрьму на свидание со мной? Твой отец бог знает что с тобой сделает. Кроме того, ты не знаешь так, как я, всех этих мелких политических интриганов. Они сплетничают, словно старые бабы. Тебе придется взвешивать каждый свой шаг. Я не хочу потерять тебя, я хочу тебя видеть. Только действуй обдуманно и осторожно. Не торопись со свиданием. Ты понимаешь, как я буду тосковать по тебе, но прежде мы оба должны прощупать почву. Ты не потеряешь меня, ведь я никуда не денусь. Он умолк: ему представился длинный ряд зарешеченных камер, — в одной из них будет заключен и он, может быть, надолго… Представилась Эйлин, разговаривающая с ним через решетку или в самой камере. Но эта мрачная перспектива не помешала ему тотчас же подумать о том, как обворожительна сегодня его возлюбленная. Какой она оставалась юной и сильной! Он близился к зрелости, она же была еще молода и прекрасна. Ей очень шел ее наряд — шелковое, в белую и черную полоску, платье с турнюром, по забавной моде того времени, котиковая шубка и такая же шапочка, небрежно сидевшая на золотисто-рыжих волосах. — Знаю, все знаю, — упорно твердила она. — Но подумай только: три месяца! Родной мой, я не могу, не хочу столько ждать! Это вздор какой-то! Три месяца! Я знаю, что моему отцу не пришлось бы дожидаться три месяца, вздумай он повидать кого-нибудь там, не пришлось бы ждать и тому, кто обратился бы к нему за содействием. Я тоже не стану ждать столько времени. Я уж найду пути! Каупервуд улыбнулся. Не так-то просто переубедить Эйлин. — Но ты же не мистер Батлер, девочка. И ты не станешь докладывать ему о своих намерениях. — Конечно! Но там ни одна живая душа не узнает, кто я. Я приду под густой вуалью. Не думаю, чтобы начальник тюрьмы знал отца. Впрочем, даже если и так, то меня он, во всяком случае, не знает, и, если я обращусь к нему, он меня не выдаст. Ее уверенность в своих чарах, в своем обаянии, в своей неотразимости не укладывалась ни в какие рамки. Каупервуд покачал головой. — Прелесть моя, ты самая лучшая и самая невозможная женщина на свете, — с нежностью произнес он и, притянув ее к себе, крепко поцеловал. — Но все-таки тебе придется послушаться меня. У меня есть адвокат — Стеджер, ты его знаешь. Он сегодня же переговорит с начальником тюрьмы о нашем деле. Возможно, ему удастся все устроить, но возможно также, что у него ничего не выйдет. Я узнаю об этом завтра или в воскресенье и напишу тебе. Но смотри, ничего не предпринимай, пока не получишь от меня письма. Я убежден, что добьюсь сокращения срока между свиданиями наполовину, не исключено, что мы сможем встречаться раз в месяц или даже раз в две недели. Там и писать-то разрешают по одному письму в три месяца… Эйлин опять вспыхнула от возмущения, но он продолжал: — Я уверен, что в какой-то мере мне удастся обойти и это правило, но не пиши мне, пока я не дам тебе знать, или, по крайней мере, не подписывайся и не указывай никакого адреса. Там вскрывают и прочитывают всю корреспонденцию. При свидании или в письмах, все равно, будь осторожна: ты у меня ведь не слишком осмотрительная. Итак, будь умницей. Хорошо? Они говорили еще о многом — о его родных, о явке в суд, предстоящей ему в понедельник, о том, скоро ли его выпустят для присутствия при разбирательстве предъявленных ему исков, будет ли он помилован и все прочее. Эйлин по-прежнему верила в его звезду. Она читала в газетах особые мнения двух членов верховного суда, так же как и мнения трех других, которые решили дело не в его пользу. Она убеждена, что карьера Фрэнка в Филадельфии отнюдь не кончена: пройдет какое-то время, он восстановит свое положение и потом уедет куда-нибудь и увезет ее с собой. Конечно, ей жаль миссис Каупервуд, но она не подходит Фрэнку; ему нужна женщина молодая, красивая, сильная — словом, такая, как она, Эйлин, только такая. Она бурно и страстно обнимала его, пока не пришла пора расставаться. Они обдумали план дальнейших действий настолько, насколько это можно было сделать в подобном положении, не позволявшем что-либо предвидеть с полной уверенностью. В последнюю минуту оба они были крайне удручены, но она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы смело взглянуть в глаза неведомому будущему.Глава 51
Настал понедельник, крайний срок явки Каупервуда в тюрьму. Все, что можно сделать, было сделано. Он простился с отцом, матерью, братьями и сестрой. Разговор с женой вышел какой-то деловой и холодный. С сыном и дочкой он не стал прощаться особо. Все предшествующие дни — четверг, пятницу, субботу и воскресенье — после того, как стало известно, что в понедельник он должен будет отправиться в тюрьму, — Каупервуд, возвращаясь домой, собирался задушевно и ласково поговорить с ними. Он понимал, что сейчас невольно наносит им удар. Но, впрочем, не был в этом уверен. Устраивает же большинство людей свою жизнь, невзирая на обстоятельства и независимо от того, насколько балует их судьба. В конце концов его дети будут жить не хуже других детей, не говоря уже о том, что он, конечно, станет материально поддерживать их — по мере сил. В его планы не входило отнимать детей у жены, лишать их матери. Они должны остаться с нею. Он искренне желал, чтобы им жилось хорошо. Время от времени он будет навещать их, где бы она с ними ни поселилась. Но для себя он хотел свободы действий, хотел разойтись с Лилиан, начать жизнь заново, создать новую семью с Эйлин. Вот почему в последние вечера, особенно в этот воскресный вечер, он был к детям внимательнее, чем обычно, хотя и старался, чтобы они не догадались о предстоящей разлуке. — Фрэнк, — обратился он к своему довольно вялому сыну, — как бы я хотел, чтобы ты немного встряхнулся и стал большим, сильным и здоровым малым! Ты не любишь играть. Надо бы тебе подружиться с мальчишками, стать у них главарем. Почему бы тебе не заняться также гимнастикой, не попытаться развить свою мускулатуру? Этот разговор происходил в гостиной родительского дома, где, растерянные и смущенные, собрались все члены семьи Каупервудов. Маленькая Лилиан, сидевшая за длинным столом напротив отца, подняла глаза и с любопытством посмотрела на него и на братишку. От обоих детей тщательно скрывали, какой печальный оборот приняли дела Каупервуда: они считали, что он просто уезжает куда-то на месяц-другой. Лилиан читала сказки, полученные в подарок на рождество. — Ничего он не станет делать, — заявила она, отрываясь от своей книжки и окидывая брата неожиданно суровым взглядом, — даже побегать со мной вперегонки и то не хочет. — Вот еще, больно интересно бегать с тобой вперегонки! — буркнул Фрэнк-младший. — Да если бы я и захотел, так ты все равно не умеешь. — Не умею, вот как?! — обиделась девочка. — А ну-ка, попробуй меня обогнать. — Лилиан! — предостерегающе остановила ее мать. Каупервуд улыбнулся и ласково погладил сына по голове. — Ничего, Фрэнк, ты еще вырастешь молодцом, — сказал он, слегка ущипнув ребенка за ухо. — Только не робей и возьми себя в руки. Он не встретил у мальчика отклика, на который рассчитывал. Немного погодя миссис Каупервуд увидела, как Фрэнк обнял девочку, прижал ее к себе и стал с нежностью гладить кудрявую головку. На мгновение в Лилиан шевельнулась ревность к дочери. — Моя девочка будет умницей без меня, правда? — шепнул ей Каупервуд. — Конечно, папа, — весело отвечала маленькая Лилиан. — Ну, вот и чудесно! — сказал он и, наклонившись, нежно поцеловал девочку. — Глазки-пуговки! Миссис Каупервуд по его уходе вздохнула. «Детям все, мне ничего!» — подумала она, хотя и дети в прошлом видели от отца не слишком много ласки. С матерью Каупервуд в этот последний час был так нежен и предупредителен, как только может быть любящий сын. Он прекрасно понимал ограниченность ее интересов и то, как она страдала за него, за всю семью. Он никогда не забывал ее теплой заботы о нем в детстве и готов был на что угодно, лишь бы избавить ее от этого страшного несчастья на старости лет. Но сделанного не воротишь! Временами нервы его были натянуты до крайности, как это всегда бывает с человеком в минуты удачи или крушения надежд; но он твердо помнил о необходимости держать себя в руках, не показывать, что творится в его душе, поменьше говорить и идти своим путем, не смиренно, но уверенно навстречу тому, что ждало его впереди. Так именно и держал себя Каупервуд в это последнее утро, ожидая — и не напрасно, — что его пример благотворно подействует на всю семью. — Итак, мама, — ласково произнес он вставая (он не позволил сопровождать себя ни матери, ни жене, ни сестре, ибо ему это не принесло бы никакой пользы, а на них повлияло бы удручающе), — мне пора! Не тревожься и не падай духом! Он обнял ее, а она долго с нежностью и отчаянием целовала сына. — Ступай, Фрэнк! — с трудом произнесла мать, задыхаясь, и наконец выпустила его из объятий. — Я буку молиться за тебя. Он тотчас же отошел от нее, боясь длить эти мгновения. — Прощай, Лилиан, — мягко и дружелюбно обратился он к жене. — Я, вероятно, еще вернусь через несколько дней. Меня отпустят в суд для разбора кое-каких дел. Сестре Фрэнк сказал: — Прощай, Анна. Не позволяй им слишком убиваться. — Увидимся после, — коротко объявил он отцу и братьям, а затем, как всегда подтянутый и элегантный, быстро спустился в приемную, где его уже дожидался Стеджер, и они вместе вышли. Жгучая тоска охватила всю семью, когда за ним захлопнулась дверь. Они не расходились еще несколько минут. Мать тихо плакала, у отца был такой вид, точно он потерял все на свете, но старик бодрился и всячески старался держать себя в руках. Анна уговаривала Лилиан собраться с духом, а та, не зная, что думать, на что надеяться, все пыталась проникнуть мыслью в будущее. Солнце, недавно еще столь ярко сиявшее над их домом, закатилось.Глава 52
В тюрьме Каупервуда приветливо встретил Джесперс, обрадованный, что все сошло гладко и его репутация осталась незапятнанной. Поскольку в суде на повестке дня стояло несколько дел, они решили отправиться туда не раньше десяти часов. Снова появился Эдди Зандерс, которому было поручено доставить Каупервуда к судье Пейдерсону, а затем в исправительную тюрьму. Ему же были вручены для передачи начальнику тюрьмы все относившиеся к делу бумаги. — Вам, я полагаю, известно, что Стинер тоже здесь, — по секрету сообщил Стеджеру шериф Джесперс. — У него теперь нет ни цента за душой, но я все же устроил ему отдельную камеру. Мне не хотелось сажать такого человека в общую. Джесперс явно сочувствовал Стинеру. — Правильно, я очень рад за него, — подавляя улыбку, отвечал Стеджер. — Насколько я понимаю, мистеру Каупервуду было бы неприятно встретиться здесь со Стинером, потому я и принял все меры, чтобы избежать этого. Джордж только что ушел отсюда с другим моим помощником. — Очень хорошо. Это весьма предусмотрительно с вашей стороны, — снова одобрил его Стеджер. Шериф вел себя тактично, и Стеджер был рад за Каупервуда. По-видимому, у Джесперса и Стинера установились самые дружеские отношения, несмотря на растерянность и безденежье бывшего казначея. Каупервуд и сопровождавшие его пошли пешком, так как до суда было недалеко, и по дороге все время говорили о пустяках, сознательно обходя серьезные вопросы. — Все складывается не так уж плохо, — заметил Эдвард отцу. — Стеджер убежден, что через год или даже раньше губернатор помилует Стинера, а тогда он неизбежно должен будет выпустить и Фрэнка. Старый Каупервуд бесчисленное множество раз слышал такие рассуждения, но ему не надоедало слушать их вновь и вновь. Эти слова успокаивали его, как колыбельная песенка младенца. Снег, покрывавший землю и в этом году словно не желавший таять, распогодившийся день, ясный и солнечный, надежда, что в суде соберется не слишком много публики, — все это, казалось, очень занимало Каупервудов — отца и обоих братьев. Старик, чтобы хоть немного облегчить тяжесть, давившую ему душу, даже заговорил о воробьях, дравшихся из-за хлебной корки, и подивился их способности переносить зимний холод. Каупервуд, который шел впереди со Стеджером и Зандерсом, беседовал с адвокатом о судебных разбирательствах, предстоявших в связи с делами его конторы, и о том, что необходимо предпринять в связи с этим. По приходе в здание суда Каупервуда снова ввели в ту же маленькую караульню, где он несколько недель назад ожидал вердикта присяжных. Старый Каупервуд с обоими сыновьями заняли места в зале заседаний. Эдди Зандерс остался при вверенном ему подсудимом; тут же находился и Стинер с другим помощником шерифа, неким Уилкерсоном, но и он и Каупервуд делали вид, будто не замечают друг друга. Фрэнк, собственно, не прочь был заговорить со своим бывшим компаньоном, но видел, что Стинер робеет и стыдится, поэтому оба безмолвно сидели, каждый в своем углу. После сорокаминутного томительного ожидания дверь, которая вела в зал, отворилась и вошел судебный пристав. — Подсудимые, встать! — приказал он. Подсудимых, включая Каупервуда и бывшего городского казначея, оказалось шесть человек. Двое из них были взломщики, пойманные с поличным во время ночной облавы. Еще один из арестованных, молодой человек двадцати шести лет, был всего-навсего конокрад, обличенный в том, что увел у зеленщика лошадь и продал ее. И, наконец, последний — долговязый, неуклюжий, безграмотный и туповатый негр, который, проходя мимо дровяного склада, унес валявшийся там отрезок свинцовой трубы с намерением продать находку или выменять ее на стаканчик виски. Его дело, собственно, не должно было слушаться в этой инстанции; но, поскольку, когда сторож дровяного склада его задержал, он отказался признать себя виновным, не понимая даже, чего, собственно, от него хотят, дело было передано в суд. Позднее он передумал, сознался и теперь должен был предстать перед судьей Пейдерсоном, чтобы услышать обвинительный приговор или же выйти на свободу, так как участковый суд передал его дело для слушания в высшей инстанции. Все эти сведения Каупервуду сообщил Эдди Зандерс, взявший на себя роль проводника и наставника. Зал суда был переполнен. Каупервуд почувствовал себя жестоко униженным, когда ему пришлось вместе с остальными арестованными пройти по боковому проходу; следом за ним шел Стинер, хорошо одетый, но растерянный, пришибленный, больной и унылый. Первым по списку значился негр, Чарлз Аккермен. — Ваша честь, — поспешил разъяснить судье помощник окружного прокурора, — этот человек перед участковым судом отказался признать себя виновным: то ли он был пьян, то ли сделал это по другой причине. А поскольку жалобщик не пожелал снять обвинение, участковый суд вынужден был передать подсудимого сюда. Но потом подсудимый передумал и перед окружным прокурором признал свою виновность. Нам поневоле пришлось обременить вас этим делом. Судья Пейдерсон насмешливо взглянул на негра, которого, впрочем, нимало не смутил этот взгляд: он продолжал стоять, удобно облокотясь о барьер, за которым подсудимые обычно стоят навытяжку и дрожат от страха. Он уже и раньше бывал под судом — за пьянство, драки и тому подобное, — но тем не менее остался наивным и простодушным. — Ну, Аккермен, — сурово вопросил судья, — украли вы кусок свинцовой трубы стоимостью, как тут указано, в четыре доллара восемьдесят центов? — Да, сэр, украл, — начал негр. — Я вам расскажу, господин судья, как было дело. Прохожу я как-то в субботу под вечер мимо дровяного склада, — я как раз был тогда без работы, — и вижу сквозь забор — валяется кусок трубы. Ну, я отыскал палку, просунул ее под забор, подкатил эту самую трубу и унес. А потом вот этот мистер — сторож, значит, — он выразительным жестом указал на свидетельскую скамью, где занял место жалобщик, на случай, если судья захочет о чем-нибудь его спросить, — приходит ко мне домой и называет меня вором. — Но ведь вы и правда взяли эту трубу, не так ли? — Взял, сэр, что и говорить. — Что же вы с ней сделали? — Спустил за двадцать пять центов. — Вы хотите сказать, продали? — поправил судья. — Да, сэр, продал. — Разве вы не знаете, что так поступать нехорошо? Разве, подсовывая палку под забор и подкатывая к себе трубу, вы не понимали, что совершаете кражу? — Да, сэр, я знал, что это нехорошо, — добродушно улыбаясь, отвечал Аккермен. — Я, по правде сказать, не думал, что это кража, но знал, что это нехорошо. Я, конечно, понимал, что не годится мне ее брать. — Конечно, вы понимали! Разумеется, понимали! В том-то и беда! Вы понимали, что это кража, и все-таки украли. А что, человек, который купил у негра украденную вещь, уже взят под стражу? — внезапно спросил судья у помощника прокурора. — Его следует привлечь к ответственности, ибо как скупщик краденого он заслуживает еще более сурового наказания, чем этот негр. — Да, сэр, — отвечал помощник прокурора, — его дело передано судье Йогеру. — Хорошо. Значит, все в порядке, — сурово изрек Пейдерсон. — Я лично причисляю скупку краденого к самым серьезным преступлениям. Затем судья снова обратился к Аккермену. — Теперь слушайте, Аккермен! — продолжал он, раздраженный тем, что приходится возиться с таким пустячным делом. — Я сейчас вам кое-что объясню, а вы извольте слушать меня со вниманием. Стойте прямо! Не наваливайтесь на барьер! Помните, что вы находитесь перед судом! Аккермен, положив оба локтя на барьер, стоял так, словно непринужденно беседовал с приятелем по ту сторону забора, подле своего дома. Услышав окрик судьи, он, впрочем, поспешил выпрямиться, сохраняя на лице все то же простодушное и виноватое выражение. — Постарайтесь-ка взять в толк то, что я вам скажу. Украв кусок свинцовой трубы, вы совершили преступление. Вы меня слышите? И я мог бы сурово покарать вас за это! Имейте в виду, что закон дает мне право посадить вас на год в исправительную тюрьму, понимаете ли вы, что это значит — год каторжной работы за кражу куска трубы! Итак, если вы способны соображать, вслушайтесь хорошенько в мои слова. Я не стану сейчас же отправлять вас в тюрьму. Я немного повременю с этим, хотя приговор будет гласить — год исправительной тюрьмы. Целый год! Лицо Аккермена посерело. Он провел языком по пересохшим губам. — Но приговор не будет сейчас приведен в исполнение. Он останется висеть над вами, и, если вас снова поймают при посягательстве на чужую собственность, вы понесете наказание разом и за то преступление и за это. Вы меня поняли? Ясно, что это значит? Отвечайте! Вы поняли? — Да, сэр! Понял, сэр! — пробормотал негр. — Это значит, что сейчас вы меня отпустите, вот что! В публике расхохотались, и даже сам судья с трудом сдержал улыбку. — Я вас отпускаю до первой провинности! — громовым голосом воскликнул он. — Если только вы опять попадетесь на воровстве, вас сейчас же приведут сюда, и тогда уж вы отправитесь в исправительную тюрьму на год и сверх того еще на тот срок, какой вам тогда присудят. Понятно? А теперь проваливайте, да впредь ведите себя хорошо! Не вздумайте снова красть. Займитесь какой-нибудь работой! Не воруйте больше, слышите! Не дотрагивайтесь до того, что вам не принадлежит! И не попадайтесь мне снова на глаза! Не то я вас уж наверняка упеку в тюрьму! — Да, сэр! Нет, сэр! Я больше не буду, — залепетал Аккермен. — Никогда больше не стану трогать чужого. Он поплелся к выходу, легонько подталкиваемый судебным приставом, и был наконец благополучно выпровожен за дверь под перешептыванье и смех публики, немало позабавившейся его простотой и неуместной суровостью Пейдерсона. Но пристав тут же объявил слушание следующего дела, и внимание присутствующих обратилось на других подсудимых. Это было дело двух взломщиков, которых Каупервуд не переставал разглядывать с нескрываемым интересом. Он впервые в жизни присутствовал при вынесении приговора. Ему еще ни разу не доводилось бывать ни в участковом, ни в городском уголовном суде и лишь изредка — в гражданском. Он был доволен тем, что негра отпустили на все четыре стороны и что Пейдерсон проявил больше здравого смысла и человечности, чем можно было от него ожидать. Каупервуд осмотрелся, отыскивая глазами Эйлин. Он возражал против ее присутствия в суде, но она могла с этим не посчитаться. И правда, она была здесь, в самых задних рядах, зажатая в толпе, под густой вуалью; значит, все-таки пришла! Эйлин была не в силах противиться желанию поскорее узнать участь своего возлюбленного, собственными ушами услышать приговор, быть подле Фрэнка в этот час тягчайшего, как ей думалось, испытания. Она была возмущена, когда его ввели в зал вместе с уголовниками и заставили ждать на виду у всех, но тем более восхищалась его достоинством, осанкой и самоуверенностью, не изменившей ему даже в эти минуты. Он нисколько не побледнел, мысленно отметила она, вот он стоит, все такой же спокойный и собранный, как всегда. Ах, если б только он мог видеть ее сейчас! Если б он хоть взглянул в ее сторону, она приподняла бы вуаль и улыбнулась ему! Но он не смотрел, так как не хотел видеть ее здесь. Все равно в скором времени она встретится с ним и все ему расскажет! С обоими взломщиками судья разделался быстро, приговорив каждого к году исправительной тюрьмы, и их увели, растерянных, видимо, не отдававших себе ясного отчета ни в тяжести своего преступления, ни в том, что ждало их в будущем. Теперь на очереди стояло дело Каупервуда, и «его честь» приосанился: Каупервуд не был обыкновенным преступником, и с ним требовалось особое обхождение. Судья заранее знал, каков будет исход дела. Когда один из молленхауэровских приспешников, близкий друг Батлера, высказал мнение, что и Каупервуду и Стинеру следовало бы дать по пять лет, судья принял это к сведению. — Фрэнк Алджернон Каупервуд! — возгласил секретарь. Каупервуд быстро выступил вперед. Ему было больно и стыдно оттого, что он оказался в таком положении, но он ни взглядом, ни единым движением не выдал своих чувств. Пейдерсон посмотрел на него в упор, как обычно смотрел на подсудимых. — Ваше имя и фамилия? — спросил судебный пристав, а стенограф приготовился записывать. — Фрэнк Алджернон Каупервуд. — Местожительство? — Джирард-авеню, дом номер тысяча девятьсот тридцать семь. — Род занятий? — Владелец банкирской и биржевой конторы. Стеджер, исполненный достоинства и энергичный, стоял рядом с Каупервудом, готовый, когда придет время, произнести свое заключительное слово, обращенное к суду и публике. Затертая в толпе у двери, Эйлин впервые в жизни нервно кусала пальцы, на лбу у нее выступили крупные капли пота. Отец Каупервуда весь дрожал от волнения, а братья смотрели в сторону, стараясь скрыть свой страх и горе. — Отбывали ли вы когда-нибудь наказание по суду? — Никогда, — спокойно отвечал за Каупервуда его адвокат. — Фрэнк Алджернон Каупервуд, — выступив вперед, прогнусавил секретарь суда, — есть ли у вас возражения против вынесения вам сейчас приговора? Если есть, изложите их! Каупервуд хотел было ответить отрицательно, но Стеджер поднял руку. — С разрешения суда я должен заявить, — громко и отчетливо произнес он, — что мой подзащитный, мистер Каупервуд, не признает себя виновным; такого же мнения придерживаются и двое из пяти судей филадельфийского верховного суда — высшей судебной инстанции нашего штата. Среди слушателей, наиболее заинтересованных всем происходящим, был Эдвард Мэлия Батлер, только что вошедший в зал из соседней комнаты, где он разговаривал со знакомым судьей. Угодливый служитель доложил ему, что сейчас будет объявлен приговор Каупервуду. Батлер находился в суде с самого утра под предлогом какой-то неотложной надобности, на самом же деле, чтобы не пропустить этого момента. — Мистер Каупервуд показал, — продолжал Стеджер, — и его показание было подтверждено другими свидетелями, что он являлся только агентом того джентльмена, виновность которого впоследствии была признана этим же составом суда. Он утверждает, — и с ним согласны двое из пяти членов верховного суда штата, — что в качестве агента он имел все права и полномочия не сдавать в амортизационный фонд сертификаты городского займа на шестьдесят тысяч долларов в тот срок, в который, по мнению окружного прокурора, он обязан был это сделать. Мой подзащитный — человек исключительных финансовых способностей. Из многочисленных письменных обращений к вашей чести в его защиту вы могли убедиться, что он пользуется уважением и симпатией огромного большинства наиболее почтенных и выдающихся представителей финансового мира. Мистер Каупервуд занимает весьма видное положение в обществе и принадлежит к числу людей, значительно преуспевающих в своей сфере. Только жестокий и неожиданный удар судьбы привел его на скамью подсудимых, — я имею в виду пожар и вызванную им панику, которые так тяжело отразились на совершенно здоровом и крепком финансовом предприятии. Вопреки вердикту, вынесенному судом присяжных, и решению трех из пяти членов филадельфийского верховного суда я утверждаю, что мой подзащитный не растратчик, что никакого хищения он не совершил, что его напрасно признали виновным, а следовательно, он не должен и нести наказания за преступление, которого не совершал. Я уверен, что вы, ваша честь, не истолкуете превратно мои слова и те побуждения, которые заставляют меня настаивать на правильности всего мною сказанного. Я ни на минуту не собираюсь подвергать сомнению нелицеприятность данного состава суда или суда вообще, так же как не критикую и самого судопроизводства. Я только глубоко скорблю о том, что злополучное стечение обстоятельств создало обманчивую видимость, в которой трудно разобраться непрофессионалу, и в силу этого стечения обстоятельств столь почтенный человек, как мой подзащитный, оказался на скамье подсудимых. Элементарная справедливость требует, по-моему, чтобы это было сказано здесь во всеуслышание и с полной ясностью. Я обращаюсь к вашей чести с ходатайством о снисхождении, и если совесть не позволяет вам совсем прекратить это дело, то я прошу вас хотя бы учесть и взвесить изложенные мною факты при определении меры наказания. Стеджер вернулся на свое место, а судья Пейдерсон кивнул в знак того, что выслушал все сказанное достопочтенным защитником и намерен отнестись к его словам со вниманием, какового они заслуживают, но не более. Затем он повернулся в сторону Каупервуда и, призвав на помощь все свое судейское величие, начал: — Фрэнк Алджернон Каупервуд, признанные вами присяжные заседатели сочли вас виновным в хищении. Ходатайство о пересмотре дела, возбужденное от вашего имени адвокатом, было, после тщательного рассмотрения, отклонено, ибо большинство членов верховного суда безоговорочно согласились с вердиктом присяжных, полагая, что он вынесен надлежащим порядком, на основании закона и свидетельских показаний. Ваше преступление не может не быть названо тяжким преступлением, хотя бы уже потому, что крупная сумма денег, которой вы завладели, принадлежит городу. Вашу виновность усугубляет еще и то обстоятельство, что вы, для личных выгод, незаконно пользовались сотнями тысяч долларов из средств города, равно как и сертификатами городского займа. Высшую меру наказания, предусмотренную законом за подобное преступление, следует считать весьма милосердной. Тем не менее суд должным образом учтет ваше прежнее видное положение и те обстоятельства, которые повлекли за собой ваше банкротство, равно как и ходатайства ваших многочисленных друзей и коллег в финансовой сфере. Суд не оставит без внимания ни одного существенного факта из истории вашей деятельности. Пейдерсон умолк, словно бы в нерешительности, хотя отлично знал, что скажет дальше. Он помнил, чего ждали от него «хозяева». — Если из вашего дела нельзя извлечь иной морали, — продолжал он, перебирая лежавшие перед ним бумаги, — то оно все же послужит для многих весьма полезным уроком и покажет, что нельзя безнаказанно запускать руки в городскую казну и грабить ее под предлогом деловых операций, а также поможет многим понять, что закон обладает еще достаточной силой, чтобы совершить правосудие и защитить общество. — Посему суд приговаривает вас, — торжественно закончил Пейдерсон, меж тем как Каупервуд продолжал невозмутимо смотреть на него, — к уплате в пользу округа штрафа в пять тысяч долларов, к покрытию всех судебных издержек, одиночному заключению в Восточной тюрьме и принудительным работам сроком на четыре года и три месяца, со взятием под стражу во исполнение приговора. Услышав это, старый Каупервуд опустил голову, стараясь скрыть слезы. Эйлин закусила губу и судорожно сжала кулаки, чтобы не расплакаться и подавить в себе ярость и негодование. Четыре года и три месяца! Какой бесконечно долгий пробел в его и в ее жизни! Но она будет ждать. Все лучше, чем восемь или десять лет, а она опасалась и такого приговора. Может быть, теперь, когда самое тяжелое позади и Фрэнк очутится в тюрьме, губернатор помилует его. Судья Пейдерсон уже потянул к себе папку с делом Стинера. Он был доволен собой: финансисты теперь не могут сказать, что он не обратил должного внимания на их ходатайство в пользу Каупервуда. С другой стороны, и политические деятели будут удовлетворены: он наложил на Каупервуда почти максимальную кару, но так, что со стороны могло показаться, будто он учел просьбы о снисхождении. Каупервуд сразу раскусил этот трюк, но не утратил своего обычного спокойствия. Он только подумал, как это трусливо и гадко. Судебный пристав хотел было увести его. — Пусть осужденный еще побудет здесь, — неожиданно остановил его судья. Секретарь уже назвал Джорджа Стинера, и Каупервуд в первую минуту не понял, зачем судья задерживает его, но только в первую минуту. Надо, чтобы он выслушал еще и приговор по делу своего соучастника. Стинеру были заданы обычные вопросы. Рядом с бывшим казначеем все время стоял его адвокат Роджер О'Мара, ирландец по происхождению, опытный политик, консультировавший Стинера с первой минуты его злоключений; впрочем, сейчас даже он не нашелся что сказать и только попросил судью учесть прежнюю безукоризненную честность его подзащитного. — Джордж Стинер, — начал судья, и все присутствующие, в том числе и Каупервуд, насторожились. — Поскольку ваше ходатайство о пересмотре дела и об отмене приговора отклонено, суду остается лишь определить наказание, соответствующее характеру вашего преступления. Я не хочу отягчать нравоучениями и без того тяжелую для вас минуту. Но все же не премину сурово осудить ваши действия. Злоупотребление общественными средствами стало язвой нашего времени, и если не пресечь это зло со всей решимостью, то оно в конце концов разрушит весь наш общественный порядок. Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании. Я считаю, что ответственность за ваше преступление и за все ему подобные в значительной мере ложится на общество. До последнего времени общество с недопустимым равнодушием взирало на мошеннические проделки должностных лиц. Наша политика должна руководствоваться более высокими и более чистыми принципами, наше общественное мнение должно клеймить позором злоупотребление государственными средствами. Недостаточная принципиальность общества и сделала возможным ваше преступление. Помимо этого, я не усматриваю в вашем деле никаких смягчающих обстоятельств. Судья Пейдерсон для большего эффекта сделал паузу. Он близился к вершине своего красноречия и хотел, чтобы его слова запечатлелись в умах слушателей. — Общество вверило свои деньги вашему попечению, — торжественно продолжал он. — Вам было оказано высокое, священное доверие. Вы должны были охранять двери казначейства, как серафим — врата рая, и пылающим мечом неподкупной честности грозить каждому, кто посмел бы приблизиться к ним с преступной целью. Этого требовало от вас ваше положение выборного представителя общества. Учитывая все обстоятельства вашего дела, суд не может применить к вам меру наказания мягче наивысшей меры, предусмотренной законом. Но, согласно статье семьдесят четвертой Уголовного кодекса, суды нашего штата не вправе приговаривать к заключению в исправительную тюрьму на срок, истекающий между пятнадцатым ноября и пятнадцатым февраля, к эта статья заставляет меня снизить на три месяца тот максимальный срок, к которому я должен был бы приговорить вас, а именно: пять лет. Посему суд приговаривает вас к уплате в пользу округа штрафа в пять тысяч долларов, — Пейдерсон отлично знал, что Стинер не в состоянии выплатить эту сумму, — к одиночному заключению в Восточной тюрьме и принудительным работам сроком на четыре года и девять месяцев со взятием под стражу во исполнение приговора. Судья положил бумаги на стол и задумчиво потер рукою подбородок; Каупервуда и Стинера поспешно увели. Батлер, вполне удовлетворенный исходом разбирательства, одним из первых покинул зал суда. Убедившись, что все кончено и ей здесь больше нечего делать, Эйлин тоже торопливо пробралась к дверям, а через несколько минут после нее ушли отец и братья Каупервуда. Они хотели дождаться его на улице и проводить в тюрьму. Остальные члены семьи с волнением дожидались известий дома, поэтому Джозефа немедленно отправили к ним. Между тем небо заволокло тучами, день нахмурился, и казалось, вот-вот пойдет снег. Эдди Зандерс, получивший на руки все относящиеся к делу бумаги, заявил, что нет нужды возвращаться в окружную тюрьму. Поэтому все пятеро — Зандерс, Стеджер и Фрэнк с отцом и братом — сели на конку, конечная станция которой всего на несколько кварталов отстояла от Восточной тюрьмы. Через полчаса все они уже стояли у ее ворот.Глава 53
Восточная тюрьма штата Пенсильвании, в которой Каупервуду предстояло отбыть четыре года и три месяца одиночного заключения, находилась на углу улиц Фейермаунт и Двадцать первой, в огромном здании из серого камня; хмурое и величественное, это здание несколько напоминало дворец Сфорца в Милане, хотя, разумеется, в архитектурном отношении сильно ему уступало. Его серые стены окружали целый квартал, и оно высилось одинокое и неприступное, как и положено тюрьме. Стена, опоясывавшая огромную — свыше десяти акров — тюремную территорию и сообщавшая ей значительную долю ее угрюмого величия, имела тридцать пять футов в вышину и свыше семи в толщину. Сама тюрьма, невидимая с улицы и состоявшая из семи корпусов, раскинувшихся наподобие щупалец осьминога вокруг центрального здания, занимала почти две трети огороженного стеною пространства, так что для лужаек и газонов оставалось очень мало места. Эти корпуса, вплотную примыкавшие к наружным стенам, имели сорок два фута в ширину и сто восемьдесят в длину; четыре из них были двухэтажные. Вместо окон там были лишь узенькие просветы под самым потолком длиной не больше трех с половиной футов и шириной дюймов в восемь. При некоторых камерах нижнего этажа были устроены крохотные дворики — десять на шестнадцать футов, то есть размером не превышающие самих камер и, в свою очередь, обнесенные высокими кирпичными стенами. Стены камер, полы и крыши — все было из камня; камнем были выложены и коридоры, имевшие лишь десять футов в ширину, и одноэтажные галереи, достигавшие в вышину пятнадцати футов. Тому, кто из центрального помещения, так называемой ротонды, смотрел на расходящиеся длинные корпуса, все казалось несоразмерно узким и сдавленным. Железные двери, — перед ними имелись еще массивные деревянные, для того чтобы в случае надобности совершенно изолировать заключенных, — производили тяжелое, гнетущее впечатление. Света в помещениях было в общем достаточно, так как стены часто белили, а узкие отверстия в крыше застекляли на зиму матовым стеклом, но все было так голо, так утомительно для глаз, как это бывает только в местах заключения с их скупым и чисто утилитарным оборудованием. В этих стенах несомненно шла жизнь — тюрьма насчитывала в то время четыреста заключенных, и почти все камеры были заняты. Но никто из арестованных этой жизни не видел и не ощущал. Здесь люди жили и в то же время не жили. Кое-кого из заключенных после долгих лет пребывания в тюрьме назначали «старостами», но таких было немного. В тюрьме имелись: пекарня, механическая и столярная мастерские, кладовая, мельница и огороды, но для обслуживания всех этих заведений требовалось очень мало людей. Тюрьма, построенная в 1822 году, постепенно разрасталась, корпус за корпусом, пока не достигла своих нынешних, весьма внушительных, размеров. Обитатели ее были разнообразны как по своему умственному развитию, так и по совершенным преступлениям — от мелкой кражи до убийства. Правила тюремного распорядка определялись так называемой «пенсильванской системой», которая, в сущности, сводилась к одиночному заключению, соблюдению полной тишины и индивидуальному труду в изолированных камерах. Если не считать недавнего пребывания в окружной тюрьме, собственно даже не очень походившей на тюрьму, то Каупервуд ни разу в жизни не бывал в подобном заведении. Однажды, когда он еще мальчиком бродил по окрестным городам, ему случилось пройти мимо «арестантского дома», как назывались тогда городские тюрьмы, — небольшого серого здания с высокими зарешеченными окнами, — и в одном из мрачных оконных проемов второго этажа он увидел какого-то пропойцу или бродягу с испитым бескровным лицом, всклокоченными волосами и мутным взглядом; заметив Фрэнка, тот крикнул ему (стояло лето, и окна были открыты): — Эй, сынок, сбегай-ка да купи мне табачку, ладно? Фрэнк поднял глаза, пораженный и испуганный отталкивающей внешностью арестанта, и ответил, прежде чем успел подумать: — Нет… не могу. — Ну, смотри, как бы тебя самого когда-нибудь не упекли за решетку, стервец! — в бешенстве крикнул бродяга, видимо, еще не вполне протрезвившийся после вчерашнего пьянства. Каупервуд никогда не вспоминал об этом случае, но тут он вдруг всплыл в памяти. Вот и его сейчас запрут в этой мрачной, унылой тюрьме; на улице метет метель, а он будет беспощадно выброшен из жизни. Никому из близких не позволили сопровождать его за наружную стену, даже Стеджеру, хотя он и получил разрешение посетить Каупервуда позднее. Это правило соблюдалось незыблемо. Зандерса, имевшего при себе сопроводительные бумаги и знакомого с привратником, пропустили немедленно. Остальные повернули назад, грустно распрощавшись с Каупервудом, который старался вести себя так, словно все это было только малозначащим эпизодом, — да так он, собственно, и относился к тому, что с ним произошло. — Ну что ж, до свиданья, — сказал он, пожимая всем руки. — Ничего со мной не случится, и я скоро выберусь отсюда. Вот увидите! Пусть Лилиан не слишком расстраивается. Он вошел в тюремный двор, и ворота со зловещим лязгом захлопнулись за ним. Зандерс шагал впереди под темными, мрачными сводами высокой подворотни ко вторым воротам, где уже другой привратник огромным ключом отпер решетчатую калитку. Очутившись во внутреннем дворе, Зандерс свернул налево в маленькую канцелярию; там за высокой конторкой стоял тюремный чиновник в синем форменном мундире, худой, светловолосый, с узкими серыми глазками. На его обязанности лежала регистрация заключенных. Взяв бумаги, поданные помощником шерифа, он деловито просмотрел их. Это был приказ о заключении Каупервуда. Чиновник, в свою очередь, выдал Зандерсу справку о том, что принял от него арестанта, и помощник шерифа удалился, весьма довольный чаевыми, которые Каупервуд сунул ему в руку. — Желаю доброго здоровья, мистер Каупервуд, — сказал он на прощанье. — Весьма сожалею и надеюсь, что вам здесь будет не так уж плохо. Он хотел прихвастнуть перед надзирателем близким знакомством с этим необычным заключенным, и Каупервуд, верный своей тактике тонкого притворства, сердечно пожал ему руку. — Весьма признателен, мистер Зандерс, за вашу любезность, — сказал он и тотчас повернулся к своему новому начальству, желая произвести как можно более выгодное впечатление. Он знал, что попадает теперь в руки мелких чиновников, от которых целиком зависит, будут ли ему предоставлены какие-либо льготы или не будут. Ему хотелось сразу показать этому надзирателю, что он готов беспрекословно подчиниться всем правилам, что он уважает начальство, но и себя унижать не намерен. Морально он был подавлен, но не терял присутствия духа даже здесь, в тисках, куда загнало его правосудие, в исправительной тюрьме штата, которой он всеми правдами и неправдами старался избежать. Надзиратель Роджерс Кендал, несмотря на свое тщедушие и официальную внешность, был человеком довольно способным, во всяком случае по сравнению с другими представителями тюремной администрации: догадливый, не слишком образованный, не слишком умный по природе, не слишком усердный, но достаточно энергичный, чтобы держаться на своей должности; он неплохо разбирался в арестантах, так как уже без малого двадцать шесть лет имел с ними дело. Относился он к ним холодно, недоверчиво, цинично. Ни с кем этот человек не допускал ни малейшей фамильярности и требовал точного соблюдения всех правил внутреннего распорядка. Каупервуд стоял перед ним в красивом синевато-сером костюме, превосходно сшитом сером пальто и черном котелке по последней моде, в новых ботинках из тончайшей кожи, в галстуке из плотного шелка спокойной и благородной расцветки. Его волосы и усы свидетельствовали о стараниях опытного парикмахера, холеные ногти блестели. С первого же взгляда на него надзиратель понял, что перед ним птица высокого полета, из тех, кого превратности судьбы редко забрасывают в его сети. Каупервуд стоял посреди комнаты, казалось, ни на кого и ни на что не глядя, но все замечал. — Заключенный номер три тысячи шестьсот тридцать три, — сказал Кендал писарю, передавая ему листок желтой бумаги, на котором значились имя и фамилия Каупервуда, а также порядковый номер, исчислявшийся со дня основания тюрьмы. Писарь из арестантов занес эти данные в книгу, а листок отложил в сторону, для передачи «старосте», которому предстояло отвести Каупервуда в так называемый «пропускник». — Вам надо раздеться и принять ванну, — обратился Кендал к Каупервуду, с любопытством разглядывая его. — Правда, вам едва ли нужна ванна, но у нас уж такое правило. — Благодарю, — отвечал Каупервуд, довольный, что даже здесь он, видимо, производил должное впечатление. — Я готов подчиняться всем правилам. Он собирался уже снять пальто, но Кендал движением руки остановил его и позвонил. Из соседней комнаты вошел не то надзиратель, не то арестант из породы «старост». Это был маленький, смуглый кривобокий человечек. Одна нога у него была короче другой, а следовательно, и одно плечо ниже другого. Несмотря на впалую грудь, косые глаза и неровную походку, он двигался довольно проворно. Одежда его состояла из мешковатых полосатых штанов и такой же полосатой, как полагалось в тюрьме, куртки, из-под которой виднелась рубаха с открытым воротом; на голове у него сидела непомерной величины полосатая же шляпа с оттопыренными полями, показавшаяся Каупервуду особенно отвратительной. Фрэнк не мог отделаться от неприятного впечатления, которое произвели на него косые глаза этого человека. У «старосты» была дурацкая и льстивая манера каждую минуту отдавать честь, прикладывая руку к шляпе. Это был «домушник», и ему «припаяли» десять лет, но благодаря хорошему поведению он добился чести работать в канцелярии без унизительного мешка, натянутого на голову. За это он был весьма признателен начальству. Сейчас он смотрел на Кендала глазами боязливой собаки, а на Каупервуда поглядывал лукаво, как бы показывая, что прекрасно понимает его положение и не питает к нему доверия. В глазах обычного арестанта все товарищи по несчастью одинаковы; более того, он утешается сознанием, что все они не лучше его. Пусть судьба жестоко расправилась с ним, — он в мыслях не менее жестоко расправляется с другими заключенными. Малейший намек, преднамеренный или случайный, что я, мол, праведнее тебя, в стенах тюрьмы считается самым тяжким, самым непростительным грехом. Этот «староста» был так же неспособен понять Каупервуда, как муха — понять движение маховика, но, мелкая сошка, он был уверен, что раскусил новичка. Мошенник — мошенник и есть, а потому Каупервуд для него ничем не отличался от последнего карманного воришки. Он немедленно почувствовал желание унизить его, поставить на одну доску с собой. — Вам придется вынуть из карманов все, что у вас есть, — обратился Кендал к Каупервуду. Обычно он просто приказывал: «Обыскать заключенного!» Каупервуд шагнул к нему и вынул бумажник с двадцатью пятью долларами, перочинный нож, карандаш, маленькую записную книжку и крохотного слоненка из слоновой кости, подаренного ему Эйлин «на счастье», вещицу, которой он очень дорожил именно потому, что это был ее подарок. Кендал с любопытством посмотрел на слоненка. — Можете увести, — кивнул он «старосте». Каупервуду еще предстояла процедура переодевания и купанья. — За мной, — сказал тот и, пройдя вперед, ввел Каупервуда в соседнюю комнату, где за загородками стояли три старые чугунные ванны, а на грубых деревянных полках лежало простое мыло, жесткое, застиранное полотенце и прочие умывальные принадлежности. Рядом с полками были вбиты крючки для одежды. — Залазь сюда, — распорядился «староста» Томас Кьюби, показывая на одну из ванн. Каупервуд понял, что это было началом мелочного и неотступного надзора, но счел за благо сохранить свое обычное благодушие. — Сейчас, сию минуту, — сказал он. «Староста» несколько смягчился. — Сколько тебе припаяли? — осведомился он. Каупервуд недоумевающе посмотрел на него. Он не понял вопроса. «Староста», сообразив, что новичок не знает тюремного жаргона, повторил: — Сколько же тебе припаяли? Ну, на сколько лет засадили? — А! Понимаю, — ответил Каупервуд. — На четыре года и три месяца. Он решил не раздражать этого человека. Так будет лучше. — За что? — полюбопытствовал Кьюби. Каупервуд на мгновение растерялся. — За кражу, — отвечал он. — Ну, ты легко отделался! — заметил Кьюби. — Меня закатали на целый десяток. Судья попался дубина. Кьюби никогда не слыхал о преступлении Каупервуда. А если бы и слыхал, не мог бы понять всех тонкостей его дела. Каупервуд не испытывал ни малейшего желания продолжать беседу, да и не знал, что говорить. Ему хотелось, чтобы этот субъект поскорее убрался отсюда. Но тот продолжал стоять. Лучше уж поскорее очутиться в камере наедине с собой! — Да, это обидно! — посочувствовал он, и «староста» тотчас понял, что перед ним не свой брат арестант, иначе он не сказал бы ничего подобного. Кьюби открыл краны. Каупервуд тем временем разделся и теперь стоял голый, не смущаясь присутствием этого дикаря. — Не позабудь и башку ополоснуть! — сказал Кьюби и вышел. Пока ванна наполнялась, Каупервуд размышлял над своей участью. Поразительно, до чего жестоко обходилась с ним судьба в последнее время. В отличие от большинства людей в его положении, он не терзался угрызениями совести и не считал себя виновным в бесчестном поступке. Ему просто не повезло. Подумать только, что он очутился здесь в этой огромной безмолвной тюрьме, что он арестант и должен теперь стоять возле этой отвратительной чугунной ванны, а за ним надзирает тронувшийся в уме преступник! Он сел в ванну, наскоро помылся едким желтым мылом и вытерся грубым серым полотенцем, потом потянулся за бельем, но оно исчезло. В эту минуту вошел Кьюби. — Поди-ка сюда! — бесцеремонно позвал он. Каупервуд нагишом последовал за ним Его провели через канцелярию в комнату, где были весы, измерительные приспособления, регистрационные книги и прочее. К нему снова подошел Кьюби, ожидавший у двери, а писарь, завидев его, машинальным движением взял чистый бланк. Кендал внимательно оглядел статную фигуру Каупервуда, начинавшего уже полнеть в талии, и мысленно отметил, что этот заключенный сложением выгодно отличается от большинства своих собратьев. — Становись на весы! — скомандовал Кьюби. Каупервуд повиновался. Надзиратель подвигал гирями и тщательно проверил цифры. — Вес — сто семьдесят пять! — объявил он. — Теперь вот сюда! Он указал на стену, по которой вверх от пола тянулась тонкая вертикальная планка семи с половиной футов в высоту. По ней скользила рейка, опускавшаяся на голову стоявшего у стены человека. Сбоку на планке были отмечены дюймы и доли дюйма — половинки, четверти, осьмушки и так далее, справа находилось приспособление, измеряющее длину руки. Каупервуд понял, что от него требуется, и, став под рейку, застыл в неподвижности. — Ноги вместе, плотней к стене! — командовал Кьюби. — Вот так! Пять футов девять дюймов и десять шестнадцатых! — выкрикнул он, и писарь занес эти данные в регистрационный бланк. Затем Кьюби достал рулетку и принялся измерять плечи Каупервуда, его ноги, грудь, талию, бедра. Он громко называл цвет его глаз, волос, усов и, заглянув ему в рот, добавил в заключение: — Зубы все целы! После того как Каупервуд еще раз сообщил свой адрес, возраст, профессию и на вопрос, знает ли он какое-нибудь ремесло, дал отрицательный ответ, ему разрешили вернуться в ванную комнату и надеть приготовленную для него тюремную одежду — грубое шершавое белье, белую бумажную верхнюю рубаху с открытым воротом, толстые голубовато-серые бумажные носки, каких он никогда в жизни не носил, и необыкновенно жесткие и тяжелые, словно сделанные из дерева или железа, башмаки со скользкими подошвами. Затем он облачился в мешковатые арестантские штаны из полосатой ткани и бесформенную куртку. Он понимал, что в этом костюме у него нелепый и жалкий вид. Когда он снова вошел в канцелярию надзирателя, его охватило какое-то странное, мучительное чувство безнадежности, которое он никогда еще не испытывал и сейчас всячески старался подавить в себе. Так вот, значит, как поступает общество с преступником. Отталкивает его от себя, срывает с него приличные одежды, облекает вот в эти отрепья. Тоска и злоба овладели им; как он ни силился, ему не удавалось справиться с нахлынувшими на него ощущениями. Он всегда ставил себе за правило — скрывать то, что он чувствует, но сейчас это было ему не под силу. В подобной одежде он чувствовал себя униженным, несуразным и знал, что таким же видят его и другие. Огромным усилием воли он все же заставил себя казаться спокойным, покорным и внимательным ко всем, кто теперь над ним начальствовал. В конце концов, думал он, надо смотреть на это, как на игру, как на дурной сон, или представить себе, что ты попал в болото, из которого, если повезет, еще есть надежда благополучно выбраться. Он верил в свою звезду. Долго так продолжаться не может. Это только нелепая и непривычная роль, в которой он выступает на давно изученных им подмостках жизни. Кендал тем временем продолжал разглядывать Каупервуда. — Ну-ка подыщи для него шляпу! — приказал он своему помощнику. Тот подошел к шкафу с нумерованными полками, достал оттуда безобразную полосатую шляпу с высокой тульей и прямыми полями и предложил Каупервуду примерить ее. Шляпа пришлась более или менее впору, и Каупервуд решил, что настал конец его унижениям. Больше, казалось, уже не во что было его наряжать. Но он ошибся. — Теперь, Кьюби, отведи его к мистеру Чепину, — приказал Кендал. Кьюби знал свое дело. Он отправился назад в ванную и принес оттуда вещь, о которой Каупервуд знал лишь понаслышке: белый в синюю полоску мешок, по длине и ширине размером приблизительно в половину обыкновенной наволочки. Развернув мешок, Кьюби встряхнул его и приблизился к Каупервуду. Таков был обычай. Применение мешка, установившееся еще в ранние времена существования тюрьмы, имело целью лишить заключенного ориентации и тем самым предупредить возможность побега. С этого мгновения Каупервуд уже не имел права общаться с кем-либо из заключенных, вступать с ними в беседу, даже видеть их; разговаривать с тюремным начальством тоже воспрещалось, он обязан был лишь отвечать на вопросы. Это было жестокое правило, но оно строго соблюдалось здесь, хотя, как позднее узнал Каупервуд, и тут тоже можно было добиться известных послаблений. — Придется тебе напялить эту штуку, — сказал Кьюби, раскрывая мешок над головой Каупервуда. Каупервуд понял. Когда-то давно он слышал об этом обычае. В первый миг он, правда, опешил и взглянул на мешок с неподдельным удивлением, но тут же с готовностью поднял руки, чтобы помочь натянуть его. — Не надо, — сказал Кьюби. — Опусти руки! Я и сам справлюсь. Каупервуд повиновался. Мешок, нахлобученный на голову, доходил ему до груди, так что он ничего не видел. Он почувствовал себя несчастным, пришибленным, почти раздавленным. Эта белая в синюю полоску тряпка едва не лишила его самообладания. Неужели, подумал он, нельзя было избавить меня от такого крайнего унижения? — Пойдем! — сказал ему провожатый, и Каупервуда повели — куда, этого он уже не видел. — Оттяни малость нижний край да поглядывай под ноги, — посоветовал Кьюби. Каупервуд так и сделал, теперь он уже смутно видел ноги и кусок пола, на который ступал. И так его, словно слепого, вели сначала по короткому переходу, потом по длинному коридору, через комнату, где сидели дежурные надзиратели, и, наконец, вверх по узенькой железной лестнице, к надзирателю второго этажа. Здесь он услышал голос Кьюби: — Мистер Чепин, я привел вам от мистера Кендала нового арестанта. — Сейчас иду, — донесся откуда-то неожиданно приятный голос. Чья-то большая, тяжелая рука подхватила Каупервуда за локоть, и его повели дальше. — Теперь уж недалеко, — произнес тот же голос. — А там я сниму с вас мешок. И Каупервуд почему-то, — возможно, потому, что в этих словах ему послышалась нотка сочувствия, — почувствовал, как судорога свела ему горло. Оставалось сделать всего несколько шагов. Они подошли к двери, и провожатый Каупервуда открыл ее огромным железным ключом. Затем та же большая рука тихонько его подтолкнула. В ту же секунду он был освобожден от мешка и увидел, что находится в тесной выбеленной камере, довольно сумрачной, без окон, но с узким застекленным отверстием под потолком. Посредине одной из боковых стен на крючке висела жестяная лампочка, видимо, служившая для вечернего освещения. В одном углу стояла железная койка с соломенным тюфяком и двумя синими, вероятно, никогда не стиранными, одеялами. В другом была приделана небольшая раковина с медным краном. На стене против койки находилась маленькая полочка. В ногах стоял грубый деревянный стул с уродливой круглой спинкой; в углу возле раковины торчала обмызганная метла. Там же красовалась и чугунная параша, опорожнявшаяся в сточный желоб возле стены и, видимо, промывавшаяся вручную, из ведра. В камере явно водились крысы и всякие паразиты, отчего там стоял пренеприятный запах. Пол был каменный. Взгляд Каупервуда, сразу охватив все это, остановился на тяжелой двери, крест-накрест забранной толстыми железными прутьями и снабженной массивным блестящим замком. Он увидел также, что за этой железной дверью имелась вторая, деревянная, которая наглухо изолировала его от внешнего мира. О ясном, живительном солнечном свете здесь нечего было и мечтать. Чистота всецело зависела от охоты и умения заключенного пользоваться водой, мылом и метлой. Оглядев камеру, Каупервуд перевел взор на надзирателя, мистера Чепина; это был крупный, тяжеловесный, медлительный человек, весь словно покрытый толстым слоем пыли, но явно незлобивый. Мундир тюремного ведомства мешковато сидел на его нескладной фигуре. Мистер Чепин стоял с таким видом, словно ему не терпелось скорее сесть. Его грузное тело отнюдь не казалось сильным, добродушная физиономия сплошь поросла седоватой щетиной. Плохо подстриженные волосы смешными патлами выбивались из-под огромной фуражки. И тем не менее Чепин произвел на Каупервуда очень неплохое впечатление. Более того, сразу подумалось, что этот человек, пожалуй, отнесется к нему внимательнее, чем до сих пор относились другие. Это его ободрило. Он не мог знать, что перед ним лишь надзиратель «пропускника», в ведении которого ему предстояло пробыть всего две недели, до полного ознакомления с правилами тюремного распорядка, и что сам он — всего лишь один из двадцати шести заключенных, вверенных мистеру Чепину. Для упрощения знакомства сей почтенный муж подошел к койке и уселся на нее. Каупервуду он указал на деревянный стул, и тот, пододвинув его к себе, в свою очередь, на него опустился. — Ну, вот вы и здесь! — благодушнейшим тоном произнес мистер Чепин; он был человек немудрящий, благожелательный, многоопытный в обращении с заключенными и неизменно снисходительный к ним. Годы, врожденная доброта и религиозные убеждения — он был квакером — располагали его к милосердию, но в то же время многолетние наблюдения, как позднее узнал Каупервуд, привели его к выводу, что большинство заключенных по натуре скверные люди. Как и Кендал, он всех их считал безвольными, ни на что не годными, подверженными различным порокам, и, в общем, не ошибался. Но при этом он сохранял свое старческое добродушие и отеческую мягкость в обращении, ибо, подобно многим слабым и недалеким людям, превыше всего ставил человеческую справедливость и добропорядочность. — Да, вот я и здесь, мистер Чепин, — просто отвечал Каупервуд. Он запомнил фамилию надзирателя, слышанную от «старосты», и старик был этим очень польщен. Старый Чепин чувствовал себя несколько озадаченным. Перед ним сидел знаменитый Фрэнк А.Каупервуд, о котором он не раз читал в газетах, крупный банкир, ограбивший городское казначейство. И ему и его соучастнику Стинеру — это Чепин тоже вычитал из газет — предстояло отбыть здесь изрядный срок. Пятьсот тысяч долларов в те дни были огромной суммой, гораздо более крупной, чем пять миллионов сорок лет спустя. Чепина поражала даже самая мысль о растрате такой неимоверной суммы, не говоря уж о махинациях, которые, судя по газетам, проделал с этими деньгами Каупервуд. У старика давно выработался перечень вопросов, которые он предлагал каждому новому заключенному: жалеет ли тот, что совершил преступление, намерен ли он исправиться, если обстоятельства будут тому благоприятствовать, живы ли его родители и так далее. И по тому, как они отвечали — равнодушно, с раскаянием или с вызовом, — он решал, заслуженное ли они несут наказание. Он отлично понимал, что с Каупервудом нельзя говорить, как с каким-нибудь взломщиком, грабителем, карманником или же простым воришкой и мошенником. Но иначе разговаривать этот человек не умел. — Так, так, — продолжал он. — Вы, надо полагать, никогда и не думали попасть в такое место, мистер Каупервуд? — Не думал, — подтвердил тот. — Несколько месяцев тому назад я не поверил бы этому, мистер Чепин! На мой взгляд, со мной поступили несправедливо, но теперь, конечно, поздно об этом говорить. Он видел, что старому Чепину хочется прочесть ему маленькое нравоучение, и готов был его выслушать. Скоро он останется один, и ему не с кем будет даже перемолвиться словом; если можно установить с этим человеком более или менее дружеское общение, тем лучше. В бурю хороша любая гавань, а утопающий хватается и за соломинку. — Да, конечно, все мы в жизни совершаем ошибки, — с чувством собственного превосходства продолжал мистер Чепин, наивно убежденный в своих способностях наставника и проповедника. — Мы не всегда знаем, что выйдет из наших хитроумных планов, верно я говорю? Вот вы теперь попали сюда, и вам, надо полагать, обидно, что многое обернулось не так, как вы рассчитывали. Но если бы все началось сначала, я думаю, вы не стали бы повторять то, что сделали, как вы скажете? — Нет, мистер Чепин, в точности, пожалуй, не стал бы повторять, — довольно искренне ответил Каупервуд, — хотя должен сказать, что я считаю себя правым во всех своих поступках. Я нахожу, что, с точки зрения юридической, со мной поступили незаконно. — Н-да, так оно всегда бывает, — задумчиво почесывая свою седую голову и благодушно улыбаясь, продолжал Чепин. — Я часто говорю молодым парням, которые попадают сюда, что мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется. Мы забываем, что на свете есть люди не глупее нас и всегда найдется кому за нами проследить. И суд, и сыщики, и тюремщики все время начеку; оглянуться не успеешь, и тебя уже схватили. Этого не миновать тому, кто дурно себя ведет. — Да, вы правы, мистер Чепин, — согласился Каупервуд. — Ну, а теперь, — заметил старик после того, как он важно изрек еще несколько нравоучительных, но, в общем, вполне благожелательных сентенций, — вот ваша койка и стул, а там вот умывальник и отхожее место. Смотрите, держите все в чистоте и порядке! (Можно было подумать, что он вверяет Каупервуду невесть какое ценное имущество.) Вы должны сами по утрам застилать свою постель, подметать пол, промывать парашу и содержать камеру в опрятном виде. Никто другой за вас этого делать не станет. Приступайте к делу с самого утра, как только встанете, а потом, около половины седьмого, вам принесут завтрак. Подъем у нас в половине шестого. — Слушаю, мистер Чепин, — учтиво отвечал Каупервуд. — Можете быть уверены, что я стану выполнять ваши указания в точности. — Вот, собственно, и все, — произнес Чепин. — Раз в неделю вы должны мыться с ног до головы, для этого я вам выдам чистое полотенце. Каждую пятницу полагается мыть пол в камере. — Каупервуда при этих словах слегка передернуло. — Если захотите, можно получить горячую воду. Я прикажу кому следует. Что касается родных и друзей… — Он встал с койки и встряхнулся, как огромный лохматый пес. — Вы женаты, не так ли? — Да, — подтвердил Каупервуд. — Ну, вот, по правилам, ваша жена и друзья могут посещать вас раз в три месяца, а ваш адвокат… У вас ведь есть адвокат? — Да, сэр, — отвечал Каупервуд, которого начал забавлять этот разговор. — Ну, вот, ваш адвокат, если ему угодно, может приходить каждую неделю или хоть каждый день. Насчет адвокатов никакого запрета нет. Писать письма разрешается только раз в три месяца, а если захотите чего-нибудь из тюремной лавки — табаку, скажем, или чего другого, — то напишите на бумажке, и раз у начальника тюрьмы есть ваши деньги, я вам все доставлю. Старик безусловно не польстился бы на взятку. В нем еще были живы старые традиции, но со временем подарки или лесть несомненно сделают его сговорчивее и покладистей. Каупервуд уразумел это довольно скоро. — Хорошо, мистер Чепин, я все понял, — сказал он, вскакивая с места, как только поднялся старик. — Когда пробудете здесь две недели, — задумчиво добавил Чепин (он забыл упомянуть об этом раньше), — начальник тюрьмы отведет вам постоянную камеру где-нибудь внизу. К тому времени вам надо будет решить, какой работой вы хотите заняться. Если будете примерно себя вести, то не исключено, что вам предоставят камеру с двориком. Он вышел, и дверь зловеще замкнулась за ним. Каупервуд остался один, немало огорченный последними словами Чепина. Только две недели — потом его переведут от этого славного старика к другому, неизвестному надзирателю, с которым, возможно, не так-то легко будет поладить. — Если я вам понадоблюсь — заболеете или еще чего случиться, у нас тут есть особый сигнал. — Чепин вновь приоткрыл дверь. — Вывесьте полотенце на прутьях дверной решетки, только и всего. Я увижу, когда буду проходить, и зайду узнать, что вам нужно. Каупервуд, сильно упавший духом, на миг оживился. — Слушаю, сэр, — сказал он. — Благодарю вас, мистер Чепин! Старик ушел, и Каупервуд слышал, как на цементном полу постепенно замирали его шаги. Он стоял, напрягая слух, и до него долетал чей-то кашель, глухое шарканье ног, гудение какой-то машины, металлический скрежет вставляемого в замок ключа. Все эти звуки доносились едва слышно, как бы издалека. Каупервуд приблизился к своему ложу: оно не отличалось чистотой, постельного белья на нем вовсе не было; он пощупал рукой узкий и жесткий тюфяк. Так вот на чем отныне предстоит ему спать, ему, человеку, так любившему комфорт и роскошь, так умевшему ценить их! Что, если бы Эйлин или кто-нибудь из его богатых друзей увидели его сейчас? При мысли о насекомых, которые водились, вероятно, в этой постели, он почувствовал приступ тошноты. Что тогда делать? Единственный стул был очень неудобен. Свет, пробивавшийся сквозь отверстие под потолком, скудно освещал камеру. Каупервуд старался внушить себе, что понемногу привыкнет к этой обстановке, но взгляд его упал на парашу в углу, и он снова почувствовал отвращение. Вдобавок здесь еще начнут шнырять крысы, на это очень похоже. Ни картин, ни книг, ничего, что радовало бы глаз, даже размяться и то негде, а кругом ни души, только четыре голые стены и безмолвие, в которое он будет погружен на всю ночь, когда закроют наглухо наружную дверь. Какая страшная участь! Каупервуд сел и принялся обдумывать свое положение. Итак, он все же заключен в Восточную тюрьму, где,по расчетам его врагов (в том числе и Батлера), ему придется провести четыре долгих года, даже больше. Стинер, вдруг промелькнуло у него в голове, сейчас, вероятно, подвергается всем процедурам, каким только что подвергли его самого. Бедняга Стинер! Какого он свалял дурака! Что ж, теперь пускай расплачивается за свою глупость. Разница между ним и Стинером в том, что Стинера постараются вызволить отсюда. Возможно, что уже сейчас его участь так или иначе облегчена, но об этом ему, Каупервуду, ничего не известно. Он потер рукой подбородок и задумался — о своей конторе, о доме, о друзьях и родных, об Эйлин. Потом потянулся за часами, но тут же вспомнил, что их отобрали. Значит, вдобавок ко всему он лишен возможности узнавать время. У него не было ни записной книжки, ни пера, ни карандаша, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься. К тому же он с самого утра ничего не ел. Но это неважно. Важно то, что он отрезан от всего мира, заперт тут в полном одиночестве, не знает даже, который теперь час, и не может ничего предпринять — ни заняться делами, ни похлопотать об обеспечении своего будущего. Правда, Стеджер, вероятно, скоро придет навестить его. Это как-никак утешительно. Но все же, если вспомнить, кем он был раньше, какие перспективы открывались перед ним до пожара… а что стало с ним теперь! Он принялся разглядывать свои башмаки, свою одежду. Боже!.. Потом встал и начал ходить взад и вперед, но каждый его шаг, каждое движение гулом отдавались в ушах. Тогда он подошел к двери и стал смотреть сквозь толстые прутья, но ничего не увидел, кроме краешка дверей двух других камер, ничем не отличавшихся от его собственной. Усевшись, наконец, на единственный стул, он погрузился в раздумье, но, почувствовав усталость, решил все же испробовать грязную тюремную койку и растянулся на ней. Оказывается, она не так уж неудобна. И все же немного погодя он вскочил, сел на стул, потом опять начал мерить шагами камеру и снова сел. В такой тесноте не разгуляешься, подумал он. Нет, это невыносимо — словно ты заживо погребен! И подумать только, что теперь ему придется проводить здесь все время — день за днем, день за днем, пока… Пока — что? Пока губернатор не помилует его, или он не отбудет своего срока, или не иссякнут последние крохи его состояния… или… Он думал, время шло и шло. Было уже около пяти часов, когда, наконец, явился Стеджер, да и то лишь ненадолго. У него было много хлопот в связи с вызовом Каупервуда в ближайшие четверг, пятницу и понедельник по целому ряду исков, вчиненных его прежними клиентами. Но после ухода адвоката, когда надвинулась ночь и Каупервуд подрезал обгоревший фитилек в своей крохотной керосиновой лампочке и напился крепкого чая со скверным хлебом, выпеченным из муки пополам с отрубями, который ему просунул сквозь окошко в двери «староста» под присмотром надзирателя, у него стало и вовсе скверно на душе. Вскоре после этого другой «староста», ни слова не говоря, резко захлопнул наружную дверь. В девять часов — Каупервуд это запомнил — где-то прозвонит большой колокол, и тогда он должен будет немедленно погасить свою коптилку, раздеться и лечь. За нарушение правил несомненно полагались наказания — урезанный паек, смирительная рубашка, может быть и плети — откуда ему знать, что именно… Он был подавлен, зол, утомлен. Позади осталась такая долгая и такая безуспешная борьба! Вымыв под раковиной толстую фаянсовую чашку и жестяную миску, Каупервуд сбросил с себя башмаки, все свое постыдное одеяние, даже шершавые кальсоны, и устало растянулся на койке. В камере было отнюдь не тепло, и он старался согреться, завернувшись в одеяло, но тщетно. Холод был у него в душе. — Нет, так не годится! — сказал он себе. — Не годится! Этого я долго не выдержу. Все же он повернулся лицом к стене и, промаявшись еще несколько часов, уснул.Глава 54
Тем, кому благоволение фортуны, благородное происхождение либо мудрость родных и друзей помогают избежать проклятия, постигающего людей избранных и обеспеченных, проклятия, которое выражается в словах «исковеркать жизнь», тем едва ли будет понятно душевное состояние Каупервуда в эти первые дни, когда он сидел в своей камере и мрачно думал, что вот, несмотря на всю его изворотливость, он понятия не имеет о том, что с ним станется. Самые сильные души временами поддаются унынию. Бывают минуты, когда и людям большого ума — им-то, наверно, чаще всего — жизнь рисуется в самых мрачных красках. Как много страшного в ее хитросплетениях! И только смельчаки, обладающие незаурядной отвагой и верой в свои силы, основанной, конечно, на действительном обладании этими силами, способны бесстрашно смотреть жизни в лицо. Каупервуд отнюдь не был наделен из ряда вон выходящим интеллектом. У него был достаточно изощренный ум, с которым — как это часто бывает у людей практического склада — сочеталось неуемное стремление к личному преуспеянию. Этот ум, подобно мощному прожектору, бросал свои ослепительные лучи в темные закоулки жизни, но ему не хватало объективности, чтобы исследовать подлинные глубины мрака. Каупервуд в какой-то мере представлял себе проблемы, над которыми размышляли великие астрономы, социологи, философы, химики, физики и физиологи; но все это по существу не слишком его интересовало. Жизнь преисполнена множества своеобразных тайн. И наверное, необходимо, чтобы кто-нибудь добивался их разгадки. Но так или иначе, а его влекло к другому. Его призванием было «делать деньги» — организовывать предприятия, приносящие крупный доход, или, в данное время, хотя бы сохранить то, что однажды было достигнуто. Но и это, по зрелом размышлении, стало казаться ему почти невозможным. Его дело было слишком расстроено, слишком подорвано злополучным стечением обстоятельств. Он мог бы, как объяснил ему Стеджер, годами тянуть исковые тяжбы, возникшие в связи с его банкротством, выматывая душу из кредиторов, но тем временем имущество его все равно бы таяло, проценты по долговым обязательствам росли, судебные издержки накоплялись, кроме того, он вместе со Стеджером обнаружил, что кое-кто из кредиторов перепродал свои бумаги Батлеру, кое-кто — Молленхауэру, а уж они-то не пойдут ни на какие уступки и будут требовать полного удовлетворения своих претензий. Единственное, на что ему оставалось надеяться, — это через некоторое время войти в соглашение кое с кем из кредиторов и снова начать «делать дела» при посредстве Стивена Уингейта. Тот должен был навестить его в ближайшие дни, как только Стеджер сумеет договориться об этом с начальником тюрьмы Майклом Десмасом, который на второй же день пришел в камеру Каупервуда взглянуть на нового заключенного. Десмас был крупный мужчина, ирландец по происхождению, человек, кое-что смысливший в политике. За время своего пребывания в Филадельфии он занимал самые различные должности: в дни молодости был полисменом, в Гражданскую войну — капралом, а теперь — послушным орудием Молленхауэра. Он был широкоплеч, на редкость мускулист и, несмотря на свои пятьдесят семь лет, мог бы прекрасно постоять за себя в рукопашной схватке. Руки у него были большие и жилистые, лицо скорее какое-то квадратное, чем круглое или продолговатое, лоб высокий. Голову его покрывала густая щетина седых волос, над верхней губой топорщились коротко подстриженные седоватые усики; взгляд его серо-голубых глаз свидетельствовал о природном уме и проницательности, на щеках играл румянец, а когда Десмас улыбался, обнажая ровные острые зубы, в этой улыбке было что-то волчье. Между тем он был человеком отнюдь не жестоким и порою даже добродушным, хотя на него иногда и находили приступы гнева. Десмасу, увы, не хватало умственного развития, чтобы видеть разницу (как в духовном, так и в общественном положении) между отдельными арестантами. Он не понимал, что в тюрьму время от времени попадают люди, которым, независимо от их политической значимости, следует уделять особое внимание. Но если политические верхи указывали Десмасу на это различие между арестантами (как было в случае с Каупервудом и Стинером), тогда другое дело. И все же поскольку тюрьма — заведение общественное, где во всякую минуту можно ждать адвокатов, сыщиков, врачей, священников, журналистов и, наконец, просто родственников и друзей арестантов, то начальнику ее приходится — хотя бы уж для того, чтобы не утратить власти над своими подчиненными — всячески поддерживать дисциплину и порядок, иногда даже вопреки желанию того или иного из политических заправил, и ни для одного из арестантов не допускать чрезмерных поблажек. Случалось, конечно, что среди арестантов попадались люди богатые и избалованные, жертвы тех потрясений, которые временами происходят в общественной жизни, и к ним надо было относиться возможно более снисходительно. Десмас, конечно, знал всю историю Каупервуда и Стинера. Политиканы успели предупредить его, что со Стинером, учитывая его заслуги, следует обходиться помягче. Относительно Каупервуда никто ничего подобного не говорил, хотя все признавали, что его постигла весьма жестокая участь. Начальник тюрьмы может, конечно, что-нибудь сделать и для него, но только на свой страх и риск. — Батлер имеет против него зуб, — как-то сказал Десмасу Стробик. — Из-за его дочки и вышла вся эта история. Послушать Батлера, так Каупервуда надо посадить на хлеб и на воду, а между тем он совсем неплохой малый. Откровенно говоря, будь у Стинера хоть капля разума, Каупервуд не сидел бы здесь. Но киты не спускали глаз с казначея и не дали ему одолжить Каупервуду денег. Несмотря на то, что Стробик, под давлением Молленхауэра, сам советовал Стинеру не ссужать больше Каупервуду ни цента, сейчас он считал поведение своей жертвы предосудительным. Мысль о собственной непоследовательности даже не приходила ему в голову. Видя, что Каупервуд не пользуется расположением «большой тройки», Десмас решил не обращать на него особого внимания и уж, во всяком случае, не торопиться с какими бы то ни было поблажками. Стинеру предоставили удобное кресло, чистое белье, особую посуду, газеты, привилегии в переписке, допуске посетителей и прочем. Каупервуду же… гм, надо сперва присмотреться к нему и тогда уж решить! Тем временем и хлопоты Стеджера не остались безуспешными. На другой же день после поступления Каупервуда в тюрьму Десмас получил письмо из Гаррисберга от весьма важного лица, Тэренса Рэлихена; в письме этом говорилось, что он будет очень благодарен за всякую любезность, оказанную мистеру Каупервуду. Прочитав письмо, Десмас отправился к камере Каупервуда и поглядел на него через зарешеченный глазок в двери. По дороге он имел короткий разговор с Чепином, весьма похвально отозвавшимся о новом заключенном. Десмас никогда раньше не видел Каупервуда, и тот, несмотря на уродливую тюремную одежду, неуклюжие башмаки, грубую рубашку и отвратительную камеру, произвел на него сильное впечатление. Вместо вялого, тщедушного человечка с бегающими глазами — обычный тип арестанта, — он увидел перед собой энергичного, сильного мужчину, статную фигуру которого не изуродовали ни омерзительная одежда, ни перенесенные несчастья. Обрадованный появлением хоть какого-то живого человека, Каупервуд поднял голову и посмотрел на Десмаса большими, ясными, холодными глазами — глазами, которые в прошлом внушали такое доверие и так успокоительно действовали на всех, кому приходилось иметь с ним дело. Десмас был поражен. По сравнению со Стинером, которого он знал раньше и теперь увидел в тюрьме, Каупервуд был подлинным олицетворением силы. Что бы там ни говорили, но один сильный человек всегда уважает другого. А Десмас обладал незаурядной физической силой. Он смотрел на Каупервуда, Каупервуд смотрел на него. И Десмас невольно проникался к нему сочувствием. Казалось, два тигра смотрят друг на друга. Каупервуд чутьем угадал, что перед ним начальник тюрьмы. — Мистер Десмас, если не ошибаюсь? — почтительно и любезно осведомился он. — Да, сэр, это я, — отвечал Десмас, все более и более одолеваемый любопытством. — Не слишком уютные у нас хоромы, как вы скажете? Начальник тюрьмы дружелюбно осклабился, обнажив два ряда ровных зубов. В этой улыбке было что-то звериное. — Да, конечно, мистер Десмас, — подтвердил Каупервуд, стоя по-солдатски, навытяжку. — Впрочем, я и не думал, что попаду в шикарный отель, — с улыбкой добавил он. — Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, мистер Каупервуд? — спросил Десмас, у которого мгновенно мелькнула мысль, что такой человек, пожалуй, со временем еще пригодится. — Я имел беседу с вашим адвокатом. Каупервуд был весьма обрадован этим обращением — «мистер». Так вот откуда дует ветер! Ну что ж, значит, можно ожидать, что здесь ему будет не так уж скверно! Немного терпения! Надо «прощупать» этого человека! — Я не хочу просить вас ни о чем таком, что вам будет затруднительно исполнить, — учтиво отвечал Каупервуд, — но кое-что мне все-таки очень хотелось бы изменить. Я хотел бы иметь простыни, и потом, может быть, вы разрешите, чтобы мне передали из дому теплое белье. То, которое сейчас на мне, очень неудобно. — Да, по правде сказать, эта шерсть не из лучших, — с невозмутимым спокойствием отозвался Десмас. — Ее выделывают где-то здесь же, в Пенсильвании, для нужд штата. Против того, чтобы вы носили собственное белье, если вам так угодно, я не возражаю. Равно и насчет простынь: если они у вас будут, можете пользоваться. Только не надо слишком торопиться. А то всегда находится много охотников поучать начальника тюрьмы, как ему относиться к своим обязанностям. — Я прекрасно понимаю это, — отвечал Каупервуд, — и бесконечно вам признателен. Вы можете быть уверены, что все сделанное вами для меня будет оценено по достоинству и не пойдет вам в ущерб. За этими стенами у меня есть немало друзей, которые со временем вас отблагодарят. Он говорил медленно и внушительно, не сводя с начальника пристального взгляда. На Десмаса его слова произвели должное впечатление. — Хорошо, хорошо, — сказал он все тем же дружелюбным тоном. — Многого я, конечно, обещать не могу. Правила есть правила. Но кое-что, безусловно, можно сделать, так как эти правила допускают известные поблажки для заключенных примерного поведения. Если желаете, мы дадим вам более удобный стул и несколько книг. Если вы еще занимаетесь делами, я ни в коем случае не стану вам в этом препятствовать. Конечно, мы не можем позволить, чтобы здесь то и дело шныряли люди — тюрьма не торговая контора. Но препятствовать вам время от времени видеться кое с кем из ваших друзей я тоже не собираюсь. Что касается вашей корреспонденции… Ну что ж, на первых порах нам придется ее просматривать, согласно общим правилам. А там будет видно. Многого, повторяю, я обещать не могу. Подождем, пока вас не переведут из этого флигеля вниз. Там есть несколько камер с двориками, и если окажутся свободные… Начальник тюрьмы многозначительно подмигнул, и Фрэнк понял, что его ждет участь хотя и нелегкая, но все же не столь мрачная, как он опасался. Десмас предложил Каупервуду подумать о том, какое ремесло он хочет для себя выбрать. — У вас непременно появится потребность занять чем-нибудь руки. Это уж я знаю наверняка. Через некоторое время все здесь стремятся работать. Иначе не бывает. Каупервуд понял его и рассыпался в благодарностях. Он испытывал ужас при мысли о бездеятельном пребывании в камере, где и повернуться-то было трудно; но теперь возможность часто видеться с Уингейтом и Стеджером, а через некоторое время и переписываться без контроля тюремной администрации сулила большое облегчение. Слава богу, он будет носить собственное белье, шелковое и шерстяное, а может быть, ему вскоре позволят еще и снять неуклюжие башмаки. Получив все эти льготы, он начнет заниматься ремеслом, сможет гулять во дворике, про который упомянул Десмас, и его жизнь станет если не идеальной, то, во всяком случае, сносной. Тюрьма, конечно, останется тюрьмой, но есть надежда, что для него она не будет таким кошмаром, как для многих других. За две недели, проведенные Каупервудом в «пропускнике» под надзором Чепина, он узнал почти столько же о тюремном быте, сколько за все время своего заключения: ведь это не была обыкновенная тюрьма, с тюремным двором, тюремными разговорами, тюремной маршировкой на прогулке, тюремной столовой и тюремным трудом. Ни для него, ни для множества других заключенных здесь не существовало общей тюремной жизни. Подавляющее большинство арестантов работало у себя в камерах среди полного безмолвия, выполняя какое-нибудь определенное задание и ничего не зная о том, что происходит вокруг. Основой режима здесь было одиночное заключение, и только ограниченное число заключенных допускалось к несложным работам вне камер. Как Каупервуд и предполагал, — старый Чепин вскоре подтвердил это, — из четырехсот заключенных не более семидесяти пяти человек работали, да и то нерегулярно, на кухне, в огороде, в саду, на мельнице, на общей уборке, и лишь это одно хоть как-то спасало их от одиночества. Но даже таким счастливцам запрещалось разговаривать между собой, и хотя на время работы они освобождались от гнусного мешка, по дороге на работу и обратно в камеру им все же приходилось его надевать. Каупервуд не раз видел их, когда они, тяжело ступая, проходили мимо его камеры, и шествие это оставляло в нем впечатление чего-то чудовищного, неестественного, жуткого. Временами у него являлось сильное желание остаться и впредь под надзором благодушного и разговорчивого старика Чепина, но он знал, что это невозможно. Две недели протекли скоро — надо признаться, это были довольно тоскливые две недели, — и протекли они среди таких однообразных и будничных занятий, как уборка койки, подметание камеры, одевание, принятие пищи, раздевание, подъем в половине шестого, отход ко сну в девять, мытье посуды после еды и все прочее. Каупервуду казалось, что он никогда не привыкнет к тюремной пище. Завтрак в половине седьмого, как мы уже говорили, состоял из ломтя грубого темного хлеба, выпеченного из отрубей с небольшой примесью белой муки, и черного кофе. На обед, в половине двенадцатого, выдавалась бобовая или овощная похлебка с кусочком жесткого мяса и тот же хлеб. На ужин, в шесть, заключенные получали крепкий чай и опять хлеб — ни масла, ни молока, ни сахара. Каупервуд не курил, и потому маленький табачный паек не представлял для него интереса. В первые две или три недели Стеджер приходил каждый день, а со второго дня пребывания Каупервуда в тюрьме Стивен Уингейт, его новый компаньон, также получил разрешение ежедневно его посещать. Десмас позволил это, хотя и считал такую льготу несколько преждевременной. Посетители обычно оставались у Каупервуда не более часа или полутора, а потом снова тянулся долгий-предолгий день. Несколько раз — между девятью часами утра и пятью пополудни — Фрэнка водили в суд для дачи показаний по искам, предъявленным в связи с его банкротством, и вначале это несколько сокращало время. Примечательно, что, как только Каупервуд очутился в тюрьме, прочно и, по-видимому, на долгие годы изолированный от всего мира, те, кто в свое время были так искренне к нему расположены, забыли даже думать о нем. Он человек конченый — таково было общее мнение. Единственное, что еще можно было для него сделать, это со временем употребить свое влияние, чтобы вызволить его из тюрьмы, но кто же мог сказать, когда наступит такое время? И это было все. Он никогда уже не займет прежнего положения, никогда не будет играть сколько-нибудь значительной роли — таково опять же было общее мнение. Очень жаль, конечно, более того — очень трагично, но он исчез без возврата. — Способный был молодой человек, — заметил президент Джирардского национального банка Дэвисон, читая в газете об осуждении и аресте Каупервуда. — Жаль его, очень жаль! Он допустил большую ошибку. Только родителям Каупервуда, Эйлин и его жене, в сердце которой скорбь смешивалась с негодованием, действительно недоставало его. Эйлин, одержимая страстью, страдала больше всех. Четыре года и три месяца, размышляла она. Если он не выйдет раньше срока, ей будет тогда уже около двадцати девяти, а ему под сорок. Сохранит ли он свое чувство к ней? Будет ли она все так же хороша? Не изменятся ли вообще его взгляды по прошествии почти что пяти лет? Все это время он будет носить арестантскую одежду, и за ним навеки останется недобрая слава арестанта. Как ни тяжелы были эти мысли, но они только укрепляли в ней решение не отступаться от Фрэнка, что бы ни случилось, и всеми силами помогать ему. На другой же день после суда Эйлин поехала взглянуть на зловещие серые стены тюрьмы. И так как она ровно ничего не понимала в сложностях закона и уложения о наказаниях, то тюрьма показалась ей особенно страшной. Чего только не могут сделать там с ее Фрэнком! Очень ли он страдает? Думает ли он о ней постоянно, как она о нем? О, как все это ужасно! Как обидно за себя, за свою горячую любовь к нему. Эйлин вернулась домой с твердым решением повидать его, но так как Каупервуд сказал ей, что посетителей допускают лишь раз в три месяца и что он напишет ей о дне свиданий или о возможности увидеться вне тюремных стен, то она не знала, как к этому приступиться. Осторожность прежде всего! Однако на следующий же день она написала ему обо всем: о своей поездке в непогоду к зданию тюрьмы, о том, как ей страшно думать, что он находится за этими мрачными серыми стенами, и о своем непоколебимом решении как можно скорее с ним увидеться. В силу недавней договоренности с начальником тюрьмы это письмо было немедленно вручено Каупервуду. Он написал ответ и передал его Уингейту для отправки. Там говорилось:«Дорогая моя девочка! Я вижу, ты пала духом оттого, что мы не скоро снова будем вместе, но надо взять себя в руки. Приговор ты уже знаешь из газет. Меня привели сюда около полудня, прямо из суда. Будь у меня возможность, я тотчас же написал бы тебе подробно обо всем, чтобы тебя успокоить, но такой возможности у меня не было. Здешние правила этого не дозволяют: я, собственно, и сейчас пишу тебе тайком. Так или иначе, я прочно застрял в тюрьме, но, конечно, жажду из нее выйти. Прошу тебя, дорогая, соблюдай осторожность, если захочешь прийти сюда! Мне ты доставишь только радость и очень меня ободришь, но себе можешь нанести большой ущерб. К тому же я считаю, что и без того причинил тебе много зла, — больше, чем я смогу когда-либо искупить, и для тебя лучше всего было бы забыть обо мне, но я знаю, что ты этого не сделаешь, а если бы сделала, мне было бы очень грустно. В пятницу, в два часа дня, мне предстоит отправиться в суд по особым делам, это на углу Шестой и Честнат-стрит, но там мы не сможем увидеться. Меня поведет конвоир. Будь осторожна. Может быть, хорошенько подумав, ты решишь не искать этой встречи».Последние строки были проникнуты глубоким унынием, впервые вкравшимся в его отношения с Эйлин; но обстоятельства изменили Каупервуда. Раньше он мнил себя неким высшим существом, чьей благосклонности нелегко добиться, хотя, конечно, и Эйлин была женщиной, благосклонности которой стоит искать. Иногда ему казалось, что со временем эта связь оборвется сама собой, — ведь он может достичь таких высот, что Эйлин будет ему уже не пара. Да, такая мысль мелькала у него! Но теперь — в полосатой арестантской одежде — он смотрел на это иначе. Позиция Эйлин, ослабленная было ее долгой, страстной привязанностью к нему, значительно укрепилась. Преимущества были явно на ее стороне. Разве в конце концов она не дочь Эдварда Батлера, и разве не возможно, что после долгой разлуки она откажется стать женой каторжника? Она, собственно, должна оставить его, и, пожалуй, сама этого пожелает. С какой стати ей его дожидаться? Ее жизнь еще не загублена. Общество не знает, так по крайней мере ему казалось, или, во всяком случае, не все знают, что она была его любовницей. Она может выйти замуж за другого. Может навсегда уйти из его жизни. Как это было бы печально! Но вместе с тем разве он не обязан из простого чувства порядочности предложить ей порвать с ним или, по крайней мере, обдумать свое отношение к нему? Он знал ее слишком хорошо, чтобы считать способной на такой поступок. И в его положении, чем бы это ни грозило ей, было огромным счастьем сохранить ее любовь — это связующее звено между ним и лучшими днями его прошлого. Торопливо набрасывая записку к Эйлин в присутствии Уингейта, который должен был ее отправить (надзиратель Чепин любезно вышел на это время из камеры Каупервуда, хотя, по правилам, должен был присутствовать при свидании), он, однако, не мог удержаться, чтобы в последний миг не высказать своих сомнений, и когда Эйлин прочитала эти строки, они поразили ее в самое сердце. В них сказалось все уныние, охватившее его, полный упадок духа. Видно, тюрьма — и как скоро! — все же сломила его волю, после того как он долго и отважно боролся. Теперь уж Эйлин всем существом жаждала ободрить его, проникнуть к нему, как бы это ни было трудно и опасно. «Я должна его увидеть», — сказала она себе. Что касается посещения Каупервуда членами семьи — родителями, братьями, сестрой и женой, то он ясно дал им понять в один из тех дней, когда его водили в суд, что если бы даже они добились разрешения, им все же не следует навещать его чаще чем раз в три месяца, если, конечно, он не попросит их об этом сам или не даст им знать через Стеджера. По правде говоря, он пока еще не испытывал желания видеть кого-нибудь из них. Ему осточертел весь строй общественной жизни. Он хотел сейчас только одного — забыть суету, среди которой жил раньше и в которой, как оказалось, было мало проку. К этому времени Каупервуд уже успел истратить без малого пятнадцать тысяч долларов на судебные издержки, защиту, содержание семьи и прочее, но это его не волновало. Он надеялся кое-что заработать, орудуя через Уингейта. Его родные не остались совсем без средств, на скромную жизнь у них было достаточно. Он посоветовал им переехать в дома, требующие меньших издержек, так они и поступили: родители, братья и сестра перебрались в трехэтажный дом, приблизительно таких же размеров, как их старый дом на Батнвуд-стрит, а жена — в еще более тесный и дешевый двухэтажный домик на Двадцать первой улице, неподалеку от тюрьмы. На это переселение ушла часть тех тридцати пяти тысяч долларов, которые Каупервуд припрятал, после того как обманным путем выудил у Стинера чек. По сравнению с особняком на Джирард-авеню, новые жилища казались Генри Каупервуду страшным убожеством. Не оставалось и следа той роскоши, которая отличала их пышный дом на Джирард-авеню, — тут была готовая мебель, купленная в магазине, довольно красивые, но дешевые портьеры и прочие вещи. Опека, под которую перешло теперь все личное имущество Фрэнка и которой старый Каупервуд передал также и все свое достояние, не позволяла вывезти ничего сколько-нибудь ценного. Все должно было пойти с молотка в пользу кредиторов. От описи, произведенной уже довольно давно, Каупервудам удалось скрыть только несколько мелочей. Среди немногих предметов, которые старому Каупервуду очень хотелось оставить себе, был его письменный стол, сделанный на заказ по эскизу Фрэнка, но стол этот оценили в пятьсот долларов, и получить его можно было только по уплате шерифу этой суммы или путем покупки на аукционе, а так как у Генри Каупервуда таких денег не было, то стол попал в чужие руки. В домах было много вещей, которые всем хотелось сохранить, и Анна в буквальном смысле слова выкрала некоторые из них, в чем лишь много времени спустя призналась родителям. Настал день, когда по приказанию шерифа в обоих домах на Джирард-авеню должны были состояться торги. Всякий мог теперь бродить по комнатам, рассматривать картины, статуи и другие произведения, переходившие в руки тех, кто предлагал наиболее высокую цену. Каупервуд был известен как любитель искусства и коллекционер: этой репутации способствовала не столько подлинная ценность того, что было им собрано, сколько отзывы таких знатоков, как Нортон Флетчер, Уилтон Элсуорт, Гордон Стрейк и другие известные архитекторы и антиквары, с чьим мнением и вкусом считались в Филадельфии. Очаровательные вещицы, которыми он так дорожил, бронзовые статуэтки эпохи расцвета итальянского Возрождения, заботливо подобранное венецианское стекло, скульптуры Пауэрса, Хосмера и Торвальдсена — вещи, которые через тридцать лет вызвали бы только улыбку, но высоко ценились в те дни, полотна видных американских художников от Гилберта до Йемена Джонсона, а также несколько образчиков современной французской и английской школ — все пошло с молотка за бесценок. В Филадельфии в то время не очень смыслили в искусстве, и потому некоторые картины, не получившие должной оценки, были проданы значительно дешевле своей настоящей стоимости. Стрейк, Нортон и Элсуорт пришли на аукцион и скупили все, что было возможно. Сенатор Симпсон, Молленхауэр и Стробик тоже явились посмотреть, нет ли чего интересного. Была здесь и целая ватага политических деятелей помельче. Но самое лучшее из всего, что поступило в продажу, скупил Симпсон — трезвый ценитель подлинного искусства. В его руки перешла горка с венецианским стеклом, две высокие, белые с голубым, мавританские вазы, четырнадцать китайских безделушек из нефрита, а также несколько расписных сосудов и ажурный оконный экран нежнейшего зеленоватого оттенка. Молленхауэру за весьма невысокую цену досталась обстановка и убранство прихожей и гостиной Генри Каупервуда, а Эдварду Стробику — два гарнитура спальной под «птичий глаз». Адам Дэвис тоже почтил торги своим присутствием и приобрел письменный стол «буль», которым так дорожил старый Каупервуд. К Флетчеру Нортону перешли четыре греческие чаши, кувшин и две амфоры, которые он считал прекрасными произведениями искусства и сам же в свое время продал Каупервуду. Множество других превосходных вещей, в том числе севрский обеденный сервиз, гобелен, бронзу Бари и картины Детайля, Фортуни и Джорджа Иннеса, купили Уолтер Ли, Артур Райверс, Джозеф Зиммермен, судья Китчен, Харпер Стеджер, Тэренс Рэлихен, Трэнор Дрейк, мистер Саймон Джонс с женой, мистер Дэвисон, Фруэн Кэссон, Флетчер Нортон и судья Рафальский. Через четыре дня после начала торгов оба дома были уже пусты. Даже вещи, находившиеся в свое время в доме номер девятьсот тридцать один по Десятой улице и сданные на хранение, когда хозяева сочли наиболее целесообразным отказаться от этого дома, были изъяты со склада и пущены в продажу вместе с имуществом из двух других домов. Только это и навело родителей Каупервуда на мысль о какой-то тайне, существовавшей в отношениях между сыном и его женой. Никто из Каупервудов при мрачной картине разрушения не присутствовал. Эйлин, которая прочитала в газете о торгах, зная, как дорожил Каупервуд красивыми вещами, — не говоря уже о том, сколько чудесных воспоминаний было связано с некоторыми из них у нее самой, — пришла в отчаяние. Но она недолго предавалась мрачным мыслям, ибо была твердо убеждена, что настанет день, когда Фрэнк выйдет на свободу и достигнет еще более высокого положения в финансовом мире. Откуда в ней бралась столь твердая уверенность, она и сама не знала, но тем не менее это было так.
Глава 55
Тем временем Каупервуда перевели в ведение другого надзирателя, в новую камеру, помещавшуюся в нижнем этаже корпуса номер три. По размерам — десять футов на шестнадцать — она не отличалась от других, но к ней примыкал упомянутый уже нами дворик. За два дня до этого к Каупервуду пришел начальник тюрьмы Десмас, и у них состоялся непродолжительный разговор сквозь зарешеченный глазок в двери. — В понедельник вас переведут отсюда, — сказал Десмас, как всегда размеренно и неторопливо. — Вам предоставят камеру с двориком; впрочем, много пользы от него не будет: у нас разрешается проводить вне камеры только полчаса в день. Я уже предупредил надзирателя относительно ваших деловых посетителей. Он не станет возражать. Вы только постарайтесь не тратить на них слишком много времени, и все будет в порядке. Я решил обучить вас плетению стульев. Это, по-моему, для вас самая подходящая работа. Она легкая, но требует внимания. Начальник тюрьмы и несколько связанных с ним политических деятелей извлекали из этого тюремного промысла немалые барыши. Труд был действительно нетяжелый и довольно простой, задания на день давались умеренные, но вся продукция находила немедленный сбыт, а прибыль шла в карманы работодателей. Поэтому они, естественно, стремились, чтобы заключенные не сидели без дела, да и тем это тоже шло на пользу. Каупервуд был рад возможности чем-нибудь заняться, так как к книгам его особенно не влекло, а деловых отношений с Уингейтом и ликвидации старых дел было недостаточно, чтобы занять его ум. И все же он не мог не подумать, что если он и сейчас кажется самому себе неузнаваемым, то насколько же еще возрастет это ощущение, когда он, сидя за решеткой, будет заниматься плетением стульев! Тем не менее Каупервуд поблагодарил Десмаса за заботу, а также за разрешение передать ему простыни и принадлежности туалета, которые он только что получил. — Не стоит об этом говорить, — мягко и приветливо отвечал тот (к этому времени он уже начал весьма интересоваться Каупервудом). — Я прекрасно знаю, что и здесь, как везде, есть разные люди. Если человек привык ко всем этим вещам и хочет содержать себя в опрятности, я не собираюсь ему в этом препятствовать. Новый надзиратель, в ведение которого теперь попал Каупервуд, ничем не напоминал Элиаса Чепина. Звали его Уолтер Бонхег. Это был рослый детина тридцати семи лет, флегматичный, но хитрый; главная цель его жизни заключалась в увеличении доходов сверх положенного ему жалованья. По повадкам Бонхега можно было предположить, что он играет роль осведомителя Десмаса, но это было бы верно лишь отчасти. Зная лукавство и подобострастие Бонхега, а также его поразительный нюх к наживе своей и чужой, Десмас инстинктивно понял, что от него нетрудно добиться поблажек для того или иного заключенного, стоит только ему дать понять хотя бы намеком, что это необходимо или желательно. Короче говоря, если Десмас выказывал малейший интерес к какому-нибудь арестанту, ему не приходилось даже сообщать об этом Бонхегу; достаточно было вскользь обронить, что вот такой-то привык к совсем иной жизни или же что ввиду тяжелых переживаний в прошлом на нем может дурно отразиться суровое обращение, и Бонхег готов был разбиться в лепешку для этого арестанта. Беда была лишь в том, что человеку неглупому и мало-мальски сообразительному его внимание было неприятно, так как надзиратель явно напрашивался на подачки, а с людьми бедными и невежественными он обходился грубо и высокомерно. Бонхег устроил себе постоянную статью дохода от продажи арестантам товаров, которые тайком доставлял в тюрьму. Правила тюремного распорядка строго воспрещали — по крайней мере на бумаге — снабжать заключенных тем, чего не было в ассортименте тюремной лавки, а именно: хорошим табаком, писчей бумагой, перьями, чернилами, виски, сигарами и какими бы то ни было лакомствами. С другой стороны — и это было весьма на руку Бонхегу, — заключенным выдавали прескверный табак и никуда не годные перья, чернила и бумагу, которыми не пользовался ни один мало-мальски уважающий себя человек, если, конечно, у него была возможность раздобыть себе что-нибудь получше. Виски не разрешалось получать вообще, а лакомства считались недопустимыми, так как они свидетельствовали бы о явно привилегированном положении тех, кому доставлялись. Тем не менее и то и другое в тюрьме не было редкостью. Если у заключенного водились деньги и он хотел что-либо достать через посредство Бонхега, он мог быть уверен, что получит желаемое. За деньги можно было купить и звание «старосты», дозволявшее бывать на главном тюремном дворе, а также право оставаться в дворике при камере сверх положенного получаса в день. Как это ни странно, но Каупервуду оказалось весьма на руку то обстоятельство, что Бонхег дружил с надзирателем, в ведении которого находился Стинер: с бывшим казначеем, благодаря заступничеству его политических сообщников, обращались крайне снисходительно, и это стало известно Бонхегу. Сам он был не охотник читать газеты и плохо разбирался в политических событиях, но знал, что и Каупервуд и Стинер в прошлом люди с большим весом и что из них двоих Каупервуд более важная персона. Кроме того, Бонхег прослышал, что у Каупервуда еще водятся деньги. Об этом ему сообщил один из заключенных, пользовавшийся правом читать газеты. Итак, Бонхег, независимо от указаний начальника тюрьмы Десмаса, отданных как бы вскользь и крайне немногословных, сам стремился услужить Каупервуду, разумеется, не задаром. В первый же день водворения Каупервуда в новую камеру Бонхег вразвалку подошел к еще открытой двери и покровительственным тоном спросил: — Ну как, все свои вещи перетащили? Собственно, он был обязан запереть дверь тотчас же после того, как заключенный вошел в камеру. — Да, сэр, — отвечал Каупервуд, предусмотрительно узнавший у Чепина фамилию нового надзирателя. — Вы, надо думать, мистер Бонхег? — Он самый, — подтвердил надзиратель, немало польщенный таким проявлением почтительности, но еще более заинтересованный тем, что практически сулило ему новое знакомство. Ему не терпелось раскусить Каупервуда, понять, что это за человек. — Вы увидите, что здесь куда лучше, чем наверху, — заметил он. — Не так душно. Эти вторые двери наружу все-таки кое-что значат. — Ну, понятно, — не преминул ввернуть Каупервуд. — Очевидно, это и есть тот дворик, о котором мне говорил мистер Десмас. Уши Бонхега едва ли не дрогнули, как у послушного коня при звуке этого магического заклинания. Ведь если Каупервуд в таких приятельских отношениях с Десмасом, что тот заранее описал, какая у него будет камера, то необходимо проявить к нему особую предупредительность. — Да, это ваш дворик. Но толку-то от него немного, — добавил надзиратель, — начальство не разрешает находиться в нем более получаса в день. Конечно, ничего бы не случилось, если б кое-кому разрешали оставаться там и подольше… Это был первый намек на взятку, на возможность купить известные послабления, и Каупервуд тотчас же понял, что к чему. — Как обидно, — сказал он, — неужели даже хорошее поведение не меняет дела? Он ожидал ответа на свой вопрос, но Бонхег продолжал как ни в чем не бывало: — Мне надо будет обучить вас ремеслу. Начальник сказал, что вы займетесь плетением стульев. Если хотите, мы можем сейчас же приступить к делу. Не дожидаясь согласия Каупервуда, он куда-то вышел и вскоре вернулся с тремя некрашеными стульями без сидений и связкой тростниковых стеблей или волокон, которую бросил на пол. Затем он торжественно возгласил: — Глядите внимательно! — и стал показывать Каупервуду, как переплетать волокна, предварительно пропуская их сквозь отверстия по краям стула, как их подрезать и закреплять маленькими ореховыми колышками. Немного погодя он принес шило, молоточек, ящик с колышками и кусачки. Продемонстрировав несколько раз, как получить те или иные геометрические узоры из полосок разной длины, Бонхег разрешил Каупервуду попробовать самому и стал через его плечо наблюдать за работой. Молодой финансист, быстро все схватывавший, будь то область умственного или физического труда, принялся за дело с обычной для него энергией и через пять минут уже доказал Бонхегу, что может работать не хуже всякого другого. Конечно, быстрота и сноровка должны были еще прийти с практикой. — У вас дело пойдет на лад, — сказал надзиратель. — В день полагается изготовить десять штук. Первые дни, покуда вы не набьете себе руку, конечно, не в счет. А потом я зайду посмотреть, как вы управляетесь. Ну а про вывешивание полотенца за дверь вы, вероятно, знаете? — спросил он. — Да, мистер Чепин объяснил мне это, — отвечал Каупервуд. — Большинство правил я теперь, видимо, знаю и постараюсь их не нарушать. Ближайшие дни принесли с собой много изменений в тюремном быту Каупервуда, но, конечно, этого было далеко не достаточно, чтобы сделать его жизнь терпимой. Обучая Каупервуда искусству плетения стульев, Бонхег недвусмысленно намекнул, что готов оказать ему целый ряд услуг. Одной из побудительных причин такой готовности было следующее: ему не давало покоя, что к Стинеру приходит больше посетителей, чем к Каупервуду, что бывшему казначею время от времени присылают корзины с фруктами, которые он отдает надзирателю, и что его жене и детям разрешены свидания вне установленных сроков. Бонхега разбирала зависть. Как же это так, — свой брат надзиратель задается теперь перед ним, рассказывая, как весело живут в галерее номер четыре. Бонхегу очень хотелось, чтобы Каупервуд воспрял духом и показал, что он тоже кое-что да значит. Поэтому он начал с наводящих вопросов: — Вот, я вижу, к вам каждый день приходят ваши адвокат и компаньон. Но, может, вам еще кого-нибудь хотелось бы повидать? Правда, наши правила не разрешают жене, сестре или кому-нибудь еще приходить в неположенные дни. — Тут он сделал паузу и многозначительно поглядел на Каупервуда, как бы давая понять, что намерен поведать ему нечто сугубо секретное. — Но ведь далеко не все правила соблюдаются здесь в точности, — добавил он. Не таков был Каупервуд, чтобы упустить представившийся случай. Он чуть заметно улыбнулся — отчасти, чтобы дать выход своей радости, отчасти из желания показать Бонхегу, как он ему признателен, вслух же сказал: — Дело в том, мистер Бонхег, что вы, я полагаю, лучше многих других понимаете, в каком я положении, и потому будем говорить с вами прямо. Конечно, есть люди, которым хотелось бы прийти ко мне, но я боялся их приглашать, не зная, дозволено ли это. Если вы мне пойдете навстречу, я буду вам очень признателен. Мы с вами люди практические, и я прекрасно понимаю, что когда человеку оказывают услугу, он должен помнить, кому он этой услугой обязан. Если при вашем содействии я начну пользоваться здесь большими удобствами, то докажу вам, что умею это ценить. При себе у меня денег нет, но я всегда могу достать их и уж, конечно, постараюсь, чтобы вы получили надлежащее вознаграждение. Толстые короткие уши Бонхега чуть покраснели. Умные речи приятно слушать. — Для вас я могу это устроить, — подобострастно заверил он Каупервуда. — Положитесь на меня! Когда бы и кого бы вы ни захотели видеть, дайте только мне знать. Понятно, я должен соблюдать осторожность, да и вы тоже, но все этоустроится. И если у вас будет охота утром подольше остаться во дворике или выйти туда в другое время, — валяйте! Беда невелика. Я оставлю дверь открытой. Если же поблизости окажется мистер Десмас или еще кто из начальства, я звякну ключом об вашу решетку, а вы войдете и закроете дверь. Когда вам понадобится что купить, ну там варенья, яиц, масла или чего-нибудь в этом роде, — я все раздобуду. Вы, наверное, захотите сделать свой стол немного разнообразнее. — Я вам чрезвычайно признателен, мистер Бонхег, — спокойно и почтительно отвечал Каупервуд, с трудом сдерживая улыбку и сохраняя серьезную мину. — Что касается того, о чем мы уже толковали, — повторил надзиратель (он имел в виду свидания в неположенные дни), то это я могу вам устроить в любое время. Я знаю всех караульных. Захочется вам кого видеть — пишите этому человеку записку и давайте ее мне. Когда он придет, пускай спросит меня, я уж проведу его к вам. Разговаривать будете у себя в камере. Понятно? Но как только я легонько постучу, ему надо будет уходить. Это уж вы запомните. Так, значит, известите меня — и все. Каупервуд был от души благодарен ему и высказал это в самых любезных выражениях. Первая его мысль была об Эйлин: теперь она сможет навестить его, остается только сообщить ей об этом. Надо, конечно, чтобы она надела густую вуаль, тогда ей ничто не будет угрожать. Он сел писать, и когда пришел Уингейт, попросил его отправить письмо. Два дня спустя, в три часа пополудни — точно в назначенное Каупервудом время — Эйлин явилась в тюрьму. На ней был серый суконный костюм с белой бархатной отделкой и блестящими, как серебро, стальными гранеными пуговицами; белоснежная горностаевая горжетка, шапочка и муфта служили ей как для украшения, так и для защиты от холода. Поверх этого бросающегося в глаза наряда она набросила длинную темную накидку, которую намеревалась снять сейчас же по приходе. Эйлин одевалась для этого случая с величайшим тщанием и немало времени потратила на выбор прически, обуви, перчаток и золотых украшений. Лицо ее, по совету Каупервуда, было скрыто под густой зеленой вуалью. Приехала она в такое время, когда Каупервуд предполагал, что будет один. Уингейт обычно приходил в четыре, по окончании делового дня, а Стеджер если и являлся, то по утрам. Необычность всего, что ей предстояло, очень волновала Эйлин; сойдя с конки — в данном случае этот способ передвижения показался ей наиболее подходящим, — она переулком направилась к тюрьме. Холодная погода и серые тюремные стены под таким же серым небосводом наполнили ее душу отчаянием, но она изо всех сил старалась сохранять спокойствие, чтобы своим видом ободрить возлюбленного. Она знала, как живо он воспринимает ее красоту, подчеркнутую соответствующим убранством. В ожидании ее прихода Каупервуд постарался придать своей камере более или менее сносный вид. Он лишний раз подмел пол и перестелил койку; затем побрился, причесал волосы и вообще по мере возможности привел себя в порядок. Свою работу — стулья с неоконченными сиденьями — он засунул под койку. Кружка и миска были вымыты и стояли на полке, а грубые, тяжелые башмаки он почистил щеткой, которой обзавелся для этой цели. Никогда еще Эйлин не видела его таким! Вся эта обстановка уязвляла его эстетическое чувство. Эйлин неизменно восхищалась вкусом, с которым он одевался, и его уменьем носить костюм, теперь же он предстанет перед ней в одежде, которую не скрасит никакая осанка! Его душевное равновесие поддерживалось только непоколебимым сознанием собственного достоинства. В конце концов он все же Фрэнк Каупервуд, а это что-нибудь да значит, как бы он ни был одет. Эйлин будет того же мнения. Ведь еще может прийти день, когда он опять станет свободен и богат, и Эйлин верит в это. Кроме того, как бы он ни выглядел и в каких бы обстоятельствах ни находился, она будет все так же относиться к нему или даже любить его еще больше. Если он и опасался чего-нибудь, то именно слишком бурных проявлений ее сострадания. Какое счастье, что Бонхег сам предложил впустить Эйлин в камеру: разговаривать с ней через решетку было бы невыносимо. По приходе в тюрьму Эйлин спросила мистера Бонхега, ее провели в центральное здание и немедленно послали за ним. — Я хотела бы, если можно, навестить мистера Каупервуда, — пробормотала она, когда он предстал перед ней. — Пожалуйста, я провожу вас, — с готовностью откликнулся Бонхег. Уже при входе в центральное здание он был поражен юностью посетительницы, хотя и не мог разглядеть ее лица. Это, однако, вполне соответствовало тому, что он ожидал от Каупервуда! Человек, который сумел украсть полмиллиона долларов и обвести вокруг пальца весь город, конечно, пускается в самые удивительные приключения, а Эйлин выглядела как настоящая искательница приключений. Он провел ее в комнату, где стоял его стол и где дожидались приходившие на свидание посетители, а сам поспешил к Каупервуду, сидевшему за работой. Легонько стукнув ключом о дверь, Бонхег доложил: — Вас спрашивает какая-то молодая леди. Привести ее сюда? — Благодарю вас, конечно, приведите! — отвечал Каупервуд, и Бонхег быстро удалился, забыв — не намеренно, а лишь по недостатку чуткости — оставить дверь камеры незапертой, так что ему пришлось отпирать ее в присутствии Эйлин. При виде длинного коридора, массивных дверей, всего этого помещения, геометрически точно перегороженного решетками, и серого каменного пола у Эйлин мучительно сжалось сердце. Тюрьма, железные клетки! И в одной из них он. Обычно мужественная, она вся похолодела. Ее Фрэнк в таком страшном месте! Какая низость запереть его сюда! Судьи, присяжные, юристы, тюремщики представлялись ей скопищем людоедов, свирепо взиравших на нее и ее любовь. Громыхание ключа в замке и тяжело распахнувшаяся дверь еще усилили душевную тоску Эйлин. Затем она увидела Каупервуда. Памятуя об обещанной мзде, Бонхег впустил Эйлин и скромно удалился. Эйлин смотрела на Фрэнка из-под вуали, боясь произнести хоть слово, так как она еще не была уверена, что надзиратель ушел. А Каупервуд, который лишь огромным усилием воли держал себя в руках, не сразу подал ей знак, что они одни. — Все в порядке, — сказал он наконец. — Никого нет. Эйлин подняла вуаль и, снимая накидку, украдкой оглядела тесную, словно сдавленную стенами камеру, увидела ужасное состояние Фрэнка, его бесформенную одежду, железную дверь позади него, которая вела во дворик. Фрэнк в этой камере, где еще вдобавок из-под койки торчали незаконченные плетенки, производил на нее неестественное, жуткое впечатление. Ее возлюбленный! И в таких условиях! Эйлин трясло как в лихорадке, и она тщетно пыталась заговорить. Она нашла в себе силы лишь обнять его и, гладя по голове, забормотала: — Мой дорогой, любимый! Что они с тобой сделали! Бедненький ты мой! Она прижимала его голову к себе. Каупервуд прилагал все усилия, чтобы овладеть собой, но вдруг задрожал и лицо его перекосилось. Ее любовь была так безгранична, так неподдельна; она успокаивала и вместе с тем, как он в том убеждался, расслабляла его, превращая в беспомощного ребенка. Так или иначе, но под воздействием слепых, таинственных сил, порою берущих верх над разумом, он впервые в жизни потерял самообладание. Глубокое волнение Эйлин, воркующий звук ее голоса, бархатная нежность ее рук, ее красота, всегда так властно манившая его и, быть может, еще более ослепительная здесь, среди этих нагих стен, его собственная униженность и бессилие — все это отняло у него остаток воли. Он не понимал, что с ним случилось, старался справиться с собой, но не мог. Когда, лаская его, она прижала к себе его голову, он почувствовал стеснение в груди, дыхание у него перехватило и болезненная судорога свела горло. Странное и непривычное желание заплакать овладело им; он отчаянно этому противился, но все его существо было потрясено. И словно для того, чтобы совсем доконать его, в воображении Каупервуда возникла своеобразная пестрая картина привольного мира, так недавно им покинутого, прекрасного, чарующего, в который он надеялся со временем вернуться. Острее чем когда-либо ощутил он в этот миг всю унизительность своих грубых башмаков, рубахи из простой бумажной ткани, полосатой куртки и клички «арестант», которая навеки останется за ним. Он порывисто отстранил Эйлин, повернулся к ней спиной, сжал кулаки; все его мускулы напряглись, но поздно: он плакал и не мог остановиться. — Проклятие! — гневно и жалобно воскликнул Каупервуд, охваченный стыдом и злобой. — Только не хватало мне плакать! Что со мной творится, черт побери! Эйлин увидела его слезы. В мгновение ока она бросилась к нему, обхватила одной рукой его голову, а другой — потрепанную куртку и так крепко прижала его к себе, что он не сразу сумел высвободиться. — О милый, милый, милый! — лихорадочно, изнемогая от жалости, зашептала она. — Я люблю тебя, обожаю! Я дала бы изрезать себя на куски, если бы это пошло тебе на пользу! Подумать только, они довели тебя до слез! Ах, родной мой, родной, любимый мальчик! Она еще крепче прижала к себе содрогавшееся от рыданий тело и свободной рукой гладила его голову. Она целовала его в глаза, волосы, щеки. Фрэнк попытался освободиться и снова воскликнул: — Что же это со мной, черт побери?! Но она опять притянула его к себе. — Плачь, милый, плачь, не стыдись своих слез! Положи голову мне на плечо и плачь. Плачь вместе со мной. Маленький мой, сокровище мое! Через минуту-другую он успокоился и напомнил ей, что сейчас может войти надзиратель. Понемногу к нему вернулось самообладание, утраты которого он так стыдился. — Чудесная ты девочка! — прошептал он с нежной и виноватой улыбкой. — Верная, сильная, такая мне и нужна; ты для меня огромная поддержка. Но только не убивайся! Я себя чувствую отлично, и здесь вовсе не так плохо, как кажется. Ну, а теперь расскажи о себе. Но Эйлин не очень-то легко было успокоить. Напасти, обрушившиеся на него в последнее время, и условия, в которых он здесь находился, возмущали ее чувство справедливости и человеческого достоинства. Подумать только, до чего довели ее чудного, замечательного Фрэнка: он плакал! Она нежно гладила его голову, меж тем как ее душу обуревала бешеная, беспощадная ярость против жизни, против нелепых превратностей судьбы и тех преград, которые жизнь эта ставит на пути человека. Отец — будь он проклят! Родные — что ей до них! Фрэнк! Фрэнк для нее — все! Как мало значит остальной мир, когда дело касается Фрэнка! Никогда, никогда, никогда она не бросит его, что бы ни случилось! И сейчас, безмолвно прильнув к нему, она вела в душе беспощадную борьбу с жизнью, законом, судьбой и обстоятельствами. Закон — вздор! Люди — звери, дьяволы, враги, бешеные собаки! С наслаждением, с восторгом она пожертвовала бы собой. Она готова была бежать хоть на край света ради Фрэнка или вместе с Фрэнком. Ради него она способна на все. Семья для нее — ничто, и жизнь — тоже ничто, ничто, ничто! Она сделает все, что он захочет, все, что ему вздумается! Важно только одно — спасти его и дать ему как можно больше счастья. Ему, ему одному — больше для нее никто не существует.Глава 56
Время шло. После договоренности с Бонхегом жена, мать и сестра стали изредка навещать Каупервуда. Лилиан с детьми устроилась в небольшом доме, за который платил Фрэнк, а на все другие нужды Уингейт выдавал ей в счет его доходов сто двадцать пять долларов в месяц. Каупервуд понимал, что ему следовало бы выплачивать ей больше, но его возможности в это время были далеко не блестящи. Окончательный крах всех финансовых дел Каупервуда наступил в марте, когда его официально объявили банкротом и все его имущество было конфисковано в пользу кредиторов. Только на покрытие задолженности городскому казначейству — пятьсот тысяч долларов — потребовалось бы больше денег, чем можно было реализовать, если бы не установили расчет по тридцать центов за доллар. Но и после этого городу все равно ничего не досталось, так как путем различных махинаций у него оттягали права на получение этой суммы. Город якобы опоздал с предъявлением претензий. Это, конечно, послужило к выгоде других кредиторов, поделивших между собой сумму, в которой было отказано городскому казначейству. По счастью, Каупервуд вскоре на опыте убедился, что его деловые операции, проводимые совместно с Уингейтом, сулят недурную прибыль. Его компаньон несомненно имел по отношению к нему самые честные намерения. Он взял к себе на службу — правда, за весьма скромное вознаграждение — обоих братьев Каупервуда: один должен был вести отчетность и заведовать конторой, другой, вместе с Уингейтом, орудовать на бирже, поскольку за Джо и Эдвардом там сохранились их места. Кроме того, хотя и с большим трудом, Уингейт приискал место служащего в одном из банков для старого Каупервуда. Со времени ухода из Третьего национального банка старик пребывал в чрезвычайно подавленном моральном состоянии, не зная, чем в дальнейшем заполнить свою жизнь. Позор его сына! Страшные часы суда над ним и взятие его под стражу! Со дня осуждения Фрэнка присяжными и особенно со дня вынесения ему приговора и отправки в тюрьму старый Каупервуд двигался как во сне. Этот процесс! Это обвинение против Фрэнка! Его родной сын — арестант, в полосатой одежде, после того, как они с Фрэнком еще так недавно гордились своей принадлежностью к числу наиболее преуспевающих и уважаемых людей в городе! Как и многие в минуты скорби, старик начал усердно читать Библию, пытаясь найти на ее страницах то утешение, которое, как он привык верить с юных лет, хотя в последнее время редко вспоминал об этом, содержалось в ней для страждущих душ. Псалтырь, книга Исайи, Иова, Экклезиаст… Но горе было велико, и Библия его не врачевала. Изо дня в день он уединялся в своей новой комнатке, служившей ему спальней и кабинетом, уверяя жену, что у него еще остались кое-какие неотложные дела, требующие сугубой сосредоточенности. Запершись на ключ, он садился и начинал раздумывать над всеми своими бедами и утратами, самой горькой из которых была утрата доброго имени. А через несколько месяцев, когда Уингейт подыскал для него место бухгалтера в одном из пригородных банков, он стал спозаранку уходить из дому и возвращаться поздно вечером, всегда мрачно раздумывая о несчастьях — прошлых, а возможно, и будущих. Жалкое зрелище являл собою этот старик — не первая и не последняя жертва превратностей финансового мира. Он брал с собой в коробочке еду, так как возвращаться домой во время недолгого дневного перерыва было затруднительно, а закусывать в ресторане при его нынешних доходах он себе не мог позволить. Его единственным желанием теперь было вести пристойное и незаметное существование, пока не придет смертный час, ждать которого, как он надеялся, оставалось уже недолго. Нельзя было без боли смотреть на его костлявое тело, тонкие ноги, седые волосы и совсем побелевшие бакенбарды. Он сильно исхудал, и движения его сделались угловатыми. Когда ему предстояло решить какой-нибудь трудный вопрос, он становился в тупик и не мог сосредоточиться. Старая привычка подносить иногда руку ко рту и удивленно раскрывать глаза, появившаяся у него еще в лучшие времена, теперь полностью завладела старым Каупервудом. Сам того не сознавая, он постепенно опускался, превращаясь в какой-то автомат. Жизнь искони усеивает свои берега такими страшными и жалкими обломками крушения. Фрэнк Каупервуд в эту пору немало раздумывал над своим равнодушием к жене, которое он с особенной ясностью осознал в последнее время, а также о том, как сообщить ей об этом равнодушии и тем самым положить конец их супружеству. Но ничего, кроме жесткого и правдивого объяснения, он не придумал. Он замечал, что она теперь всячески старалась подчеркнуть свою преданность ему и вела себя так, словно никакие подозрения ее не смущали. Между тем со времени суда до нее из различных источников то и дело доходили слухи, что его интимная связь с Эйлин продолжается, и только мысль о бедствиях, обрушившихся на мужа, да еще надежда вновь увидеть его преуспевающим финансистом удерживали ее от объяснения с ним. Он заперт в одиночной камере, говорила она себе, и вправду искренне жалела его, но прежней любви уже не испытывала. Поистине он заслуживал наказания за свое недостойное поведение, потому его и покарала рука всевышнего. Не трудно себе представить, как отозвался Каупервуд на такое отношение, когда заметил это. Хотя Лилиан приносила ему всевозможные лакомые кушанья и сокрушалась об его участи, он по множеству мелких признаков догадывался, что она не только скорбит, но и порицает его, а Каупервуд всю жизнь не терпел проповедей и постных физиономий. По сравнению с Эйлин, полной обнадеживающей жизнерадостности и пылкого задора, усталая безликость миссис Каупервуд была но меньшей мере скучна. Эйлин после первой вспышки озлобления на судьбу, вспышки, кстати, не вызвавшей у нее слез, видимо снова уверовала в то, что он выйдет на свободу и опять начнет преуспевать. Она не переставала говорить о будущем, о грядущих успехах Каупервуда, потому что свято в них верила. Чутьем она понимала, что тюремные стены не могут сделать его узником по натуре. В день первого свидания она перед уходом дала Бонхегу десять долларов, поблагодарила его своим мелодичным голосом за внимание, впрочем, не открывая лица, и попросила и впредь быть любезным к Каупервуду, этому «большому человеку», как она охарактеризовала его; корыстолюбивый и тщеславный Бонхег был окончательно покорен. С тех пор он готов был на что угодно для дамы в темной накидке. Будь на то его воля, посетительница могла бы хоть целую неделю не выходить из камеры Каупервуда, но, к сожалению, существовали еще и правила тюремного распорядка. Приблизительно на четвертом месяце своего пребывания в тюрьме Каупервуд решил, наконец, переговорить с женой о невозможности продолжать совместную жизнь и о своем желании получить развод. К этому времени он уже успел свыкнуться с арестантским бытом. Тишина камеры и черная работа, которую ему приходилось выполнять, такая гнетущая, примитивная, вначале способная свести с ума своим бессмысленным однообразием, теперь казалась ему будничной — тупой, но не мучительной. Кроме того, он приобрел сноровку одиночных заключенных. Научился, например, подогревать на своей лампочке остатки обеда или кушаний, присланных женой и Эйлин. Он более или менее избавился от зловония в своей камере, упросив Бонхега доставлять ему в небольших пакетиках известь, которой и пользовался весьма щедро. Кроме того, с помощью крысоловок он одержал верх над особенно наглыми крысами. С разрешения Бонхега, по вечерам, уже после того, как его камеру запирали на ночь и плотно затворяли наружную деревянную дверь, он выносил свой стул во дворик и, если погода была не слишком холодная, подолгу сидел там, глядя в небо, в ясные ночи усеянное звездами. Астрономия как наука никогда раньше не интересовала Фрэнка, но теперь Плеяды, кольцо вокруг Ориона, Большая Медведица, Полярная звезда приковывали к себе его внимание и будоражили фантазию. Он дивился математической правильности расположения звезд в созвездии Ориона и размышлял, нет ли в этом какого-нибудь скрытого смысла. Туманное скопище солнц в Плеядах говорило о неизмеримых глубинах пространства, и он думал о Земле — крохотном шарике, плывущем в беспредельных просторах эфира. Перед лицом этих явлений собственная жизнь начинала казаться ему чем-то весьма маловажным, и он ловил себя на мысли о том, имеет ли она вообще какое-нибудь значение. Впрочем, он без труда стряхивал с себя подобные настроения, ибо ему была свойственна жажда величия, и он очень высоко ставил себя и свою деятельность, а натура у него была практическая и жизнелюбивая. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что, каково бы ни было его нынешнее положение, он еще станет знаменитым человеком и слава о нем прогремит по всему миру, надо только дерзать, дерзать и дерзать. Не у всех есть дар предвидения и уменье ловить мимолетный миг, но ему это дано, и он должен стать тем, для чего он создан! Ему не уйти от заложенного в нем величия, как многим другим — от ничтожества. Миссис Каупервуд явилась во второй половине дня — скорбная, с портпледом, в котором она принесла несколько смен белья, две простыни, тушеное мясо в кастрюльке и пирог. И хотя она была сегодня не грустнее обычного, Каупервуд объяснил ее задумчивость мыслями о его связи с Эйлин, про которую, как ему было известно, Лилиан знала. Что-то в ее манере держаться заставило его заговорить с ней об этом. Спросив о детях и выслушав ее вопросы относительно того, что принести ему в следующий раз, он сказал, сидя на своем единственном стуле, меж тем как она сидела на койке: — Лилиан, мне уже давно хотелось серьезно поговорить с тобой. В сущности, это следовало бы сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Тебе известно — я это знаю — об отношениях между мной и Эйлин Батлер, и лучше всего сказать об этом открыто и прямо. Я ее очень люблю, а она глубоко привязана ко мне. Если я когда-нибудь выйду отсюда, я хочу все устроить так, чтобы мы с ней могли пожениться. Это значит, что тебе придется дать мне развод: я надеюсь на твое согласие, об этом-то я и хотел сейчас поговорить с тобой. Такое мое желание вряд ли является для тебя большой неожиданностью, — ведь ты и сама, наверное, уже давно замечаешь, что наши отношения оставляют желать лучшего. При настоящих обстоятельствах я не думаю, чтобы это было для тебя тяжелым ударом. Он выжидательно замолчал, так как миссис Каупервуд не сразу ему ответила. Первой ее мыслью было, что она должна изобразить удивление или гнев, но, поймав на себе его пристальный, испытующий взгляд, ясно доказывавший, что никакие проявления бурных чувств не тронут его, она поняла, насколько это было бесполезно. А что за сухость и деловитость тона, как бесстыдно он говорит о том, что ей казалось, глубоко личным и интимным. Она никогда не могла понять его отношения к сокровенным тайнам жизни. Он имел обыкновение невозмутимо говорить о том, что, по ее понятиям, неизменно следовало обходить молчанием. Нередко ей приходилось краснеть, слушая, с какой откровенностью он обсуждает те или иные случаи из светской жизни, но она думала, что такая бесцеремонность свойственна всем выдающимся личностям, и потому молчала. Есть люди, которые ни с чем не желают считаться, и общество, видимо, бессильно против них. Может быть, господь когда-нибудь их покарает, но даже в этом она не была уверена, и каким бы дурным, прямолинейным и бесцеремонным человеком ни был Фрэнк, он все-таки интереснее большинства так называемых солидных людей, для которых важнее всего учтивость в речах и скромность в мыслях. — Я знаю, — начала она довольно миролюбиво, хотя и не без сдержанного возмущения. — Я уже знала давно и все ждала, что ты заговоришь об этом. Недурная награда за мою преданность! Но это так похоже на тебя, Фрэнк! Когда ты вобьешь себе какую-нибудь блажь в голову, тебя ничто не остановит. Все шло так хорошо; у нас двое детей, которых ты должен бы любить, но тебе этого показалось мало — ты связался с этой тварью, дочкой Батлера, и теперь весь город говорит о вас. Я знаю, что она бегает сюда в тюрьму. Я как-то раз столкнулась с ней, когда она выходила отсюда, и, конечно, все уже знают об этих посещениях. Она не понимает, что такое порядочность, ей, тщеславной дряни, ни до кого дела нет, но тебе, Фрэнк, должно быть стыдно идти по такому пути, когда я еще твоя жена, когда у тебя есть дети, отец, мать и когда — ты сам это прекрасно знаешь — тебе еще предстоит такая упорная борьба, чтобы снова выбиться в люди! Будь в ней хоть капля порядочности, она не стала бы путаться с тобой, бесстыдная девчонка! Каупервуд выслушал жену и глазом не моргнув. Ее слова только лишний раз подтверждали то, в чем он уже давно убедился, — по всему своему складу она чужой ему человек. Лилиан уже не была так привлекательна внешне, а по умственному уровню стояла ниже Эйлин. К тому же общение с женщинами, которые удостаивали посещениями его дом в дни расцвета, уже давно заставило Каупервуда осознать, что Лилиан лишена подлинной светскости и утонченности. Правда, Эйлин в этом смысле ненамного превосходила ее, но она была молода, восприимчива, чутка и могла еще выработать в себе эти качества. Благоприятные условия — так по крайней мере ему хотелось думать — могли еще преобразить Эйлин, тогда как Лилиан — теперь он в этом окончательно убедился — была безнадежна. — Я не уверен, что ты способна понять меня, Лилиан, — сказал он наконец, — но мы с тобой уже не подходим друг другу. — Три или четыре года назад ты был другого мнения, — с горечью перебила его жена. — Когда я на тебе женился, мне был двадцать один год, — жестко и неумолимо продолжал Каупервуд, не обращая внимания на ее слова, — и я, право, был слишком молод, чтобы сознавать значение своего поступка. Я был мальчишкой. Но это неважно. Я не подыскиваю себе оправданий. И хочу сказать лишь одно; прав я или не прав, были у меня на то уважительные причины или нет, но мои взгляды с тех пор изменились. Я больше не люблю тебя и не хочу, — независимо от того, как на это смотрят другие, — продолжать отношения, которые меня не удовлетворяют. У тебя своя точка зрения, у меня своя. Ты себя считаешь правой, и с тобой будут согласны тысячи людей, но я иного мнения. Мы никогда из-за этого не ссорились, так как я считал, что тут и разговаривать не о чем. По-моему, при создавшемся положении я не совершаю никакой несправедливости, прося тебя вернуть мне свободу. Я не собираюсь бросить тебя или детей на произвол судьбы, я сумею обеспечить вам вполне приличное содержание, но, если мне суждено когда-нибудь выйти отсюда, мне нужна будет личная свобода, и тебе придется мне ее предоставить. Деньги — те, что у тебя были, и даже гораздо больше — ты получишь назад, как только я выйду на волю и восстановлю свое дело. Но только в том случае, если ты не станешь чинить препятствий, а напротив — пойдешь мне навстречу. Я хочу и буду всегда помогать тебе, но так, как я сочту нужным. Он задумчиво расправил складку на своих полосатых брюках и одернул рукав куртки. Каупервуд походил сейчас скорее на умного и развитого рабочего, чем на преуспевшего джентльмена, которым был еще недавно. Миссис Каупервуд пришла в негодование. — Очень мило ты со мной разговариваешь и поступаешь! — трагическим голосом воскликнула она, вскакивая и принимаясь ходить по крохотному пространству шага в два, не более, между стеной и койкой. — Когда ты хотел на мне жениться, я должна была сообразить, что ты слишком молод и еще сам себя не знаешь. Деньги — вот единственное, о чем ты думаешь, да еще о том, чтобы удовлетворять свои прихоти! Ты даже не понимаешь, что такое справедливость, и в жизни не понимал. Ты думаешь только о себе, Фрэнк! Я никогда еще не встречала такого жестокого человека. Во время всей этой истории ты обходился со мной, как с собакой. А сам между тем путался с этой дрянной ирландской девчонкой и ее-то наверно посвящал во все свои дела. До последней минуты ты предоставляешь мне думать, будто любишь меня по-прежнему, а потом, ни с того, ни с сего, требуешь развода! Но не тут-то было. Я тебе развода не дам, можешь и не помышлять об этом! Каупервуд молча слушал ее. Он понимал, что его позиция в этом сложном семейном конфликте весьма выгодна. Он ведь сидит в тюрьме, на долгий срок оторванный от семейной жизни, — за это время жена привыкнет обходиться без него. Когда он выйдет из тюрьмы, ей нетрудно будет добиться развода с бывшим арестантом, особенно если она укажет на его связь с другой женщиной, чего он, конечно, не станет отрицать. Надо надеяться, что при этом удастся избежать упоминания имени Эйлин. Если он не будет оспаривать обвинения, миссис Каупервуд может назвать любое вымышленное имя. Кроме того, Лилиан — женщина слабохарактерная. Он сумеет подчинить ее своей воле. А сейчас, пожалуй, нет смысла продолжать разговор. Лед сломан, положение, надо думать, теперь ей ясно, а остальное сделает время. — Не разыгрывай трагедии, Лилиан, — безразличным тоном произнес он. — Не такая уж беда потерять меня, раз у тебя будут средства к жизни. Вряд ли я останусь в Филадельфии, после того как выйду отсюда. Я думаю поехать на Запад, и скорее всего поеду один. Я не собираюсь немедленно жениться, даже если ты и дашь мне развод. И не собираюсь никого с собой брать. Для детей будет лучше, если ты останешься здесь и разведешься со мной. Общественное мнение будет тогда на вашей стороне. — Я на это не пойду! — решительно заявила миссис Каупервуд. — Не соглашусь — никогда и ни за что! Можешь говорить, что тебе угодно. После всего, что я для тебя сделала, ты обязан остаться со мной и с детьми. И я не соглашусь на развод. Можешь больше не просить меня, я не согласна! — Ну что ж, — спокойно произнес Каупервуд, вставая, — сейчас больше не стоит об этом спорить. Тем более, что твое время уже почти истекло. (Посетителям, как правило, разрешалось оставаться двадцать минут.) Может быть, ты впоследствии передумаешь. Лилиан взяла свои вещи — муфту и портплед, в котором принесла мужу белье, — и собралась уходить. Обычно она на прощанье с притворной нежностью целовала Каупервуда, но теперь была слишком обозлена, чтобы следовать этому обыкновению. В то же время ей было больно, больно за себя и, как ей казалось, за него тоже. — Фрэнк, — трагическим голосом воскликнула она в последнюю минуту, — я никогда не видела такого человека, как ты. Мне кажется, что у тебя нет сердца. Ты недостоин хорошей жены. Ты заслуживаешь как раз такой, какая тебе достанется! Ах, подумать только!.. Слезы хлынули у нее из глаз, и она порывисто вышла из камеры, озлобленная и вместе с тем полная сожалений. Каупервуд не двинулся с места. По крайней мере не будет больше этих никому не нужных поцелуев, не без удовольствия подумал он. Все это, конечно, жестоко, принимая во внимание ее чувства. По существу, он не причинил ей зла, рассуждал Каупервуд, ведь он не намеревался материально ущемлять ее, а это самое главное. Лилиан сегодня потеряла самообладание, но она справится с собой и со временем, возможно, поймет его. Кто знает? Во всяком случае он объяснил ей свои намерения и считал, что этим уже кое-что достигнуто. Сейчас он больше всего напоминал цыпленка, пробивающего себе выход из скорлупы, то есть из прежних стесненных условий жизни. Пусть он в тюрьме, пусть ему предстоит отбывать наказание еще без малого четыре года, — в глубине души он знает, что перед ним открыт весь мир. Если ему не удастся восстановить свое дело в Филадельфии, он может уехать на Запад. Но он останется в этом городе столько, сколько понадобится для того, чтобы вновь завоевать уважение всех, кто знал его в былые дни, и тем самым как бы получить «верительные грамоты», которые он возьмет с собой в чужие края. «Брань на вороту не виснет! — мысленно произнес он, когда дверь закрылась за Лилиан. — Пока человек жив, не все потеряно. Я еще расправлюсь кое с кем из этих господ!» Когда Бонхег пришел запереть дверь камеры, Каупервуд спросил его, не собирается ли дождь: в коридоре что-то очень темно. — К вечеру, видно, польет, — отвечал Бонхег, которого все еще не переставали удивлять доходившие до него со всех сторон слухи о сложных и запутанных делах Каупервуда.Глава 57
Ровно тринадцать месяцев провел Каупервуд в Пенсильванской Восточной тюрьме до дня своего освобождения. Этим досрочным освобождением он был обязан частично самому себе, частично обстоятельствам, от него не зависевшим. Начать с того, что через полгода после его заключения в тюрьму скончался Эдвард Мэлия Батлер, умер скоропостижно, сидя за столом в своем кабинете. Поведение Эйлин гибельно отразилось на его сердце. С того дня, когда Каупервуду был вынесен приговор, но особенно после того, как Фрэнк плакал на ее плече во время их свидания в тюрьме, Эйлин озлобилась и ожесточилась против отца. Ее отношение к нему, неестественное для дочери, было вполне естественно для переживающей душевные муки влюбленной женщины. Каупервуд сказал ей, что, по его мнению, Батлер употребил все свое влияние, чтобы не допустить его помилования губернатором даже в том случае, если будет помилован Стинер, за тюремной жизнью которого Каупервуд следил с неослабевающим интересом. Эйлин пришла в безумную ярость. Она пользовалась любым предлогом, чтобы побольнее оскорбить отца, старалась не замечать его, по мере возможности избегала сидеть вместе с ним за столом, а когда не было иного выхода, менялась местами с Норой и усаживалась подле матери. Она теперь никогда не соглашалась играть на рояле или петь в его присутствии и упорно избегала молодых людей, подававших надежды на политическом поприще, которых приглашали в дом Батлеров главным образом ради нее. Старик, конечно, прекрасно понимал, в чем дело, но ничего не говорил. Он больше не надеялся смягчить дочь. Мать и братья сначала только недоумевали. (Миссис Батлер так никогда и не узнала истины.) Но вскоре после осуждения Каупервуда Оуэн и Кэлем стали догадываться о причине такого поведения Эйлин. Однажды, уже собираясь уходить с вечера из одного дома, где Оуэн, благодаря своему растущему значению в финансовом мире, был желанным гостем, он услыхал, как один из двух мало знакомых ему молодых людей, застегивая пальто, сказал другому: — Вы читали в газете, что этот Каупервуд получил четыре года? — Да, — последовал ответ. — А ведь умный малый, этого не отнимешь! Я знал девушку, с которой он… ну, вы понимаете, кого я имею в виду: некую мисс Батлер. Оуэн подумал, что ослышался. У него не мелькнуло даже тени подозрения, пока другой гость, открывая дверь и выходя на улицу, не добавил: — Что ж, старый Батлер с ним поквитался. Говорят, это он засадил его в тюрьму. Оуэн нахмурился. В его глазах появился суровый, угрожающий блеск. Характером он пошел в отца. О чем это, черт возьми, они толкуют? Что за мисс Батлер? Возможно ли, чтобы они подразумевали Эйлин или Нору, но какое отношение к той или другой мог иметь Каупервуд? Едва ли речь идет о Норе, подумал он. Она по уши влюблена в одного знакомого ему молодого человека и собирается замуж. Но вот Эйлин всегда была очень расположена к Каупервуду и неизменно одобрительно отзывалась о нем. Неужели это она? Нет, Оуэн не верил: он хотел догнать тех двоих и потребовать у них объяснения, но когда вышел на улицу, то увидел, что они ушли уже довольно далеко и к тому же не в ту сторону, куда должен был идти он. Тогда Оуэн решил спросить отца. Старый Батлер тотчас же рассказал ему обо всем, но потребовал, чтобы сын держал язык за зубами. — Жаль, что я этого не знал, — со злобой проговорил Оуэн. — Я пристрелил бы этого Каупервуда как собаку! — Потише, потише! — остановил его Батлер. — Твоя жизнь дороже жизни этого субъекта, и вдобавок вся наша семья была бы втоптана в грязь вместе с ним. Он уже получил по заслугам за все свои пакости и получит еще. Только смотри помалкивай! Надо повременить! Раньше чем через год или два он не выберется на свободу. При ней ты тоже помалкивай. Что толку от разговоров! Я надеюсь, что долгая разлука с ним ее образумит. После этого разговора Оуэн старался быть возможно предупредительнее с сестрой, но он до такой степени тянулся к высшему обществу и так жаждал преуспеть в большом свете, что не понимал, как могла Эйлин совершить подобный проступок. Он негодовал, что из-за нее на его пути оказался камень преткновения. Теперь враги, кроме всего прочего, могли при желании бросить ему в лицо еще и этот упрек, а в том, что такое желание у них возникнет, можно было не сомневаться. Кэлем узнал об истории с Эйлин совсем из другого источника, но почти в то же самое время. Он состоял членом Атлетического общества, имевшего отличное собственное здание в городе и превосходный загородный клуб, куда Кэлем время от времени отправлялся поплавать в бассейне и понежиться в турецкой бане. Однажды вечером в бильярдной к нему подошел один из его приятелей и сказал: — Послушайте, Батлер, вы знаете, что я вам друг? — Да, конечно, — отвечал тот. — А в чем дело? — Видите ли, — продолжал молодой человек, некий Ричард Петик, глядя на Кэлема с подчеркнутой преданностью, — мне не хотелось бы рассказывать вам историю, которая может огорчить вас, но я не считаю себя вправе о ней умолчать. Он потеребил высокий воротник, подпиравший его подбородок: — Я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, Петик, — настораживаясь, сказал Кэлем. — Но в чем дело? Что вы имеете в виду? — Повторяю, мне очень не хочется огорчать вас, но этот мальчишка Хибс распускает тут всякие слухи про вашу сестру. — Что такое? — воскликнул Кэлем, вскочив как ужаленный; он тотчас вспомнил, какие правила поведения диктует общество в подобных случаях. Надо показать всю степень своего гнева. Если задета честь, надо потребовать надлежащего удовлетворения, а сначала, вероятно, дать пощечину обидчику. — Что же он говорит о моей сестре? Какое право имеет он упоминать здесь ее имя? Он ведь с нею даже не знаком! Петик сделал вид, будто его чрезвычайно беспокоит, как бы чего не вышло между Батлером и Хибсом. Он снова стал рассыпаться в уверениях, что не хочет причинять неприятность Кэлему, хотя на самом деле сгорал от желания посплетничать. Наконец он решился: — Хибс распространяет толки, будто ваша сестра была каким-то образом связана с тем Каупервудом, которого недавно судили, и будто из-за этого он и угодил в тюрьму. — Что такое? — снова воскликнул Кэлем, мгновенно отбросив напускное спокойствие и принимая вид глубоко уязвленного человека. — Он это сказал? Хорошо же! Где он? Посмотрим, повторит ли он то же самое при мне! На его юношески худощавом и довольно тонком лице промелькнуло что-то, напоминавшее неукротимый воинственный дух отца. — Послушайте, Кэлем, — понимая, что он вызвал настоящую бурю, и несколько опасаясь ее исхода, попытался утихомирить его Петик, — будьте осторожны в выражениях. Не затевайте здесь скандала. В клубе это не принято. Кроме того, возможно, что он пьян и просто повторяет вздорные слухи, которых где-то наслышался. Ради бога, не волнуйтесь так! Петик был причиной всего этого смятения и тревожился, опасаясь, что скандал неблагоприятно отзовется на нем самом. Его сочтут сплетником, и он окажется замешанным в эту историю. Но Кэлема уже не так-то просто было удержать. С побелевшим лицом он направился в ресторан — помещение, отделанное в староанглийском вкусе, — где, потягивая коньяк с одним из своих сверстников, сидел Хибс. — Послушайте, Хибс! — окликнул его Кэлем. Услышав этот оклик и увидев в дверях Кэлема, Хибс поднялся и подошел к нему. Это был довольно красивый юноша, типичный питомец Принстонского университета. Из разных источников — в том числе и от других членов клуба — до него дошли слухи об Эйлин, и он рискнул повторить их в присутствии Петика. — Что вы тут рассказывали про мою сестру? — гневно спросил Кэлем, в упор глядя на Хибса. — Я… право же… — замялся тот, предчувствуя неприятность и стараясь выпутаться. Он не отличался большой храбростью, о чем красноречиво свидетельствовала его внешность. Волосы у него были соломенного цвета, глаза голубые, щеки розовые. — Право же… я, собственно, ничего… Кто вам сказал, что я говорил о ней? Хибс взглянул на Петика, понимая, кто его выдал; тот поспешно проговорил: — Лучше уж не отпирайтесь, Хибс! Вы прекрасно знаете, что я слышал ваши разглагольствования. — Ну, и что же я, по-вашему, сказал? — вызывающим тоном спросил Хибс. — Да, что это вы сказали? — свирепо подхватил Кэлем, беря инициативу в свои руки. — Прошу повторить при мне. — Что вы, право, — волнуясь, забормотал Хибс, — по-моему, я говорил лишь то, что слышал от других. Я только повторил с чужих слов, будто ваша сестра была очень дружна с мистером Каупервудом. Сам я ничего не добавил. — Ах, вот как, вы ничего не добавили? — воскликнул Кэлем и, быстро вынув из кармана правую руку, ударил Хибса по лицу. Затем, разъярясь, повторил удар левой рукой. — Может быть, это научит тебя, щенок, воздерживаться от разговоров о моей сестре. Хибс тотчас сжал кулаки. У него была некоторая тренировка в кулачном бою. Защищаясь, он нанес Кэлему несколько довольно сильных ударов в грудь и в подбородок. В обоих залах ресторана поднялась невообраэимая суматоха. Опрокидывая столы и стулья, все кинулись к дерущимся. Противников быстро разняли; из очевидцев каждый держал сторону того, с кем находился в приятельских отношениях, и, перебивая других, спешил высказать свое мнение. Кэлем разглядывал свою руку, окровавленную от удара, который он нанес Хибсу. Как истинный джентльмен, он сохранял полное спокойствие. Хибс, разгоряченный, вне себя, твердил, что подвергся оскорблению без всякого к тому повода. Какое безобразие — наброситься на него в клубе! Всему виною Петик, подслушавший чужой разговор и потом оговоривший его, Хибса. Тот, в свою очередь, возмущался и уверял, что поступил так, как подобает другу. Это происшествие наделало в клубе столько шуму, что лишь благодаря огромным усилиям обеих сторон не попало в газеты. Кэлем пришел в ярость, убедившись, что слухи об Эйлин были небезосновательны и возникли под влиянием общей молвы. Он открыто заявил о выходе из клуба и больше там не показывался. — Я очень сожалею, что ты ударил этого мальчишку, — заметил Оуэн, узнав о разыгравшемся скандале. — Это только подольет масла в огонь. Эйлин следовало бы куда-нибудь уехать, но она не хочет. Она все еще влюблена в того субъекта, и мы должны скрывать это от матери и Норы. Мы с тобой еще хлебнем горя из-за нашей сестрицы! — Черт возьми! — воскликнул Кэлем. — Надо заставить ее уехать. — Что же ты поделаешь, если она не хочет, — отозвался Оуэн. — Отец пытался принудить ее, и то ничего не добился. Предоставим всему идти своим чередом. Каупервуд сидит в тюрьме, и ему, надо думать, крышка. Публика считает, что его упрятал туда отец, а это тоже кое-что значит. Может быть, через некоторое время нам удастся спровадить Эйлин. Да, лучше бы нам никогда не знать этого негодяя. У меня руки чешутся убить его, как только он выйдет из-за решетки. — Не стоит, — сказал Кэлем, — будут неприятности, и это только еще больше развяжет языки. Кроме того, он теперь конченый человек. Братья решили прежде всего поторопить Нору со свадьбой. С Эйлин же они были так холодны и сухи, что миссис Батлер не переставала горестно недоумевать и расстраиваться. В этом мире всеобщей вражды старый Батлер совсем растерялся, незнал, что делать и как поступать. Уже несколько месяцев он без конца думал об одном и том же, но не находил решения. Он впал в мрачное, почти мистическое отчаяние и, наконец, семидесяти лет от роду, измученный и безутешный, испустил дух, сидя за письменным столом в своем кабинете. Физической причиной смерти было поражение левого сердечного желудочка, но немалую роль сыграло и душевное состояние в связи с тяжелыми мыслями об Эйлин. Разумеется, его смерть нельзя было приписать только огорчениям из-за дочери, ибо он был человеком грузным, апоплексического сложения и уже давно страдал склерозом кровяных сосудов; к тому же он много лет вел очень малоподвижный образ жизни, гибельно отражавшийся на его пищеварении. Да и вообще ему перевалило за семьдесят, и он отжил свой век. Его нашли утром уже окоченевшим, он сидел, свесив на грудь голову и уронив руки на колени. Похороны были пышные. Отпевание происходило в церкви св. Тимофея при огромном стечении народа — присутствовало много политических деятелей и представителей городской администрации; в толпе перешептывались о том, что кончину Батлера, быть может, ускорило горе, причиненное дочерью. Немало, конечно, было сказано о его благотворительной деятельности. Молленхауэр и Симпсон прислали огромные венки в знак своей скорби. Его смерть сильно огорчила их, так как все вместе они составляли нераздельную троицу. Но раз его не стало, то, собственно, не стоило больше и вспоминать об этом. Все свое состояние Батлер оставил жене, и его завещание было, вероятно, самым кратким, какое когда-либо заверял нотариус в Филадельфии:«Завещаю возлюбленной жене моей Норе все мое состояние, в чем бы оно ни заключалось, с правом распоряжаться им по собственному ее усмотрению».Никаких превратных толкований это завещание вызвать не могло. Но незадолго до своей смерти Батлер составил второй секретный документ, в котором пояснял, как распорядиться наследством, когда настанет ее черед умирать. Собственно, это и было его настоящее завещание, только замаскированное, и миссис Батлер ни за что на свете не согласилась бы что-либо изменить в нем. Батлер непременно хотел, чтобы она до самой смерти оставалась единственной наследницей всего его имущества. Сумма, с самого начала предназначавшаяся Эйлин, не подверглась никакому изменению. Согласно воле покойного — и ничто в мире не заставило бы миссис Батлер уклониться от точного ее выполнения, — Эйлин по смерти матери получала двести пятьдесят тысяч долларов. Но миссис Батлер, рассматривавшая этот документ как свое собственное завещание, никому и словом не обмолвилась ни о распоряжении относительно Эйлин, ни о всем прочем. Эйлин нередко задумывалась, оставил ли ей что-нибудь отец, но никогда не пыталась узнать. Вероятно, ничего, решила она, и надо с этим примириться. После смерти Батлера во взаимоотношениях семьи произошли большие перемены. Похоронив его, они как будто вернулись к прежней мирной совместной жизни, но это была лишь видимость. Оуэн и Кэлем не в силах были скрыть своего презрительного отношения к Эйлин, и она, понимая, в чем дело, отвечала им тем же. Эйлин держалась очень высокомерно. Оуэн хотел заставить ее уехать сразу же после смерти отца, но потом передумал, решив, что это ни к чему не приведет. Миссис Батлер, наотрез отказавшаяся выехать из старого дома, боготворила старшую дочь, и это тоже не позволяло братьям настаивать на отъезде Эйлин. Кроме того, всякая попытка «выжить» сестру привела бы к необходимости все объяснить матери, что они считали невозможным. Оуэн усердно ухаживал за Каролиной Молленхауэр, на которой надеялся жениться отчасти потому, что ее ожидало после смерти отца большое наследство, отчасти же потому, что действительно был влюблен в нее. В январе следующего года — Батлер скончался в августе — Нора скромно отпраздновала свою свадьбу, а весной ее примеру последовал и Кэлем. Тем временем произошли большие перемены в политической жизни Филадельфии. Некий Том Коллинс, прежде один из подручных Батлера, а с недавних пор видный человек в Первом, Втором, Третьем и Четвертом кварталах, где он держал множество кабаков и других подобных заведений, стал претендовать на руководящую роль в городе. Молленхауэр и Симпсон вынуждены были считаться с ним, ибо его противодействие означало бы почти верную потерю на выборах без малого ста пятнадцати тысяч голосов; правда, среди бюллетеней было много фальшивых, но особого значения это не имело. Сыновья Батлера больше не могли рассчитывать на широкую политическую деятельность, им пришлось ограничиться коммерческими операциями в области конных железных дорог и подрядами. Помилование Каупервуда и Стинера, чему, конечно, воспротивился бы Батлер, так как, удерживая в тюрьме Стинера, он тем самым удерживал там и Каупервуда, теперь стало значительно более простым делом. Скандал из-за расхищения городских средств постепенно стих, газеты перестали даже упоминать о нем. Стараниями Стеджера и Уингейта была составлена и подана губернатору пространная петиция, подписанная всеми крупными финансистами и биржевиками; в ней указывалось, что осуждение Каупервуда было явной несправедливостью, почему они и ходатайствуют о его помиловании. Что касается Стинера, то за него особенно хлопотать не приходилось: лидеры республиканской партии выжидали только удобной минуты, чтобы обратиться к губернатору с просьбой об его освобождении. До сих пор они ничего не предпринимали, так как знали, что Батлер будет противодействовать освобождению Каупервуда, а выпустить одного, позабыв о другом, было невозможно. Петиция губернатору, поданная уже после смерти Батлера, как нельзя лучше решала вопрос. И все же непосредственные шаги были сделаны лишь в марте, через полгода после смерти старого подрядчика, когда Стинер и Каупервуд уже пробыли в тюрьме тринадцать месяцев — срок, вполне достаточный для того, чтобы умиротворить широкую публику. За этот период Стинер сильно изменился как физически, так и духовно. Несмотря на то, что его время от времени посещали второстепенные члены городского самоуправления, некогда в той или иной форме пользовавшиеся его щедротами, и сам он, правда, по тюремным понятиям, почти ни в чем не был стеснен, а семья его не страдала от лишений, — он все же понимал, что его политическая и общественная карьера кончена. Хотя то один, то другой приятель присылал ему корзины с фруктами и все они не скупились на уверения, что его скоро выпустят, бывший казначей знал: по выходе из тюрьмы он может рассчитывать только на свой опыт агента по страхованию и продаже недвижимости. Это было весьма ненадежным делом еще в те дни, когда он пытался укрепиться на политическом поприще. Что же будет теперь, когда его знают лишь как человека, ограбившего городское казначейство на полмиллиона долларов и присужденного к пяти годам тюрьмы? Кто одолжит ему хотя бы четыре-пять тысяч долларов для самого скромного начала? Не те ли, что приходят теперь навещать его и выражают свое соболезнование по поводу несправедливого приговора? Да никогда! Все они будут уверять, что у них нет ни одного лишнего цента. Вот если бы он мог предложить хорошее обеспечение — тогда другое дело! Но будь у него хорошее обеспечение, ему незачем было бы обращаться к ним. Единственный человек, который действительно помог бы ему, знай он о его нужде, был Фрэнк Каупервуд. Если бы Стинер признал свою ошибку, — каковой Каупервуд считал отказ во второй ссуде, — тот охотно дал бы ему денег, даже не надеясь получить их обратно. Но Стинер, плохо разбираясь в людях, считал, что Каупервуд безусловно стал его врагом, и у него никогда не хватило бы ни мужества, ни деловой сметки обратиться к нему. В течение всего своего пребывания в тюрьме Каупервуд откладывал небольшие суммы при посредстве Уингейта. Он платил крупные гонорары Стеджеру, пока тот наконец не решил, что больше уже ничего не должен с него брать. — Если вы когда-нибудь снова станете на ноги, Фрэнк, вы отблагодарите меня, но я думаю, тогда вы и вспоминать-про меня не захотите! Я только и делал, что проигрывал да проигрывал ваше дело в разных инстанциях. Ходатайство о помиловании я составлю и подам без всякого гонорара. Впредь я буду работать на вас безвозмездно. — Полно нести вздор, Харпер! — отозвался Каупервуд. — Я не знаю никого, кто мог бы лучше вести мое дело. И во всяком случае, никому я не доверяю так, как вам. Вы ведь заметили, что я недолюбливаю адвокатов! — Ну что ж, — отозвался Стеджер, — адвокаты тоже недолюбливают финансистов, так что мы с вами квиты! И они обменялись рукопожатием. Итак, когда в начале марта 1873 года решено было наконец ходатайствовать о помиловании Стинера, пришлось волей-неволей просить о том же и для Каупервуда. Делегация, состоявшая из Стробика, Хармона и некоего Уинпенни, которому предстояло выразить якобы единодушное желание городского совета и администрации, а также присоединившихся к ним Молленхауэра и Симпсона видеть бывшего казначея на свободе, посетила в Гаррисберге губернатора и вручила ему официальное ходатайство, составленное так, чтобы произвести надлежащее впечатление на публику. Одновременно Стеджер, Дэвисон и Уолтер Ли подали петицию о помиловании Каупервуда. Губернатор, заранее получивший на этот счет указания из сфер гораздо более влиятельных, чем упомянутые лица, отнесся к ходатайствам с сугубым вниманием. Он лично займется этим делом. Ознакомится с судебными отчетами о преступлениях, совершенных обоими заключенными, со сведениями об их прошлой жизни. Конечно, он ничего не может обещать, но по ознакомлении с делом будет видно… Через десять дней — после того как петиции уже покрылись изрядным слоем пыли в ящике его письменного стола — он издал два отдельных указа о помиловании, даже пальцем не пошевельнув для изучения вопроса. Один из них, в знак уважения, он передал на руки Стробику, Хармону и Уинпенни, чтобы они, согласно выраженному ими желанию, могли сами вручить его Стинеру. Второй указ, по просьбе Стеджера, отдал ему, и обе делегации, явившиеся за этими бумагами, уехали. Под вечер того же дня к тюремным воротам прибыли — правда, в разные часы — две группы. Одна состояла из Стробика, Хармона и Уинпенни, другая — из Стеджера, Уингейта и Уолтера Ли.
Глава 58
Историю с ходатайством — вернее, точный срок, когда следовало ожидать его удовлетворения, — скрывали от Каупервуда, хотя все наперебой твердили ему, что он скоро будет помилован или что у него имеются веские основания на это надеяться. Уингейт и Стеджер, по мере возможности, постоянно держали его в курсе своих хлопот. Но когда, со слов личного секретаря губернатора, стал известен день подписания указа о помиловании, Стеджер, Уингейт и Уолтер Ли договорились ни единым словом не упоминать об этом и устроить Каупервуду сюрприз. Стеджер и Уингейт зашли даже так далеко, что намекнули ему, будто произошла какая-то заминка и дело с его освобождением, возможно, затянется. Каупервуд был огорчен, но держался стоически, внушая себе, что можно еще потерпеть, так как все равно его час настанет. Тем сильнее он удивился, когда однажды в пятницу, уже под вечер, Уингейт, Стеджер и Уолтер Ли подошли к дверям его камеры вместе с начальником тюрьмы Десмасом. Десмас был очень рад, что Каупервуд наконец выходит на свободу, так как искренне восхищался им, и решил пойти к нему в камеру, чтобы посмотреть, как тот отнесется к радостной вести. По пути он счел своим долгом отметить, что Каупервуд все время примерно вел себя. — Он разбил во дворе при камере садик, — сообщил начальник тюрьмы Уолтеру Ли. — Посадил там фиалки, гвоздику, герань, и они очень хорошо принялись. Ли улыбнулся. Как это похоже на Каупервуда — быть деятельным и стараться скрасить свою жизнь даже в тюрьме. Такого не одолеешь! — Это исключительный человек, — заметил Ли Десмасу. — О да! — подтвердил начальник тюрьмы. — Достаточно взглянуть на него, чтобы в этом убедиться. Все четверо посмотрели сквозь решетку: Каупервуд не замечал их, так как они подошли очень тихо, и продолжал работать. — Прилежно трудитесь, Фрэнк? — спросил Стеджер. Каупервуд оглянулся через плечо и встал. Как и все последние «дни, он размышлял о том, чем ему заняться по выходе из тюрьмы. — Как прикажете это понимать? — спросил он. — Прямо политическая делегация пожаловала! И в ту же секунду он догадался. Все четверо радостно улыбались, а Бонхег, по приказанию начальника, отпирал дверь. — Да тут и понимать нечего, Фрэнк, — весело отозвался Стеджер, — разве только одно — вы теперь свободный человек. Если угодно, можете собирать пожитки и уходить. Каупервуд спокойно смотрел на своих друзей. После того, что они недавно ему сказали, он не ожидал освобождения так скоро. Он не принадлежал к тем, кого забавляют подобные шутки или сюрпризы, но внезапное сознание своей свободы обрадовало его. Правда, он уже так давно ждал этой минуты, что значительная доля прелести ее для него утратилась. Он был несчастен в тюрьме, но не сломлен. Поначалу было тяжко терпеть позор и унижение. Но впоследствии, когда он освоился с обстановкой, ощущение гнета и чувство оскорбленного достоинства притупились. Его только раздражало сознание, что, сидя взаперти, он попусту теряет время. Если не считать неудовлетворенных стремлений — главным образом жажды успеха и жажды оправдать себя, — он убедился, что может жить в тесной камере и притом совсем неплохо. Он уже давно свыкся с запахом извести (заглушавшим другой, более скверный запах) и с множеством крыс, которых он, впрочем, усердно истреблял. В нем пробудился известный интерес к плетению стульев, и он так наловчился, что при желании мог изготовлять по двадцать штук в день. Не менее охотно работал Каупервуд весной, летом и осенью в своем крохотном садике. Каждый вечер, сидя там, он изучал небосвод, и любопытно, что в память об этих вечерах много лет спустя он подарил великолепный телескоп одному знаменитому университету. Каупервуд никогда не смотрел на себя как на обыкновенного арестанта, так же как не считал, что понес достаточную кару, если в его действиях и вправду был какой-то элемент преступления. Бонхег рассказал ему о многих заключенных; среди них были убийцы, были люди, совершившие еще более тяжкие злодеяния, а также и мелкие преступники; кое-кого Каупервуд даже знал в лицо: Бонхег не раз водил его на главный двор. Каупервуд видел, как готовят еду для заключенных, слышал о довольно сносном тюремном житье Стинера и о многом другом. В конце концов он пришел к убеждению, что тюрьма не так уж страшна, жаль только, что такой человек, как он, Каупервуд, попусту растрачивает время. Сколько бы он успел сделать на свободе, не возясь со всеми этими исковыми заявлениями. Суды и тюрьмы! Он невольно качал головой, думая о том, сколько пропащего времени кроется за этими словами. — Отлично, — произнес он каким-то неуверенным голосом и осмотрелся по сторонам. — Я готов. Он вышел в коридор, даже не бросив прощального взгляда на свою камеру, и обратился к Бонхегу, весьма огорченному утратой столь выгодного клиента: — Я попрошу вас, Уолтер, позаботиться о том, чтобы мои личные вещи отослали ко мне домой. Ну а кресло, стенные часы, зеркало, картины, короче говоря, все, кроме белья, бритвенного прибора и тому подобных мелочей, можете оставить себе. Этот щедрый дар несколько успокоил скорбящую душу Бонхега. Каупервуд со своими спутниками прошел в «приемную», где торопливо скинул с себя тюремную куртку и рубаху. Вместо грубых башмаков он уже давно носил собственные легкие ботинки. Затем он снова надел котелок и серое пальто, в котором год назад был доставлен в тюрьму, и объявил, что готов. У выхода он на секунду задержался и оглянулся — в последний раз — на железную дверь, ведущую в сад. — Вы, кажется, не без сожаления расстаетесь со всем этим, Фрэнк? — полюбопытствовал Стеджер. — Не совсем так, — отвечал Каупервуд. — Я ни о чем не сожалею, мне просто хочется удержать это в памяти. Через минуту они уже подошли к внешней ограде, и Каупервуд пожал на прощание руку начальнику тюрьмы. Затем все трое уселись в экипаж, ожидавший их у массивных ворот в готическом стиле, и лошади тронули. — Ну, вот и все, Фрэнк! — весело заметил Стеджер. — Больше вы уже в жизни ничего подобного не испытаете. — Да, — согласился Каупервуд, — сознание, что все это в прошлом, приятнее, чем сознание, что это еще только предстоит. — Па-моему, надо как-нибудь отпраздновать знаменательное событие, — вмешался Уолтер Ли. — Прежде чем везти Фрэнка домой, нам следовало бы заехать к Грину, неплохая мысль, а? Как по-вашему? — Не сердитесь, но я бы предпочел отправиться прямо домой, — отвечал Каупервуд несколько даже растроганным голосом. — Мы встретимся немного поздней. А сейчас я хочу побывать дома и переодеться. — Он думал об Эйлин, о детях, об отце и матери, о своем будущем. Теперь жизнь откроет перед ним широкие горизонты, в этом он был уверен. За прошедшие тринадцать месяцев он научился и в мелочах сам заботиться о себе. Он увидится с Эйлин, узнает ее отношение ко всему происшедшему и затем начнет такое же дело, какое у него было раньше, но только совместно с Уингейтом. Необходимо будет при помощи добрых друзей снова добиться места на фондовой бирже, а для того, чтобы дурная слава недавнего арестанта не мешала людям вести с ним дела, он будет на первых порах действовать в качестве агента и представителя конторы «Уингейт и К°». Никто не может доказать, что он, Каупервуд, фактически является главой фирмы. Затем надо только дождаться какого-нибудь крупного события на бирже, например, невиданного повышения курсов. И тогда уж весь свет узнает, конченый человек Фрэнк Каупервуд или нет. Экипаж остановился у дверей маленького коттеджа, занимаемого его женой, и он быстро вошел в полутемную прихожую.Восемнадцатого сентября 1873 года, в погожий осенний полдень, город Филадельфия стал местом действия одной из самых ошеломляющих финансовых трагедий, какие когда-либо видел мир. Крупнейшее кредитное учреждение Америки — банкирский дом «Джей Кук и К°», имевший контору в доме 114 «по Третьей улице и отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне, внезапно прекратил платежи. Тот, кто представляет себе, что такое финансовый кризис в Соединенных Штатах, поймет и все значение, которое имела последовавшая за этим событием биржевая паника. Она получила название «паники 1873 года», а волна разорений и катастроф, прокатившаяся тогда по всей стране, поистине не знает себе равных в истории Америки. В это самое время Каупервуд уже снова вел дела на Третьей улице и в качестве маклера (официально — агента маклера), то есть представителя фирмы «Уингейт и К°», подвизался на бирже. За полгода, прошедшие со дня его освобождения, он успел возобновить кое-какие связи если не в обществе, то среди финансистов, знавших его раньше. Кроме того, фирма «Уингейт и К°» в последнее время явно процветала, и это весьма благоприятно отражалось на кредитоспособности Каупервуда. Считалось, что он проживает вместе с женой в маленьком домике на Двадцать первой улице, на деле же он занимал холостую квартиру на Пятнадцатой улице, и туда частенько наведывалась Эйлин. О разладе между ним и Лилиан теперь уже знала вся семья, сделавшая даже несколько робких и напрасных попыток примирить супругов. Впрочем, тяжелые испытания последних двух лет настолько приучили стариков Каупервудов ко всякого рода неприятным неожиданностям, что вся эта история хоть и изумила их, но ранила не так жестоко, как могла бы ранить несколько лет назад. Они были слишком напуганы жизнью, чтобы вступать в борьбу с ее непостижимыми превратностями. Старики теперь могли только молиться и уповать на лучшие времена. Что касается Батлеров, то они стали равнодушны к поведению Эйлин. Оба брата и Нора, давно уже знавшие обо всем, старались попросту не замечать старшей сестры; мать же до такой степени ушла в религию, так погружена была в скорбь о понесенной утрате, что не следила больше за жизнью дочери. Вдобавок Каупервуд и его любовница проявляли удвоенную осторожность. Они старались рассчитывать каждый свой шаг, хотя отношения их ничуть не изменились. Каупервуд подумывал о переезде на Запад, разумеется вместе с Эйлин. Он хотел отчасти восстановить свое положение в Филадельфии и затем с капиталом примерно тысяч в сто перебраться к необъятным прериям — в Чикаго, Фарго, Дулут, Сиукс-Сити, то есть в места, о которых в Филадельфии и вообще на Востоке говорили как о будущих крупных центрах. Правда, вопрос об их браке оставался нерешенным, пока миссис Каупервуд не согласилась на развод — о чем сейчас нечего было и думать, — но ни Каупервуд, ни Эйлин не тревожились. Венчанные или невенчанные, они все равно будут вместе строить новую жизнь. А пока что Каупервуд видел только один выход: увезти с собой Эйлин, надеясь, что время и разлука заставят жену изменить решение. Биржевая паника, которой суждено было оказать столь решающее влияние на дальнейшую жизнь Каупервуда, относилась к тем своеобразным явлениям, которые естественно проистекают из оптимизма американского народа и неудержимого развития страны. Собственно говоря, она явилась результатом высокомерия и самоуверенности Джея Кука, который вырос в Филадельфии, здесь же начал преуспевать на финансовом поприще и затем стал крупнейшим финансистом своего времени. Мы не будем пытаться проследить путь этого человека к славе. Достаточно сказать, что благодаря его советам и способам, им изобретенным, правительство в наиболее критические для страны минуты сумело добыть средства, необходимые, чтобы продолжать борьбу с Югом. После Гражданской войны этот человек, уже создавший грандиозную банкирскую контору в Филадельфии с довольно крупными отделениями в Нью-Йорке и Вашингтоне, некоторое время пребывал в нерешительности: какое еще дело избрать для себя, в какой творческой идее достойно воплотить свой финансовый гений? Война была кончена; на очереди стоял вопрос о финансах мирного времени, и наиболее широким поприщем для предприимчивого дельца являлось строительство трансконтинентальных железнодорожных линий. Объединенная Тихоокеанская компания уже строила железную дорогу, получив разрешение еще в 1860 году. Смелые умы зачинателей этого дела уже вынашивали замыслы о постройке железных дорог на севере и юге тихоокеанского побережья. Разве это не великое дело — соединить стальными путями Атлантический и Тихий океаны, связать воедино разрозненные части окрепшего и территориально разросшегося государства или же поставить на широкую ногу разработку рудников, в первую очередь золотых и серебряных. Но наиболее перспективно, пожалуй, все-таки железнодорожное дело, и железнодорожные акции выше других котируются на всех фондовых биржах Америки. В Филадельфии нарасхват раскупались акции линий Центральной Нью-Йоркской, Рок-Айленд, Уобеш, Центральной Тихоокеанской, Сент-Поль, Ганнибал и Сент-Джозеф, Объединенной Тихоокеанской и Огайо — Миссисипи. Многие люди разбогатели и прославились, спекулируя на этих ценностях; известные дельцы на Востоке — Корнелий Вандербильдт, Джей Гулд, Дэниел Дрю, Джеме Фиш и другие, на Западе — Фэйр, Крокер, Херст и Коллис Хантингтон благодаря этим предприятиям сделались столпами американской промышленности. Среди тех, кто страстно мечтал о подобном взлете, был Джей Кук; не обладая ни волчьей хитростью Гулда, ни огромным опытом Вандербильдта, он все свои помыслы устремил на то, чтобы опоясать северные просторы Америки стальной лентой, которая послужит ему вечным памятником. Больше всего Кука привлекал проект, предусматривавший развитие территории — в те времена еще почти не исследованной — между западным берегом Верхнего озера, где теперь стоит город Дулут, и побережьем Тихого океана близ устья реки Колумбии — иными словами, почти трети всей территории Соединенных Штатов. Постройка железной дороги не могла не вызвать здесь к жизни крупные города и цветущие поселения. Предполагалось, что недра той части Скалистых Гор, по которой должна была пройти железная дорога, изобилуют залежами различных металлов, а поля принесут неслыханные урожаи кукурузы и пшеницы. Продукты, доставляемые в Дулут, дальше можно будет переправлять к Атлантическому побережью водой, через систему Великих озер и канал Ири по значительно более низким расценкам. Это открывало не менее грандиозные и величественные перспективы, чем прокладка Панамского канала, намечавшаяся в ту эпоху, и должно было в не меньшей мере послужить на благо человечеству. Кук вдохновился этим проектом. Поскольку было известно, что правительство предоставит огромные земельные участки по обе стороны предполагаемой железной дороги той компании, которая сумеет построить ее в сравнительно недолгий срок, Кук, считая, что это даст ему возможность сохранить свою репутацию крупнейшего дельца, решительным образом взялся за дело. Проект встретил немало возражений и подвергся суровой критике; но в конце концов все сошлись на том, что человек, сумевший поддержать финансовую мощь страны во время Гражданской войны, уж, конечно, справится с финансированием Северной Тихоокеанской дороги. Кук приступил к делу, намереваясь так широко ознакомить публику с выгодами своего начинания, чтобы обойтись без помощи какого-либо крупного финансового концерна и продавать акции и паи непосредственно людям всех сословий и званий. Такой план сулил гигантские выгоды. Еще во время Гражданской войны Кука осенила блестящая идея продавать облигации крупнейших правительственных займов непосредственно населению. Почему же не повторить этот маневр с сертификатами Северной Тихоокеанской? В течение нескольких лет Кук поддерживал громкую шумиху, изучал территорию будущей дороги, посылал туда многолюдные бригады строителей, в труднейших природных условиях прокладывал сотни миль рельсовых путей и продавал крупные пакеты акций с гарантированным дивидендом. Если бы он сам немного лучше разбирался в железнодорожном деле и если бы руководство столь грандиозными работами было под силу одному человеку, пусть даже гениально одаренному, то его предприятие процветало бы, как оно процветало впоследствии при новом управлении. Однако тяжелое время, франко-прусская война, по рукам и ногам связавшая европейский капитал и сделавшая европейских дельцов равнодушными к американским компаниям, зависть, клевета, не всегда умелое хозяйствование — все словно объединилось, чтобы разрушить предприятие Кука. Восемнадцатого сентября 1873 года банкирский дом «Джей Кук и К°» обанкротился, потеряв приблизительно восемь миллионов долларов, а Северная Тихоокеанская — весь капитал, вложенный в нее, то есть без малого пятьдесят миллионов. Нетрудно себе представить, что произошло, когда в один и тот же день и час потерпел крах крупнейший финансист и крупнейшее железнодорожное предприятие того времени. «Финансовый гром среди ясного неба», — писала филадельфийская газета «Пресс». «Если бы в жаркий летний полдень выпал снег, это не вызвало бы большего удивления», — вторила ей «Кикуайерер». Широкая публика, ослепленная небывалыми успехами Кука и считавшая его несокрушимым, не сразу поняла, что случилось. Никто не хотел верить этому. Джей Кук — банкрот? Чепуха, с ним такого не может случиться. Тем не менее Кук обанкротился, и нью-йоркская фондовая биржа, зарегистрировав в тот же день еще целый ряд банкротств, на неделю прекратила свою деятельность. Железная дорога компании «Лейк Шор» не могла покрыть ссуду в миллион семьсот пятьдесят тысяч долларов. Объединенное акционерное кредитное общество, связанное с Вандербильдтом, прекратило платежи, предварительно выдержав долгий натиск вкладчиков. Нью-йоркское национальное кредитное общество, в сейфах которого хранилось на восемьсот тысяч долларов государственных ценных бумаг, не могло получить от них ни единого доллара и тоже приостановило платежи. Теперь уже все заподозрили недоброе, тревожные слухи поползли по городу. В Филадельфии первой вестью о катастрофе явилась краткая депеша в адрес биржевого комитета от представителей нью-йоркской биржи. «Носятся слухи о банкротстве «Джей Кук и К°». Ждем подтверждения». Никто этому не поверил, и депеша осталась без ответа. Такая мысль никому и в голову не приходила. Биржевой мир попросту не обратил внимания на это нелепое сообщение. Каупервуд, недоверчиво присматривавшийся к успехам компании «Джей Кук» и блистательному замыслу ее главы, то есть продаже ценных бумаг непосредственно населению, был, может быть, единственным человеком, подозревавшим возможность краха. Однажды он написал (в ответ на чей-то запрос) великолепный критический обзор деятельности этой компании, отмечая, что никогда еще такое грандиозное предприятие, как Северная Тихоокеанская железная дорога, не зависело от кредитоспособности одного банкирского дома — вернее, одного человека, и что он, Каупервуд, считает это рискованным. «Я отнюдь не убежден, что территория, по которой проходит упомянутая железная дорога, так уж идеальна по своим климатическим условиям, почве, качеству леса, обилию минералов и т. п., как это расписывают мистер Джей Кук и его присные. Я также не думаю, чтобы это предприятие в настоящее время или в ближайшем будущем могло приносить прибыль, соответствующую огромному количеству акций, им выпускаемых. Такая постановка дела ненадежна и чревата опасностью». Едва прочитав вывешенную на бирже телеграмму, Каупервуд уже стал думать, что произойдет, если банкирский дом «Джей Кук и К°» в самом деле объявит о своем банкротстве. Долго размышлять ему не пришлось. На доске рядом с первой появилась вторая депеша, гласившая: «Нью-Йорк, 18 сентября, «Джей Кук и К°» приостановили платежи». Каупервуд не сразу поверил своим глазам. Его охватило глубокое волнение при мысли, что представился наконец долгожданный случай. Вместе с другими биржевиками он помчался на Третью улицу, где в доме 114 помещался этот знаменитый старинный банк. Ему нужно было убедиться воочию. Позабыв о своем обычном спокойствии и сдержанности, он не постеснялся бежать бегом. Если это правда, то пробил его час! Вот-вот начнется повсеместная паника, разразится великое бедствие. Акции начнут стремительно падать. Надо быть в самом круговороте надвигающихся событий. Необходимо также позаботиться, чтобы братья и Уингейт находились поблизости. Он будет давать им указания, когда и что продавать или покупать. Да, его час настал!
Глава 59
Банкирский дом «Джей Кук и К°», несмотря на огромный размах своих операций, помещался в весьма скромном четырехэтажном здании из кирпича и серого известняка, давно уже считавшемся некрасивым и неудобным. Каупервуд часто бывал там. По залам банкирского дома шмыгали здоровенные крысы, пробиравшиеся туда с набережной через сточные трубы. Множество клерков трудилось над банковскими книгами при скудном свете газовых рожков в полутемных и плохо проветриваемых помещениях. По соседству отсюда находился Джирардский национальный банк, где по-прежнему успешно развивал свою деятельность приятель Каупервуда Дэвисон и где совершались крупнейшие финансовые операции Третьей улицы. По дороге Каупервуд столкнулся со своим братом Эдвардом, спешившим к нему на биржу с каким-то пакетом от Уингейта. — Живо беги за Уингейтом и Джо! — крикнул Каупервуд. — Сегодня произойдут большие события. Джей Кук прекратил платежи. Эдвард, ни слова не говоря, ринулся выполнять поручение. Каупервуд одним из первых добежал до банка «Джей Кук и К°». К вящему его изумлению, массивные дубовые двери, в которые он так часто входил, оказались запертыми: на них было вывешено обращение:«К сведению наших клиентов. 18 сентября 1873 года. С прискорбием объявляем, что вследствие неожиданно предъявленных нам требований погашения ссуд фирма вынуждена временно прекратить платежи. В ближайшие дни мы сможем дать нашим кредиторам отчет о состоянии дел. До тех пор нам остается только просить их о терпеливом и снисходительном отношении. Мы уверены, что наш актив значительно превосходит пассив»Глаза Каупервуда блеснули торжеством. Вместе со многими другими он повернул назад и снова помчался к бирже, между тем как какой-то репортер, явившийся за сведениями, тщетно стучал в массивные двери банка, пока в ромбовидное оконце не выглянул швейцар и не сообщил ему, что мистер Джей Кук ушел и сегодня никого принимать не будет. «Теперь, — подумал Каупервуд, которому эта паника сулила не разорение, а успех, — теперь-то я свое возьму. Я буду продавать все, решительно все». В прошлый раз, во время паники, вызванной чикагским пожаром, он не мог распродать свой портфель, его собственные интересы требовали сохранения ряда ценных бумаг. Сейчас у него ничего не было за душой — разве только какие-нибудь семьдесят пять тысяч долларов, которые ему удалось наскрести. И слава богу! Значит, в случае неудачи он не рискует ничем, кроме доброго имени фирмы «Уингейт и К°», а это его мало беспокоит. Но пока что в качестве представителя этой фирмы на бирже, покупая и продавая от ее имени, он мог составить себе огромное состояние. В минуты, когда большинству мерещилась гибель, Каупервуд думал об обогащении. Оба его брата и Уингейт будут действовать по его указаниям. Если понадобится, он подберет себе еще одного или двух агентов. Даст им приказ продавать, все продавать, пусть на десять, пятнадцать, двадцать, даже тридцать пунктов ниже курса; он будет ловить неосторожных, сбивать цены, пугать трусов, которым его действия покажутся слишком смелыми, а затем начнет покупать, покупать и покупать по еще более низкому курсу, чтобы покрыть запродажные сделки и сорвать барыш. Чутье подсказывало ему, что паника будет повсеместной и продолжительной. Северная Тихоокеанская — стомиллионное предприятие. В нее вложены сбережения сотен тысяч людей — мелких банкиров, торговцев, священников, адвокатов, врачей, вдов, капиталы разных фирм, рассеянных по стране; все они доверились честности и деловитости Джея Кука. Каупервуду как-то случилось видеть роскошный рекламный проспект с картой, чем-то напомнивший ему план горящего Чикаго, и там была нанесена территория, контролируемая Куком, с проходившей по ней Северной Тихоокеанской железной дорогой, опоясывавшей огромные пространства; она начиналась от Дулута — «столицы пресных морей» (как саркастически выразился в своей речи в конгрессе доктор Проктор Нотт) и через верховья Миссури и Скалистые Горы подходила к Тихому океану. Каупервуд понимал, что Кук только делает вид, будто осваивает эту предоставленную ему правительством гигантскую территорию протяжением в тысячу четыреста миль; это была всего-навсего грандиозная игра. Не исключено, конечно, что там имеются месторождения золота, серебра и меди. И земля годна для обработки — вернее, будет годна со временем. Но сейчас-то какой от нее толк? Сейчас все это годилось разве на то, чтобы распалять воображение глупцов — не больше. Эти земли не освоены и не будут освоены еще в течение многих лет. Тысячи людей отдали свои сбережения на постройку дороги, тысячи должны были разориться, если предприятие Кука потерпит крах. И вот это случилось! Отчаяние и злоба пострадавших будут беспредельны. Пройдут долгие, очень долгие годы, прежде чем в людях восстановится уверенность, исчезнет страх. Теперь настал его час! Представился долгожданный случай. Словно волк, рыщущий в ночи при холодном и мертвенном свете звезд, всматривался Каупервуд в смирную толпу простаков, зная, какой ценой они расплатятся за свою доверчивость и наивность. Каупервуд поспешил обратно на биржу, в тот самый зал, где два года назад он вел такую безнадежную борьбу. Увидев, что братьев и компаньона еще нет на месте, он сам стал продавать что только мог. Вокруг уже был сущий ад. Мальчишки-посыльные и агенты врывались со всех сторон с приказами от перепуганных биржевиков продавать, продавать и продавать, но вскоре наоборот: покупать. Столбы, возле которых совершались сделки, трещали и шатались под напором суетящихся биржевиков и маклеров. На улице перед зданиями банкирских домов «Джей Кук и К°», «Кларк и К°», Джирардского национального банка и других финансовых учреждений уже скопились огромные толпы. Каждый спешил узнать, что случилось, забрать вклад, хоть как-то защитить свои интересы. Полисмен арестовал мальчишку-газетчика, выкрикивавшего весть о банкротстве «Джея Кука», но все равно слух о великом бедствии распространялся со скоростью степного пожара. Среди всех этих охваченных паникой людей Каупервуд оставался спокойным, холодным и невозмутимым; это был все тот же Каупервуд, который с серьезным лицом исполнял в тюрьме свое дневное задание — десять плетеных сидений, расставлял капканы для крыс и в полном безмолвии и одиночестве возделывал крохотный садик при камере. Только теперь он был исполнен сил и внутренней энергии. Он уже достаточно долго вновь пробыл на бирже, чтобы успеть внушить уважение всем, кто его знал. С трудом пробравшись в самую гущу взволнованной и охрипшей от криков толпы, он начал предлагать те же ценности, что предлагали другие, но в огромных количествах и по таким низким ценам, которые не могли не ввести в соблазн всякого, кто хотел нажиться на разнице в биржевых курсах. К моменту объявления о крахе акции Центральной Нью-Йоркской линии котировались по 104 7/8, Род-Айленд — по 108 7/8, Уэстерн-Юнион — по 92 1/2, Уобеш — по 70 1/4, Панамские — по 117 3/8, Центральные Тихоокеанские — 99 5/8, Сент-Поль — 51, Ганнибал и Сент-Джозеф — 48, Северо-западные — 63, Тихоокеанские — 26 3/4 и, наконец, Огайо — Миссисипи по 38 3/4. Фирма, за которой скрывался Каупервуд, располагала не очень большим количеством этих акций. Ни один клиент еще не отдал приказа об их продаже, но Каупервуд уже продавал, продавал и продавал каждому, кто выражал желание купить их по ценам, которые — Каупервуд твердо знал это — должны были заманить покупателей. — Пять тысяч акций Центральной Нью-йоркской по девяносто девять… девяносто восемь… девяносто шесть… девяносто пять… девяносто четыре… девяносто три… девяносто два… девяносто один… девяносто… восемьдесят девять, — все время слышался его голос; а если сделка не совершалась достаточно быстро, он переметывался на другие — Род-Айленд, Панама, Центральные Тихоокеанские, Уэстерн-Юнион, Северо-западные, Тихоокеанские. Заметив брата и Уингейта, торопливо входивших в зал, он остановился, чтобы дать им необходимые распоряжения. — Продавайте все, что возможно, — тихо сказал он, — пускай на пятнадцать пунктов ниже курса — дешевле пока что смысла нет, — и покупайте решительно все, что предложат по еще более низкой цене. Ты, Эд, следи, не пойдут ли конные железнодорожные пунктов на пятнадцать ниже курса, а ты, Джо, оставайся поблизости и покупай, когда я скажу. Ровно в половине второго на балкончике появился секретарь биржевого комитета. — «Кларк и К°» только что прекратила платежи, — объявил он. — «Тай и К°», — снова послышался его голос в час сорок пять минут, — уведомляют о приостановке платежей. — Первый Филадельфийский национальный банк, — возгласил он в два часа, — поставил нас в известность, что не может более производить расчеты. После каждого такого сообщения теперь, как и прежде, раздавался удар гонга, призывающий к тишине, а у толпы вырывался единодушный жалобный стон: «О-о-ох!» «Тай и К°»! Каупервуд на секунду приостановился, услышав это, — вот и ему конец, — и тотчас же снова начал выкликать свои предложения. Когда биржевой день закончился, Каупервуд протискался к выходу в разорванном сюртуке, со сбитым на сторону галстуком и расстегнутым воротничком, без шляпы — она куда-то запропастилась, — но спокойный, невозмутимый и корректный. — Ну, Эд, как дела? — осведомился он, столкнувшись с братом. Тот был в таком же растерзанном виде, измученный и усталый. — Вот черт! — воскликнул Эд, заправляя манжеты. — В жизни ничего подобного не видел. Я чуть было не остался нагишом. — Удалось что-нибудь с конными железнодорожными? — Купил пять тысяч штук или около того. — Что ж, теперь надо отправляться к Грину (это был один из лучших отелей Филадельфии с роскошным рестораном), — произнес Каупервуд. — Это еще не конец. Там сделки будут продолжаться. Он разыскал Джо с Уингейтом, и они ушли, по пути подводя итоги своим основным покупкам и запродажам. Как он и предвидел, волнение не улеглось даже поздним вечером. Толпы народа все еще стояли на Третьей улице перед дверями «Джей Кук и К°» и других банков в надежде, что события могут обернуться благоприятно. Для биржевиков центр спора и лихорадочного волнения теперь переместился в отель Грина, где вечером 18 сентября вестибюль и все коридоры были битком набиты банкирами, маклерами и спекулянтами. Собственно говоря, туда в полном составе перекочевала биржа. Что будет завтра? Чье банкротство на очереди? Откуда теперь возьмутся деньги? Вот что было у каждого в помыслах и на языке. Из Нью-Йорка то и дело поступали сообщения о новых банкротствах. Банки и тресты рушились, как деревья во время урагана. Всюду поспевавший Каупервуд, видя все, что можно было увидеть, и слыша все, что можно было услышать, заключал сделки, считавшиеся на бирже противозаконными, но точно такие же, как заключали другие. Вскоре он заметил, что вокруг него крутятся агенты Молленхауэра, и Симпсона, и заранее радовался при мысли, что основательно оберет их в ближайшие дни. Каупервуд еще не решил, станет ли он владельцем какой-нибудь конной железной дороги, но, во всяком случае, у него будет такая возможность. По слухам и сообщениям, поступавшим из Нью-Йорка и других городов, он знал, что дело обстоит из рук вон плохо для тех, кто строил свои расчеты на быстром восстановлении нормальной обстановки. Каупервуду даже в голову не пришло уйти домой, пока здесь оставался хоть один человек, хотя за окнами уже светало. Наступила пятница, предвещавшая немало роковых событий. Не станет ли она повторением пресловутой «Черной пятницы»? Каупервуд пришел в контору фирмы Уингейт, когда город еще только просыпался. Он заранее до мелочей разработал план действий, чувствуя себя совсем по-иному, чем во время паники два года назад. Вчера, несмотря на неожиданность всего происшедшего, он нажил сто пятьдесят тысяч долларов и сегодня надеялся выручить не меньше, а то и больше.Невозможно наперед определить, сколько удастся еще нажить, думал Каупервуд, важно только, чтобы все члены его маленького объединения работали достаточно четко и беспрекословно ему повиновались. Многие узнали о своем разорении с самого утра, когда было объявлено банкротство фирмы «Фиск и Хетч», преданно сотрудничавшей с Куком еще в пору Гражданской войны. В первые же пятнадцать минут после открытия банка у «Фиск и Хетч» было востребовано на полтора миллиона вкладов, и они оказались вынужденными тут же прекратить платежи. По слухам, вина за банкротство этой компании ложилась на правление Центральной Тихоокеанской железной дороги, возглавляемое Коллисом Хантингтоном, и линии Чезапик — Огайо. Упорный натиск вкладчиков долго выдерживало Акционерное кредитное общество. Сообщения о новых крахах в Нью-Йорке непрерывно увеличивали панику, благоприятствовавшую Каупервуду; он все продавал по еще сравнительно высоким ценам и покупал уже по значительно более низким. К полудню он выяснил, что у него очистилось сто тысяч долларов. К трем часам эта сумма возросла втрое. Конец дня от трех до семи он потратил на подсчеты и приведение в порядок дел, а от семи до часу ночи (не успев даже пообедать) занимался собиранием сведений и подготовкой к завтрашнему дню. В субботу Каупервуд действовал с не меньшей энергией, в воскресенье снова подсчитывал, а в понедельник с самого утра уже был на бирже. В полдень выяснилось окончательно, что он (даже если вычесть известные убытки и сомнительные суммы) стал миллионером. Теперь перед ним открывалось блестящее будущее. Сидя в конце дня за своим письменным столом и глядя в окно на Третью улицу, по которой все еще сновали биржевики, рассыльные и взволнованные вкладчики, он решил, что для него настала пора покинуть Филадельфию. Маклерское дело ни здесь, ни в каком-либо другом городе больше его не интересовало. Эта паника и воспоминания о катастрофе, случившейся два года назад, излечили Каупервуда как от любви к биржевой игре, так и от любви к Филадельфии. После долгих счастливых лет он был одно время очень несчастен в этом городе, а клеймо арестанта навсегда закрывало ему здесь доступ в те круги, куда он хотел проникнуть. Теперь, когда его репутация дельца была восстановлена, когда он был помилован за преступление, которого не совершал (Каупервуд надеялся, что все в это верят), ему не оставалось ничего другого, как покинуть Филадельфию и пуститься на поиски нового поля деятельности. «Если все обойдется, — говорил он себе, — то надо поставить точку. Я уеду на Запад и займусь совсем другим делом». Он уже думал о конных железных дорогах, о спекуляциях земельными участками, о крупных индустриальных предприятиях и даже о разработке рудников, конечно, на вполне законном основании. «Мне преподан хороший урок, — подумал он, вставая и собираясь уходить. — Я так же богат, как прежде, а времени потеряно немного. Один раз меня поймали в капкан, больше этого не случится». Он вел переговоры с Уингейтом о продлении сотрудничества на прежних началах, искренне намеревался отдаться этому со всей присущей ему энергией, но в мозгу у него то и дело вставала радостная мысль: «Я миллионер, я свободный человек. Мне тридцать шесть лет, и передо мной еще долгая жизнь». С этой мыслью он пошел к Эйлин, чтобы вместе с нею помечтать о будущем.Джей Кук и К°.
Всего три месяца спустя поезд, мчавшийся по горам Пенсильвании и равнинам Огайо и Индианы, вез на Запад миллионера, который, несмотря на свою молодость, богатство и отличное здоровье, серьезно и несколько скептически думал о том, что его ожидает. После долгих всесторонних размышлений он пришел к выводу, что Запад изобилует разнообразными возможностями. Он внимательно изучал сводки нью-йоркской расчетной палаты, а также балансы банков, следил за тем, куда перемещается золото, и убедился, наконец, что оно в огромных количествах течет в Чикаго. Каупервуд был недюжинным знатоком финансов и понимал, что значит направление золотого потока. Там, куда он течет, процветает деловая жизнь, там все кипит, все находится в состоянии непрерывного роста. Теперь он хотел собственными глазами увидеть, чего можно ждать от Запада. Через два года после того, как в Дулуте метеором блеснул молодой финансист, а деловой мир Чикаго стал свидетелем первых шагов оптовой зерновой конторы «Фрэнк Каупервуд и К°», занявшейся сбытом колоссальных запасов производимой Западом пшеницы, миссис Каупервуд, по-прежнему проживавшая в Филадельфии, не поднимая излишнего шума и, видимо, по собственному желанию, дала мужу развод. Время милостиво обошлось с нею. Ее материальное положение, недавно столь плачевное, поправилось, и она вновь жила в Западном квартале, по соседству с одной из своих сестер, в удобном и красивом особняке, типичном для буржуазии средней руки. Теперь она опять стала очень набожной. Ее дети — Фрэнк и Лилиан — учились в частной школе, а по вечерам возвращались домой к матери. Большинство хозяйственных обязанностей выполнял старый негр Симс. По воскресеньям Лилиан обычно навещали старики Каупервуды; материальные затруднения и для них остались позади, но оба они выглядели какими-то смирными и утомленными, — ветер больше не надувал паруса корабля их некогда столь счастливой жизни. У Каупервуда-старшего было достаточно денег, чтобы не тянуть лямку мелкого служащего, но не было больше желания выдвинуться в обществе. Он сделался старым, вялым и ко всему безразличным. Вспоминая почет и оживление, которое царило вокруг него в прежние годы, он чувствовал себя так, словно стал совсем другим человеком. Ушли желанья, ушла смелость, оставалось только ждать смерти. Иногда заходила к своей бывшей невестке и Анна-Аделаида Каупервуд, теперь служащая городского отдела водоснабжения. Она любила размышлять о непостижимых превратностях жизни и с любопытством следила за карьерой своего брата, которому, как видно, самой судьбой предназначено было всегда играть первые роли, но отказывалась понимать его. Убедившись, что всякий, кто связан с ним, переживает падения и взлеты в зависимости от его успехов, она терялась в догадках, что же такое мораль и справедливость в этом мире. Существуют как будто для всех обязательные принципы — или же люди только думают так? Но больше видишь исключений из этих правил. Ее брат, безусловно, не руководствовался такими принципами, а между тем снова шел в гору. Что же это значит? Миссис Каупервуд, бывшая жена Фрэнка, осуждала его образ действий, но охотно пользовалась всеми благами его преуспеяния. Как сочетать это с понятием этики? Каждый шаг Каупервуда, все его дела и чаяния были известны Эйлин Батлер. Вскоре после развода с женой, после неоднократных приездов в Филадельфию и отъездов в тот новый мир, где он теперь развивал свою деятельность, они однажды, в зимний день, уехали вместе. Эйлин сказала матери, пожелавшей жить у Норы, что она полюбила бывшего банкира и собирается выйти за него замуж. Старушке пришлось удовольствоваться этим объяснением и дать свое согласие. Так навсегда закончилась для Эйлин прежняя жизнь в старом, знакомом ей мирке. Теперь ее ждал Чикаго — по словам Каупервуда, суливший куда более блестящее будущее, чем то, на которое они могли рассчитывать в Филадельфии. — Правда ведь, это замечательно, что мы наконец уезжаем? — спросила она. — Во всяком случае, это разумный шаг, — отвечал Каупервуд.
Кое-что про Mycteroperca Bonaci
Существует рыба, научное название которой Mycteroperca Bonaci — в просторечии черный морской окунь; рыба эта заслуживает того, чтобы поговорить о ней в связи со всем, что было рассказано выше. Крупный, нередко достигающий двухсот пятидесяти фунтов веса, черный окунь живет долго и не ведает опасностей, ибо обладает удивительной способностью приспособляться к окружающей среде. То хитрое явление, которое мы зовем созидательной силой и наделяем духом праведности, по нашему представлению всегда устраивает жизнь в этом мире так, что в ней торжествуют честность и добродетель. Но, словно в назидание нам, природой сотворен черный морской окунь. Внимательно вглядевшись в окружающий нас мир, мы обнаружим ряд подобных ему, не менее коварных тварей: таков паук, ткущий паутину для беспечной мухи; такова прелестная Drosera (росянка), чья розовая чашечка раскрывается, улавливая существа, пленившиеся ее красотой, и затем снова смыкается, чтобы поглотить их; или радужная медуза, простирающая свои щупальца, похожие на дивные лучи северного сияния, которая терзает и жалит все живое, попавшее в эти сверкающие тиски. И человек, сам того не подозревая, роет для себя яму, сам расставляет себе тенета. Иллюзия ослепила его, и вот он уже защелкнут капканом обстоятельств. Mycteroperca, обретаясь в темных глубинах зеленых вод, служит ясным доказательством того, что созидательный гений природы лишен доброго начала, и это подтверждается на каждом шагу. Превосходство Mycteroperca над другими обитателями подводного царства заключено в почти невероятной способности к притворству, обусловленной пигментацией кожи. Преуспевшие в электромеханике, мы гордимся нашим умением в мгновение ока сменять одну великолепную картину другой, развертывать перед зрителем долгую чреду внезапно возникающих и вновь исчезающих видений. Но Mycteroperca еще более властно распоряжается своею внешностью. Тот, кто долго смотрит на эту рыбу, невольно поддается чувству, что перед ним фантастическое, сверхъестественное существо — так блистательна ее способность к обману. Из черной она мгновенно превращается в белую; землисто-бурая, вдруг окрашивается в прелестный зеленоватый цвет воды. Пятна, ее испещряющие, видоизменяются, как облака на небе. И нельзя не удивляться многообразию ее коварных уловок. Лежа в иле на дне бухты, она может уподобиться этому илу. Укрывшись под сенью пышных водорослей, она принимает их окраску. Двигаясь в полосе света, она сама кажется светом, тускло мерцающим в воде. Ее уменье уходить от преследования и нападать исподтишка поразительно. С какою же целью наделила черного окуня этой особенностью всевластная и умная природа? Чтобы казалось, будто он неспособен на коварство? Или придать ему характерную внешность, по которой его узнает любая бесхитростная и жизнелюбивая рыба? Или, может быть, при создании Mycteroperca были пущены в ход коварство, вероломство, лживость? Ведь ее можно принять за орудие обмана, за олицетворение лжи, за существо, которому назначено казаться не тем, что оно есть, изображать то, с чем оно не имеет ничего общего, добывать себе пропитание хитростью, против которой бессилен даже самый могучий враг. И такое предположение будет правильно. Можно ли, зная о существе, подобном Mycteroperca, сказать, что добрая, благодетельная, всевластная созидательная сила никогда не порождает ничего обманчивого и коварного? Или же следует допустить, что видимый мир, который нас окружает, только иллюзия? Но если так, то откуда же взялись десять заповедей, откуда взялась мнимая справедливость? Отчего люди всегда мечтали о блаженстве и какую пользу принесли им эти мечтания?Магический кристалл
Читатель, будь ты мистиком, или прорицателем, или мудрецом, посвященным в тайны заклятий, вещих снов, гаданий при помощи волшебной чаши и хрустального шара, загляни в их загадочные глубины, и ты увидишь цепь событий, ожидающих ту чету, которая сейчас, казалось, спешит навстречу новой и радостной жизни. В испарениях колдовского котла, в мерцании сияющего хрусталя тебе откроются города, города, города; мир дворцов, роскошных экипажей, драгоценностей, красоты; огромная столица, ввергнутая в бедствие по воле одного человека; великое государство, негодующее на силу, которую оно не в состоянии побороть; громадные залы, увешанные бесценными полотнами величайших мастеров; дворец, по великолепию не имеющий себе равных; все человечество, время от времени с удивлением произносящее одно имя. И — горе, горе, горе! Три ведьмы, что славили Макбета в грозу на пустыре, завидев Каупервуда, могли бы сказать: — Да славится властелин гигантской сети железных дорог! Да славится Фрэнк Каупервуд, строитель великолепнейшего из дворцов! Да славится Фрэнк Каупервуд, покровитель искусств, обладатель несметных богатств! Ты будешь возвеличен в веках! Но вещие сестры солгали бы, ибо к славе его примешался тлен от плодов Мертвого моря — разум, неспособный возгореться желанием, насытиться великолепием; сердце, давно уже утомленное житейской многоопытностью; душа, холодная, как месяц в безветренную ночь. Эйлин же они, как Макдуфу, могли бы посулить много тревог, много надежд, рассыпавшихся прахом. Иметь и не иметь! Среди богатства и роскоши тоска необладания. Блестящее общество, которое на мгновенье раскрыло перед ней свои двери, чтобы тотчас же ее отвергнуть. Любовь, облетевшая, как одуванчик, и угасшая во мраке! — Привет тебе, Фрэнк Каупервуд, безвластный властелин, князь призрачного царства! Действительность для тебя — лишь утрата иллюзий. Так могли бы вещать ведьмы; им вторили бы виденья, возникающие в испарениях колдовского котла. И все это было бы правдой. В таком начале любому разумному человеку не усмотреть иного конца.Книга II. ТИТАН
Взлёты и падения в деловой сфере преследуют главного героя романа Фрэнка Каупервуда, а пренебрежение нормами поведения общества становится еще более ярко выраженной его характерной чертой…
Глава 1
Новый город
Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд вышел из филадельфийской исправительной тюрьмы, он понял, что с прежней жизнью в родном городе покончено. Прошла молодость, а вместе с ней рассыпались прахом и его первые дерзкие финансовые замыслы. Придется все начинать сначала. Не стоит повторять рассказ о том, как новая паника, последовавшая за грандиозным банкротством фирмы «Джей Кук и К°», принесла Каупервуду новое богатство. После этой удачи его ожесточение несколько улеглось. Сама судьба, казалось, пеклась о нем. Однако карьера биржевого спекулянта внушала ему теперь непреодолимое отвращение, и он решил отказаться от нее раз и навсегда. Лучше заняться чем-нибудь другим: городскими железными дорогами, скупкой земельных участков — словом, умело использовать все безграничные возможности, которые сулит Запад. Филадельфия ему опротивела. Пусть он свободен и снова богат, но ему не избежать злословия лицемеров, так же как не проникнуть в финансовые и светские круги местного общества. Он должен идти своим путем один, ни на кого не рассчитывая, ибо если кто-нибудь из старых друзей и захочет помочь ему, то предпочтет сделать это втайне и следить за его действиями издалека. Все эти соображения побудили Каупервуда уехать. Его очаровательная любовница — ей едва исполнилось двадцать шесть лет — провожала его на перроне. Каупервуд с удовольствием смотрел на нее; она была олицетворением той красоты, которая всегда волновала его в женщинах. — Ну, до свиданья, дорогая, — сказал он ей с ободряющей улыбкой, когда раздался звонок. — Скоро все наши неприятности кончатся. Не грусти. Через две-три недели я вернусь или ты приедешь ко мне. Я бы и сейчас взял тебя с собой, но я еще не знаю, как он выглядит, этот Запад. Мы решим, где нам поселиться, и тогда ты увидишь, умею ли я добывать деньги. Не вечно же нам жить как прокаженным. Я добьюсь развода, мы поженимся, и все будет хорошо. С деньгами не пропадешь. Он посмотрел ей в глаза спокойным, испытующим взглядом, а она, сжав ладонями его лицо, воскликнула: — Как я буду скучать без тебя, Фрэнк! Ведь ты для меня все! — Через две недели я вернусь или пришлю телеграмму, — улыбаясь, повторил Каупервуд, когда поезд тронулся. — Будь умницей, детка. Она ответила ему взглядом, полным обожания; избалованное дитя, всеобщая любимица в семье, натура страстная, пылкая, преданная, — Эйлин принадлежала к тому типу женщин, который не мог не нравиться столь сильному человеку, как Каупервуд. Потом она тряхнула копной рыжевато-золотистых волос, послала ему вдогонку воздушный поцелуй и, круто повернувшись, пошла широким, уверенным шагом, слегка покачивая бедрами; все встречные мужчины заглядывались на нее. — Видал? — кивнул один станционный служащий другому. — Та самая — дочь старика Батлера. Нам бы с тобой такую, неплохо, а? То была невольная дань восторга, которую зависть и вожделение неизменно платят здоровью и красоте. А страсти эти правят миром.До этой поездки Каупервуд никогда не бывал на Западе далее Питсбурга. Финансовые операции, которыми он занимался, при всем их размахе, преимущественно протекали в косном и ограниченном мире филадельфийских дельцов, известном своей кастовостью, притязаниями на первое место в социальной иерархии и на руководящую роль в коммерческой жизни страны, своими традициями, наследственным богатством, приторной респектабельностью и теми вкусами и привычками, которые из всего этого вытекают. Он почти завоевал этот чопорный мирок, почти проник в его святая святых, он уже был всюду принят, когда разразилась катастрофа. Теперь же он — бывший каторжник, всеми отверженный, хотя и миллионер. «Но погодите! В беге побеждает тот, кто проворней всех, — твердил он себе. — В борьбе — самый ловкий и сильный. Еще посмотрим, кто кого одолеет. Не так-то просто его растоптать». Чикаго открылся его взору внезапно на вторые сутки. Каупервуд провел две ночи среди аляповатой роскоши пульмановского вагона тех времен, в котором неудобства возмещались плюшевыми обивками и изобилием зеркального стекла; наконец под утро стали появляться первые уединенные форпосты столицы прерий. Путей становилось все больше и больше, а паутина проводов на мелькавших в окне телеграфных столбах делалась все гуще и плотнее. На подступах к городу там и сям торчали одинокие домишки рабочих — жилище какого-нибудь предприимчивого смельчака, поставившего свою лачугу на голом месте в надежде пусть на маленький, но верный доход, который принесет ему этот клочок земли, когда город разрастется. Вокруг стлалась гладкая, как скатерть, равнина со скудной порослью порыжевшей прошлогодней травы, слабо колыхавшейся на утреннем ветру. Но местами пробивалась и молодая зелень — знамя наступающего обновления, предвестник весны. Воздух в этот день был необычайно прозрачен, и сквозь его чистый хрусталь неясные очертания далекого города проступали словно контуры мухи в янтаре, волнуя путника тонким изяществом рисунка. Коллекция картин, собранная Каупервудом и затем пущенная с молотка в Филадельфии, доставила ему столько радостей и огорчений, что он пристрастился к живописи, решил стать настоящим знатоком и научился понимать красоту, когда встречал ее в жизни. Железнодорожные колеи разветвлялись все шире. На путях стояли тысячи товарных вагонов, желтых, красных, синих, зеленых, белых, пригнанных сюда со всех концов страны. В Чикаго, вспомнилось Каупервуду, словно меридианы к полюсу, сходятся тридцать железнодорожных линий. Низенькие деревянные одноэтажные и двухэтажные домики, как видно недавно отстроенные и часто даже неоштукатуренные, были уже покрыты густым слоем копоти, а порою и грязи. У переездов, где скапливались вагоны конки, фургоны, пролетки с налипшей на колесах глиной, внимание Каупервуда привлекли прямые, немощеные улицы, неровные, в ямах и выбоинах тротуары: тут — ступеньки и аккуратно утрамбованная площадка перед домом, там — длинный настил из досок, брошенных прямо в грязь девственной прерии. Ну и город! Внезапно показался рукав грязной, кичливой и самонадеянной речонки Чикаго. По ее черной маслянистой воде, пофыркивая, бойко сновали буксиры, вдоль берегов возвышались красные, коричневые, зеленые элеваторы, огромные желто-рыжие штабели леса и черные горы антрацита. Жизнь тут била ключом — он это сразу почувствовал. Строящийся город бурлил и кипел. Даже воздух здесь, казалось, был насыщен энергией, и Каупервуду это пришлось по душе. Как тут все непохоже на Филадельфию! Тот город тоже по-своему хорош, и когда-то он представлялся Каупервуду огромным волшебным миром, но этот угловатый молодой великан при всем своем безобразии был неизмеримо лучше. В нем чувствовались сила и дерзание юности. Поезд остановился, пока разводили мост, чтобы пропустить в оба направления с десяток груженных лесом и зерном тяжелых барж, и в ярком блеске утреннего солнца, лившегося в просвет между двумя грудами каменного угля, Каупервуд увидел у стены лесного склада группу отдыхавших на берегу ирландских грузчиков. Бронзовые от загара, могучие здоровяки в красных и синих жилетках, подпоясанные широкими ремнями, с короткими трубками в зубах — они были великолепны. «Чем это они мне так понравились?» — подумал Каупервуд. Каждый уголок этого грубого, грязного города был живописен. Все здесь, казалось, пело. Мир был молод. Жизнь создавала что-то новое. Да стоит ли вообще ехать дальше на северо-запад? Впрочем, это он решит после. А пока ему надо навестить нескольких влиятельных чикагских дельцов, к которым у него имелись рекомендательные письма. Нужно встретиться и потолковать со здешними банкирами, хлеботорговцами, комиссионерами. Его интересовала чикагская фондовая биржа; все тонкости биржевых махинаций он знал насквозь, а в Чикаго заключались самые крупные сделки на хлеб. Прогремев по задворкам невзрачных домишек, поезд, наконец, остановился у одного из многочисленных дощатых перронов. Под грохот выгружаемых сундуков и чемоданов, пыхтение паровозов, гомон снующих взад и вперед пассажиров Каупервуд выбрался на Канал-стрит и подозвал кэб, — они стояли здесь целой вереницей, свидетельствуя о том, что Чикаго — город отнюдь не провинциальный. Каупервуд велел везти себя в «Грэнд-Пасифик». Это была самая дорогая гостиница, где останавливались только состоятельные люди, и потому он уже заранее решил избрать именно ее. Дорогой он внимательно рассматривал улицы, словно картины, которые хотел бы купить. Навстречу ему попадались желтые, голубые, зеленые, белые и коричневые вагончики конки; их тащили, позвякивая колокольчиками, заморенные, худые, как скелет, клячи, и это зрелище позабавило Каупервуда. Вагончики были совсем дрянные — просто ярко размалеванные фанерные ящики с вставленными в них стеклами и приделанными кое-где блестящими медными побрякушками, но он понимал, что, когда город разрастется, на конке можно будет нажить миллионы. Городские железные дороги были его призванием. Ни маклерские операции, ни банкирская контора, ни даже крупная игра на бирже не привлекали его так, как городские железные дороги, открывавшие широчайшие возможности для хитроумных манипуляций.
Глава 2
Разведка
Чикаго — город, с развитием которого так неразрывно будет связана судьба Фрэнка Алджернона Каупервуда! Кому достанутся лавры завоевателя этой Флоренции Западных штатов? Город, подобный ревущему пламени, город — символ Америки, город-поэт в штанах из оленьей кожи, суровый, неотесанный Титан, Берне среди городов! На берегу мерцающего озера лежит этот город-король в лохмотьях и заплатах, город-мечтатель, ленивый оборванец, слагающий легенды, — бродяга с дерзаниями Цезаря, с творческой силой Еврипида. Город-бард — о великих чаяниях и великих достижениях поет он, увязнув грубыми башмаками в трясине обыденного. Гордись своими Афинами, о Греция! Италия, восхваляй свой Рим! Перед нами Вавилон, Троя, Ниневия нового века! Сюда, дивясь всему, исполненные надежд, шли переселенцы из Западных штатов и Восточных. Здесь голодные и алчущие труженики полей и фабрик, носясь с мечтой о необыкновенном и несбыточном, создали себе столицу, сверкающую кичливой роскошью среди грязи. Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Хемпшира, Мэна стекался сюда странный, разношерстный люд; решительные, терпеливые, упорные, едва затронутые цивилизацией, все эти пришельцы жаждали чего-то, но не умели постичь подлинной ценности того, что им давалось, стремились к славе и величию, не зная, как их достигнуть. Сюда шел фантазер-мечтатель, лишившийся своего родового поместья на Юге; исполненный надежд питомец Йельского, Гарвардского или Принстонского университета; вольнолюбивый рудокоп Калифорнии и Скалистых гор, с мешочком серебра или золота в руках. Уже стали появляться и растерянные иностранцы — венгры, поляки, шведы, немцы, русские. Смущенные незнакомой речью, опасливо поглядывая на своего соседа чуждой национальности, они селились колониями, чтобы жить среди своих. Здесь были проститутки, мошенники, шулеры, искатели приключений par excellence![27] Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горстка местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов, звенели банджо, цитры и мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекались самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века и пировали всласть в этом чудо-городе — центре Западных штатов.В Чикаго Каупервуд прежде всего отправился к одному из наиболее видных дельцов — председателю правления крупнейшего в городе банка, «Лейк-Сити Нейшнл», вклады которого превышали четырнадцать миллионов долларов. Банк помещался на Дирборн-стрит, в Мунро, всего в двух-трех кварталах от гостиницы, где остановился Каупервуд. — Узнайте, кто этот человек, — приказал мистер Джуд Эддисон, председатель правления, своему секретарю, увидев входившего в приемную Каупервуда. Кабинет был устроен так, что мистер Эддисон, не вставая из-за своего письменного стола, мог видеть сквозь внутреннее окно всякого, кто входил к нему в приемную, прежде чем тот видел его, и волевое, энергическое лицо Каупервуда сразу привлекло к себе внимание банкира. Каупервуд в любых обстоятельствах умел держаться уверенно и непринужденно, чему немало способствовало его длительное и тесное общение с миром банковских дельцов и прочих финансовых воротил. Для своих тридцати шести лет он был на редкость проницателен и умудрен житейским опытом. Любезный, обходительный, он вместе с тем всегда умел поставить на своем. Особенно обращали на себя внимание его глаза — красивые, как глаза ньюфаундленда или шотландской овчарки, и такие же ясные и подкупающие. Взгляд их был то мягок и даже ласков, исполнен сочувствия и понимания, то вдруг твердел и, казалось, метал молнии. Обманчивые глаза, непроницаемые и в то же время чем-то влекущие к себе людей самого различного склада. Секретарь, выполнив распоряжение, вернулся с рекомендательным письмом, а следом за ним вошел и сам Каупервуд. Мистер Эддисон невольно привстал — он делал это далеко не всегда. — Рад познакомиться с вами, мистер Каупервуд, — учтиво произнес он. — Я обратил на вас внимание, как только вы вошли в приемную. У меня тут, видите ли, окна устроены так, чтобы я мог все обозревать. Присядьте, пожалуйста, может быть вы не откажетесь от хорошего яблочка? — Он выдвинул левый ящик стола, вынул оттуда несколько блестящих красных яблок и протянул одно из них Каупервуду. — Я каждое утро съедаю по яблоку. — Нет, благодарю вас, — вежливо отвечал Каупервуд, внимательно приглядываясь к нему и стараясь распознать характер этого человека и глубину его ума. — Я никогда не ем между завтраком и обедом, премного благодарен. В Чикаго я проездом, но решил, не откладывая, явиться к вам с этим письмом. Я полагаю, что вы не откажетесь рассказать мне вкратце о вашем городе. Я ищу, куда бы повыгоднее поместить капитал. Пока Каупервуд говорил, Эддисон, грузный, коренастый, краснощекий, с седеющими каштановыми бакенбардами, пышно разросшимися до самых ушей, и колючими серыми блестящими глазками, — благополучный, самодовольный, важный, — жевал яблоко и задумчиво разглядывал посетителя. Эддисон, как это нередко бывает, привык с первого взгляда составлять себе мнение о том или ином человеке и гордился своим знанием людей. Как ни странно, но этот расчетливый делец с удивительным для него легкомыслием сразу пленился Каупервудом, личностью куда более сложной, чем он сам, — и не потому, что Дрексел писал о нем, как о «бесспорно талантливом финансисте», который, обосновавшись в Чикаго, может принести пользу городу, — нет, Эддисона загипнотизировали необыкновенные глаза Каупервуда. Несмотря на его внешнюю сухость, в Каупервуде было что-то располагающее, и банкир не остался к этому нечувствителен; оба они, в сущности, были что называется себе на уме — только филадельфиец обладал умом, дальновидностью и коварством в несравненно больших размерах. Эддисон, усердный прихожанин своей церкви и примерный гражданин на взгляд местных обывателей, был, попросту говоря, ханжа. Каупервуд же всегда брезговал носить такую маску. Каждый из них стремился взять от жизни все, что мог, и каждый на свой лад был жесток и беспощаден. Но Эддисон не мог тягаться с Каупервудом, ибо им всегда владел страх: он боялся, как бы жизнь не выкинула с ним какой-нибудь штуки. Его собеседнику этот страх был неведом. Эддисон умеренно занимался благотворительностью, внешне во всем придерживался тупой, общепринятой рутины, притворялся, что любит свою жену, которая ему давно опостылела, и тайком предавался незаконным утехам. Человек же, сидевший сейчас перед ним, не придерживался никаких установленных правил, не делился своими мыслями ни с кем, кроме близких ему лиц, которые всецело находились под его влиянием, и поступал только так, как ему заблагорассудится. — Видите ли, мистер Каупервуд, — сказал Эддисон, — мы здесь, в Чикаго, такого высокого мнения о наших возможностях, что иной раз боишься сказать то, что думаешь, — боишься, как бы тебя не сочли чересчур самонадеянным. Наш город — вроде как младший сын в семье, который уверен, что он всех может заткнуть за пояс, да не хочет пробовать свои силы до поры до времени. Его нельзя назвать красавцем — он угловат, как все подростки, — но мы знаем, что он еще выравняется. Каждые полгода этот молодчик вырастает из своих штанов и башмаков, из своей шапки и курточки и не может поэтому выглядеть франтом, но под неказистой одеждой у него крепкие кости и упругие мускулы, и вы не замедлите убедиться в этом, мистер Каупервуд, как только присмотритесь к нему поближе. Вы поймете, что внешность большой роли не играет. Круглые глазки мистера Эддисона сузились, взгляд его на мгновение стал еще более колючим. В голосе зазвучали металлические нотки. Каупервуд понял, что Эддисон поистине влюблен в свой город: Чикаго был ему дороже всякой любовницы. Вокруг глаз банкира побежали лучистые морщинки, рот обмяк, и лицо расплылось в улыбке. — Рад буду поделиться с вами всем, что знаю, — продолжал он. — У меня есть о чем порассказать. Каупервуд поощрительно улыбнулся в ответ. Он стал расспрашивать о развитии различных отраслей промышленности, о состоянии торговли и ремесел. Обстановка здесь была иная, нежели в Филадельфии. В Чикаго чувствовалось больше широты, больше простора. Стремление к росту, к использованию всех местных возможностей было типичным для Западных штатов, что уже само по себе нравилось Каупервуду, хотя он и не решил, стоит или не стоит принять участие в этой деятельной жизни. Но так или иначе, она благоприятствовала его планам. Каупервуду предстояло еще избавиться от клейма бывшего арестанта и освободиться от жены и двоих детей; только юридически, разумеется, — у него не было намерения бросить их на произвол судьбы. Деятельный, молодой и смелый Средний Запад скорее мог простить ему ту дерзость, с какою он игнорировал современный кодекс морали и отказывался ему подчиняться. «Мои желания — прежде всего» — было девизом Каупервуда, но чтобы жить согласно этому девизу, необходимо было преодолевать предрассудки других и уметь противостоять им. Каупервуд почувствовал, что сидящий перед ним банкир если и не стал воском в его руках, то все же склонен вступить с ним в дружеские и весьма полезные для него отношения. — Ваш город произвел на меня очень благоприятное впечатление, мистер Эддисон, — помолчав, сказал Каупервуд, прекрасно сознавая, впрочем, что его слова не вполне соответствуют истине; он не был уверен, что у него когда-нибудь хватит духу обосноваться среди этих строительных лесов и котлованов. — Я видел его лишь из окна вагона, но мне понравилось, что жизнь здесь у вас бьет ключом. По-моему, у Чикаго большое будущее. — Вы, насколько я понимаю, прибыли через форт Уэйн и, следовательно, видели худшую часть города, — сказал мистер Эддисон спесиво. — Разрешите мне показать вам более благоустроенные кварталы. Кстати, где вы остановились? — В «Грэнд-Пасифик». — И долго рассчитываете пробыть в Чикаго? — Дня два, не больше. — Позвольте, — мистер Эддисон вынул из кармана часы. — Вы не откажетесь, вероятно, познакомиться кое с кем из наиболее влиятельных людей нашего города? Мы все обычно завтракаем в клубе «Юнион-Лиг». У нас там свой кабинет. Если вы ничего не имеете против, пойдемте со мной. Я собираюсь туда к часу дня, и мы, несомненно, застанем там кого-нибудь из наших коммерсантов, крупных предпринимателей, судей и адвокатов. — Вот и отлично, — сразу согласился филадельфиец. — Вы очень любезны. Я непременно буду сегодня в клубе «Юнион-Лиг». Но раньше мне хотелось бы повидаться еще кое с кем… — Каупервуд поднялся и взглянул на свои часы. — Кстати, вы не могли бы указать мне, где находится контора «Арнил и К°»? При имени этого богача, оптового торговца мясом и одного из крупнейших вкладчиков его банка, Эддисон одобрительно закивал головой. В столь молодом еще дельце — Каупервуд был по меньшей мере лет на восемь моложе его самого — банкир сразу почуял будущего финансового магната. После свидания с мистером Арнилом — осанистым, величественным, настороженно-неприязненным — и беседы с изворотливым и хитрым директором биржи Каупервуд отправился в клуб «Юнион-Лиг». Там он застал довольно пестрое общество: люди самых разных возрастов — от тридцати пяти до шестидесяти пяти лет — завтракали за большим столом в отдельном кабинете, обставленном массивной резной мебелью из черного ореха; со стен на них смотрели портреты именитых чикагских горожан, а окна пестрели цветными стеклами — своеобразное притязание на художественный вкус. Среди сидевших за столом были люди дородные и тощие, высокие и приземистые, темноволосые и блондины; очертанием скул и выражением глаз некоторые напоминали тигра или рысь, другие — медведя, третьи — лисицу; попадались угрюмые бульдожьи физиономии и лица снисходительно-величественные, смахивавшие на морды английских догов. Только слабых и кротких не было в этой избранной компании. Мистер Арнил и мистер Эддисон — проницательные, изворотливые и целеустремленные дельцы — понравились Каупервуду. Помимо них, его заинтересовал Энсон Мэррил — маленький, сухопарый, изысканно вежливый человечек, утонченный облик которого, казалось, свидетельствовал о праздной жизни нескольких поколений и невольно наводил на мысль о поместьях и ливрейных лакеях. Эддисон шепнул Каупервуду, что это знаменитый мануфактурный король и крупнейший оптово-розничный торговец в Чикаго. Другой знаменитостью, остановившей на себе внимание Каупервуда, был мистер Рэмбо, железнодорожный магнат и начинатель этого дела в Чикаго. Обращаясь к нему, Эддисон сказал с веселой улыбкой: — Мистер Каупервуд прибыл сюда из Филадельфии, горя желанием оставить у нас часть своего капитала. Вот вам удобный случай сбыть с рук ту никудышную землю, которую вы скупили на Северо-Западе. Рэмбо, бледный, худощавый, с черной бородкой и быстрыми точными движениями, одетый, как успел заметить Каупервуд, с большим вкусом, чем другие, внимательно оглядел его и учтиво улыбнулся сдержанной, непроницаемой улыбкой. В ответ он встретил взгляд, надолго оставшийся у него в памяти. Глаза Каупервуда говорили красноречивее слов. И мистер Рэмбо, вместо того чтобы отделаться ничего незначащей шуткой, решил рассказать ему кое-что о Северо-западе. Быть может, это заинтересует филадельфийца. Для человека, только что вышедшего из трудной схватки с жизнью, испытавшего на себе все проявления благонамеренности и двоедушия, сочувствия и вероломства со стороны тех, кто в каждом американском городе вершит все дела, — для такого человека отношение к нему заправил другого города значит и очень много и почти ничего. Каупервуд уже давно пришел к мысли, что человеческая природа, вне зависимости от климата и всех прочих условий, везде одинакова. Самой примечательной чертой рода человеческого было, по его мнению, то, что одни и те же люди, смотря по времени и обстоятельствам, могли быть великими и ничтожными. В редкие минуты досуга Каупервуд — если только он и тут не был погружен в практические расчеты — любил поразмыслить над тем, что же такое, в сущности, жизнь. Не будь он по призванию финансистом и к тому же оборотистым предпринимателем, он мог бы стать философом крайне субъективистского толка, хотя занятия философией неизбежно должны были казаться человеку его склада довольно никчемными. Призвание Каупервуда, как он его понимал, было в том, чтобы манипулировать материальными ценностями, или, точнее, их финансовыми эквивалентами, и таким путем наживать деньги. Он явился сюда с целью изучить основные нужды Среднего Запада, — иными словами, с целью прибрать к рукам, если удастся, источники богатства и могущества и тем самым упрочить свое положение. У дельцов, с которыми он встретился утром, Каупервуд успел почерпнуть нужные ему сведения о чикагских бойнях, о доходах железнодорожных и пароходных компаний, о чрезвычайном вздорожании земельных участков и всякого рода недвижимости, об огромном размахе спекуляции зерном, о растущих барышах владельцев отелей и скобяных лавок. Он услышал о деятельности различных промышленных компаний: одна из них строила элеваторы, другая — ветряные мельницы, третья выпускала вагоны, четвертая — сельскохозяйственные машины, пятая — паровозы. Любая новая отрасль промышленности находила для себя благодатную почву в Чикаго. Из беседы с одним из членов правления Торговой палаты, к которому у него тоже имелось рекомендательное письмо, Каупервуд узнал, что на чикагской бирже почти не ведется операций с местными акциями. Сделки заключались главным образом на пшеницу, маис и всякого рода зерно. Акциями же предприятий Восточных штатов местные дельцы оперировали только на нью-йоркской бирже, используя для этой цели арендованные телеграфные линии. Присматриваясь к этим людям, — все они были чрезвычайно учтивы и любезны, и каждый, тая про себя свои обширные замыслы и планы, ограничивался лишь общими, ни к чему не обязывающими замечаниями, — Каупервуд думал о том, как он будет принят в этой компании. На его пути стояло немало препятствий. Никто из этих господ, которые были с ним так предупредительны, не знал, что он недавно вышел из тюрьмы. В какой мере могло это обстоятельство повлиять на их отношение к нему? Никто из них не знал также, что он оставил жену и двоих детей и добивался развода, чтобы сочетаться браком с некоей молодой особой, уже присвоившей себе фактически роль его супруги. — Так вы серьезно намерены побывать на Северо-Западе? — с нескрываемым интересом спросил под конец завтрака мистер Рэмбо. — Да, я думаю съездить туда, как только покончу здесь с делами. — В таком случае разрешите познакомить вас с людьми, которые могут быть вашими попутчиками. Большинство из них — здешние жители, но есть и несколько приезжих из Восточных штатов. Мы едем в четверг специальным вагоном, одни до Фарго, другие до Дулута. Буду очень рад, если вы присоединитесь к нам. Сам я еду до Миннеаполиса. Каупервуд принял предложение и поблагодарил. Затем последовала обстоятельная беседа о пшенице, скоте, строевом лесе, стоимости земельных участков, о неограниченных возможностях для открытия новых предприятий — словом, обо всем, чем манил к себе дельцов Северо-Запад. Разговор вертелся главным образом вокруг городов Фарго, Миннеаполиса и Дулута; обсуждались перспективы их промышленного роста, дальнейшего размещения капитала. Мистер Рэмбо, которому принадлежали железные дороги, уже изрезавшие вдоль и поперек этот край, твердо верил в его будущее. Каупервуд, с полуслова улавливая и запоминая все, что ему было нужно, получал весьма ценные сведения. Городские железные дороги, газ, банки и спекуляция земельными участками — вот что всегда и везде особенно привлекало к себе его внимание. Наконец он ушел, так как ему предстояло еще несколько деловых встреч, но впечатление, произведенное его личностью, не изгладилось с его уходом. Мистер Эддисон, например, и мистер Рэмбо были искренне убеждены в том, что такого интересного человека им давно не приходилось встречать. А ведь он почти ничего не говорил — только слушал.
Глава 3
Вечер в Чикаго
Посетив Эддисона в банке и отобедав затем запросто у него дома, Каупервуд пришел к выводу, что с этим финансистом не следует кривить душой. Эддисон был человеком влиятельным, с большими связями. К тому же он положительно нравился Каупервуду. И вот, побывав, по совету мистера Рэмбо в Фарго, Каупервуд на пути в Филадельфию снова заехал в Чикаго и на другой же день с утра отправился к Эддисону, чтобы рассказать ему, смягчив, разумеется, краски, о своих филадельфийских злоключениях. От Каупервуда не укрылось впечатление, произведенное им на банкира, и он надеялся, что мистер Эддисон посмотрит на его прошлое сквозь пальцы. Он рассказал, как филадельфийский суд признал его виновным в растрате и как он отбыл срок наказания в Восточной исправительной тюрьме. Упомянул также о предстоящем ему разводе и о своем намерении вступить в новый брак. Эддисон, человек не столь сильной воли, хотя по-своему тоже достаточно упорный, подивился смелости Каупервуда и его уменью владеть собой. Сам он никогда не отважился бы на такую отчаянную авантюру. Эта драматическая повесть взволновала его воображение. Он видел перед собой человека, который, по-видимому, еще так недавно был унижен и втоптан в грязь, и вот он уже снова на ногах — сильный, решительный, уверенный в себе. Банкир знал в Чикаго многих, весьма почтенных и уважаемых горожан, чье прошлое не выдержало бы слишком пристального изучения. Однако никого это не беспокоило. Некоторые из этих людей принадлежали к наиболее избранному обществу, другие не имели в него доступа, но все же обладали большим весом и влиянием. Почему же не датьКаупервуду возможности начать все сначала? Банкир снова внимательно поглядел на гостя; крепкий торс, красивое, холеное лицо с маленькими усиками, холодный взгляд… Мистер Эддисон протянул Каупервуду руку. — Мистер Каупервуд, — сказал он, тщательно подбирая слова, — не буду говорить, как я польщен доверием, которое вы мне оказали. Я все понял и рад, что вы обратились ко мне. Не стоит больше толковать об этом. Когда я впервые увидел вас у себя, я почувствовал, что вы — человек незаурядный. Теперь я в этом убедился. Вам не нужно оправдываться передо мной. Я, как-никак, недаром пятый десяток живу на свете — жизнь меня кое-чему научила. Вы всегда будете желанным гостем в моем доме и почетным клиентом в моем банке. Посмотрим, как сложатся обстоятельства, будущее само подскажет нам, что следует предпринять. Я был бы рад, если бы вы поселились в Чикаго, хотя бы уже потому, что вы сразу пришлись мне по душе. Если вы решите обосноваться здесь, я уверен, что мы будем полезны друг другу. А теперь — не думайте больше о прошлом, я же, со своей стороны, никогда и ни при каких обстоятельствах не стану о нем упоминать. Вам еще предстоит борьба, я желаю вам удачи и готов оказать всяческую поддержку, поскольку это в моих силах. Итак, забудьте о том, что вы мне рассказали, и, как только ваши семейные дела уладятся, приезжайте в гости и познакомьте нас с вашей женой.Покончив с делами, Каупервуд сел в поезд, отправлявшийся в Филадельфию. — Эйлин, — сказал он своей возлюбленной, встречавшей его на вокзале, — по-моему, Запад — это то, что нам с тобой нужно. Я проехал вплоть до Фарго и побывал даже в его окрестностях, но нам, пожалуй, не стоит забираться так далеко. Кроме пустынных прерий и индейцев, мне ничего не удалось там обнаружить. Что бы ты сказала, Эйлин, — добавил он шутливо, — если бы я поселил тебя в дощатой хибарке и кормил гремучими змеями на завтрак и сусликами на обед? Пришлось бы это тебе по вкусу? — Конечно! — весело отвечала она, крепко сжимая его руку. — Если бы ты это выдержал, так выдержала бы и я. С тобой я поеду хоть на край света, Фрэнк. Я закажу себе красивый индейский наряд, весь разукрашенный бусами и кусочками кожи, и головной убор из перьев — ну, знаешь, такой, как они носят, — и… — Так я и знал! Ты верна себе! Главное — туалеты, даже в дощатой лачуге. Ничего с тобой не поделаешь. — Ты бы очень скоро разлюбил меня, если бы я не заботилась о туалетах, — смеясь, отвечала Эйлин. — Ох, как я рада, что ты вернулся! — Беда в том, — улыбаясь, продолжал Каупервуд, — что места эти не кажутся мне столь многообещающими, как Чикаго. Придется нам, как видно, поселиться в этом городе. Правда, часть капитала я разместил в Фарго, — значит, время от времени нужно будет наведываться и туда, но обоснуемся мы все-таки в Чикаго. Я не хочу никуда больше ездить один. Мне это надоело, — он сжал ее руку. — Если нам не удастся вскоре добиться развода, я просто представлю тебя в обществе как мою жену, вот и все. — А что, от Стеджера нет известий? — спросила Эйлин. Стеджер, поверенный Каупервуда, добивался у миссис Каупервуд согласия на развод. — Нет, ни слова. — Дурной признак, верно? — вздохнула Эйлин. — Ничего, не огорчайся. Могло быть и хуже. Каупервуду вспомнились дни, проведенные в филадельфийской тюрьме, и Эйлин подумала о том же. Затем он принялся рассказывать ей о Чикаго, и они решили при первой возможности переселиться туда, в этот западный город. О последующих событиях в жизни Каупервуда скажем вкратце. Прошло около трех лет, прежде чем он, покончив, наконец, со своими делами в Филадельфии, окончательно переселился в Чикаго. Эти годы были заполнены поездками из Восточных штатов в Западные и обратно. Сначала Каупервуд бывал главным образом в Чикаго, но затем стал все чаще наведываться в Фарго, где Уолтер Уэлпли, его секретарь, руководил строительством торгового квартала, прокладкой линии городской железной дороги и организацией ярмарки. Все эти многообразные начинания объединялись в одном предприятии, именовавшемся Строительной и транспортной компанией, во главе которой стоял Фрэнк Алджернон Каупервуд. На мистера Харпера Стеджера, филадельфийского адвоката Каупервуда, было возложено заключение контрактов. Поселившись на некоторое время в Чикаго, Каупервуд снял номер в отеле «Тремонт», ограничиваясь пока что, — ввиду ложного положения Эйлин, — лишь краткими деловыми встречами с теми влиятельными лицами, с которыми он свел знакомство в свой первый приезд. Он внимательно приглядывался к чикагским биржевым маклерам, подыскивая солидного компаньона, уже имеющего свою контору, человека не слишком притязательного и честолюбивого, который согласился бы посвятить его в дела чикагской биржи и ее заправил и ввел бы в курс местной деловой жизни. Как-то раз, отправляясь в Фарго, Каупервуд взял с собой Эйлин, и она свысока, с беспечной и скучающей миной смотрела на молодой, строящийся город. — Нет, ты только взгляни, Фрэнк! — воскликнула Эйлин, увидав простое бревенчатое здание четырехэтажной гостиницы. Длинная, неказистая улица в торговом квартале, где склады кирпича уныло перемежались со складами лесоматериалов, произвела на нее удручающее впечатление. Не лучше были и другие части города. Вдоль немощеных улиц зияли пустотой каркасы недостроенных домов. — Неужели ты всерьез думал поселиться здесь? — Эйлин, разряженная, как всегда, в пух и прах, тщеславная, самоуверенная, в модном щегольском костюме, являла странный контраст с озабоченными, суровыми, равнодушными к своей внешности жителями этого нового, буйно растущего города. Эйлин недоумевала, где же она будет блистать, когда, наконец, пробьет ее час? Допустим даже, что Фрэнк страшно разбогатеет, станет куда богаче, чем был когда-то. Какой ей от этого прок здесь? В Филадельфии до своего банкротства, когда никто еще не подозревал о ее связи с ним, он начал было устраивать блестящие приемы. Будь она в то время его женой, ее бы с распростертыми объятиями приняло избранное филадельфийское общество. Но здесь, в этом городишке… Боже милостивый! Эйлин с отвращением сморщила свой хорошенький носик. — Какая мерзкая дыра! — больше у нее ничего не нашлось сказать о самом молодом, самом кипучем городе Запада. Зато Чикаго, с его шумной и день ото дня все более суетливой жизнью, пришелся ей по душе. Каупервуд хотя и был всецело поглощен своими финансовыми махинациями, все же не забывал и об Эйлин — заботился о том, чтобы она не скучала в одиночестве. Он просил ее ездить по магазинам и покупать все, что вздумается, а потом рассказывать ему о том, что она видела, и Эйлин делала это с превеликим удовольствием — разъезжала по городу в открытом экипаже, нарядная, красивая, в широкополой коричневой шляпе, выгодно оттенявшей ее бело-розовую кожу и червонное золото волос. Иногда вечерами Каупервуд возил ее кататься по главным улицам города. Когда Эйлин впервые увидела простор и богатство Прери-авеню, Норс-Шор-Драйв, Мичиган авеню и новые, окруженные зелеными газонами, особняки на бульваре Эшленд, она точно так же, как и Каупервуд, почувствовала, что по жилам у нее пробежал огонек, — мечты, надежды, дерзания этого города зажгли ей кровь. Все эти роскошные дворцы были отстроены совсем недавно. И все заправилы Чикаго, подобно ее Фрэнку, лишь недавно стали богачами. Эйлин как будто даже забыла о том, что она еще не жена Каупервуда, и чувствовала себя его законной супругой. Улицы, окаймленные красивыми тротуарами из желтовато-коричневых плит, обсаженные молодыми деревцами; зеленые, гладко подстриженные газоны; серые, посыпанные скрипучим щебнем мостовые; чуть колеблемые июньским ветерком кружевные занавеси в окнах, защищенных от солнца пестрыми полотняными маркизами, — все это волновало воображение Эйлин. Как-то раз они катались по берегу озера, и она, глядя на молочно-голубую с зеленоватым отливом воду, на чаек, на белеющие вдали паруса и новые нарядные дома вдоль берега, мечтала о том, что когда-нибудь станет хозяйкой одного из таких великолепных особняков. О, как важно будет она себя держать тогда, как роскошно одеваться! Они построят себе шикарный дом, в сто раз лучше того, что был у Фрэнка в Филадельфии. Дом-дворец, с огромным бальным залом и огромной столовой, и они с Фрэнком будут давать в нем балы и обеды и как равные равных принимать у себя всех чикагских богачей! — Как ты думаешь, Фрэнк, будет у нас когда-нибудь такой же красивый дом? — спросила она, изнемогая от зависти. — Вот слушай, что я надумал, — отвечал Каупервуд. — Если тебе нравится этот район, мы купим участок на Мичиган авеню, но строиться подождем. А как только в Чикаго у меня появятся прочные связи и я решу, чем мне тут заняться, мы построим себе прекрасный дом, будь покойна. Прежде всего нужно уладить это дело с разводом и тогда уж начинать новую жизнь. А до тех пор, если мы хотим обосноваться здесь, нам лучше не привлекать к себе внимания. Ты согласна со мной? Время близилось к шести часам, ослепительный летний день еще не начал угасать, но зной спал, тень от домов на западной стороне улицы легла на мостовую, и воздух был теплый и ароматный, как подогретое вино. По улице длинной вереницей катились нарядные экипажи — катанье было любимой утехой чикагского «света» и для многих едва ли не единственной возможностью щегольнуть своим богатством (социальные прослойки города определились еще не достаточно четко). В позвякивании упряжи — металлической, серебряной и даже накладного золота — слышался голос успеха или упования на успех. По этой улице, одной из главных артерий города, — Виа Аппиа его южной части, — спешили домой из деловых кварталов, с фабрик и из контор все ретивые охотники за наживой. Богатые горожане, лишь изредка встречавшиеся друг с другом на деловой почве, обменивались любезными поклонами. Нарядные дамы и молодые щеголи, дочери и сыновья чикагских богачей, или их красавицы-жены — в кабриолетах, колясках и новомодных ландо устремлялись к деловой части города, чтобы отвезти домой утомившихся за хлопотливый день мужей или отцов, друзей или родственников. Здесь царила атмосфера успеха, надежд, беспечности и того самоуспокоения, которое порождается материальными благами, их обладанием. Послушные выхоленные чистокровные рысаки проносились, обгоняя друг друга, по длинной, широкой, окаймленной газонами улице, мимо роскошных особняков, самодовольно кичливых, выставляющих напоказ свое богатство. — О-о! — вскричала Эйлин при виде всех этих сильных, уверенных в себе мужчин, красивых женщин, элегантных молодых людей и нарядных девиц, улыбающихся, веселых, обменивающихся поклонами, всего этого удивительного и показавшегося ей столь романтическим мира. — Я бы хотела жить в Чикаго. По-моему, здесь даже лучше, чем в Филадельфии. При упоминании о городе, где он, несмотря на всю свою изворотливость, потерпел крах, Каупервуд крепко стиснул зубы, и его холеные усики, казалось, приобрели еще более вызывающий вид. Пара, которой он правил, была поистине бесподобна — тонконогие, нервные животные, избалованные и капризные. Каупервуд терпеть не мог жалких непородистых кляч. Когда он правил, держась очень прямо, в нем виден был знаток и любитель лошадей, и его сосредоточенная энергия как бы передавалась животным. Эйлин сидела рядом с ним, тоже выпрямившись, горделивая и самодовольная. — Правда, недурна? — заметила одна из дам, когда коляска Каупервуда поравнялась с ее экипажем. «Что за красотка!» — думали мужчины, и некоторые даже выражали эту мысль вслух. — Видела ты эту женщину? — восторженно спросил один мальчик-подросток у своей сестры. — Будь покойна, Эйлин, — сказал Каупервуд с той железной решимостью, которая не допускает и мысли о поражении, — мы тоже найдем свое место здесь. Верь мне, у тебя в Чикаго будет все, что ты пожелаешь, и даже больше того. Все его существо в эту минуту, казалось, излучало энергию, и она, словно электрический ток, передавалась от кончиков его пальцев — через вожжи — лошадям, заставляя их бежать все резвее. Кони горячились и фыркали, закидывая головы. У Эйлин распирало грудь от обуревавших ее желаний, надежд, тщеславия. О, скорей бы стать миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, хозяйкой роскошного особняка здесь, в Чикаго! Рассылать приглашения, которыми никто не посмеет пренебречь, приглашения, равносильные приказу! «Ах, если бы… — вздохнула она про себя. — Если бы все это уже сбылось… скорей бы!» Так жизнь, возведя человека на вершину благополучия, продолжает и там дразнить и мучить его. Впереди всегда остается что-то недосягаемое, вечный соблазн и вечная неудовлетворенность. О жизнь, надежды, юные года! Мечты крылатые! Все сгинет без следа.
Глава 4
«Питер Лафлин и К°»
Компаньон, которого в конце концов подыскал себе Каупервуд в лице опытного старого маклера Торговой палаты Питера Лафлина, не оставлял желать ничего лучшего. Лафлин, длинный, как жердь, сухопарый старик, большую часть жизни провел в Чикаго, куда он явился еще совсем мальчишкой из штата Миссури. Это был типичный чикагский маклер старой школы, очень напоминавший лицом покойного президента Эндрю Джексона, и такой же долговязый, как Генри Клей, Дэви Крокет и «Длинный Джон» Уэнтворт. Каупервуда с юности почему-то привлекали чудаки, да и они льнули к нему. При желании он мог приспособиться к любому человеку, даже если тот отличался большими странностями. В пору своих первых паломничеств на Ла-Саль-стрит Каупервуд справлялся на бирже о лучших агентах и, желая к ним приглядеться, давал им разные мелкие поручения. Таким образом он напал однажды на Питера Лафлина, комиссионера по продаже пшеницы и кукурузы. У старика была собственная небольшая контора неподалеку от биржи. Он спекулировал зерном и акциями восточных железных дорог и выполнял подобные операции по поручениям своих клиентов. Лафлин, сметливый, скуповатый американец, предки которого, вероятно, были выходцами из Шотландии, обладал всеми типично американскими недостатками: он был неотесан, груб, любил сквернословить и жевал табак. Каупервуд с первого же взгляда понял, что Лафлин должен быть в курсе дел всех сколько-нибудь видных чикагских коммерсантов и что уже по одному этому старик для него находка. Кроме того, по всему было видно, что человек он прямодушный, скромный, непритязательный, — а эти качества Каупервуд ценил в компаньоне превыше всего. За последние три года Лафлину раза два сильно не повезло, когда он пытался самолично организовать «корнеры»; и на бирже сложилось мнение, что старик робеет, проще говоря, стал трусоват. «Вот такой-то мне и нужен!» — решил Каупервуд и однажды утром отправился к Лафлину, чтобы открыть у него небольшой счет. Входя в его просторную, но запущенную и пропыленную контору, Каупервуд услышал, как старик говорил совсем еще юному и необычайно сосредоточенному и мрачному с виду клерку — на редкость подходящему помощнику для Питера Лафлина: — Сегодня, Генри, возьмешь мне акциев Питсбург — Ири. — Заметив стоявшего в дверях Каупервуда, Лафлин повернулся к нему: — Чем могу служить? «Так он говорит «акциев». Недурно! — подумал Каупервуд и усмехнулся. — Старикан начинает мне нравиться». Каупервуд представился как приезжий из Филадельфии и сказал, что интересуется чикагскими предприятиями, охотно купит любые солидные бумаги, имеющие шансы на повышение, но особенно желал бы приобрести контрольный пакет какой-нибудь компании — предпочтительно предприятий общественного пользования, размах деятельности которых с ростом города будет, несомненно, расширяться. Старик Лафлин, — ему уже стукнуло шестьдесят, — член Торговой палаты и обладатель капитала тысяч в двести по меньшей мере, с любопытством взглянул на Каупервуда. — Кабы вы, сударь мой, заявились сюда этак лет десять или пятнадцать назад, вам легко было бы вступить в любое дело. Тут и газовые общества учреждали — их прибрали к рукам эти молодчики, Отвей и Аперсон, — тут и конку тогда проводили. Я сам надоумил Эди Паркинсона взяться за постройку линии на Северной Стэйт-стрит, доказал ему, что на ней можно зашибить немало денег. Он мне посулил тогда пачку акциев, если дело выгорит, да так ничего и не дал. Я, впрочем, на это и не рассчитывал, — благоразумно добавил он и покосился на Каупервуда. — Я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. А теперь и его самого оттуда вытеснили. Шайка Майкла и Кеннеди ободрала его как липку. Да, годков десять — пятнадцать назад можно было живо конку к рукам прибрать. А сейчас и думать нечего. Сейчас акции продаются по сто шестьдесят долларов штучка. Вот как, сударь мой! Каупервуд любезно улыбнулся. — Сразу видно, мистер Лафлин, что вы давно на чикагской бирже. Вы так хорошо осведомлены даже о том, что здесь происходило десятки лет назад. — С самого тысяча восемьсот пятьдесят второго года, сударь, мой, да-с, — отвечал старик. Густые жесткие волосы щетинились у него надо лбом наподобие петушиного гребня, длинный и острый подбородок сильно выдавался вперед навстречу большому с горбинкой носу, скулы резко выступали над впалыми и желтыми, как пергамент, щеками. А глаза были зоркие и пронзительные, как у рыси. — По правде говоря, мистер Лафлин, — продолжал Каупервуд, — главная цель моего приезда в Чикаго — подыскать себе компаньона. Я сам занимаюсь банковскими и маклерскими операциями на Востоке. У меня собственная фирма в Филадельфии, я член нью-йоркской и филадельфийской фондовых бирж. Есть у меня кое-какие дела и в Фарго. Любая банкирская контора даст вам исчерпывающие сведения обо мне. Вы член здешней Торговой палаты и, по всей вероятности, ведете операции на нью-йоркской и филадельфийской биржах. Новая фирма, если только вы пожелаете войти со мной в компанию, могла бы заниматься всем этим непосредственно на месте. В Чикаго я человек новый, но я располагаю порядочным капиталом и вообще думаю здесь обосноваться. Не согласитесь ли вы стать моим компаньоном? Мы, пожалуй, уживемся в одной конторе, как по-вашему? Когда Каупервуд хотел кому-нибудь понравиться, он имел обыкновение соединять ладони и постукивать кончиками пальцев друг о друга; при этом он улыбался, вернее сказать, сиял улыбкой — столько тепла и как будто даже приязни светилось в его глазах. А Питер Лафлин под старость начал тяготиться своим одиночеством и очень желал, чтобы кто-нибудь пришел к нему с подобным предложением. Не решившись доверить ни одной женщине заботу о своей несколько своеобразной особе, он остался холост. Женщин он не понимал, все его отношения с ними ограничивались тем низменным и жалким развратом, который покупается за деньги, а на такие траты Лафлин никогда не был особенно щедр. Жил он в западной части города на Харрисон-стрит, занимал три крохотные комнатки и, случалось, сам себе стряпал. Единственным его другом и товарищем был маленький спаниель, бесхитростное и преданное животное, — сучка по кличке Дженни, которая всегда спала у него в ногах. Дженни была очень понятлива, кротка и послушна; весь день она терпеливо просиживала в конторе, дожидаясь старика, а вечером они вместе отправлялись домой. Лафлин разговаривал со своим спаниелем совсем как с человеком — пожалуй даже более откровенно, принимая за ответы преданный взгляд собачьих глаз и виляние хвоста. Он не любил долго нежиться в постели и обычно вставал часов в пять, а то и в четыре утра, натягивал на себя брюки (ванну он уже давно отвык принимать, приурочивая мытье к стрижке в парикмахерской) и начинал беседовать с Дженни. — Вставай, Дженни, — говорил он. — Пора вставать. Сейчас мы с тобой заварим кофе и сядем завтракать. Думаешь, я не вижу, что ты давно проснулась и только прикидываешься, будто спишь. Пора, пора, вставай. Хватит валяться. Не позднее моего вчера легла. А Дженни умильно косилась на него, постукивала хвостиком по кровати и чуть-чуть пошевеливала ухом. Когда же Лафлин был совсем готов — умыт, одет, его старый скрученный в веревочку галстук повязан свободным и удобным узлом, а волосы тщательно зачесаны кверху, — Дженни проворно соскакивала с кровати и принималась бурно прыгать по комнате, словно говоря: «Смотри, как я быстро». — Ну, конечно, — притворно ворчал Лафлин. — Всегда последняя. Хоть бы ты разок, Дженни, поднялась первой. Так нет же, пусть, мол, старик сначала встанет. В сильные холода, когда коченели уши и пальцы, а колеса конки пронзительно взвизгивали на поворотах, Лафлин, облачившись в заношенное драповое пальто старинного покроя и нахлобучив шапку, сажал Дженни в темно-зеленый мешок, где уже лежала пачка акций, составлявших на данный день предмет его размышлений и забот, и ехал в город. Иначе Дженни не пустили бы в вагон. Но обычно старик шел пешком со своей собачкой: ходьба доставляла ему удовольствие. В контору он являлся рано, в половине восьмого — в восемь, хотя занятия начинались только с девяти, и просиживал там до пяти вечера; если посетителей не было, он читал газеты или что-нибудь вычислял и подсчитывал, а не то, свистнув Дженни, шел прогуляться или заходил к кому-нибудь из знакомых дельцов. Биржа, контора, улица, отдых дома и вечерняя газета — вот все, чем он жил. Театр, книги, картины, музыка его не интересовали вообще, а женщины интересовали только весьма односторонне. Ограниченность его кругозора была столь очевидна, что для такого любителя чудаков, как Каупервуд, он действительно был находкой. Но Каупервуд только пользовался слабостями подобных людей, — вникать в их душевную жизнь ему было некогда. Как Каупервуд и предполагал, Лафлин был прекрасно осведомлен обо всем, что касалось финансовой жизни Чикаго, дельцов и сделок, выгодных комбинаций, возможностей помещения капитала, а то немногое, чего старик не знал, — как обычно потом оказывалось, и знать не стоило. Прирожденный коммерсант, он, однако, был начисто лишен организаторских и административных способностей и потому не мог извлечь для себя никакой пользы из своих знаний и опыта. К барышам и убыткам Лафлин относился довольно хладнокровно. Понеся урон, он только щелкал пальцами и повторял: «Эх, черт, незачем мне было ввязываться!» А оставшись в барыше или твердо рассчитывая на таковой, блаженно улыбался, жевал табак и в разгаре торга вдруг выкрикивал: «Спешите, ребятки! Пользуйтесь случаем!» Его трудно было втянуть в какую-нибудь мелкую биржевую спекуляцию; он выигрывал и терял, только когда игра была крупной и шла в открытую или когда он проводил какую-нибудь хитроумную комбинацию собственного изобретения. Каупервуд и Лафлин к соглашению пришли не сразу, хотя в общем довольно быстро. Старик хотел хорошенько подумать, несмотря на то, что Каупервуд понравился ему с первого взгляда. Собственно говоря, уже с самого начала было ясно, что он станет жертвой и послушным орудием Каупервуда. Они встречались изо дня в день и обсуждали подробности соглашения, пока, наконец, Лафлин, верный своей природе, не потребовал себе равной доли в деле. — Ну, полноте! Я же знаю, что вы это говорите не всерьез, Лафлин, — мягко заметил Каупервуд. Разговор происходил в кабинете Лафлина под конец делового дня, и старик с упоением жевал табак, чувствуя, что ему сегодня предстоит разрешить весьма интересную задачу. — У меня место на нью-йоркской бирже, — продолжал Каупервуд, — это одно уже стоит сорок тысяч долларов. Затем место на филадельфийской, которое ценится выше, чем ваше здесь. Это, как вы сами понимаете, основной актив фирмы. Она будет оформлена на ваше имя. Но я не стану скупиться. Вместо трети, которая вам по-настоящему причитается, я дам вам сорок девять процентов, и фирму мы назовем «Питер Лафлин и К°». Вы мне нравитесь, и я уверен, что вы будете мне очень полезны. Не беспокойтесь, со мной вы заработаете больше, чем зарабатывали без меня. Я мог бы, конечно, найти себе компаньона среди этих молодых франтиков на бирже, но не хочу. Словом, решайте, и мы немедленно приступим к работе. Лафлин был чрезвычайно польщен тем, что Каупервуд захотел взять его в компаньоны. Старик последнее время все чаще замечал, что молодое поколение маклеров — эти вылощенные самодовольные юнцы — смотрят на него, как на старого, выжившего из ума чудака. А тут смелый, энергичный, молодой делец из Восточных штатов, лет на двадцать моложе его и не менее, а скорей всего более ловкий, чем он, как опасливо подумал Лафлин, предлагает ему деловое сотрудничество. Кроме того, Каупервуд был так полон энергии, так уверен в себе и так напорист, что на старика словно пахнуло весной. — Да я за именем не больно-то гонюсь, — отвечал Лафлин. — Это как хотите. Но если вам дать пятьдесят один процент, значит хозяином дела будете вы. Ну да ладно, я человек покладистый, спорить не стану. Я своего тоже не упущу. — Значит, решено! Только вот помещение надо бы сменить, Лафлин. Здесь у вас как-то мрачновато. — А это уж дело ваше, мистер Каупервуд. Мне все едино. Сменить так сменить. Неделю спустя со всеми формальностями было покончено, а еще через две недели над дверями роскошного помещения в нижнем этаже дома на углу улиц Ла-Саль и Мэдисон, в самом центре деловой части города, появилась вывеска: «Питер Лафлин и К°, хлеботорговая и комиссионная контора». — Вот и раскуси старого Лафлина! — заметил один маклер другому, прочитав название фирмы на тяжелых бронзовых дощечках, прибитых по обе стороны двери, выходившей на угол, и окидывая взглядом огромные зеркальные стекла. — Я думал, старик вовсе на-нет сошел, а он гляди как развернулся. Кто же этот его компаньон? — Не знаю. Говорят, какой-то приезжий из Восточных штатов. — В гору пошел, ничего не скажешь. Какие стекла поставил! Так началась финансовая карьера Фрэнка Алджернона Каупервуда в Чикаго.Глава 5
О делах семейных
Тот, кто полагает, что Каупервуд действовал поспешно или опрометчиво, вступая в компанию с Лафлином, плохо представляет себе трезвую и расчетливую натуру этого человека. За тринадцать месяцев, проведенных в филадельфийской тюрьме, Каупервуд имел время как следует обо всем поразмыслить, проверить свои взгляды на жизнь, на то, кому принадлежит господство в обществе, и раз навсегда избрать себе линию поведения. Он может, должен и будет властвовать один. Никому и ни при каких обстоятельствах не позволит он распоряжаться собой и если иной раз и снизойдет к просьбе, то просителем не будет никогда! Хватит того, что он уже однажды жестоко поплатился, связавшись в Филадельфии со Стинером. Он на голову выше всех этих бездарных и трусливых финансистов и дельцов и сумеет это доказать. Люди должны вращаться вокруг него, как планеты вокруг солнца. Когда в Филадельфии перед ним захлопнулись все двери, он понял, что с точки зрения так называемого хорошего общества репутация его замарана, и неизвестно, удастся ли ему когда-нибудь ее восстановить. Размышляя об этом между делом, он пришел к выводу, что должен искать себе союзников не среди богатой и влиятельной верхушки, проникнутой духом кастовости и снобизма, а среди начинающих, талантливых финансистов, которые только что выбились или еще выбиваются в люди и не имеют надежды попасть в общество. Таких было немало. А если ему повезет и он добьется финансового могущества, тогда уже можно будет диктовать свою волю обществу. Индивидуалист до мозга костей, не желающий считаться ни с кем и ни с чем, Каупервуд был чужд подлинного демократизма, а вместе с тем люди из народа были ему больше по сердцу, чем представители привилегированного класса, и он лучше понимал их. Этим, быть может, и объяснялось отчасти, что Каупервуд взял себе в компаньоны такого самобытного и чудаковатого человека, как Питер Лафлин. Он выбрал его, как выбирает хирург, приступая к операции, нужный ему инструмент, и теперь старому Питеру Лафлину при всей его прозорливости предстояло быть всего только орудием в ловких и сильных руках Каупервуда, простым исполнителем замыслов другого, на редкость изворотливого и гибкого ума. До поры до времени Каупервуда вполне устраивало работать под маркой фирмы «Питер Лафлин и К°», — это позволяло, не привлекая к себе внимания, в тиши обдумать и разработать два-три мастерских хода, с помощью которых он надеялся утвердиться в деловом мире Чикаго. Однако для успеха финансовой карьеры Каупервуда и светской карьеры его и Эйлин в новом городе необходимо было прежде всего добиться развода; адвокат Каупервуда Харпер Стеджер из кожи вон лез, стараясь снискать расположение миссис Каупервуд, которая столь же мало доверяла адвокатам, как и своему непокорному мужу. Теперь это была сухая, строгая, довольно бесцветная женщина, сохранившая, однако, следы былой несколько блеклой красоты, в свое время пленившей Каупервуда. Тонкие морщинки залегли у нее вокруг глаз, носа и рта. На лице ее всегда было написано осуждение, покорность судьбе, сознание собственной правоты и обида. Вкрадчиво-любезный Стеджер, напоминавший ленивой грацией манер сытого кота, неторопливо подстерегающего мышь, как нельзя лучше подходил для предназначенной ему роли. Вряд ли где-нибудь нашелся бы другой более коварный и беспринципный человек. Казалось, его заповедью было: говори мягко, ступай неслышно. — Моя дорогая миссис Каупервуд, — убеждал он свою жертву, сидя как-то раз весенним вечером в скромной гостиной ее квартирки в западной части Филадельфии. — Мне незачем вам говорить, что муж ваш человек незаурядный и что бороться с ним бесполезно. Он во многом перед вами виноват — я не отрицаю — очень во многом, — при этих словах миссис Каупервуд нетерпеливо передернула плечами, — но мне кажется, вы слишком требовательны к нему. Вы же знаете, что за человек мистер Каупервуд, — Стеджер беспомощно развел своими тонкими, холеными руками, — силой его ни к чему не принудишь. Это натура исключительная, миссис Каупервуд. Человек посредственный, перенеся столько, сколько перенес он, никогда не сумел бы так быстро подняться. Послушайтесь дружеского совета, отпустите его на все четыре стороны! Дайте ему развод. Он готов обеспечить вас и детей, он искренне этого хочет. Я уверен, он позаботится об их будущем. Но его раздражает ваше нежелание юридически оформить разрыв, и, если вы станете упорствовать, я очень опасаюсь, что дело может быть передано в суд. Так вот, пока до этого не дошло, мне бы от души хотелось достигнуть приемлемого для вас соглашения. Вы знаете, как огорчила меня вся эта история, я не перестаю сожалеть о случившемся. Тут мистер Стеджер с сокрушенным видом закатил глаза, словно скорбя о том, что все так изменчиво и непостоянно в этом мире. Миссис Каупервуд терпеливо — в пятнадцатый или двадцатый раз — выслушала его. Каупервуда все равно не вернешь. Стеджер относится к ней не хуже и не лучше любого другого адвоката. К тому же он такой обходительный, вежливый. Несмотря на его макиавеллиеву профессию, миссис Каупервуд готова была ему поверить. А Стеджер мягко, осторожно продолжал приводить все новые и новые доводы. В конце концов — это было в двадцать первое его посещение — он с огорченным видом сообщил ей, что Каупервуд решил прекратить оплату ее счетов и снять с себя всякие материальные обязательства, пока суд не определит, сколько он должен ей выплатить, сам же он, Стеджер, отказывается от дальнейшего ведения дела. Миссис Каупервуд поняла, что нужно уступить, и поставила свои условия. Если муж выделит ей и детям двести тысяч долларов (таково было предложение самого Каупервуда), а в будущем, когда подрастет их единственный сын Фрэнк, пристроит его к какому-нибудь делу, — она согласна. Миссис Каупервуд шла на развод очень неохотно, — как-никак, это означало победу Эйлин Батлер. Впрочем, эта гадкая женщина навеки опозорена. После скандала в Филадельфии ее никто и на порог не пустит. Лилиан подписала составленную Стеджером бумагу, и благодаря стараниям этого медоточивого джентльмена местный суд быстро и без лишней огласки рассмотрел дело. А месяца полтора спустя три филадельфийские газеты кратко сообщили о расторжении брака. Прочитав эти несколько строк, миссис Каупервуд даже удивилась, что пресса уделила так мало внимания этому событию. Она опасалась, что их развод наделает много шума. Лилиан и не подозревала, сколько изворотливости проявил обворожительный адвокат ее мужа, чтобы умаслить печать и правосудие. Когда Каупервуд в один из своих приездов в Чикаго, просматривая филадельфийские газеты, прочел те же несколько строк, у него вырвался вздох облегчения. Наконец-то! Теперь он женится на Эйлин. Он тут же послал ей поздравительную телеграмму, смысл которой могла понять только она. Когда Эйлин прочла ее, она затрепетала от радости. Итак, скоро она станет законной женой Фрэнка Алджернона Каупервуда, новоявленного чикагского финансиста, и тогда… — Неужели это правда! Наконец-то я буду миссис Каупервуд! Какое счастье! — твердила она, читая и перечитывая телеграмму. А миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд номер первый, вспоминая все: измену мужа, его банкротство, тюремное заключение, сногсшибательную операцию, которую он провел в момент краха «Джея Кука и К°», и его теперешние финансовые успехи, недоумевала — почему так странно устроена жизнь. Ведь есть же бог на свете! В библии это стоит черным по белому. И муж ее при всех своих пороках не такой уж дурной человек, он хорошо обеспечил семью, и дети его любят; И уж, конечно, когда его засадили в тюрьму, он был не хуже многих других, которые разгуливали на свободе. Но его осудили; она жалела его и всегда будет жалеть. Он умный человек, хотя и бессердечный. Почему же все так вышло? Нет, во всем виновата эта гадкая, пустая, тщеславная девчонка Эйлин Батлер. Она его соблазнила, а теперь, конечно, женит на себе. Но бог ее накажет. Непременно накажет. И миссис Каупервуд по воскресеньям стала ходить в церковь, стараясь верить, что, как бы там ни было, а все в этом мире устраивается к лучшему.Глава 6
Воцарение Эйлин
В тот день, когда Каупервуд и Эйлин поженились, — для совершения этой церемонии они сошли с поезда в глухом местечке Дальтон, не доезжая Питсбурга, — он сказал ей: — Пойми, дорогая, что мы с тобой начинаем теперь совсем новую жизнь. А как она обернется, зависит только от нас самих. По-моему, на первых порах в Чикаго нам следует держаться поскромнее. Кое с кем мы, конечно, будем встречаться. Это неизбежно. Эддисоны, например, давно хотят познакомиться с тобой, я и так слишком долго откладывал эту встречу. Но я считаю, что очень расширять круг знакомств не стоит. Начнутся расспросы, разговоры. Лучше немного потерпеть, а тем временем построить себе хороший дом, который не придется потом перестраивать. Весной, если все сложится хорошо, мы поедем в Европу, посмотрим, как там строятся, и, может быть, позаимствуем какую-нибудь идею. Я хочу, чтобы у нас в доме была большая картинная галерея, — кстати будем подыскивать во время путешествия интересные полотна и антикварные вещи. Эйлин сразу же загорелась этой мыслью. — Ты просто изумителен, Фрэнк! — восторженно вырвалось у нее. — Ты всегда добиваешься всего, чего хочешь! — Ну, положим, не всегда, — возразил он, — иной раз одного желания недостаточно. Многое, Эйлин, зависит и от удачи. Она стояла перед ним, положив, как часто это делала, свои холеные, унизанные кольцами руки ему на плечи, и глядела не отрываясь в его холодные светлые глаза. Другой человек, столь же изворотливый, как Каупервуд, но менее сильный и властный, не выдержал бы этого испытующего взгляда. Но Каупервуд на любопытство и недоверие окружающих отвечал таким кажущимся чистосердечием и детским простодушием, что сразу всех обезоруживал. Объяснялось это тем, что он верил в себя, только в себя, и потому имел смелость не считаться с мнениями других. Эйлин дивилась ему, но разгадать его не могла. — Знаешь, Фрэнк, ты похож на тигра, — сказала она, — или на огромного страшного льва. У-у-у, боюсь! Он шутливо ущипнул ее за щеку и улыбнулся. Бедняжка Эйлин, подумал он. Где ей разгадать его, если он сам для себя загадка. Тотчас же после брачной церемонии Каупервуд и Эйлин поехали в Чикаго, где на первое время заняли один из лучших номеров в отеле «Тремонт». Вскоре они услышали, что на углу Двадцать третьей улицы и Мичиган авеню сдается на один-два сезона небольшой особняк с полной обстановкой и даже с собственным выездом. Они немедленно подписали контракт, наняли дворецкого, прислугу и обзавелись всем, что необходимо для «хорошего дома». И Каупервуд — не затем, чтобы повести наступление на чикагское общество, это он считал преждевременным и пока неразумным, а просто по долгу вежливости — пригласил Эддисонов и еще двух-трех человек, которые, по его глубокому убеждению, не откажутся придти: председателя правления Чикагской Северо-западной железной дороги Александра Рэмбо с женой и архитектора Тейлора Лорда. К последнему Каупервуд незадолго перед тем обращался за советом и нашел, что он человек достаточно светский. Лорд, как и Эддисоны, был принят в обществе, но большого веса там не имел. Стоит ли говорить, что Каупервуд все предусмотрел и устроил как нельзя лучше. Серый каменный особнячок, который он снял, был очарователен. Гранитная лестница с фигурными перилами вела к широкой парадной двери, расположенной в арке. Благодаря удачному сочетанию цветных стекол в вестибюль проникал приятный мягкий свет. Дом, по счастью, был обставлен с большим вкусом. Заботу о меню обеда и сервировке стола Каупервуд возложил на одного из лучших рестораторов, так что Эйлин оставалось лишь нарядиться и ждать гостей. — Ты сама понимаешь, — сказал ей Каупервуд утром, собираясь ехать к себе в контору, — как мне хочется, детка, чтобы ты сегодня была особенно хороша. Тебе необходимо понравиться Эддисонам и Рэмбо. Этого намека для Эйлин было более чем достаточно, а впрочем, и его, пожалуй, не требовалось. По приезде в Чикаго она подыскала себе камеристку француженку. И хотя Эйлин привезла с собой из Филадельфии целый ворох нарядов, она все-таки заказала у лучшей и самой дорогой чикагской портнихи, Терезы Доновен, еще несколько вечерних туалетов. Только накануне ей принесли зеленое кружевное платье на золотисто-желтом шелковом чехле, удивительно гармонировавшее с ее волосами цвета червонного золота и мелочно-белыми плечами и шеей. В день обеда будуар Эйлин был буквально завален шелками, кружевом, бельем, гребнями, косметикой, драгоценностями — словом, всем, к чему прибегает женщина, чтобы казаться обворожительной. Для Эйлин подбор туалета всегда был сопряжен с подлинными творческими муками; ею овладевала бурная энергия, беспокойство, она лихорадочно суетилась, так что ее камеристка Фадета едва поспевала за ней. Приняв ванну, Эйлин — стройная, белокожая Венера — быстро надела шелковое белье, чулки и туфельки и приступила к прическе. Фадета внесла свое предложение. Не угодно ли мадам испробовать новую прическу, которую она недавно видела. Мадам не возражала. Они обе принялись укладывать тяжелые, отливающие золотом пряди то одним, то другим манером, но почему-то все получалось не так, как хотела Эйлин. Попробовали было заплести косы, но и от этой мысли пришлось отказаться. Наконец на лоб были спущены два пышных валика, подхваченные перекрещивающимися темно-зелеными лентами, которые посередине скрепляла алмазная звезда. Эйлин в прозрачном, отделанном кружевами пеньюаре из розового шелка подошла к трюмо и долго, внимательно себя разглядывала. — Хорошо, — сказала она, наконец, повертывая голову то в одну, то в другую сторону. Теперь настал черед платья от Терезы Доновен. Оно скользило и шуршало в руках. Надевая его. Эйлин сомневалась, будет ли оно ей к лицу. Фадета суетилась, возясь с бесчисленными застежками и прилаживая платье у корсажа и на плечах. — О, мадам, charmant![28] — воскликнула она, когда все было готово. — Это так идет к вашим волосам. И так пышно, богато тут, — и она указала на кружевную баску, драпировавшую бедра. — О, это очень, очень мило! Эйлин зарделась от удовольствия, но лицо ее оставалось серьезным. Она была озабочена. За свой наряд она не особенно беспокоилась, но Фрэнк сказал, что она должна непременно понравиться гостям, а мистер Эддисон такой богатый человек, принятый в лучшем обществе, да и мистер Рэмбо тоже занимает большое положение. Как бы не ударить в грязь лицом — вот чего она опасалась. Недостаточно произвести впечатление на этих мужчин своей внешностью, их надо занять разговором, да притом еще соблюдать правила хорошего тона, а это совсем не легко. Хотя в Филадельфии Эйлин была окружена богатством и роскошью, ей не приходилось ни бывать в свете, ни принимать у себя сколько-нибудь важных гостей. Из всех людей, с которыми она до сих пор встречалась, Фрэнк был самым значительным. У мистера Рэмбо жена, вероятно, строгая, старозаветных взглядов. О чем с ней говорить? А миссис Эддисон! От той, конечно, ничто не укроется, она все подметит и все осудит. Эйлин настолько углубилась в свои мысли, что чуть было не принялась утешать себя вслух, не переставая, впрочем, охорашиваться перед зеркалом. Когда Эйлин, предоставив Фадете убирать разбросанные принадлежности туалета, наконец сошла вниз, взглянуть, все ли готово в столовой и зале, она была ослепительно хороша. Нельзя было не залюбоваться ее великолепной фигурой, задрапированной в зеленовато-желтый шелк, ее роскошными волосами, шелковистой гладкостью ее плеч и рук, округлостью бедер, точеной шеей. Она знала, как она красива, и все-таки волновалась. Что-то скажет Фрэнк? Эйлин заглянула в столовую: цветы, серебро, золото, хрусталь, расставленные умелой рукой метрдотеля на белоснежной скатерти, придавали столу сходство с грудой драгоценных камней на белом атласе дорогого футляра. Словно опалы, мягко переливающиеся всеми цветами радуги, подумала Эйлин. Оттуда она прошла в залу. На розовом с позолотой рояле лежала заранее приготовленная стопка нот; Эйлин решила блеснуть своим единственным талантом и с этой целью отобрала романсы и пьесы, которые ей лучше всего удавались; в сущности, она была довольно посредственной пианисткой. Сегодня впервые в жизни Эйлин чувствовала себя не девочкой, а замужней дамой, хозяйкой дома и понимала, какую это налагает на нее ответственность и как трудно ей будет справиться со своей новой ролью. По правде говоря, Эйлин всегда подмечала в жизни только чисто внешнюю, показную, псевдоромантическую сторону, и все ее представления были так туманны и расплывчаты, что она ни в чем не отдаваласебе ясного отчета, ни на чем не умела сосредоточиться. Она умела только мечтать — пылко и безудержно. Было уже около шести часов; ключ звякнул в замке, и вошел улыбающийся, спокойный Фрэнк, внося с собой атмосферу уверенности. — Хорошо, очень хорошо! — воскликнул он, разглядывая Эйлин, освещенную теплым сиянием сотен свечей, горевших в золоченых бра. — Да это лесная фея пожаловала к нам сюда! Я просто не смею к тебе прикоснуться. Что, плечи у тебя сильно напудрены? Он привлек ее к себе, а она с чувством облегчения подставила губы для поцелуя. По всему было видно, что он находит ее прелестной. — Осторожно, милый, ты сейчас весь будешь в пудре. Ну, да, впрочем, тебе все равно надо переодеться, — и Эйлин обвила его шею полными сильными руками. Каупервуд был доволен и горд: вот такую и надо иметь жену — красавицу! Ожерелье из бирюзы оттеняло матовую белизну ее шеи, и как ни портили ее рук кольца, надетые по два и по три на палец, эти руки все-таки были прекрасны. От ее кожи исходил тонкий аромат не то гиацинта, не то лаванды. Каупервуду понравилась ее прическа, но еще больше — великолепие наряда, блеск желтого шелка, светившегося сквозь частую сетку зеленых кружев. — Очаровательно, детка. Ты превзошла самое себя. Но этого платья я еще не видел. Где ты его раздобыла? — Здесь, в Чикаго. Каупервуд сжал теплые пальцы Эйлин и заставил ее повернуться, чтобы посмотреть шлейф. — Да, тебя учить не приходится. Ты, я вижу, могла бы быть законодательницей мод. — Значит, все в порядке? — кокетливо спросила Эйлин, но в глубине души она еще сомневалась: сумеет ли она ему угодить. — Превосходно! Лучше и придумать нельзя. Великолепно! Эйлин воспрянула духом. — Хорошо, если б и твои друзья были того же мнения. Ну, а теперь иди переодеваться. Каупервуд поднялся к себе наверх. Эйлин последовала за ним, мимоходом еще раз заглянув в столовую. Тут во всяком случае все в порядке: Фрэнк умеет принимать гостей. В семь часов послышался стук колес подъезжающего экипажа, и дворецкий Луис поспешил отворить дверь. Спускаясь вниз, Эйлин слегка волновалась — а вдруг она не сумеет занять гостей? — и напряженно придумывала, что бы такое им сказать приятное. Следовавший за нею Каупервуд, напротив, был уверен в себе и оживлен. В своем будущем он никогда не сомневался, не сомневался и в том, что устроит будущее Эйлин, стоит ему только захотеть. Трудное восхождение по крутым ступеням общественной лестницы, которое так пугало Эйлин, нимало не тревожило его. С точки зрения кулинарии и сервировки обед удался на славу. Каупервуд благодаря разносторонности своих интересов умело поддерживал оживленную беседу с мистером Рэмбо о железных дорогах, а с Тейлором Лордом об архитектуре, — правда, на том уровне, на каком способный студент беседует с профессором; разговор с дамами также не затруднял его. Эйлин же, к сожалению, чувствовала себя связанной, но не потому, что была глупее или поверхностнее собравшихся, а просто потому, что она имела лишь очень смутное представление о жизни. Многое оставалось для нее закрытой книгой, многое было лишь неясным отзвуком, напоминавшим о чем-то, что ей довелось мимоходом услышать. О литературе она не знала почти ничего и за всю свою жизнь прочла лишь несколько романов, которые людям с хорошим вкусом показались бы пошлыми. В живописи все ее познания ограничивались десятком имен знаменитых художников, слышанных когда-то от Каупервуда. Но все эти недостатки искупались ее безупречной красотой, тем, что сама она была как бы произведением искусства, излучающим свет и радость. Даже холодный, рассудительный и сдержанный Рэмбо понял, какое место должна занимать Эйлин в жизни человека, подобного Каупервуду. Такой женщиной он и сам не прочь был бы обладать. У сильных натур влечение к женщине обычно не угасает, а подчас лишь подавляется стоической воздержанностью. Увлекаться, как известно, можно без конца, но чего ради? Не стоит хлопот, — решают многие. Однако Эйлин была так блистательна, что в Рэмбо заговорило мужское честолюбие. Он глядел на нее почти с грустью. Когда-то и он был молод. Но, увы, ему никогда не случалось взволновать воображение столь прекрасной женщины. Теперь, любуясь Эйлин, Рэмбо сожалел, что такая удача не выпала на его долю. Рядом с ярким и пышным нарядом Эйлин скромное серое шелковое платье миссис Рэмбо, с высоким, чуть не до ушей воротом, выглядело строго, даже как-то укоризненно, но миссис Рэмбо держалась с таким достоинством, так любезно и приветливо, что впечатление это сглаживалось. Уроженка Новой Англии, воспитанная на философии Эмерсона, Торо, Чаннинга, Филлипса, она отличалась большой терпимостью. К тому же ей нравилась хозяйка дома и вся ее несколько экзотическая пышность. — У вас прелестный домик, — сказала она Эйлин с мягкой улыбкой. — Я давно обратила на него внимание. Ведь мы живем неподалеку и, можно сказать, почти соседи с вами. Глаза Эйлин засветились признательностью. Хотя она не могла вполне оценить миссис Рэмбо, та ей нравилась: в ней было что-то располагающее, и Эйлин понимала ее — скорее чутьем, чем разумом. Такой, вероятно, была бы ее мать, если бы получила образование. Когда все двинулись в залу, дворецкий доложил о Тейлоре Лорде. Каупервуд, взяв архитектора под руку, подвел его к жене и гостям. Лорд, плотный, высокий мужчина с умным, серьезным лицом, подошел к хозяйке дома. — Миссис Каупервуд, — сказал он, с восхищением глядя на Эйлин, — разрешите мне в числе других приветствовать вас в Чикаго. После Филадельфии вам на первых порах многого будет недоставать здесь, но я уверен, что со временем вы полюбите наш город. — О, я не сомневаюсь, — улыбнулась Эйлин. — Когда-то и я жил в Филадельфии, правда очень недолго, — добавил Лорд. — И вот тоже перебрался сюда. Эйлин на мгновение замялась, однако быстро овладела собой. К такого рода случайностям надо быть всегда готовой, ей могут встретиться неожиданности и похуже. — Чем же плох Чикаго? — поспешила она продолжить разговор. — Мне нравится этот город. Жизнь здесь кипит ключом, не то что в Филадельфии. — Рад это слышать. Я сам влюблен в Чикаго. Может быть потому, что мне тут открылось широкое поле деятельности. Для чего такой красавице образование, размышлял Лорд, любуясь роскошными волосами и плечами Эйлин; он сразу определил, что она не принадлежит к числу развитых и умных женщин. Дворецкий доложил о новых гостях, и супруги Эддисон вошли в залу. Эддисон, не задумываясь, принял приглашение Каупервуда: положение его в Чикаго было достаточно прочным, и потому они с женой могли поступать, как им заблагорассудится. — Как дела, Каупервуд? — спросил он дружески, кладя руку на плечо хозяина дома. — Очень мило, что вы пригласили нас. Верите ли, миссис Каупервуд, вот уж скоро год как я твержу вашему мужу, чтобы он привез вас сюда. Он не говорил вам? (Эддисон еще не посвятил свою жену в историю Каупервуда и Эйлин.) — Ну, конечно, говорил, — весело отвечала Эйлин, видя, что ее красота произвела впечатление на Эддисона. — А как я рвалась сюда! Это его вина, что я так долго не приезжала. Изумительно хороша, думал между тем Эддисон, разглядывая Эйлин. Так вот кто причина развода Каупервуда с первой женой. Ничего удивительного. Восхитительное создание. Он невольно сравнивал ее со своей женой и, конечно, не в пользу последней. Миссис Эддисон никогда не была так хороша, так эффектна, зато здравого смысла у нее куда больше. Ах, черт возьми, если б и ему обзавестись такой красоткой! Жизнь снова заиграла бы яркими красками. У Эддисона бывали любовные приключения, но он тщательно их скрывал. — Очень рада познакомиться с вами, — говорила тем временем миссис Эддисон, полная дама, увешанная драгоценностями, обращаясь к Эйлин. — Наши мужья уже успели стать друзьями — нам тоже надо будет почаще встречаться. Миссис Эддисон продолжала непринужденно болтать о разных пустяках, и Эйлин казалось, что она неплохо справляется со своей ролью хозяйки. Бесшумно вошел дворецкий и поставил на столик в углу поднос с винами и закусками. За обедом беседа стала еще оживленнее, заговорили о росте города, о новой церкви, которую строил Лорд на той же улице, где жили Каупервуды; потом Рэмбо рассказал несколько забавных историй о мошенничестве с земельными участками. Общество явно развеселилось. Эйлин прилагала все усилия, чтобы сблизиться с обеими дамами. Миссис Эддисон казалась ей более приятной, вероятно потому, что с ней было легче поддерживать разговор. Эйлин не могла не понимать, что миссис Рэмбо и умнее и сердечнее, но как-то побаивалась ее. Впрочем, очень скоро Эйлин выдохлась и должна была прибегнуть к помощи Лорда. Архитектор с рыцарской галантностью пришел ей на выручку и принялся болтать обо всем, что ему приходило на ум. Все мужчины, кроме Каупервуда, думали о том, как великолепно сложена Эйлин, какая у нее ослепительная кожа, какие округлые плечи, какие роскошные волосы!Глава 7
Газовые предприятия Чикаго
Старик Лафлин, помолодевший и воодушевленный смелыми замыслами Каупервуда, усиленно способствовал процветанию фирмы. Он сообщал своему компаньону биржевые слухи и сплетни, а также собственные, подчас очень тонкие, догадки о том, что затевает та или иная группа или тот или иной биржевик, и Каупервуд оборачивал в свою пользу эти сведения. Наутро после почти бессонной ночи в своей одинокой постели старик нередко говорил Каупервуду: — А ведь, ей-богу, я, кажется, додумался, куда эти молодчики гнут. Это все та же банда с боен орудует. (Под бандой он подразумевал крупных биржевых спекулянтов вроде Арнила, Хэнда, Шрайхарта и других.) Опять всю кукурузу скупить хотят. Или я больше уж ничего не смыслю, или нам тоже нужно немедленно покупать впрок. Как вы на это смотрите, Фрэнк? Каупервуд, уже постигший многие неизвестные ему ранее уловки местных дельцов и с каждым днем приобретавший все больший опыт, обычно тут же принимал решение. — Ну что ж, рискнем на сотню тысяч бушелей. Мне думается, что железнодорожные «Нью-Йорк сентрал» упадут пункта на два в ближайшие дни. Давайте запродавать их на пункт ниже курса. Лафлин недоумевал, как это Каупервуд ухитряется так быстро ориентироваться в местных делах и не менее быстро, чем он сам, принимать решения. Когда дело касается акций и других ценностей, котирующихся на восточных биржах, — это понятно, но как он умудрился так быстро постичь все тонкости чикагской биржи? — Откуда вы это знаете? — спросил он однажды Каупервуда, сильно заинтригованный. — Да очень просто: вчера, когда вы были на бирже, сюда заходил Антон Видера (один из директоров Хлеботоргового банка), он все и рассказал мне, — откровенно отвечал Каупервуд, и со слов Видера обрисовал Лафлину биржевую конъюнктуру. Лафлин знал Видера, богатого, предприимчивого поляка, который за последние годы заметно пошел в гору. Просто поразительно, как Каупервуд легко сходится с богачами, как быстро приобретает их доверие. Лафлин понимал, что с ним Видера никогда бы не стал так откровенничать. — Гм! Ну, если Видера сказал, значит это так. Надо действовать. И Лафлин действовал, а фирма «Питер Лафлин и К°» оказывалась в барышах. Но хотя хлеботорговое и комиссионное дело и сулило каждому из компаньонов тысяч двадцать годового дохода, Каупервуд смотрел на него лишь как на источник информации. Боясь распылять средства, чтобы не оказаться в таком же отчаянном положении, как в пору чикагского пожара, Каупервуд подыскивал себе дело, которое со временем могло бы приносить солидный и постоянный доход. Ему удалось заинтересовать своими планами небольшую группу чикагских дельцов — Джуда Эддисона, Александра Рэмбо, Миларда Бэйли, Антона Видера; хотя это были не бог знает какие тузы, но все они располагали свободными средствами. Каупервуд знал, что они охотно откликнутся на любое серьезное предложение. Больше всего привлекали Каупервуда газовые предприятия Чикаго: тут представлялась возможность захватить исподтишка великолепный источник наживы — завладеть никем еще не занятой областью и установить там свое безраздельное господство. Получив концессию, — каким путем, читатель догадается сам, — он мог, подобно Гамилькару Барка, проникшему в самое сердце Испании, или Ганнибалу, подступившему к вратам Рима, предстать перед местными газопромышленниками и потребовать капитуляции и раздела награбленного. В то время освещение города находилось в руках трех газовых компаний. Каждая из них обслуживала свой район или, как говорили в Чикаго, «сторону» — Южную, Западную и Северную. Самой крупной и преуспевающей была Чикагская газовая, осветительная и коксовая компания, основанная в 1848 году в южной части города. Всеобщая газовая, осветительная и коксовая, снабжавшая газом Западную сторону, возникла несколькими годами позже и обязана была своим появлением на свет глупой самоуверенности учредителей и директоров Южной компании, полагавших, что они во всякое время сумеют получить разрешение муниципалитета на прокладку газопровода в других частях города; они никак не ожидали, что Западный и Северный районы начнут так быстро заселяться. Третья компания — Северо-чикагская газовая — была основана почти одновременно с Западной и в силу тех же причин, ибо та оказалась столь же непредусмотрительной, как и Южная. Впрочем, при получении концессий все учредители заявляли, что предполагают ограничить свою деятельность только той частью города, где они проживают. Сначала Каупервуд намеревался скупить акции всех трех компаний и слить их в одну. С этой целью он стал выяснять финансовое и общественное положение акционеров. Он полагал, что, предложив за акции втрое или даже вчетверо больше, чем они стоили по курсу, он сумеет завладеть контрольными пакетами. А затем, после объединения компаний, можно будет выпустить новые акции на огромную сумму, расплатиться с кредиторами и, сняв богатый урожай, остаться самому во главе дела. В первую очередь Каупервуд обратился к Джуду Эддисону, считая его наиболее подходящим партнером для осуществления своего замысла. Впрочем, Эддисон был нужен ему не столько как компаньон, сколько как вкладчик. — Вот что я вам скажу, — внимательно выслушав его, заявил Эддисон. — Вы напали на блестящую мысль. Даже удивительно, как это до сих пор никому не пришло в голову. Но если вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь опередил, то держите язык за зубами. У нас в Чикаго много предприимчивых людей. Я-то к вам расположен, вы это знаете, на меня можете рассчитывать. Правда, открыто участвовать в этом деле мне неудобно, но я позабочусь, чтобы вам был открыт кредит. Очень неплохая мысль — учредить держательскую компанию или трест под вашим председательством. Я уверен, что вы с этим справитесь. Но повторяю: я буду участвовать в деле только как вкладчик, а вам придется подыскать еще двух-трех человек, которые бы вместе со мной гарантировали нужную сумму. Есть у вас кто-нибудь на примете? — Да, конечно. Я просто раньше всего обратился к вам, — отвечал Каупервуд и назвал Рэмбо, Видера, Бэйли и других. — Ну что ж, очень хорошо, если вы сумеете их привлечь, — сказал Эддисон. — Но я даже и в этом случае еще не уверен, что вам удастся уговорить акционеров и директоров старых компаний расстаться со своими акциями. Это не обычные акционеры. Они смотрят на свое газовое предприятие, как на кровное дело. Они его создали, свыклись с ним; они строили газгольдеры, прокладывали трубы. Все это не так просто, как вам кажется. Эддисон оказался прав. Каупервуд скоро убедился, что не так легко заставить директоров и акционеров старых компаний пойти на какую бы то ни было реорганизацию. Более подозрительных и несговорчивых людей ему еще никогда не приходилось встречать. Они наотрез отказались уступить ему свои акции, даже по цене, втрое или вчетверо превышавшей их биржевой курс. Акции газовых компаний котировались от ста семидесяти до двухсот десяти долларов, и по мере того как город рос и потребность в газе увеличивалась, возрастала и стоимость акций. К тому же предложение объединить компании исходило от никому не известного лица, и уже одно это казалось всем подозрительным. Кто он такой? Чьи интересы представляет? А Каупервуд хотя и мог доказать, что располагает значительным капиталом, но раскрыть имена тех, кто действовал с ним заодно, не хотел. Директора и члены правления одной фирмы подозревали в этом предложении козни директоров и членов правлений другой и считали, что все это подстроено с единственной целью добиться контроля, а потом вытеснить всех конкурентов. С какой стати продавать свои акции? Зачем гнаться за большими барышами, когда они и так не внакладе? Каупервуд был новичком в Чикаго, связей со здешними крупными дельцами он еще не успел завязать и потому ему не оставалось ничего другого, как придумать новый план наступления на газовые общества. Он решил создать для начала несколько компаний в пригородах. Такие пригороды, как Лейк-Вью и Хайд-парк, имели собственные муниципалитеты, которые пользовались правом предоставлять акционерным компаниям, зарегистрированным согласно законам штата, концессии на прокладку водопровода, газовых труб и линий городских железных дорог. Каупервуд рассчитывал, что, учредив отдельные, якобы независимые друг от друга компании в каждом из таких пригородов, он сумеет раздобыть концессию и в самом городе, а тогда уж старые акционерные общества будут поставлены на колени и он начнет диктовать им свои условия. Все сводилось к тому, чтобы получить разрешения и концессии до того, как спохватятся конкуренты. Трудность заключалась еще и в том, что Каупервуд был совершенно незнаком с газовыми предприятиями, не имел ни малейшего понятия о том, как вырабатывается газ, как снабжается им город, и никогда раньше этими вопросами не интересовался. Другое дело конка, — эту отрасль городского хозяйства он знал как свои пять пальцев и к тому же считал самой прибыльной; однако здесь, в Чикаго, пока, видимо, не было никаких возможностей прибрать к рукам этот наиболее соблазнительный для него источник дохода. Все это Каупервуд тщательно обдумал, взвесил, почитал кое-какую литературу о производстве газа, а потом ему, как обычно, повезло — подвернулся нужный человек. Выяснилось, что наряду с Чикагской газовой, осветительной и коксовой компанией на Южной стороне когда-то, очень недолго, существовала другая, менее крупная компания, основанная неким Генри де Сото Сиппенсом. Этот Сиппенс посредством каких-то сложных махинаций раздобыл концессию на производство газа и снабжение им деловой части города, но его так допекали всякими исками, что в конце концов он был вынужден бросить дело. Теперь у него была контора по продаже недвижимости в Лейк-Вью. Питер Лафлин знал его. — Ну, это дока! — отозвался о нем старик. — Было время, когда я думал, что он на газе состояние сделает, да вот схватили его за горло, и пришлось ему все-таки выпустить лакомый кусочек. Тут у него на реке газгольдер взорвали. Я думаю, он живо понял, чьих это рук дело. Как бы там ни было, а от своей затеи он отказался. Что-то давненько я о нем не слыхал. Каупервуд послал старика к Сиппенсу разузнать, что тот сейчас делает, и спросить, не хочет ли он опять заняться газом. И вот несколько дней спустя в контору «Питер Лафлин и К°» явился Генри де Сото Сиппенс собственной персоной. Это оказался маленький человечек лет пятидесяти, в высоченной жесткой фетровой шляпе, кургузом коричневом пиджачке (который он летом сменял на холстинковый) и в штиблетах с тупыми носками; он походил не то на деревенского аптекаря, не то на букиниста, но было в нем что-то и от провинциального врача или нотариуса. Манжеты мистера Сиппенса вылезали из рукавов несколько больше, чем следует, галстук был, пожалуй, слишком пышен, шляпа слишком сдвинута на затылок; в остальном же он имел вид хотя и своеобразный, но вполне благопристойный и даже не лишенный приятности. Лицо Сиппенса украшали воинственно топорщившиеся рыжевато-каштановые бачки и кустистые брови. — Вы как будто занимались одно время газом, мистер Сиппенс? — вежливо обратился к нему Каупервуд. — Да, и уж во всяком случае я не меньше других смыслю в этом деле, — несколько вызывающе отвечал Сиппенс. — Я с ним возился не год и не два. — Так вот, мистер Сиппенс, я надумал открыть небольшое газовое предприятие в одном из здешних пригородов, — они так быстро растут, что, мне кажется, это дело может стать довольно прибыльным. Сам я мало разбираюсь в технике газового производства и хотел бы пригласить хорошего специалиста. — При этих словах Каупервуд многозначительно и дружелюбно взглянул на Сиппенса. — Я слышал о вас как о человеке опытном и хорошо знакомом со здешними условиями. В случае если мне удастся создать компанию с достаточным капиталом, может быть вы согласитесь занять в ней пост управляющего? «Здешние условия мне даже слишком хорошо известны. И ничего из этого не выйдет», — хотел было ответить Сиппенс, но передумал. — Что ж, если мне предложат приличное вознаграждение, — сказал он осторожно. — Вы ведь, вероятно, представляете себе, с какими трудностями вам придется столкнуться? — Примерно представляю, — с улыбкой отвечал Каупервуд. — Но что вы называете «приличным» вознаграждением? — Тысяч шесть в год и известная доля в прибылях компании, скажем, половина или около того — тогда еще стоило бы подумать, — отвечал Сиппенс, намереваясь, по-видимому, отпугнуть Каупервуда своими непомерными требованиями. Контора по продаже недвижимости приносила ему около шести тысяч в год. — А если я вам предложу по четыре тысячи в нескольких компаниях — это составит в общей сложности тысяч пятнадцать — и, скажем, десятую долю от прибылей? Сиппенс мысленно взвешивал сделанное ему предложение. Совершенно очевидно, что сидящий перед ним человек не какой-нибудь легкомысленный новичок. Он бросил испытующий взгляд на Каупервуда и по всему его виду понял, что этот делец готовится к серьезной схватке. Еще десять лет назад Сиппенс разгадал, какие огромные возможности таят в себе газовые предприятия. Он уже пробовал свои силы на этом поприще, но его затаскали по судам, замучили штрафами, лишили кредита и в конце концов взорвали газгольдер. Он не мог этого забыть и всегда горько сожалел, что не в силах отомстить своим противникам. Сиппенс уже привык считать, что время борьбы для него миновало, а тут перед ним сидел человек, замысливший план грандиозной битвы; слова Каупервуда прозвучали для него, как призыв охотничьего рога для старой гончей. — Что ж, мистер Каупервуд, — уже с меньшим задором и более дружелюбно ответил он, — недурно было бы познакомиться с вашим предложением поближе, а вообще-то я по газу специалист. Все, что касается машинного оборудования, прокладки труб, получения концессий, я знаю назубок. Я строил газовый завод в Дайтоне, штат Огайо, и в Рочестере, штат Нью-Йорк. Приехать бы мне сюда чуть пораньше, и я был бы теперь состоятельным человеком, — в голосе его прозвучала нотка сожаления. — Вот вам, мистер Сиппенс, превосходный случай наверстать упущенное, — соблазнял его Каупервуд. — Между нами говоря, в Чикаго создается новое и очень крупное газовое предприятие. Старым компаниям скоро придется поступиться своими интересами. Ну как? Это вас не прельщает? В деньгах у нас недостатка не будет. Да и не в них сейчас дело: нам нужен человек — организатор, делец, специалист, который мог бы строить заводы, прокладывать трубы и все прочее. Каупервуд внезапно поднялся во весь рост — обычный его трюк, когда он хотел произвести на кого-нибудь впечатление. И теперь стоял перед Сиппенсом — олицетворение силы, борьбы, победы. — Итак, решайте! — Я согласен, мистер Каупервуд! — воскликнул Сиппенс. Он тоже вскочил и надел шляпу, сильно сдвинув ее на затылок. В эту минуту он очень походил на драчливого петуха. Каупервуд пожал протянутую ему руку. — Приводите в порядок дела у себя в конторе. Ваша Первоочередная задача — выхлопотать мне концессию в Лейк-Вью и приступить к постройке завода. Необходимая помощь и поддержка вам будут оказаны. Через неделю, самое большее через десять дней, я все для вас подготовлю. Нам, очевидно, потребуется хороший поверенный, а может быть даже два. Выходя из конторы, Сиппенс внутренне ликовал, и на лице его сияла торжествующая улыбка. Кто бы мог подумать, чтобы сейчас, через десять лет!.. Теперь он покажет этим жуликам! Теперь он не один: с ним рядом настоящий боец, такой же закаленный, как он сам. Ну и драка будет — только держись. Но кто же этот человек? Давно он таких не встречал. Надо бы разузнать о нем. Тем не менее Сиппенс уже сейчас готов был за Каупервуда в огонь и в воду.Глава 8
Военные действия открыты
Когда Каупервуд, потерпев неудачу в своих переговорах с газовыми компаниями, изложил Эддисону новый план — организовать конкурирующие компании в пригородах, — банкир взглянул на него с нескрываемым восхищением. — Ловко придумано! — воскликнул он. — О, да у вас мертвая хватка! Вы их одолеете. Эддисон посоветовал Каупервуду заручиться поддержкой наиболее влиятельных лиц в пригородных муниципалитетах. — Насчет честности все они там один другого стоят, — сказал он. — Но есть два-три отъявленных мошенника, на которых можно рассчитывать больше, чем на остальных, — они-то и делают погоду. Поверенного вы уже пригласили? — Нет. Я еще не нашел подходящего человека. — Это, как вы сами понимаете, очень важно. Есть тут один старик, генерал Ван-Сайкл. Он здорово понаторел на таких делах. На него, пожалуй, можно, положиться. Появление на сцене генерала Джадсона П.Ван-Сайкла бросило тень на все предприятие. Старый вояка, — теперь ему было за пятьдесят, — Ван-Сайкл в Гражданскую войну командовал дивизией; как поверенный он приобрел славу тем, что составлял фиктивные документы на право владения землей в южном Иллинойсе, а затем, чтобы узаконить мошенничество, подавал в суд, в котором заседали его приятели и сообщники, и выигрывал дело. Теперь он был более или менее преуспевающим стряпчим, взимавшим с клиентов весьма солидный гонорар, но до процветания генералу все же было далеко, ибо к нему обращались только по делам сомнительного свойства. Своими повадками он напоминал барана-провокатора на бойнях, ведущего перепуганное и упирающееся стадо своих собратьев под нож и достаточно смышленого, чтобы всегда вовремя отстать и спасти собственную шкуру. Старый крючкотвор и сутяжник, на чьей совести лежало великое множество подложных завещаний, нарушенных обязательств, двусмысленных контрактов и соглашений, подкупивший на своем веку столько судей, присяжных, членов Муниципалитета и законодательного собрания, что и не счесть, он постоянно измышлял все новые юридические уловки и каверзы. Предполагалось, что у генерала имеются большие связи среди политиков, судей, адвокатов, которым он оказывал немалые услуги в прошлом. Брался он за любое дело — главным образом потому, что это было какое-то занятие, избавлявшее его от скуки. Зимой, если кто-нибудь из клиентов настаивал на встрече с ним, генерал натягивал на себя старую потрепанную шинель серого сукна, снимал с вешалки засаленную, потерявшую всякую форму фетровую шляпу и, низко надвинув ее на тусклые серые глаза, пускался в путь. Летом костюм его всегда имел такой вид, словно он по неделям спал в нем не раздеваясь. К тому же он почти непрестанно курил. Ван-Сайкл немного походил лицом на генерала Гранта: такая же всклокоченная седая бородка и усы, такие же взъерошенные седые волосы, свисающие прядками на лоб. Бедняга генерал! Он не был ни очень счастлив, ни очень несчастлив: Фома Неверный, он безучастно относился к судьбам человечества, не возлагал на него никаких надежд и ни к кому не был привязан. — Вы не представляете себе, что такое муниципальные советы в пригородах, мистер Каупервуд, — многозначительно заметил Ван-Сайкл, когда с предварительными переговорами было покончено. — Городской муниципалитет плох, а эти и того хуже. Без денег к таким мелким плутам и ходить нечего. Я не сужу людей строго, но эта шатия… — И он сокрушенно покачал головой. — Понимаю, — отозвался Каупервуд. — Они не умеют быть благодарными за оказанные им одолжения. — Да на них положиться нельзя, — продолжал генерал. — Кажется, обо всем договорились, все порешили, а у них на уме одно: как бы подороже тебя продать. Им ничего не стоит переметнуться на сторону той же Северной компании и открыть ей все ваши карты. Тогда опять плати, а конкурент еще накинет, и пошло, и пошло… — Тут генерал изобразил на своей физиономии крайнее огорчение. — Впрочем, и среди этих господ есть один-два таких, с которыми можно столковаться, — добавил он. — Понятно, если их заинтересовать. Я имею в виду мистера Дьюниуэй и мистера Герехта. — Видите ли, генерал, мне вовсе не важно, как это будет сделано, — приятно улыбаясь, заметил Каупервуд. — Главное — чтобы все было сделано быстро и без лишнего шума. У меня нет ни времени, ни охоты входить во все подробности. Скажите, можно ли получить концессии, не привлекая к себе особого внимания, и во что это обойдется? — Надо пораскинуть умом, а так сразу сказать трудно, — задумчиво отвечал генерал. — Может обойтись и в четыре тысячи, может и во все сорок четыре, а то и больше. Бог его знает. Надо хорошенько осмотреться, кое-что разведать. — Старику хотелось выпытать у Каупервуда, сколько тот намерен затратить на это дело. — Хорошо, не будем пока этого касаться. Скаредничать я не собираюсь. Я пригласил сюда Сиппенса, председателя Газово-топливной компании Лейк-Вью, он скоро должен придти. Вам с ним вместе придется работать. Несколько минут спустя явился Сиппенс. Получив распоряжение всемерно поддерживать друг друга и в деловых переговорах ни в коем случае не упоминать имени Каупервуда, они вместе покинули кабинет своего патрона. Странная это была пара: многоопытный, но опустившийся, ко всему равнодушный, ни во что не верящий старый флегматик-генерал и щеголеватый, живой Сиппенс, мечтавший отомстить своему давнишнему врагу — могущественной Южной газовой компании — и использовать как орудие мести скромную на первый взгляд компанию, которая создавалась на северной окраине города. Минут через десять они уже отлично спелись: генерал посвятил Сиппенса в то, как скареден и нечистоплотен в своей общественной деятельности советник Дьюниуэй и как, напротив, обязателен Джейкоб Герехт, — конечно, отнюдь не задаром. Но что делать — такова жизнь! Взяв себе за правило не ставить все на одну карту, Каупервуд решил пригласить для газовой компании Хайд-парка второго юриста, а в качестве ее председателя привлечь еще одно подставное лицо, — это вовсе не означало, что он намерен отказаться от услуг де Сото Сиппенса, которого предполагалось оставить техническим консультантом всех трех или даже четырех компаний. Каупервуд как раз подыскивал подходящих людей, когда некий Кент Бэрроуз Мак-Кибен, молодой юрист, единственный сын бывшего члена верховного суда штата Иллинойс Маршала Скэммона Мак-Кибена, обратил на себя его внимание. Мак-Кибену исполнилось тридцать три года. Он был высок ростом, атлетически сложен и в общем недурен собой. Он очень ловко вел свои дела, но при этом был человек вполне светский и порой держался даже несколько надменно. У него была собственная контора в одном из лучших домов на Дирборн-стрит, куда он, замкнутый и холодный, более похожий на богатого щеголя, чем на дельца, являлся каждое утро к девяти часам, если только какое-нибудь важное дело не требовало его присутствия в деловой части города еще раньше. Случилось так, что компания по продаже недвижимости, у которой Каупервуд приобрел земельные участки на Тридцать седьмой улице и на Мичиган авеню, поручила Мак-Кибену составить купчие. Заготовив документы, он отправился в контору Каупервуда узнать, не пожелает ли тот внести в них какие-нибудь дополнения. Секретарша ввела Мак-Кибена в кабинет. Каупервуд окинул его острым испытующим взглядом, и адвокат сразу ему понравился: он был в меру сдержан и в меру изыскан. Каупервуду понравилось, как он одет, понравился его скептически-непроницаемый вид и светская непринужденность. Мак-Кибен в свою очередь отметил костюм Каупервуда, дорогую обстановку кабинета и понял, что имеет дело с финансистом крупного масштаба. На Каупервуде был светло-коричневый с искрой сюртук и выдержанный в таких же тонах галстук; в манжеты вместо запонок были продеты две маленькие камеи. Покрытый стеклом письменный стол выглядел строго и внушительно. Панели и мебель были из полированного вишневого дерева, на стенах в строгих рамах висели хорошие гравюры, изображавшие сцены из истории Америки. На видном месте стояла пишущая машинка — тогда они еще были внове, а биржевой телеграф, тоже новинка, неугомонно отстукивал последние биржевые курсы. Секретаршей у Каупервуда служила молоденькая полька, Антуанета Новак, красивая брюнетка, сдержанная и, по-видимому, очень расторопная. — Кстати, какие дела вы обычно ведете, мистер Мак-Кибен? — как бы между прочим спросил Каупервуд. И, выслушав ответ, небрежно заметил: — Загляните ко мне на будущей неделе. Может быть, у меня найдется для вас что-нибудь подходящее. Предложение, сделанное таким небрежным тоном, вероятно, задело бы самолюбие Мак-Кибена, если бы оно исходило от другого человека, но тут он был даже польщен. Этот делец так поразил воображение молодого юриста, что ему изменило обычное бесстрастие. Когда он в следующий раз пришел к Каупервуду и тот рассказал ему, какого рода услуг он ждет от него, Мак-Кибен сразу же клюнул на приманку. — Поручите это мне, мистер Каупервуд, — с живостью сказал он, — я хоть никогда и не занимался подобными делами, но уверен, что справлюсь. Я живу в Хайд-парке и знаю почти всех членов муниципального совета. Думаю, что мне удастся на них воздействовать. Каупервуд в ответ одобрительно улыбнулся. Так была основана вторая компания, во главе которой Мак-Кибен поставил своих людей. Де Сото Сиппенса, без ведома старого генерала Ван-Сайкла, привлекли в качестве технического консультанта. Затем было написано ходатайство о предоставлении концессии, и Кент Бэрроуз Мак-Кибен исподволь повел тонкую подготовительную работу на Южной стороне, постепенно завоевывая доверие одного члена муниципалитета за другим. Позднее появился еще третий поверенный — Бэртон Стимсон, самый молодой и, может быть, самый ловкий из всех троих, — бледный темноволосый юноша с горящим взором, ни дать ни взять шекспировский Ромео. Он иногда выполнял кое-какие мелкие поручения Лафлина. Каупервуд предложил ему работать на Западной стороне, где общее руководство было возложено на старика Лафлина, а техникой ведал де Сото Сиппенс. Стимсон, однако, был отнюдь не мечтательным Ромео, а весьма энергичным и предприимчивым молодым человеком, из очень бедной семьи, страстно желавшим выбиться в люди. Ему была присуща та гибкость ума, которая могла отпугнуть кого угодно, но только не Каупервуда, ибо Каупервуду нужны были умные слуги. Он давал им работу, изысканно вежливо обходился с ними и щедро вознаграждал, но взамен требовал рабской преданности. И Стимсон, правда, сохраняя независимый и самоуверенный вид, всячески раболепствовал перед Каупервудом. Так уж складываются человеческие отношения.И вот на северной, южной и западной окраинах Чикаго началось какое-то странное оживление, встречи, секретные переговоры. В Лейк-Вью старый генерал Ван-Сайкл и де Сото Сиппенс совещались с оборотистым членом муниципалитета аптекарем Дьюниуэй и районным боссом — оптовым мясоторговцем Джейкобом Герехтом, любезнейшими, но довольно требовательными джентльменами. Эти господа принимали посетителей в задних комнатах своих лавок, где беседовали с ними по душам, расценивая только что не по прейскуранту собственные услуги и услуги своих приспешников. В Хайд-парке мистер Кент Бэрроуз Мак-Кибен, лощеный и изысканно одетый, своего рода лорд Честерфилд среди адвокатов, а также Дж. Дж. Бергдол, длинноволосый, неопрятный наймит «из благородных», подставной председатель Хайдпаркской газово-топливной компании, заседали вместе с членом муниципалитета Альфредом Б.Дэвисом, фабрикантом плетеных изделий, и мистером Пэтриком Джилгеном, кабатчиком, заранее распределяя акции, барыши, привилегии и прочие блага. В поселках Дуглас и Вест-парк на Западной стороне, возле самой черты города, долговязый чудаковатый Лафлин и Бэртон Стимсон заключали такие же сделки. Противник — три разобщенные городские газовые компании — был застигнут врасплох. Когда до них дошел слух, что в пригородные муниципалитеты поступили ходатайства о предоставлении концессий, компании немедленно заподозрили друг друга в захватнических стремлениях, предательстве и грабеже. Они снарядили в ближайшие муниципалитеты своих пронырливых юристов, но директора компаний все еще не догадывались, кто заправляет маленькими пригородными компаниями и чем это им грозит. Однако, прежде чем они успели заявить протест и надумали сунуть кому надо приличный куш, чтобы сохранить за собой прилегающие к их территории пригороды, прежде чем они успели начать юридическую борьбу, — предложения о выдаче концессий уже были внесены на рассмотрение муниципалитетов и, после первого же чтения и одного открытого, как того требует закон, обсуждения, приняты почти единогласно. Кое-какие мелкие пригородные газетки, которых обделили при раздаче вознаграждений, попытались было поднять шум. Но крупные чикагские газеты отнеслись к известию довольно безразлично, поскольку дело шло о дальних пригородах; они отметили только, что предместья, видимо, успешно следуют по стопам погрязшего в мздоимстве городского муниципалитета. Прочтя в утренних газетах, что муниципалитеты утвердили концессии, Каупервуд улыбнулся. А в ближайшие дни он уже с удовлетворением выслушивал сообщения Лафлина, Сиппенса, Мак-Кибена и Ван-Сайкла о том, что старые компании подсылают к ним своих агентов, предлагая купить у них контрольные пакеты акций или дать им отступного за концессии. Вместе с Сиппенсом он рассматривал проекты будущих газовых заводов. Надо было приступать к выпуску и размещению облигаций, к продаже акций на бирже, заключению договоров на всевозможные поставки, к постройке резервуаров, газгольдеров, прокладке труб. Не менее важно было успокоить взбудораженное общественное мнение. Во всех этих делах де Сото Сиппенс оказался незаменимым. Пользуясь советами Ван-Сайкла, Мак-Кибена и Стимсона, которые действовали каждый в своем районе, он коротко докладывал Каупервуду о своих планах и, получив в ответ одобрительный кивок, покупал участки, рыл котлованы, строил. Каупервуд был так им доволен, что решил оставить его при себе и на будущее. Де Сото, в свою очередь довольный тем, что ему представился случай свести старые счеты и начать ворочать большими делами, был от души признателен Каупервуду. — С этими мошенниками нам предстоит еще немало возни, — не без злорадства заявил он однажды своему патрону. — Вот увидите, они начнут нас донимать всякими кляузами. Кто их знает, они могут объединиться. Того и гляди завод у нас взорвут, как в свое время взорвали у меня газгольдер. — Пусть взрывают, взрывать и мы умеем и судиться умеем тоже. Я не прочь. Мы их так прижмем, что они у нас волком взвоют. — В глазах Каупервуда заиграли веселые огоньки.
Глава 9
В погоне за победой
Между тем и Эйлин в новой для нее роли хозяйки дома тоже кое в чем преуспела — ибо хотя всем и было ясно, что Каупервудов в свете не сразу примут, но богатство этих людей не позволяло пренебрегать знакомством с ними. Привязанность Каупервуда к жене заставляла многих снисходительней относиться к Эйлин. Ее находили грубоватой и дурно воспитанной, но считали, что с таким мужем и наставником, как Каупервуд, можно всего добиться. Таково было мнение миссис Эддисон, например, и миссис Рэмбо. Мак-Кибен и Лорд рассуждали примерно так же. Если только Каупервуд любит Эйлин, а это, по-видимому, так, он, конечно, сумеет «продвинуть» ее в общество. Каупервуд действительно по-своему любил Эйлин. Он не мог забыть, что она совсем еще девочкой нашла в себе силы пренебречь условностями и всем для него пожертвовала, хотя знала, что он женат, что у него есть дети, знала, какой это будет удар для ее родных. Как пылко, как беззаветно она его полюбила! Она не жеманничала, не хитрила, не колебалась. Он с самого начала был «ее Фрэнк», да и теперь она любила его не меньше, чем в те давние незабываемые дни их первой близости. Каупервуд всегда это чувствовал. Эйлин могла с ним ссориться, капризничать, дуться, спорить, подозревать, укорять его в том, что он ухаживает за другими женщинами, но какое-нибудь мимолетное увлечение не встревожило бы ее, — так во всяком случае она утверждала. Правда, у нее не было оснований сомневаться в нем. Она готова простить ему все, решительно все, уверяла она, и сама этому искренне верила, если только он будет по-прежнему ее любить. — Ах ты, разбойник, — говорила она шутливо. — Я тебя насквозь вижу. Думаешь, я не замечаю, как ты заглядываешься на женщин. Эта стенографисточка у тебя в конторе очень недурна. Наверно, ты уже за ней приударил. — Не глупи, Эйлин, — отмахивался Каупервуд. — Ну, зачем говорить пошлости. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не свяжусь с какой-то стенографисткой. Контора — неподходящее место для флирта. — Неподходящее? Ну уж не втирай мне очки. Будто я тебя не знаю. Для тебя всякое место подходящее. Каупервуд смеялся, а за ним смеялась и Эйлин. Она ничего не могла с собой поделать. Слишком уж она его любила. В нападках ее не было настоящей горечи. Часто, укачивая ее на коленях, как ребенка, и нежно целуя, он шептал ей: «Моя крошка! Моя рыжая кукла! Правда, что ты меня так любишь? Тогда поцелуй меня». Они оба пылали какой-то первобытной страстью. И пока жизнь не отдалила их друг от друга, Каупервуд даже представить себе не мог более восхитительного союза. Они не ведали того холодка пресыщенности, который нередко переходит во взаимное отвращение. Эйлин всегда была ему желанна. Он подтрунивал над ней, дурачился, нежничал, зная наперед, что она не оттолкнет его от себя чопорностью или постной миной ханжи и лицемерки. Несмотря на ее горячий, взбалмошный нрав, Эйлин всегда можно было остановить иобразумить, если она была неправа. Она же, со своей стороны, не раз давала Каупервуду дельные советы, подсказанные ее женским чутьем. Все их помыслы занимало теперь чикагское общество и новый дом, который они решили построить в надежде упрочить таким образом свое положение и войти в круг избранных. Будущее представлялось Эйлин только в розовом свете. Есть ли в мире женщина, счастливее ее? Фрэнк так красив, так великодушен, так нежен! В нем нет ничего мелочного. Пусть он даже иногда заглядывается на других женщин — что с того? В душе он ей верен, и не было еще случая, чтобы он ей изменил. Хотя Эйлин знала Каупервуда достаточно хорошо, она все же не представляла себе, как ловко он умеет изворачиваться и лгать. Но пока что он действительно любил ее и действительно был ей верен… Каупервуд вложил уже около ста тысяч долларов в газовые компании и считал свое будущее обеспеченным. Концессии были выданы на двадцать лет, к концу этого срока ему не исполнится еще и шестидесяти, а за это время он наверняка либо приобретет контрольные пакеты старых компаний, либо объединится с ними, либо с большой выгодой переуступит им дело. Рост Чикаго предвещал ему успех. Поэтому он решил вложить до тридцати тысяч долларов в картины, если найдет что-нибудь стоящее, и заказать портрет Эйлин, пока она еще так хороша. Каупервуд опять стал интересоваться живописью. У Эддисона было четыре или пять хороших полотен — Руссо, Грез, Вуверман и Лоуренс, которые тот неизвестно где раскопал. Каупервуд слышал, что у некоего Колларда, владельца гостиницы и торговца недвижимостью и мануфактурой, имеется замечательная коллекция. Эддисон рассказал ему, что Дэвис Траск, король скобяных изделий, тоже коллекционирует картины. Многие богатые семейства в Чикаго уже начали собирать произведения искусства. Значит, пора начать и ему. Как только концессии были утверждены, Каупервуд посадил Сиппенса у себя в кабинете и на время передал ему все дела. В пригородах, поблизости от строившихся заводов, были открыты маленькие конторы с незначительным штатом. Теперь старые компании донимали новые компании всевозможными тяжбами, требуя, чтобы суд «запретил», «отменил», «пресек» и т. д., но Мак-Кибен, Стимсон и генерал Ван-Сайкл отражали все атаки врага со спокойствием и доблестью защитников Трои. Это было забавное зрелище. Однако о Каупервуде почти никто ничего не знал. Он все еще оставался в тени. В связи с этими делами имя его даже и не упоминалось. Газеты ежедневно прославляли других людей, и в Каупервуде это будило досаду и зависть. Когда же настанет его черед? Теперь уж, наверно, скоро. В июне Каупервуд и Эйлин, веселые и жизнерадостные, отправились в Европу, решив насладиться сполна своим первым большим путешествием. Это была чудесная поездка! Эддисон, с обычной для него любезностью, телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы миссис Каупервуд на пароход были доставлены цветы. Мак-Кибен прислал путеводители. Каупервуд, не зная наверное, подумает ли кто-нибудь о цветах, тоже заказал две великолепные корзины, так что, когда Эйлин поднялась на верхнюю палубу, ее ожидали там три корзины цветов, каждая с приколотой к ней карточкой. Кое-кто из сидевших за капитанским столом пытался завязать знакомство с Каупервудами. Их приглашали на любительские концерты или просили составить партию за карточным столом. Но море было все время бурное, и Эйлин чувствовала себя неважно. Хорошо выглядеть, когда страдаешь морской болезнью, нелегкая задача, и поэтому она предпочитала большей частью оставаться в каюте. Держалась. Эйлин со всеми надменно, даже холодно, а в разговоре с теми, для кого она делала исключение, взвешивала каждое слово. Она вдруг почувствовала себя важной дамой. Перед отъездом из Чикаго Эйлин почти опустошила ателье Терезы Доновен. Белье, пеньюары, костюмы для прогулок, амазонки, вечерние туалеты — все это она везла с собой в огромном количестве. На груди у нее был спрятан мешочек, в котором она хранила на тридцать тысяч долларов разных драгоценностей. А уж туфлям, шляпкам, чулкам и прочим принадлежностям дамского туалета просто не было числа. И это заставляло Каупервуда гордиться Эйлин. Сколько в ней энергии, сколько в ней живости! Лилиан, его первая жена, была бледной, анемичной женщиной, а в Эйлин жизнь била ключом. Она постоянно что-то напевала, шутила, наряжалась, кокетничала. Есть такие натуры, которые живут сегодняшним днем, ни над чем не размышляя и не углубляясь в себя. Наша планета с ее многовековой историей если и существовала для Эйлин, то как нечто весьма смутное и отвлеченное. Возможно, она и слышала, что когда-то на земле жили динозавры и крылатые пресмыкающиеся, но особого впечатления это на нее не произвело. Кто-то там сказал, будто мы произошли от обезьяны; какой вздор! А впрочем, может быть, так оно и есть. Ревущие в просторах океана зеленоватые громады волн внушали Эйлин почтение и страх, но не тот благоговейный трепет, который они будят в душе поэта. Пароход вполне надежен. Капитан, в синем мундире с золотыми пуговицами, такой любезный и предупредительный, сам сообщил ей это за столом. Эйлин полагалась на капитана. А кроме того, возле нее всегда был Каупервуд, настороженно, но без страха взиравший на величественное зрелище разбушевавшейся стихии и ни словом не обмолвившийся о том, на какие мысли оно его наводило. В Лондоне благодаря письмам, которыми их снабдил Эддисон, Каупервуды получили несколько приглашений в оперу, на званые обеды, в Гудвуд — провести конец недели и побывать на скачках. Они катались в колясках, фаэтонах, кабриолетах. На воскресенье новые знакомые пригласили Каупервудов в свой плавучий домик на Темзе. Хозяева-англичане, смотревшие на это знакомство как на способ установить связь с финансовыми кругами Америки, были с ними учтивы, но и только. Эйлин интересовало все: присмотревшись к манерам людей, к порядкам в домах, к прислуге, она сразу же разочаровалась в Америке, — там все не так, все нуждается в коренных переменах. — Нам предстоит прожить с тобой в Чикаго еще много лет. Эйлин, так что не увлекайся, — предостерегал ее Каупервуд. — Неужели ты не видишь, что эти люди терпеть не могут американцев? Поверь, если бы мы жили здесь постоянно, они бы нас к себе на порог не пустили. Во всяком случае сейчас. Мы здесь проездом, только поэтому они с нами и любезны. Каупервуду это было совершенно ясно. А у Эйлин совсем закружилась голова. Она только и знала, что переодевалась. В Хайд-парке, где она ездила верхом и каталась в кабриолете, в «Кларидже», где Каупервуды остановились, на Бонд-стрит, где она ходила по магазинам, мужчины глядели на нее в упор, а чопорные, консервативные, скромные в своих вкусах англичанки только поднимали глаза к небу. Каупервуд все это видел, но молчал. Он любил Эйлин и пока что не желал для себя лучшей жены, — как-никак, она очень хороша собой. Если ему удастся упрочить ее положение в чикагском обществе, этого на первых порах будет достаточно. Проведя три недели в Лондоне, где Эйлин отдала дань всему, чем издавна славится и гордится старая Англия, Каупервуды отправились в Париж. Здесь Эйлин овладел уже почти ребяческий восторг. — Ты знаешь, — серьезно заявила она Каупервуду на следующее же утро, — я теперь убедилась, что англичане совсем не умеют одеваться… Даже самые элегантные из них только подражают французам. Возьми хотя бы тех мужчин, что мы видели вчера в «Кафе дез Англэ». Ни один англичанин не сравнится с ними. — У тебя, дорогая моя, экзотический вкус, — отвечал Каупервуд, повязывая галстук, и покосился на нее со снисходительной усмешкой. — Французская элегантность — это уже почти фатовство. Я подозреваю, что некоторые из этих молодых людей были в корсетах. — Ну и что ж такого? Мне это нравится. Уж если щеголять, так щеголять. — Я знаю, что это твоя теория, детка, но во всем надо знать меру. Иногда полезно выглядеть и поскромнее. Не следует очень уж отличаться от окружающих, даже в выгодную сторону. — Знаешь что, — сказала она вдруг, глядя на него, — а ведь ты когда-нибудь станешь страшным консерватором, не хуже моих братцев. Она подошла к Каупервуду, поправила ему галстук и пригладила волосы. — Кому-нибудь из нас надо же быть консерватором для блага семьи, — шутливо заметил он. — А впрочем, я еще не уверена, что это будешь ты, а не я. — Какой сегодня чудесный день. Взгляни, как хороши эти белые мраморные статуи. Куда мы поедем — в Клюни, в Версаль или в Фонтенебло? Вечером надо бы сходить во Французскую комедию, посмотреть Сарру Бернар. Эйлин была счастлива и весела. Какое блаженство путешествовать с Каупервудом в качестве его законной жены. В эту поездку жажда удовольствий, интерес к искусству и твердая решимость завладеть всем, что может дать ему жизнь, пробудилась в Каупервуде с новой силой. В Лондоне, Париже и Брюсселе он познакомился с крупными антикварами. Его представление о старых школах живописи и великих мастерах прошлого значительно расширилось. Один лондонский торговец, сразу распознавший в Каупервуде будущего клиента, пригласил его и Эйлин посмотреть некоторые частные собрания и представил «иностранца, интересующегося живописью», кое-кому из художников — лорду Лейтону, Данте Габриэлю Россетти, Уистлеру. Для них Каупервуд был лишь самоуверенным, сдержанным, учтивым господином с несколько старомодными вкусами. Он же в свою очередь решил, что это люди неуравновешенные и самовлюбленные, с которыми ему никогда близко не сойтись, и единственное, что может их связывать, — это купля-продажа. Они ищут восторженных почитателей, а он мог быть только щедрым меценатом. Итак, Каупервуд посещал галереи, мастерские, рассматривал картины и думал — скоро ли, наконец, сбудутся его мечты о величии. В Лондоне он приобрел портрет кисти Реберна, в Париже «Пахаря» Милле, маленькую вещичку Яна Стена, батальное полотно Мейссонье и романтическую сцену в дворцовом саду Изабэ. Так возродилось прежнее увлечение Каупервуд а живописью, и было положено начало коллекции, занявшей в дальнейшем столь большое место в его жизни. По возвращении в Чикаго Каупервуд и Эйлин с увлечением отдались постройке нового дома. Насмотревшись старинных замков во Франции, они решили взять их за образец, и Тейлор Лорд не замедлил представить им архитектурный проект, воссоздававший некое подобие такого замка. Лорд считал, что потребуется год или даже полтора, чтобы завершить все работы, но Каупервуды особенно и не торопились: пока дом будет строиться, они упрочат свои светские связи и ко дню его окончания сумеют войти в избранный круг. В ту пору чикагское общество представляло собой весьма пеструю картину. Были тут люди, которые внезапно разбогатели после долгих лет бедности и еще не забыли ни своей деревенской церкви, ни своих провинциальных привычек и взглядов; были и другие, получившие капитал по наследству или перебравшиеся сюда из Восточных штатов, где крупные состояния существуют давно, — эти уже умели» жить на широкую ногу; и наконец подрастали дочки и сынки новоявленных богачей, — они видели возникшее в Америке тяготение к роскоши и надеялись со временем к ней приобщиться. Молодежь эта пока только мечтала о танцах у Кинсли, где устраивались благотворительные базары и вечера, о летних развлечениях на европейский лад. Но до этого им было еще далеко. Первая группа, самая богатая, пользовалась, несмотря на свое невежество и тупость, наибольшим влиянием, ибо высшим мерилом были здесь деньги. Их увеселения поражали своей глупостью: все сводилось к тому, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Эти скороспелые богачи боялись как огня всякой свежей мысли, всякого новшества. Только шаблонные мысли и поступки, только рабское преклонение перед условностями допускались в их среде. Пригласить в дом актрису, — как это часто делалось в Восточных штатах или в Лондоне, — сохрани господи! Даже на певцов и на художников они смотрели косо. Как бы чего не вышло. Но если бы из Европы в Чикаго случайно заехал какой-нибудь князь или граф, — чего, конечно, никогда не бывало, — местные тузы расшиблись бы в лепешку, что, кстати сказать, они и делали всякий раз, когда в их городе проездом останавливался какой-нибудь воротила из Восточных штатов. Каупервуд понял это сразу, как только приехал, но ему казалось, что если он станет богатым и влиятельным, построит роскошный особняк, то ему с Эйлин, быть может, удастся всколыхнуть это стоячее болото. К несчастью, Эйлин слишком горячилась, слишком уж явно искала случая утвердиться в обществе и добиться признания. Как дикарь, не приспособленный к самозащите и находящийся всецело во власти стихийных сил, она трепетала при мысли о возможной неудаче. Очень скоро Эйлин поняла, что существует категория светских женщин, совершенно чуждых ей по складу, сблизиться с которыми будет очень нелегко. Как-то раз она видела в магазине жену мануфактурного короля Энсона Мэррила, и та показалась ей непомерно чопорной и холодной. Миссис Мэррил, мнившая себя женщиной умной и высокообразованной, считала, что в Чикаго для нее нет подходящего общества. Она воспитывалась в Восточных штатах, в Бостоне, не раз ездила в Лондон и даже была принята в тамошнем свете. Чикаго представлялся ей просто грязной дырой, городом торгашей. Она предпочитала Нью-Йорк или Вашингтон, но была вынуждена жить здесь. С теми, кого миссис Мэррил удостаивала своим знакомством, она держалась покровительственно-надменно и имела обыкновение закидывать назад голову, устало опустив ресницы и страдальчески подняв брови, давая этим понять, как нестерпимо пошло все, что ее окружает. На миссис Мэррил Эйлин указала некая миссис Хадлстоун, супруг которой был владельцем мыловаренного завода. Хадлстоуны жили по соседству с Каупервудами и тоже не принадлежали к избранному обществу. Но миссис Хадлстоун прослышала, что Каупервуды — люди состоятельные, что они дружны с Эддисонами и собираются строить особняк, который обойдется им в двести тысяч (молва всегда все преувеличивает). Этого оказалось достаточно. Как соседка она сочла возможным посетить Каупервудов и оставить свою карточку, а Эйлин, радовавшаяся всякому новому знакомству, поспешила отдать ей визит. Миссис Хадлстоун была маленькой, довольно невзрачной, но чрезвычайно пронырливой и практичной особой. — Вы, конечно, слышали о миссис Мэррил. Вон она стоит возле прилавка с шелками, — заметила миссис Хадлстоун, указывая глазами на высокую худощавую брюнетку, очень высокомерную и чопорную. — Посмотрите, как она держит лорнет. Эйлин обернулась и критически осмотрела с головы до ног эту великосветскую даму, от которой так и веяло холодом. — Вы с ней знакомы? — спросила она с любопытством, продолжая разглядывать женщину у прилавка. — Нет, они живут на Северной стороне, а у нас каждый вращается в своем кругу, — с достоинством заявила миссис Хадлстоун. На самом же деле наиболее видные семейства ставили себе в заслугу именно то, что они выше всякого деления на «стороны» и избирают себе друзей из всех трех районов. — Вот как! — заметила Эйлин с притворным безразличием. Втайне она была раздосадована тем, что миссис Хадлстоун сочла нужным показать ей миссис Мэррил, точно та была какой-то знаменитостью. — По-моему, она подкрашивает брови, — шепнула миссис Хадлстоун, с завистью разглядывая жену мануфактуриста. — Я слышала, что ее муж не самый верный из супругов. У него, говорят, есть дама сердца, некая миссис Гледенс, она живет рядом с ними. — Вот оно что! — осторожно отозвалась Эйлин. После своих филадельфийских злоключений она решила быть начеку и остерегаться всяких сплетен. Стрелы злословия легко могли попасть и в нее. — Но миссис Мэррил, конечно, принадлежит к самому избранному обществу, — не могла не признать спутница Эйлин. С тех пор мечтой Эйлин стало познакомиться с этой дамой и попасть в число ее друзей. Она не знала, что ее честолюбивой мечте никогда не суждено сбыться, хотя, может быть, в глубине души и опасалась этого. Но среди чикагцев нашлись и такие, что нанесли Каупервудам визиты, едва те обосновались в городе, а кое с кем Каупервуды и сами сумели завязать знакомство. У них стали бывать Сандерленд Слэд, директор службы движения одной из Юго-западных железных дорог, проходивших через город, человек образованный, не лишенный вкуса и довольно состоятельный, со своей женой — честолюбивым ничтожеством; Уолтер Райзем Коттон, комиссионер по оптовой продаже кофе, известный больше как автор статеек на темы светской жизни, и его супруга, окончившая женский колледж Вассарра; Нори Симс, секретарь и казначей кредитного и сберегательного общества «Дуглас», лицо весьма влиятельное, но не в тех финансовых кругах, которые представляли Эддисон и Рэмбо. Каупервуды познакомились домами и с богатым меховщиком Станиславом Хоксема, и с оптовым торговцем мукой Дьюэйном Кингслендом, с мясоторговцем-экспортером Уэбстером Израэлсом, ювелиром Брэдфордом Кэнда. Все эти семейства пользовались некоторым весом в обществе. Все они имели недурные особняки и недурные доходы, — с ними приходилось считаться. Разница между Эйлин и большинством этих дам была примерно та же, что между реальностью и иллюзией. Но это требует некоторого пояснения. Чтобы понять умонастроения женщин того времени, следует мысленно обратиться к периоду средневековья, когда главенствующая роль принадлежала церкви и талантливые, но далекие от жизни поэты окружали женщину мистическим ореолом. С той поры девушки и женщины возомнили, что они созданы из другого, более благородного материала, чем мужчины, что их призвание — возвышать и облагораживать вторую половину рода человеческого и что их благосклонность — бесценнейший дар на свете. Эта розовая романтическая дымка, не имеющая ничего общего с понятием личной добродетели, привела к самовозвеличению некоторых женщин, вообразивших себя чуть ли не святыми и сверху вниз взиравших на мужчин, а подчас и на других женщин. В атмосферу, насквозь пропитанную этой нелепой иллюзией, и попала Эйлин в Чикаго. Дамы, с которыми она познакомилась, витали в выдуманном ими мире. Они почитали себя неземными созданиями, вроде тех, что увековечила религиозная живопись и поэзия. В своих мужьях они стремились видеть образец нравственности, воплощение идеала, от других женщин требовали незапятнанной чистоты. Эйлин, пылкая и непосредственная, подняла бы их на смех, если бы ей дано было это понять. Но она ровно ничего не понимала и чувствовала себя в присутствии этих женщин неловко и неуверенно. Возьмем, к примеру, миссис Симс, горячую почитательницу миссис Мэррил. Получить приглашение к Мэррилам на обед, чай или завтрак, прокатиться по городу с миссис Мэррил было верхом блаженства для миссис Симс. Она любила повторять bon mots[29] своего кумира, рассуждать о ее удивительной образованности, рассказывать, как люди будто бы отказывались верить, что это жена такой посредственности, как Энсон Мэррил, — словом, все те принятые в свете пошлости, начало которым, вероятно, было положено еще дамами древнего Египта и Халдеи. Сама миссис Симс была заурядная, ничем не примечательная карьеристка — довольно ловкая, довольно миловидная и элегантная. Две маленькие дочки Симсов, соответственно требованиям того времени, были уже обучены всем тонкостям светского обхождения, — они радовали родителей умением принимать изящные позы, мило улыбаться, грациозно приседать. Приставленная к ним няня ходила в форме, а гувернантка была необычайно важной. Сама миссис Симс вела себя очень надменно, считалась только с теми, кто стоял выше ее на социальной лестнице, и от всей души презирала тот заурядный мир, в котором вынуждена была прозябать. Пригласив Каупервудов на обед, миссис Симс тут же постаралась выведать у Эйлин что-нибудь о ее прошлом: не знавала ли она в Филадельфии Артура Ли и его жену, супругов Дрейк, Роберту Уилинг и семейство Уокеров? Миссис Симс сама с ними знакома не была, а только слышала о них от миссис Мэррил — повод вполне достаточный, чтобы пустить эти имена в ход. Эйлин сразу насторожилась и, спасения ради, стала лгать, уверяя миссис Симс, что знакома со всеми этими людьми. Впрочем, в какой-то мере это было правдой: до того как распространился слух о связи Эйлин с Каупервудом, они с ней раскланивались. Такое сообщение несколько успокоило миссис Симс. — Я непременно расскажу об этом Нелли, — воскликнула она, называя миссис Мэррил уменьшительным именем, чтобы показать, как близко они знакомы. Эйлин очень боялась, что если так пойдет дальше, то скоро весь город узнает, что Каупервуд сидел в тюрьме, что, прежде чем стать его женой, она была его любовницей и фигурировала в его бракоразводном процессе в качестве соответчицы — хотя имя ее и не упоминалось. Спасти Эйлин могли только ее красота и богатство Каупервуда, больше ей не на что было надеяться. Однажды на обеде у Кингслендов миссис Кэнда спросила Эйлин — как той показалось, весьма многозначительно — не была ли она знакома в Филадельфии с ее приятельницей, миссис Шюлер Эванс? Эйлин не на шутку перепугалась. — Тебе не кажется, что миссис Кэнда, а может быть, и не ей одной, многое известно о нас? — спросила она Каупервуда по пути домой. — Весьма возможно, а впрочем, не знаю, — отвечал он подумав. — На твоем месте я не стал бы особенно тревожиться. Если ты будешь постоянно об этом думать и волноваться, они скорее заподозрят, что у нас что-то не ладно. Я во всяком случае не скрывал и скрывать не собираюсь, что сидел в Филадельфии в тюрьме. Это все было подстроено. Никто не имел права сажать меня туда. — Ну, конечно, дорогой! — сказала Эйлин. — Даже если здесь что-нибудь и пронюхали — беда не велика. Что особенного в конце концов. Мало ли у кого что было до брака. — Все сводится к тому, примут ли они нас в свой круг. Не примут, — ну что ж, ничего не поделаешь. Нам нужно достроить дом и дать им возможность проявить свою доброжелательность. А не захотят — есть и другие города. В Нью-Йорке с деньгами мы добьемся чего угодно, поверь мне. Мы можем и там выстроить себе дворец и всех заставить с собой считаться, — для этого нужны только деньги. А деньги у нас будут, об этом беспокоиться нечего, — добавил он после недолгого молчания. — Я наживу здесь миллионы, нравится им это или не нравится, а потом… потом увидим. Не тревожься. Нет такой беды на свете, которой нельзя помочь деньгами, в этом я давно убедился. И Каупервуд крепко стиснул зубы, как делал всегда, принимая бесповоротное решение. Впрочем, это не помешало ему взять руку Эйлин и ласково ее пожать. — Не тревожься, — повторил он. — Разве нет других городов, кроме Чикаго? А лет через десять мы с тобой будем отнюдь не бедняками. Не падай духом. Все устроится, иначе и быть не может. Эйлин смотрела на освещенную огнями уходившую вдаль Мичиган авеню и на безмолвные особняки, мимо которых они проезжали. Белые шары фонарей мерцали во мраке, превращаясь вдали в еле приметные точки. Было темно, приятно веяло прохладой. О, если бы на деньги Фрэнка можно было купить доступ в этот заманчивый мир и благожелательное к себе отношение! Эйлин не отдавала себе отчета в том, как много зависело от нее самой в предстоящей борьбе.Глава 10
Испытание
Новоселье в особняке на Мичиган авеню Каупервуды справляли в конце ноября 1878 года. Прошло около двух лет, как они переселились в Чикаго, и эти два года не пропали зря. На бегах, званых обедах, на приемах в клубах «Юнион-Лиг» и «Келюмет», куда Эддисон ввел Каупервуда, они встречались с новыми людьми, завязывали знакомства и теперь могли уже разослать более трехсот пригласительных билетов на свое празднество. Правда, в числе этих трехсот гостей должны были быть и люди им незнакомые — друзья Мак-Кибена и Лорда. На приглашение отозвалось человек двести пятьдесят. Каупервуд вел свои дела в Чикаго настолько ловко, умудряясь все время оставаться в тени, что никто не заинтересовался его прошлым. Он был богат, хорошо воспитан, не лишен обаяния. Дельцы, встречавшиеся с ним в обществе, считали его приятным и неглупым. Эйлин была красива, с признательностью откликалась на малейшее внимание, и ей охотно воздавали должное. Тем не менее высший свет Каупервудов не признавал. Примечательно, что при известном такте и ловкости можно, не занимая никакого положения в обществе, создать себе вполне солидную репутацию. В те времена в Чикаго существовала еженедельная газетка, в которой печаталась светская хроника, и Каупервуд при посредстве Мак-Кибена заставил ее служить своим интересам. Представить сомнительное безупречным — не легкая задача в любых условиях, но если внешне у вас все обстоит благопристойно, если вы держитесь уверенно, обладаете некоторым обаянием, а главное, имеете капитал, то это уже намного упрощает дело. Мак-Кибен знал редактора Хортона Бигерса. Это был жалкий, опустившийся циник лет сорока пяти, с седыми волосами и унылой физиономией — не человек, а какой-то губчатый нарост или полип, проявлявший показное оживление и заинтересованность только там, где этого требовала выгода. В те дни редакторы светской хроники еще были вхожи в привилегированные дома — на положении гостей, а не репортеров; впрочем, и тогда уже их принимали не очень охотно. Мак-Кибен, желая услужить Каупервуду, который давал ему работу и к которому он был расположен, как-то сказал Бигерсу: — Вы ведь знаете Каупервудов? — Нет, — отвечал редактор. — А кто они такие? — Как всякий прихлебатель, он прислуживал только самым высшим кругам. — Ну как же? Каупервуд — банкир. У него контора на Ла-Саль-стрит. Они из Филадельфии. Миссис Каупервуд красавица — молода и всякое такое. Они строят себе особняк на Мичиган авеню. Вам бы следовало с ними познакомиться. Я думаю, что они будут приняты в лучших домах. Эддисоны с ними хороши. Если вы теперь окажете этим людям внимание, они вас не забудут. Каупервуд человек щедрый и вообще славный малый. Бигерс навострил уши. Светская хроника — небогатая пожива, а другие возможности заработать представляются не часто. Тем, кто хотел получить благоприятный отзыв прессы, дабы упрочить свое положение в обществе или проникнуть туда, приходилось подписываться — и подписываться не скупясь — на его газетенку. Вскоре после этого разговора Каупервуд получил подписной бланк из конторы «Сэтердей ревю» и сейчас же послал чек на сто долларов мистеру Хортону Бигерсу лично. Вслед за тем семейства, не пользовавшиеся особым весом в чикагском обществе, стали замечать, что когда они приглашают на званый обед Каупервудов, «Сэтердей ревю» помещает отчет, а в тех случаях, когда не бывает Каупервудов, не бывает и отчетов. По-видимому, с этими Каупервудами следует поддерживать знакомство. Но все же, кто они такие? Всякое внимание прессы, всякий даже самый скромный успех в обществе легко могут превратить человека в мишень для злословия. Тот, кто хоть чуть-чуть выделился из окружающей его среды, мгновенно привлекает к себе внимание светских судей: а кто он, откуда взялся, что собой представляет? Эйлин вложила в свой первый прием в новом доме всю душу, Каупервуд — весь свой вкус и изобретательность, — немудрено, что новоселье оказалось чем-то из ряда вон выходящим, а этого-то, учитывая известные обстоятельства, Каупервудам и не следовало делать. Чикагское общество, как мы уже говорили выше, отличалось большой косностью, на всякие новшества смотрело неодобрительно и мирилось с ними очень неохотно. Вторгнуться в этот узкий круг и ошеломить всех пышностью и невиданным блеском было по меньшей мере неосмотрительно. Наиболее осторожные, даже если и не придут совсем, то обо всем узнают и тоже произнесут свой приговор. Торжество началось в четыре часа. Гости продолжали съезжаться до половины седьмого. В девять открылся бал, для которого был приглашен знаменитый чикагский струнный оркестр. Танцы перемежались выступлениями более или менее известных артистов, а в одиннадцать часов был подан роскошный ужин; гости сидели за маленькими столиками в трех залах нижнего этажа, эффектно освещенных гирляндами китайских фонариков. В довершение всего Каупервуд повесил в картинной галерее не только лучшие полотна, вывезенные из-за границы, но и последнее приобретение — великолепного Жерома, который тогда находился в зените своей несколько экзотической славы. Картина изображала нагих одалисок у бассейна, выложенного разноцветной мозаикой. Для Чикаго такое искусство было чересчур «фривольным», люди мало смыслящие в живописи нашли картину непристойной, тогда как более просвещенные не могли бы увидеть в ней ничего предосудительного. Но так или иначе, а это произведение бесспорно оживляло галерею. Тут же висел и недавно присланный из Европы портрет Эйлин работы голландского художника Яна Ван-Беерса, с которым Каупервуды познакомились прошлым летом в Брюсселе. Он написал портрет в девять сеансов и создал довольно эффектную вещь, в яркой гамме красок. Эйлин была изображена на фоне летнего ландшафта, в глубине виднелся пруд, окруженный низким каменным парапетом, красное кирпичное крыло голландского загородного дома, куртины с тюльпанами и голубое небо в пушистых облачках. Эйлин сидела на вогнутом подлокотнике каменной скамьи, держа над головой розовый, отделанный кружевом зонтик; у ног ее зеленела трава; шелковый костюм в белую и голубую полоску — по последней парижской моде — облегал ее сильное, цветущее тело, соломенная шляпа с мягкими широкими полями, повязанная голубой лентой, бросала тень на искрящиеся жизнью и весельем глаза. Художнику удалось передать характер Эйлин — смелость, самонадеянность, дерзость, свойственные натурам неглубоким или еще не знавшим поражений. Сочный по краскам, хотя и несколько кричащий, как и все связанное с Эйлин, портрет способен был вызвать зависть в тех, кого природа наградила не столь щедро; будь это жанровая вещь — он мог бы считаться превосходным. В мягком свете газовых рожков Эйлин на этом полотне казалась особенно блистательной — праздная, беспечная, балованная красавица, которую всегда холили и берегли. Многие подолгу задерживались возле портрета, немало раздавалось по его адресу замечаний — кое-какие произносились громко, а кое-какие шепотом. С самого утра Эйлин терзали беспокойство и неуверенность. По настоянию Каупервуда она обзавелась секретаршей, тщедушной и усердной девушкой, которая рассылала приглашения, сортировала ответы, выполняла всякие поручения и подчас могла даже дать дельный совет. Фадета, камеристка-француженка, совсем сбилась с ног, спеша все подготовить для своей госпожи, которой предстояло сегодня надеть два туалета — один днем, другой — между шестью и восемью вечера. Разыскивая засунутую куда-то ленту или усердно начищая броши и пряжки, она так и сыпала своими «mon dieu» и «parbleu». Эйлин, по обыкновению, немало помучилась, прежде чем решила, что все в порядке. Особенно труден был выбор платья. Портрет, висевший в картинной галерее, словно бросал ей вызов. Эйлин казалось, что сегодня вечером ей предстоит явиться на суд всего общества. В конце концов она все-таки не последовала совету лучшей чикагской портнихи Терезы Доновен и остановила свой выбор на парижском платье от Борта из тяжелого коричневого бархата с золотистым отливом; оно очень шло к ее волосам и цвету лица и выгодно обрисовывало ее статную фигуру. В тон платью были и коричневые шелковые чулки и коричневые туфельки с красными эмалевыми пуговками. Серьги Эйлин сперва надела аметистовые, потом заменила их топазовыми. Беда Эйлин заключалась в том, что она не умела все это проделывать со спокойной уверенностью светской женщины. Она не столько управляла обстоятельствами, сколько обстоятельства управляли ею. В иных случаях ее выручало только спокойствие, выдержка и такт Каупервуда. Если Каупервуд был возле нее, она чувствовала себя знатной дамой, умеющей держаться непринужденно в любом обществе. Но стоило ей остаться одной, и она тотчас теряла мужество, хотя робость отнюдь не была ей свойственна. Эйлин никак не могла забыть о своем прошлом. В четыре часа Кент Мак-Кибен, элегантный и самоуверенный, окинув быстрым, не слишком одобрительным взглядом всю эту пышность, остановился в большой гостиной с Тейлором Лордом, который, в последний раз осмотрев весь дом, уже собрался было уходить, чтобы вернуться вечером, но задержался, увидев адвоката. Будь Лорд и Мак-Кибен короче знакомы, они, вероятно, пустились бы в обсуждение предстоящего приема и шансов Каупервудов на успех, но сейчас, не решаясь говорить откровенно, только обменивались общими, ничего не значащими фразами. В эту минуту во всем блеске своей красоты в гостиной появилась Эйлин. Кент Мак-Кибен подумал, что она никогда еще не была так хороша, как сегодня. Что ни говори, а по сравнению с этими надутыми ханжами, которых так много встречаешь в свете, с этими хитрыми, злобными, расчетливыми карьеристками, умело спекулирующими своим общественным положением, Эйлин просто восхитительна. Жаль только, что ей недостает уверенности в себе, ей бы следовало быть чуть сдержанней, чуть холоднее, слишком уж она простодушна и приветлива. И все же при поддержке Каупервуда она может достигнуть многого. — Очаровательно! Все здесь совершенно очаровательно! — заверил он Эйлин. — Я как раз говорил мистеру Лорду, что я в восторге от вашего особняка. Услышав такую похвалу от Мак-Кибена, человека светского, да еще в присутствии Тейлора Лорда, тоже принятого в высшем обществе, Эйлин была чрезвычайно польщена. Она просияла от удовольствия. Одним из первых прибыли миссис Уэбстер Израэлс, миссис Брэдфорд Кэнда и миссис Уолтер Райзем Коттон, — они обещали помочь Эйлин принимать гостей. Дамы эти, гордившиеся своей прозорливостью и умением разбираться в людях, даже и не подозревали о том, какому риску подвергают свою репутацию: их сбили с толку роскошь, которой окружила себя Эйлин, растущая известность Каупервуда в финансовых кругах и великолепие нового дома. У миссис Уэбстер Израэлс был такой странный рот, что Эйлин, встречаясь с нею, всякий раз поражалась: «До чего же он а похожа на рыбу!» Однако миссис Израэлс нельзя было назвать безобразной, а в этот день оживление придавало ей даже некоторую миловидность. Миссис Брэдфорд Кэнда в блекло-розовом платье с серебристо-серой отделкой, отчасти скрадывавшем ее худобу, была еще довольно привлекательна, несмотря на свою сухопарость. Она принимала во всем самое горячее участие, полагая, что присутствует при знаменательном событии. Миссис Уолтер Райзем Коттон, несколько более молодая, чем две другие дамы, за годы пребывания в колледже набралась модной учености и считала себя «выше предрассудков». Она инстинктивно угадывала, что Каупервуды, пожалуй, не принадлежат к сливкам общества, но они быстро продвигались по общественной лестнице и, чего доброго, могли обогнать остальных. А потому с ними следовало быть любезной. В жизни бывает иной раз так, как на картинах Монтичелли: отдельные предметы, фигуры, лица теряют свою обособленность, сливаются в красочное целое, и частное исчезает в общем блеске. Новый особняк Каупервудов с огромными до полу окнами первого этажа, с высеченными из камня тяжелыми гирляндами цветов по фасаду, с резной дубовой дверью подъезда, скрытой в глубокой нише, вскоре заполнился пестрым оживленным потоком гостей. Многих Каупервуд и Эйлин видели впервые; это были гости, приглашенные Мак-Кибеном и Лордом, которых они тут же представляли хозяевам. Площадка у подъезда и соседние переулки были до отказа забиты нарядными экипажами и лошадьми, нетерпеливо грызущими удила. Все, с кем Каупервуды были мало-мальски знакомы, приехали пораньше и оставались дольше других, видя, что тут есть на что посмотреть и на что полюбоваться. Ресторатор Кинсли прислал целую маленькую армию вышколенных официантов, которых дворецкий Каупервуда расставил вокруг стола. Столовая, выдержанная в красновато-коричневых тонах, излюбленных в древней Помпее, сверкала хрусталем, поражая взор великолепием сервировки. Платья женщин — здесь были представлены все оттенки серого, лилового, коричневого и зеленого цветов, модных той осенью, — эффектно сочетались с коричневыми тонами вестибюля, темно-серыми с позолотой стенами гостиной, суриком столовой, белой с позолотой окраской музыкальной комнаты и нейтральной сепией картинной галереи. Эйлин, не терявшая твердости духа благодаря присутствию Каупервуда, который переходил из столовой в библиотеку, из библиотеки в картинную галерею, беседуя то с одной, то с другой группой мужчин, стояла у входа в зал, блистая своей тщеславной красотой, восхитительная, но достойная жалости — воплощение тщеты всего показного, жестокого: «иметь и не иметь». Эта разряженная толпа, в которой было больше любопытства, чем дружеского внимания, больше зависти, чем благожелательности, больше придирчивости, чем снисходительности, явилась сюда только за тем, чтобы все высмотреть и все раскритиковать. — Право, даже не понимаю почему, но ваш дом, миссис Каупервуд, напоминает мне вернисаж, — как бы между прочим заметила миссис Симс. Эйлин уловила колкость, но не нашлась, что ответить, а только вспыхнула от обиды и язвительно спросила: — Вы так думаете? Удовлетворенная достигнутым эффектом, миссис Симс горделиво двинулась дальше в сопровождении влюбленного в нее молодого художника, который всегда следовал за ней по пятам. Это замечание, как, впрочем, и многое другое, показало Эйлин, что она еще далеко не «свой» человек в высшем обществе. Пока что ни с ней, ни с Каупервудом в свете считаться не желали. Она почти возненавидела недалекую миссис Израэлс, которая стояла возле нее в эту минуту и слышала замечание миссис Симс. И все же миссис Израэлс хоть что-то собою представляла: миссис Симс удостоила ее легким кивком и довольно снисходительным «как поживаете?». Появление Эддисонов, Слэдов, Кингслендов, Хоксема и других уже ничего не могло поправить: Эйлин утратила душевное равновесие. Но когда после обеда молодежь во главе с Мак-Кибеном — он был распорядителем на балу — начала танцевать, Эйлин снова, несмотря на свою неуверенность, оказалась на высоте. Она была весела, смела, очаровательна. Кент Мак-Кибен, слывший великим мастером и знатоком всех тайн и тонкостей полонеза, вел ее в первой паре этого грациозного, праздничного шествия, а за ними второй парой следовал Каупервуд с миссис Симс. Эйлин, в белом атласном платье, шитом серебром, в бриллиантовых серьгах, диадеме, ожерелье и браслетах, ослепляла почти экзотической роскошью. Она блистала в буквальном смысле слова. Мак-Кибен был совершенно покорен и рассыпался в комплиментах. — Какое наслаждение танцевать с вами, — шептал он, наклоняясь к ней. — Вы красивы, как мечта! — Но мечта отнюдь не бесплотная, в этом, знаете ли, легко убедиться, — ответила Эйлин. — О, если б мне выпало такое счастье! — шутливо воскликнул он. Эйлин поняла намек и в ответ взглянула на него с дразнящей улыбкой. Миссис Симс, которую усиленно занимал Каупервуд, сколько и старалась, так и не смогла расслышать их разговора. После полонеза Эйлин, окруженная шумной, легкомысленной толпой развязней «золотой молодежи», повела всех смотреть свой портрет. Люди старшего поколения осуждали обилие вина, обнаженных женщин на картине Жерома, висевшей в одном конце галереи, вызывающе яркий портрет Эйлин в другом ее конце и самое хозяйку дома, за которой слишком усердно увивались некоторые из молодых мужчин. Миссис Рэмбо, женщина добрая и благожелательная, сказала своему мужу, что Эйлин, как ей кажется, «слишком спешит жить». Миссис Эддисон, пораженная кричащей роскошью и размахом празднества, устроенного Каупервудами и затмившего, если не многолюдностью и респектабельностью, то блеском все вечера у них в доме, заметила мужу: — А Каупервуд, видимо, наживает бешеные деньги. — Так ведь он прирожденный финансист, Элла, — наставительно пояснил Эддисон. — Он спекулирует на бирже и, конечно, наживает и будет наживать большие деньги. А вот примут ли их в свете — не знаю. Будь он один, без жены, это было бы проще. Она очень красива, но Каупервуду она не пара, не такая ему нужна жена. Она как-то даже слишком хороша. — Ты прав. Мне она нравится, но я боюсь, что она сама много себе напортит. А жаль. Как раз в эту минуту Эйлин, с раскрасневшимся от лести и комплиментов счастливым лицом, проходила мимо них в сопровождении двух улыбающихся юнцов. Каупервуды отвели под танцы музыкальную комнату и гостиную, и теперь все устремились в этот импровизированный бальный зал. Навстречу Эйлин неслись звуки музыки, запах цветов, многоголосый говор; взволнованная, она приостановилась на пороге, окидывая взглядом движущуюся, блестящую, разряженную толпу. — Давно я не видел таких красавиц, как миссис Каупервуд, — заметил Брэдфорд Кэнда редактору светской хроники Хортону Бигерсу. — Она, пожалуй, даже чересчур красива. — А какое она, по-вашему, произвела впечатление? — допытывался осторожный Бигерс. — Очаровательная женщина, только боюсь, что она недостаточно сдержанна, недостаточно умна. Ей бы надо держаться посолидней. Она слишком увлекается. Наши зрелые красотки не захотят у них бывать, рядом с ней они все будут казаться старухами. Если бы миссис Каупервуд была не столь молода и не столь красива, к ней отнеслись бы лучше. — Я тоже так думаю, — сказал Бигерс. На самом деле он вовсе этого не думал и вообще неспособен был к подобным обобщениям. Но теперь он был твердо в этом убежден, ибо так сказал Брэдфорд Кэнда.Глава 11
Плоды дерзаний
На следующий день за утренним кофе у Симсов и во многих других чикагских домах только и было разговору, что о новоселье у Каупервудов и о том, будут они приняты в обществе или нет. — Как хочешь, но миссис Каупервуд совершенно не умеет себя держать, — заметила миссис Симс своему мужу. — И вообще они устроили не новоселье, а какую-то ярмарку. Надо же додуматься: в одном конце галереи повесить ее портрет, а в другом — этого Жерома! А сегодняшняя заметка в «Пресс»! Словно они и в самом деле что-то собой представляют. Миссис Симс подозревала теперь, и не без основания, что дала себя провести своим приятелям Тейлору Лорду и Кенту Мак-Кибену, познакомившим ее с Каупервудами, и это ее злило. — А что ты скажешь о гостях? — спросил мистер Симс, намазывая маслом булочку. — Все это люди без положения. Кроме нас, в сущности, и назвать-то некого. Я очень жалею теперь, что мы поехали.Кто такие эти Израэлсы и Хоксема? Вот несносная женщина. (Она имела в виду миссис Хоксема.) Замучила меня своей глупой болтовней. — Я вчера беседовал с издателем «Пресс» Хейгенином, — заметил мистер Симс. — Он утверждает, что Каупервуд приехал сюда после того, как обанкротился в Филадельфии и что ему там будто бы было предъявлено несколько исков. Ты что-нибудь об этом слышала? — Нет. Но миссис Каупервуд говорит, что была там знакома с Дрейками и Уокерами. Я все собиралась спросить у Нелли. Мне всегда казалось странным, что они уехали из Филадельфии, раз дела у него там шли хорошо. Что-то тут не так. Симса раздражало, что Каупервуд уже успел завоевать известное положение в финансовых кругах Чикаго, и он завидовал ему. К тому же Каупервуд, без сомнения, был весьма неглуп и очень энергичен, а это обычно вызывает в людях зависть, если только они не рассчитывают на твои благодеяния или сами не преуспели в какой-то другой области. Теперь Симсу захотелось выяснить, кто такой Каупервуд, узнать всю его подноготную.Но не успело еще чикагское общество произнести свой приговор над Каупервудами, как произошли события, в какой-то мере даже более важные для их будущего в Чикаго, хотя Эйлин и не отдавала себе в этом отчета. Отношения между новыми и старыми газовыми компаниями все более обострялись. Обеспокоенные акционеры старых компаний стали доискиваться, кто же все-таки стоит за этими новыми компаниями, которые так нагло покушаются на их права и привилегии. Некоему Парсонсу, поверенному Северо-чикагской газовой, было поручено противодействовать махинациям де Сото Сиппенса и старого генерала Ван-Сайкла. Узнав, что муниципальный совет Лейк-Вью постановил разрешить концессию и что апелляционный суд собирается это постановление утвердить, Парсонс напал на удачную мысль: он предложил выдвинуть против новой компании обвинение в тайном сговоре и поголовном подкупе членов муниципалитета. Удалось раскопать немало доказательств, подтверждающих, что Дьюниуэй, Джейкоб Герехт и другие члены муниципалитета Лейк-Вью получили взятку, и, возбудив дело, можно было оттянуть окончательное решение вопроса о выдаче концессии, с тем чтобы выиграть время и дать возможность старой компании еще что-нибудь придумать и предпринять. Внимательно следя за каждым шагом Сиппенса и генерала Ван-Сайкла, Парсонс установил, что тот и другой всего лишь подставные лица, а истинный вдохновитель всей этой аферы — Каупервуд или еще какие-то дельцы, которых он в свою очередь представляет. Парсонс однажды зашел-даже в контору к Каупервуду в надежде поговорить с ним и что-нибудь у него выведать, но хитрость не удалась; тогда он принялся еще усерднее наводить справки о прошлом Каупервуда и его деловых связях. Завершились все эти розыски и слежка тем, что в окружном суде в конце ноября было возбуждено дело по обвинению Фрэнка Алджернона Каупервуда, Генри де Сото Сиппенса, Джадсона П.Ван-Сайкла и других в тайном сговоре; почти одновременно Западная и Южная компании со своей стороны тоже обратились в суд. И те и другие указывали, что за новыми компаниями стоит Каупервуд, намеревающийся принудить старые компании откупиться от него. Газеты не замедлили опубликовать историю, которая произошла с Каупервудом в Филадельфии, правда, не во всех подробностях, а лишь то, что он сам незадолго перед тем нашел нужным им сообщить. «Тайный сговор» и «подкуп» — слова неблагозвучные, однако обвинения, состряпанные адвокатом конкурента, еще ровно ничего не доказывают. Но тюрьма, банкротство, развод, скандал — пусть даже газеты упоминали обо всем этом лишь вскользь и очень осторожно — возбудили всеобщий интерес и привлекли внимание к Каупервуду и его супруге. Каупервуда попросили дать интервью, и он заявил, что не состоит пайщиком новых компаний, а является всего лишь их финансовым агентом, и что выдвинутые против него обвинения — чистейший вымысел, обычная юридическая уловка, с целью как можно больше запутать положение. Он грозил подать в суд за клевету. Судебные иски ни к чему не привели (Каупервуд умел прятать концы в воду), однако обвинения все же были ему предъявлены, и Каупервуд приобрел известность как ловкий, изворотливый делец с довольно сомнительным прошлым. — О Каупервуде начинают писать в газетах, — сказал как-то Энсон Мэррил жене за утренним завтраком. На столе перед ним лежал номер «Таймса», и он смотрел на заголовок, расположенный по тогдашней моде пирамидой и гласивший: «Чикагские граждане обвиняются в тайном сговоре. В окружной суд подана жалоба на Фрэнка Алджернона Каупервуда, Джадсона П.Ван-Сайкла, Генри де Сото Сиппенса и других». Далее шли подробности. — А я думал, он обыкновенный маклер. — Я знаю о них лишь то, что мне рассказывала Белла Симс, — ответила жена. — А что про него пишут? Энсон Мэррил протянул ей газету. — Мне всегда казалось, что это выскочки, — объявила миссис Мэррил. — Я никогда ее не видела, но говорят, она совершенно невозможна. — Этот филадельфиец неплохо начинает, — улыбнулся Мэррил. — Я видел его в клубе. Он производит впечатление человека очень толкового. Ему пальца в рот не клади. Совершенно так же и мистер Норман Шрайхарт, который неоднократно видел Каупервуда в залах клубов «Келюмет» и «Юнион-Лиг», но до сего времени нисколько им не интересовался, вдруг начал наводить о нем справки. Высоченного роста, сильный и здоровый как бык и чрезвычайно энергичный, он был прямой противоположностью изнеженному Мэррилу. Когда газеты заговорили о Каупервуде, Шрайхарт, встретив как-то в клубе Эддисона, подсел к нему на большой кожаный диван. — Что представляет собой этот Каупервуд, о котором сейчас столько пишут в газетах? — спросил он банкира. — Вы ведь всех знаете, Эддисон, и, помнится, даже когда-то знакомили меня с ним. — Как же, как же, — весело отвечал Эддисон, который, несмотря на сыпавшиеся на Каупервуда нападки, был в общем доволен оборотом, который приняло дело. Страсти разгорелись, а это свидетельствовало о том, что Каупервуд действует достаточно ловко, и главное — что он сумел отвлечь подозрение от дельцов, стоявших за его спиной. — Он уроженец Филадельфии. Несколько лет назад перебрался сюда и открыл хлеботорговую и комиссионную контору. Теперь он банкир. Неглупый человек, как мне кажется. И довольно богатый. — Газеты пишут, что в тысяча восемьсот семьдесят первом году он обанкротился в Филадельфии, задолжав миллион долларов. Правда это? — Насколько я знаю, правда. — И действительно сидел в тюрьме? — Да, как будто сидел. Но, насколько я понимаю, никаких преступлений он не совершал, а просто чего-то не поделил с местными финансистами и политиками. — И ему всего сорок лет? — Что-то около того. А почему это вас интересует? — Да так. Довольно смелый у него план — обобрать старые газовые компании. Вы думаете, ему это удастся? — Ну, этого я не знаю. Мне ведь известно только то, что я прочел в газетах, — осторожно отвечал Эддисон. Ему вообще не хотелось продолжать этот разговор. Каупервуд через подставных лиц пытался как раз ценой некоторых уступок прийти к соглашению и объединить все компании. Но дело пока не очень клеилось. — Хм! — произнес Шрайхарт, сам удивляясь тому, что ни он, ни Мэррил, ни Арнил, ни другие дельцы не додумались до сих пор заняться производством газа или скупить акции у старых компаний. С этой мыслью он ушел из клуба, а на следующее утро у него уже сложился собственный план. Подобно Каупервуду, Шрайхарт был хитрый, холодный и расчетливый делец. Он твердо верил в будущее Чикаго и во всякое начинание, связанное с ростом города. Когда деятельность Каупервуда привлекла его внимание к газовым предприятиям, Шрайхарт быстро смекнул, какие возможности в них заложены. Пожалуй, и сейчас еще не поздно ввязаться в борьбу; если действовать достаточно ловко, не исключено, что удастся выхватить из-под носа противников этот лакомый кусок. А не то можно попытаться перетянуть на свою сторону Каупервуда. Человек властный, Шрайхарт не любил участвовать в делах в качестве младшего компаньона или мелкого вкладчика. Если уж он за что-нибудь брался, то желал распоряжаться и руководить. Он решил пригласить к себе Каупервуда и потолковать с ним. Секретарь написал по его указанию письмо, в котором Каупервуда в довольно высокомерном тоне просили зайти «по важному делу». Каупервуд считал сейчас свое положение в финансовом мире Чикаго достаточно прочным, однако он еще не забыл, как совсем недавно его чернили все, кому не лень. Все это вместе взятое заставляло его относиться с нескрываемым презрением ко всему человечеству — равно и к бедным и к богатым. К тому же он отлично помнил, что Шрайхарт, которому он был представлен, никогда до сей поры не удостаивал его ни малейшим вниманием. «Мистер Каупервуд просит сообщить, — писала под его диктовку секретарша Антуанета Новак, — что он в настоящее время очень занят, но будет счастлив видеть мистера Шрайхарта в любое время у себя в конторе». Самонадеянный, властный Шрайхарт разозлился, получив это письмо, но потом рассудил, что от свидания с Каупервудом вреда не будет, а пользу оно принести может, и однажды под вечер отправился к нему в контору, где и был принят весьма любезно. — А, мистер Шрайхарт, как поживаете? — приветствовал его Каупервуд, протягивая ему руку. — Очень рад вас видеть. Мы, насколько я помню, встречались с вами однажды, несколько лет назад. — Да, да, припоминаю, — отвечал Шрайхарт — широкоплечий, с квадратным лицом, коротко подстриженными усиками над упрямой верхней губой и жесткими, пронизывающими черными глазами. — Судя по газетам, если только им можно верить, — приступил он прямо к делу, — вас интересуют местные газовые предприятия, не так ли? — На газеты никогда не следует особенно полагаться, — учтиво возразил Каупервуд. — Но, может быть, вы соблаговолите сперва пояснить мне, что заставляет этим интересоваться вас? — Видите ли, по правде говоря, — отвечал Шрайхарт, глядя в упор на Каупервуда, — я сам интересуюсь газом. Это довольно выгодная сфера приложения капитала, а кроме того, ко мне недавно обратились кое-кто из членов правления старых компаний и просили помочь им объединиться. (Шрайхарт лгал.) В общем мне хотелось бы знать, неужели вы в самом деле рассчитывали добиться таким путем какого-то успеха? Каупервуд улыбнулся. — Прежде чем обсуждать этот вопрос, я желал бы получить более исчерпывающие сведения о ваших намерениях и связях. Вы говорите, что к вам обратились акционеры старых компаний и просили помочь им прийти к какому-то соглашению. Так ли я вас понял? — Так. — И вы думаете, что вам удастся их объединить? А на каких условиях? — Мне кажется, что проще всего учредить держательскую компанию и за каждую старую акцию выдать акционерам по две или три новых. Тогда можно было бы избрать одно правление, иметь одну контору и прекратить эти тяжбы, от чего все только бы выиграли. Он говорил небрежным, покровительственным тоном, словно и не подозревая, что все это было давно обдумано самим Каупервудом, и тот не мог не подивиться спокойной наглости, с какою этот видный чикагский делец, который еще недавно даже не находил нужным с ним здороваться, теперь преподносит ему его же собственный план. — А на каких условиях думаете вы привлечь к этому делу новые компании? — осторожно осведомился Каупервуд. — Да на таких же, как и все остальные, если только капитал у них не слишком разводнен. О подробностях я еще не думал. По-моему, две или три акции за одну, смотря по тому, каков реально вложенный капитал. Надо ведь принять во внимание и претензии старых компаний. Каупервуд размышлял. Стоит или не стоит обсуждать это предложение? Представлялся случай быстро и без особых хлопот заработать солидный куш, продав свои акции старым компаниям. Но тогда львиная доля барыша от всей этой комбинации достанется уже не ему, а Шрайхарту. А выждав, может быть удастся добиться от старых компаний более выгодных условий, даже если Шрайхарт и сумеет их объединить. Трудно сказать. Наконец он спросил: — А какой пакет акций останется у вас на руках — или на руках у учредителей — после того, как вы разочтетесь со старыми и новыми компаниями? — Процентов тридцать пять, сорок от всех акций. Надо же что-нибудь получить за свои труды, — с любезной улыбкой отвечал Шрайхарт. — Совершенно справедливо, — подтвердил Каупервуд и улыбнулся, — но поскольку я срезал палку, которой вы теперь собираетесь сбить это сочное яблочко, основательная часть должна достаться и мне, как вы полагаете? — Что вы хотите этим сказать? — Ничего, кроме того, что я сказал. Новые компании, без которых ни о каком объединении не могло бы идти и речи, основал я. Ваш план ничем не отличается от того, который уже давно был предложен мною. Правление и директора старых компаний злы на меня, они считают, что я покушаюсь на какие-то их особые права и привилегии. Если единственно по этой причине они предпочитают иметь дело с вами, а не со мной, это вовсе не значит, что мне не причитается большая доля учредительской прибыли. Мои личные капиталовложения в новые компании не так уж велики. Я скорее выступаю здесь в роли финансового агента. (Это не соответствовало истине, но Каупервуд предпочитал, чтобы Шрайхарт думал именно так.) Шрайхарт улыбнулся. — Но вы забываете, дорогой мой, — пояснил он, — что я обеспечу почти весь необходимый капитал. — А вы забываете, — перебил его Каупервуд, — что я не новичок в деловом мире. Если хотите, я сам гарантирую весь капитал и дам вам еще хорошую премию за услуги. Заводы и концессии старых и новых компаний чего-нибудь да стоят. Вы упускаете из виду, что Чикаго растет. — Все это мне известно, — уклончиво отвечал Шрайхарт, — но я знаю также, что вам предстоит длительная борьба, на которую вы изведете уйму денег. Обстоятельства сложились так, что у вас нет никаких шансов договориться со старыми компаниями. Насколько я понимаю, они не желают иметь с вами дела. Объединение это может провести только какое-нибудь незаинтересованное лицо вроде меня, и непременно человек влиятельный или, вернее, давно живущий в Чикаго и лично знакомый со всеми этими людьми. А у вас ведь нет никого, кто бы мог это сделать лучше, чем я. — Почему же, очень возможно, что мне удастся кого-нибудь найти, — хладнокровно возразил Каупервуд. — Навряд ли. И во всяком случае не при том положении, какое создалось сейчас. Старые компании не пойдут вам навстречу, а со мной они готовы вести дело. Не лучше ли вам согласиться на мое предложение и поскорее со всем этим покончить? — На таких условиях — нет, — отрезал Каупервуд. — Мы слишком глубоко проникли на территорию противника и слишком многое уже сделали. Три или четыре акции за одну — сколько бы там ни получили акционеры старых компаний, — самое меньшее, на что я могу согласиться в отношении новых акций. А затем половина того, что останется, должна пойти мне. Мне ведь придется делиться с другими. (Это тоже не соответствовало истине.) — Нет, — Шрайхарт упрямо замотал большой головой, — невозможно. Риск слишком велик. Я бы мог еще, пожалуй, дать вам четвертую часть — да и то нужно подумать. — Половина или ничего, — решительно сказал Каупервуд. Шрайхарт поднялся. — Это ваше последнее слово? — Последнее. — Боюсь, что мы с вами не сговоримся. Жаль. Борьба может оказаться длительной и обойдется вам очень дорого. — Я это предусмотрел, — отвечал финансист.
Глава 12
Новый союзник
Вскоре после того как Каупервуд столь решительно отказал Шрайхарту, ему пришлось убедиться, что «взявший меч от меча и погибнет». В самом деле, не прошло и нескольких дней, как его вездесущий поверенный, старый генерал Ван-Сайкл, зорко следивший за всем, что делалось в законодательном собрании штата, где регистрировались новые акционерные компании, в городском и пригородных муниципалитетах, в судах и других присутственных местах, проведал о серьезном контрударе, который готовил противник. Он первый и сообщил Каупервуду, что компания на Северной стороне что-то затевает. Как-то под вечер Ван-Сайкл явился к Каупервуду в своей залосненной шинели внакидку и мягкой шляпе, надвинутой на кустистые брови, и, не отвечая на приветствие последнего: «Добрый день, генерал, чем могу служить?» — с мрачным видом опустился в кресло. — Готовьтесь к шторму, капитан! (Так он всегда величал Каупервуда.) — А что случилось? — спросил тот. — Пока ничего, но может случиться. Кто-то, не знаю еще кто, хочет объединить все три старые компании. Учреждается новая компания. Чикагская объединенная газовая и топливная, в законодательное собрание уже поступило заявление о регистрации, а в кредитном обществе «Дуглас» директора совещаются чуть не каждый день. Мне это сказал Дьюниуэй, а он узнал от своих приятелей. Каупервуд по своей старой привычке размеренно постукивал кончиками пальцев друг о друга. — Позвольте-ка… Кредитное и сберегательное общество «Дуглас»? Председателем там мистер Симс. Ну, он недостаточно хитер, чтобы выдумать такую штуку. А кто же учредители? Генерал протянул ему записку с четырьмя именами. Ни один из этих людей не имел ни малейшего отношения к правлениям старых компаний. — Все подставные лица, — коротко сказал Каупервуд и, помолчав, добавил: — А ведь я, кажется, знаю, кто там орудует. Но вы не беспокойтесь, генерал, пусть объединяются, ничего они с нами поделать не могут. Рано или поздно им все равно придется либо продать нам свои акции, либо купить наши. Тем не менее он был очень раздосадован, что Шрайхарт сумел убедить газовые компании объединиться. Он сам как раз собирался подослать к ним Эддисона с аналогичным предложением. По-видимому, Шрайхарт начал действовать сразу после разговора с ним. Каупервуд немедленно отправился в «Лейк-Сити Нейшнл», чтобы повидать Эддисона. — Вы слышали новость? — воскликнул банкир, едва Каупервуд переступил порог его кабинета. — Они объединяются. Это все Шрайхарт. Как раз то, чего я опасался. Симс из кредитного общества «Дуглас» будет у них финансовым агентом. Я узнал об этом десять минут назад. — И я тоже, — хладнокровно отвечал Каупервуд. — Нам следовало действовать быстрее, но что об этом теперь говорить. А на каких условиях они объединяются? — Они получают три новых акции за одну старую. Около тридцати процентов акций держательской компании остается Шрайхарту, который вправе продать их или оставить себе по своему усмотрению. Он гарантирует им процент на вложенный капитал. А ведь это мы для него все подготовили — загнали ему дичь прямо в силок. — Так или иначе, ему все равно придется иметь дело с нами, — отвечал Каупервуд. — Я вот что думаю: нужно сейчас же обратиться в городской муниципалитет и просить концессию на весь город. Этого можно добиться. А если мы такую концессию получим, то поставим их на колени. Мы будем в лучшем положении, чем они, так как у нас ведь имеются компании в пригородах. А сами с собой мы уж сумеем объединиться. — Это нам обойдется недешево. — Но и не так уж дорого. Скорее всего нам вовсе не понадобится ни прокладывать труб, ни строить заводов. Эти джентльмены сразу прибегут с предложением скупить наши акции, продать свои или объединиться. Тогда мы будем диктовать им условия. Предоставьте мне действовать. Кстати, вы случайно не знакомы с этим самым Мак-Кенти, от которого здесь у вас в Чикаго так много зависит, — Джоном Дж. Мак-Кенти? Игрок, владелец широкой сети публичных домов, тайный пайщик многочисленных подрядных контор и совладелец пивных заведений, без участия которого не избирался ни один мэр и ни один олдермен, Мак-Кенти был ангелом-хранителем и заступником разномастного уголовного сброда Чикаго, негласным заправилой политических кулис, и естественно, что во всех делах и начинаниях, где требовалась санкция муниципалитета и законодательного собрания штата, с ним волей-неволей приходилось считаться. — Нет, я с ним не знаком, но могу достать вам письмо к нему, — ответил Эддисон. — А что вы надумали? — Пока не спрашивайте. Раздобудьте только солидную рекомендацию. — Я это сделаю сегодня же и пришлю вам, — пообещал Эддисон. Каупервуд распрощался и ушел, а банкир стал размышлять об этом новом маневре. На Каупервуда можно положиться. Он уж сумеет вырыть яму конкуренту. Эддисон часто поражался его изобретательности и не спорил, когда тот предпринимал что-нибудь очень смелое и дерзкое. Человек, о котором в эту трудную минуту вспомнил Каупервуд, был весьма красочной и любопытной фигурой, типичной для Чикаго и Западных штатов того времени. Всегда улыбающийся, любезный, обходительный и вкрадчивый, Мак-Кенти обаянием и коварством напоминал Каупервуда, но отличался от него известной грубостью и примитивностью, не сказывавшейся, правда, на его внешности, — грубостью, не свойственной и даже чуждой Каупервуду. Что-то в натуре Мак-Кенти привлекало к нему людскую накипь большого города, весь этот темный преступный мир, который был сродни его душе. Есть такие люди, без художественных наклонностей и духовных интересов, не расположенные к чувствительности и тем менее к философии и все же благодаря своей жизненной силе обладающие какой-то странной притягательностью; они сами являются как бы сгустком жизни, не светлой, не слишком темной и многослойной, как агат. Мак-Кенти попал в Америку трехлетним ребенком — родители его эмигрировали из Ирландии во время голода. Детство его прошло на южной окраине Чикаго, в жалкой лачуге с глиняным полом, стоявшей у скрещения железнодорожных путей, которые сплетались здесь в густую сеть. Отец Мак-Кенти работал на железной дороге чернорабочим-поденщиком и лишь под старость был назначен десятником; детей в семье было восемь человек, и Джону с ранних лет пришлось добывать себе кусок хлеба. Сначала его поместили мальчиком в лавку, потом он служил рассыльным на телеграфе, заменял официанта в пивной, и наконец, устроился буфетчиком. С этого, собственно, и началась карьера Джона Мак-Кенти. На него обратил внимание один дальновидный политический деятель, посоветовал ему изучить законы и со временем выдвинуть свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Еще совсем мальчишкой Мак-Кенти много кое-чего узнал — он был свидетелем и подтасовки избирательных бюллетеней, и покупки голосов, и казнокрадства, и всевластия политических лидеров, распределявших теплые местечки, а также взяточничества, семейственности, использования человеческих слабостей — словом, всего, из чего в Америке складывается (или складывалась) политическая и финансовая жизнь. В верхних слоях общества существует-некое предвзятое мнение, будто на социальном дне нельзя ничему научиться. Если бы можно было заглянуть в душу Мак-Кенти, которая столь многое в себя вместила и даже привела в известную гармонию, нас прежде всего поразили бы своеобразная мудрость и еще более своеобразные наслоения его натуры — жестокость и нежность, заблуждения и пороки, служившие ему не только источником страданий, но и наслаждений; мы увидели бы жадную, суровую жизнь первобытного существа, которое руководствуется только своими инстинктами и потребностями. И при всем этом у него были манеры и облик джентльмена. Теперь, в сорок восемь лет, Джон Дж. Мак-Кенти был весьма влиятельной особой. В его большом особняке на углу Харрисон-стрит и Эшленд авеню можно было в любое время встретить финансистов, дельцов, чиновников, священников, трактирщиков — словом, всю ту разношерстную публику, с которой неизбежно бывает связан всякий деятельный и хитрый политикан. В затруднительных случаях все они шли к Мак-Кенти, зная, что он посоветует, укажет, устроит, выручит, и платили ему за это кто чем мог — иной раз даже только благодарностью и признанием. Полицейские чиновники и агенты, которых он частенько спасал от заслуженного увольнения; матери, которым он возвращал сыновей и дочерей, вызволяя их из тюрьмы; содержатели домов терпимости, которых он ограждал от чрезмерных аппетитов мздоимцев из местной полиции; политиканы и трактирщики, боявшиеся расправы разгневанных горожан, — все они с надеждой взирали на его гладкое, сияющее добродушием, почти вдохновенное лицо, и в трудную минуту он казался им каким-то лучезарным посланцем небес, неким чикагским богом, всемогущим, всемилостивым и всеблагим. Но были, конечно, и неблагодарные, были непримиримые или желающие снискать себе популярность моралисты и реформаторы, были соперники, которые подкапывались под него и строили козни — для таких он становился жестоким и беспощадным противником. К услугам Мак-Кенти была целая свита прихвостней, толпившихся вокруг трона своего владыки и по первому слову бросавшихся выполнять его приказы. Мак-Кенти одевался просто, вкусы имел самые неприхотливые, был женат и, по-видимому, счастлив в семейной жизни, считался образцовым католиком, хотя никогда особой набожности не проявлял — короче говоря, это был некий Будда, внешне благодушный и даже мягкий, могущественный и загадочный. Каупервуд впервые встретился с Мак-Кенти весенним вечером у него в доме. Затянутые сетками окна большого особняка были открыты настежь, и занавеси слабо колыхались от легкого ветерка. Вместе с ароматом распускающихся почек в комнату временами врывалось зловонное дыхание чикагских боен. Каупервуд предварительно отправил Мак-Кенти два рекомендательных письма — то, которое достал Эддисон, и другое, добытое ему Ван-Сайклом у одного известного судьи, — и получил ответ с приглашением заехать. Когда он явился, ему предложили вина, сигару, представили миссис Мак-Кенти, которая нигде не показывалась и рада была хотя бы минутной встрече с знаменитостью из высшего, недоступного для нее мира, а затем провели в библиотеку. Жена Мак-Кенти, тучная блондинка лет пятидесяти, чем-то очень напоминала Эйлин, но только Эйлин уже в годах и сильно перезревшую, что, вероятно, не преминул бы заметить Каупервуд, если бы мысли его не были заняты другим; она сохранила, однако, следы прежней несколько вызывающей красоты и для бывшей проститутки держалась достаточно тактично. Случилось так, что Мак-Кенти в этот вечер был в отличном расположении духа. Никакие политические заботы не волновали его. Стояли первые дни мая. На улице уже зазеленели деревья, воробьи и малиновки чирикали и заливались на все лады. Лиловатая дымка окутывала город, и несколько ранних комариков бились о сетки, защищавшие окна и балконные двери. Каупервуд, несмотря на одолевавшие его заботы, тоже был настроен довольно благодушно. Он любил жизнь со всеми ее трудностями и осложнениями, быть может даже больше всего и любил именно эти трудности и осложнения. Природа, конечно, красива, временами благосклонна к человеку, но препятствия, которые надо преодолеть, интриги и козни, которые надо предвосхитить, разгадать, разрушить, — вот ради чего действительно стоило жить! — Итак, мистер Каупервуд, — начал Мак-Кенти, когда они вошли в прохладную, уютную библиотеку, — чем могу служить? — Видите ли, мистер Мак-Кенти, — сказал Каупервуд, взвешивая каждое слово и пуская в дело всю свою ловкость и обходительность, — моя просьба не так уж велика, но для меня то, о чем я буду вас просить, имеет большое значение. Мне нужна концессия от чикагского муниципалитета, и я хочу, чтобы вы помогли мне получить ее. Вы спросите, почему я не обращаюсь непосредственно в муниципалитет. Я бы так и поступил, но боюсь, что найдутся люди, которые постараются использовать ваше влияние против меня. Я уверен, что вы на меня не обидитесь, если я скажу, что считаю вас своего рода арбитром во всех затруднительных вопросах, связанных с политикой чикагского муниципалитета. Мак-Кенти усмехнулся. — Весьма лестное мнение, — сухо заметил он. — Я человек новый в Чикаго, — вкрадчиво продолжал Каупервуд, — и живу здесь только второй год. Я из Филадельфии. Как финансовый агент и как пайщик я связан с несколькими газовыми компаниями, которые были учреждены в Лейк-Вью, Хайд-парке и других местах за чертой города, о чем вы, вероятно, знаете из газет. Строго говоря, я не владелец этих компаний, — большая часть вложенного в них капитала принадлежит не мне. Я даже не управляющий, ибо я осуществляю лишь самое общее руководство. Скорее меня можно назвать инициатором этого дела, его поборником, — так на это смотрят мои компаньоны и я сам. Мак-Кенти понимающе кивнул головой. — Так вот, мистер Мак-Кенти, вскоре после того как я предпринял шаги, чтобы получить концессии в Лейк-Вью и Хайд-парке, мне пришлось натолкнуться на сопротивление со стороны лиц, возглавляющих старые компании. Им, как вы сами понимаете, было очень нежелательно, чтобы мы получили разрешение на прокладку газопроводов где бы то ни было в пределах округа Кук, хотя по существу мы нигде не посягаем на их территорию. С тех пор они донимают меня судебными преследованиями, предписаниями, обвинениями в подкупе и тайном сговоре. — Да, я кое-что слышал об этом, — вставил Мак-Кенти. — Не сомневаюсь, — продолжал Каупервуд. — Встретив такое противодействие, я предложил им слить старые и новые компании в одну, получить новое свидетельство и объединить все газоснабжение города в одних руках. Они на это не пошли — мне кажется, главным образом потому, что я в Чикаго человек пришлый. Спустя некоторое время другое лицо, а именно мистер Шрайхарт (Мак-Кенти снова кивнул), человек, который газовыми предприятиями города никогда не интересовался, является к ним с таким же предложением. Его план ничем не отличается от моего, если не считать того, что в дальнейшем, объединив старые компании, он явно намерен проникнуть на нашу территорию и очистить наши карманы или же, получив наравне с нами концессии в пригородах, вынудить нас продать наши акции. Как вы знаете, идут разговоры о том, чтобы слить эти пригороды с Чикаго, а тогда городские концессии будут действительны там наряду с нашими. Что же нам остается делать? Либо мы должны теперь же продать им наши акции, постаравшись выторговать как можно больше, либо продолжать борьбу с довольно значительными для себя затратами, либо, наконец, обратиться в городской муниципалитет и просить концессию в самом городе — общую концессию на снабжение газом Чикаго наряду со старыми компаниями — исключительно в целях самозащиты, как говорит один из моих служащих, — с улыбкой добавил Каупервуд. Мак-Кенти тоже улыбнулся. — Понимаю, — сказал он. — Но это ведь нелегкое дело, мистер Каупервуд, — ходатайствовать о новой концессии. Неизвестно, как посмотрят на это наши избиратели. Многие могут и не понять, зачем городу нужна еще одна газовая компания. Правда, старые компании не очень баловали потребителей. Я бы не сказал, например, чтобы у меня в доме газ был особенно хорошего качества, — и он неопределенно улыбнулся, приготовившись слушать дальше. — Так вот, мистер Мак-Кенти, я знаю, что вы человек деловой, — продолжал Каупервуд, пропуская мимо ушей замечание собеседника, — и я тоже человек деловой. И пришел я к вам сюда не за тем, чтобы просто поделиться своими горестями в надежде, что вы из сочувствия захотите мне помочь. Я прекрасно понимаю, что обратиться в муниципальный совет Чикаго с вполне законным предложением — это одно, а добиться, чтобы оно было принято и утверждено городскими властями, — совсем другое. Мне нужны совет и поддержка, но я не прошу благотворительности. Общегородская концессия, если я ее раздобуду, принесет мне очень хорошие деньги. Ведь с таким козырем на руках я могу выгодно продать акции новых компаний, в жизнеспособности которых никто не сомневается, да и старым компаниям меня тогда уже не съесть. Словом, концессия мне необходима, чтобы иметь возможность бороться и защищать свои интересы. Я отлично знаю, что никто из нас не занимается политикой или финансами ради развлечения. Концессия на мой взгляд стоит того, чтобы заплатить за нее тысяч триста — четыреста, то есть четверть или даже половину той суммы, которую я надеюсь на ней заработать (тут Каупервуд опять немного покривил душой), конечно в случае, если план с объединением старых и новых компаний осуществится. Мне незачем вам объяснять, что в моем распоряжении будет достаточный капитал. Это обеспечивается уже самим фактом получения концессии. Короче говоря, мне хотелось бы знать, согласны ли вы оказать мне поддержку, пустить в ход свое влияние и участвовать со мной в этом предприятии на тех условиях, которые я только что вам изложил. Я сообщу вам заранее, кто мои компаньоны. Раскрою перед вами все карты, выложу все данные, чтобы вы сами могли судить, как обстоят дела. И если вам покажется, что я ввел вас в заблуждение, вы, разумеется, вольны в любой момент расторгнуть нашу сделку. Повторяю, — сказал в заключение Каупервуд, — я не прошу вас о благотворительности. Мне незачем что-то скрывать или о чем-то умалчивать, преуменьшая значение, которое имеет для нас эта концессия. Напротив, я хочу, чтобы вы знали все. Хочу, чтобы вы согласились помочь мне на таких условиях, которые сочтете приемлемыми для себя и справедливыми. Ведь я попал в такое положение только потому, что к здешним, так сказать, сливкам общества я не принадлежу. Будь я лощеным франтом, все давно было бы улажено. Эти джентльмены охотно соглашаются на реорганизацию, если проводить ее будет Шрайхарт, а меня они знать не желают, потому что я человек сравнительно новый в Чикаго и не принят в их кругу. Если бы я был из их клики, — тут Каупервуд развел руками, — не думаю, чтобы мне пришлось сидеть здесь сегодня и просить вашего содействия, хотя я очень рад нашему знакомству и вообще счастлив был бы с вами работать. Просто обстоятельства сложились так, что нам до сих пор не привелось встретиться. Всю эту пространную речь Каупервуд произнес, глядя на Мак-Кенти в упор с самым простодушным видом; а Мак-Кенти, слушая его, думал, какой это незаурядный, ловкий и сильный человек. Он не вилял, не лицемерил, как другие, и вместе с тем в каждом его слове чувствовался тонкий расчет, и это больше всего нравилось Мак-Кенти. Брошенное Каупервудом как бы вскользь замечание о «сливках общества», не желавших с ним знаться, и позабавило Мак-Кенти и польстило ему. Он прекрасно понял, что хотел сказать Каупервуд и с какой целью это говорилось, Каупервуд олицетворял собой новый и более близкий ему по духу тип финансиста. Очевидно, его поддерживают влиятельные люди, если верить тем, кто так горячо его рекомендовал. Каупервуд знал, что Мак-Кенти лично не заинтересован в старых компаниях, и подозревал, что он никакой особой симпатии к ним не питает, хотя Мак-Кенти и не обмолвился об этом ни единым словом. В его глазах они были обычными финансовыми корпорациями, платящими дань политической машине и ожидающими взамен известных услуг. Чуть ли не каждую неделю их представители являлись в муниципалитет, выпрашивали концессии на прокладку то одной, то другой линии (настаивая на особых привилегиях при прокладке труб по определенным улицам), добивались более прибыльных контрактов на уличное освещение, всевозможных льгот на речных пристанях, снижения налогов и прочее и прочее. Такого рода «мелочами» Мак-Кенти как правило сам не занимался. Для этого у него в муниципалитете имелся весьма влиятельный подручный, некто Пэтрик Даулинг, здоровенный и весьма энергичный ирландец, настоящий сторожевой пес партийной машины, который присматривал за действиями мэра, городского казначея, налогового инспектора, да и вообще всех чиновников муниципалитета, зорко следя за тем, чтобы и дела решались и взятки распределялись как надлежало. За исключением двух директоров Южной компании, с которыми Мак-Кенти приходилось иной раз встречаться, он никого из правления газовых компаний не знал. А эти двое не вызывали в нем никаких симпатий. Во главе старых компаний стояли дельцы, считавшие политиков такого типа, как Мак-Кенти и Даулинг, чуть ли не исчадием ада, что не мешало им, однако, пользоваться услугами этих людей и платить им мзду — иного выхода у них не было. — Что ж, — отвечал Мак-Кенти, задумчиво перебирая тонкую золотую цепочку от часов, — это вы неплохо придумали. Конечно, старым компаниям ваша просьба о параллельной концессии вряд ли понравится, но после того, как вы ее получите, возражать уже будет трудно. — Он улыбнулся. Мак-Кенти говорил очень чисто, ничто в его говоре не выдавало ирландца. — В одном только отношении это дело может оказаться не очень приятным. Они непременно подымут шум, хотя сами об интересах населения никогда не заботились. Впрочем, если вы предлагали им объединиться, какие могут быть теперь возражения? Со временем они на этом заработают не меньше вашего. А вам это даст возможность с ними поторговаться. — Совершенно справедливо, — сказал Каупервуд. — И вы говорите, что у вас достаточно средств, чтобы проложить трубы по всему городу и бороться с компаниями за клиентуру, если они не пойдут на уступки? — Да, достаточно, а если не хватит, я раздобуду, — заявил Каупервуд. Мистер Мак-Кенти с одобрением посмотрел на мистера Каупервуда. Оба они уже понимали друг друга и чувствовали взаимное расположение, но эгоистические интересы заставляли каждого до поры до времени скрывать свои чувства. Каупервуд возбудил любопытство Мак-Кенти: не часто встретишь дельца, который, предлагая взятку, не прикрывается высокопарными фразами, не фарисействует и не лицемерит. — Вот что я вам скажу, мистер Каупервуд, — сказал он наконец. — Я об этом подумаю. Подождите хотя бы до понедельника. Я понимаю, что сейчас есть основания просить об общегородской концессии, а позже это будет уже труднее сделать. Вы пока составьте проект и пришлите его мне. Посмотрим, как отнесутся к нему другие джентльмены из муниципального совета. При слове «джентльмены» Каупервуд с трудом сдержал улыбку. — Проект концессии у меня с собой, — сказал он. Такая деловитость изумила Мак-Кенти и понравилась ему. Решительность и напористость этого дельца пришлись ему по душе, тем более что сам Мак-Кенти подвизался не в финансах, а в политике, и большинство дельцов, с которыми ему приходилось сталкиваться, были трусливы и заносчивы. — Оставьте мне это, — сказал он, беря у Каупервуда бумаги. — А в следующий понедельник, если вам угодно, милости прошу. Каупервуд встал. — Я решил, что самое лучшее встретиться и переговорить с вами лично, мистер Мак-Кенти. И теперь очень рад, что сделал это. Если вы возьмете на себя труд рассмотреть мой проект, вы убедитесь, что все обстоит именно так, как я вам излагал. Дело это, вообще говоря, очень прибыльное, но для его осуществления потребуется время, и сразу оно, конечно, денег не даст. Мак-Кенти прекрасно понял, для чего это было сказано. — Да, разумеется, — с готовностью согласился он. Обмениваясь рукопожатием, они поглядели в глаза друг другу. — Мне кажется, что вам пришла на ум хорошая мысль, — поощрительно сказал в заключение Мак-Кенти. — Очень даже хорошая. Приходите в понедельник, и я дам вам окончательный ответ. И вообще приходите в любое время, если я вам понадоблюсь. Я всегда буду рад вас видеть. Чудесный вечер, — добавил он, проводив Каупервуда до парадной двери. — А луна-то какая! — На небе сиял тонкий серп луны. — Доброй ночи!Глава 13
Жребий брошен
Результаты этого свидания не замедлили сказаться. В высших сферах делового мира все так или иначе друг с другом связаны. Теперь, когда внимание Мак-Кенти было привлечено к газовым предприятиям, он принялся усердно разведывать обстановку, желая выяснить — не выгоднее ли будет договориться со Шрайхартом, или изобрести какую-либо другую комбинацию. В конце концов он пришел к выводу, что план Каупервуда по политическим соображениям легче осуществить. Эти политические соображения заключались главным образом в том, что группа Шрайхарта, не нуждаясь пока что в услугах олдерменов, проявила недальновидность и не сообразила подмазать на всякий случай шайку бандитов, засевшую в ратуше. Когда Каупервуд снова пришел к Мак-Кенти, он был встречен очень радушно. — Ну что ж, — сказал Мак-Кенти после обычных приветствий, — я навел справки. Ваше предложение довольно обосновано. Создавайте свою компанию и действуйте, как задумали. Затем подавайте в муниципалитет прошение, и мы посмотрим, что можно будет сделать. Они долго и подробно обсуждали, как должны быть поделены новые акции, которые решено было депонировать в банке, пользующемся особым довернем Мак-Кенти, до тех пор пока не произойдет слияния со старыми газовыми компаниями или с новой, объединенной, после чего Каупервуд должен будет выполнить свои обязательства перед Мак-Кенти, и т. д. Все это было далеко не просто, и Каупервуд остался не вполне доволен соглашением; но все же оно его устраивало потому, что позволяло одержать верх над своими противниками. Генерал Ван-Сайкл, Генри де Сото Сиппенс, Кент Бэрроуз Мак-Кибен и правая рука Мак-Кенти — олдермен Даулинг немало потрудились, прежде чем все было, наконец, приведено в готовность для решительного удара. И вот в четверг, когда чикагский муниципалитет по заведенному порядку занимался такого рода вопросами, проект был внесен на его рассмотрение, а в понедельник оказался уже одобренным и утвержденным. Такая поспешность не оставляла времени для публичного обсуждения, а этого как раз и добивались Мак-Кенти и Каупервуд. На следующий день, после того как проект был оглашен и по всему было видно, что его утвердят, Шрайхарт отправил своих поверенных и директоров старых компаний в редакции чикагских газет, где они в один голос заявили, что это грабеж среди бела дня. Но уже ничего нельзя было сделать. Чтобы восстановить против Каупервуда общественное мнение, почти не оставалось времени. Правда, газеты, подчиняясь более влиятельной финансовой группе, которую представлял Шрайхарт, послушно заговорили о том, что «со старыми компаниями поступают бесчестно», что две конкурирующие фирмы излишни и не нужны и что одна компания вполне обеспечит потребности города в газе. Однако население, которое всячески обрабатывала агентура Мак-Кенти, не очень-то верило газетам. Старые компании не так уж заботились о своих потребителях, и потребители не считали нужным слишком рьяно их отстаивать. В понедельник вечером, когда постановление о концессии было принято муниципалитетом, мистер Сэмюэл Блэкмен, председатель газовой компании Южнойстороны, маленький тщедушный человек с бакенбардами, похожими на сапожные щетки, стоя у дверей зала заседаний, кричал: — Это подлая махинация! Если мэр подпишет постановление, его надо отдать под суд! Все они там подкуплены — все до единого! Ну и порядки завелись у нас в Чикаго: прямо разбой среди бела дня. На что это похоже! Годами создаешь дело, работаешь не покладая рук, а завтра тебя вытеснит какой-нибудь проходимец. — Вы правы, вы совершенно правы, — жалобно вторил ему мистер Джордан Джулс, председатель компании Северной стороны, коротконогий толстяк с жесткими голубыми глазами и лысой головой, украшенной узкой бахромой волос и похожей на яйцо, обращенное острым концом вверх. — Все подстроил этот мерзавец из Филадельфии. Он во всем виноват! Уважающим себя чикагским дельцам давно пора бы понять, что это за птица, и выгнать его отсюда. Вспомните только, что он натворил в Филадельфии. Там, правда, догадались засадить его в тюрьму, не мешало бы и у нас сделать то же самое. С Джорданом Джулсом стоял высокий сухопарый человек — мистер Хадсон Бейкер, председатель Западной чикагской компании. Все они явились сюда, чтобы заявить протест. Бейкер — горячий сторонник Шрайхарта — пришел прямо от него и тоже негодовал. — Это настоящий проходимец, — уверял он Блэкмена. — Он ведет нечестную игру. Ему не место среди порядочных людей. Однако, несмотря на все эти протесты и негодующие возгласы, решение о предоставлении концессии было принято. Мистер Норман Шрайхарт, мистер Нори Симс и все те, кто, на свое несчастье, ввязался в эту игру, получили жестокий урок. Делегация от трех старых компаний посетила мэра, но тот — послушное орудие в руках Мак-Кенти — сжег свои корабли и подписал решение. Каупервуд получил концессию, и противнику скрепя сердце оставалось теперь только идти к нему на поклон. Шрайхарт, однако, понимал, что его счеты с Каупервудом еще не сведены и что столкновение с ним на какой-либо другой почве неизбежно. Но впредь он будет умнее и в борьбе с Каупервудом использует его же оружие. А пока он как человек дальновидный решил пойти на известные уступки. Стараясь по возможности скрыть свою досаду, он искал случая встретиться с Каупервудом в одном из клубов, но Каупервуд, выжидая, пока уляжется шум, намеренно там не показывался, и поскольку гора не шла к Магомету, то Магомету пришлось идти к горе. Итак, в душный июньский день мистер Шрайхарт отправился в контору к Каупервуду, надев для этого случая новый отлично сшитый сюртук стального цвета и соломенную шляпу. Из нагрудного кармана у него, по моде того времени, выглядывал аккуратно сложенный шелковый платок с голубой каемкой, на ногах блестели новенькие полуботинки. — Я через несколько дней отплываю в Европу, мистер Каупервуд, — как ни в чем не бывало сказал он, — и вот решил до отъезда заглянуть к вам. Может быть, нам удастся все-таки договориться. Директорам старых компаний, конечно, нежелательно иметь конкурента, а вам, я думаю, вовсе неинтересно вести бесполезную тарифную войну, от которой всем один убыток. Как мне помнится, вы тогда соглашались поделить контрольный пакет пополам. Вы еще не отказались от этой мысли? — Присаживайтесь, мистер Шрайхарт, присаживайтесь, пожалуйста, — радушно предлагал Каупервуд, широким жестом указывая посетителю на кресло возле стола. — Рад вас видеть. Конечно, тарифная война мне совершенно ни к чему. Напротив, я очень хочу избежать ее, но, как вы сами понимаете, со времени нашего с вами разговора многое изменилось. Учредители новой общегородской газовой компании вложили свои деньги в дело и стремятся — я бы сказал даже горят желанием — развить его и основать настоящее солидное предприятие. Они не сомневаются в успехе, и я вполне разделяю их точку зрения. Соглашение между старыми и новыми компаниями может быть достигнуто, но уже не на тех условиях, которые я тогда готов был принять. За это время была основана новая компания, выпущены акции и израсходованы большие деньги. (Каупервуд лгал.) При любом соглашении акции эти должны обмениваться на равных началах с остальными. Я считаю слияние компаний весьма желательным, но при непременном условии, чтобы все акции — независимо от того, сколько новых акций мы будем давать за одну старую, две, три или четыре — расценивались по их номинальной стоимости, а не по курсу. У Шрайхарта вытянулось лицо. — А вам не кажется, что это многовато? — сказал он мрачно. — Ну что вы, что вы! — возразил Каупервуд. — Вы ведь знаете, что мы пошли на такие затраты не по своей воле (мистер Шрайхарт уловил скрытую в этих словах иронию, однако смолчал). — Согласен, но поскольку ваши акции сейчас вообще ничего не стоят, вы должны быть довольны, если их примут по номиналу, а для остальных нужно исходить из реального курса. — Почему же? Виды на будущее у нас превосходные, — отвечал Каупервуд. — Нет, тут должен быть соблюден принцип равенства, или мы с вами так ни до чего и не договоримся. Но меня интересует другое: какую часть акций нового общества вы думаете сохранить в портфеле после того, как удовлетворите претензии старых акционеров? — Как думал и раньше: тридцать — сорок процентов от всего выпуска, — ответил Шрайхарт, все еще надеясь что-нибудь выторговать. — Мне кажется, что это удалось бы провести! — А кому эти акции достанутся? — Учредителям, конечно, — уклончиво ответил Шрайхарт. — Вам… мне. — А как вы намерены их поделить? Пополам, как предполагалось раньше? — Я думаю, что это было бы справедливо. — Нет, меня это уже не устраивает, — резко возразил Каупервуд. — После нашего разговора мне пришлось взять на себя некоторые обязательства и заключить сделки, которых я тогда не предвидел. Самое меньшее, на что я могу согласиться теперь, — это на три четверти остающихся акций. Шрайхарт гневно выпрямился. Он был возмущен. Какая наглость! Какое неслыханное нахальство! — Это невозможно, мистер Каупервуд, — высокомерно заметил он. — Вы и так хотите нам навязать слишком много макулатуры. Акции старых компаний, как вам хорошо известно, котируются сейчас по сто пятьдесят — двести десять долларов. Ваши же ничего не стоят. А вы хотите за каждую из них получить по две, по три акции, да еще сверх того три четверти остатка. Я на такую сделку никогда не пойду. Это значило бы разводнить капитал и поставить вас во главе всего дела. Всему, знаете, есть границы. Единственное, что я могу еще предложить акционерам старых компаний, — это разделить остаток акций пополам. Все равно они не согласятся ни на какую комбинацию, которая даст вам контроль над газовыми предприятиями, это я вам заранее говорю, хотите — верьте, хотите — нет. Все слишком возмущены и слишком злы на вас. Они не уступят, а вы вынуждены будете вести длительную борьбу, которая вам очень дорого обойдется. Если у вас имеется какое-нибудь благоразумное предложение, я охотно его выслушаю. Иначе боюсь, что наши переговоры ни к чему не приведут. — Все акции по номиналу и три четверти остатка, — твердо повторил Каупервуд. — Я вовсе не гонюсь за тем, чтобы забрать в свои руки эти газовые компании. Если акционерам угодно от меня избавиться, пусть принимают мои условия и готовят деньги, я продам им свои акции. Единственное, что мне нужно, — это получить известную прибыль на вложенный в дело капитал, и я ее получу. Не берусь говорить за своих компаньонов, но пока я являюсь их представителем, от этих условий я не отступлюсь и не обману их ожиданий. Шрайхарт ушел, хлопнув дверью. Он был взбешен. Каупервуд хочет ободрать их как липку. Шрайхарт решил, что на худой конец порвет со старыми компаниями, продаст свои акции и предоставит им разделываться с Каупервудом как знают. Но пока он имеет хоть какое-то отношение к газу, Каупервуду во главе этого дела не стоять. Лучше уж поймать его на слове, раздобыть денег и скупить у него все акции, пусть даже втридорога. Тогда старые газовые компании опять смогут тихо и мирно продолжать свою деятельность. Вот выскочка! Вот бандит! И какой он сделал хитроумный и молниеносный ход! Шрайхарт был вне себя. В конце концов обе стороны пошли на известный компромисс и договорились, что Каупервуд получает половину учредительских акций из нового общего выпуска и по две акции за одну выпущенную его компаниями, продает все старым компаниям и сам выходит из игры. Сделка была чрезвычайно выгодной, и Каупервуд щедро расквитался не только с Мак-Кенти и Эддисоном, но и со всеми, кто действовал с ним заодно. «Блестящая операция», — говорили Мак-Кенти и Эддисон. Покончив с газом, Каупервуд стал думать, за какое бы прибыльное дело ему теперь приняться, что бы такое еще прибрать к рукам. Но победа на этом поприще повлекла за собой неудачи на другом: теперь под угрозу было поставлено положение Каупервуда и Эйлин в чикагском обществе. Шрайхарт стал непримиримым врагом Каупервуда, а с его мнением в свете считались. Нори Симс тоже естественно был на стороне своих давнишних компаньонов. Однако самый жестокий удар нанесла Каупервудам миссис Энсон Мэррил. Вскоре после новоселья у Каупервудов, когда «газовая» война была в самом разгаре и против Каупервуда выдвигались обвинения в тайном сговоре, миссис Мэррил поехала в Нью-Йорк и там случайно встретилась со своей старой знакомой миссис Мартин Уокер, принадлежавшей к тому высшему филадельфийскому обществу, в которое Каупервуд когда-то тщетно пытался проникнуть. Зная, что Каупервудами интересуются и миссис Симс и многие другие, миссис Мэррил не замедлила воспользоваться случаем и разведать о их прошлом. — Кстати, вам никогда не приходилось слышать в Филадельфии о некоем Фрэнке Алджерноне Каупервуде или о его супруге? — спросила она миссис Уокер. — Бог с вами, дорогая Нелли! — воскликнула ее приятельница, недоумевая, как такая утонченная женщина может даже упоминать о них. — Почему вы спрашиваете? Разве эти люди поселились в Чикаго? Его карьера в Филадельфии была по меньшей мере скандальной. У него там завязались какие-то дела с городским казначеем, тот украл полмиллиона долларов, и обоих посадили в тюрьму. Но это, милая, еще не все. Он сошелся с одной девушкой, некоей мисс Батлер, — между прочим, ее брат, Оуэн Батлер, у нас теперь большая сила, — и, можете себе представить… — тут она закатила глаза. — Пока он сидел под замком, умер ее отец, и вся семья распалась. Ходили даже слухи, будто старик покончил с собой (под «стариком» она подразумевала отца Эйлин — Эдварда Мэлия Батлера). А когда этот субъект вышел из тюрьмы, он вскоре куда-то исчез. Говорили, что он развелся с женой, уехал на Запад и снова женился. Его первая жена с двумя детьми и сейчас живет в Филадельфии. Миссис Мэррил была поражена, но сделала вид, что все это ее очень мало трогает. — Занятная история, — сдержанно отозвалась она, думая о том, как легко будет теперь поставить этих выскочек на место и какое счастье, что она никогда не уделяла им внимания. — А вы когда-нибудь видели ее — эту его новую жену? — Да, как будто, только не помню где. Вероятно, на улице, она вечно каталась то верхом, то в кабриолете. — Она рыжая? — Да, да. Такая яркая блондинка. — Видимо, это она и есть. О них недавно писали что-то в газетах. Мне просто хотелось удостовериться. Миссис Мэррил уже заранее обдумывала всякие ядовитые намеки по адресу Каупервудов. — Они, вероятно, пытаются теперь проникнуть в чикагское общество? — пренебрежительно усмехнулась миссис Уокер; усмешка одинаково относилась и к Каупервудам, и к чикагскому «свету». — Весьма возможно, что в Восточных штатах такие попытки и могли бы увенчаться успехом, — съязвила в свою очередь миссис Мэррил, — но у нас в Чикаго они ни к чему не приведут. Стрела попала в цель, и разговор на этом прекратился. А когда миссис Симс, приехав к миссис Мэррил с визитом после ее возвращения из Нью-Йорка, имела неосторожность заговорить о Каупервуде, или, вернее, о шумихе, поднятой газетами вокруг его имени, ей не замедлили раз и навсегда предписать точку зрения на эту чету. — Если вы желаете знать мое мнение, я посоветовала бы вам держаться подальше от этих ваших друзей, — не допускающим возражения тоном изрекла миссис Мэррил. — Я все о них знаю. И как это вы сразу не поняли, с кем имеете дело? Они никогда не будут приняты в обществе. Миссис Мэррил не нашла даже нужным что-либо объяснять. Но миссис Симс скоро узнала все от своего мужа, возмутилась до глубины души и даже порядком струхнула. Пренеприятная история! Но кто же тут виноват? — перебирала она в уме. Кто первый ввел их в общество? Эддисоны, конечно! Но Эддисоны, хоть и не занимавшие главенствующего положения в свете, были неуязвимы. Оставалось одно — исключить Каупервудов из числа своих знакомых, что миссис Симс и не замедлила сделать. Престиж Каупервудов пошатнулся, но произошло это не сразу и не сразу стало понятным даже им самим. Сначала Эйлин обратила внимание на то, что число приглашений и визитных карточек, недавно еще сыпавшихся как из рога изобилия, резко сократилось; а по «средам», которые она поторопилась назначить в качестве своего приемного дня, в ее гостиной едва набиралась ничтожная кучка гостей. Сперва она недоумевала — ведь еще так недавно у них в доме собиралось блестящее общество, неужели же теперь это общество не желает ее больше знать? Всего три недели прошло после новоселья, и вместо семидесяти пяти или, в крайнем случае, пятидесяти человек, обычно заходивших к ним или оставлявших визитные карточки, у них стало бывать не более двадцати; еще через неделю — только десять, а месяц спустя к ним уже редко-редко кто заглядывал. Правда, несколько человек остались верны Каупервудам, но это все была мелкая сошка — одним из них она сама оказывала покровительство, другие в делах зависели от ее мужа, как, например, Кент Мак-Кибен и Тейлор Лорд, и их внимание только подчеркивало образовавшуюся вокруг Каупервудов пустоту. Эйлин себя не помнила от гнева, стыда, обиды и разочарования. Есть, конечно, толстокожие люди с воловьими нервами, которые, добиваясь своей цели, согласны идти на любое унижение, но Эйлин не принадлежала к их числу. И хотя она сама бросила вызов общественному мнению и пренебрегла правами первой жены Каупервуда, теперь она дрожала от страха за свое будущее и стыдилась своего прошлого. Ведь только молодость, страсть и неотразимое мужское обаяние Каупервуда заставили ее в свое время поступить так смело и безрассудно. Не будь этого, Эйлин благопристойно вышла бы замуж, не подав ни малейшего повода к злословию. Теперь же ей казалось, что она скомпрометировала себя безвозвратно и только прочное положение в чикагском обществе может оправдать ее в собственных глазах и, как она думала, в глазах Каупервуда. — Сэндвичи нужно убрать на лед, Луис, — сказала она дворецкому в одну из первых неудавшихся «сред», окидывая взглядом почти нетронутые яства, разложенные на старинном севрском фарфоре. — Цветы отошлите в больницу, а крюшон и лимонад отдайте на кухню. Пирожное подадите нам к обеду. — Слушаю, мадам, — отвечал, наклонив голову, дворецкий и, по-видимому желая утешить хозяйку, добавил: — Ужасная погода. Должно быть, это помешало. Эйлин вспыхнула и уже хотела крикнуть: «Извольте заниматься своим делом!» — но сдержалась. — Возможно, — сказала она коротко и ушла к себе. Если прислуга начинает говорить об этом — значит, дело из рук вон плохо. Эйлин решила подождать до будущей недели, чтобы убедиться, повинна ли в ее неудаче погода, или и вправду отношение общества к ним так изменилось. Но в следующую среду гостей приехало и того меньше. Певцов, которых она пригласила, пришлось отпустить домой. Кент Мак-Кибен и Тейлор Лорд, прекрасно осведомленные о ходившей по городу сплетне, пришли, как обычно, но держали себя натянуто и казались чем-то встревоженными. Это тоже не ускользнуло от внимания Эйлин. Кроме них, были еще только две дамы — миссис Уэбстер Израэлс и миссис Генри Хадлстоун. Нет, что-то неладно. Эйлин пришлось сослаться на нездоровье и уйти к себе, извинившись перед гостями. На третью неделю, опасаясь еще большего позора, она заранее сказалась больной. Интересно, сколько же будет оставлено визитных карточек? Их оказалось три. Это был конец. Эйлин поняла, что ее «среды» с треском провалились. Тем временем и Каупервуду пришлось испытать на себе все возраставшее недоверие и даже враждебность чикагского общества. Впервые он начал догадываться об истинном положении вещей на одном званом обеде. Приглашение на этот обед было получено уже давно, и они имели неосторожность принять его, так как Эйлин в ту пору еще не была уверена в окончательном провале своих «сред». Обед давали Сандерленд Слэды, не пользовавшиеся особым весом в обществе; городские пересуды либо еще не успели до них дойти, либо они не знали, что это вызвало такую резкую перемену в отношении к Каупервудам, тогда как почти все другие знакомые Каупервудов — и Симсы, и Кэнды, и Коттоны, и Кингсленды — уже пришли к убеждению, что ими была допущена непростительная ошибка и что Каупервудов принимать не следует. Все они тоже получили приглашение на обед, и все, узнав, что в числе гостей будут Каупервуды, в последнюю минуту, словно сговорившись, прислали свои извинения хозяевам: «Бесконечно огорчены…», «К великому сожалению» и т. д. и т. п. За стол сели вшестером — сами хозяева, Каупервуды и чета Хоксема, которых, кстати, и Эйлин и Каупервуд не очень-то жаловали. Всем было не по себе. Эйлин сослалась на головную боль, и вскоре они уехали. Несколько дней спустя Каупервуды были на приеме у своих прежних соседей Хатштадтов, куда тоже получили приглашение уже давно. Хозяева встретили их приветливо, но остальное общество держалось с ними очень сдержанно, если не сказать холодно. Прежде лица влиятельные, которым не случалось до тех пор встречаться с Каупервудами, всегда охотно с ними знакомились, — яркая красота Эйлин выделяла эту пару из толпы гостей. Но на сей раз почему-то (Эйлин и Каупервуд уже начали догадываться почему) ни один человек не пожелал быть им представленным. Среди гостей было много знакомых, некоторые с ними разговаривали, но большинство явно их сторонилось. Каупервуд это сразу заметил. — Уедем пораньше, — вскоре сказал он Эйлин. — Здесь что-то не интересно. Каупервуд отвез Эйлин домой и, чтобы избежать лишних разговоров, тут же уехал. До поры до времени ему не хотелось говорить Эйлин, как он все это расценивает. Незадолго до празднества, которое устраивал клуб «Юнион-Лиг», уже самому Каупервуду было нанесено, правда, окольным путем, тяжкое оскорбление. Как-то утром Эддисон, к которому Каупервуд пришел по делу в банк, по-приятельски сказал ему: — Мне нужно поговорить с вами кое о чем, Каупервуд. Чикагское общество вы теперь знаете. Знаете также, как я смотрю на некоторые обстоятельства вашего прошлого, в которые вы сами меня посвятили. Ну, так вот: сейчас в городе только и разговоров, что о вас. В клубах, где мы с вами состоим членами, достаточно лицемеров и ханжей, которые подхватили газетную брехню и рады случаю разыграть благородное негодование. Пять крупнейших акционеров газовых компаний — старейшие члены этих клубов, и все они из кожи вон лезут, хлопоча о вашем исключении. Они раскопали кое-какие подробности об этой вашей истории и грозятся подать жалобу в правления клубов. Конечно, ничего у них не выйдет — они по этому поводу разговаривали даже со мной. Но вот, что касается предстоящего вечера, тут уж вы сами решайте, как вам лучше, поступить. Не послать вам приглашения, они не могут, но это будет сделано только для проформы. (Каупервуд понял, что хотел этим сказать Эддисон.) Со временем все уляжется, во всяком случае я сделаю все от меня зависящее, но пока что… Он дружелюбно взглянул на Каупервуда. Тот улыбнулся. — По правде сказать, Джуд, я все время ждал чего-нибудь в этом роде. Никакой неожиданности тут для меня нет, — нисколько не смущаясь, произнес Каупервуд. — Напрасно вы обо мне беспокоитесь. Все это для меня не ново, я знаю, откуда ветер дует, и знаю, как надо ставить паруса. Эддисон дотронулся до руки Каупервуда. — Но что бы вы ни решили, не вздумайте подавать заявление о выходе из клуба, — предостерег он финансиста. — Это значило бы признаться в своей слабости. Да они на это и не рассчитывают. Я вам советую: не сдавайтесь. Все обойдется. Мне кажется, они вам просто завидуют. — Я и не собираюсь этого делать, — отвечал Каупервуд. — Никакого основания меня исключать у них нет. Я знаю, что со временем все обойдется. Однако самолюбие Каупервуда было сильно задето тем, что ему пришлось вести подобный разговор, хотя бы даже с Эддисоном. Впрочем, ему пришлось еще не раз убедиться в том, что свет умеет диктовать свою волю. Больше всего Каупервуд негодовал из-за выходки, которую позволили себе Симсы в отношении Эйлин, хотя он узнал об этом лишь много времени спустя. Эйлин приехала с визитом и услышала, что «миссис Симс нет дома», в то время как у подъезда стояла вереница экипажей. Эйлин от огорчения даже слегла, и Каупервуд, которому тогда ничего еще не было известно, не мог понять, что с ней, и очень тревожился. Если бы Каупервуд не одержал блестящей победы на деловом поприще, наголову разбив противника в последней и решающей схватке за контроль над газовыми предприятиями, — положение стало бы и вовсе безотрадным. Тем не менее Эйлин была очень подавлена: она чувствовала, что общество преследует своим презрением скорее ее, чем Каупервуда, и что приговор свой оно не отменит. В конце концов Эйлин и Каупервуд вынуждены были признаться друг другу в том, что каким бы роскошным и внушительным с виду ни казался их карточный домик, теперь он рассыпался, и окончательно. Такого рода признания между близкими людьми особенно мучительны. Чужая душа — потемки, и как ни стараемся мы понять друг друга, нам это редко удается. Однажды, вернувшись неожиданно домой и застав Эйлин в постели, расстроенную, с заплаканными глазами и совсем одну, — она на весь день отпустила свою камеристку, — Каупервуд подсел к ней и ласково сказал: — Я ведь отлично понимаю, Эйлин, что происходит. По правде говоря, я давно этого ожидал, Мы слишком горячо с тобой взялись, слишком спешили. Но не надо так падать духом, дорогая. Я думал, у тебя больше выдержки. Ничего ведь еще не потеряно. Вспомни-ка, что я тебе всегда говорил? В конечном счете все решат деньги. А в этой битве я победил и буду побеждать дальше. Они пришли ко мне на поклон. Ну, стоит ли так отчаиваться, девочка моя? Ведь я-то не унываю. Ты молода и свое возьмешь. Мы еще себя покажем этим чикагским зазнайкам, а заодно и поквитаемся кое с кем. Мы богаты и будем еще богаче. Деньги всем заткнут рот. Ну, перестань киснуть и улыбнись. Я понимаю, блистать в обществе приятно, но и без этого на свете много интересного, ради чего стоит жить. Вот что, вставай, одевайся и поедем кататься, а потом куда-нибудь обедать. Я-то ведь с тобой. Разве это не самое главное? — Да, да, милый, — глубоко вздохнув, пролепетала Эйлин. Она хотела было подняться, но снова бессильно опустилась на подушки. Слезы брызнули у нее из глаз. Уткнувшись в плечо Каупервуда, она плакала — от радости, что он ее утешает, и от горя, что ее заветная мечта не сбылась. — Да ведь я не для себя одной, я и для тебя этого хотела, — говорила она всхлипывая. — Знаю, дорогая, знаю, — успокаивал он ее. — Но сейчас ты об этом не думай. Все обойдется. Все будет хорошо. А теперь вставай и поедем. — И все же в душе он досадовал на малодушие Эйлин. Слабость всегда раздражала его. Когда-нибудь он заставит чикагское общество жестоко поплатиться за все. Эйлин между тем немного приободрилась. Она уже стыдилась своей слабости, видя, как мужественно держится Каупервуд. — Какой ты молодец, Фрэнк! Ты просто необыкновенный! — воскликнула она. — А что унывать? — сказал он весело. — Не добьемся своего в Чикаго, добьемся где-нибудь еще! Он подумал о том, как ловко он обошел старые газовые компании и Шрайхарта, и о том, что и впредь будет, конечно, не менее ловко вести свои дела!Глава 14
Подводные течения
Уже в первый год этого вынужденного затворничества — и особенно в последующие — Каупервуд почувствовал, что значило бы прожить остаток своих дней вне общества или в среде, которая постоянно напоминала бы ему о том, что он не принадлежит к лучшему, или, вернее, привилегированному кругу, каким бы ограниченным и скучным этот круг ни был. Когда Каупервуд пытался впервые ввести Эйлин в общество, ему казалось, что, завоевав положение, они сумеют влить новую, живую струю в этот затхлый мирок, даже сообщить ему известный блеск. Но все двери закрылись перед ними одна за другой, и в конце концов они вынуждены были или вовсе отказаться от общения с людьми, или искать знакомств среди самой разношерстной публики — зазывать к себе в дом после первой же встречи художников и певцов или проезжих актеров, в честь которых можно было дать обед. У них продолжали бывать только Хаксема, Видера, Бэйли — семейства, не пользовавшиеся никаким весом в обществе. Иногда Каупервуд приводил к себе обедать или ужинать какого-нибудь приятеля из дельцов, или любителя картин, или подающего надежды художника, и тогда Эйлин выходила к гостям. Изредка их навещали или приглашали к себе Эддисоны. Но это мало скрашивало их жизнь, они только острее чувствовали, какое потерпели поражение. Чем больше Каупервуд размышлял над этим поражением, тем яснее становилось ему, что он тут ни при чем. К нему относились вполне благосклонно. Вот если бы Эйлин была другой… Тем не менее он ни в чем не упрекал ее и не помышлял о том, чтобы ее покинуть. В тяжелые дни его тюремного заключения Эйлин была ему верна. Она ободряла его, когда он в этом нуждался. Нет, он ее не оставит, надо выждать и посмотреть, что тут можно сделать. Правда, этот остракизм порядком ему надоел. Тем более что его как будто и не сторонились вовсе, даже, пожалуй, не прочь были встречаться с ним. Своих приятелей-мужчин он всех сохранил — и Эддисона, и Бэйли, и Видера, и Мак-Кибена, и Рэмбо, и многих других. А некоторые светские дамы, ничуть не огорченные исчезновением Эйлин, высказывали сожаление по поводу того, что Каупервуд нигде больше не появляется. Время от времени делались даже попытки пригласить его без жены. Сначала он неизменно отвечал на такие приглашения отказом, потом стал иногда ходить на обеды и вечера один, не сообщая об этом Эйлин. Именно в эту пору Каупервуд впервые ощутил, как далека от него Эйлин и по уму и по складу характера. Эмоционально, физически они были близки друг другу, но Каупервуд жил своей, обособленной от Эйлин, жизнью, и большой круг его интересов был недоступен ей. С мнением чикагского общества он особенно не считался, но теперь он мог сравнивать Эйлин с дамами из аристократических кругов Европы, ибо после своего поражения в свете и финансовой победы он решил снова побывать за границей. В Риме — на приемах в японском и бразильском посольствах, куда благодаря своему богатству Каупервуд получил доступ, и при новом итальянском дворе — он встречал очаровательных светских женщин: итальянских графинь, знатных англичанок, американок из высших кругов, наделенных вкусом и тактом. Как правило, они видели в нем человека с обаятельными манерами, острым и проницательным умом, и вообще считали его личностью незаурядной, к Эйлин же — он не мог этого не заметить — относились много холодней. Она была слишком вызывающе красива, слишком роскошно одевалась. Ее цветущее здоровье и яркая красота бросали вызов женщинам, наделенным более скромной и бледной внешностью, хотя по-своему и не лишенным привлекательности. Во время одного большого приема при дворе, на который Каупервуд, уступая настояниям Эйлин, без особого труда раздобыл приглашение, он услышал, как кто-то позади него сказал: — Вот вам типичная американка. Каупервуд стоял в стороне, беседуя с греческим банкиром — своим соседом по гостинице, а Эйлин прогуливалась с женой этого банкира по залу. — Смотрите, какой кричащий туалет, сколько самоуверенности и какая смешная наивность! Каупервуд обернулся, чтобы посмотреть, к кому относятся эти слова, и увидел Эйлин. А гак жестоко раскритиковавшая ее дама, по-видимому англичанка, была хороша собой, изящна и бесспорно принадлежала к высшему обществу. Он должен был признать, что она во многом права, но разве можно подходить к Эйлин с обычной меркой? Разве можно винить ее в том, что она здоровое, сильное существо и что каждая жилка трепещет у нее от полноты жизни. Для него она была привлекательна. Очень жаль, что люди более консервативных взглядов относятся к ней с такой недоброжелательностью. Почему не видят они того, что видит он, — наивную страсть к роскоши, желание непременно быть на виду, вызванные, вероятно, тем, что Эйлин в юности была лишена возможности выезжать в свет, хотя только об этом и мечтала? Каупервуд жалел Эйлин. И вместе с тем уже начинал понимать, что для светской карьеры ему, пожалуй, нужна совсем иная жена — более сдержанная, с большим вкусом, чутьем и тем врожденным тактом, без которого нельзя преуспеть в обществе. Из этой поездки Каупервуд привез в Чикаго прекрасного Перуджино, несколько великолепных полотен Луини и Превитали, портрет Цезаря Борджиа работы Пинтуриккьо, две огромные африканские красные вазы, купленные в Каире, позолоченный резной консоль времен Людовика XV, приобретенный у одного антиквара в Риме, два причудливых венецианских бра и пару старинных итальянских светильников, которые он разыскал в Неаполе и намеревался поставить у себя в библиотеке — по углам. Так постепенно пополнялась и росла его художественная коллекция. Приблизительно в это же время стало меняться и отношение Каупервуда к женщинам. И раньше, когда он впервые встретился с Эйлин, у него уже был выработан свой, достаточно смелый взгляд на жизнь и взаимоотношение полов, а главное, он был твердо уверен в том, что волен поступать, как ему вздумается. С тех пор как он вышел из тюрьмы и снова пошел в гору, ему не раз приходилось ловить брошенный на него украдкой взгляд, и он не мог не видеть, что нравится женщинам. Эйлин лишь недавно стала его женой, но уже много лет была его любовницей, и пора первого пылкого влечения миновала. Каупервуд любил Эйлин не только за ее красоту, но и за неизменную горячую привязанность, однако и другие женщины начинали теперь интересовать его, иногда даже будить в нем страсть, и он не пытался подыскивать этому какие-либо объяснения или моральные оправдания. Такова жизнь и таков человек. От Эйлин он скрывал, что его влечет к другим женщинам, понимая, как ей это будет горько, но тем не менее это было так. Вскоре после своего возвращения из Европы Каупервуд как-то зашел в галантерейный магазин на Стэйт-стрит купить галстук. Еще в дверях он заметил даму — она направлялась к другому прилавку и прошла совсем близко от него. С первого взгляда он понял, что перед ним одна из тех светских женщин, к которым его тянуло в последнее время, хотя любоваться ими ему приходилось только издали: изящная, элегантно, но строго одетая, миниатюрная, стройная, с темными волосами и глазами, смуглой кожей, крохотным ртом и пикантным вздернутым носиком. В общем это была шикарная женщина по представлениям чикагцев того времени. Выражение ее глаз говорило о жизненном опыте, а задорно-дерзкое лицо пробудило в Каупервуде сознание своего мужского превосходства и желание во что бы то ни стало подчинить ее себе. На вызывающе-пренебрежительный взгляд, который она метнула в его сторону, Каупервуд ответил пристальным и властным взглядом, заставившим даму тотчас опустить глаза. Он смотрел на нее не нагло, а лишь настойчиво и многозначительно. Незнакомка была ветреной супругой одного преуспевающего адвоката, поглощенного своими делами и самим собой. После этого молчаливого разговора она с притворным безразличием остановилась неподалеку, делая вид, что внимательно рассматривает кружева. Каупервуд не сводил с нее глаз в надежде, что она опять посмотрит на него. Но он спешил по делам, не хотел опаздывать и потому, вырвав листок из записной книжки, написал название отеля, а внизу сделал приписку: «Второй этаж, гостиная, вторник в час дня». Дама стояла вполоборота к нему, и ее левая, затянутая в перчатку, рука была опущена. Проходя мимо, незаметно сунуть ей записку ничего не стоило. Каупервуд так и поступил и видел, как незнакомка зажала ее в руке. Вероятно, она украдкой все время наблюдала за ним. В назначенный день и час она ждала его в отеле, хотя он даже не подписал своего имени. Эта связь, показавшаяся ему вначале восхитительной, длилась, однако, недолго. Его возлюбленная была интересна, но уж слишком причудлива и капризна. Затем у Хадлстоунов — своих прежних соседей — он как-то встретил на обеде девушку двадцати трех лет, которая на короткое время сильно увлекла его. У нее была смешная и не слишком благозвучная фамилия — Хабби (Элла Ф.Хабби, как он выяснил впоследствии), но девушка была очень мила. Главная ее прелесть заключалась в шаловливой лукавой мордочке и плутовских глазах. Отец Эллы был состоятельным комиссионером с Южной Уотер-стрит. Стоило Каупервуду обратить на нее внимание, как девушка не замедлила влюбиться в него, что, впрочем, было довольно естественно. Она была молода, неопытна, впечатлительна, блеск славы кружил ей голову, а миссис Хадлстоун уже давно на все лады превозносила Каупервуда и пророчила ему великую будущность. Когда Элла с ним встретилась, увидела, что он очень моложав, откровенно ею любуется и ничуть не страшен и не суров, — во всяком случае с нею, — она была совершенно очарована, и стоило Эйлин отвернуться, как смеющиеся глаза девушки тотчас с восхищением обращались на Каупервуда. После обеда все перешли в гостиную, и тут Каупервуд самым естественным и непринужденным образом пригласил Эллу навестить его в конторе, если ей доведется быть поблизости. Но глаза его досказали остальное, вызвав в ответ жаркий и смущенный взгляд. Она пришла, и они стали встречаться. Но связь эта была непродолжительной и не захватила его. Девушка была не из тех, что могла бы удержать Каупервуда после того, как было удовлетворено его любопытство. За этой связью последовала еще одна короткая интрижка с некоей миссис Джозефайн Ледуэл, красивой вдовушкой, которая, вздумав спекулировать на хлебной бирже, обратилась за советом к Каупервуду и с первой же встречи решила, что с ним стоит затеять флирт. Внешне она немного походила на Эйлин, но была постарше, не так хороша собой и обладала более трезвым, практическим складом ума. Ее элегантность, независимая манера держаться и холодная расчетливость заинтриговали Каупервуда. Она, со своей стороны, всячески старалась его завлечь и в конце концов преуспела; местом встреч им служила ее квартира на Северной стороне. Связь эта длилась месяца полтора; новая возлюбленная даже не очень нравилась Каупервуду. Всякой женщине, которая с ним сближалась, предстояло состязаться с привлекательностью Эйлин и былым очарованием его первой жены. А это оказывалось не так уж просто. Именно в ту пору, чем-то напоминавшую первые годы супружества с Лилиан, когда они тоже почти никуда не выезжали, Каупервуд встретил, наконец, женщину, которой суждено было оставить глубокий след в его жизни. Он долго не мог ее забыть. Это была жена молодого скрипача, Гарольда Сольберга, датчанина, поселившегося в Чикаго. Сама она не была датчанкой. Мужа ее выдающимся скрипачом никак нельзя было назвать, хотя музыкальным темпераментом он несомненно обладал. Всем нам приходилось сталкиваться, и в самых разных областях, с этими будущими светилами, без пяти минут знаменитостями, непризнанными гениями. Это любопытный народ, с великим упорством предающийся тому делу, к которому вопреки всему считает себя призванным. У этих людей и подобающая внешность и все традиционные замашки профессионала, однако это только «медь звенящая и кимвал бряцающий». Достаточно было самого краткого знакомства с Гарольдом Сольбергом, чтобы отнести его именно к этой категории людей искусства. У него был хмурый блуждающий взгляд, длинные до плеч темно-каштановые кудри, которые он зачесывал назад, оставляя одну прядь по-наполеоновски спущенной на лоб, младенчески нежный румянец, чересчур пухлые, красные, чувственные губы, красивый нос с небольшой горбинкой, густые брови и усы, которые топорщились так же беспокойно, как и его болезненно самолюбивая и ничтожная душа. Родные услали его из Дании, потому что в двадцать пять лет он все еще никак не проявил себя и только и делал, что докучал замужним дамам, в которых постоянно влюблялся. В Чикаго Сольбергу пришлось жить на сорок долларов в месяц, которые высылала ему мать, и на скудный заработок от уроков музыки. Денег было маловато, но, расходуя их на свой лад «экономно» — то есть одеваясь шикарно и питаясь впроголодь, — он как-то выворачивался и даже сумел окружить свою персону неким романтическим ореолом. Ему было всего двадцать восемь лет, когда он встретил Риту Гринаф из Уичиты, штат Канзас; к тому времени, когда Сольберги познакомились с Каупервудом, Гарольду было тридцать четыре года, а его жене — двадцать семь. Она училась в чикагской школе живописи и ваяния и встречалась с Сольбергом на студенческих вечерах; в ту пору ей казалось, что он играет божественно и что жизнь — это только искусство и любовь. Весна, сверкающее на солнце озеро, белые паруса яхт, несколько прогулок и бесед в тихие, задумчивые вечера, когда город утопает в золотистой дымке, завершили дело. Затем последовало внезапное венчанье в субботний вечер, свадебная поездка в Милуоки на один день, возвращение в студию, которую нужно было теперь переоборудовать для двоих, и поцелуи, поцелуи без числа, пока не был утолен любовный голод. Но одними поцелуями сыт не будешь, и вскоре начались семейные неурядицы. Счастье еще, что молодым не пришлось столкнуться с подлинной нуждой. Рита была сравнительно обеспечена. У отца ее был в Уичите свой небольшой элеватор, приносивший ему неплохой доход, и, когда она внезапно вышла замуж, старик решил по-прежнему высылать ей деньги, хотя служение искусству, которому посвятили себя дочь и зять, было для него чем-то совершенно чуждым и непонятным. Тщедушный, робкий, мягкий человек, предпочитавший лучше наживать поменьше, лишь бы ничем не рисковать, и словно созданный для жизни в провинциальной глуши, он смотрел на Гарольда примерно так, как мы стали бы смотреть на адскую машину, — с любопытством, однако держась на почтительном расстоянии. Но со временем — ибо даже людям простодушным не чужды человеческие слабости — он стал гордиться своим зятем, хвастался по всей округе Ритой и ее супругом-музыкантом, пригласил их на все лето к себе в гости, желая поразить соседей, а осенью привез жену в Чикаго навестить молодых, и мать Риты, мало чем отличавшаяся от любой фермерши, ездила с ними кататься, участвовала в пикниках, бывала на артистических вечеринках в студиях. Это было забавно, наивно, нелепо и типично для Америки того времени. Рита Сольберг была по натуре женщина довольно флегматическая. Ее округлые, мягкие формы говорили о том, что годам к сорока ей предстоит растолстеть, и все же она была на редкость привлекательна. Шелковистые пепельные волосы, влажные серо-голубые глаза, нежная кожа и ровные белые зубы давали ей право гордиться своей внешностью, и она прекрасно сознавала силу своих чар. Разыгрывая детскую наивность и беспечность, она притворялась, будто не замечает, какой трепет вызывает ее красота у иных влюбчивых мужчин, а между тем всегда прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает, и зачем, — ей нравилось испытывать свою власть. Она знала, что у нее великолепные плечи и шея, пышные соблазнительные формы, что одевается она изящно, и хотя много тратить на туалеты не может, во всяком случае каждая ее вещь носит на себе отпечаток ее индивидуальности. Любая модистка позавидовала бы искусству, с каким она из старой соломенной шляпы, лент и какого-нибудь перышка мастерила себе новую, которая удивительно шла к ней. Она любила наряжаться в белое с голубым или с розовым, в коричневое с палевым — наивные, девичьи сочетания, в которых как бы отражалась ее душа; вокруг талии она обычно повязывала широкую коричневую или красную ленту, а шляпы носила большие с мягкими полями, красиво обрамлявшими ее лицо. Рита грациозно танцевала, недурно пела, с чувством, а иногда и с блеском играла на рояле, рисовала. Но все это ничего общего не имело с настоящим искусством, — Рита не была подлинным художником и если чем-либо и выделялась из окружавшей ее среды, то скорее своими настроениями и мыслями — изменчивыми, сумасбродными, своевольными. С точки зрения общепринятой морали Рита Сольберг в ту пору была особа опасная, хотя сама она считала себя просто милой фантазеркой. Изменчивость ее настроений объяснялась отчасти тем, что она стала разочаровываться в Сольберге. Он страдал одной из самых страшных болезней — неуверенностью в себе и неспособностью найти свое призвание. По временам он никак не мог решить, рожден ли он быть великим скрипачом, или великим композитором, или, на худой конец, великим педагогом, — впрочем, с последней возможностью ему никак не хотелось примириться. «Я артист, — любил он говорить. — О, как я страдаю от своего темперамента!» И заключал: «Чурбаны! Бесчувственные скоты! Свиньи!» — это уже относилось к окружающим. Играл он очень неровно, хотя порой в его исполнении было немало изящества, лиричности и мягкости, снискавших ему некоторое внимание публики. Но, как правило, исполнение Сольберга отражало хаос, царивший в его мыслях. Он играл так лихорадочно, так нервно, водил смычком с такой самозабвенной страстностью, что не мог уже уследить за техникой игры и много от этого терял. — Дивно, Гарольд! — восторженно восклицала Рита в первые годы их брака. Потом она уже не была в этом уверена. Чтобы стать предметом восхищения, нужно чего-то достигнуть в жизни. А Гарольд ничего не достиг — поневоле должна была признать Рита — и вряд ли когда-нибудь достигнет. Он давал уроки, горячился, мечтал, лил слезы, что, однако, не мешало ему с аппетитом есть три раза в день и время от времени заглядываться на женщин. Быть для своего избранника всем, быть единственной и неповторимой, заполнить собою все его помыслы и чувства — на меньшее Рита не хотела согласиться, она слишком высоко себя ценила. Поэтому, когда с годами Гарольд начал изменять ей, сначала в мечтах, а потом и на самом деле, терпение Риты истощилось. Она вела счет егоувлечениям: молоденькая девушка, которой он давал уроки музыки, студентка из школы живописи, жена банкира, в доме у которого Гарольд иногда выступал. Узнав об очередной измене, Рита замыкалась в себе и угрюмо молчала или уезжала к родным. Гарольд униженно каялся, плакал, бурные сцены заканчивались пылким примирением, а потом все начиналось сначала. Такова жизнь! Потеряв веру в талант Гарольда, Рита перестала его ревновать, но ей было досадно, что ее чары уже не властны над ним и что он смеет обращать внимание на других женщин. Под сомнение ставилась ее красота, а она все еще была красива. Ниже ростом, чем Эйлин, и не такая крупная, Рита была более пышной, округлой и казалась нежнее и женственней. Полнота ее красила, но, в сущности, она не была хорошо сложена, зато в изменчивом выражении глаз, в линии рта, в ее неожиданных фантазиях и мечтательности таилась какая-то чарующая прелесть. Она стояла выше Эйлин по развитию, лучше понимала живопись, музыку, литературу, лучше разбиралась в событиях дня и в любви была куда более загадочной и обольстительной. Она знала много любопытного о цветах, драгоценных камнях, насекомых, птицах, помнила имена героев художественных произведений, читала на память и прозу и стихи. Когда Каупервуды познакомились с Сольбергами, те все еще снимали студию во Дворце нового искусства и, по-видимому, наслаждались безоблачным семейным счастьем. Правда, дела у Гарольда шли неважно, он уже на все махнул рукой и плыл по течению. Первая встреча состоялась за чаем у Хатштадтов, с которыми Каупервуды сохранили дружеские отношения. Гарольд играл, и Эйлин, — Каупервуда в этот день с ней не было, — решив, что Сольберги люди интересные, а ей необходимо развлечься, пригласила их к себе на музыкальный вечер. Те воспользовались приглашением.Каупервуд с первого взгляда разгадал Сольберга. «Неустойчивая, эмоциональная натура, — подумал он, — и, вероятно, слишком слабоволен и ленив, чтобы из него когда-нибудь вышел толк!» Тем не менее скрипач ему понравился. Подобно фигуркам на японских гравюрах, Сольберг был любопытен как характер, как тип. Каупервуд встретил его очень любезно. — Миссис Сольберг, я полагаю, — сказал он, почтительно склоняясь перед Ритой, спокойную грацию и вкус которой он сразу оценил. Она была в скромном белом платье с голубой отделкой — по верхнему краю кружевных оборок была пропущена узенькая голубая лента. Ее обнаженные руки и плечи казались удивительно нежными. А живые серые глаза глядели ласково и шаловливо, как у балованного ребенка. — Вы знаете, — щебетала она, капризно выпячивая хорошенькие губки, как всегда это делала, когда что-нибудь рассказывала, — я уж думала, мы никогда сюда не доберемся. На Двенадцатой улице — пожар (она произнесла «пажай»), и никак не проедешь, столько там машин. А дым какой! Искры! И пламя из окон. Огромные багровые языки — знаете, почти оранжевые с черным. Это красиво — правда? Каупервуд был очарован. — Очень даже, — весело согласился он с тем благодушным и снисходительным видом, с каким взрослые говорят с детьми. Он и в самом деле почувствовал какую-то отеческую нежность к миссис Сольберг, она казалась такой наивной, юной и в то же время бесспорно обладала и характером и индивидуальностью. Лицо и плечи необыкновенно хороши, думал он, скользя по ней взглядом. А миссис Сольберг видела перед собой только элегантного, холодного, сдержанного человека, — судя по всему, очень энергичного, — с блестящими, проницательными глазами. «Да, это не Гарольд! — думала она. — Тот никогда ничего не добьется в жизни, даже известности». — Как хорошо, что вы взяли с собой скрипку, — говорила между тем Эйлин Гарольду в другом углу гостиной. — Мне очень хотелось послушать вас. — Вы слишком любезны, — отвечал Сольберг, слащаво растягивая слова. — Как у вас красиво тут: какие чудесные книги, нефрит, хрусталь… Эйлин нравилась его мягкая податливость. Он похож ка впечатлительного, балованного мальчика, подумала она. Его должна была бы опекать какая-нибудь сильная, богатая женщина. После ужина Сольберг играл. Высокая фигура, глаза, устремленные в пространство, волосы, спадающие на лоб, — весь облик музыканта заинтересовал Каупервуда, но миссис Сольберг интересовала его больше, и взгляд его то и дело обращался на нее. Он смотрел на ее руки, порхавшие по клавишам, на ямочки у локтя. Какой восхитительный рот и какие светлые пушистые волосы! Но главное — за всем этим чувствовалась индивидуальность, определенная душевная настроенность, которая вызывала у Каупервуда сочувственный отклик, более того — страстное влечение. Такую женщину он мог бы полюбить. Она чем-то напоминала Эйлин, когда та была на шесть лет моложе (Эйлин теперь исполнилось тридцать три, а миссис Сольберг двадцать семь), только Эйлин была более рослой, сильной, здоровой и будничной. Миссис Сольберг — словно раковина тропических морей, — пришло ему в голову сравнение, — нежная, теплая, переливчатая. Но в ней есть и твердость. Он еще не встречал в обществе подобной женщины. Такой притягательной, пылкой, красивой. Каупервуд до тех пор смотрел на нее, пока Рита, почувствовав на себе его взгляд, не обернулась и лукаво, одними глазами, не улыбнулась ему, строго поджав губы. Каупервуд был покорен. Может ли он на что-то надеяться, — было теперь единственной его мыслью. Означает ли эта неуловимая улыбка что-нибудь, кроме светской вежливости? Вероятно, нет. Но разве в такой натуре, богатой, пылкой, нельзя пробудить чувство? Каупервуд воспользовался тем, что Рита встала из-за рояля, чтобы спросить: — Вы любите живопись? Не хотите ли посмотреть картинную галерею? — и предложил ей руку. — Когда-то я думала, что буду знаменитой художницей, — с кокетливой ужимкой и, как показалось Каупервуду, удивительно мило сказала миссис Сольберг. — Забавно! Правда? Я даже послала отцу рисунок с трогательной надписью: «Тому, которому я всем обязана», Надо видеть рисунок, чтобы понять, как это смешно. И она тихо засмеялась. Каупервуд весело вторил ей, чувствуя, как жизнь вдруг заиграла новыми красками. Смех Риты освежал, словно летний ветерок. — Это Луини, — сказал он, невольно понижая голос, когда они вошли в галерею, освещенную мягким сиянием газовых рожков. — Я купил его прошлой зимой в Италии. Перед ними было «Обручение св. Екатерины». Каупервуд молчал, пока она разглядывала тонкие черты святой, которым художник сумел придать выражение неземного блаженства. — А вот, — продолжал он, — мое самое ценное приобретение — Пинтуриккьо. — Они остановились перед портретом известного своим коварством Цезаря Борджиа. — Какое необыкновенное лицо! — простодушно заметила миссис Сольберг. — Я не знала, что существует его портрет. Он сам похож на художника, вы не находите? — Рита, конечно, слышала о кознях и преступлениях Цезаря Борджиа, но никогда не читала его жизнеописания. — Он и был художником в своем роде, — отвечал с иронической улыбкой Каупервуд, которому в свое время, когда он покупал портрет, рассказали во всех подробностях и о Цезаре Борджиа и об его отце — папе Александре VI. С тех пор его и стала интересовать история семейства Борджиа. Впрочем, миссис Сольберг вряд ли уловила скрытую в его словах иронию. — А вот миссис Каупервуд, — заметила Рита, переходя к портрету, написанному Ван-Беерсом. — Эффектная вещь! — добавила она тоном знатока, и эта наивная самоуверенность показалась Каупервуду очень милой: он считал, что женщина должна быть самонадеянной и немного тщеславной. — Какие сочные краски! И этот сад и облака — очень удачный фон. Она отступила на шаг, и Каупервуд, занятый только ею, залюбовался изгибом ее спины и профилем. Какая гармония линий и красок! «Движенье каждое сплетается в узор», — хотелось ему процитировать, но вместо этого он сказал: — Портрет писался в Брюсселе. А облака и вазу в нише художник написал потом. — Превосходный портрет, — повторила миссис Сольберг и двинулась дальше. — А как вам нравится Израэльс? Картина называлась «Скромная трапеза». — Очень нравится, — отвечала она. — И ваш Бастьен-Лепаж тоже. (Она имела в виду «Кузницу»). Но мне кажется, что старые мастера у вас более интересны. Если вам посчастливится отыскать еще несколько вещей, их непременно надо перевесить в отдельный зал. Вы не думаете? А вот к Жерому я как-то равнодушна, — она говорила, растягивая слова, и это казалось Каупервуду очаровательным. — Почему же? — спросил он. — В нем что-то есть искусственное, вы не находите? Мне нравится колорит, но тела одалисок уж слишком совершенны. Хотя, конечно, это красиво. Каупервуд был не очень высокого мнения об умственных способностях женщин и расценивал представительниц прекрасного пола больше как произведения искусства, хотя и замечал, что иной раз они интуитивно постигали то, до чего он сам никогда бы не додумался. Эйлин, конечно, не могла бы этого подметить, размышлял Каупервуд. И вдобавок она теперь не так уж хороша — нет в ней этой восхитительной свежести, наивности, очарования и тонкости ума. Муж у миссис Сольберг — какой-то шут гороховый, хладнокровно продолжал рассуждать Каупервуд. Может быть, ему удастся увлечь ее? Но уступит ли такая женщина? Не поставит ли условием развод и брак? А миссис Сольберг, со своей стороны, думала, что Каупервуд, должно быть, человек незаурядный и что он очень уж близко стоял возле нее, когда они смотрели картины. Кружить головы мужчинам ей было не внове, и она сразу поняла, что нравится ему. Рита знала силу своих чар, но, кокетничая, чтобы насладиться своим могуществом, соблюдала меру и держалась неприступно: до сих пор она не встречала человека, ради которого стоило бы пожертвовать душевным покоем. «Конечно, Эйлин не подходящая жена для Каупервуда, — думала она. — Ему нужна женщина более содержательная, глубокая».
Глава 15
Новая любовь
Сближению Каупервуда и Риты Сольберг невольно способствовала сама Эйлин: она заинтересовалась Гарольдом, который возбудил в ней не то чтобы настоящее чувство, а скорее какую-то нелепую сентиментальную нежность. В присутствии женщин, особенно женщин красивых, Сольберг мгновенно воспламенялся, становился необычайно учтив, внимателен, угодлив и сумел этим понравиться Эйлин. Она решила непременно найти ему учеников, а кроме того, ей доставляло удовольствие бывать в студии у Сольбергов. Эйлин скучала без общества. А Каупервуд, ради миссис Сольберг, охотно сопровождал ее. Преследуя свои собственные цели, он коварно поощрял это знакомство и то предлагал Эйлин пригласить Сольбергов к обеду, то советовал ей устроить у себя музыкальный вечер, чтобы дать возможность Гарольду выступить и немного заработать. Каупервуды приглашали Сольбергов в свою ложу, посылали им билеты на концерты, по воскресеньям и даже в будни возили их кататься. Сама жизнь с ее физиологическими законами часто берет на себя роль сводни. Поскольку Каупервуд непрестанно и взволнованно думал о Рите, Рита тоже стала думать о нем. И с каждым днем он представлялся ей все более привлекательным, властным и необыкновенным. Чувствуя его влечение, она мучительно боролась со своей совестью. Правда, ничего еще не было сказано, но Каупервуд искусно вел осаду, постепенно преграждая Рите все пути к отступлению — один за другим. Однажды, когда ни Эйлин, ни Каупервуд не могли приехать к чаю, который по четвергам устраивали у себя Сольберги, Рита получила огромный букет великолепных темно-красных роз. «Для уголков и уголочков вашей студии» — было написано на карточке. Рита прекрасно знала, от кого эти розы и каких денег они стоят. Цветов было не меньше, чем на пятьдесят долларов, и от букета веяло той непривычной для нее роскошью, которую могли позволить себе только очень богатые люди, финансовые воротилы, крупные биржевики. Рите ежедневно попадались на глаза газетные объявления банкирской конторы Каупервуда. Как-то раз она столкнулась с ним лицом к лицу в магазине Мэррила. Время было около полудня, и Каупервуд предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, но Рита сочла своим долгом отказаться. Он всегда глядел на нее в упор, настойчиво и жадно. Рите льстило, что ее красота дает ей над ним такую власть. Против воли в голову ей закрадывалась мысль, что этот энергичный, обаятельный человек может со временем окружить ее роскошью, которая и не снилась Сольбергу. Однако внешне жизнь ее текла по-старому, она по-прежнему немного играла на рояле, ходила по магазинам, ездила в гости, читала, сетовала на лень и неспособность Гарольда, и лишь иногда ею вдруг овладевала странная задумчивость, и перед нею возникал образ Каупервуда. Какие у него сильные, красивые руки, а взгляд — ласковый и вместе с тем твердый, все видящий. Пуританству Уичиты (уже несколько поколебленному жизнью в кругу чикагской богемы) приходилось туго в борьбе с изворотливостью и коварством нового времени, воплощенными в этом человеке. — Вы какая-то неуловимая, — сказал ей Каупервуд однажды вечером в театре, когда Эйлин с Гарольдом вышли в фойе и они остались вдвоем в ложе. В зале стоял гул голосов, и можно было говорить без опаски. Миссис Сольберг была очаровательна в вечернем кружевном платье. — Вы находите? — смеясь, ответила Рита, польщенная замечанием Каупервуда и взволнованная его близостью. Она все больше поддавалась его настроению, любое его слово вызывало в ней трепет. — А по-моему, я существо весьма материальное, — добавила она и взглянула на свои сложенные на коленях полные красивые руки. Каупервуд, всем существом ощущавший ее материальность, так же как и своеобразие этой натуры, куда более богатой, чем натура Эйлин, был глубоко взволнован. Чувства, настроения, фантазии, владевшие ее душой, передавались ему без слов, как дуновение ветерка, восхищая его и вызывая ответное волнение в крови. В Рите было не меньше жизненной энергии, чем в Эйлин, но она была тоньше, нежнее и богаче духовно. «Или Эйлин мне уже прискучила?» — спрашивал он себя временами. «Нет, не может быть», — решал он тут же. Но Рита Сольберг несомненно самая привлекательная женщина, какую он когда-либо встречал. — И все-таки вы неуловимая, — продолжал он, наклоняясь к ней. — Вы напоминаете мне что-то, чего даже не выразишь словами: переливы красок, аромат, обрывок мелодии… вспышку света. Я теперь только о вас и думаю. Вы очень тонко судите о картинах. Мне нравится ваша игра на рояле, вы вкладываете в нее частицу себя. Вы уводите меня в другой мир, отличный от того, в котором я живу. Вы меня понимаете? — Я рада, если это так. — Она глубоко и несколько театрально вздохнула. — Но вы рисуете уж слишком привлекательный портрет, я еще бог весть что о себе возомню, — и Рита сделала очаровательную гримаску, округлив и выпятив губки. Разгоряченная, раскрасневшаяся, она задыхалась от обуревавших ее чувств. — Да, да, вы такая, — настойчиво продолжал Каупервуд, — такой я всегда вас ощущаю. Вы знаете, — он еще ниже склонился к ее креслу, — порой мне кажется, что вы еще совсем не жили, ничего не видели, а ведь это много прибавило бы к вашему совершенству. Мне бы хотелось, чтобы вы побывали за границей, — со мной или даже без меня. Я восхищаюсь вами, Рита. А я для вас значу хоть что-нибудь? — Да, но… — она помедлила. — Я боюсь этого всего и вас боюсь. — Ее губки опять капризно выпятились — милая привычка, пленившая его еще в первый день знакомства. — Лучше поговорим о другом. Гарольд ужасно ревнив. И что подумает миссис Каупервуд? — Я знаю, но стоит ли сейчас тревожиться об этом? И какой Эйлин вред от того, что я беседую с вами? Жизнь в общении индивидуальностей, Рита. А у нас с вами очень много общего. Разве вы этого не чувствуете? Вы самая интересная женщина, которую я когда-либо встречал. Вы открываете мне что-то новое, о чем я никогда даже и не подозревал раньше. Вы должны это понять. Скажите мне правду, посмотрите мне в глаза; вы ведь не довольны своей жизнью? Не так счастливы, как могли, как хотели бы быть? — Нет, — она задумчиво разглаживала пальцами веер. — Вы несчастны! — Когда-то мне представлялось, что я счастлива. Но это было давно. — И неудивительно! — горячо подхватил он. — Вы не можете довольствоваться ролью, которую выполняете теперь, она слишком для вас ничтожна. У вас собственная индивидуальность, а вы жертвуете ею, чтобы курить фимиам другому человеку. Я не хочу этим сказать, что мистер Сольберг не талантлив, но с ним вы никогда не будете счастливы. Меня поражает, как вы этого сами не понимаете. — Ах, откуда вам знать! — воскликнула она, и в голосе ее прозвучала усталость. Он посмотрел на нее в упор, и она задрожала. — Давайте прекратим этот разговор, — сказала она поспешно, — лучше… Каупервуд положил руку на спинку ее кресла, — он почти касался ее плеча. — Рита, — сказал он, снова называя ее по имени, — вы изумительная женщина! — О! — произнесла она чуть слышно.Прошло дней десять, прежде чем Каупервуд снова увидел Риту. Как-то раз, под вечер, Эйлин заехала за ним в контору в новом экипаже, захватив по пути Сольбергов, чтобы ехать вместе кататься. Эйлин правила, и Гарольд сидел рядом с ней впереди, Каупервуду же с Ритой были предоставлены места на заднем сиденье. Ей даже в голову не приходило, что Каупервуду нравится миссис Сольберг, — так осторожно он себя вел. К тому же Эйлин не сомневалась в своем превосходстве над Ритой: как же, ведь она и красивее и лучше одевается, а следовательно — Рите и думать нечего равняться с ней. Она не подозревала, какой притягательной силой обладала миссис Сольберг в глазах Каупервуда, — при всей его деловитости и кажущейся прозаичности, под внешностью уравновешенного, положительного человека у него скрывалось немало внутреннего огня и даже романтики. — Чудесно, — сказал Каупервуд, опускаясь на мягкое сиденье рядом с Ритой. — Какой прекрасный вечер! И что за прелестная соломенная шляпка с розами и как ока идет к вашему платью! — Розы были красные, платье белое, с пропущенной сквозь мережку узенькой зеленой лентой. Рита прекрасно понимала, отчего Каупервуд в таком приподнятом настроении. Как он не похож на Гарольда, какой он сильный, жизнерадостный, ловкий! Гарольд — тот целый день сегодня проклинал судьбу, жизнь, преследующие его неудачи. — Я бы на твоем месте не жаловалась, — заметила она язвительно. — Надо только больше работать и меньше бесноваться. В ответ он раскричался, устроил сцену, а она ушла гулять. Когда она вернулась, за ними заехала Эйлин. Это было очень кстати. Рита сразу повеселела и побежала одеваться. Сольберг последовал ее примеру. Счастливые и довольные с виду, словно ничего и не произошло, они отправились в путь. Теперь, слушая Каупервуда, Рита гордо поглядывала по сторонам. «Да, я красива, — думала она, — и он от меня без ума. Как это было бы упоительно, если б только мы посмели». Но вслух сказала: — Ничего хорошего во мне нет! Просто день выдался прекрасный. Платье самое обыкновенное, а я даже немножко расстроена сегодня. — Что-нибудь случилось? — участливо спросил он под стук экипажей, заглушавший их голоса. — Может быть, я могу быть вам полезен? — Каупервуд рад был бы случаю вывести Риту из затруднительного положения, оказать ей услугу и покорить ее своей добротой. — Сейчас мы проедем в Джексон-парк, пообедаем там в павильоне и вернемся в город при луне. Хорошо, правда? Так улыбнитесь же, будьте веселы, как всегда. О чем вам грустить? Я готов сделать для вас все, что вы пожелаете, — все, что в моих силах! У вас может быть все, чего бы вы ни захотели. Что тревожит вас? Вы знаете, как вы мне дороги. Расскажите мне о своих затруднениях, позвольте мне избавить вас от всяких забот. — Нет, вы для меня ничего не можете сделать — во всяком случае сейчас. Затруднения? Ну, какие там затруднения. Все пустяки! Она даже о себе говорила с небрежной отчужденностью, в которой была какая-то особая прелесть. Каупервуд был очарован. — Но вы-то для меня не пустяк, Рита, — мягко сказал он, — так же как и все, что вас касается. Я вам говорил, как много вы для меня значите. Неужели вы сами этого не видите? Для меня вы самая сложная из всех загадок и самая чудесная. Я без ума от вас. Со времени нашей последней встречи я все думал, думал. Если у вас есть какие-то заботы, тревоги — поделитесь со мной. У меня сейчас только одна забота — вы. Соедините свою жизнь с моей, и я устрою так, что вы будете счастливы. Вы нужны мне, а я — вам. — Да, — сказала она, — я знаю… — И запнулась. — Ничего особенного не произошло, мы с Гарольдом немножко повздорили. — Из-за чего? — Из-за меня. — Она опять капризно выпятила губки. — Я не могу вечно курить фимиам, как вы тогда сказали. — Слова Каупервуда крепко засели у нее в уме. — Но это все позади. Смотрите, какой чудесный день, просто вос-хи-ти-тель-ный! Каупервуд поглядел на нее и покачал головой. Как она очаровательна в своей непоследовательности! Правя лошадьми и разговаривая с Сольбергом, Эйлин ничего не слышала и не видела. Она была поглощена своим спутником, а кроме того, ее внимание отвлекал поток экипажей, устремлявшихся к югу по Мичиган авеню, Мелькавшие мимо деревья с нежной молодой листвой, зеленеющий газон, вскопанные клумбы, распахнутые окна домов — вся неотразимая прелесть весны вызывала в Каупервуде радостное ощущение жизни, заново начинавшейся и для него. Если бы упоение, которое он сейчас испытывал, могло быть видимо, оно окружило бы его сияющим ореолом. Миссис Сольберг чувствовала, что ей предстоит провести чудесный вечер. Обедали в парке, на открытом воздухе, цыплятами, жареными в сухарях; пили шампанское и ели вафли, — словом, все было, как водится. Эйлин, польщенная тем, что Сольберг в ее обществе очень оживлен, дурачилась, провозглашала тосты, смеялась, бегала по лужайке и веселилась вовсю. Гарольд открыто ухаживал за ней, как делали это все мужчины, пытался было даже объясниться в любви. Эйлин шутливо его обрывала, называя «несносным мальчишкой» и требуя, чтобы он «перестал сейчас же!» Она была настолько уверена в себе, что, вернувшись домой, не побоялась рассказать Каупервуду, как легко воспламеняется Сольберг и как она все время над ним подтрунивала. Каупервуд, не сомневавшийся в ее верности, отнесся к этому рассказу весьма благодушно. Сольберг — болван, пусть себе ухаживает за Эйлин, — это как нельзя более кстати. — Гарольд неплохой малый, — заметил он. — Я ничего против него не имею, но скрипач он, по-моему, довольно посредственный. После обеда вся компания поехала по берегу озера за город, где начиналась прерия с разбросанными там и сям темными купами деревьев. Небо было чисто, и ярко светила луна, заливая серебристым сиянием безмолвные поля и неподвижную поверхность озера. Расточаемый Каупервудом яд, который Рита в последнее время поглощала в огромных дозах, оказывал на нее свое разрушительное действие. Пылкая и смелая при всей своей кажущейся апатичности, Рита была из тех женщин, в которых чувство пробуждает решительность. Каупервуду удалось поразить ее воображение; она понимала, что он гораздо значительнее всех, кто ее окружал. Разве не счастье быть любимой таким человеком! Какая у них могла бы быть яркая, интересная жизнь! Мысль о связи с Каупервудом и привлекала и страшила ее, словно яркий огонек в темноте. Чтобы побороть свое волнение, она заговорила об искусстве, об общих знакомых, о Париже, Италии; Каупервуд поддерживал этот разговор и все время тихонько гладил ее руку, а раз, когда экипаж въехал в тень деревьев, притянул к себе ее голову и коснулся губами ее щеки. Рита вспыхнула, затрепетала, побледнела, захваченная врасплох бурей новых ощущений, но все же справилась с собой. Вот оно, счастье! Она понимала, что прежней жизни наступил конец. — Будьте завтра в три за мостом на Рош-стрит, — сказал Каупервуд, понижая голос. — Я приеду за вами. Вам не придется ждать ни минуты. Она медлила с ответом, раздумывая, грезя наяву, завороженная ослепительным будущим, которое он открывал перед ней, готовая покориться чужой, непреклонной воле. — Вы придете? — настойчиво спросил он. — Постойте, — проговорила она еле слышно. — Дайте подумать… Могу ли я? Она все еще медлила. — Да, — сказала она немного погодя и глубоко, всей грудью вдохнула воздух. — Да! — снова повторила она, словно что-то решив про себя. — Любимая, — прошептал он, сжимая локоть Риты и вглядываясь в ее освещенный луною профиль. — Что я делаю? — прошептала она, бледнея и задыхаясь от волнения.
Глава 16
Роковая интермедия
Каупервуд ликовал. Он едва дождался часа свидания, и действительность превзошла все самые смелые его мечты. Рита была милее, своеобразнее, обольстительнее всех женщин, которых ему когда-либо доводилось встречать. Он тотчас снял прелестную квартирку на Северной стороне и проводил там с Ритой немало часов и утром, и днем, и вечером — смотря по обстоятельствам. Здесь, на свободе, Каупервуд мог не торопясь изучить свою новую возлюбленную, но сколь придирчив он ни был, ему не удалось обнаружить в ней никаких или почти никаких недостатков. Молодость и беспечность — бесценные дары, а у нее в избытке былой то и другое. Натура, чуждая всякой меланхолии, обладавшая счастливой способностью наслаждаться минутой, Рита не пыталась заглядывать в будущее, не выискивала причин для тревог и волнений, не вспоминала о прошлых неудачах и неприятностях. Она любила красивые вещи, но не была мотовкой. Как ни старался Каупервуд уговорить ее больше расходовать на себя, как ни хитрил, все было напрасно, и это не могло не внушать ему уважения. Она всегда знала, чего хочет, тратила деньги экономно, покупала с разбором и скромностью своих нарядов напоминала ему полевой цветок. По временам чувство к Рите захватывало Каупервуда с такою силой, что становилось мучительным для него и он рад был бы избавиться от этого наваждения, но не мог ничего с собой поделать. Очарование не проходило. Когда после самых исступленных ласк Рита поправляла растрепавшиеся волосы, строя очаровательные гримаски перед зеркалом и думая сразу о множестве приятных вещей, она казалась ему только еще более свежей, красивой, обворожительной. — Ты помнишь, Алджернон, ту картину, что мы с тобой видели у антиквара третьего дня? — говорила она, растягивая слова и называя его этим вторым именем, которое считала более благозвучным и более подходящим для их романтических встреч. Каупервуд сначала возражал против этого, но она настояла на своем. — Помнишь плащ старика, какой великолепный синий тон? (Картина называлась «Поклонение волхвов».) Ну, просто вос-хи-ти-тельный! Она так мило растягивала слова и так забавно при этом выпячивала губки, что немыслимо было не поцеловать ее. — Маргаритка моя, — говорил он, привлекая ее к себе. — Саксонская статуэтка! — Ну вот, я только что причесалась, а ты опять растреплешь мне волосы. Голос и глаза ее были невинны и простодушны. — Непременно растреплю, кокетка ты этакая. — Ты меня совсем задушишь. Мне всегда больно от твоих поцелуев. Неужели тебе не жаль меня? — Жаль, крошка! Хотя мне нравится причинять тебе боль. — Ну, что с тобой поделаешь! Но и после этих бурных порывов его все так же влекло к ней. Она как бабочка, думал он, палевая с белым или лазоревая с золотом — порхает над шиповником, с цветка на цветок. Очень скоро Каупервуд убедился, что Рита прекрасно разбирается в требованиях света, хотя сама и не принята в этом кругу. Рита сразу поняла и его желание играть роль в обществе, и честолюбивое стремление коллекционировать картины, и мечты о блестящем будущем. По-видимому, ей было ясно, что он еще полностью не проявил себя, что Эйлин — жена для него не совсем подходящая и что ей, Рите, эта роль была бы больше по плечу. Вскоре она стала говорить с ним и о своем муже, очень снисходительно отзываясь о его слабостях и недостатках. Она не питала к нему зла, просто ей, как видно, наскучили отношения, которые не оправдывались ни любовью, ни преклонением перед талантом, ни взаимным пониманием. Каупервуд предложил Рите перебраться в более просторную мастерскую, покончить с мелочной экономией, которая стесняла ее и Сольберга, и объяснить это тем, что родные стали высылать ей больше денег. Сначала Рита и слушать ничего не хотела, но Каупервуд мягко, хотя и упорно настаивал и все-таки добился своего. Спустя еще немного он посоветовал ей уговорить Гарольда поехать в Европу. Пусть думает, что ее родные и на этот раз расщедрились. Просьбы, ласки, убеждения, лесть делали свое дело; миссис Сольберг в конце концов подчинилась и приняла помощь Каупервуда: избавившись от материальных забот, она совсем успокоилась и расцвела. Впрочем, щедротами Каупервуда Рита пользовалась умеренно и деньги его тратила с умом. Больше года ни Сольберг, ни Эйлин не подозревали об этой связи. Гарольд, которого ничего не стоило обвести вокруг пальца, поехал погостить к матери в Данию, а оттуда в Германию — совершенствоваться в музыке. На следующий год Рита Сольберг отправилась вслед за Каупервудом в Европу. В Экс-ле-Бен, в Биаррице, в Париже и даже в Лондоне Эйлин пребывала в блаженном неведении относительно этой второй спутницы своего супруга. Рита старалась развить вкус Каупервуда, познакомила его с серьезной музыкой и литературой; благодаря ей изменились его взгляды на многие вещи. Она одобряла его намерение составить большое собрание картин старых мастеров и советовала быть осмотрительнее в выборе полотен современных художников. Каупервуд был вполне доволен таким положением дел и ничего лучшего не желал. Но как и всякое пиратское плавание по волнам страсти, положение это было чревато опасностью: того и гляди мог подняться шторм — одна из тех свирепых бурь, причиной которых бывает обманутое доверие и созданные обществом моральные нормы, согласно которым женщина является собственностью мужчины. Правда, Каупервуда, который никаких законов, кроме своих собственных, не признавал, а если и подчинялся чужому закону, то лишь тогда, когда не мог его обойти, возможность скандала, сцен ревности, криков, слез, упреков, обвинений особенно не смущала. К тому же, быть может, удастся этого избежать. И там, где обыкновенный человек побоялся бы последствий даже одной такой связи, Каупервуд, как мы видели, не смущаясь и почти одновременно, завязывал отношения с несколькими женщинами. Новая связь не могла его испугать, тем более что на этот раз он был по-настоящему увлечен. Прежние его любовные похождения в лучшем случае были суррогатом подлинного чувства, пустыми интрижками, в которых не участвовали ни ум, ни сердце. С миссис Сольберг дело обстояло иначе. Неизвестно, надолго ли, но теперь Рита была для него всем. Однако женщины обладали для Каупервуда такой притягательной силой, так мощно — если не чувственно, то эстетически — действовала на него их красота и манящая тайна их индивидуальности, что он вскоре оказался вовлеченным в новую авантюру, исход которой был не столь благополучен. Антуанета Новак поступила к Каупервуду в качестве личного секретаря и стенографистки чуть ли не со школьной скамьи: среднее образование она получила в училище на Западной стороне, после чего окончила еще коммерческую школу. Девочкой приехав в Америку вместе с родителями, она выросла и расцвела на диво. Трудно было поверить, что эта стройная и гибкая красавица, всегда со вкусом одетая, прекрасно знающая стенографию, бухгалтерию и всю конторскую работу, — дочь бедного поляка, который работал сначала в юго-западной части Чикаго на сталелитейном заводе, а потом открыл в польском квартале третьеразрядную лавчонку и стал торговать табаком, газетами и писчебумажными принадлежностями. Продажа игральных карт да комнатка за лавкой, где посетители могли посидеть и при случае перекинуться в картишки, по существу были единственными доходными статьями этого предприятия. Антуанета (кстати сказать, ее звали Минка, а имя Антуанета она просто вычитала в чикагской воскресной газете), тоненькая брюнетка, мечтательная, честолюбивая и полная надежд на будущее, не прослужив и недели на новом месте, стала восхищаться Каупервудом и, затаив дыхание, следила за каждым его смелым ходом в войне с газовыми компаниями. Быть женой такого человека, думала она, завоевать его любовь или хотя бы привлечь его внимание — какое это должно быть счастье! После серенького мирка ее детства и юности, — он казался ей сереньким по сравнению с теми высшими и недоступными сферами, о существовании которых она начала догадываться, глядя на своего шефа, — и после ничем не примечательных людей в конторе по продаже недвижимости, где она работала некоторое время до того, как поступить сюда, Каупервуд, всегда прекрасно одетый, сдержанный, спокойно-самоуверенный, не мог не затронуть самых чувствительных струн ее честолюбивой души. Однажды она видела, как из коляски вышла Эйлин в коричневом костюме, соболях, элегантных лакированных ботинках и меховом токе с длинным-предлинным темно-красным пером, торчавшим над головой словно шпиль или лезвие кинжала. С первого же взгляда Антуанета ее возненавидела. Чем она хуже этой расфранченной особы? Почему так несправедливо устроен мир? И что за человек Каупервуд? Как-то, вскоре после, открытия комиссионной конторы в Чикаго, Каупервуд продиктовал ей свою биографию, несколько смягчив факты, и велел разослать по одному экземпляру в редакции чикагских газет. Антуанета засиделась за перепиской, поздно вернулась домой, и ночью ей приснился сон, в котором искаженно, как всегда бывает в снах, она увидела то, что было с ней днем. Ей снилось, будто она сидит за своим столиком в роскошном кабинете Каупервуда на Ла-Саль-стрит, а он стоит подле нее и спрашивает: — Что вы обо мне думаете, Антуанета? Она смущена, но отвечает храбро. Во сне она была страстно в него влюблена. — Я, право, и сама не знаю. Тогда он взял ее за руку и погладил по щеке, и тут она проснулась. А потом долго лежала и думала, как возмутительно и обидно, что такой человек сидел в тюрьме. Как он красив! Он женат во второй раз. Может быть, его первая жена была нехороша собой или глупа? Эти мысли не покидали Антуанету, и даже уже утром, на работе, она никак не могла от них избавиться. Занятый своими делами, Каупервуд в то время не обращал на нее внимания. Он с увлечением разрабатывал очередной ход, который дал бы ему перевес в войне со старыми газовыми компаниями. А для Эйлин, хотя она однажды и видела Антуанету у Каупервуда в кабинете, секретарша и вовсе не существовала. Женщина-конторщица была в те дни такой редкостью, что на нее смотрели как на отщепенку. Эйлин просто не замечала ее. Спустя примерно год после того как Каупервуд сошелся с Ритой Сольберг, его отношения с Антуанетой Новак, чисто деловые и официальные вначале, внезапно приобрели несколько иной, более личный характер. Чем это объяснить? Тем, что ему наскучила Рита? Нисколько! Каупервуд по-прежнему был без ума от нее. Или тем, что ему опостылела Эйлин, которую он нагло обманывал? Вовсе нет. Порою она привлекала его ничуть не меньше, может быть даже больше прежнего, — и именно потому, что ее воображаемые права так грубо попирались им. Он жалел Эйлин, но оправдывал себя тем, что все его романы — за исключением, пожалуй, связи с миссис Сольберг — очень недолговечны. Если бы у него была возможность жениться на Рите, он, вероятно, женился бы, он даже иной раз думал, может ли что-нибудь заставить Эйлин дать ему свободу, — но все это в конце концов были только праздные мысли. В глубине души он полагал, что они проживут вместе до самой смерти, тем более что Эйлин так легко обманывать. Ну а Антуанета Новак была для него лишь частью той симфонии плотской любви, с помощью которой, как известно, красота правит миром. Антуанета была очаровательной брюнеткой, особенно хороши были ее большие черные глаза, горевшие огнем неутоленных желаний, и Каупервуд, на которого стенографистка вначале не произвела большого впечатления, постепенно заинтересовался ею; глядя на нее, он удивлялся, как Америка преображает людей. — Ваши родители американцы, Антуанета? — спросил он ее как-то утром с той снисходительной фамильярностью, с какой обычно обходился со своими подчиненными или людьми, стоящими ниже его по умственному развитию, что, впрочем, никого не обижало, а многим даже казалось весьма лестным. Антуанета, свеженькая и опрятная, в белой блузке и черной юбке, с черной бархаткой на нежной шее и с тяжелыми черными косами, обвивавшими ее голову и скрепленными белым целлулоидовым гребнем, взглянула на него полными счастья и благодарности глазами. Она привыкла к мужчинам совсем другого рода: в детстве ее окружали люди суровые, вспыльчивые, горячие, временами они напивались и тогда начинали нехорошо браниться; они то и дело бастовали, участвовали в демонстрациях, ходили молиться в католическую церковь. А потом она видела вокруг себя только дельцов, помешанных на деньгах, невежественных и ничем не интересовавшихся, кроме возможностей наживы, которые открывались им в Чикаго. В конторе у Каупервуда, стенографируя его письма, слыша его краткие, но всегда живые разговоры со старым Лафлином, Сиппенсом и другими, она узнала о жизни много нового, о чем раньше никогда и не подозревала. Словно он распахнул перед ней окно, за которым открывались необозримые дали. — Нет, не американцы, сэр, — отвечала Антуанета, опуская на блокнот тонкую, но сильную белую руку, в которой она держала карандаш. Польщенная его вниманием, она невольно улыбнулась. — Так я и думал, — сказал он, — хотя вас можно принять за настоящую американку. — Не знаю даже, почему это так, — продолжала Антуанета очень серьезно. — И брат у меня тоже настоящий американец. Мы с ним совсем не похожи на отца и мать. — А что делает ваш брат? — спросил Каупервуд, чтобы что-нибудь сказать. — Он работает весовщиком у Арнила и К°. Надеется когда-нибудь стать управляющим. — Она улыбнулась. Каупервуд испытующе посмотрел на нее, и она, не выдержав его взгляда, опустила глаза. Помимо воли предательский румянец запылал на ее смуглых щеках. Она всегда мучительно краснела, когда Каупервуд смотрел на нее. — Итак, что же мы писали генералу Ван-Сайклу? — пришел ей на помощь Каупервуд, и через несколько минут она уже овладела собой. Всякий раз, когда ей случалось оставаться наедине с Каупервудом, она испытывала странное волнение, с которым не могла справиться. Сердце ее начинало отчаянно колотиться, и вся она горела как в огне. Порой Антуанета спрашивала себя, может ли такой замечательный человек обратить внимание на простую стенографистку. Естественно, что, постоянно думая о Каупервуде, Антуанета в конце концов без памяти в него влюбилась. Можно было бы, конечно, рассказать, как она день за днем писала под его диктовку, выслушивала приказания, спокойно и деловито, как полагается образцовой секретарше, выполняла свои обязанности. Но мысли Антуанеты, хотя это и не отражалось на точности и аккуратности ее работы, были целиком поглощены необыкновенным человеком, сидевшим рядом в кабинете, — ее хозяином, к которому непрерывно приходили важные, солидные дельцы; они совали ей свою карточку и иной раз часами задерживались у него. Правда, она заметила, что шеф редко снисходил до продолжительной беседы с кем-либо, и это очень интриговало ее. Распоряжения, которые он отдавал, всегда отличались краткостью: он полагался на ее природную сметливость, мгновенно дополнявшую то, на что он только намекал. — Вы поняли? — обычно спрашивал он. — Да, — отвечала Антуанета. Никогда еще не чувствовала она себя столь значительным лицом, как теперь, — с тех пор как стала работать у Каупервуда. В просторной конторе с до блеска натертыми полами все было светлым, холодным и жестким, как сам Каупервуд. Утреннее солнце заглядывало в большое выходившее на восток окно с толстым зеркальным стеклом и, проникая сквозь приспущенные шторы салатного цвета, создавало в комнате зеленоватый, романтический, как казалось Антуанете, полумрак. Кабинет Каупервуда, отделанный, как и в Филадельфии, вишневым деревом, был устроен так, чтобы нельзя было ни подсмотреть, ни подслушать, что там делается. Когда дверь была закрыта, никто не смел туда входить, точно в святая святых. Правда, Каупервуд по большей части благоразумно оставлял дверь отворенной, даже когда диктовал деловые письма. И вот во время этих диктовок, происходивших обыкновенно при открытой двери, — Каупервуд не считал удобным оставаться с секретаршей слишком долго наедине, — и создалась обстановка, способствовавшая их сближению. Шли месяцы, Каупервуд был увлечен другой женщиной, о существовании которой и не подозревала Антуанета, а она, входя к нему в кабинет, то с трудом переводила дух от волнения, то сгорала от девичьего стыда. Она даже самой себе не решалась признаться, что мечтает о нем. Ей было страшно подумать, как легко она может ему уступить. А между тем не было такой черточки в облике Каупервуда, которая не врезалась бы ей в сердце. Его густые каштановые волосы, всегда аккуратно разделенные пробором, его большие, ясные, невозмутимые глаза, холеные руки, такие сильные и мужественные, даже его костюм всегда изящного и простого покроя, — все восхищало ее! Каупервуд обычно казался очень замкнутым и далеким, и только когда они работали вместе, становился как-то ближе и доступней. Однажды, когда он диктовал Антуанете деловое письмо и взгляды их несколько раз встречались — при этом она неизменно опускала глаза на бумагу, — он, продолжая диктовать, подошел к полуотворенной двери и прикрыл ее. Антуанета не обратила бы на это внимания — ему случалось и раньше закрывать дверь, — но сегодня у него был какой-то особенный взгляд, пристальный, без улыбки, и она почувствовала, что сейчас, сию минуту что-то произойдет. Она похолодела, потом кровь прихлынула к ее лицу и по спине пробежала дрожь. Антуанета и сама не знала, как она хороша; руки и ноги у нее были словно точеные, тело стройное и гибкое. Тонкий профиль чеканностью рисунка напоминал изображения на старинных греческих монетах, а обвивавшие голову туго заплетенные косы казались высеченными из камня. Все это внезапно бросилось Каупервуду в глаза. Вернувшись к столу, он не сел на свое место, а наклонился к девушке, взял ее за руку и нежно, но настойчиво потянул к себе. — Антуанета, — сказал он. Она взглянула на него снизу вверх, потом приподнялась, бледная, задыхаясь от волнения; от обычной ееделовитости не осталось и следа. Ее охватила какая-то слабость, безволие. Она попыталась было высвободить руку, но, подняв глаза, увидела устремленный на нее жесткий и жадный взгляд. Голова у нее закружилась, в глазах отразилось предательское смятение. — Антуанета! — Да, — прошептала она. — Вы любите меня, признайтесь! Она попыталась овладеть собой, проявить твердость духа, которая, как ей казалось, никогда ее не покинет, — но, увы, этой твердости духа уже не было и в помине. На мгновенье Антуанете представилась далекая чикагская окраина, Блю-Айленд авеню, с двумя рядами низеньких глинобитных домишек, где она провела свое детство… а тут этот элегантный светлый кабинет и сильный, властный человек, который ждет ее ответа. Как чудесен должен быть мир, в котором он живет. Кровь стучала у нее в висках, и она застыла в каком-то блаженном оцепенении. — Антуанета! — Ах! Я и сама не знаю… — пролепетала она. — О да, да! Люблю! — Мне нравится ваше имя, — сказал он. — Антуанета! — И привлек ее к себе. Испуганная, счастливая, она не сопротивлялась, но вдруг, скорее от неожиданности, чем от стыда, слезы брызнули у нее из глаз. Она отвернулась, оперлась рукой о стол и, опустив голову, заплакала. — О чем вы, Антуанета? — ласково спросил он, наклоняясь к ней. — Вы так плохо знаете жизнь? Ведь вы сказали, что любите меня. Может быть, вы хотите, чтобы я забыл о том, что сегодня произошло, и чтобы все между нами было по-прежнему? Я могу пойти на это, если только, конечно, и вы можете. Он прекрасно знал, что она любит его и всем существом стремится к нему. Она слышала, что говорил Каупервуд, но рыданья душили ее. — Хотите, все будет по-прежнему? — снова повторил он, помолчав, чтобы девушка могла прийти в себя. — Ах, дайте мне поплакать! — в смятении пробормотала она наконец. — Я и сама не знаю, почему плачу. Просто разволновалась немножко. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. — Антуанета, перестаньте плакать и взгляните на меня. — Нет, нет, только не теперь. У меня глаза совсем распухли. — Ну, взгляните на меня, Антуанета, — и он взял ее за подбородок, — посмотрите, разве я такой уж страшный? — О! — всхлипнула она, когда их взгляды встретились. — Я… — и, положив руки на грудь Каупервуду, припала к нему головой, а он обнял ее и погладил по плечу. — Я не такой уж плохой, Антуанета, вы тут столько же виноваты, сколько и я. Так вы меня любите? — Да, о да! — И вы не будете сердится на меня? — Нет. Как это все странно. — Она спрятала лицо у него на груди. — Так поцелуйте меня. Она запрокинула голову и обвила его шею руками. Каупервуд крепко прижал ее к себе. Он слегка подтрунивал над ней, допытываясь, почему она плакала, а сам думал: что бы сказали Эйлин и Рита, если б узнали? Сначала Антуанета не хотела говорить, а потом призналась, что у нее было такое ощущение, будто она поступает дурно. Любопытно, что и Антуанета тоже думала об Эйлин, о том, с какой важностью та всегда проплывает мимо нее. Теперь она делит с этой высокомерной и тщеславной миссис Каупервуд его любовь. И как ни странно, Антуанета считала это честью для себя. Она выросла в собственных глазах, — почувствовала в себе прилив бодрости и сил. Теперь она ближе узнала жизнь, потому что узнала любовь и страсть. Будущее рисовалось ей исполненным радости. Немного погодя она села за свою пишущую машинку. К чему все это приведет? — думала она с лихорадочным волнением. По лицу ее не заметно было, что она плакала, только смуглые щеки пылали жарким румянцем, и это делало ее еще красивей. Никакое чувство вины перед Эйлин не тревожило Антуанету. Она принадлежала к новому поколению, которое начинало в душе подвергать переоценке прежнюю этику и мораль. Разве не вправе она распоряжаться собой, как хочет, и какое кому дело, куда это может ее завести. Поцелуи Каупервуда все еще горели на ее губах. Что теперь сулит ей будущее?Глава 17
Начало разлада
Последствия этого сближения были не так значительны для Каупервуда, как для Антуанеты. Повинуясь внезапной прихоти, он пробудил к жизни страстную, неукротимую натуру; девушка слепо боготворила его. Сколько бы он ни причинил ей горя, Антуанета — и будущее это показало — никогда не стала бы ему мстить. Однако, сама того не зная, она первая вызвала подозрения у Эйлин и открыла ей глаза на измены Каупервуда. Поводом к тому послужили два довольно незначительных случая. Однажды, заехав за Каупервудом, Эйлин застала его в кабинете наедине со стенографисткой, хотя было уже поздно и остальные служащие давно разошлись; они очень оживленно беседовали о чем-то, и девушка, когда Эйлин вошла, как будто смутилась. В другой раз, когда Каупервуд был в отъезде, Эйлин показалось, что она видела его вместе с Антуанетой в карете на Стэйт-стрит. Стояла ненастная ноябрьская погода. Эйлин выходила из магазина Мэррила и случайно взглянула на проезжавший возле тротуара экипаж. Полной уверенности у нее не было, но тем не менее это ее потрясло. Неужели Фрэнк в городе и никуда не уезжал? Эйлин тотчас же отправилась к нему в контору, под предлогом, что нашла хорошенький ошейник для Дженни, собачки старика Лафлина, а на самом деле, чтобы проверить, там ли Антуанета. Неужели Каупервуд мог увлечься этой стенографисточкой? — спрашивала она себя дорогой. В конторе все считали, что шефа нет в городе, но и Антуанеты не оказалось на месте. Лафлин сказал Эйлин, что мисс Новак, кажется, пошла в библиотеку подобрать какие-то материалы. Так Эйлин и не удалось разрешить свои сомнения. Как должна была она к этому отнестись? И счастье ее и все надежды были настолько тесно связаны с любовью и успехом Каупервуда, что при одной мысли потерять его она готова была сойти с ума. Порой Каупервуд, пробираясь по извилистым тропам страсти, задумывался над тем, как поступит Эйлин, если узнает о его похождениях. Уже и раньше — когда он завел интрижку с женой адвоката, миссис Катридж, а потом с Эллой и с миссис Ледуэл — у него бывали небольшие стычки с Эйлин, и хотя до настоящих ссор дело не доходило, Каупервуду было ясно, что даже тень подозрения выводит Эйлин из себя. Иногда он где-то пропадал, и Эйлин ждала его напрасно, но у него всегда находились оправдания; иногда ее удивляло его непонятное равнодушие к ней — в этом оправдаться было уже труднее. Тем не менее до сих пор Каупервуду всегда удавалось рассеивать ревнивые подозрения Эйлин, потому что ни одной из этих женщин он не был серьезно увлечен. — Ну, зачем ты это говоришь? — спокойно возражал он, когда Эйлин, сердясь на него за какую-нибудь очередную отлучку, утверждала, что он, верно, неплохо провел время с другой. — Ты же прекрасно знаешь, что у меня никого нет. Поверь, если бы я и завел шашни с какой-нибудь женщиной, ты бы очень быстро об этом узнала. И все равно, даже случись со мной такой грех, в душе я никогда бы тебе не изменил. — Вот как? — язвительно восклицала Эйлин; червь сомнения точил ее. — Ну, знаешь, «духовную верность» можешь оставить при себе. Мне одних возвышенных чувств мало. Каупервуд смеялся, а за ним смеялась и Эйлин. Он жалел ее и понимал, что она права. Нравился ему и сарказм, звучавший в ее словах. Кроме того, он знал, что в глубине души она не верит его измене, — ведь он и сейчас вел себя с нею как влюбленный. Но Эйлин хорошо знала, что он нравится женщинам, а разве мало бездушных кокеток, которые рады будут завлечь его и исковеркать ей жизнь. Да Фрэнк и сам, может быть, не прочь пасть жертвой этих обольстительниц. Взаимное влечение и физическая близость составляют столь неотъемлемую сторону брака и вообще всякой любовной связи, что почти каждая женщина следит за проявлениями чувства у своего возлюбленного примерно так, как, скажем, моряк, плаванье которого зависит от погоды, следит за барометром. Эйлин в этом смысле не составляла исключения. Она была так хороша собой, так сильно влекла к себе всегда Каупервуда, что всякая перемена в его отношении не могла бы от нее укрыться: очередные вспышки страсти доказывали ей, что она не утратила еще для него своей привлекательности. Но мало-помалу, задолго до его увлечения миссис Сольберг или кем-либо другим, пыл Каупервуда стал угасать, — правда, перемена была не столь велика, чтобы вызвать тревогу. Эйлин недоумевала, но не доискивалась причин. После неудачи, которую она потерпела в чикагском обществе, положение ее было слишком шатким, и у нее попросту не хватало на это духу. С появлением миссис Сольберг и Анутанеты Новак все усложнилось еще больше. По-своему привязанный к Эйлин, Каупервуд и хотел бы быть нежным с женой, — он знал, как сильно она его любит, и чувствовал себя виноватым перед ней, — но в то же время все больше от нее отдалялся. Он отдалялся от Эйлин или, напротив, вновь сближался с нею в зависимости от оживления или затишья, поочередно наступавших в его любовных делах, что, впрочем, никак не отражалось на его делах банкирских, которым он предавался с неизменной энергией и рвением; Эйлин все это замечала и очень тревожилась. Однако при ее безмерной самонадеянности ей не верилось, чтобы Каупервуд мог долго оставаться нечувствительным к ее красоте, а кроме того, сентиментальное участие, которое она принимала в судьбе Гарольда Сольберга и в его душевных терзаниях, не позволяло ей трезво судить об истинном положении вещей. И все же в конце концов она начала понимать, что любовь Каупервуда идет на убыль. Самое страшное то, что прежние отношения очень быстро опошляются, превращаясь в пустую видимость былой любви. Эйлин сразу почувствовала фальшь. Она пыталась протестовать. — Почему ты не целуешь меня так, как прежде? — упрекала она Каупервуда. Или в другой раз обиженно спрашивала: — Что с тобой случилось? Вот уже четыре дня, как ты не обращаешь на меня никакого внимания. — Ничего не случилось, — непринужденно отвечал Каупервуд. — Я ничуть не изменился и отношусь к тебе по-прежнему. — Он привлекал ее к себе, ласкал, но Эйлин оставалась недоверчивой и настороженной. В душевном состоянии, которое наступает у человека, столкнувшегося с этими мучительными и необъяснимыми приливами и отливами любви, очень малую роль играют так называемый разум или логика. Нельзя не удивляться, как под напором страсти и под воздействием изменившихся условий рушатся те взгляды и теории, которыми мы ранее руководствовались в жизни. В ту пору, когда Эйлин пренебрегла правами первой жены Каупервуда, как смело толковала она о том, что «ее Фрэнку» нужна женщина, которая подходила бы ему по развитию, наклонностям, вкусам; теперь же, когда ее одолевал страх, что Фрэнк найдет себе возлюбленную, еще более отвечающую его запросам, — хотя Эйлин не представляла себе, кто бы это мог быть, — она рассуждала совсем по-другому. Неужели пробил ее час? И его влечет к какой-то другой женщине больше, чем к ней? Это было бы ужасно! Что же тогда делать? — спрашивала она себя в полной растерянности. Как-то вечером Эйлин совсем пала духом и даже немножко всплакнула, сама толком не зная почему. Порой ей доставляло мстительное наслаждение придумывать, как и чем доймет она ту, которая посягнет на ее мужа. А потом она терзалась сомнениями. Надо ли открыто объявлять войну, если она убедится, что у Фрэнка есть любовница? Эйлин знала, что скорее всего именно так и поступит, но вместе с тем понимала, что если Каупервуд к ней охладел и кем-то увлечен всерьез, то ничего она этим не добьется. Как все это ужасно! Но что делать? Как вернуть Фрэнка? Ведь это сейчас самое главное. Ревнивые расспросы Эйлин заставили Каупервуда насторожиться и удвоить свое внимание к ней, — правда, чисто внешне. Он по мере сил скрывал чувства, которые волновали его теперь, — восхищение Ритой Сольберг, интерес к Антуанете Новак, — и на время преуспел в этом. Но в конце концов перемена стала слишком очевидной. Эйлин это заметила спустя год после их возвращения из Европы. В то время она еще интересовалась Сольбергом, хотя ее отношения с ним никогда не заходили дальше легкого флирта. Ей, правда, приходило в голову, что Гарольд довольно привлекателен, но разве можно его сравнить с Фрэнком? Никогда! И лишь только Эйлин почувствовала, что Каупервуд переменился к ней, она сразу опомнилась; а случая с каретой было достаточно, чтобы Сольберг и вовсе перестал для нее существовать. С ужасом думала она о том, что потерять теперь Каупервуда — это потерять все: его любовь — единственное, что у нее осталось, после того как рухнули ее надежды попасть в общество. Быть может, из-за этой неудачи Фрэнк и охладел к ней? Да, да, конечно. И все же, вспоминая, как он клялся ей в любви, вспоминая свою преданность ему в самое тяжелое время, когда он сидел в тюрьме в Филадельфии и все от него отшатнулись. Эйлин не верила, что он способен отплатить ей таким предательством. Фрэнк может увлечься, но если хорошенько его пристыдить, устроить, наконец, сцену, неужели у него хватит совести так мутить ее? Нет, нет, он образумится и снова станет так же ласков и нежен, как раньше. Когда Эйлин видела его или вообразила, что видела в карете с Антуанетой Новак, ей очень хотелось учинить ему допрос, но она пересилила себя и решила сначала последить за ним. Может быть, он волочится сразу за несколькими женщинами? Тогда это не так уж страшно. Эйлин была обижена, оскорблена в своих лучших чувствах, но не сломлена.Глава 18
Столкновение
Рита Сольберг была из тех женщин, все поведение которых и самая манера держаться не позволяют заподозрить их в чем-либо дурном. Хотя многое в ее теперешней жизни было ей внове, она не волновалась, не робела, неизменно сохраняла душевное равновесие и потому в самых затруднительных обстоятельствах умудрялась не терять самообладания. Даже захваченная с поличным, сна не почувствовала бы смущения и неловкости, ибо не видела в своих отношениях с Каупервудом ничего безнравственного и не мучилась мыслью о том, куда заведет ее эта связь; такие понятия, как «душа», «грех», для нее не существовали, а мнение общества мало ее тревожило. Она любила искусство, любила жизнь — словом, это была настоящая язычница. Есть такие натуры, защищенные как бы непроницаемой броней. Обычно это люди стойкие, но не обязательно выдающиеся или особенно преуспевающие. Рита в своей эгоистической наивности была не способна понять душевные муки женщины, потерявшей возлюбленного. Сама она равнодушно отнеслась бы к такой утрате, погоревала бы, наверно, немножко и утешилась: уверенная в своей красоте и тщеславная, она ждала бы для себя в будущем чего-нибудь лучшего или во всяком случае столь же хорошего. Рита часто навещала Эйлин — и с Гарольдом и без него, ездила с Каупервудами кататься, бывала с ними в театре, на выставках. После сближения с Каупервудом она снова решила учиться живописи. Вечерние и дневные занятия, которые можно было по желанию пропускать, служили ей прекрасным предлогом для частых отлучек из дому. Кроме того, Гарольд, с тех пор как у него появились деньги, заметно повеселел, стал вести более легкомысленный образ жизни, увлекаться женщинами. Каупервуд даже советовал Рите предоставить мужу полную свободу, чтобы в случае, если их отношения откроются, тот был связан по рукам и ногам. — Пусть заведет какой-нибудь серьезный роман. Мы наймем сыщиков и соберем против него улики. Он тогда и рта не посмеет раскрыть, — объяснил Каупервуд Рите. — Ну зачем же? У него и так было сколько угодно историй, — с милым простодушием заметила Рита. — Он даже отдал мне кое-что из своей переписки (она произнесла «пи-еписки») — любовные послания, которые он получал от разных женщин. — Письма — это недостаточно. Если уж нужно будет его припугнуть, нам потребуются свидетели. Когда он опять влюбится в кого-нибудь, дай мне знать, а об остальном я позабочусь сам. — Мне кажется, он даже сейчас влюблен, — забавно протянула Рита. — На-днях я видела его на улице с одной из его учениц. Прехорошенькая девушка, кстати. Известие это обрадовало Каупервуда. Порой ему казалось, что если бы Эйлин уступила домогательствам Сольберга, он был бы только рад; поймав ее на месте преступления, он почувствовал бы себя в безопасности. Впрочем, нет, в глубине души он не хотел этого и, наверное, хоть не надолго, а огорчился бы ее изменой. К Сольбергу, однако, были приставлены сыщики, связь его с ветреной ученицей установлена и подтверждена под присягой свидетелями, чего вместе с имевшейся у Риты «пи-епиской» было вполне достаточно, чтобы «заткнуть рот» музыканту, вздумай тот поднять шум. Так что Каупервуду и Рите нечего было особенно тревожиться. Другое дело Эйлин. Мысль об Антуанете Новак не давала ей ни минуты покоя: подозрения, любопытство, тревога неотступно терзали ее. После всего, что Каупервуд перенес в Филадельфии, Эйлин не хотела ничем вредить ему здесь, но вместе с тем при мысли, что он ее обманывает, она приходила в ярость. Не только ее любви, но и тщеславию был нанесен жестокий удар. Как узнать, наконец, правду? Самой следить за ним? Гордость не позволяла Эйлин поджидать Каупервуда на улице, у конторы, в отелях, подсматривать из-за угла. Нет, на это она не пойдет! Потребовать у него объяснений? Не имея достаточно веских доказательств, это было бы глупо. Он слишком хитер, и если его вспугнуть, он заметет следы, и она так ничего и не узнает: он просто будет все отрицать. Эйлин совсем извелась, не зная, на что решиться, пока однажды с болью в сердце не вспомнила, как десять лет назад ее собственный отец прибег к помощи сыщиков и без труда установил ее связь с Каупервудом и место их тайных встреч. Как ни горько, как ни мучительно было это воспоминание, но теперь тот же самый способ дознаться истины не вызывал в ней такого возмущения, как когда-то. Что ж, ведь тогда это разоблачение не причинило Каупервуду вреда, рассуждала Эйлин, во всяком случае большого вреда (это было неверно), ну и теперь ничего особенного не произойдет (что тоже было неверно). Но кто же поставит в вину страстной, любящей и глубоко уязвленной женщине такое отклонение от истины? Эйлин прежде всего хотела узнать, виновен ли он перед нею, а там уж она решит, что делать. И тем не менее она понимала, что вступает на опасный путь, и содрогалась при мысли о возможных последствиях. Если ожесточить Фрэнка, он может ее бросить, поступить с ней так же, как с первой женой, Лилиан. Все эти дни, присматриваясь к своему господину и повелителю, она думала: неужели он меня разлюбил и обманывает, как обманывал тринадцать лет назад свою первую жену? Неужели он вправду мог сойтись с такой девушкой, как Антуанета Новак? Думала, думала, думала с безотчетным страхом и вместе с тем с решимостью постоять за себя. Но как воздействовать на него? Если он еще любит ее, то все обойдется… ну, а если нет? Сыскная контора, куда Эйлин после долгих недель мучительных колебаний в конце концов обратилась, была одним из тех гнусных учреждений, к услугам которых многие все же не брезгают прибегать, когда нет иного способа разрешить свои сомнения в личных или денежных делах. С Эйлин, как с богатой клиентки, не преминули содрать втридорога, но поручение выполнили исправно. К ее изумлению, досаде и ужасу, после нескольких недель слежки ей донесли, что Каупервуд близок не только с Антуанетой Новак, — о чем она подозревала, — но и с миссис Сольберг. И поддерживает отношения и с той и с другой — две связи одновременно! Известие это так ошеломило Эйлин, что она долго не могла прийти в себя. Ни одна женщина ни до, ни после этой истории не казалась Эйлин столь опасной, как Рита Сольберг. Из всех живых существ женщины больше всего боятся женщин, и прежде всего умных и красивых. Рита Сольберг за последний год очень выросла во мнении Эйлин; материальное положение ее явно улучшилось, и благоденствовавшая Рита хорошела с каждым днем. Однажды, увидев ее в очень элегантном новеньком кабриолете на Мичиган авеню, Эйлин рассказала о своей встрече Каупервуду. — У отца ее, вероятно, хорошо идут дела, — заметил он. — От Сольберга ей кабриолета никогда не дождаться. И как Эйлин ни симпатизировала Гарольду — этому музыканту с впечатлительной душой, она понимала, что Каупервуд прав. В другой раз, на премьере, сидя рядом с Ритой в ложе, она обратила внимание, какое изящное и дорогое ка ней платье: светлый шелк весь в мелкую складочку, ажурная строчка, бесчисленные крохотные розетки из лент — над всем этим кому-то пришлось немало потрудиться. — Какая прелесть! — заметила Эйлин. — Да? Вы находите? — беззаботно отвечала Рита. — Моя портниха столько возилась с ним, я думала, она никогда не кончит. Платье обошлось в двести двадцать долларов, и Каупервуд охотно уплатил по счету. Возвращаясь тогда из театра домой, Эйлин думала о том, как изящно одевается Рита и как она умеет всегда выбрать именно то, что ей идет. Все-таки она очаровательна! Теперь же, когда оказалось, что те самые чары, которые пленили ее, пленили и Каупервуда, Эйлин ощутила бешеную, лютую ненависть. Рита Сольберг! То-то приятная будет для нее неожиданность, когда она услышит, что Каупервуд делил свои чувства между ней и какой-то ничтожной стенографисткой, Антуанетой Новак! И этой дрянной выскочке Антуанете тоже хороший будет сюрприз, когда она узнает, как мало значит она для Каупервуда, если Рите Сольберг он снял целую квартиру, а с ней встречается в домах свидания и средней руки номерах. Но как ни злорадствовала Эйлин, мысль о собственной беде неотступно мучила и терзала ее. Какой лгун! Какой лицемер! Какой подлец! Ее попеременно охватывало то отвращение к этому человеку, который когда-то клялся ей в своей любви, то безудержный, бешеный гнев, то сознание непоправимой утраты и жалость к себе. Что ни говори, а лишить такую женщину, как Эйлин, любви Каупервуда — значило отнять у нее все; без него она была как рыба, выброшенная на берег; как корабль с поникшими парусами; как тело без души. Рухнула надежда с его помощью занять положение в обществе, померкли радость и гордость именоваться миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд. Получив донесения сыщиков, она сидела у себя в комнате, устремив усталый взгляд в пространство; впервые в жизни горькие складки обозначились в уголках ее красивого рта. Перед ней как в тумане беспорядочно проносились картины прошлого, страшные мысли о будущем. Вдруг она вскочила — в глаза ей бросилась фотография на туалетном столе, с которой, словно на смех, спокойно и пытливо смотрел на нее муж. Эйлин схватила снимок, швырнула на пол и в бешенстве растоптала своей изящной ножкой красивое и наглое лицо. Мерзавец! Негодяй! Она представила себе, как белые руки Риты обвивают его шею, как губы их сливаются в долгом поцелуе. Воздушные пеньюары, открытые вечерние туалеты Риты стояли у нее перед глазами. Так нет же, он не достанется ни ей, ни этой дрянной выскочке, Антуанете Новак! Этому не бывать! Дойти до того, чтобы связаться с какой-то стенографисткой у себя же в конторе! В будущем она уже не позволит ему взять себе в секретари девушку. После всего, чем она для него пожертвовала, он не смеет не любить ее, не смеет даже глядеть на других женщин! Самые несообразные мысли вихрем проносились в ее голове. Она была близка к помешательству. Страх потерять Каупервуда довел ее до такого исступления, что она способна была на какой угодно опрометчивый шаг, на какую угодно бессмысленную и дикую выходку. Эйлин с лихорадочной поспешностью оделась, послала за наемной каретой и велела везти себя к Дворцу нового искусства. Она покажет этой красавице с конфетной коробки, этой вкрадчивой дряни, этой чертовке, как отбивать чужих мужей. По дороге она обдумывала план действий. Она не станет сидеть сложа руки и дожидаться, пока у нее отнимут Фрэнка, как она отняла его у первой жены. Нет, нет и нет! Он не может так поступить с ней. Пока она жива, этого не будет! Она убьет Риту, убьет эту проклятую стенографистку, убьет Каупервуда, убьет себя, но этого не допустит. Лучше отомстить и покончить с собой, чем потерять его любовь. В тысячу раз лучше! К счастью, ни Риты, ни Гарольда дома не было. Они уехали в гости. В квартире на Северной стороне, где, как сообщило Эйлин сыскное агентство, миссис Сольберг и Каупервуд встречались под фамилией Джекобс, Риты тоже не оказалось. Понимая, что дожидаться бесполезно, Эйлин после недолгих колебаний велела кучеру ехать в контору мужа. Было около пяти часов. Антуанета и Каупервуд уже ушли, но Эйлин не могла этого знать. Однако по пути туда она передумала и приказала повернуть обратно, к Дворцу нового искусства — сперва надо разделаться с Ритой, а потом уже с той девчонкой. Но Сольберги еще не возвратились. Отчаявшись найти Риту, Эйлин в бессильной ярости поехала домой. Где же и как встретиться ей с Ритой наедине? Но на ловца и зверь бежит: к злобной радости Эйлин, Рита неожиданно явилась к ней сама. Часов в шесть вечера Сольберги возвращались из гостей по Мичиган авеню, и Гарольд, когда экипаж поравнялся с особняком Каупервудов, предложил заглянуть к ним на минутку. Рита была прелестна в бледно-голубом туалете, отделанном серебряной тесьмой. Ее туфли и перчатки были чудом изящества, а шляпка — просто мечта. При виде Риты Эйлин — она была еще в вестибюле и сама отворила Сольбергам — почувствовала непреодолимое желание вцепиться ей в горло, ударить ее, но сдержалась и проговорила: «Милости прошу». У нее хватило ума и самообладания скрыть свое бешенство и запереть за ними дверь. Рядом с Ритой стоял Гарольд, в модном сюртуке и шелковом цилиндре, фатоватый, никчемный, но все-таки его присутствие сдерживало Эйлин. Он кланялся и улыбался. — О, — собственно звук этот не походил у Сольберга ни на «о», ни на «а», а представлял собой нечто вроде модулированного по-датски «оу», что даже нравилось Эйлин. — Как поживаете, миссис Каупервуд? Оу! Я так счастлив вас видеть. — Не пройдете ли в гостиную, — хрипло произнесла Эйлин. — Я только зайду к себе и сейчас же вернусь! — Затем, когда Сольберги были уже в дверях, Эйлин, словно что-то вспомнив, нежным голоском позвала Риту: — Миссис Сольберг! Может быть, вы подыметесь на минутку ко мне? Я хочу показать вам одну вещь. Рита тотчас согласилась. Она считала своим долгом всегда быть особенно предупредительной с Эйлин. — Мы к вам заглянули всего на несколько минут, но я с удовольствием подымусь с вами, — отвечала она, возвращаясь с приветливой улыбкой в вестибюль. Эйлин пропустила Риту вперед, легко и уверенно ступая, поднялась по лестнице, вошла следом за ней в спальню и закрыла дверь. Затем с решимостью и злобой, порожденной отчаянием, она заперла дверь на ключ и круто повернулась к Рите. Глаза Эйлин горели ненавистью, щеки побелели, потом стали багровыми, пальцы конвульсивно сжимались и разжимались. — Так вот вы как, — проговорила она, в упор глядя на Риту и подступая к ней с перекошенным от гнева лицом. — Моего мужа отбить вздумали, да? Квартиру завели для встреч, да? А ко мне в дом приходили улыбаться и лгать? Ах ты гадина! Лживая тварь! Потаскушка! Я тебе покажу, будешь знать, как прикидываться овечкой! Теперь я тебя раскусила! Теперь я тебя проучу, раз и навсегда проучу. Вот тебе, вот тебе! Вот тебе! От слов Эйлин тотчас перешла к действию; налетев на Риту как вихрь, она с остервенением колотила ее, царапала, щипала; она сорвала с нее шляпку, разодрала кружево у ворота, била ее по лицу, таскала за волосы и, вцепившись своей сопернице в горло, старалась задушить ее и изуродовать. В эту минуту она действительно была невменяема. Нападение было столь стремительно и внезапно, что Рита поневоле растерялась. Все произошло слишком быстро, было слишком ужасно, она и опомниться не успела, как буря обрушилась на нее. У Риты не было времени ни убеждать, ни оправдываться. Страх, позор, неожиданность заставили ее всю сжаться при этом молниеносном натиске. Когда Эйлин набросилась на нее, она стала беспомощно защищаться, оглашая криками весь дом. Это были дикие, пронзительные крики раненного насмерть зверя. Весь лоск цивилизации мгновенно слетел с нее. От светской изысканности и грации, нежного воркования, поз, гримасок, составлявших главную прелесть и очарование Риты, не осталось и следа: страх мигом вернул ее к первобытному состоянию. В глазах ее был ужас затравленного животного, посиневшие губы тряслись. Она пятилась от Эйлин, неуклюже спотыкаясь, с воплями корчилась и извивалась в ее цепких, сильных руках. Каупервуд вошел в дом за несколько секунд до того, как раздались эти крики. Он приехал из конторы почти вслед за Сольбергами и, случайно заглянув в гостиную, увидал там Гарольда. На лице музыканта сияла самодовольная и вместе с тем угодливая улыбка, та же угодливость чувствовалась во всей его фигуре, облаченной в застегнутый на все пуговицы длинный черный сюртук, к даже в шелковом цилиндре, который он все еще держал в руках. — О, мистер Каупервуд, как вы поживаете? — приветствовал он хозяина дома, дружески кивая кудрявой головой. — Я так рад вас видеть… — Но тут… Можно ли описать вопль ужаса? У нас нет слов, нет даже обозначений, чтобы передать эти животные, нечленораздельные звуки, которыми выражают страдание и страх. Они достигли вестибюля, библиотеки, гостиной, долетели даже до кухни и погреба, наполнив весь дом трепетом ужаса. Каупервуд, человек действия, не ведающий раздумья и нерешительности впечатлительных натур, весь напрягся, как пружина. Что это? Что за страшный крик? Сольберг — артист, как хамелеон реагирующий на всякое неожиданное происшествие и волнение, — побледнел, тяжело задышал, растерялся. — Господи! — воскликнул он, ломая руки. — Да ведь это Рита. Она наверху у вашей жены! Там что-то случилось. Боже мой! Боже мой!.. — Перепуганный, дрожащий, он сразу размяк и обессилел. Каупервуд же, без единой секунды колебаний, сбросил на пол свое пальто и ринулся наверх. Сольберг побежал за ним. Что случилось? Где Эйлин? — спрашивал себя Каупервуд, перескакивая через три ступеньки и сознавая, что стряслась какая-то непоправимая, ужасная беда. Эти вопли выворачивали всю душу, от них мороз продирал по коже. Опять вопль, еще и еще. Потом истошные крики. — Боже! Убивают! Помогите! Спасите! — И снова вопль, вернее какой-то дикий, протяжный, зловещий вой. Сольберг был близок к обмороку, так он перепугался. Лицо его стало землисто-серым. Каупервуд толкнул дверь и, убедившись, что она заперта, стал ее дергать, стучать, колотить в нее ногами. — Эйлин! Что там такое? — властно закричал он. — Сейчас же отвори! — Помогите! Помогите! Сжальтесь… О-о-о-о-о! — Это был слабеющий голос Риты. — Я тебе покажу, чертовка! — послышался голос Эйлин. — Я тебя, гадина, проучу! Лживая, продажная тварь! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе! — Эйлин! — хрипло позвал Каупервуд. — Эйлин! — Но она не отвечала, и вопли не прекращались. — Отойдите! Что вы стоите, как столб? — злобно крикнул он беспомощно охающему Сольбергу. — Дайте мне стул, стол, что-нибудь! — Дворецкий бросился выполнять приказание, но прежде чем он вернулся, Каупервуд нашел подходящее орудие. На площадке лестницы стоял дубовый резной стул с высокой узкой спинкой. — Вот! — воскликнул он, схватил его и занес над головой. Раз! Удар в дверь на мгновенье заглушил доносившиеся изнутри крики. Раз! Стул затрещал и чуть не рассыпался, но дверь не поддавалась. Ррраз! Стул разлетелся в щепы, и дверь распахнулась. Каупервуду удалось вышибить замок. Одним прыжком он очутился возле Эйлин, которая, придавив коленом распростертую посреди комнаты Риту, душила ее и колотила головой об пол. Как зверь кинулся он на нее. — Эйлин! Дура! Идиотка! Отпусти! — прорычал он хриплым, странно изменившимся голосом. — Что с тобой, черт тебя возьми! Что ты делаешь? Ты что, с ума сошла? Безмозглая идиотка! — Он, словно клещами, схватил Эйлин за руки и, оторвав от Риты, силком оттащил ее; перегнув через колено, он повалил ее на пол, но она, не помня себя от бешенства, продолжала вырываться и кричать: — Пусти меня! Пусти меня! Я ее проучу! Не смей держать, негодяй! Я и тебе покажу, собака… О!.. — Подымите эту женщину, — указывая на распростертую Риту, крикнул Каупервуд появившимся в дверях дворецкому и Сольбергу. — Унесите ее скорей отсюда. У миссис Каупервуд припадок. Унесите же, говорят вам. Жена сейчас сама не понимает, что делает. Унесите скорей и немедленно пошлите за доктором. Чтобы так драться!.. — О! — простонала Рита. Она была вся истерзана и от страха почти потеряла сознание. — Я убью ее! — взвизгнула Эйлин. — Изуродую! И тебя убью, собака! О!.. — Она порывалась его ударить. — Я тебе покажу, как путаться со всякой дрянью. Негодяй! Подлец! Но Каупервуд еще крепче стиснул руки Эйлин и несколько раз сильно ее встряхнул. — Что это на тебя нашло, черт тебя возьми, безмозглая дура! — грубо сказал он, когда Риту унесли. — Чего ты добиваешься? Что тебе надо? Убить ее? Ты что же, хочешь, чтобы сюда пожаловала полиция? Перестань вопить и веди себя прилично, а не то я заткну тебе рот платком! Перестань, тебе говорят! Перестань, слышишь? Довольно, сумасшедшая! — Он зажал ей рот ладонью, а другой рукой, перехватив ее поудобнее, резко, со злостью встряхнул. Каупервуд был очень силен. — Ну, замолчишь ты, наконец, или хочешь, чтобы я тебя придушил? И придушу, если ты не прекратишь это безобразие, — пригрозил он. — Совсем рехнулась! Замолчи сейчас же! Так вот ты как, когда что-нибудь не по тебе? Но Эйлин в исступлении рыдала, вырывалась, стонала, пытаясь все же выкрикивать угрозы и ругательства. — Дура! Сумасшедшая! — Каупервуд опрокинул ее на спину, с трудом вытащил платок из кармана и запихал ей в рот. — Ну вот, — произнес он с облегчением, — теперь ты будешь у меня молчать! — Она продолжала вырываться, колотила ногами об пол, но он держал ее железной хваткой; в эту минуту ему ничего не стоило ее придушить. Мало-помалу она затихла. Каупервуд, стоя возле нее на одном колене, крепко держал ее руки, прислушивался к тому, что делается в доме, и размышлял. Какая все-таки бешеная злоба! Конечно, ее особенно и винить нельзя. Она слишком его любит, слишком глубоко оскорблена. Он достаточно хорошо знал характер Эйлин и должен был предвидеть такой взрыв. Но дикая сцена, которую он застал, была настолько безобразна, грозила такими неприятностями, позором и скандалом, что ему трудно было сохранять обычное хладнокровие. Как можно дойти до такого неистовства? Да, Эйлин показала себя! А Рита? Страшно подумать, как Эйлин избивала ее. Может быть, она тяжело ранена, изувечена или даже убита? Какой ужас! Это вызовет бурю негодования! Будет скандальный процесс! Ревность Эйлин погубит всю его карьеру. Боже мой, все его будущее может рухнуть из-за этой сумасшедшей вспышки отчаяния и ярости! Когда вернулся дворецкий, Каупервуд кивком головы подозвал его к себе. — Как миссис Сольберг? — спросил он, втайне опасаясь самого худшего. — Что-нибудь серьезное? — Нет, сэр, не думаю. По-моему, только в обмороке. И, надо полагать, сэр, скоро придет в себя. Не прикажете ли вам помочь, сэр? Увидев подобную сцену со стороны, Каупервуд не удержался бы от смеха, но сейчас он остался холоден и строг. — Нет, пока не надо, — отвечал он со вздохом облегчения, продолжая крепко держать Эйлин. — Идите и закройте дверь поплотнее. Пошлите за доктором и ждите его в вестибюле. Как только он придет, позовите меня. Когда Эйлин поняла, что Рите собираются оказывать помощь, что о ней заботятся, делают что-то для нее, она попыталась приподняться, хотела закричать, но ее господин и повелитель держал ее крепко. — Может быть, ты теперь успокоишься, Эйлин, — сказал он, когда затворилась дверь, — и мы будем разговаривать по-человечески, или мне держать тебя так до утра? Ты, видно, хочешь, чтоб я навсегда расстался с тобой, и притом немедленно. Я все прекрасно понимаю, но тебе со мной не справиться, так и знай. Или ты образумишься, или, даю тебе слово, я завтра же уйду от тебя. — Голос его звучал угрожающе. — Так что же? Будем разговаривать серьезно или ты и дальше собираешься валять дурака — позорить меня, позорить наш дом, выставлять нас на посмешище прислуге, соседям, всему городу? Хорошее представление устроила ты сегодня. Господи боже мой! Вот уж действительно показала себя во всей красе. Скандал, драка! И где — у нас в доме! Я думал, у тебя больше здравого смысла, больше уважения к себе. Ты знаешь, что ты мне очень навредила! Всей моей будущности в Чикаго! Ты тяжело поранила, а может быть, даже убила эту женщину. Тебя могут повесить. Слышишь ты меня? — И пусть вешают. Я хочу умереть, — простонала Эйлин. Он вытащил платок у нее из рта и отпустил ее руки, чтобы она могла встать. Все в ней еще кипело и клокотало от ярости, но, поднявшись на ноги, она увидела перед собой лицо Каупервуда, его пристальный, холодный, властный взгляд. Что-то жесткое, ледяное, беспощадное сквозило в его чертах; Эйлин не знала у него этого выражения, таким Каупервуда видели только его конкуренты, да и то в редких случаях. — Довольно! — крикнул он. — Ни слова больше! Слышишь, ни слова! Она смешалась, вздрогнула, покорилась. Бушевавший в душе ее гнев стих, как стихает море, когда унимается ветер. «Подлец! Мерзавец!» и сотни других не менее страшных и бесполезных слов рвались из груди Эйлин, но под ледяным взглядом Каупервуда замерли у нее на губах. Мгновенье она смотрела на него в нерешительности, потом бросилась на постель и разрыдалась; закрыв лицо руками и раскачиваясь взад и вперед от невыносимой душевной муки, она всхлипывала и бормотала: — Боже мой! Боже мой! Сердце разрывается. Для чего жить? Хоть бы умереть скорей! Хоть бы умереть! Видя, что с ней делается, Каупервуд вдруг понял, какую она должна испытывать сердечную и душевную боль, и пожалел ее. Немного погодя он подошел к Эйлин и тихонько коснулся ее плеча. — Эйлин! Не надо! Перестань плакать, — уговаривал он. — Я ведь еще не бросил тебя. Не все еще погибло. Не плачь. Все это, конечно, очень плохо, но, может быть, и поправимо. Ну, перестань, Эйлин. Возьми себя в руки. Но Эйлин только покачивалась и стонала; безутешная в своем горе, она не желала ничего слушать. А у Каупервуда, кроме Эйлин, были и другие заботы: надо было придумать какое-то объяснение для доктора и прислуги, узнать, что с Ритой, по возможности успокоить Сольберга. Выйдя в коридор, он подозвал к себе лакея. — Стойте возле этой двери и никуда не отходите. Если миссис Каупервуд выйдет, немедленно позовите меня.Глава 19
«Нет фурии в Аду, столь злой…»
Рита, разумеется, не умерла, но она была избита до синяков, исцарапана, полузадушена. На затылке у нее оказалась широкая ссадина. Эйлин колотила ее головой об пол, и это могло бы плохо кончиться, если бы Каупервуд не подоспел вовремя. У Сольберга сначала создалось впечатление, что Эйлин и вправду была невменяема, что она неожиданно потеряла рассудок и что ее дикие выкрики по адресу Риты и Каупервуда не более как плод больного воображения. На какое-то время он в это поверил. И все же слова Эйлин не шли у него из головы. К самому Сольбергу впору было звать врача — после пережитого потрясения он еле держался на ногах, губы у него были синие, лицо мертвенно-бледное. Риту перенесли в соседнюю спальню и уложили в постель. Были пущены в ход примочки, холодная вода, компрессы из арники, и когда Каупервуд явился к ней, она уже пришла в сознание и чувствовала себя лучше. Все же она была еще очень слаба и жестоко страдала физически и нравственно. Доктору сказали, что гостья оступилась и упала с лестницы. Когда Каупервуд вошел к Рите, ей делали перевязку. Как только доктор распрощался, Каупервуд сказал горничной, которая ухаживала за Ритой: — Принесите кипяченой воды. Едва она скрылась за дверью, он нагнулся и поцеловал Риту в обезображенные вспухшие губы, потом предостерегающе приложил палец к собственным губам. — Ну, как, Рита? Тебе лучше теперь? — тихо спросил он. Она ответила еле приметным кивком. — Тогда слушай внимательно, — сказал Каупервуд, наклоняясь к ней и стараясь говорить раздельно и внятно. — Попытайся все понять и запомнить и делай так, как я тебе скажу. Никаких серьезных увечий у тебя нет. Ты скоро поправишься. Все это пройдет бесследно. Сегодня же тебя дома навестит другой доктор, я за ним уже послал. Гарольд поехал за платьем для тебя. Он скоро вернется. Как только ты почувствуешь себя немного лучше, тебя отвезут в моей карете домой. Не тревожься. Все будет хорошо, только ты должна все отрицать, слышишь! Решительно все! Стой на том, что миссис Каупервуд сошла с ума. А завтра я переговорю с твоим мужем. Я пришлю к тебе опытную сиделку. Только, пожалуйста, будь осторожна, думай о том, что и как будешь говорить. Главное — не волнуйся. И не бойся ничего. Ты и здесь и дома в полной безопасности. Миссис Каупервуд больше тебя не потревожит. Об этом я позабочусь. Мне так жаль тебя, Рита, я так тебя люблю. Знай, что я всегда с тобой. То, что случилось, не должно отразиться на наших отношениях. Больше ты ее никогда не увидишь. Тем не менее Каупервуд знал, что прежнего не вернуть. Убедившись, что состояние Риты не внушает опасений, Каупервуд пошел к Эйлин, чтобы еще раз поговорить с ней и по возможности успокоить. Он застал ее уже на ногах, она одевалась и, как видно, приняла какое-то новое решение. Пока она лежала на Кровати, обливаясь слезами, в ней произошел перелом. Если она не имеет больше никакой власти над Каупервудом, если она не может заставить его искренне раскаяться, то лучше ей уйти от него. Фрэнк ее разлюбил, это ясно, иначе он не стал бы так горячо защищать Риту и с ней никогда бы не обошелся так грубо. И все же она не хотела этому верить. Фрэнк был так внимателен к ней, так нежен когда-то! Эйлин еще не потеряла надежды одержать победу над Каупервудом и своими соперницами — она слишком любила его, чтобы сразу сдаться, — но считала теперь, что помочь ей может только разлука. Лишь страх навсегда ее потерять образумит Каупервуда. Она встанет, оденется и уедет в какой-нибудь отель. И больше он ее не увидит, если сам не придет к ней. Как бы там ни было, его связи с Ритой Сольберг она все-таки положила конец, хотя бы на время, со злорадством думала Эйлин, а с Антуанетой Новак можно будет разделаться потом. Сердце у нее ныло, голова раскалывалась, в груди теснились такая злоба и боль, что она уже не могла больше плакать. Когда Каупервуд вошел, Эйлин, стоя перед зеркалом, дрожащими пальцами застегивала пуговицы на костюме и поправляла прическу. Этого Каупервуд никак не ожидал и потому даже несколько опешил. — Эйлин, — сказал он, подходя к ней, — почемубы нам спокойно и мирно не переговорить теперь обо всем. Ты сгоряча наделаешь глупостей и потом будешь жалеть. Зачем это нужно? Прости меня. Неужели ты действительно могла подумать, что я тебя разлюбил? Я люблю тебя, как и прежде, Эйлин. Все это не так страшно, как тебе представляется. Мне казалось, что я вправе ожидать от тебя большей чуткости и понимания после всего, что мы пережили вместе. И потом у тебя нет никаких оснований обвинять меня и устраивать такую сцену. — Нет оснований? — воскликнула Эйлин, отрывая взгляд от зеркала, перед которым она только что, в печали и расстройстве, приглаживала свои рыжевато-золотистые волосы. Щеки ее пылали, глаза покраснели от слез. Она вдруг живо напомнила ему ту шестнадцатилетнюю девочку в красном капюшоне, которая стремительно взбежала на крыльцо отцовского дома и с первого взгляда так поразила его воображение много лет назад. Как она была хороша тогда! Это воспоминание вызвало в нем прилив нежности к Эйлин. — И ты смеешь это утверждать, лгун ты этакий! — продолжала она с возмущением. — Напрасно ты воображаешь, что я ничего не знаю. Думаешь, зря за тобой целый месяц по пятам ходили сыщики? Подлец ты, и больше ничего! Ты просто стараешься выведать, что мне известно о тебе, а что нет. Достаточно известно, за глаза достаточно, не беспокойся! Больше ты меня не одурачишь своими ритами, антуанетами, холостыми квартирами и домами свиданий. Я тебя насквозь вижу, негодяй! И это после всех твоих клятв и уверений в любви! Тьфу, мерзость! Она снова яростно принялась закалывать волосы шпильками, а Каупервуд, пораженный силой ее страсти, поневоле любовался ею. Вот это темперамент — она подстать ему! — Эйлин, — мягко сказал он, не теряя надежды все же умилостивить ее, — не будь так сурова со мной. Неужели ты не можешь понять, что жизнь берет свое и устоять против нее трудно? Неужели в тебе нет ни капли сочувствия ко мне? Я считал тебя великодушнее, ожидал от тебя большей чуткости. Не такой уж я дурной человек. Он смотрел на нее задумчивым, нежным взглядом, надеясь, как всегда, сыграть на ее любви к нему. — Сочувствие! Сочувствие! — вскипела Эйлин, оборачиваясь к нему. — Не тебе об этом говорить! Разве я не сочувствовала тебе, когда ты сидел в тюрьме? Нет? И вот что я за это получила. Да, посочувствовала… Чтобы ты потом в Чикаго путался с разными шлюхами — всякими стенографистками и женами музыкантов! Ты мне тоже, верно, сочувствовал, когда обманывал меня с этой особой, что лежит в соседней комнате! Эйлин провела руками по талии и бедрам, приглаживая жакет, поправила его на плечах, надела шляпку и набросила шаль. Она решила ничего с собой не брать и завтра прислать Фадету за вещами. Но Каупервуд не отставал, добиваясь своего. — Эйлин, — снова заговорил он, — пойми, что ты делаешь глупость, страшную глупость. У тебя нет для этого решительно никакого повода. Ты кричишь на весь дом, срамишь нас перед соседями, устраиваешь тут драку, а теперь еще собираешься со скандалом уйти. Это же чудовищно. Я не хочу, чтобы ты губила и себя и меня. Ведь ты меня еще любишь. Сама знаешь, что любишь. Многое ты наговорила в сердцах и сама этому не веришь. Не можешь верить. Ведь не думаешь же ты в самом деле, что я разлюбил тебя? — Любил!.. Разлюбил! — снова вскипела Эйлин. — Что ты понимаешь в любви! Разве ты когда-нибудь любил, низкий ты человек? Я знаю, как ты любишь. Когда-то я, правда, думала, что дорога тебе. Вздор! Теперь я вижу, как ты меня любил! Не больше, чем всех других, не больше, чем эту кубышку, Риту Сольберг — гадину, лживую, подлую тварь! Или эту ничтожную стенографистку, Антуанету Новак! Любовь! Тебе и слово-то это непонятно!.. — Но тут спазма перехватила ей горло, она всхлипнула, и глаза ее от злости и обиды наполнились слезами. Каупервуд заметил это и, надеясь использовать ее минутную слабость, приблизился к ней. Он и в самом деле был опечален и хотел смягчить ее сердце. — Эйлин, — умоляюще сказал он, — зачем ты все это говоришь с такой злобой? Не надо быть жестокой. Я не такой уж плохой. Будь же благоразумна. Успокойся. — Каупервуд протянул к ней руку, но Эйлин отпрянула от него. — Не трогай! — крикнула она, дрожа от бешенства. — Не прикасайся ко мне! Не подходи! Все равно я уйду от тебя. Ни минуты больше не останусь в одном доме с тобой и твоей любовницей. Ступай к своей прекрасной Рите, живи с ней, если тебе угодно. У вас ведь есть даже квартира на Северной стороне. Мне теперь это безразлично. Ты уж, конечно, бегал к ней в соседнюю комнату, утешал эту мерзавку! Господи! Почему только я не убила ее! — и Эйлин вдруг рванула ворот жакета, который сна безуспешно пыталась застегнуть. Каупервуд был поражен. Такой вспышки он от нее не ожидал, не считал ее на это способной. Он не мог не восхищаться ею. Однако ее оскорбительные нападки на Риту, ее упреки в непостоянстве и неразборчивости по его адресу задели Каупервуда за живое, и раздражение его вылилось в словах, о которых он тут же пожалел. — На твоем месте, Эйлин, я не стал бы особенно осуждать моих любовниц. Собственный опыт должен бы… — Но тут Каупервуд запнулся, поняв, что допустил непростительный промах. Упоминание о прошлом Эйлин испортило все дело. Она вздрогнула, выпрямилась, в глазах ее отразилась душевная боль. — Так вот как ты разговариваешь теперь со мной! — сказала она глухо. — Я знала, что так будет. С самого начала знала! — и, отвернувшись к высокому комоду, уставленному серебряными туалетными принадлежностями, флаконами, щетками, футлярами с драгоценностями, легла на него грудью, уронила, голову на руки и зарыдала. Эта капля переполнила чашу. Он ставит ей в упрек ее безрассудную девичью любовь к нему. — О-о! — всхлипывала она, сотрясаясь от судорожных, безутешных рыданий. Каупервуд подошел к ней. Он был искренне огорчен. — Ты меня не так поняла, Эйлин, — пытался он объяснить. — Я совсем не то хотел сказать, совсем не в этом смысле. Ты сама меня на это вызвала, я ведь не думал упрекать тебя. Да, ты была моей любовницей, но разве я поэтому меньше любил тебя? Напротив! Ты сама знаешь. Верь мне, Эйлин. Я не лгу. А те истории… какое же может быть сравнение с тобой… это так все несущественно, уверяю тебя… Эйлин с отвращением от него отстранилась, и Каупервуд, заметив это, смешался и замолчал. Глубоко сожалея о допущенной оплошности, он отошел на середину комнаты. А в Эйлин между тем улегшийся было гнев вспыхнул с новой силой. Как он смеет! — Так вот как ты разговариваешь со мной! — воскликнула она. — После того, как я всем для тебя пожертвовала! После того, как я два года плакала и ждала тебя, когда ты сидел в тюрьме? Любовница! Вот награда за все! Взгляд ее упал на шкатулку с драгоценностями, и, вспомнив о подарках, которые Каупервуд делал ей в Филадельфии, в Париже, в Риме, здесь, в Чикаго, она откинула крышку и, захватив пригоршню драгоценностей, швырнула их ему в лицо. Ожерелье и браслет из зеленого нефрита в тонкой золотой оправе с фермуарами из слоновой кости; матово блеснувшая в вечернем освещении нитка жемчуга, все зерна которой были одного цвета и одной величины; груды колец и брошей с бриллиантами, рубинами, опалами, аметистами; изумрудное ожерелье, бриллиантовая диадема — все украшения, которые он когда-то с любовью выбирал для нее у ювелиров и с радостью ей преподносил. Она кидала их с лихорадочным неистовством, и кольца, броши, браслеты попадали Каупервуду в голову, в лицо, в руки и рассыпались по полу. — Получай свои подарки! На тебе! На! На! Ничего мне твоего не надо! Не хочу тебя знать больше! Ничего не хочу твоего! Слава богу, у меня есть свои деньги, как-нибудь проживу! Ненавижу… презираю… не хочу тебя больше видеть… О!.. — Она остановилась, не зная, чтобы еще сказать ему, но, так ничего и не придумав, стремительно выбежала из комнаты. Эйлин уже пробежала коридор и спустилась с лестницы, когда Каупервуд, опомнившись, бросился за ней. — Эйлин! — крикнул он. — Эйлин, вернись! Не уходи, Эйлин! Но она побежала еще быстрее. Парадная дверь открылась, с шумом захлопнулась, и Эйлин очутилась на темной улице; глаза ее застилали слезы, сердце готово было разорваться. Так вот каков конец ее юной любви, начало которой было так прекрасно. Он ее ни в грош не ставит — она всего-навсего одна из его любовниц. Бросить ей в лицо ее прошлое, чтобы защитить другую женщину! Сказать ей, что та ничем не хуже ее. Этого Эйлин была не в силах вынести. Она торопливо шла, давясь от рыданий, и клялась никогда больше не возвращаться, никогда больше не видеть Каупервуда. Но Каупервуд уже бежал за ней. Как ни мало считался он с понятиями морали и долга, он все же не мог допустить, чтобы так оборвались его отношения с Эйлин. Она любила его, говорил себе Каупервуд, и все дары своей преданности и страсти принесла на алтарь этой любви. Слишком уж это было бы несправедливо. Надо ее удержать. Каупервуд, наконец, догнал Эйлин и остановил ее под темным сводом сумрачных осенних деревьев. — Эйлин, — нежно сказал он, обнимая ее за плечи, — Эйлин, дорогая, это же чистейшее безумие. Ты не в своем уме! Что ж это такое? Не уходи! Не оставляй меня! Я тебя люблю! Неужели ты этого не видишь, не хочешь понять? Не беги от меня и не плачь. Ведь я тебя люблю, ты это знаешь, и всегда буду любить. Вернись, Эйлин. Ну, поцелуй меня. Я исправлюсь. Честное слово, исправлюсь. Ты только испытай меня, и увидишь. А теперь вернемся, да? Вернемся, моя девочка, моя Эйлин. Я прошу тебя! Она порывалась уйти, но он держал ее и гладил ее плечи, волосы, лицо. — Эйлин! — молил он. Она вырывалась, но он обнял ее и крепко прижал к груди. Тогда она сразу затихла и только изредка слабо всхлипывала, испытывая одновременно и горе и какую-то мучительную радость. — Я не хочу! — твердила она. — Ты не любишь меня больше. Пусти! Но Каупервуд не отпускал ее, уговаривал, и, наконец, уткнувшись головой ему в плечо, как это бывало прежде, она сказала: — Только не сегодня. Не заставляй меня. Я не хочу. Не могу. Я переночую в городе, а завтра, может быть, приеду. — Тогда пойдем вместе, — с нежностью сказал Каупервуд. — Это, вероятно, неразумно. Мне следовало бы позаботиться о том, чтобы предотвратить скандал. Но я пойду с тобой. И они направились к станции конки.Глава 20
«Человек и сверхчеловек»
Как ни прискорбно, но надо признаться, что большинство любовных союзов не выдерживает натиска житейских бурь, и только истинная любовь — это полное органическое слияние двух существ — способна противостоять всему, но она-то обычно и заканчивается трагической развязкой. Рита Сольберг, так пылко, казалось бы, влюбленная в Каупервуда, все же была не настолько околдована им, чтобы ужасный удар, нанесенный ее самолюбию, не подействовал на нее отрезвляюще. Какое позорное разоблачение, какое смешное и жалкое крушение всех ее пустых расчетов и планов, какое неумение предвидеть последствия! Все это было совершенно непереносимо! Мысль о том, как легкомысленно и беспечно попалась она в ловушку, расставленную ей женой Фрэнка, о том, что она позволила этой женщине сделать из себя посмешище, приводила Риту в ярость. Эта Эйлин — просто грубое животное! Ведьма! То обстоятельство, что кулаки миссис Каупервуд оказались куда крепче ее собственных, не особенно огорчало Риту Сольберг, — скорее она увидела в этом доказательство своего морального превосходства. Но как бы там ни было, а лицо у нее в синяках и кровоподтеках, точно у пьяного бродяги, и от этого положительно можно было сойти с ума! В тот вечер в лечебнице на Лейк-Шор, куда ее поместили, у нее было только одно желание: уехать, уехать куда-нибудь подальше и забыть обо всем. Она не желала больше видеть Сольберга, не желала больше видеть Каупервуда. К тому же Гарольд Сольберг, исполненный ревнивых подозрений, решил во что бы то ни стало докопаться до истины и уже приставал к Рите, с вопросами: с чего это миссис Каупервуд вздумалось вдруг наброситься на нее с кулаками, какая могла быть тому причина? Впрочем, когда доложили о Каупервуде, он сразу сбавил тон; подозрения подозрениями, а ссориться с этим человеком ему отнюдь не хотелось. — Я безмерно огорчен всем происшедшим, это так прискорбно, — стремительно входя в комнату, проговорил Каупервуд — самообладание и тут не покинуло его. — Я никак не предполагал, что моя жена подвержена таким странным припадкам. Хорошо еще, что я подоспел вовремя. Прошу вас обоих принять мои самые искренние сожаления. Надеюсь, миссис Сольберг, что вы не очень пострадали? Если я могу быть чем-нибудь полезен вам или вам, — с видом живейшей готовности он взглянул на Гарольда, — поверьте, я охотно сделаю все, что в моих силах. Мне кажется, что миссис Сольберг следовало бы сейчас поехать куда-нибудь отдохнуть. Я с радостью возьму на себя все расходы. Сольберг молчал, угрюмо насупившись, размышляя; его душила злоба. Рита, которая с появлением Каупервуда несколько приободрилась, но отнюдь не обрела еще своего обычного душевного равновесия, с тревогой ждала, что будет дальше. Боясь, как бы между мужем и Каупервудом не разыгралась какая-нибудь безобразная сцена, она поспешила заявить, что чувствует себя уже значительно лучше и скоро совсем оправится. Она никуда не хочет уезжать, но сейчас предпочитает остаться одна. — Все это очень странно, — угрюмо произнес Сольберг, нарушив, наконец, молчание. — Я не понимаю, я решительно ничего не понимаю. Почему ваша жена позволила себе такую выходку? Почему позволила она себе говорить такие слова? Мы были лучшими друзьями, и вдруг она набрасывается на мою жену и кричит бог весть что! — Уверяю вас, дорогой мистер Сольберг, что моя жена просто была невменяема в ту минуту. У нее и раньше случались подобные припадки — правда, не в такой резкой форме. Сейчас она уже пришла в себя и абсолютно ничего не помнит. Но, может быть, мы перейдем в приемную, если у вас есть желание продолжить этот разговор? Вашей супруге нужен сейчас полный покой. Притворив за собою дверь, Каупервуд продолжал с поразительным присутствием духа: — Так вот, дорогой мой Сольберг, что, собственно, могу я вам еще сказать? Моя жена, без всяких к тому оснований, позволила себе оскорбить вашу жену и даже, стыдно признаться, — нанесла ей серьезные увечья. Повторяю: я глубоко об этом сожалею и заверяю вас, что миссис Каупервуд — жертва какого-то чудовищного заблуждения. Что ж тут можно поделать? Мне кажется, нам теперь ничего другого не остается, как предать все это забвению. Согласны вы со мной? Ну и положение! Гарольд терял голову, не зная, на что решиться. Он и сам был не без греха. Рита не раз упрекала его в неверности. От злости он надулся, как индейский петух, и, наконец, его прорвало. — Вам легко так говорить, мистер Каупервуд! — вызывающе начал он. — А каково мне? Каково мое положение? Я до сих пор не знаю, что мне об этом думать. Все это в высшей степени странно. А предположим, что ваша жена сказала правду? Предположим, что моя жена и в самом деле путалась с кем-то? Вот что я хочу выяснить прежде всего. А если это так? Если она действительно… тогда… тогда я… Я даже не знаю, что я тогда сделаю. Я человек отчаянный… Каупервуд едва сдержал улыбку, хотя, в сущности, ему было не до смеха. Сольберг был ему не страшен, но он боялся огласки. — Вот что, дорогой мой, — сказал он, бросая пронзительный взгляд на музыканта: он решил взять быка за рога. — Мне кажется, что вы сами находитесь в довольно щекотливом положении, и, если только вся эта история выйдет наружу, ваша личная жизнь станет предметом толков и обсуждений ничуть не менее, чем моя или миссис Каупервуд, а ведь, насколько мне известно, она далеко не безупречна. Вы не можете очернить вашу жену, не очернив вместе с тем и самого себя, — одно неизбежно повлечет за собой другое. Все мы не безгрешны. Я в таком случае, разумеется, вынужден буду доказать невменяемость миссис Каупервуд, — мне ничего не стоит это сделать. А вот если у вас в прошлом не все ладно, это мгновенно станет достоянием молвы, имейте в виду. Если вы согласитесь предать дело забвению, я не останусь в долгу перед вами и вашей супругой. Если же, наоборот, вы найдете нужным поднять шум и эта злосчастная история получит огласку, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить свое имя. — Как! — воскликнул Сольберг. — Вы же мне еще и угрожаете! Хотите меня запугать, когда ваша собственная жена говорит, что вы путаетесь с моей женой? И вы смеете рассуждать о моем прошлом! Вот это мне нравится! Ну, мы еще посмотрим! Что же такое вам обо мне известно? — А вот что, мистер Сольберг, — спокойно отвечал Каупервуд. — Я знаю, например, что ваша жена уже давно не любит вас, что вы жили на ее средства, что у вас было шесть или семь любовниц за последние шесть или семь лет. Миссис Сольберг доверила мне, как банкиру, вести ее денежные дела, и я с помощью сыщиков уже давно получил сведения о ваших связях — об Энн Стелмак, Джесси Ласка, Берте Риз, Джорджи дю Койн… стоит ли продолжать? Кроме того, у меня имеются кое-какие ваши письма. — Так вот оно что! — воскликнул Сольберг, избегая устремленного на него пристального взгляда Каупервуда. — Так вы, значит, все-таки путались с моей женой? Значит, это правда? И вы же теперь грозите мне, клевещете на меня! Хотите меня запугать? Вот это ловко! Ну, нет! Вы еще увидите, на что я способен. Погодите, я поговорю с моим адвокатом. Тогда мы посмотрим! Каупервуд взирал на него с холодной злобой. «Какой осел!» — думал он. — Извольте меня выслушать, — и, подтолкнув Сольберга к лестнице, Каупервуд заставил его спуститься в вестибюль и затем выйти на улицу, тускло освещенную мерцающим светом двух газовых фонарей, которые раскачивались на ветру перед зданием лечебницы. Тут разговор мог происходить без свидетелей. — Я вижу, что вы во что бы то ни стало хотите устроить скандал. Хоть я и заверил вас честным словом, что вся эта история — сплошная нелепость, вас это не удовлетворило. Вам непременно хочется ее раздуть. Ну что ж, отлично. Допустим на минуту, что миссис Каупервуд отнюдь не теряла рассудка. Допустим, что все, сказанное ею, — правда, что я действительно был в связи с вашей женой. Что же дальше? Что вы можете предпринять? И он с холодной насмешкой взглянул на Сольберга. Тот снова вскипел. — Как! — мелодраматически воскликнул он. — Да я убью вас, вот что я сделаю. И ее убью. Я устрою страшный скандал. Если только я узнаю, что это правда, вы увидите, что будет! — Так, так, — мрачно произнес Каупервуд. — Я это и предполагал. Что ж, я вам верю. Я даже припас кое-что, когда шел сюда, чтобы в любой момент быть к вашим услугам, — и он вынул из кармана два небольших револьвера, которые предусмотрительно захватил из дому. Стволы их блеснули в темноте. — Вот, видите? Я избавлю вас от необходимости ломать себе голову, докапываясь до истины, мистер Сольберг. Все, что сказала сегодня миссис Каупервуд, — правда, от первого до последнего слова, и я прекрасно отдаю себе отчет в том, какие последствия будет иметь и для вас и для меня это признание. Миссис Каупервуд не более безумна, чем я или вы. Вот уже больше года я встречаюсь с вашей женой в одной квартирке на Северной стороне, но только вы никогда не сможете этого доказать. Ваша жена не любит вас, она любит меня. Теперь, если вы намерены меня убить, — вот револьвер, — он протянул револьвер Сольбергу. — Я к вашим услугам. Если уж мне суждено умереть, то я постараюсь и вас отправить на тот свет. Каупервуд произнес эти слова таким решительным, таким ледяным тоном, что Сольберг, бахвал, но трус в душе, побелел от страха; как всякому здоровому животному, ему вовсе не хотелось умирать. Вид холодной блестящей стали вселил в него ужас. Рука, вложившая револьвер в его руку, была тверда и беспощадна. Сольберг боязливо, трясущимися пальцами сжал было оружие, но суровый металлический голос, звучавший в его ушах, отнял у него последнее мужество. Каупервуд с каждой минутой становился все грознее, Сольбергу он казался уже не человеком, а демоном. Не помня себя от страха, скрипач опустил руку, державшую револьвер. — Боже милостивый! — пролепетал он, дрожа, как лист на ветру. — Я вижу, вы хотите меня убить! Оставьте меня! Я не желаю с вами разговаривать. Я хочу поговорить с моим адвокатом! С моей женой! — Ну нет, этого вам сделать не удастся, — возразил Каупервуд; он заступил Сольбергу дорогу и, видя, что тот все-таки хочет улизнуть, схватил его за руку. — Я вам не позволю. Я не собираюсь убивать вас, если вы не собираетесь убивать меня. Но я хочу, чтобы вы вняли, наконец, голосу рассудка. Выслушайте то, что я хочу вам сказать, и покончим с этим. Я не питаю к вам вражды. Хочу даже оказать вам услугу, несмотря на то, что, в сущности, до вас мне никакого дела нет. Прежде всего, то, что говорила моя жена, — конечно, чушь, неправда. Я сейчас нарочно обманул вас, чтобы проверить, насколько серьезны ваши угрозы. Вы не любите больше вашу жену. Она не любит вас. Вы ей совершенно не нужны. Так вот, я хочу по-дружески предложить вам: покиньте Чикаго, не возвращайтесь сюда года три или больше, и я позабочусь о том, чтобы вы ежегодно первого января день в день получали на руки пять тысяч долларов! Вы слышите: пять тысяч долларов! Или вы можете остаться в Чикаго, но держать язык за зубами, — и тогда вы будете получать три тысячи — раз в год или помесячно, как вам будет угодно. Но если вы — и прошу вас хорошенько это запомнить, — если вы не уберетесь из этого города, или не будете держать язык за зубами, или позволите себе какой-либо выпад против меня, тогда я убью вас, раздавлю, как муху. А теперь ступайте отсюда прочь и ведите себя благоразумно. Оставьте вашу жену в покое. Дня через два наведайтесь ко мне. Деньги будут для вас приготовлены. Каупервуд умолк, и Сольберг уставился на него остекленевшими глазами. Никогда в жизни он еще не испытывал ничего подобного. Это не человек, а дьявол! «Боже милостивый! — думал Сольберг. — Ведь он это сделает! Он и вправду убьет меня!» Потом поразительное предложение Каупервуда дошло до его сознания: пять тысяч долларов! Ну что ж, а почему бы и нет? Молчание Сольберга было уже равносильно согласию. — На вашем месте я бы сегодня не заходил больше в лечебницу, — продолжал Каупервуд сурово. — Не тревожьте жену. Ей нужен покои. Поезжайте сейчас домой, а завтра зайдите ко мне. Если же вы непременно хотите видеть миссис Сольберг, то я пойду с вами. Я хочу сказать ей то, что уже сказал вам. Надеюсь, вы запомнили мои слова? — Да, да, хорошо, — ответил Сольберг упавшим голосом. — Я поеду домой. Спокойной ночи. — И он поспешно зашагал прочь. «Ну, что поделаешь?! — как бы оправдываясь, сказал самому себе Каупервуд. — Скверная, конечно, получилась история, но другого выхода не было».Глава 21
Афера с туннелями
Разделавшись с Сольбергом таким простым и грубым способом, Каупервуд перенес свое внимание на его супругу. Но здесь ему пришлось труднее. Каупервуд прежде всего сообщил миссис Сольберг, что уже укротил Эйлин и Гарольда — назначил Гарольду ежегодное содержание, и тот не посмеет теперь поднимать шума, а Эйлин тоже присмирела и будет вести себя тихо. Каупервуд старался выразить миссис Сольберг самое горячее сочувствие, но она уже тяготилась своей связью с ним. Она любила его прежде — во всяком случае так ей казалось, — но после яростных воплей и угроз Эйлин он вдруг предстал перед нею в новом свете, и ей захотелось от него освободиться. Деньги Каупервуда — а он был щедр — не представляли для нее такого соблазна, как для многих других женщин. Правда, Рита благодаря Каупервуду жила в роскоши, но она легко могла без нее обойтись. Фрэнк Каупервуд покорил ее главным образом тем, что его, как ей казалось, окружала какая-то удивительная атмосфера спокойствия и уверенности. Это придавало ему налет романтики в ее глазах. Но вот пронесся шквал, и эта романтическая дымка развеялась. Каупервуд оказался таким же, как все, — обыкновенным человеком, не застрахованным от житейских бурь и кораблекрушений. Быть может, он был более искусным мореходом, чем многие другие, — но и только. И Рита, оправившись немного, уехала к себе на родину, потом — в Европу. Описывать подробности их разрыва было бы слишком утомительно. Гарольд Сольберг, после бесплодных колебаний и взрывов бессильной ярости, принял в конце концов предложение Каупервуда и возвратился к себе на родину, в Данию. Эйлин, поупрямившись еще немного и закатив еще несколько сцен, в результате которых Каупервуд пообещал уволить с работы Антуанету Новак, вернулась домой. Каупервуд отнюдь не был доволен такой развязкой. Все это никак не способствовало усилению его привязанности к Эйлин, однако, как ни странно, он в какой-то мере сочувствовал ей. В то время у него еще не возникало намерения покинуть ее, хотя иной раз и приходило на ум, что такая женщина, как Рита Сольберг, была бы ему более подходящей женой. Но нет, так нет. И Каупервуд с удвоенной энергией принялся за дела. Однако воспоминание о днях, проведенных с Ритой, о тех минутах, когда он держал ее в объятиях и весь мир, казалось, окрашивался в какие-то радужные, поэтические тона, не покидало его. Эта женщина была так пленительна в своей наивной непосредственности… Но потерянного не воротишь.В последовавшие за этим годы Каупервуд со все возрастающим интересом приглядывался к состоянию городского транспорта в Чикаго. Тосковать о Рите Сольберг было занятием пустым и бесполезным, — Каупервуд знал, что она не вернется к нему, и все же порой воспоминания о ней преследовали его. Но он умел уходить в дела с головой, и это помогало. Проблема городского транспорта всегда непреодолимо влекла его к себе, и сейчас она снова не давала ему покоя. Звонки городской конки и цоканье копыт по мостовой, можно сказать, с детства волновали его воображение. Разъезжая по городу, он жадным взором окидывал убегающие вдаль блестящие рельсы, по которым, позванивая, катились вагоны конки. Чикаго рос не по дням, а по часам. Крошечные вагончики, влекомые упряжкой лошадей, были переполнены до отказа и ранним утром и поздним вечером, а днем иной раз в них просто яблоку негде было упасть. О, если б можно было, подобно осьминогу, охватить весь город своими щупальцами! Если б можно было объединить все городские железные дороги и взять их под свой контроль! Какое богатство они сулили! А ведь только огромное, неслыханное богатство — и ничто другое — могло вознаградить Фрэнка Каупервуда за все, что он претерпел! Он с упоением рисовал себе картину своего обогащения, мечтал о линиях конки, как поэт мечтает о живописных ручейках, журчащих среди скал… «Завладеть городским транспортом! Завладеть городским транспортом!» — звенело в его мозгу. Чикагская конка совершенно так же, как газоснабжение, находилась в руках трех различных компаний, каждая из которых обслуживала свою «сторону» или свой район. Основанная в 1859 году Чикагская городская железнодорожная компания обслуживала Южную сторону вплоть до 39-й улицы и была подлинным кладезем обогащения для своих владельцев. Эта компания проложила уже свыше семидесяти миль рельсовых путей и ежегодно тянула свои линии все дальше и дальше по Индиана авеню, Уобеш авеню, Стэйт-стрит, Арчар авеню… Ей принадлежало свыше ста пятидесяти старомодных вагончиков, не отапливающихся зимой и устланных для тепла соломой, и свыше тысячи лошадей. Конку обслуживало сто семьдесят кондукторов, сто шестьдесят возниц, сто конюхов и весьма солидное число кузнецов, шорников и ремонтных рабочих. Зимой по улицам двигались принадлежавшие компании снегоочистители, летом — машины для поливки. Прикинув в уме стоимость подвижного состава, акций, облигаций и прочего имущества компании, Каупервуд пришел к заключению, что ее капитал, должно быть, уже перевалил за два миллиона. Скверно было то, что контрольный пакет акций компании находился в руках у двух лиц — Шрайхарта и Энсона Мэррила. Первый был теперь заклятым врагом Каупервуда и старался воспрепятствовать любому его начинанию, да и второй тоже был настроен весьма неприязненно. Каупервуд еще и сам не знал, как подобраться к этому доходному делу. Курс акций компании доходил до двухсот пятидесяти долларов. Северо-чикагская железнодорожная компания была основана в том же году, что и компания Южной стороны, но только другой группой лиц. Здесь дело велось совсем уж по старинке, не очень знающими и не очень предприимчивыми людьми; оборудование тоже было старое и изношенное. Железнодорожная компания Западной стороны первоначально входила в Чикагскую городскую железнодорожную, иначе говоря Южную компанию, но теперь являлась уже самостоятельным предприятием. Линии, принадлежащие этой компании, были пока что наименее доходными, но Западная сторона Чикаго росла и развивалась не менее бурно, чем все остальные. Веселый звон колокольчиков, возвещавший о приближении лошадей, тащивших вагоны, слышен был во всех концах города. Наблюдая все это со стороны и переносясь мыслями в будущее, Каупервуд лучше, быть может, чем сами акционеры, видел открывавшиеся перед ними гигантские возможности — особенно если Чикаго и впредь будет так же бурно расти. Все, что могло содействовать или препятствовать развитию городских железных дорог, было предметом его постоянных и упорных размышлений. Довольно скоро он пришел к выводу, что движению конки на Северной и Западной сторонах города больше всего мешают постоянные скопления всех видов транспорта у въездов на мосты через реку Чикаго. По этой речонке, грязной, зловонной и удивительно живописной, делившей город на две части, двигались нескончаемые и величественные караваны всевозможных судов и суденышек; мосты то и дело послушно расступались перед ними, преграждая путь скопившимся на обоих берегах фургонам и экипажам, и тогда казалось, что единоборству водного и сухопутного транспорта так и не будет конца. Картина эта, исполненная своеобразной, патриархальной, чисто диккенсовской прелести, была достойна кисти Домье, Тэрнера или Уистлера. Ленивые разводчики мостов должны были решать по собственному разумению, когда следует застопорить движение экипажей и когда — судов, — и сколько времени заставить их ждать; у мостов, наряду с деловым, озабоченным людом, всегда толкались зеваки, глазевшие на высокий лес мачт, на скопление людей и экипажей на берегу и пеструю вереницу буксиров и барж, скользящих по реке. Каупервуд, сидя в своем легком кабриолете и досадуя на задержку или что есть сил погоняя лошадь, чтобы проскочить на ту сторону, пока мост не развели, не раз думал о том, какой огромной помехой являются эти мосты для развития городского транспорта в северной и западной частях города. На Южной стороне, не пересеченной рекой, транспорт развивался беспрепятственно и быстро. Не удивительно поэтому, что Каупервуд очень заинтересовался открытием, которое он сделал однажды во время своих блужданий по городу: оказалось, что в двух местах под рекой проложены туннели. Один служил как бы продолжением Ла-Саль-стрит и пересекал реку с юга на север, другой начинался у Вашингтон-стрит и шел с востока на запад. Это были сырые, мрачные, заваленные мусором обиталища крыс; по стенам, тускло освещенным керосиновыми фонарями, сочилась вода; и, по слухам, ни один из этих туннелей будто бы никогда не был в эксплуатации. Каупервуд навел справки. Оказалось, что они были построены несколько лет назад, ибо и тогда уже ощущалась потребность разгрузить те самые мосты, возле которых сейчас происходило такое столпотворение. В то время всем, и особенно акционерам нового предприятия, казалось, что каждый предпочтет лучше заплатить несколько центов за пользование туннелем, чем тратить даром драгоценные минуты, и потому, во избежание задержек, решено было проложить там конку. Однако, как это часто бывает с различными многообещающими коммерческими проектами, которые выглядят столь заманчиво в мечтах или на бумаге, на деле все обернулось совсем иначе. Туннели могли бы, вероятно, приносить доход, если бы их правильно построили, но спуск и подъем в них были слишком круты, проезд недостаточно широк, а вентиляция и освещение и вовсе никуда не годились. Словом, туннели оказались очень мало приспособленными для пользования. Отец Нормана Шрайхарта был одним из акционеров этого предприятия, так же как и Энсон Мэррил. Когда дело оказалось неприбыльным, туннели — после всевозможных довольно бессмысленных махинаций, стоивших ровно миллион долларов, — были проданы городу, каждый за эту сумму. Видимо, кое-кто в простоте душевной полагал, что быстро растущему городу легче расстаться с такой крупной суммой, нежели тому или иному из его почтенных, скромных, но честолюбивых граждан. На этой сделке недурно поживились в те годы некоторые члены муниципального совета. Впрочем, сейчас это к делу не относится. Обнаружив туннели, Каупервуд решил их осмотреть. Въезд туда был заколочен досками, но для пешеходов оставался небольшой проход. Побывав там несколько раз, Каупервуд пришел к выводу, что туннели, пожалуй, могут быть использованы. Город растет, растет уличное движение, и конки из года в год приносят все больше и больше дохода, думал он. Если бы, без особых затрат, эти туннели можно было перестроить и несколько уменьшить уклон, — главное препятствие для развития городского транспорта на Северной и Западной сторонах было бы устранено. Но как это сделать? Туннели ему не принадлежали. Не принадлежала ему и городская конка. Аренда и перестройка туннелей потребовали бы огромных расходов. Кроме того, на каждом уклоне, как бы ни был он незначителен, понадобятся дополнительные упряжки лошадей, дополнительные возчики и подсобные рабочие, а следовательно, еще новые затраты. Словом, Каупервуд не был уверен, что при отсутствии другой тягловой силы, кроме лошадей, задуманное им предприятие оправдает себя, даже если будут перестроены уклоны. Однако осенью 1880 года, когда Каупервуд еще был поглощен мелкими любовными интрижками, завершившимися в конце концов романом с Ритой Сольберг, ему стало известно об одном нововведении в области городского транспорта, которое наряду с дуговым фонарем, телефоном и прочими изобретениями должно было коренным образом изменить весь уклад городской жизни. В Сан-Франциско, где, переполненные пассажирами вагоны городской конки с великим трудом продвигались по холмистой местности, был применен новый вид тяги, а именно — канатный. Стальной трос, заключенный в трубопровод и движущийся по колесам с желобками, приводился в движение огромными двигателями, установленными в расположенной неподалеку силовой станции. Вагоны были снабжены легко управляемым приспособлением — «захватным рычагом», который, проходя наподобие стальной лапы сквозь прорезь в трубопроводе, «захватывал» движущийся трос. Это изобретение разрешало задачу подъема и спуска тяжело нагруженных вагонов по крутым уклонам улиц. А вскоре Каупервуд случайно прослышал о том, что Чикагская городская железнодорожная, основными пайщиками которой были Шрайхарт и Мэррил, собирается ввести у себя этот новый вид тяги — проложить канатную дорогу по Стэйт-стрит. Вагоны окраинных и малодоходных линий предполагалось использовать на этом прогоне в качестве прицепов, а далее они должны были снова переходить на конную тягу и двигаться своим маршрутом. И тут же Каупервуда озарила мысль: вот оно, разрешение транспортной проблемы Северной и Западной сторон — канатная дорога! Но не только давка у мостов и заброшенные туннели привлекали к себе внимание Каупервуда. В Северо-чикагской железнодорожной компании дела шли все более и более вяло. Косность и близорукость членов правления этой компании мешали им заглядывать далеко вперед, и потому, сталкиваясь с различными трудностями, они не умели их разрешать. Финансовое состояние предприятия было далеко не блестящим; одним ловким ударом можно было бы завладеть этими дорогами. С самого начала, когда предприятие только создавалось, никто не ждал от него больших барышей, так как принадлежащие этой компании конки обслуживали район малонаселенный и расположенный довольно близко к торговым и коммерческим кварталам города, но не самые эти кварталы. Позднее, когда население района увеличилось и дороги стали приносить больше дохода, возникли бесконечные задержки у мостов. Правление компании, не слишком уповая на успех своего предприятия, уложило дешевые, никудышные рельсы и пустило по ним плохонькие, на скорую руку построенные вагоны, в которых летом можно было задохнуться от жары, а зимой зуб на зуб не попадал от холода. И хоть бы одна линия была доведена до деловых кварталов города! Все они обрывались у реки, преграждавшей им путь с юга. На Южной стороне мистер Шрайхарт проявил бо́льшую заботу о своих пассажирах. Он подвел свою линию прямо к магазину Мэррила. На Северной стороне, как и на Западной, довольствовались тем, что зимой пол в вагонах устилали соломой, чтобы у пассажиров не слишком стыли ноги, а летом на линию пускали некоторое, довольно ничтожное, количество открытых вагонов. Правление решительно восставало против всяких дополнительных затрат. Так оно и шло; время от времени добавлялась новая линия — если правление было уверено, что она начнет давать доход с первого же дня. При этом опять укладывались дешевые, непрочные рельсы и пускались допотопные вагончики, которые так тряслись и громыхали, что у пассажиров ум за разум заходил. В последнее время жалобы и судебные иски сыпались на компанию со всех сторон, неимоверно досаждая правлению, которое решительно не знало, что предпринять. Конечно, в правлении было и несколько толковых, здравомыслящих людей; к их числу принадлежали: Тэренс Малгэнон — главный директор, Эдвин Кафрат — директор, Уильям Джонсон — главный инженер; однако другие дельцы, как, например, Ониас С. Скиннер, председатель правления, или Уолтер Паркер, заместитель председателя, были консервативные, прижимистые тугодумы, которые как огня боялись всяких новшеств. Как ни грустно в этом убеждаться, но с возрастом люди почти неизбежно теряют вкус к нововведениям, и тогда излюбленным девизом их становится: «И так сойдет». Учтя все эти обстоятельства и тщательно разработав план действий, Каупервуд под каким-то благовидным предлогом пригласил однажды Джона Дж. Мак-Кенти к себе на обед. Когда тот прибыл в сопровождении своей супруги и Эйлин, сияя улыбками, стала занимать миссис Мак-Кенти беседой, Каупервуд, как бы между прочим, спросил: — Скажите, Мак-Кенти, вам известно что-нибудь относительно этих туннелей под рекой у Ла-Саль-стрит и Вашингтон-стрит? Они, кажется, принадлежат городу? — Мне известно, что город приобрел их, не имея в том никакой надобности, и что туннели эти решительно ни к чему не пригодны. Впрочем, — осторожно добавил Мак-Кенти, — я тогда еще не имел к этим делам никакого касательства. Насколько мне помнится, город отвалил за каждый из них по миллиону долларов. А почему вы спрашиваете? — Так просто, — уклончиво отвечал Каупервуд. — Неужели они и вправду никуда не годятся? В газетах то и дело указывают на их полную непригодность. — Да, они, кажется, в прескверном состоянии, — заметил Мак-Кенти. — Я, откровенно говоря, не заглядывал туда уже много лет. Эти туннели были проложены для уличного транспорта, чтобы разгрузить мосты. Да ничего из этого не вышло. Спуск и подъем там слишком круты, а плату за проезд назначили слишком высокую, ну, все и предпочитали дожидаться своей очереди у мостов. Лошади выходили оттуда взмыленные. В этом я сам убедился. Мне не раз приходилось проезжать там с тяжелой кладью. Городу, конечно, незачем было покупать эти туннели. Здесь что-то нечисто, я только не знаю толком, чьих это рук дело. Мэром тогда был Кармоди, а Олдрич руководил общественными работами. Мак-Кенти умолк, и Каупервуд не возобновлял разговора о туннелях до конца обеда. Но затем, пройдя с гостем в библиотеку, он дружески взял его за локоть — интимно-фамильярный жест, который пришелся по вкусу этому дельцу и политику. — Мне кажется, Мак-Кенти, — сказал Каупервуд, — что вы остались довольны нашей операцией с газовыми компаниями в прошлом году? Верно? — Верно. Очень доволен, — подтвердил Мак-Кенти с жаром. — Я вам это тогда же сказал. — Ирландец чувствовал симпатию к Каупервуду и был благодарен ему за то, что тот в короткий срок увеличил его состояние на несколько сотен тысяч долларов. — Вот что, друг мой, — внезапно сказал Каупервуд, казалось бы, без всякой связи с предыдущим. — Вам никогда не приходило в голову, что в городском железнодорожном транспорте у нас назревают крупные перемены? Это уже по всему видно. На Южной стороне через год-два будет введена механическая тяга. Вы, наверно, слышали об этом? — Да, что-то такое промелькнуло в газетах, — отвечал Мак-Кенти, удивленный и заинтересованный. Он закурил сигару и приготовился слушать. Каупервуд, который-никогда не курил, придвинул свое кресло поближе. — Я вам объясню, что это значит, — сказал он. — Все наши городские железные дороги, не говоря уже о тех новых линиях, которые будут проложены впоследствии, перейдут в конце концов на новую тягу. Я имею в виду канатную. Старым компаниям, которые ведут дело через пень-колоду, продолжая пользоваться устарелым оборудованием, придется перестраиваться на новый лад. Они вынуждены будут сменить свое оборудование на новое, отвечающее современным требованиям, а для этого понадобятся миллионы и миллионы. Если вы интересовались этим вопросом, то знаете, вероятно, в каком состоянии находятся конки Северной и Западной сторон. — Знаю, в отвратительном состоянии, — проронил Мак-Кенти. — Вот именно, — выразительно подчеркнул Каупервуд. — И должен вам сказать, что при таких устарелых методах им придется туго, когда они начнут перестраиваться, очень туго, поверьте мне, я недаром интересовался этим вопросом. Два-три миллиона долларов — деньги немалые, а раздобыть такую сумму им будет нелегко… значительно труднее, пожалуй, чем кое-кому из нас, если предположить, конечно, что нам придет охота заняться этим делом. — Да, разумеется, если предположить… — разговор явно заинтересовал Мак-Кенти. — Но каким образом думаете вы включиться в это дело? Владельцы городских железных дорог, насколько мне известно, не собираются расставаться со своими акциями. — Не важно, — сказал Каупервуд. — Мы можем это сделать, если захотим, я потом объясню вам — как. А пока я попрошу вас об одной услуге. Как вы думаете, можно было бы каким-нибудь образом передать в мое распоряжение один из этих туннелей, о которых мы с вами сегодня толковали? А еще лучшеоба. Как вы полагаете, можно это устроить? — Да, вероятно, можно, — отвечал Мак-Кенти недоумевая. — Но при чем здесь туннели? Они же ни на что не годны. Как-то недавно шла даже речь о том, чтобы их взорвать. Полиция утверждает, что они сделались пристанищем бродяг. — Тем не менее смотрите, чтобы кто-нибудь не завладел этими туннелями. Не вздумайте сдавать их в аренду, — настойчиво и решительно произнес Каупервуд. — Я сейчас изложу вам свой план. Нужно прибрать к рукам, и как можно быстрее, все городские железные дороги на Северной и Западной сторонах, — путем ли продления старых концессий, или получения новых — безразлично. Тогда вы увидите при чем здесь туннели. Каупервуд умолк и вопросительно поглядел на Мак-Кенти — разгадал ли тот, куда он гнет, но на сей раз проницательность Мак-Кенти изменила ему. — Да-а… у вас очень скромные аппетиты, ничего не скажешь, — воскликнул он весело. — Однако я все жене понимаю, при чем здесь туннели. Это не значит, конечно, что я не постараюсь заполучить их для вас, если они вам так необходимы. — Вот что, Мак-Кенти, — задумчиво произнес Каупервуд. — Вы будете постоянным партнером во всех моих предприятиях, если поможете мне. Все наши конки в том виде, в каком они сейчас существуют, через восемь, самое позднее через девять лет можно будет сдать на слом. Вы видите, что предпринимает уже сейчас Южная компания? Когда же дело дойдет до Западной и Северной, им это, пожалуй, будет не под силу. Они не получают таких прибылей, как Южная, да вдобавок еще на их пути стоят эти мосты, которые представляют собой огромное затруднение для канатной дороги. Для перехода на новую тягу прежде всего придется перестроить мосты, так как старые не выдержат дополнительной нагрузки, и тогда сразу возникнет вопрос — а на чьи средства? На средства города? — Может быть, смотря по тому, кто будет об этом просить, — любезно улыбаясь, отвечал Мак-Кенти. — Пусть так, — согласился Каупервуд. — Кроме того, речной транспорт с каждым днем становится все большей и большей помехой для уличного движения. Приходится ждать по десять, а то и по пятнадцать минут, пока не пройдут все эти пароходы и баржи. Сейчас в Чикаго пятьсот тысяч жителей. А сколько будет в тысяча восемьсот девяностом году? В тысяча девятисотом? А что вы скажете, когда население города возрастет до восьмисот тысяч или даже до миллиона? — Вы безусловно правы, — отозвался Мак-Кенти. — С транспортом нам придется туго. — Бесспорно. Учтите, кроме того, что канатная дорога, кроме основной линии, будет обслуживать еще и ветки, и у мостов будут скапливаться не отдельные вагоны, а целые поезда с прицепами, переполненные людьми. Едва ли это желательно — заставлять канатный поезд ждать от десяти до пятнадцати минут, пока по реке пройдут суда. Пожалуй, пассажиры не захотят с этим долго мириться, а? Как вы думаете? — Да уж без скандалов не обойдется, — проронил Мак-Кенти. — Так. И что же из этого следует? — спросил Каупервуд. — Может быть, вы рассчитываете на то, что уличное движение внезапно уменьшится? Или река высохнет? Мак-Кенти молча смотрел на Каупервуда. Потом лицо его оживилось. — Так, так, понимаю, — сказал он прищурившись. — Вот зачем понадобились вам туннели. Но ведь они в ужасном состоянии, можно ли их использовать? — Реконструкция их все же будет стоить дешевле, чем прокладка новых. — Вероятно, вы правы, — ответил Мак-Кенти. — А если их перестроить, это будет как раз то, что требуется. — В голосе его зазвучало торжество, почти ликование. — Но вы ведь знаете — туннели принадлежат городу. И каждый из них обошелся ему в миллион долларов. — Да, я знаю, — сказал Каупервуд. — Теперь вы понимаете, к чему я веду разговор? — Как не понять! — усмехнулся Мак-Кенти. — Превосходная мысль, мистер Каупервуд, превосходная! Восхищен и преклоняюсь. Итак, говорите, чем я могу быть вам полезен. — Прежде всего, — сказал Каупервуд, улыбнувшись похвалам Мак-Кенти, — будем считать решенным, что город ни под каким видом и ни при каких условиях не отдаст никому этих туннелей, пока мы не уладим дело с конками. — Это решено. — Затем мы с вами условимся, что в дальнейшем вы не будете особенно помогать Северной и Западной компаниям, если они захотят получить разрешение муниципалитета на прокладку новых линий. Я сам хочу взять концессию на продление линий и прокладку веток. — Представляйте ваши проекты, — сказал Мак-Кенти, — и все будет сделано. Я уже работал с вами и знаю, что вы умеете держать слово. — Благодарю вас, — произнес Каупервуд с чувством. — Я знаю, как важно держать свое слово. Итак, я займусь конками и посмотрю, что тут можно предпринять. Мне еще неясно, сколько людей надо будет привлечь к этому делу и какая форма организации окажется наиболее удобной. Но во всяком случае ваши интересы будут учтены, и я ничего не предприму без вашего ведома и согласия. — Превосходно. — Мак-Кенти уже мысленно обозревал открывавшееся перед ним новое поле деятельности. Сделка с Каупервудом сулила большие барыши им обоим. А опыт предыдущего сотрудничества убеждал Мак-Кенти в том, что его выгода будет соблюдена. — Не присоединиться ли нам теперь к дамам? — беспечным тоном спросил Каупервуд, беря Мак-Кенти под руку. — Да, да, конечно, — весело согласился тот. — У вас прекрасный дом, Каупервуд, великолепный. И простите за откровенность, — такой красивой женщины, как ваша жена, я еще отродясь не видывал. — Да, мне самому она кажется довольно привлекательной, — отвечал Каупервуд с самым простодушным видом.
Глава 22
Городские железные дороги
Среди членов правления Северо-чикагской железнодорожной компании был некто по имени Эдвин Л. Кафрат — человек молодой, но на редкость дальновидный. Отец Эдвина, крупный акционер этого предприятия, оставил своему единственному сыну в наследство объемистый пакет акций, а тем самым и место в правлении компании. Молодой Кафрат, не имея большого опыта в области городского железнодорожного транспорта, считал, однако, что мог бы широко развернуть дело, если бы ему не мешали. Из пяти тысяч акций, выпущенных компанией, ему принадлежало около восьмисот. Но остальные акции распределялись между акционерами таким образом, что Кафрат не имел в правлении большого веса. Невзирая на это, с первого же дня своей деятельности на новом поприще и еще задолго до того, как Каупервуд начал проявлять интерес к этим предприятиям, молодой Кафрат весьма энергично ратовал за всевозможные усовершенствования. Его требования новых концессий, удлинения существующих линий, хороших лошадей, устройства отапливаемых вагонов воспринимались старшими коллегами лишь как проявление юношеского задора и легкомыслия и неизменно получали единодушный отпор. — Да чем же плохи наши вагоны? — негодовал Альберт Торсен, один из старейших директоров, в ответ на обычные протесты Кафрата. — Не понимаю, что они вам дались. Я сам в них езжу. Торсен, тучный, неряшливого вида старик лет шестидесяти пяти, туповатый и бестолковый, но добродушный, был владельцем красильной фабрики. И лето и зиму он ходил в одном и том же легком шерстяном костюме серого цвета, сильно помятом, особенно на спине и на рукавах, и обсыпанном табаком. — Может быть, потому они и пришли в такое состояние, Альберт? — игриво предположил Солон Кэмпферт, один из его закадычных друзей и ныне член правления. Шутка вызвала одобрительный смех. — Ну, уж не знаю. Я довольно часто вижу там и всех вас, джентльмены. — Ладно, если вы сами не понимаете, я вам объясню, что в них плохого, — сказал Кафрат. — Грязь — во-первых, холод — во-вторых, окна дребезжат так, что не только разговаривать — думать невозможно. Рельсы давно пора менять, а зимой от этой зловонной соломы, которую там стелют на пол, просто с души воротит. Пути содержатся из рук вон плохо. Немудрено, что пассажиры жалуются. Я бы на их месте тоже жаловался. — А по-моему, дело обстоит совсем не так скверно, как вы это изображаете, — заявил Ониас С. Скиннер, председатель правления, шестидесятивосьмилетний старец с широким, плоским, как у китайского божка, лицом, обрамленным курчавыми седыми бакенбардами. — Может быть, это и не самые лучшие вагоны на свете, но это хорошие вагоны. Некоторые из них, конечно, давно бы следовало почистить и подкрасить, но в общем они еще могут послужить, и не один год. Конечно, было бы недурно обновить наш подвижной состав, но ведь это потребует значительных затрат. А новые линии, которые мы все прокладываем да прокладываем, и длинные перегоны за пять центов съедают все наши прибыли. Ни один из упомянутых перегонов не превышал трех миль, но мистеру Скиннеру все они казались непомерно длинными. — Хорошо, а вы поглядите на Южную компанию, — не унимался Кафрат. — Я не понимаю, о чем, собственно, вы думаете! В Филадельфии уже провели канатную дорогу. В Сан-Франциско — тоже. Говорят даже, что уже изобретен вагон, который приводится в движение электричеством, а мы все еще продолжаем гонять взад и вперед эту рухлядь, эти собачьи конуры, устланные соломой. Пора бы, черт возьми, взяться за ум! — Ну, не знаю, — процедил мистер Скиннер. — Мне казалось, что дела Северной компании идут не так уж плохо. Разве мы мало сделали для развития дорог? Члены правления — Солон Кэмпферт, Альберт Торсен, Исаак Уайт, Энтони Иуэр, Арнольд С.Бенджамин и Отто Мэтджес — все весьма солидные, почтенные джентльмены — сидели молча, с неодобрением поглядывая на Кафрата. Но последнего не так-то легко было угомонить. При всяком удобном случае он снова принимался за свое. В газетах тоже время от времени появлялись вполне обоснованные нарекания на Северную компанию, и это в какой-то мере даже радовало Кафрата. Может быть, газеты подольют масла в огонь и заставят директоров взяться за ум. Тем временем в результате сговора между Каупервудом и Мак-Кенти Северная компания уже лишилась возможности получать новые концессии, удлинять линии и пользоваться туннелем в конце Ла-Саль-стрит, но Кафрат этого еще не знал. Не знали об этом и другие члены правления; однако это было так. Мало того, Джон Дж. Мак-Кенти, стремясь окончательно опорочить руководство Северной компании, внушал членам муниципального совета, которые ходили у него на поводу, что им надлежит при каждом удобном случае возмущаться состоянием конки в Северной части города. На очередном заседании муниципалитета кто-то предложил потребовать от Северной компании, чтобы она выкинула на свалку все свои старые вагоны и заменила старые, изношенные рельсы новыми, что наделало немало шуму. Как ни странно, конки на Южной и Западной сторонах, мало чем отличавшиеся от той, что существовала на Северной, отнюдь не вызывали таких нареканий. Рядовые горожане, не посвященные в эти хитроумные махинации, к которым так часто прибегают в своих корыстных целях отдельные лица, были чрезвычайно обрадованы столь горячим вниманием к их интересам. Будучи всего лишь пешками в этой игре, они не подозревали, какова истинная подоплека всех этих забот об их благе. Эддисон между тем подыскивал среди акционеров Северной компании людей, которые могли бы быть полезны Каупервуду, и в конце концов остановил свой выбор на Кафрате, сочтя, что этот молодой человек лучше других может служить его тайным планам. И вот однажды, как бы невзначай, он столкнулся с ним лицом к лицу в клубе «Юнион-Лиг». — Похоже, что вашей компании, да и Западной тоже, предстоят весьма крупные затраты, — небрежно проронил Эддисон, после того как они с Кафратом обменялись несколькими фразами. — Почему вы так думаете? — с любопытством спросил Кафрат, интересовавшийся всякими нововведениями в их деле. — Если я не ошибаюсь, всем вашим акционерам придется теперь здорово раскошелиться. Я слышал, что вы будете вынуждены в самом скором времени полностью переоборудовать линии — ввести новую канатную тягу, как на Южной стороне. — Эддисон хотел создать у Кафрата впечатление, что по требованию муниципалитета, или под давлением общественного мнения, или еще по каким-то причинам Северная компания вынуждена будет провести ряд крупных и разорительных усовершенствований. Кафрат навострил уши. Что это муниципалитет задумал? Надо бы разузнать как следует! Они еще потолковали немного — обсудили особенности канатной системы, стоимость силовых станций, необходимость укладки новых рельсов и укрепления мостов или изыскания других средств переправы через реку. Эддисон особенно упирал на то, что Южная компания находится в значительно более благоприятном положении, так как ее линиям не преграждает путь река. Потом он снова выразил соболезнование акционерам Северной компании — что ни говори, а в трудное положение они попали. — Да, у вашей компании будет теперь много хлопот, — еще раз повторил он на прощанье. Кафрат был в должной мере взволнован и напуган. Если компании предстоят крупные затраты на перестройку туннелей и другие усовершенствования, то его акции могут сильно упасть в цене. Однако он утешал себя тем, что в результате всех этих мероприятий конка будет в конце концов приносить хороший доход. А пока что предстояло трудное время. «Да, придется нашим старичкам пораскинуть мозгами, — думал Кафрат. — Когда Южная компания переоборудует свои дороги, мы должны будем последовать ее примеру. А вдруг эти старые тюфяки не захотят? Как растолковать им, что ради будущих прибылей стоит даже заложить на несколько лет все имущество компании — впоследствии это окупится с лихвой». Кафрата бесила их трусость, и их бесталанное, косное ведение дела. А еще две-три недели спустя у Эддисона, действовавшего по-прежнему в интересах Каупервуда, снова состоялась беседа с Кафратом. Взяв с него слово хранить пока все в тайне, он сообщил Кафрату, что вскоре после их встречи произошли кое-какие небезынтересные события. Мистера Эддисона, по его словам, посетили некоторые приезжие, владеющие линиями железных дорог в других местах. Они побывали уже в разных городах, подыскивая подходящий объект для помещения своих капиталов, и в конце концов выбор их пал на Чикаго. Ознакомившись здесь с различными предприятиями, они решили, что Северо-чикагская компания отвечает их целям не хуже всякой другой. Тут Эддисон очень подробно изложил Кафрату план Каупервуда. Кафрат, немного поколебавшись, сдался. Устарелые методы ведения дела уже давно стояли ему поперек горла. Он не знал, кто эти лица, о которых говорил Эддисон, но их взгляды совпадали с его собственными. На переоборудование конки потребуется несколько миллионов долларов, доказывал Эддисон, и Кафрат, откровенно говоря, не знал, как раздобыть эти деньги без посторонней помощи, не прибегая к закладу и перезакладу дорог. Если эти лица готовы хорошо заплатить за передачу им пятидесяти одного процента всех акций на срок в девяносто девять лет и гарантируют удовлетворительный процент прибыли на все остальные акции по их теперешнему курсу, да к тому же еще берутся перестроить дело, — почему же не пойти им навстречу? Все лучше, чем закладывать и перезакладывать эту старую рухлядь, а теперешнее руководство все равно никуда не годится. Кафрат, разумеется, понятия не имел о том, что новые акционеры будут наживать состояния на всевозможных дочерних предприятиях, занимающихся строительными работами и поставкой оборудования, и что одним из крупнейших акционеров в них опять-таки будет Каупервуд; не знал он и о том, что путем выпуска разводненных акций под старые и новые линии городской железной дороги Каупервуд избавится от необходимости вложить в это дело сколько-нибудь значительные средства, раз ему будет обеспечен первоначальный капитал или, как он выражался, «капитал для дальнейших разговоров». Каупервуд и Эддисон уже договорились тем временем, — если их затея удастся, — основать Чикагское кредитное общество с акционерным капиталом в несколько миллионов долларов, которым они будут орудовать по своему усмотрению. Кафрат же понял лишь одно: он получит хорошую прибыль на свои акции и, может быть, окажется в числе учредителей новой компании. — Три года кряду я бился, стараясь растолковать все это нашим директорам, — заявил он в конце концов Эддисону, польщенный вниманием, которое оказывал ему этот весьма влиятельный человек. — Куда там — и слушать не хотели! А по-моему, вести дело так, как они его ведут, — преступление. Ребенок наладил бы его лучше. Они скаредничают, экономят на рельсах, на подвижном составе и теряют пассажиров. А без пассажиров мы вылетим в трубу! И, насколько я понимаю, существует только один способ заполучить их: им нужно предложить приличный транспорт. А мы, сказать по совести, меньше всего об этом думаем. Вскоре после этого у Каупервуда состоялась краткая беседа с Кафратом, и Каупервуд посулил ему по шестьсот долларов за каждую акцию, с которой тот пожелает расстаться, а сверх того еще и пакет акций новой компании в виде премии за поддержку его интересов в нынешнем правлении. Кафрат вернулся к себе на Северную сторону в самом веселом настроении, радуясь и за себя и за компанию. Поразмыслив немного, он пришел к заключению, что предложение Каупервуда следует довести до сведения акционеров каким-нибудь окольным путем — скажем, через незаинтересованных лиц. В результате Уильям Джонсон, главный инженер компании, действуя по наущению Кафрата, сообщил Альберту Торсену, самому пугливому и податливому из членов правления, что по имеющимся у него сведениям трем наиболее крупным акционерам — членам правления Исааку Уайту, Арнольду С.Бенджамину и Отто Мэтджесу — было предложено продать их акции за неслыханно высокую цену, и они, по-видимому, собираются это сделать, оставив всех остальных с носом. Торсен отчаянно разволновался. — Когда это вы слышали? — спросил он. Джонсон сказал, что не так давно, но источник своей информации предпочел до поры до времени сохранить в тайне. Торсен поспешил поделиться новостью со своим другом Солоном Кэмпфертом, а тот бросился к Кафрату. — Да, я слышал что-то в этом роде, — небрежно уронил Кафрат, — но, по правде говоря, больше ничего не знаю. Получив такой уклончивый ответ, Торсен и Кэмпферт решили, что Кафрат тоже в сговоре, тоже собирается выгодно продать свои акции и предоставить остальным довольствоваться объедками. Дело было плохо. Тем временем Каупервуд, по совету Кафрата, сам обратился к Исааку Уайту, Арнольду С.Бенджамину и Отто Мэтджесу, делая вид, что желает войти в сделку только с ними. А немного спустя с этой же целью были нанесены визиты Торсену и Кэмпферту, и те со страху согласились уступить свои акции Каупервуду, который предлагал им очень выгодные условия и брался склонить к такой сделке и остальных крупных держателей. Таким образом, Каупервуд приобрел сильную поддержку в правлении. Наконец Исаак Уайт на одном из заседаний заявил, что ему сделано очень интересное предложение, которое он тут же в общих чертах изложил собравшимся. Он еще и сам не знает, как к этому отнестись, сказал Уайт, и решил поставить вопрос перед правлением. Услыхав такое заявление, Торсен и Кэмпферт тотчас пришли к выводу, что Джонсон говорил сущую правду. Тогда было решено пригласить Каупервуда и попросить его самолично изложить свой проект правлению компании в полном составе, что он и сделал в довольно пространной, учтивой и остроумной речи. Он дал понять, что дороги Северной компании в самом ближайшем будущем неизбежно придется переоборудовать, а его предложение избавляет господ акционеров от всяких беспокойств, забот и трудов, с этим связанных. Более того, он сразу же гарантировал такую прибыль, какую в ближайшие двадцать-тридцать лет никто из них не рассчитывал получить. После этого все согласились с тем, что надо попробовать. Допустим, что Каупервуд не будет выплачивать в срок обусловленные проценты — тогда их собственность снова возвратится к ним, рассуждали акционеры; а если учесть, что Каупервуд брал к тому же на себя все обязательства компании — налоги, плату за водоснабжение, старые долги и немногочисленные пенсии бывшим служащим, то предложение его приобретало чуть ли не идиллический характер. — Ну, друзья, мне кажется, что мы сегодня неплохо поработали, — заявил Энтони Иуэр, дружески похлопывая по плечу мистера Альберта Торсена. — Я полагаю, что мы можем единодушно пожелать мистеру Каупервуду удачи. — Принадлежащие мистеру Иуэру семьсот пятнадцать акций, общей стоимостью в семьдесят одну тысячу пятьсот долларов, внезапно поднялись в цене до четырехсот двадцати девяти тысяч долларов, и это естественно привело его в чрезвычайно жизнерадостное расположение духа. — Да, вы правы, — отвечал Торсен, который из семисот девяноста принадлежащих ему акций расставался с четырьмястами восемьюдесятью и был очень обрадован тем, что они подскочили в цене с двухсот до шестисот долларов каждая. — Мистер Каупервуд — деловой человек. Надеюсь, он добьется успеха.После совещания с Мак-Кенти, Эддисоном, Видера и прочими своими помощниками и компаньонами, затянувшегося до глубокой ночи, Каупервуд, проснувшись утром, потрепал еще дремавшую Эйлин по плечу и сказал: — Ну, детка, вчера я уладил дело с Северо-чикагской железнодорожной. Не сегодня — завтра я буду избран председателем новой компании — нужно только подобрать себе членов правления. Годика через два мы с тобой, пожалуй, будем уже иметь некоторый вес в этой большой деревне, почему-то именуемой городом. Каупервуд надеялся, что достигнутые им успехи, наряду с прочими его стараниями, умилостивят в конце концов Эйлин. С того злополучного дня, когда она так решительно расправилась с Ритой Сольберг, Эйлин была всегда хмурой, замкнутой, отчужденной. — Вот как? Значит, ты доволен? — сказала она, простирая заспанные глаза и невесело улыбаясь. На ней была воздушная бледно-розовая ночная сорочка. Приподнявшись на локте, Каупервуд внимательно поглядел на жену и легонько погладил ее округлые руки, которые неизменно приводили его в восхищение. Пушистое золото ее волос тоже не утратило еще для него своей прелести. — Примерно через год можно будет проделать то же самое с Западной компанией, — продолжал Каупервуд. — Но боюсь, шума будет много, а мне это сейчас ни к чему. Впрочем, шила в мешке не утаишь. Я уже вижу, как Шрайхарт и Мэррил и еще кое-кто хватаются за голову, убедившись, что позволили двум самым крупным и доходным статьям чикагского городского хозяйства — конке и газу — уплыть у них из-под носа. — Да, да, я рада за тебя, Фрэнк, — сонно сказала Эйлин. Глубоко уязвленная неверностью мужа, она все же не могла не радоваться его успехам. — Ты всегда умеешь устраивать свои дела. — Не нужно больше грустить, Эйлин, — просительно и ласково проговорил Каупервуд. — Разве ты не можешь быть снова счастлива со мной? Ведь я стараюсь не только для себя, но и для тебя. Ты тоже скоро расквитаешься за старые обиды. Он с улыбкой заглянул ей в глаза. — Да много ли мне проку от твоих денег, — нежно, но с грустью и с мягкой укоризной ответила Эйлин. — Не они мне нужны, а твоя любовь. — И она принадлежит тебе, — заверил ее Каупервуд. — Разве я не твержу тебе это изо дня в день? Я никогда не переставал тебя любить. Ты сама это знаешь. — Знаю, как же! — возразила она, когда он привлек ее к себе. — Знаю я, какова твоя любовь! — Но, говоря так, Эйлин невольно теснее прижималась к мужу, ибо под ее горькими упреками скрывалась глубокая скорбь и страстное желание вернуть себе его былую любовь, восстановить то, что было между ними когда-то, воскресить чувство, которое — как ей казалось прежде — никогда не умрет.
Глава 23
Могущество печати
Несмотря на все усилия Каупервуда и его друзей сохранить эту сделку в тайне, газеты вскоре уже были полны намеков на предстоящие перемены в Северо-чикагской железнодорожной. Фрэнка Алджернона Каупервуда, имя которого до той поры никогда не связывалось с городским железнодорожным транспортом, называли возможным преемником Ониаса С. Скиннера, а Эдвина Л. Кафрата прочили в заместители председателя. Высказывались предположения, что за спиной Каупервуда стоят другие лица — «по всей вероятности, крупные капиталисты из Восточных штатов». Просматривая утренние газеты в комнате Эйлин, Каупервуд понял, что его уже сегодня начнут осаждать репортеры — потребуют, чтобы он рассказал о своих планах, и постараются выудить из него все, что можно. Он решил, что будет просить их подождать, а сам воспользуется этой оттяжкой для переговоров с владельцами газет, которых ему необходимо перетянуть на свою сторону. После этого уже можно будет объявить во всеуслышание о своих намерениях, — нужно только изобрести что-нибудь такое, что понравится публике, а в особенности жителям Северной стороны. Однако он отнюдь не собирался брать на себя какие-либо обязательства в ущерб личной выгоде. Он хотел создать себе громкое имя, он жаждал славы, но еще сильнее жаждал денег и твердо намеревался добиться и того и другого. На человека, довольно долго занимавшегося всякими мелочами, — а Каупервуд именно так расценивал свою прежнюю деятельность, — подобный скачок вверх, в сферу «больших финансов» и финансового контроля, не мог не подействовать вдохновляюще. Каупервуду так долго приходилось ограничиваться делами не слишком большого размаха, разрабатывая и вынашивая в тиши свои замыслы, что теперь, когда цель была достигнута, он с трудом в это верил. Замечательный был город Чикаго. Он рос не по дням, а по часам. Возможности его поистине беспредельны. Эти люди, которые так глупо передали ему на неограниченный, в сущности, срок свои акции, видимо, сами не понимали, что делают. Ведь городские железные дороги в Чикаго, как только он окончательно завладеет ими, начнут приносить огромные барыши! Он может объединить их и выпустить дополнительные акции. Мак-Кенти за бесценок выхлопочет ему разрешение на постройку новых линий, которые в самом ближайшем времени будут оцениваться в миллионы и принадлежать только ему, Каупервуду. Тут уж не придется выплачивать никаких процентов членам правления Северо-чикагской железнодорожной. Город, конечно, будет все расти, и мало-помалу дороги, номинально еще находящиеся в ведении компании, а фактически уже принадлежащие ему, станут всего лишь центральным узлом огромной разветвленной сети городских железных дорог, которые он сам построит вокруг. А потом придет черед Западной и даже Южной стороны… Но зачем грезить наяву? Да, скоро, очень скоро он, быть может, станет единоличным владельцем всей сети городских железных дорог Чикаго! Станет финансовым королем города и одним из крупнейших финансовых магнатов страны! Каупервуд отлично знал, что, принимаясь за дело, для осуществления которого требуются голоса избирателей и их добрая воля даровать ту или иную привилегию, надо прежде всего заручиться поддержкой газет. С вожделением думая о городских туннелях, — один из которых необходим был реорганизованной им Северной компании, а другой мог ему понадобиться в будущем, если удастся прибрать к рукам Западную компанию, — он думал также и о том, что теперь нужно втереться в доверие к владельцам газет. Но как это сделать? В последнее время, вследствие притока переселенцев из других штатов и из Старого Света (тысячи и десятки тысяч людей стекались в поисках заработка в этот бурно растущий и многообещающий город) и распространения анархистских, социалистических и коммунистических идей благодаря наиболее передовым из осевших здесь иностранцев, — проблема гражданских прав и свобод приобрела в Чикаго крайне острый характер. Еще в мае, когда Каупервуд прилагал все усилия, чтобы обернуть дело с городскими железными дорогами в свою пользу, произошло весьма знаменательное событие. На Западной стороне, в Хеймаркете, который издавна служил местом народных сборищ, на одном из рабочих собраний, получившем по характеру некоторых выступлений ярлык анархистского, какой-то сумасшедший фанатик бросил бомбу. Несколько полисменов было покалечено, один убит, другие отделались легкими повреждениями. Это событие выдвинуло на первый, план и, словно вспышка молнии, осветило проблему классовой борьбы, к которой американцы, по свойственной им беспечности, легкомыслию и непоследовательности, до сих пор относились недостаточно серьезно, и теперь проблема эта встала во весь рост, привлекая к себе всеобщее внимание. Вся привычная деловая жизнь города сразу изменилась — точно знакомый ландшафт после извержения вулкана. Люди начали глубже вдумываться в политические и общественные проблемы. Что такое анархизм? Что такое социализм? Каковы в конце концов права рядового человека, какова его роль в экономическом и политическом развитии страны? Вот какие волнующие вопросы возникали теперь в умах, приведенных в смятение этой бомбой, которая, подобно камню, брошенному в воду, всколыхнула стоячее болото обывательского благодушия, а порожденные ею мысли, словно круги по воде, распространялись все дальше и дальше, пока не достигли таких, казалось бы, неприступных крепостей, как редакции газет, банки и вообще все финансовые учреждения, а также кабинеты политических воротил и их приемные. Каупервуд, однако, перед лицом этих событий сохранял полнейшее спокойствие. Не веря в силу народных масс, не признавая за ними никаких прав, он, впрочем, сочувственно относился к тяжелому положению отдельных лиц и был твердо убежден, что люди, подобные ему, призваны в мир, чтобы навести в нем порядок и сделать жизнь более сносной. В эти дни ему приходилось наблюдать большие группы рабочих, толпившихся вместе со своими лошадьми возле конюшен и вагонных сараев городских железнодорожных компаний, и он иной раз задумывался над их уделом. У большинства из них был измученный вид. Каупервуду они казались похожими на животных — терпеливых, заморенных, одичалых. Он думал об их убогих жилищах, долгих часах изнурительного труда, ничтожной заработной плате и пришел к выводу, что если и можно для них что-нибудь сделать, так это дать им сравнительно приличный прожиточный минимум — не больше. Его мечты, его замыслы недоступны этим людям, разве могут они хоть в какой-то мере приобщиться к его блистательной судьбе, разделить с ним богатство, славу и власть? В конце концов Каупервуд решил посетить издателей различных газет и потолковать с ними. Когда он поделился этой мыслью с Эддисоном, тот выразил некоторые сомнения. Эддисон не верил издателям; Он знал об их мелком интриганстве, видел, как они сводят личные счеты и продают свои мнения за жалкие гроши. — Я вам скажу, в чем дело, Фрэнк, — заметил как-то Эддисон. — Рассчитывая на них, вы строите здание на песке. Вы же знаете, что вся эта шайка из старых газовых компаний по-прежнему настроена против вас, хоть вы и являетесь одним из самых крупных акционеров. Шрайхарт вам отнюдь не друг, а ему фактически принадлежит «Кроникл». Рикетс ходит у него на поводу, Хиссоп — издатель «Мейл» и «Трэнскрипт» — человек хоть и независимых взглядов, но пресвитерианец, холодный, убежденный в своей непогрешимости моралист. Брекстен — неплохой малый, но его «Глоб» издается на деньги Мэррила. Старый генерал Мак-Дональд, издатель «Инкуайэрера», — ну, это… старый генерал Мак-Дональд. У него все зависит от того, с какой ноги он встал. Если вы почему-либо ему приглянетесь, он будет поддерживать вас всегда и во всем — пока вы не начнете ему перечить. Но в общем он неплохой старикан. Он мне нравится. Ни Шрайхарт, ни Мэррил никогда ничего от него не добьются, он под чужую дудку плясать не привык. Но он стар, долго не протянет, а его сынок не внушает мне доверия. С Хейгенином из «Пресс» можно поладить, и он к вам расположен, насколько мне известно. Вероятно, он поддержит вас во всем, что сочтет правильным и справедливым. Ну вот, кажется, и все. Попробуйте, конечно, привлечь их на свою сторону, если удастся. Не затевайте раньше времени разговора о туннелях. Эта мысль должна как бы внезапно осенить вас потом и быть подсказана заботой о насущных нуждах населения. Самое главное — опередить другие компании, пока они еще не успели всех восстановить против вас. Будьте уверены, Шрайхарт уже сейчас ломает себе голову — что все это значит? А что касается Мэррила, — тот, я думаю, живо перекинется на вашу сторону, если только вы пообещаете проложить линию поближе к его магазину.Есть, быть может, своеобразное, хотя и жестокое очарование в том, что никому и никогда не было дано предусмотреть все подводные течения и рифы, отклоняющие от намеченного пути нашу ладью, предугадать, куда повернет капризный ветер удачи — надует ли он наши паруса, или оставит их безжизненно плескаться на мачтах. Мы строим и строим планы, но сколько ни думай, разве можем мы прибавить хоть полдюйма к своему росту? Кто в состоянии противоборствовать или, наоборот, содействовать провидению, которое выковывает наши судьбы, хотя мы грубо, на свой лад и пытаемся их изменить? Каупервуд выступал теперь на широкую арену, и многие издатели газет и прочие видные горожане с интересом наблюдали за ним. Особенно привлекал он к себе внимание Огастоса М.Хейгенина, независимого — если бы ему не приходилось заботиться о том, чтобы газета приносила доход, — издателя «Пресс». Не обладая ни авторитетом, ни обаянием старика Мак-Дональда, Хейгенин был человеком безусловно честным, благожелательным и осторожным. Он с интересом следил за карьерой Каупервуда еще с тех пор, когда тот проводил свою первую операцию с газовыми компаниями. Ему казалось, что Каупервуду предстоит занять видное положение в городе. Наглая, самоуверенная сила в соединении с врожденным макиавеллизом — если это только макиавеллизм и ничего больше — имеет особую притягательность в глазах людей заурядных и ограниченных. Боязливые обыватели среднего достатка, глядя на мир сквозь тусклую пелену окружающей их обыденщины, нередко первыми готовы простить звериные методы борьбы, с помощью которых сильные достигают своей цели. Наблюдая за Каупервудом, Хейгенин создал себе образ незаурядного человека, столь же грешного, сколь и натерпевшегося от чужих грехов, человека, который умеет сохранять верность друзьям и на которого можно опереться в трудную минуту. Случайно Хейгенины оказались соседями Каупервудов. После неудачной попытки Каупервудов проникнуть в высшее чикагское общество Хейгенины оказались в числе тех, кто продолжал поддерживать с ними дружеские отношения и были, на их взгляд, не хуже других. И вот однажды, в сочельник, в стужу и метель, Каупервуд явился к Хейгенину в редакцию газеты «Пресс» и был принят весьма радушно. — А зима-то нынче дает себя знать! — весело приветствовал его Хейгенин. — Ну, как идут дела в Северо-чикагской транспортной? — Хейгенин, как и другие издатели, уже давно слышал о предстоящем переоборудовании всех линий конки на Северной стороне — новая канатная система, силовые станции, комфортабельные вагоны. Поговаривали также, что принимаются какие-то меры, чтобы улучшить сообщение этой части города с центром. — Мистер Хейгенин, — улыбаясь, начал Каупервуд, сбрасывая с плеч тяжелую меховую шубу с бобровым воротником и снимая кожаные рукавицы, — наша работа по переоборудованию городских железных дорог Северной стороны достигла сейчас такой стадии, когда нам необходима помощь или хотя бы дружеская поддержка газет. Главная трудность состоит в том, что все наши линии, идущие от предместья к центру, обрываются на Лейк-стрит у мостов. Чтобы попасть оттуда на Южную сторону, приходится совершать длинный путь пешком, и вы слышали, вероятно, что это вызывает много жалоб ее стороны населения. Вместе с тем я позволю себе заметить, что речной транспорт, и всегда-то затруднявший уличное движение, становится с каждым днем все более несносной помехой. Все мы страдаем от этого. И ни разу не делалось попыток как-то упорядочить движение через реку. Вероятно, потому, что это задача чрезвычайно трудная, а при нынешних условиях, пожалуй, даже неосуществимая. Желательнее всего было бы со временем проложить туннель под рекой, но это потребует огромных капиталовложений, а возможности наши пока еще ограничены. Доходы от наших линий не оправдают подобных затрат. Они не могут оправдать даже реконструкции трех мостов: у Стэйт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит. Однако, если мы переведем наши городские железные дороги на канатную тягу, мосты так или иначе придется реконструировать. Я полагаю, что население не меньше нас заинтересовано в этом начинании, и потому будет только справедливо, если город поможет нам покрыть расходы по реконструкции мостов. Там, где проходят наши линии, участки и дома сильно вздорожают. Следовательно, очень и очень возрастут доходы города от налогов. Я беседовал с некоторыми чикагскими финансистами, и они разделяют мое мнение, но — как обычно бывает в таких случаях — кое-кто из наших политических деятелей настроен против меня. С тех пор как я принял на себя руководство Северо-чикагской компанией, некоторые газеты заняли по отношению ко мне явно недружелюбную позицию. «Кроникл», газета, финансируемая Шрайхартом, уже несколько раз писала, что в Северо-чикагской транспортной орудует Каупервуд со своей шайкой, и, следовательно, нужно держать ухо востро, предвидя возможность разбойничьих налетов вроде тех, какие уже испытали на себе старые газовые компании. Брэкстоновский же «Глоб», фактически принадлежащий Мэррилу и старающийся угодить и той и другой стороне, выразил надежду, что подобные методы не будут более практиковаться. Должен вам сказать, — продолжал Каупервуд, — что мы наметили очень широкую программу переоборудовании и усовершенствований, но хотим прежде всего заручиться сочувствием и поддержкой общественности. Тут Каупервуд сунул руку в карман и извлек оттуда искусно вычерченные планы, которые он заготовил специально для этого случая. На одном из планов были указаны три главные линии канатной дороги, пролегающие по Северной Кларк-стрит, Ла-Саль-стрит и Уэлс-стрит. Эти линии шли к центру города, сходясь в одну точку у перекрестка улиц Иллинойс и Ла-Саль и — хотя Каупервуд еще ни словом не обмолвился о туннеле — были далее обозначены на плане красной чертой, пересекающей реку в таком месте, где не было никаких мостов; они шли над рекой или под рекой, затем описывали петлю по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндолф и возвращались снова в туннель. Каупервуд помолчал, давая Хейгенниу возможность должным образом оценить некоторые интересные особенности этого плана, и затем объявил: — Вы видите перед собой, мистер Хейгенин, проект, который, в случае одобрения его городом, разрешит все недоразумения по поводу больших затрат, неизбежных при реконструкции мостов. Кроме того, он даст возможность использовать объект, который в настоящее время не имеет для города никакой цены, но может сослужить большую службу населению. Я имею в виду, как вы понимаете, — тут Каупервуд прикоснулся указательным пальцем к плану, который рассматривал Хейгенин, — старый туннель у Ла-Саль-стрит, заколоченный досками и никем не используемый. При его постройке не учли, как видно, крутизны уклона, допустимой при подъеме и спуске обыкновенных вагонов со средним грузом. Когда выяснилось, что туннель в таком виде не может приносить никакого дохода, его продали городу, и на том дело и кончилось. Если вы когда-либо заглядывали в него, то вам известно, в каком он состоянии. Мои инженеры осмотрели его и говорят, что там всюду просачивается вода и, если не принять срочных мер, свод не сегодня — завтра обвалится. Восстановление туннеля по их подсчетам обойдется в четыреста тысяч долларов, никак не меньше. Вот я и считаю, что раз уж Северо-чикагская транспортная готова принять на себя такие расходы, чтобы покончить, наконец, с заторами на мостах и дать населению Северной стороны возможность быстро и с удобствами добираться до центра, то и город должен пойти компании навстречу и отдать нам безвозмездно этот туннель или, на худой конец, сдать его в долгосрочную аренду по номинальной цене. Каупервуд умолк, ожидая, что скажет Хейгенин. А тот задумчиво глядел на чертежи, пытаясь уяснить себе, вправе ли Каупервуд ставить такое требование? Должен ли город безвозмездно отдать ему этот туннель, так ли уж неразрешима проблема переправы через реку, как пытается изобразить это Каупервуд, и не является ли весь проект лишь хитроумной уловкой с тем, чтобы при минимуме затрат получить максимум выгод? — А это что такое? — спросил, наконец, Хейгенин, указывая на уже упоминавшуюся выше петлю. — Это, — сказал Каупервуд, — по нашему разумению, единственная возможность связать деловые кварталы с Северной стороной и заодно разрешить вопрос переправы через реку. Если мы, как я надеюсь, получим в свое распоряжение туннель, все поезда с Северной стороны будут выходить из туннеля здесь, — он указал на чертеж, — и делать петлю, — опять-таки в том случае, если город даст нам право проложить здесь рельсовый путь. Я полагаю, конечно, что против этого не может быть выдвинуто никаких основательных возражений. Я не вижу причин, почему население Северной стороны не должно иметь таких же удобных средств сообщения с деловыми кварталами города, какими располагает население Западной и Южной сторон. — Никаких причин, разумеется, никаких причин, — вынужден был согласиться мистер Хейгенин. — И вы считаете, что город и городское самоуправление должны совершенно безвозмездно предоставить вам право проложить эту петлю? — А почему бы нет? — возразил Каупервуд несколько оскорбленным тоном. — Разве ставился когда-нибудь вопрос о компенсации, если речь шла о благоустройстве города? Южная компания получила разрешение на прокладку петли по Стэйт-стрит и Уобеш авеню. А Чикагская городская пассажирская проложила такой же путь по Эдамс-стрит и Вашингтон-стрит. — Да, пожалуй, что и так, — неопределенно заметил мистер Хейгенин. — Все это верно. Но вот туннель… Уверены ли вы, что его тоже можно причислить к категории безвозмездно предоставляемых привилегий? Однако Хейгенин поглядывал при этом искоса на проектируемую петлю и невольно думал о том, что новая канатная дорога — красивые, удобные вагоны с прицепами — придаст деловым кварталам Чикаго вполне столичный вид и будет очень содействовать развитию Северной стороны. Проектируемые линии должны были пройти по самым оживленным торговым улицам, застроенным уже сейчас высокими пяти-, шести-, семи— и дажевосьмиэтажными зданиями. Жизнь била здесь ключом — молодая, бурливая, исполненная надежд. Вся коммерческая деятельность города, казалось, стремилась сосредоточиться на этом небольшом участке, и потому земля и строения ценились здесь необычайно дорого и были, пожалуй, наиболее доходными в Чикаго. И, наконец, издатель Хейгенин не мог не заметить, что поезда новой дороги на своем обратном пути через Дирборн-стрит будут проходить мимо здания редакции «Пресс», что должно было значительно повысить ценность этого дома, а он был его собственностью. — Разумеется, уверен, мистер Хейгенин, — веско сказал Каупервуд, отвечая на его вопрос. — Я считаю даже, что муниципалитет должен выплатить премию тому, кто возьмется наладить здесь городской железнодорожный транспорт, в особенности если это будет солидная организация, выступающая с хорошо продуманным и, я бы сказал даже, великодушным предложением. Осуществление моего проекта повысит стоимость земли и зданий на Северной стороне на миллионы долларов. Постройка петли обеспечит приток новых и новых миллионов долларов к деловой части города. Каупервуд снова указал на свои чертежи, и Хейгенин согласился, что проект, несомненно, представляет собой вполне солидное деловое предложение. — Я, со своей стороны, понятно, не буду возражать против вашего предложения, — сказал Хейгенин, — тем более что новая линия пройдет мимо моей редакции. Однако этот туннель, как я понимаю, обошелся городу не менее, чем в восемьсот тысяч, а то и в миллион. Это очень щекотливое дело. Мне хотелось бы выяснить, как смотрят на это остальные издатели и как отнесется к вашему предложению муниципалитет. Каупервуд кивнул. — Разумеется, разумеется, — сказал он. — Я ничего против не имею. Я бы не пришел сюда, если б не был уверен в законности моего предложения. Мне кажется, оно должно получить единодушную поддержку всей чикагской прессы. Но перед лицом таких крупных издержек, какие предстоят нашей компании, мы, естественно, хотим заранее предохранить себя от всяких бессмысленных и необоснованных нападок, тем более что нам придется делать крупные займы на стороне. Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу поддержку? — Постараюсь не обмануть ваших ожиданий, — улыбнулся мистер Хейгенин, и они расстались добрыми друзьями.
Однако другие издатели, стоявшие на страже городских привилегий, встретили проект Каупервуда далеко не так благосклонно. Они охотно соглашались с тем, что для осуществления намеченного Каупервудом плана ему необходимо получить в свое распоряжение туннель и заручиться разрешением провести канатную дорогу по главным улицам делового центра. Но почему все это должно достаться ему даром?.. Шрайхарт, Мэррил и еще кое-кто из недругов Каупервуда уже прощупывали почву в редакциях газет, стараясь разузнать, как будет принята местной печатью эта новая его авантюра. Получит он поддержку или не получит? Шрайхарт, у которого еще не изгладились из памяти увечья, нанесенные ему в войне газовых компаний, с тревогой и завистью следил за деятельностью, развиваемой Каупервудом. Для него, более чем для других, Каупервуд был новым и весьма опасным противником в борьбе за чикагские городские железные дороги. Впрочем, и другие крупные дельцы с интересом наблюдали за происходящим. — Сдается мне, — сказал Шрайхарт достопочтенному Уолтеру Мелвилю Хиссопу, редактору и издателю «Трэнскрипта» и «Ивнинг мейл», встретившись с ним в клубе «Юнион-Лиг», — сдается мне, что этот проходимец Каупервуд уже готовит какую-то новую аферу с городскими железными дорогами. От него ничего доброго ждать не приходится. Не мешало бы нашим газетам поинтересоваться его связями с политическими кругами. — В то время уже распространились слухи о том, что Мак-Кенти имеет какое-то касательство к вновь созданной компании. Однако издатель Хиссоп — низенький, толстенький, коренастый — был человеком весьма осмотрительным и не спешил с выводами. — Я не сомневаюсь, что мы скоро узнаем, каковы намерения мистера Каупервуда, — заметил он. — Мне кажется, что это очень энергичный и способный предприниматель. Хиссопа и Шрайхарта, так же как Шрайхарта и Мэррила, связывала многолетняя деловая дружба. После визита к издателю «Пресс» Хейгенину чутье, всегда помогавшее Каупервуду выбирать нужных людей и получать нужную поддержку, подсказало ему отправиться в редакцию «Инкуайэрера» — газеты, принадлежавшей старому генералу Мак-Дональду, где ему сообщили, что острый приступ ревматизма в сочетании с суровой чикагской непогодой принудил старого генерала отплыть неделю назад на пароходе в Италию. Сын генерала, весьма самоуверенный молодой человек, и основной редактор, некто мистер Дю-Буа, заправляли газетой в его отсутствие. В лице Трумена Лесли Мак-Дональда — хладнокровного, напористого и хитрого дельца — Каупервуд столкнулся с человеком, который, подобно ему самому, все на свете рассматривал с сугубо эгоистической точки зрения. Какую выгоду он, Трумен Лесли Мак-Дональд, может извлечь для себя из сложившихся обстоятельств и как, пользуясь ими, заставить газету приносить больше прибыли, чем умудрялся извлекать до сих пор его отец? Молодой Мак-Дональд не испытывал никакого почтения к репутации старого генерала, она скорее казалась ему смешной. Он хотел только одного — разбогатеть, и твердо шел к этой цели. Представитель так называемой «золотой молодежи», которой становилось все больше на Северной стороне, молодой Мак-Дональд ездил верхом и на беговых дрожках, был членом и заправилой сверхпривилегированного загородного клуба и презирал рядовых обывателей, не имевших доступа в тот избранный круг, для которого он считал себя предназначенным. Редактор газеты «Инкуайэрер» мистер Клиффорд Дю-Буа, прожженный сорокалетний мошенник с манерами джентльмена, умел использовать газету для своих корыстных целей под самым носом старого генерала. Костлявый, белобрысый, с бледно-голубыми, словно выцветшими глазами, длинным тонким носом и тяжелым подбородком, Клиффорд Дю-Буа обладал одной замечательной особенностью — он никогда не позволял своей правой руке ведать о том, что творит левая. Вот эта-то достойная пара и принимала Каупервуда в отсутствие старого генерала — сначала в кабинете мистера Дю-Буа, а потом в кабинете мистера Мак-Дональда. Последний уже немало слышал о деятельности Каупервуда. Все, кто пострадал в «газовой войне», как, например, Джордан Джулс, председатель бывшей Северо-чикагской газовой компании, или Хадсон Бейкер, председатель бывшей компании Западной стороны, не называли Каупервуда иначе как грабителем и пиратом, ибо он лишил их чрезвычайно выгодных синекур. А теперь этот человек хочет захватить еще и городские железные дороги Северной стороны и является с каким-то сенсационным проектом реорганизации делового центра. Почему бы городу в свою очередь не извлечь из этого для себя выгоду, или, вернее, почему бы не извлечь ее тем, кто помогает создавать общественное мнение, играющее столь большую роль в осуществлении каупервудовских замыслов? Трумен Лесли Мак-Дональд, как уже говорилось выше, отнюдь не разделял взглядов своего отца. Более того, он решил, пользуясь его отсутствием, войти в сделку с Каупервудом. Генералу, само собой разумеется, об этом знать не полагалось. — Я понимаю вашу точку зрения, мистер Каупервуд, — высокомерно произнес Трумен Лесли Мак-Дональд, — но при чем тут город? Разумеется, для населения Северной стороны и для всех владельцев предприятий и земельных участков в деловой части города очень выгодно, чтобы ваш проект осуществился, но для вас это в десять раз выгоднее. Ваш проект бесспорно принесет пользу городу, но город растет, и это в свою очередь принесет немалую пользу вам. Я уже давно твержу о том, что все эти концессии стоят куда больше, чем принято думать. Никто, по-видимому, еще не отдает себе в этом отчета, но тем не менее это так. Да и туннель теперь стоит больше, чем в то время, когда его сооружали. Пусть даже город его не использует, найдутся на него и другие охотники. Это был намек на возможность конкуренции. Каупервуд обозлился, но не подал виду. — Все это так, — сказал он с любезной миной, — но зачем же мерить такими разными мерками — Южная компания не уплатила ни единого доллара за право построить свою петлю, совершенно также, как и Чикагская городская пассажирская компания. Северная компания намечает ряд мероприятий по благоустройству городского транспорта в таких широких масштабах, какие никому и не снились до сих пор. Едва ли это справедливо — поднимать вопрос о компенсации за концессию именно сейчас и в отношении одной только Северной компании. — Ну… отчасти, может быть, вы и правы, и другим компаниям тоже следовало бы платить за это, но Южная компания получила свои права уже давно. Сейчас она просто соединила между собой отдельные линии. А туннель — это совсем другое дело. Город купил его и уплатил при этом немалые деньги, не так ли? — Совершенно верно — купил, чтобы дать кое-кому возможность избавиться от него, когда стало ясно, что на нем не заработаешь ни цента, — возразил Каупервуд едко. — Но он и сейчас совершенно не нужен городу. Он рухнет в самое ближайшее время, если не привести его в порядок. Да ведь само согласие владельцев недвижимости на прокладку петли мимо их владений принесет значительную выгоду городу. Мне кажется, что ваш гражданский долг — не только не препятствовать такому серьезному начинанию, но всемерно ему содействовать. Речь идет о благоустройстве деловых кварталов, о придании им подлинно столичного вида. Пора уже Чикаго выходить из пеленок. Мистер Мак-Дональд младший покачал головой. Нельзя было не признать резонности доводов Каупервуда, но он завидовал этому человеку, завидовал его успехам. Получив задаром туннель и концессию на постройку петли, Каупервуд наживет миллионы. Так почему бы и ему, Мак-Дональду, не урвать себе кусочек? Он вызвал мистера Дю-Буа, и они сообща обсудили предложение. Каупервуда. Мистер Дю-Буа без труда понял, к чему клонится дело. — Отличный проект, — сказал он. — Не вижу, однако, почему город должен остаться внакладе. Общественное мнение сейчас настроено против таких безвозмездных даров. Каупервуду стало ясно, какие мысли бродят в голове мистера Мак-Дональда. — Итак, каковы же, по-вашему, должны быть размеры компенсации в пользу города? — спросил он осторожно. Быть может, этот напористый молодой человек уже настолько обнаглел, что выдаст себя? — Ну, что касается размеров компенсации, — ответил мистер Мак-Дональд, делая какой-то неопределенный жест, — этого я не могу сказать. Компенсация, мне кажется, должна быть определена в разумной пропорции к нынешней стоимости объекта. Это нужно обдумать. Я полагаю, что город не станет выдвигать чрезмерных требований. Но все же речь идет о привилегиях, которые кое-чего да стоят. Каупервуд бесился в душе. Его основной слабостью — если допустить, что у него вообще имелись слабости — было то, что он органически не выносил противодействия. Он смотрел на Мак-Дональда, на его худое, бледное лицо и жесткие, колючие глаза. Какой наглец этот мальчишка! Каупервуду хотелось послать его ко всем чертям вместе с его газетой! Он ушел, решив про себя, что сумеет сладить с «Инкуайэрером» другим путем, как только вернется старик генерал. На следующее утро, сидя в своей конторе на Северной Кларк-стрит, Каупервуд услышал тогда еще малопривычный звук — звонил телефон, который в ту пору был новинкой. Секретарь взял трубку и сообщил, что кто-то из газеты «Инкуайэрер» желает переговорить с мистером Каупервудом лично. — Говорят из «Инкуайэрера», — услышал Каупервуд и подумал тотчас, что это голос молодого Мак-Дональда. — Вы хотели знать, каковы могут быть размеры компенсации в интересующем вас вопросе о туннеле? Вы меня слышите? — Слышу, — ответил Каупервуд. — Отлично. Я не хочу оказывать на вас ни малейшего нажима, но если вас интересует мое мнение, то я полагаю, что пакет акций Северо-чикагской транспортной на сумму примерно в пятьдесят тысяч долларов мог бы послужить к удовлетворительному разрешению вопроса. Голос был молодой и звучал резко и отчетливо. — И кому, по вашему мнению, должны быть вручены эти акции? — спросил Каупервуд учтиво, почти вкрадчиво. — В этом вопросе я целиком полагаюсь на ваше усмотрение. Голос умолк. Каупервуд услышал, как повесили трубку. — Черт возьми! — воскликнул он, задумчиво уставясь в пол. По лицу его промелькнула презрительная улыбка. — Им не поймать меня на эту удочку. Овчинка не стоит выделки; я могу обойтись и без них, — пока во всяком случае. — Он стиснул зубы. Однако Каупервуд недооценил мистера Трумена Лесли Мак-Дональда, и главным образом потому, что тот пришелся ему не по вкусу. Собственно говоря, Каупервуд рассчитывал на то, что вернется старый генерал и выгонит вон своего ретивого сынка. Это был один из самых крупных промахов, когда-либо допущенных Фрэнком Каупервудом.
Глава 24
Появление Стефани Плейто
В эти годы, когда коммерческие и финансовые дела Каупервуда быстро шли в гору, стали понемногу налаживаться и его отношения с Эйлин. Отчасти чтобы отвлечь Эйлин от ее грустных мыслей, отчасти чтобы утолить жажду впечатлений и пополнить свою коллекцию художественных ценностей, Каупервуд завел обычай каждое лето отправляться в путешествие — либо по Америке, либо в Европу. За два года они побывали в России, на Скандинавском полуострове, в Аргентине, в Чили и Мексике. Они уезжали в мае или в июне, когда все поезда отходили переполненными, и возвращались в сентябре или в начале октября. Каупервуд старался успокоить и порадовать Эйлин, он тешил ее честолюбие, рисуя перед ней будущие успехи в обществе — если не в чикагском, то в лондонском или в нью-йоркском, всячески убеждал ее, что, несмотря на свои измены, он по-прежнему предан ей. Каупервуд был достаточно ловок и хитер, чтобы искусно симулировать нежные чувства, которых он уже не испытывал, вернее, в которых не было прежнего огня. Он был олицетворенное внимание, покупал Эйлин цветы и драгоценности, всевозможные безделушки и сувениры, окружал ее самым изысканным комфортом и в то же время украдкой поглядывал по сторонам, уже томясь по новым, недозволенным развлечениям. Эйлин чувствовала это, хотя доказательств у нее никаких не было. И все же, несмотря ни на что, она любила этого человека, благоговела перед ним и подчинялась ему вопреки своей воле. Представьте себе полководца, потерпевшего жестокое поражение, или просто рядового труженика, которому после долгих лет безупречной службы отказали от места. В чем искать утешения любящему сердцу, если любовь отвергнута, если все жертвы, принесенные на ее алтарь, оказались напрасными? В философии? Но ведь это не более как игра в бирюльки. В религии? Она требует метафизического склада ума. В 1865 году, когда Каупервуд впервые встретился с Эйлин Батлер, это была юная, стройная девушка, стремительная, полная жизни. Теперь она уже стала иной. Конечно, Эйлин все еще была красива. Цветущая, золотоволосая тридцатипятилетняя матрона — она выглядела не старше тридцати лет, а в душе, увы, чувствовала себя все той же быстроногой девчонкой и думала, что она так же привлекательна, как прежде. Любой женщине, даже очень избалованной судьбой, грустно видеть, как уходят годы, и любовь — этот вечно манящий блуждающий огонек — меркнет где-то в надвигающемся мраке. Эйлин в час своего, казалось бы, величайшего триумфа увидела, что любовь умерла. Бесполезно было убеждать себя — как она пыталась это делать порой, — что любовь еще может возродиться. Наделенная от природы умом трезвым и реалистическим, Эйлин понимала, что прошлого не вернешь. Пусть ей удалось убрать со своего пути Риту Сольберг, — все равно верности и постоянству Каупервуда пришел конец. А значит — конец и ее счастью. Любовь умерла. Погибла нежная иллюзия; рассеялся жемчужно-розовый, сладостный туман; прочь отлетел смеющийся купидон, с лукавой улыбкой на пухлых устах и таинственно-манящим взглядом; увяли цветы, шептавшие о вечной весне, об опьянении жизнью; умолкли призывы, властно будившие мучительно-острую радость; погибло все. К чему слезы, ярость, бесплодные сожаления? К чему снова и снова глядеться в зеркало, изучая мягкие женственно-округлые линии еще свежего и привлекательного лица? Как-то раз, заметив темные круги у себя под глазами, Эйлин в бешенстве сорвала с груди кружева, которые только что приколола, и, бросившись на постель, зарыдала горько и отчаянно. На что ей наряды? На что все эти побрякушки? Фрэнк не любит ее. К чему ей этот роскошный особняк на Мичиган авеню, изысканно обставленный будуар во французском стиле, туалеты, каждый из которых — вершина портновского искусства, шляпы, похожие на цветочные клумбы? К чему, к чему? Мучительное воспоминание о невозвратном прошлом будет вечно преследовать ее, словно плакальщик в траурных одеждах, словно пресловутый ворон, прокаркавший у дверей свое «никогда, никогда». Эйлин знала, что сладостная иллюзия, на какой-то недолгий срок привязавшая к ней Каупервуда, рассеялась навеки. Каупервуд был здесь, рядом с ней. По утрам и вечерам в доме раздавались его шаги. В долгие тоскливые ночные часы она слышала рядом с собой его дыхание, чувствовала на своем теле его руку. А затем наступали другие ночи, когда его не было дома, когда он «отлучался из города», и, выслушивая потом его объяснения, Эйлин старалась принимать их за чистую монету. Зачем ссориться? — говорила она себе. Что тут можно поделать? И она ждала, ждала, — но чего, сама не знала. А Каупервуд, наблюдая эти непреложные изменения, странные, несмываемые отметины, которые на каждом из нас оставляет время, — поблекшие краски, померкший огонь, все то, что уходит вместе с молодостью, — хотя и вздыхал порой, но невольно обращал свои взоры туда, где, подобно заре, светилась и блистала юность. Поэтическая верность, которая умеет исчезнувшее очарование юной любви заменить воспоминаниями о ней, была не свойственна Каупервуду, он не умел, когда остыла страсть и угасло желание, искать мучительную усладу в чистых воспоминаниях о прежних радостях. Расставшись с Ритой Сольберг, потеряв в ее лице ту легкую, беспечную отраду, которой не умела дать ему Эйлин, Каупервуд не знал покоя — он жаждал найти женщину, которая заменила бы ему Риту. В сущности, его всегда влекла к себе только молодость, очарование красоты, беспечной женственности, новизна юного, нераскрывшегося еще темперамента — совершенно так же, как влекли его к себе хорошие картины, старинный фарфор, антикварные редкости, великолепные особняки или слава, власть, преклонение неразумной толпы. Беспорядочные любовные похождения Каупервуда были, как уже говорилось, естественным проявлением беспокойного, вечно жаждущего перемен нрава, внутреннего анархизма и моральной неустойчивости. Быть может, Каупервуд искал воплощение какого-то своего идеала? Но, как ни странно, со временем и сами наши идеалы, по-видимому, подвергаются изменениям, заставляя нас снова и снова блуждать во мраке. И что такое этот идеал в конце-то концов? Призрак, туман, аромат, принесенный дуновением ветерка, пустая греза. Девическое обожание Антуанеты Новак оказалось чересчур утомительным для Каупервуда. Она была слишком пылкой, слишком влюбленной, и он мало-помалу, хотя и не без труда, освободился от этих уз. После Антуанеты у него было несколько непродолжительных связей с различными женщинами, но они не принесли ему удовлетворения. Дороти Ормсби, Джесси Белл Хинсдейл, Тома Льюис, Хильда Джуэлл — в его памяти остались только их имена, не больше. Первая была актриса, вторая — стенографистка, третья — дочь одного из его коллег, четвертая — деятельница церковной общины, явившаяся к нему с благотворительной целью — испросить пожертвование на сиротский приют. Иной раз случались неприятности — трогательные и жалкие сцены, но таков уж удел тех, кто осмеливается свернуть с проторенной дорожки. По меткому выражению Наполеона, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Появление Стефани Плейто — девушки, в которой еврейская кровь смешалась с южноамериканской, сыграло немалую роль в жизни Каупервуда. Стефани была молода и чрезвычайно эффектна. Высокая, стройная, грациозная, она совмещала в себе веселую беспечность Риты Сольберг с каким-то удивительным фатализмом, который, — когда Каупервуд узнал ее ближе, — странным образом взволновал и растрогал его. Впервые он встретился со Стефани на пароходе, шедшем в Гетеборг. Отец Стефани, Айседор Плейто, вел в Чикаго крупную торговлю пушниной. Это тучное, амебообразное существо, с мясистым, лоснящимся от жира лицом обладало безошибочным деловым нюхом и странной склонностью к философствованию. Слабость эта приводила его к некоторому разброду в мыслях, заставляя утверждать сегодня одно, а завтра — другое, лишь бы это не вредило его коммерции. Айседор Плейто, в общем порядочный сноб, считал себя поклонником Генри Джорджа и одновременно — столь бескорыстного утописта, как Роберт Оуэн. Впрочем, его снобизм отнюдь не помешал ему жениться в свое время на Сюзетте Осборн — простой техасской девушке, служившей у него в магазине счетоводом. Миссис Плейто была любезная, обходительная, изворотливая и хитрая дама, чрезвычайно чувствительная к успеху в обществе, — короче говоря — пролаза. Смекнув, что для достижения успеха достаточно читать модные романы, интересоваться искусством и быть в курсе всех сплетен, она с большим усердием посвятила себя этим занятиям. Любопытно наблюдать, как характеры родителей, смешиваясь, видоизменяются и повторяются в детях. Когда Стефани подросла, у нее, такой непохожей ни на отца, ни на мать, проявились черты и того и другого, — создалась новая и интересная разновидность характера. Стефани была тоненькая, гибкая, темноволосая девушка, с бледным лицом и темно-карими глазами, которые могли мерцать, сверкать, светиться, отражая внезапные смены настроений этой странно неустойчивой души. Полный чувственный рот, грациозная посадка головы и мечтательное, почти дремотное выражение смуглого, чуть тяжеловатого, словно высеченного из камня лица дополняли ее облик. Она переняла от своих родителей тяготение к искусству, литературе, философии и музыке. В восемнадцать лет она уже мечтала стать певицей, художницей, актрисой, писать романы, стихи — ей хотелось всего зараз. Свято веря в безупречность своего вкуса, она целиком отдавалась во власть каждой своей прихоти, каждого мимолетного настроения, если находила его изысканным, — величайшее достоинство в ее глазах. В семье Плейто росла отъявленная сластолюбка, проводя дни в мечтах, рисуя себе любовный союз то с одним артистом, поэтом или музыкантом, то с другим, окружая себя в грезах целым сонмом представителей этого заманчивого, увлекательного мира. Каупервуд впервые увидел Стефани июньским утром на борту парохода «Центурион» в нью-йоркском порту. Чета Каупервудов направлялась в Норвегию, а Стефани с отцом и матерью — в Данию. Перегнувшись через поручни, Стефани следила за стаей белокрылых чаек, круживших около камбуза. Она была целиком погружена в мечты, сознавая (вполне отчетливо), что целиком погружена в мечты. Каупервуд почти не обратил на нее внимания, отметил лишь, что она высока, грациозна и что темно-серое плиссированное платье и пышный серый газовый шарф, окутывавший ее стан и плечи и перекинутый через руку на манер индусских женщин, чрезвычайно ей к лицу. Ему бросилась в глаза ее бледность, темные круги под глазами, и он подумал, что, вероятно, она плохо переносит качку. Не ускользнули от его острого взгляда и ее иссиня-черные волосы под кокетливой модной шляпкой. В тот же день он встретил Стефани еще раз: она и ее отец сидели за столом в капитанской каюте. Каупервуд и Эйлин не знали сначала, как отнестись к этой девушке, которая невольно заинтересовала их обоих. Ее изменчивый, коварный нрав открылся им далеко не сразу. Стефани была прирожденной актрисой, существом, не более постоянным и устойчивым, чем бегущие по ветру облака. Она всегда находилась во власти случайных, мимолетных настроений. Каупервуду понравился полусемитский тип ее лица, нежная округлая шея, темные, мечтательные глаза. Но она была слишком молода, показалась ему на первый взгляд еще несложившимся подростком и он не удостоил ее внимания. Во время этого путешествия, продолжавшегося десять дней, Каупервуду часто приходилось встречаться со Стефани, наблюдать ее в самых различных настроениях. Он видел, как она гуляла по палубе с каким-то молодым еврейским юношей, который, по-видимому, вызывал в ней живейший интерес, играла в карты или сидела где-нибудь в уголку, защищенном от ветра и морских брызг, углубившись в чтение. И всегда при этом у нее был наивный, подчеркнуто невинный, замкнутый и мечтательный вид. Но порой ею овладевало какое-то дикое, безудержное веселье, и тогда она внезапно преображалась, лицо ее словно оживало, в глазах вспыхивал огонь. А еще минуту спустя она уже сидела со стальным лобзиком в руках и, склонившись над кусочком дерева, прилежно и задумчиво выпиливала что-то. Эйлин нашла Стефани бесцветной, малозначительной девочкой, лишенной того обаяния цветущей юной женственности, которое обладает столь могучей притягательной силой для мужчин, и потому отнеслась к ней довольно дружелюбно. А Стефани, несмотря на свой возраст, куда более тонкая и проницательная, чем Эйлин, очень точно определила интеллектуальный уровень миссис Каупервуд и поняла, как и чем можно расположить ее к себе. Она сдружилась с Эйлин, сделала ей закладку для книг, набросала ее портрет. Как-то она призналась Эйлин, что твердо решила стать актрисой, — лишь бы позволили родители. Эйлин пригласила Стефани побывать у них в Чикаго, поглядеть картины. Могла ли она думать, что эта девушка сыграет такую роль в жизни Каупервуда? В Гетеборге Каупервуды сошли с парохода и до конца октября не встречались больше с семейством Плейто. А потом, уже в Чикаго, Эйлин, скучавшая в своем вынужденном одиночестве, наведалась как-то к Стефани, после чего та в свою очередь отправилась на Южную сторону и посетила Каупервудов. Ей понравилось бродить по их огромному дому или мечтать с книгой в руках в каком-нибудь уютном уголке роскошно обставленной гостиной. Ей понравились картины Каупервуда, его нефриты, старинные молитвенники, цветное венецианское стекло. Стефани очень скоро смекнула, что у Эйлин нет подлинного интереса к этим вещам, и ее восхищение ими — чистейшее притворство, вызванное тем, что за них дорого уплачено. А для Стефани во всех этих старинных книгах, украшенных миниатюрами, и в хрустальных бокалах таилось почти чувственное очарование, которое испытывают только художественные натуры. Они действовали на нее как музыка, будили в ней смутные мечты; какие-то далекие, исполненные невиданного великолепия и пышности сцены рисовались ее воображению, и она вздыхала, грезила, приходила в экстаз. В такие минуты Стефани часто думала о Каупервуде. Любит ли он эти вещи, или просто приобретает их ради того, чтобы приобретать? Она немало слышала о псевдоценителях искусства, которые интересуются им исключительно напоказ. Ей вспоминался Каупервуд. Стефани снова видела его перед собой, как он расхаживал взад и вперед по палубе «Центуриона», и она чувствовала на себе внимательный и твердый взгляд его больших серых глаз, в которых, как ей казалось, светился ум. Каупервуд, по мнению Стефани, был еще более важным и значительным человеком, чем ее отец, хотя она и не могла бы сказать, откуда взялось у нее это убеждение. Уж не оттого ли, что он всегда был так безукоризненно одет и так уверенно держался? Ничто, казалось, не могло бы вывести этого человека из равновесия. И во всем, что он говорил или делал, Стефани чудилась какая-то спокойная, дружеская ласка, хотя, сказать по правде, в ее присутствии он почти ничего не говорил и еще меньше делал. В глубине его глаз Стефани нередко читала усмешку, словно он посмеивался в душе над чем-то, но над чем? Этого она не могла разгадать. Прошло уже полгода с тех пор как Стефани вернулась в Чикаго, но она почти не видела Каупервуда: он был погружен в дела — проводил в жизнь свой проект захвата городских железных дорог, да и она сама была во власти новых интересов, которые на время отвлекли ее от Каупервуда и Эйлин. Несколько друзей ее матери организовали любительский театральный кружок, поставивший своей целью не более и не менее, как поднять драматическое искусство на самую высокую ступень. Эта старая как мир задача никогда, как видно, не перестанет волновать умы неопытных новичков. Начало театральному кружку было положено в доме Тимберлейков, новоиспеченных богачей, живших на Западной стороне. Там, в огромном особняке на Эшленд авеню, была устроена сцена, ибо Джорджия Тимберлейк, романтически настроенная девица лет двадцати, с льняными волосами, внушила себе, что у нее незаурядный сценический талант. Миссис Тимберлейк, тучная и добродушная, разделяла, по-видимому, мнение своей дочки. Вся эта затея, после нескольких весьма спорных, чтобы не сказать больше, постановок мильтоновской «Маски Кома», «Пирама и Тисбы» и перекроенной своими силами на новый лад арлекинады, перекочевала из особняка в студию, а затем продолжала осуществляться в так называемом Дворце нового искусства. Некий актер по имени Лейн Кросс, вернее, не столько актер, сколько режиссер, и, пожалуй, не столько режиссер, сколько портретист, а по существу просто ловкач, сумевший внушить светским снобам, что он умеет писать портреты, и добывавший себе таким путем средства к существованию, был приглашен на роль постановщика. Мало-помалу «гарриковцы», как величали себя новоиспеченные актеры, набили себе руку на постановках классических и полуклассических пьес. Не слишком заботясь о бутафории и реквизите, они ставили «Ромео и Джульетту» Шекспира, «Ученых женщин» Мольера, шеридановских «Соперников» и даже «Электру» Софокла. В труппе оказалось несколько не совсем бесталанных людей; двух актрис, по общему признанию, ждал успех на американской сцене, и одной из них была Стефани Плейто. В крупных ролях выступало около десятка девушек и женщин и примерно столько же мужчин — сборище столь разношерстное, что у нас нет возможности останавливаться на каждом из них в отдельности. К этому же кругу принадлежал и некий театральный критик по имени Гарднер Ноулз. Молодой, красивый, самодовольный, он печатал свои отчеты в «Чикаго пресс». Вылощенный, с тоненькой тросточкой в руках, Ноулз появлялся каждый вторник, четверг и субботу на традиционном чае у «гарриковцев» и хвалил их смелое начинание. Благодаря его стараниям о «гарриковцах» постепенно заговорили газеты. Лейн Кросс, смазливый актер, стоявший во главе труппы, был мелкая душонка, распутник, циник, умело скрывавший свою истинную сущность под маской стереотипной светской обходительности. Ему нравились задорные, розовощекие девицы типа Джорджии Тимберлейк или Ирмы Отли, которые были в их театре на комических ролях, но он не обделял своим вниманием и Стефани Плейто. Вскоре составился довольно тесный дружеский кружок, к нему примкнула еще Этель Такермен, чувствительная, сентиментальная девица, которая недурно танцевала и пела. Мало-помалу между отдельными парами завязались интимные отношения, но вместо того, чтобы кончиться браком, они, в этой обстановке, могли привести только к половой распущенности. Так, Этель Такермен сделалась любовницей Лейна Кросса, Ирма Отли нарушила заповедь с молодым светским повесой по имени Блисс Бридж, а Гарднер Ноулз, который был без ума от Стефани Плейто, в один прекрасный день нагло напал на девушку у нее в доме, явившись туда под предлогом интервью, и сломил ее сопротивление своим красноречием. Он только нравился ей — слегка; она даже не успела в него влюбиться. Но Стефани была легкомысленна, темпераментна, неопытна и чрезвычайно любопытна и тщеславна. Лишенная всякого представления о дозволенном и недозволенном — принципов, которыми общество руководствуется в подобных вопросах, она довольно легко пошла на эту пошлую и грубую связь. Стефани не испугалась и не раскаялась потом — для этого она была слишком легкомысленна к слишком уверена в себе. От родителей ей удалось все скрыть. Но, сделав первый шаг, она открыла для себя новый мир — мир плотских радостей. Были ли все эти юноши и девушки испорченными от природы? На этот вопрос может ответить разве что философ-социолог. Одно несомненно: они не строили семьи, не растили детей. Они просто веселились и порхали по жизни, как мотыльки. Это длилось около двух лет; затем их хоровод распался. Начались ссоры: из-за ролей, из зависти к чужому таланту или положению. Этель Такермен порвала с Лейном Кроссом, обнаружив, что он волочится за Ирмой Отли. Ирма охладела к Блиссу Бриджу, и тот перенес свою привязанность на Джорджию Тимберлейк. Стефани Плейто, наиболее одаренная из всех, проявила еще большую непоследовательность в своих поступках. Ее связь с Гарднером Ноулзом началась, когда Стефани не было и двадцати лет. Очень скоро Лейн Кросс возбудил ее интерес: он был значительно старше Ноулза, — Лейну уже стукнуло сорок, а Ноулзу едва сравнялось двадцать четыре, — и, кроме того, на нее произвели впечатление его якобы серьезные творческие поиски. Лейн охотно пошел ей навстречу. Возникла еще одна чувственная и пустая связь; человек этот, казавшийся Стефани значительным, был по существу ничтожеством. Но мало-помалу Стефани уже стала смутно предчувствовать, что самое большое и увлекательное еще впереди, что она может встретить человека несравненно более интересного, чем ее теперешние возлюбленные. Впрочем, пока это были только мечты. Порой она думала о Каупервуде; но он, казалось ей, был погружен в какие-то ужасно серьезные и скучные дела, был слишком далек от романтики, от сцены, от любительского искусства — словом, от того мира, в котором она жила.Глава 25
Экзотический цветок
Стефани Плейто впервые обратила на себя внимание Каупервуда, когда он с Эйлин был у «гарриковцев» и увидел ее в «Электре». Ему понравилось, как она исполняла свою роль. Он подумал вдруг, что она красива. А вскоре после этого, вернувшись как-то вечером домой, он застал в гостиной Стефани. Она стояла, склонившись над его коллекцией нефритов, любуясь разложенными в ряд браслетами и серьгами. Каупервуда восхитила ритмичная линия ее гибкого тела. И он подумал, что Стефани — удивительная девушка, очень своеобразная, что, быть может, ее ждет известность и слава. А Стефани в это время думала о нем. — Вы находите занятным эти безделушки? — спросил Каупервуд, подойдя к ней и став рядом. — Ах, они чудесны! Особенно вот те, темно-зеленые! И эти бледные, почти белые, тоже прелесть! А какие они тяжелые. Эти нефриты были бы очень хороши с китайским костюмом. Я всегда мечтала найти какую-нибудь китайскую или японскую пьесу для постановки. — Да, — сказал Каупервуд. — Вот эти серьги очень пошли бы к вашим волосам. Никогда раньше он не говорил о ее внешности. Стефани подняла на него темные, бархатисто-карие глаза, светившиеся мягким матовым блеском, и Каупервуд подумал, что они поистине прекрасны; и руки тоже красивы — смуглые, как у малайки. Больше он не сказал ни слова, но на другой день рассыльный вручил Стефани изящную коробочку, в которой она обнаружила нефритовые украшения: серьги, браслет и брошь с выгравированными на ней китайскими иероглифами. Стефани была вне себя от восторга. Она долго любовалась драгоценностями и прижимала их к губам, потом надела серьги, браслет, приколола брошь. Несмотря на свои любовные приключения, широкий круг знакомств и постоянное общение с легкомысленным миром богемы, Стефани еще плохо знала жизнь и в душе оставалась ребенком — взбалмошным, мечтательным, отравленным романтическими бреднями. Подарками ее никто не баловал, даже родители. Они покупали ей наряды и сверх этого выдавали по шесть долларов в неделю — на мелкие расходы. Запершись в своей комнате, Стефани разглядывала красивые побрякушки и с изумлением спрашивала себя — неужели она могла понравиться Каупервуду? Может ли такой серьезный деловой человек заинтересоваться ею? Она слышала, как ее отец говорил, что Каупервуд богатеет не по дням, а по часам. Неужели она и вправду большая актриса, как утверждают многие, и на нее начинают обращать внимание серьезные, энергичные, преуспевающие дельцы вроде Каупервуда! Стефани слышала о знаменитых актрисах — о «божественной» Сарре Бернар и ее возлюбленных, о Рашели, о Нэлл Гвин. Она сняла драгоценности и заперла их в черный резной ларец, который был хранилищем всех ее безделушек и сердечных тайн. Стефани не отослала Каупервуду обратно его подарки, из чего тот заключил, что она к нему расположена. Он терпеливо ждал, и однажды в контору пришло письмо, адресованное: «Фрэнку Алджернону Каупервуду, в собственные руки». Письмо было написано очень старательно, четким, аккуратным, мелким, как бисер, почерком.«Не знаю, как благодарить Вас за Ваш изумительный подарок. Конечно, это могли сделать только Вы, хотя у меня и в мыслях не было, что мои слова будут так истолкованы. Принимаю Ваш дар с искренней признательностью и буду всегда носить его с восторгом. Это очень мило с Вашей стороны»Каупервуд внимательно поглядел на почерк, бумагу и еще раз перечитал недлинное послание. Для молоденькой девушки написано неглупо, сдержанно и тактично. И у нее хватило сообразительности не написать на домашний адрес. Он не тревожил ее еще неделю, а в воскресенье вечером столкнулся с ней лицом к лицу у себя в гостиной. Эйлин не было дома, и Стефани сидела у окна, делая вид, будто дожидается ее возвращения. — Вы выглядите восхитительно в раме этого окна, — сказал Каупервуд. — Весь этот фон очень вам к лицу. — Вы находите? — Темные глаза смотрели на него задумчиво, мечтательно. Высокое окно в тяжелой дубовой раме позади Стефани было позолочено лучами зимнего заката. Стефани тщательно обдумала свой наряд, готовясь к этой встрече. Ее стриженные густые черные волосы были, как у маленькой девочки, подхвачены сзади алой лентой, завязанной бантиком на макушке, и падали свободными локонами на виски и уши. Стройную, гибкую фигурку облекала травянистого цвета блузка и пышная черная юбка с красным рюшем на подоле. Тонкие смуглые руки были обнажены по локоть, на левом запястье тускло поблескивал нефритовый браслет, подарок Каупервуда. Шелковые чулки такого же травянисто-зеленого цвета, как блузка, и, невзирая на прохладный день — легкие кокетливые туфельки с бронзовыми пряжками завершали ее туалет. Каупервуд вышел, чтобы снять пальто, и тотчас вернулся в гостиную; на губах его играла улыбка. — Разве миссис Каупервуд нет дома? — Ваш дворецкий сказал, что она поехала навестить кого-то, и я решила немного подождать — может быть, она скоро вернется. Стефани обратила к нему смуглое улыбающееся лицо, и, встретив взгляд ее мечтательных глаз, он внезапно и вполне отчетливо понял, что она и в жизни играет, как на сцене. — Вам понравился мой браслет, я вижу. — Он очень красив, — отвечала Стефани, опустив глаза и задумчиво разглядывая браслет. — Я не всегда надеваю его, но никогда с ним не расстаюсь — ношу с собой в муфте. Сейчас надела на минутку. Я все ваши подарки ношу с собой. Они мне очень нравятся. Их так приятно трогать. Она открыла маленькую замшевую сумочку, лежавшую на подоконнике, рядом с носовым платком и альбомом для эскизов, который она всюду носила с собой, и вынула оттуда серьги и брошь. Каупервуд был восхищен и взволнован таким непосредственным проявлением восторга. Он очень любил свои нефриты, но еще больше любил наблюдать восхищение, которое они вызывали в других. Юность с ее надеждами и стремлениями, воплощенная в женском облике, всегда имела над ним необоримую власть, а здесь перед его глазами были юность, красота и честолюбие, слитые воедино в облике молодой девушки. Стремление Стефани выдвинуться, чего-то достичь — не важно, чего именно, — находило в нем живой отклик; он снисходительно, почти по-отечески, взирал на проявление эгоизма, суетности, тщеславия, столь часто свойственных молодым и красивым женщинам. Хрупкие нежные цветы, распустившиеся на древе жизни, красота их так недолговечна! Грубо, походя, обрывать их было не в его натуре, но тем, кто сам тянулся к нему, не приходилось сетовать на его жестокосердие. Словом, Каупервуд был натура широкая и щедрая во всем, что касалось женщин. — Как это мило, — сказал он улыбаясь. — Я очень тронут. — Потом, заметив альбом, спросил: — А что у вас здесь? — Так, наброски. — Можно взглянуть? — Нет, нет, это все пустяки, — запротестовала она. — Я плохо рисую. — Вы одаренная девушка! — сказал он, беря альбом. — Живопись, резьба по дереву, музыка, пение, сцена — чем только вы не занимаетесь. — И всем довольно посредственно, — вздохнула она, медленно отвела от него взгляд и отвернулась. В этом альбоме хранились лучшие из ее рисунков: тут были наброски обнаженных женщин, танцовщиц; бегущие фигуры, торсы, женские головки, мечтательно запрокинутые назад, чувственно грезящие с полузакрытыми глазами; карандашные зарисовки братьев и сестер Стефани, ее отца и матери. — Восхитительно! — воскликнул Каупервуд, загораясь при мысли, что он открыл новое сокровище. Черт побери, где были его глаза! Это же бриллиант, бриллиант чистейшей воды, неиспорченный, нетронутый, и сам дается ему в руки! В рисунках были проникновение и огонь, затаенный, подспудно тлеющий, и Каупервуд ощутил трепет восторга. — По-моему, ваши рисунки очаровательны, Стефани, — сказал он просто, охваченный странным, непривычным для него приливом нежности. В конце концов он ничего на свете так не любил, как искусство. Оно обладало для него какой-то гипнотической силой. — Вы учились живописи? — Нет. — А играть на сцене вы тоже никогда не учились? — Тоже нет. Она медленно, печально и кокетливо покачала головой. В темных локонах, прикрывавших ее уши, было что-то странно трогательное. — Я видел вас на сцене — это настоящее, подлинное искусство. А теперь открыл в вас еще один талант. Как же это я не сумел сразу разгадать вас? — Ах, — снова вздохнула она. — А мне все кажется, что я просто играю во все понемножку, как в куклы. Порой даже хочется плакать, как подумаешь, на чтоуходят годы. — В двадцать-то лет? — А разве это мало? — лукаво улыбнулась она. — Стефани, — осторожно спросил Каупервуд, — сколько вам все же лет? — В апреле исполнится двадцать один, — отвечала она. — Ваши родители очень строги к вам? Она задумчиво покачала головой. — Нет. А почему вы спрашиваете? Они не очень-то много уделяют мне внимания. Люсиль, Джильберта и Ормонда они всегда любили больше, чем меня. — Голос ее звучал жалобно, как у заброшенного ребенка. Она часто пускала в ход эти нотки на сцене, в наиболее патетических местах. — Ваши родители понимают, как вы талантливы? — Мама, по-моему, считает, что у меня есть кое-какие способности. Папа, конечно, нет. А что? Она подняла на него томный, жалобный взгляд. — Послушайте, Стефани, вы изумительны. Я понял это еще в тот вечер, когда вы любовались моими нефритами. Я вдруг словно прозрел. Вы настоящий художник, а я был так погружен в свои дела, что едва не проглядел вас. Ответьте мне на один вопрос. — Да? Она взглянула на него снизу вверх из-под темных локонов, падавших ей на лоб, беззвучно, глубоко вздохнула, грудь ее всколыхнулась; руки безвольно и неподвижно продолжали лежать на коленях. Потом, словно смутившись, она отвела взгляд. — Посмотрите на меня, Стефани. Подымите глаза! Я хочу задать вам один вопрос. Вы знаете меня уже больше года. Скажите — я нравлюсь вам? — Вы — удивительный, необыкновенный, — пробормотала она. — И это все? — А вам этого мало! — Она улыбнулась ему, и в ее темных глазах, как в глубине черного опала, блеснули искорки. — Вы надели сегодня мой браслет. Я доставил вам радость, прислав его? — О да! — прошептала она чуть слышно, как бы пересиливая охватившее ее волнение. — Вы прекрасны, Стефани, — сказал он, поднимаясь со стула и глядя на нее сверху вниз. Она покачала головой. — Неправда. — Правда, правда. — Нет, неправда. — Встаньте, Стефани. Подойдите ко мне, посмотрите мне в глаза. Вы такая высокая, стройная и грациозная. Вы — экзотический цветок. Он обнял ее, а она слегка вздохнула и изогнулась, как лоза, отстраняясь от него. — Мне кажется, мы не должны этого делать. Ведь нехорошо, правда? — наивно спросила она, после минутного молчания выскальзывая из его объятий. — Стефани! — Мне теперь, пожалуй, пора домой.Стефани Плейто.
Глава 26
Любовь и борьба
И вот в ту пору, когда Каупервуд начинал воевать за городской железнодорожный транспорт Чикаго, возникла эта связь, значительно более серьезная, чем многие предшествовавшие ей. Стефани Плейто сумела возбудить в Каупервуде весьма пылкие чувства. После нескольких тайных свиданий с девушкой Каупервуд, действуя по уже установившемуся шаблону, снял холостую квартиру в деловой части города — удобное прибежище для любовных встреч. Однако ни частые свидания, ни долгие беседы не помогли ему ближе узнать Стефани. Она была очаровательна — редкостная находка в трезвом, будничном Чикаго, — но вместе с тем загадочна и неуловима. Они часто завтракали вместе, болтали; Стефани посвятила Каупервуда в свои честолюбивые замыслы, рассказала; как нуждается она в духовной поддержке, в преданном друге, который верил бы в ее талант и тем укреплял бы ее веру в себя. Вскоре он уже все знал о ее семье, о знакомых, о закулисной жизни «гарриковцев», о нараставшем разладе в труппе. Однажды, когда они сидели вдвоем в своем укромном гнездышке и страсть уже начинала заглушать в них голос рассудка, Каупервуд спросил, имела ли она раньше… — Только раз, — с самым простодушным видом призналась Стефани. Такое открытие было большим ударом для Каупервуда. А он-то думал, что эта девушка свежа и нетронута! Но Стефани принялась уверять его, что все произошло совсем случайно, что она вовсе этого не хотела, нет, нет! Она говорила так искренне, так задушевно, с таким серьезным, задумчивым видом, с таким сокрушением, что Каупервуд был растроган. Бедная девочка. Это Гарднер Ноулз, призналась Стефани. Но его тоже нельзя особенно винить. Все случилось как-то само собой. Она сопротивлялась, но… Была ли она оскорблена? Да, конечно, но потом ей стало жаль Гарднера и как-то не хотелось причинять ему неприятности. Он такой славный мальчик, и сестра и мать у него очень милые. Каупервуд был озадачен. Правда, при его взглядах на жизнь открытия подобного рода не должны были производить на него ошеломляющего впечатления, но Стефани, такая юная и очаровательная! Нет, это ужасно! А папаша и мамаша Плейто — вот ослы-то! Позволять дочери жить в этой нездоровой атмосфере театральных подмостков и даже не приглядывать за ней как следует. Впрочем, он уже успел заметить, что приглядывать за Стефани было не так-то просто. Беспечное, чувственное и неуравновешенное создание, неспособное постоять за себя. Подумать только — спуталась с этим негодяем, да еще продолжает с ним дружить! Стефани клялась, впрочем, что после той единственной встречи эта связь оборвалась. Каупервуд не слишком верил ей. Она лгала, конечно, но что делать — его так тянуло к ней. Даже самое это признание было сделано столь непосредственно, наивно и романтично, что оно ошеломило, заинтересовало и даже как будто еще сильнее приворожило к ней Каупервуда. — Но послушай, Стефани, — настаивал он, снедаемый болезненным любопытством. — Это же не могло так, вдруг, кончиться? Что было потом? Что ты сделала? Она покачала головой: — Ничего. Каупервуд не мог не улыбнуться. — Ах, пожалуйста, не будем об этом говорить! — взмолилась Стефани. — Я не хочу. Мне больно вспоминать. Ничего больше не было, ничего! Она вздохнула, и Каупервуд задумался. Зло уже совершилось, и если он дорожит Стефани, — а он несомненно дорожил ею, — значит, нужно предать все это забвению — и только. Он смотрел на Стефани, сомневаясь, не доверяя. Сколько обаяния в этой девочке, в ее мечтательности, наивности, непосредственности и как чувствуется в ней одаренность! Может ли он отказаться от нее? Казалось, Каупервуд должен был бы понимать, что такой девушке, как Стефани, верить нельзя, тем более что не он первый пробудил ее чувственность, а настоящей всепоглощающей любви она к нему не испытывала. К тому же последние два года ее так избаловали лестью и поклонением, что целиком завладеть ее вниманием было нелегко. Правда, сейчас Каупервуд покорил ее обаянием своей силы. Разве это не восхитительно — видеть у своих ног такого замечательного, такого могущественного человека? — думала Стефани. В ее представлении он был не столько дельцом, сколько великим художником в области финансов, и Каупервуд вскоре это понял и был польщен. Стефани все больше и больше приводила его в восторг; он не ждал такого огня, ее страсть, хоть и сдержанная, не уступала его чувству. А как она принимала его подарки, с какой своеобразной ленивой грацией, так отличавшей ее от всех его прежних возлюбленных! У нее был такт, этим она напоминала ему Риту Сольберг, но в отличие от Риты она бывала порой так странно тиха и молчалива. — Стефани! — взывал тогда к ней Каупервуд. — Вымолви хоть слово! О чем ты думаешь? Ты грезишь наяву, как дикарка с берегов Конго. Но она сидела молча и только улыбалась своей загадочной улыбкой и так же молча принималась набрасывать его портрет или лепить бюст. Она вечно чертила что-то в своем альбоме. Потом внезапно, охваченная страстью, откладывала альбом в сторону и молча смотрела на Каупервуда или, опустив глаза, погружалась в глубокую задумчивость. Он протягивал к ней руки, и она с легким радостным вздохом устремлялась к нему. Да, это были восхитительные дни.Каупервуд держал совет с Эддисоном и Мак-Кенти относительно требования молодого Мак-Дональда уплатить ему пятьдесят тысяч акциями компании и не слишком благожелательной позиции, занятой другими издателями — Хиссопом, Брэкстоном, Рикетсом. — Прохвост! — лаконично изрек Мак-Кенти, выслушав рассказ Каупервуда. — В одном отношении он безусловно превзойдет своего папашу — загребет больше денег. Мак-Кенти видел генерала Мак-Дональда только однажды, но старик понравился ему. — Интересно, что сказал бы старый Мак-Дональд, узнай он про эти плутни, — заметил Эддисон, который очень любил старика. — Да он бы сразу потерял сон. — Тут нельзя упускать из виду одно обстоятельство, — подумав, заметил Каупервуд. — Этот молодой человек рано или поздно станет владельцем «Инкуайэрера». А он, мне кажется, не из тех, кто забывает обиды. — Каупервуд презрительно улыбнулся, и Мак-Кенти и Эддисон улыбнулись тоже. — Ну, там видно будет, — заметил последний. — Пока что он еще не хозяин газеты. Мак-Кенти, делившийся своими мыслями только с Каупервудом, подождал, пока они останутся наедине. — А что они могут сделать? — спросил он. — Ваше предложение практично и разумно. Почему бы городу не отдать вам этот туннель? Кому и на что он нужен — в таком виде, как сейчас? А что касается постройки петли — так ведь другим-то компаниям это разрешалось? Думается мне, что это все Чикагская городская железнодорожная и газовые компании мутят воду и подстрекают всех против вас, вкупе с этими зазнайками со Стэйт-стрит. Мне уже не впервой иметь с ними дело. Дайте им сорвать хороший куш — и они будут кричать, что это замечательное, высоконравственное начинание. Дайте поживиться кому-нибудь другому — и они завопят о грязных махинациях. На них нечего обращать внимание. Муниципалитет у нас в руках. Как только они вынесут решение — ваше дело в шляпе. Пусть попробуют доказать, что здесь что-нибудь не чисто. Мэр — человек толковый. Он живо подпишет то, что решат члены муниципалитета. А этот мальчишка Мак-Дональд может трепать языком, сколько ему угодно. Если он уж чересчур зарвется, — потолкуйте с его отцом. Ну, а Хиссоп — тот просто старая приживалка. Я еще никогда не видел, чтобы он поддержал какое-нибудь действительно полезное для города начинание, если только оно не на руку Шрайхарту, или Мэррилу, или Арнилу, или еще кому-нибудь из этой шайки. Я их не первый год знаю. Мой совет — послать их ко всем чертям и действовать. Они забрали в городе силу, а теперь забирайте ее вы, и тогда сразу все пойдет как по маслу. Больше они уж ничего задаром не получат. Они не очень-то шли мне навстречу, когда я нуждался в поддержке. Но Каупервуд молчал, холодно взвешивая все «за» и «против». Стоит ли давать взятку мистеру Мак-Дональду младшему? — спрашивал он себя. Эддисон считал, что Мак-Дональд не может оказать влияния на исход дела. В конце концов, обдумав все, Каупервуд решил держаться ранее намеченного плана. В результате репортерам — тем, что всегда толклись в кулуарах муниципалитета и были связаны с олдерменом Томасом Даулннгом, главным подручным Мак-Кенти в муниципалитете, а также от случая к случаю (по существу же довольно регулярно) заглядывали в контору Северо-чикагской транспортной, иными словами — в новую элегантную контору Каупервуда на Северной стороне, — дано было понять, что в самом непродолжительном времени муниципалитет примет два важных решения, а именно: передаст Северной компании в бессрочное и безвозмездное пользование — то есть попросту подарит — туннель на Ла-Саль-стрит и даст разрешение на прокладку новой петли городской железной дороги по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндолф. Каупервуд во время интервью весьма цветисто расписывал те усовершенствования, которые проводит и собирается проводить впредь Северо-чикагская транспортная и какое блестящее будущее это сулит Северной стороне и деловым кварталам города. Шрайхарт, Мэррил и прочие лица, связанные с Железнодорожной компанией Западной стороны, немедленно подняли крик в клубах и в редакциях газет, науськивая Брэкстона, Рикетса, молодого Мак-Дональда и других издателей на Каупервуда. Все они бешено завидовали Каупервуду, его головокружительным успехам. О том, что другие компании совершенно безвозмездно получали от города различные привилегии, как видно, успели уже позабыть, саркастически заметил по этому поводу Каупервуд. Ловкая махинация, проделанная Каупервудом с чикагскими газовыми компаниями, его смелая, хотя и безуспешная попытка проникнуть в чикагский «высший свет», его филадельфийские злоключения, которых он не скрывал, — все это заставляло ультраконсервативных дельцов города относиться к нему крайне настороженно. В «Кроникл», газете, финансируемой Шрайхартом, появилось сообщение, озаглавленное: «Наглое присвоение городского туннеля». Это был резкий выпад, и Каупервуд пришел в бешенство. С другой стороны, «Пресс», газета Хейгенина, встретила проект постройки новой петли в высшей степени сочувственно и выразила только некоторое сомнение насчет туннеля — следует ли отдавать его Каупервуду совершенно безвозмездно. Другой издатель, Хиссоп, почел своим долгом заявить, что чисто номинальной компенсации за туннель, разумеется, недостаточно, и кроме того, если уж разрешать постройку; петли, то нужно обязать при этом Северную компанию содержать в порядке предоставленные в ее распоряжение улицы, заботиться об их ремонте и освещении. «Инкуайэрер», в котором все еще хозяйничали мистер Дю-Буа и мистер Мак-Дональд младший, метал громы и молнии. Чикаго не отдаст свои туннели безвозмездно. Никаких концессий на прокладку новых линий в деловой части города! Правда, по адресу самого Каупервуда не было сказано ни слова. «Глоб», газета мистера Брэкстона, выражала уверенность, что попытка завладеть туннелями не увенчается успехом, а петлю предлагала проложить по Стэйт-стрит, либо по Уобеш авеню, либо по обеим этим улицам (где, кстати сказать, помещались магазины мистера Мэррила), так как это якобы создавало больше удобств для населения. Подобные заметки появлялись изо дня в день, и это достаточно красноречиво свидетельствовало. о том, в какой мере газетная полемика отражала подлинные интересы населения. Каупервуд, не желавший считаться ни с кем, неизменно самоуверенный, проявлял полное равнодушие к проискам врагов, хотя в душе и был раздосадован, что так кончились все его заигрывания с прессой! Что ж, Мак-Кенти был прав — нужно действовать, нужно прежде всего показать им свою силу. Когда по вновь проложенным путям побегут вагоны канатной железной дороги и ярко засияет огнями отремонтированный туннель, когда заторам и давке у мостов будет положен конец, население увидит, какую пользу принес городу Фрэнк Алджернон Каупервуд, и станет на его сторону. Наконец все было готово, и проект Каупервуда протащили через муниципалитет. Мак-Кенти, не будучи вполне уверен в исходе дела, приказал поставить себе кресло-качалку прямо в зале совещаний. В этом кресле он восседал все время, пока обсуждался проект, — не более как посторонний зритель с виду, истинный вдохновитель и режиссер этой постановки по существу. Все, в том числе и Каупервуд, узнали о поступке Мак-Кенти, когда ничего уже нельзя было поделать. Прочтя весьма язвительное описание этой выходки в газетах, Эддисон и Видера, словно по команде, удивленно подняли брови и тут же нахмурились. — Да-а, грубая, я бы сказал, работа, — протянул Эддисон. — Я думал, что у Мак-Кенти больше такта. Вот оно — ирландское воспитание. Александр Рэмбо, неизменный поклонник и почитатель Каупервуда, просмотрев газеты, не поверил своим глазам: неужели Каупервуд и вправду стакнулся с этим проходимцем Мак-Кенти и окончательно пренебрег общественным мнением? Проект Каупервуда казался мистеру Рэмбо настолько дельным и целесообразным, что он решительно не понимал, как можно против него возражать и зачем Мак-Кенти и Каупервуду понадобилось прибегать к подобным методам? Но как бы то ни было, а Каупервуд добился своего — он получил концессию на постройку петли, и туннель был сдан ему в аренду сроком на девятьсот девяносто девять лет за пять тысяч долларов в год. При этом было обусловлено, что Каупервуд должен отремонтировать все три старых моста в конце Стэйт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит или поставить новые. Однако в решении муниципалитета имелась какая-то юридическая «закорючка», которая фактически аннулировала это условие. В местной печати тотчас разразилась буря. Особенно неистовствовали «Кроникл», «Инкуайэрер» и «Глоб», но Каупервуд только улыбался, просматривая газеты. «Пусть себе вопят, — думал он. — Мое предложение выгодно для всех. Чего они бесятся? Я делаю сейчас для города больше, чем Чикагская городская железнодорожная. Это просто зависть, и ничего больше. Будь на моем месте Шрайхарт или Мэррил, никто бы и не подумал возмущаться». Мак-Кенти зашел в контору Чикагского кредитного общества, чтобы принести свои поздравления Каупервуду. — Ребята не подкачали, — сказал он. — Недаром я на них надеялся. Но все же пришлось самому торчать там: меня предупредили, что десяток этих молодчиков договорились угробить наш проект в последнюю минуту. — Ничего не скажешь, чистая работа, — весело отвечал Каупервуд. — Вся эта шумиха скоро уляжется. С чем бы мы ни обратились в муниципалитет, все равно поднялся бы крик. Но теперь атмосфера разрядится. Мы создадим первоклассный транспорт, и все будут только рады, что отдали нам этот туннель. Тем не менее на следующий день после заседания муниципального совета многие влиятельные лица города возмущались и негодовали, обсуждая вынесенное решение. Мистер Норман Шрайхарт кипел от возмущения и разносил Каупервуда в финансируемой им газете; встретившись с издателем Рикетсом, он поглядел на него довольно хмуро. — Итак, — произнес сей финансовый туз, уже предвидевший впереди новую беду: покушение на его драгоценный заповедник — Чикагскую городскую железнодорожную, — я вижу, что наш друг, мистер Каупервуд, ухитрился все-таки вырвать у муниципалитета этот туннель. Будьте уверены, уж он не жалеет денег на взятки, когда ему нужно чего-нибудь добиться. Скользкий и увертливый, как угорь. Недурно было бы установить, что между ним и разными политиканами, которые вьются вокруг городского самоуправления, существует сговор; или хотя бы между ним и Мак-Кенти. Я уверен, что Каупервуд задумал все прибрать здесь к рукам — все доходные предприятия города, муниципалитет, все! За ним нужно зорко следить. Нужно восстановить против него общественное мнение, тогда — придет час, и мы его свалим. Чикаго покажется ему самым неуютным местом на земле! А с Мак-Кенти я хоть и знаком, но предпочитаю никаких дел не иметь. Мистер Шрайхарт вел свои дела в муниципалитете через посредство почтенных, но не слишком расторопных стряпчих, состоявших на службе у Южной компании. Добраться до Мак-Кенти им было просто не под силу. Рикетс, как оказалось, целиком разделял мнение своего патрона. — Вы правы, вы безусловно правы! — воскликнул он, тараща свои совиные глаза, поправляя манжеты и стараясь приладить на место отвисшую пуговицу жилетки. — Мак-Кенти хозяйничает там вовсю. Нужно глядеть в оба, если мы хотим поймать его. По правде говоря, мистер Рикетс с радостью переметнулся бы на сторону Каупервуда, не будь он слишком многим обязан Шрайхарту, и не потому, что Каупервуд успел расположить его к себе, — просто издатель распознал в нем человека с будущим. Тем временем в редакции газеты «Инкуайэрер» мистер Мак-Дональд младший вел беседу с мистером Дю-Буа. Мысль о том, как мало он достиг своим телефонным звонком к Каупервуду, не давала покоя мистеру Мак-Дональду, и он пребывал в желчном и раздраженном состоянии духа. — Ну что ж, наш друг Каупервуд не захотел, как видно, воспользоваться дружеским советом, — заметил он. — Сейчас ему удалось добиться своего, но пусть он не думает, что «Инкуайэрер» уже свел с ним счеты. Ему еще не раз придется обращаться в муниципалитет. Клиффорд Дю-Буа с затаенным любопытством наблюдал за молодым патроном. Он решительно ничего не знал о некоем телефонном разговоре между ним и Каупервудом, но зато очень хорошо знал, как поступил бы он с этим финансистом, доводись ему оказаться на месте Мак-Дональда младшего. — Да, Каупервуд — ловкая бестия, — заметил он. — Причард, наш человек в муниципалитете, говорит, что этот Каупервуд вместе с Мак-Кенти уже подкупил там всех — от младшего клерка до самого мэра, — и теперь они могут добиться всего, чего бы ни пожелали. Том Даулинг пляшет под их дудку, а вы сами понимаете, что это значит. Старый генерал Ван-Сайкл тоже работает на них, а уж этот дряхлый стервятник всегда вьется там, где есть чем поживиться. — Да, нюх у него хороший, — согласился Мак-Дональд. — Но Каупервуду все это не долго будет сходить с рук. Он чересчур зарвался. Слишком уж у него большой аппетит. Мистер Дю-Буа усмехнулся про себя. Его немало позабавило то, как Каупервуд, словно от назойливой мухи, отмахнулся от молодого Мак-Дональда к всех его претензий и отказался до поры до времени от услуг «Инкуайэрера». В глубине души мистер Дю-Буа был почти уверен, что, не будь старый генерал сейчас в отъезде, он, вероятно, поддержал бы этого весьма предприимчивого дельца. Каупервуд же, присвоив туннель на Ла-Саль-стрит и завладев четырьмя центральными улицами делового квартала для прокладки своей пресловутой петли, теперь в течение восьми месяцев готовился к выполнению второй части плана, а именно: к захвату туннеля на Вашингтон-стрит, с тем чтобы прибрать к рукам и Железнодорожную компанию Западной стороны, которая все еще продолжала гонять по улицам свои ветхозаветные конки. Вся история атаки на Северо-чикагскую железнодорожную повторилась тут снова, и даже без особых изменений, ибо обычные держатели акций, как правило, народ чрезвычайно нервный, неустойчивый и пугливый. Они подобны моллюску, который, чуть что, прячется в свою раковину и замирает там в полной неподвижности. Налоговый отдел муниципалитета, смотревший раньше сквозь пальцы на несвоевременную уплату налогов Западной компанией, теперь начал вдруг предъявлять к ней иск за иском. Отдел городского благоустройства не менее внезапно заинтересовался плохим состоянием улиц на Западной стороне. Управление городского водопровода вдруг при помощи какого-то удивительного трюка обнаружило, что Западная компания ворует воду. В это же самое время любезные, обходительные агенты Каупервуда, Кафрата, Эддисона, Видера и других стали наведываться то к одному акционеру или члену правления Западной компании, то к другому и расписывать, какое процветание и благоденствие наступит для этой компании, если она согласится уступить на известный срок пятьдесят один процент из тысячи двухсот пятидесяти принадлежащих ей акций на баснословно выгодных условиях — по шестисот долларов за каждую двухсотдолларовую акцию, плюс тридцать процентов гарантированного дохода на все остальные акции. Ну как тут было устоять? Лупи собаку палкой, мори ее голодом, потом ласкай, подкармливай, снова лупи и снова приручай подачками, и в конце концов она начнет проделывать любые фокусы. Этот метод был хорошо известен Каупервуду. Его агенты, действовавшие и угрозами и подачками, были неутомимы. В конце концов — и ждать этого пришлось не так уж долго — члены правления и главные акционеры Западной компании сдались, и не успел никто оглянуться, как Железнодорожная компания Западной стороны уже передала свою собственность Северо-чикагской транспортной, а та в свою очередь переуступила ее Чикагской городской пассажирской, созданной Каупервудом в целях захвата туннеля на Вашингтон-стрит. Но как, как удалось ему все это проделать? — изумлялись чикагские дельцы. Кто эти лица или фирмы, располагающие такими огромными средствами? Ведь подумать только — из тысячи двухсот пятидесяти акций, принадлежавших старушке Западной, они получили шестьсот пятьдесят, уплатив за каждую акцию по шестьсот долларов, да еще обязались выплачивать тридцать процентов ежегодно на все оставшиеся акции! А сооружение канатных дорог! Откуда берутся такие средства? Ответ был прост, стоило лишь пораскинуть мозгами. Каупервуд раздобыл их под будущие доходы. И вот, прежде чем кто-либо, в том числе и газеты, успел заявить протест, толпы людей были уже за работой. День и ночь в деловой части города стучали молоты, пылали факелы, превращая эти кварталы в некое подобие ада. Прокладывалась первая линия канатной железной дороги. Восстановительные работы в туннеле на Ла-Саль-стрит шли полным ходом. То же самое происходило на Северной и Западной сторонах: закладывались первые бетонированные желоба для тросов, строились новые тяговые и прицепные вагоны, новые вагонные парки, воздвигались огромные, сияющие огнями силовые станции. Горожане, привыкшие томиться в ожидании у мостов и мерзнуть в неотапливаемых, устланных соломой вагонах конки, с грохотом подскакивающих на расшатанных рельсах, ждали с великим нетерпением, каков будет этот новый вид транспорта. Туннель на Ла-Саль-стрит уже сверкал свежей белой штукатуркой в ослепительных лучах электрических фонарей. По длинным улицам и проспектам Северной стороны протянулись бетонированные желоба и тяжелые устойчивые рельсы. Наконец постройка силовых станций здесь была закончена, и новая диковинная система пущена в ход. Западная сторона старалась не отстать от Северной. Шрайхарт и его присные были ошеломлены такой быстротой действий, такой головокружительной фантасмагорией финансовых махинаций. В глазах консервативных магнатов чикагского городского железнодорожного транспорта этот делец из Восточных штатов был каким-то легендарным великаном, который готовился пожрать весь город. Чикагское кредитное общество, созданное им совместно с Эддисоном, Мак-Кенти и другими для всяческих манипуляций с выпусками долговых обязательств, процветало, причем, по слухам, и там фактически всем заправлял Каупервуд. Как видно, он мог уже выписывать чеки на миллионы долларов, даже не прибегая к займам у чикагских архимиллионеров. Самым чудовищным и возмутительным было то, что этот выскочка, этот острожник, этот проходимец Каупервуд, которого они сплоченными усилиями старались задушить как финансиста и подвергнуть остракизму, становился весьма популярной личностью в глазах чикагских горожан. Только и слышно было: «Каупервуд полагает… Каупервуд придерживается того взгляда…» Газеты — даже те, что были настроены враждебно, — уже не решались пренебрегать им. Все денежные тузы, фактические хозяева газет, вынуждены были признать, что у них появился новый и весьма серьезный противник, достойный скрестить с ними шпагу.
Глава 27
Очарованный финансист
Интересно отметить, что в самый разгар всех этих событий, когда в орбиту деятельности предприятий городского железнодорожного транспорта были вовлечены уже тысячи и десятки тысяч людей, Каупервуд, энергичный и неутомимый, как всегда, находил время отдыхать и развлекаться в обществе Стефани Плейто. Духовный облик и обаяние Риты Сольберг как бы возродились для него в этой девушке. Однако Рита была ему верна; пока Каупервуд любил ее, она не помышляла об измене. Даже по отношению к Гарольду Рита долгое время была безупречна, хотя знала, что он напропалую волочится за другими женщинами. Стефани же, наоборот, казалось непонятным, почему, любя, нужно хранить верность; она могла любить Каупервуда и с легким сердцем его обманывать. Да и любила ли она его? И да и нет. Чувственная и ленивая, Стефани отличалась вместе с тем каким-то наивным простодушием и добротой. Ей казалось невозможным порвать с Гарднером Ноулзом или Лейном Кроссом — ведь оба они такие милые и всегда были добры к ней. Гарднер Ноулз везде и всюду восхвалял ее талант, надеясь, что слава о ней дойдет до профессиональных театров, приезжавших в Чикаго на гастроли, и она будет принята в труппу и со временем станет знаменитостью. А Лейн Кросс — тот попросту был влюблен в нее без памяти, что делало разрыв с ним особенно тяжелым и вместе с тем, рано или поздно, — неизбежным. А потом появился еще третий — молодой поэт и драматург по имени Форбс Герни, высокий, белокурый, восторженный… Он ухаживал за Стефани, вернее — она кокетничала с ним в свободные минуты. Впрочем, у нее на все хватало времени, ибо Стефани не пожелала посещать колледж, как ее старшая сестра, заявив, что предпочитает «свободно развивать свои художественные вкусы и способности», чем она и занималась, то есть, попросту говоря, бездельничала. Каупервуд постоянно слышал от нее рассказы о жизни их театрального мирка. Сначала он относился к ее болтовне с добродушной иронией. Стефани была в его глазах восторженным ребенком, увлеченным романтической атмосферой подмостков. Мало-помалу, однако, ее беспорядочный образ жизни начал возбуждать его любопытство. То она спешила к Лейну Кроссу, в его мастерскую, то проводила вечер на холостой квартире Блисса Бриджа, где, по ее словам, он всегда принимал «гарриковцев», то, после спектакля, отправлялась на очередную актерскую пирушку к Гарднеру Ноулзу, в его домик на Северной стороне. Каупервуд находил, что она ведет слишком свободную и независимую, чтобы не сказать больше, жизнь, но… такова была ее натура. Все же подозренье начало закрадываться в его душу. — Где ты была вчера, Стефани? — допытывался он, когда они завтракали вместе, или гуляли, или катались по городу. — О, вчера утром я была у Лейна Кросса, в его мастерской — примеряла индусские шали и покрывала. У него их такая уйма — оранжевые, синие, чудо как хороши! Как бы я хотела показаться тебе в них! Надо будет это непременно устроить. — Ты была одна? — Сначала одна. Я думала, что там будут Блисс Бридж и Этель Такермен, но они запоздали. Лейн Кросс такая прелесть! Он немножко чудак, но я очень люблю его. Его портреты удивительно оригинальны. И она принималась расхваливать претенциозное и пустое искусство этого художника. Каупервуд дивился — не портретам Лейна Кросса и не его шалям, — а тому миру, в котором нравилось жить Стефани. Он все еще не мог до конца постичь ее. Не мог заставить вразумительно объяснить всю историю ее отношений с Гарднером Ноулзом, которые, по ее заверениям, оборвались так внезапно. С тех пор как она рассказала ему об этом, сомнение не покидало его, ибо он был недоверчив по натуре. Но Стефани была так мила, так ребячлива, так непоследовательна и противоречива в своих поступках, что он терялся, не зная, что и думать. Она была прелестна, как цветок, и неуловима, как дуновение ветерка. А с цветком ведь не станешь пререкаться — особенно если ты эстет по натуре. Порой Стефани дарила ему блаженные минуты, восторг весеннего обновления, когда, припав к нему с затуманенным взором, забывалась в его объятиях. Она умела так тонко, с такой артистичностью болтать обо всем — о порыве ветра, облаках, озере, пыли, заклубившейся над дорогой, о контурах здания, завитке дыма. Прикорнув у него на коленях, она читала ему длинные монологи из «Ромео и Джульетты» или «Паоло и Франчески», из «Кольца и Книги» или «Кануна дня святой Агнессы» Китса. Каупервуд боялся потерять ее — она казалась ему дикой розой или ожившим произведением искусства. Ее альбом всегда был полон новых набросков. В ее муфте или в легкой шали, которую она носила летом, постоянно можно было обнаружить какую-нибудь только что вылепленную статуэтку. Неуверенно, застенчиво, как ребенок, она показывала ее Каупервуду, и, если статуэтка вызывала похвалу, если она ему нравилась, он получал ее в подарок. Каупервуд много думал о Стефани, но не мог ее понять. В конце концов это состояние неуверенности, в котором он теперь постоянно пребывал, и вечные подозрения стали его злить и раздражать. Когда Стефани была с ним, она ласкалась и льнула к нему, но он видел, что и вдали от него она веселится и радуется жизни. Каупервуду впервые приходилось допытываться у своей возлюбленной, любит ли она его, — до сих пор он привык сам выслушивать подобные вопросы от женщин. Каупервуд полагал, что его положение, богатство, открывавшиеся перед ним блестящие возможности должны крепко-накрепко привязать к нему любую женщину, однажды с ним сблизившуюся. Но Стефани была слишком молода и слишком поэтически настроена, чтобы всецело подпасть под обаяние богатства и громкого имени, а к тому же, видимо, недостаточно сильно увлечена Каупервудом. Она по-своему любила его, но ее новый приятель Форбс Герни тоже волновал ее воображение. Этот высокий, белокурый юноша с карими глазами и меланхолической улыбкой был очень беден. Он приехал в Чикаго из южной Миннесоты с несколько неопределенным намерением посвятить себя не то репортажу, не то поэзии, не то драматургии. А пока что добывал свой хлеб, работая агентом в мебельной фирме, — занятие, дававшее ему возможность с трех часов пополудни быть свободным. Одновременно он пытался, вернее — мечтал, завязать знакомства в мире чикагских журналистов, и его «открыл» Гарднер Ноулз. Стефани впервые встретила Герни за кулисами у «гарриковцев». Она внимательно оглядела его удлиненное лицо в ореоле светлых волнистых волос, большой, красиво очерченный рот, прямой нос, глаза, обведенные томной синевой, и ей казалось, что она читает в этом лице какую-то затаенную тоску и страстную жажду жизни. Однажды Гарднер Ноулз принес переписанную от руки поэму этого юноши и прочел ее вслух всей компании — Стефани, Этели Такермен, Лейну Кроссу и Ирме Отли. — Вот, послушайте, — сказал Гарднер Ноулз, вытаскивая из кармана тетрадку. В поэме описывался волшебный сад, залитый лунным светом и напоенный ароматом цветущих деревьев, таинственная заводь и призрачные фигуры, пляшущие под мелодичные переливы музыки. И флейты плач и ропот тамбурина В мелодии сливались воедино. Стефани Плейто слушала, затаив дыхание; эти стихи были в ее вкусе, они задевали самые чувствительные струны ее души. Она попросила дать ей поэму и прочитала ее всю от начала до конца. — По-моему, это очаровательно, — сказала она. С того дня Стефани постоянно искала встречи с Форбсом Герни. Зачем? Она и сама не знала. Это даже не было кокетством. Она просто тянулась к нему, ей нравилось беседовать с ним о сцене, о пьесах, в которых она играла, о своих честолюбивых замыслах. Она сделала с него несколько набросков — точно так же, как делала наброски с Каупервуда и других. Каупервуд, перелистывая ее альбом, обнаружил эти рисунки, на которых Форбс Герни был явно идеализирован и представлен в самом романтическом ореоле. — Кто это? — осведомился Каупервуд. — О… это один молодой поэт, он часто бывает в нашем театре, Форбс Герни. Очаровательный — правда? У него такое бледное, мечтательное лицо. Каупервуд с ироническим любопытством рассматривал рисунки. Глаза его потемнели. — Еще один из свиты Стефани, — заметил он насмешливо. — Я вижу, что мне довелось примкнуть к довольно многолюдной процессии: Гарднер Ноулз, Лейн Кросс, Блисс Бридж, Форбс Герни… Стефани капризно надула губки. — Зачем ты так говоришь, Фрэнк! Блисс Бридж, Гарднер Ноулз! Конечно, я дружу с ними, я этого не скрываю, но и только. Они все очень милые и славные. Я уверена, что тебе бы понравился Лейн Кросс, — он такая забавная старая мартышка. А этот Форбс Герни просто заходит к нам иногда за кулисы вместе с другими зрителями. Я почти незнакома с ним. — Ну, конечно, — мрачно проговорил Каупервуд. — Однако ты рисуешь с него портреты. На этот раз Каупервуд инстинктивно не поверил Стефани. Да, собственно, он никогда ей не верил, ни единому ее слову. Но он был сильно увлечен ею, и, быть может, именно потому, что вечно в ней сомневался. — Скажи мне правду, Стефани, — осторожно, но настойчиво сказал он ей однажды. — Ты знаешь, я не ревную к прошлому. Но мы с тобой настолько близки, что не должны ничего скрывать друг от друга. А ведь ты кое-что утаила от меня, когда рассказывала про Ноулза, верно? Скажи мне теперь правду, все как есть. Я прекрасно понимаю, как это могло случиться, и не придаю значения прошлому; для меня оно ничего не меняет, но я хочу знать правду. Он поймал ее врасплох — она не была подготовлена к этой новой атаке. Тревога порой закрадывалась в ее сердце, когда она думала о тех, кого обманывала, и в такие минуты ей хотелось покончить с этим, быть честной, любить только одного Каупервуда… или кого-то другого, кто ей дороже… По сравнению с Каупервудом, с его блестящей карьерой, Кросс и Ноулз казались ей ничтожными и тривиальными, и все же… все же Ноулз нравился Стефани. Форбс Герни рядом с Каупервудом был просто жалкий нищий, зато… зато он был так поэтичен, так привлекателен в своей томной печали, и Стефани горячо сочувствовала ему. Он совсем одинок, этот мальчик! А Каупервуд такой сильный, уверенный в себе, такой обаятельный. Быть может, ей просто захотелось облегчить душу? Как бы то ни было, но Стефани сказала вдруг: — Да, правда, я не все рассказала тебе тогда. Мне было как-то стыдно. Впрочем, и на этот раз ложь мешалась с правдой в ее словах: она призналась лишь в том, что у нее были еще встречи с Ноулзом. Каупервуд, слушая ее лепет, горел негодованием. Зачем связался он с этой лживой потаскушкой? Итак, в двадцать один год эта особа, не задумываясь, меняет любовников. Но она была так красива, так удивительно своеобразна; даже в этом ее бесстыдстве и своеволии была какая-то притягательная сила. Нет, он не мог отказаться от нее. Каупервуд чувствовал, что она чем-то сродни ему самому. — Ты странная девушка, Стефани, — сказал он, усилием воли подавляя желание сказать ей что-то резкое, оскорбительное и расстаться с ней навсегда. — Почему ты сразу не рассказала мне все? Я же тебя спрашивал! Десятки, сотни раз. И ты еще уверяешь, что любишь меня! — Как можешь ты так говорить! — с упреком воскликнула она, чувствуя, что допустила промах. А вдруг он бросит ее теперь? Стефани отнюдь этого не хотелось. Она заметила злой, ревнивый блеск его глаз и внезапно разрыдалась. — Ах, лучше бы я тебе ничего не рассказывала. Ведь и говорить-то даже не о чем. Я же совсем этого не хотела! Каупервуд был озадачен. Он знал людей, и женщин в особенности. Здравый смысл подсказывал ему, что этой девушке нельзя верить, но он не мог противиться своему влечению к ней. Быть может, она все-таки не лжет и эти слезы непритворны? — И ты хочешь уверить меня, Стефани, что у тебя действительно больше никого не было — ни до, ни после? Стефани утерла слезы. Этот разговор происходил в холостой квартире Каупервуда на Рэндолф-стрит, снятой им специально для своих любовных похождений. — Я вижу, ты совсем не любишь меня! — с горьким укором воскликнула Стефани. — Ты совсем не понимаешь меня и не веришь мне, должно быть. Когда я рассказываю тебе, как это было, ты не хочешь понять. Я же не лгу. Я не могу лгать. Если ты мне не веришь, так лучше нам больше не встречаться. Я хотела быть правдивой и откровенной с тобой, но если ты не хочешь мне верить… Голос ее оборвался, она тяжело, скорбно вздохнула и умолкла, а Каупервуд смотрел на нее, и ему хотелось притянуть ее к себе… Какую необъяснимую власть имела над ним эта девочка! Он не верил ей, но не находил в себе сил с ней расстаться. — Право, Стефани, ты ставишь меня в тупик, — проговорил он угрюмо. — Разумеется, я вовсе не хочу ссориться с тобой из-за того, что ты сказала мне правду. Но только прошу тебя, не обманывай меня. Ты необыкновенная девушка. Я могу очень много для тебя сделать, если ты захочешь. Ты должна это понять. — Но я же не обманываю тебя, — повторила она устало. — Разве ты сам этого не видишь? — Хорошо, я верю тебе, — сказал Каупервуд, стараясь обмануть самого себя наперекор рассудку. — Но ты ведешь такой рассеянный, такой, я бы сказал, фривольный образ жизни… «Вот оно что! — подумала Стефани. — Я, как видно, слишком много болтаю». — Я люблю тебя, Стефани. Я восхищаюсь тобой. Ты мне очень дорога. Не обманывай меня. Перестань ты встречаться с этими глупыми мальчишками. Поверь, они не стоят тебя. Я скоро добьюсь развода и женюсь на тебе. — Да что же дурного в том, что я с ними встречаюсь? Мне с ними весело, они меня развлекают — вот и все. Лейн Кросс просто душечка, и Гарднер Ноулз тоже по-своему очень мил. И все они так добры ко мне. Каупервуд был задет за живое, услыхав, что Лейн Кросс «душечка». Это взбесило его, и все же он сдержался. — Дай мне слово, Стефани, что ты ничего не позволишь себе с этими субъектами до тех пор, пока мы с тобой любим друг друга, — сказал он почти молящим тоном, что далеко не входило в привычки Фрэнка Алджернона Каупервуда. — Я не хочу делить тебя ни с кем. И не стану. Я не ревную к тому, что было прежде, но требую, чтобы впредь ты была мне верна. — Ну, что ты говоришь, Фрэнк! Конечно, я буду тебе верна. Но если ты мне не веришь, если… ах, господи боже мой! — она горестно вздохнула, а Каупервуд смотрел на нее и хмурился, с трудом подавляя шевелившиеся в нем подозрения и ревность. — Хорошо, хорошо, Стефани, я уже сказал, что верю тебе. Верю на слово. Но если ты обманешь меня и я об этом узнаю, больше ты меня не увидишь. Повторяю, я не стану делить тебя ни с кем. Если хочешь знать, я просто не понимаю, как ты можешь, если только ты действительно меня любишь, находить удовольствие в обществе всех этих бездельников. Неужели все дело только в твоей безумной страсти к театру? Не может этого быть! — Ну вот, я вижу, ты снова хочешь поссориться со мной! — ребячливым тоном воскликнула Стефани. — Я все время твержу тебе, как я тебя люблю, а ты просто не хочешь мне верить. Ну что ж, тогда, тогда… — И призвав на помощь все свое актерское мастерство, Стефани неудержимо разрыдалась. Каупервуд заключил ее в объятия. — Успокойся, успокойся, Стефани, — нежно сказал он. — Я верю тебе. Верю, что ты любишь меня. Хотелось бы мне только, чтобы ты не порхала по жизни, как мотылек. Итак, эта первая размолвка закончилась примирением.Глава 28
Разоблачение Стефани
Но Стефани меньше всего помышляла о том, чтобы как-то упорядочить свою жизнь и сохранить верность Каупервуду. Не судите ее слишком строго. Неустойчивое, увлекающееся создание, ярко выраженная артистическая натура, она росла почти без присмотра в семье, которая не могла ни должным образом направить, ни воспитать ее. Каупервуд очень нравился Стефани своей энергией, силой своего характера. Но Форбс Герни нравился ей тоже, вернее — окружавший его поэтический ореол. При каждой новой встрече Стефани с любопытством приглядывалась к этому юноше. Он был застенчив, замкнут, чуждался ее, но она решила разбить этот лед. Она видела, что он робок, беден, одинок, и это будило в ней чисто женскую потребность заботиться о нем. Цели своей она достигла без труда. Как-то развечером Стефани и Форбс Герни сидели на борту легкой маленькой яхты Блисса Бриджа и, прислонясь к мачте, любовались серебристой лунной дорожкой за кормой. Вся остальная компания «убивала вечер» внизу в каюте: на палубу доносились взрывы смеха, веселые возгласы, пение. Все друзья Стефани уже заметили, что она увлечена Форбсом Герни. Его находили очаровательным, ее — своенравной, и решено было не мешать им, хотя, разумеется, не обошлось и без шуток по их адресу. Форбс Герни был наивен и неопытен по части любовных похождений; счастье само давалось ему в руки, но он не знал, как его взять. Он рассказывал Стефани о своем детстве, которое протекло среди пшеничных полей Северо-Запада, о том, как его семья уехала из Огайо, когда ему было всего три года, и как с малых лет он познал тяжелый труд землепашца. Не раз, оставив плуг в борозде, он отходил в сторонку и, стоя под деревом, изливал нахлынувшие на него мысли и чувства в простых, безыскусственных стихах, или, следя за полетом птиц, мечтал о том, как уедет в Чикаго и поступит учиться в колледж. Стефани слушала, устремив на него задумчивый взгляд, в лунном свете ее кожа казалась бронзовой, а черные волосы отливали синевато-стальным блеском. Форбс Герни отнюдь не был нечувствителен к красоте. Собравшись в конце концов с духом, он отважился коснуться ее руки, не раз обвивавшей шею Ноулза, Кросса и Каупервуда. Стефани затрепетала. Этот мальчик был так очарователен. Она смотрела на его светлые, волнистые волосы, открытое юношеское лицо, и он казался ей молодым греческим богом. Она сидела не шевелясь, замерев в ожидании. — Если бы я мог сказать вам, что я сейчас чувствую, — пробормотал, наконец, Форбс Герни срывающимся от волнения голосом. Пальчики Стефани легли на его руку. — Вы — прелесть, Форбс, — прошептала она. Он понял, что не будет отвергнут. Восторг охватил его. Он тихонько погладил руку Стефани, потом робко обнял ее за талию. Стефани сидела в полуоборот-к нему, мечтательно запрокинув голову, и он, осмелев, коснулся губами ее смуглой щеки. Головка Стефани без промедления склонилась к нему на плечо, и он восторженно зашептал ей на ухо первое, что пришло ему на ум: как она божественно хороша, как изумительна, неповторима!.. С точки зрения Стефани все это могло иметь только один конец. Небольшого поощрения с ее стороны оказалось достаточно, чтобы он пришел к ней домой. Там она повела его наверх, в маленькую гостиную, показать свои книги, играла ему, пела. Очутившись, наконец, в его объятиях, она помогла ему побороть застенчивость. Форбс Генри понял, что она более сведуща, чем он предполагал… Каупервуд в эти дни был всецело поглощен устройством мощных силовых станций, установкой гигантских паровых двигателей, разработкой ставок заработной платы для своих рабочих, которых насчитывалось теперь на его предприятиях более двух тысяч и которые угрожали ему забастовкой, укреплением сводов и оборудованием туннеля на Ла-Саль-стрит, прокладкой новой петли по улицам Ла-Саль, Мунро, Дирборн и Рэндолф и выпуском акций своих новых предприятий. Однако непрошенная мысль нет-нет, да и закрадывалась к нему в голову: «А где сейчас Стефани, что она делает?» Время от времени она назначала ему свидания. Каупервуд заметил, что с тех пор, как он позволил себе однажды, воспользовавшись откровенностью Стефани, упрекнуть ее в легкомыслии и чересчур рассеянном образе жизни, ему приходилось все реже слышать о Гарднере Ноулзе, Лейне Кроссе и Форбсе Герни и все чаще о Джорджии Тимберлейк и Этели Такермен. Что значит эта внезапная скрытность? Раз как-то, впрочем, Стефани обронила несколько слов о Форбсе Герни, — ему так плохо живется, бедняжке, и костюм у него, к сожалению, оставляет желать лучшего. Сама Стефани благодаря щедрости Каупервуда щеголяла в ослепительных туалетах. Она без стеснения брала у него столько, сколько ей требовалось, чтобы одеться по своему вкусу. — Почему ты не пришлешь его ко мне? — спросил Каупервуд. — Я подыщу ему какое-нибудь занятие. — Пристроить мистера Герни на место, где можно было бы следить за каждым его шагом, показалось Каупервуду весьма заманчивым. Однако Форбс Герни не воспользовался этим великодушным предложением, а Стефани больше ни разу не заикалась о его бедственном положении. Как-то раз Каупервуд дал Стефани двести долларов и вскоре после этого встретил ее на Вашингтон-стрит в сопровождении Форбса Герни. Мистер Герни, бледный и томный, был, как ни странно, одет с иголочки. Каупервуд заметил у него в галстуке булавку, которую видел раньше у Стефани. Впрочем, она нимало не была смущена этой встречей. Прошло еще несколько дней, и Стефани обмолвилась, что Лейн Кросс, уезжая на лето в Нью-Хэмпшир, предложил ей пользоваться его студией. Каупервуд решил взять эту студию под наблюдение. Среди служащих Каупервуда был некто Фрэнсис Кеннеди, весьма честолюбивый молодой человек, работавший когда-то репортером в газете. Кеннеди напечатал в одном из воскресных номеров «Инкуайэрера» довольно бойкую статью о планах Каупервуда, попутно охарактеризовав и его самого как человека недюжинного. Статья понравилась Каупервуду, и когда Кеннеди однажды явился к нему и сказал, что репортерская работа ему надоела и он не прочь был бы попробовать свои силы в области городского железнодорожного транспорта, Каупервуд решил воспользоваться его услугами. — Могу предложить вам на первое время место секретаря, — любезно сказал он. — У меня есть для вас два-три особых поручения. Если вы с ними справитесь, я подыщу вам что-нибудь поинтереснее. Кеннеди недолго проработал у Каупервуда, когда тот сказал ему однажды: — Послушайте, Фрэнсис, вы, в вашем газетном мире, слышали когда-нибудь о молодом человеке по имени Форбс Герни? Разговор происходил в кабинете Каупервуда. — Нет, сэр, не слыхал, — отвечал Фрэнсис настораживаясь. — А о любительской студии под названием «Театр гарриковцев»? — Да, сэр, об этой студии я слышал. — А как вы думаете, Фрэнсис, могли бы вы выполнить одно поручение несколько щекотливого характера? Только сделать это нужно умно и осторожно. — Думаю, что могу, сэр, — сказал Фрэнсис. В это утро он выглядел настоящим щеголем — в новом коричневом костюме, гранатового цвета галстуке и до блеска начищенных ботинках. В манжетах мистера Фрэнсиса поблескивали сердоликовые запонки, а молодое лицо сияло здоровьем. — Так вот, послушайте, что мне от вас нужно. Одна молодая актриса из этой любительской студии, Стефани Плейто, посещает мастерскую некоего художника и режиссера Лейна Кросса. Мастерская помещается в так называемом Дворце нового искусства. Не исключено, что эта дама пользуется мастерской и в отсутствие хозяина, — все может быть. Вы должны выяснить, в каких отношениях находится эта особа с мистером Форбсом Герни. По некоторым деловым соображениям мне это надо знать. Кеннеди весь обратился в слух. — Вы не можете указать мне, где бы я мог для начала навести справки об этом мистере Герни? — спросил он. — Мне кажется, он близко знаком с неким критиком по имени Гарднер Ноулз. Можете потолковать с ним. Мне не нужно, разумеется, предупреждать вас, что мое имя упоминаться не должно. — Это само собой разумеется, мистер Каупервуд. Кеннеди удалился, размышляя, как бы ему получше выполнить это поручение. Репортерский нюх подсказал ему путь: Кеннеди прежде всего разыскал кое-кого из своих прежних коллег и выведал у них все, что только мог, относительно «Театра гарриковцев» и подвизавшихся в нем актрис. Предлогом послужило то, что он якобы пишет одноактную пьесу, которую хочет предложить этому театру. Затем Кеннеди отправился к Лейну Кроссу в его студию, решив выдать себя за репортера, желающего получить интервью. От лифтера он узнал, что мистера Кросса нет в городе. Студия была заперта. Мистер Кеннеди задумался на минуту. — А кто-нибудь пользуется этой студией в летнее время? — спросил он у лифтера. — Да, тут бывает одна молодая особа. Иногда… — А вы не знаете, кто она такая? — Знаю. Плейто ее фамилия. А почему вы спрашиваете? — Вот что, друг, — доверительно сказал Кеннеди, оглядывая довольно потрепанную одежду своего собеседника, — хочешь заработать десять долларов без особых хлопот? Лифтер, недельный заработок которого равнялся восьми долларам, навострил уши. — Я хочу знать, с кем бывает здесь эта мисс Плейто… когда она приходит… Ну, словом, все, что можно разведать. Если я выясню то, что мне нужно, я дам тебе пятнадцать долларов, а пока получай в задаток пятерку. У лифтера в эту минуту в кармане было шестьдесят пять центов. Он недоверчиво, но с большой готовностью посмотрел на Кеннеди. — А чем я могу вам помочь? — спросил он. — Я ведь здесь только до шести. От шести до двенадцати на лифте работает другой. — А нет ли у вас свободной комнаты по соседству с этой мастерской? — осведомился Кеннеди. Лифтер задумался. — Есть. Как раз напротив, через коридор. — Когда обычно приходит сюда эта особа? — В мое дежурство — иной раз с утра, иной раз после обеда. А как по вечерам — не знаю. — Одна приходит или с кем-нибудь? — Иногда с каким-то мужчиной, иногда с подружками. По правде-то говоря, я не особенно обращал на нее внимание. Кеннеди ушел насвистывая. С этого дня вышеупомянутая мастерская, в которой царила довольно легкомысленная атмосфера, подверглась самому пристальному наблюдению. Мистер Кеннеди то и дело слонялся по коридору, регистрируя каждое появление мистера Форбса Герни. Очень скоро ему удалось установить, как он, собственно говоря, и ожидал, что мистер Герни и мисс Стефани частенько остаются в студии вдвоем в самые неурочные часы. Иной раз мистер Герни, покинув студию вместе с компанией молодых людей и девиц, которые приходили туда повеселиться, вскоре тайком возвращался назад, иной раз и Стефани уходила вместе со всеми, но потом возвращалась вдвоем с мистером Герни. Эти тайные свидания бывали то очень коротки, то довольно продолжительны, и Кеннеди самым добросовестным образом наблюдал и записывал все дни, часы и длительность свиданий, а затем наутро эти сведения в запечатанном конверте попадали на письменный стол к мистеру Каупервуду. Тот был вне себя от ярости, но так было велико его увлечение Стефани, что он еще не мог ни на что решиться. Ему хотелось проверить, до какой степени лицемерия способна она дойти. Впервые в жизни Каупервуд оказался в положении обманутого и чувствовал себя в высшей степени непривычно и странно. Даже в часы самой напряженной деятельности колючая мысль о Стефани ни на минуту не покидала его. Где она сейчас? Что делает? Ее способность нагло и беззастенчиво лгать невольно напоминала Каупервуду его самого. Подумать только, что эта девчонка могла предпочесть ему кого-то другого, да еще теперь, когда он приобретал громкую славу преобразователя города. Это невольно наводило его на мысль о том, что он стареет, что более молодые соперники уже становятся для него опасны. И мысль эта язвила и жгла. Как-то, промучившись всю ночь горькими думами о Стефани, Каупервуд сказал наутро Кеннеди: — Я хочу, Фрэнсис, чтобы вы заставили этого лифтера, с которым вы там познакомились, подобрать ключ к студии, и пусть он позаботится, чтобы изнутри не было другого запора. Ключ вы дадите мне. Когда мисс Стефани, будет там вдвоем с этим мистером Герни, известите меня по телефону. И вот после нескольких недель неустанной слежки наступила развязка. Большая желтая луна висела в небе, дул теплый летний ветерок. Стефани забежала к Каупервуду в контору — предупредить, что она не может поехать с ним за город, как у них было условлено. Она спешит домой, на Западную сторону, так как у Джорджии Тимберлейк в этот вечер устраиваются игры и танцы в саду. Каупервуд слушал ее и понимал, что она лжет. Он был, как всегда, весел, любезен, острил и улыбался, но мысль о том, как бесстыдна эта девица, как нагло играет она свою роль и каким глупцом его считает, не шла у него из головы. Он говорил себе, что Стефани молода, обворожительна, темпераментна и от природы ветрена и непостоянна, но не мог простить ей, что она не любила его так же беззаветно, как любили другие женщины. На Стефани было легкое белое платье в черную полоску и широкополая соломенная шляпа с белой в черную полоску вуалью вокруг тульи и ярко-пунцовым цветком мака, свисающим над левым ухом. Она показалась Каупервуду особенно юной и задорной в этом наряде. «Смесь современной цивилизации и древнего Востока», — невольно подумал он. — Собираешься повеселиться, малютка? — спросил он, ласково улыбаясь и не сводя с нее своих загадочных, непроницаемых глаз. — Мы сегодня опять намерены блистать в компании наших очаровательных молодых друзей? Вся свита будет в полном сборе, я полагаю? Мистер Блисс Бридж, мистер Ноулз, мистер Кросс — все твои верные пажи и партнеры по танцам? Он ни словом не обмолвился о Форбсе Герни. Стефани весело кивнула. Она пребывала в самом безмятежном и праздничном расположении духа. Каупервуд улыбался, думая о том, что скоро, очень скоро он будет отомщен. Он уличит ее во лжи, поймает на месте преступления — в этой самой студии, быть может, — и с презрением прогонит прочь, навсегда. Случись это в прежние времена, и не здесь, а например, в Турции, он приказал бы удушить ее, зашить в мешок и бросить в Босфор. Теперь в его власти только одно — расстаться с ней. И он все улыбался, поглаживая ее руку. — Желаю весело провести время, — крикнул он ей вслед, когда она уходила. Дома, около полуночи, его вызвал к телефону Кеннеди. — Мистер Каупервуд? — Да. — Вы знаете студию во Дворце нового искусства? — Да. — Они там сейчас. Каупервуд позвонил и приказал заложить кабриолет. У него уже давно было заготовлено нечто вроде отмычки, сделанной по его заказу слесарем: металлический стержень, полый на конце и с бороздками — точно по рисунку ключа, доставленного ему Кеннеди. Просунув стержень в замочную скважину и надев его на бородку ключа, вставленного изнутри, можно было без труда отпереть дверь снаружи. Каупервуд нащупал отмычку в кармане, сел в кабриолет и уехал. В вестибюле Дворца нового искусства его ждал Кеннеди. Каупервуд отпустил его домой. — Благодарю, — коротко сказал он. — Остальным я займусь сам. Он не воспользовался лифтом и, быстро поднявшись по лестнице, прошел в свободное помещение напротив, потом снова вышел в коридор и приник ухом к двери мастерской. Да, Кеннеди не ошибся, Стефани была там и Герни тоже. Она привела с собой томного молодого поэта, рассчитывая провести с ним восхитительный вечер. В эти часы в здании царила тишина, и Каупервуд отчетливо слышал их приглушенные голоса; потом до него долетел обрывок песенки — пела Стефани. Ярость душила Каупервуда, и он был даже рад, что Стефани взяла на себя труд предупредить его о своем намерении провести этот вечер у Джорджии Тимберлейк. Он улыбнулся мрачно и злорадно, представив себе изумление и испуг Стефани. Достав из кармана отмычку, он бесшумно вставил ее в замочную скважину и надел на бородку ключа. Ключ повернулся мягко, почти беззвучно. Каупервуд нажал на ручку двери и почувствовал, как она подалась. Он неслышно ступил в комнату. Тихий, такой знакомый ему, воркующий смех заглушил его шаги. При звуке его резкого сухого покашливания они вскочили. Герни сделал попытку найти убежище за гардиной, Стефани тщетно старалась натянуть на себя покрывало с кушетки. От неожиданности она онемела и смотрела на Каупервуда остановившимся взглядом. Герни сначала тоже растерялся, однако вскоре овладел собой и проговорил даже несколько вызывающе: — Кто вы такой? Что вам здесь надо? Каупервуд ответил очень спокойно, с улыбкой» — Ничего особенного. Мисс Плейто, вероятно, объяснит вам причину моего появления. — Он небрежно кивнул в ее сторону. Стефани, чувствуя на себе его холодный, иронический взгляд, сжалась в комочек и, казалось, совсем забыла о существовании Форбса Герни. Последний понял уже, что перед ним его предшественник — обманутый и разгневанный любовник, и это неожиданное открытие заставило его еще больше растеряться. — Мистер Герни, — с некоторым оттенком снисхождения сказал Каупервуд, отведя, наконец, уничтожающий взгляд от Стефани. — К вам у меня, собственно, никаких дел нет, и через несколько минут я избавлю вас и мисс Плейто от моего присутствия. Однако у меня были некоторые основания явиться сюда. Эта молодая особа довольно долго меня обманывала. Она постоянно лгала мне, прикидывалась невинным созданием, чему я, впрочем, не верил. Не далее как сегодня она заявила мне, что отправляется на танцы к своей приятельнице, живущей на Западной стороне. Она была моей любовницей в течение нескольких месяцев и принимала от меня деньги, драгоценности, я не отказывал ей ни в чем. Эти нефритовые серьги, кстати, — тоже один из моих подарков. — Каупервуд весело и насмешливо поглядел на Стефани. — Я пришел сюда, чтобы доказать ей бесполезность дальнейшей лжи. Всякий раз, когда я пытался уличить ее в недостойном поведении, она заливалась слезами и лгала мне. Быть может, вы знаете ее лучше, чем я, быть может вы сильно привязаны к ней. Во всяком случае от вас мне ничего не нужно. А эту даму, — тут Каупервуд снова повернулся к Стефани и смерил ее презрительным взглядом, — я прошу только об одном — не утруждать себя больше бесполезной ложью. В продолжение этого довольно своеобразного монолога Стефани, перепуганная, дрожащая и все же прелестная, забившись в угол огромной тахты, словно зачарованная, не сводила глаз с Каупервуда, и взгляд этот без слов говорил о том, как, несмотря на все ее легкомыслие, ей больно его терять. Его крепкая сильная фигура, спокойствие и невозмутимость, и даже самые слова его, язвительные и беспощадные, зажгли ее пылкое воображение, всегда готовое воспламениться, словно порох. Покрывало, в которое она завернулась, лишь отчасти скрывало ее наготу; смуглые руки, плечи и грудь и тонкие стройные ноги с округлыми коленями были обнажены. Темные волосы рассыпались в беспорядке, а детски наивное лицо, испуганное и страдальческое, казалось молило Каупервуда. Стефани и в самом деле была чрезвычайно испугана. Она в глубине души всегда побаивалась Каупервуда; этот сильный, суровый и обаятельный человек внушал ей благоговейный страх. Она не произносила ни слова и только смотрела на него, все еще пытаясь тронуть его сердце жалобным, как у обиженного ребенка, выражением лица. Но Каупервуд отвечал ей взглядом, исполненным холодного презрения, а на ее любовника смотрел с почти нескрываемой насмешкой. Он спокойно стоял перед ними и улыбался, и мысль о том, кого она теряет, какой это необыкновенный человек, пронзила Стефани. Рядом с ним Форбс Герни, меланхолический, томный поэт, показался ей вдруг жалким и бесцветным — пустой причудой романтического воображения, Стефани искала и не находила слов, она готова была молить Каупервуда о прощении, но чувствовала, что это бесполезно, и к тому же тут был Герни… К горлу у нее подкатил комок, глаза затуманились, и Каупервуд увидел, как в них сквозь слезы блеснул знакомый ему таинственный и влекущий огонек. Он хорошо знал этот взгляд. То была минута горького торжества для Каупервуда. — Позвольте дать вам совет, Стефани, — сказал он. — Мы, разумеется, не увидимся больше. Вы — талантливая актриса. Ступайте на профессиональную сцену. Вас ждет слава, если ваши любовные похождения не помешают вам посвятить себя искусству. Я допускаю, конечно, что такая распущенность — потребность вашей натуры, но не забывайте, что в обществе существует вполне определенный взгляд на подобное поведение. Прощайте. Каупервуд повернулся и быстро направился к двери. — Фрэнк! О Фрэнк! — воскликнула Стефани. Это был горестный, полный отчаяния, безотчетный крик; она забыла о присутствии своего нового возлюбленного. Герни смотрел на нее, широко раскрыв глаза. Но Каупервуд, казалось, даже не слышал ее призыва. Он вышел из студии, пересек темный коридор и спустился по лестнице. На мгновение, на одно краткое мгновение он снова почувствовал себя во власти этого распущенного, безнравственного и все же обаятельного создания, словно в лицо ему пахнул пряный аромат какого-то ядовитого цветка. «А, будь ты проклята! — мысленно воскликнул Каупервуд. — Будь ты проклята, тварь, потаскуха, девка!» — Он изрыгал самые грязные, самые циничные ругательства, ибо в эту минуту, впервые в жизни, почувствовал, что значит любить, страстно желать и утратить — утратить навсегда. Он поклялся себе, что жизненные пути его и Стефани Плейто никогда больше не пересекутся.Глава 29
Семейная ссора
Случилось так, что после описанного выше разрыва душевный покой Эйлин был снова нарушен — и не кем иным, как миссис Плейто, впрочем, без всякого умысла с ее стороны. Заехав однажды навестить миссис Каупервуд, она разговорилась об успехах своей дочери, о затруднениях, которые переживают «гарриковцы», и о том, что Стефани скоро появится в новой роли — будет, кажется, играть китаянку. — Эти нефритовые украшения, что вы ей подарили, — прелестны, — любезно улыбаясь, заявила миссис Плейто. — Я только на днях впервые увидела их. Стефани мне ничего раньше не говорила. Она в таком восторге от этого подарка, что я должна от всей души поблагодарить вас. Эйлин широко раскрыла глаза. — Я, право, что-то не припомню… — она тотчас подумала о Каупервуде, о его извечных слабостях, и в душу к ней закралось подозрение. Растерянность и смущение отразились на ее лице. — Да что вы? — удивилась в свою очередь миссис Плейто, несколько обескураженная словами Эйлин. — Ну как же, серьги, брошь и браслет. Стефани сказала, что это вы подарили ей. — Ах, ну да, да, конечно, — спохватившись, пробормотала Эйлин. — Припоминаю теперь. Собственно говоря, это был подарок Фрэнка. Очень рада, что эти безделушки понравились вашей дочери. И она учтиво улыбнулась. — Стефани находит их восхитительными, и они в самом деле очень ей к лицу, — добродушно сказала миссис Плейто, считая, что недоразумение разъяснилось. Разговор этот произошел потому, что Стефани забыла однажды запереть свою шкатулку с украшениями, и миссис Плейто, разыскивая что-то в комнате дочери, увидела нефриты. Прекрасно понимая, какую они представляют ценность, она не замедлила допросить дочь. Стефани в первое мгновение растерялась, но тотчас овладела собой. Как-то раз она была у Каупервудов, и Эйлин уговорила ее принять этот подарок, объяснила она небрежно. К несчастью для Эйлин, этим разговором дело не ограничилось. На обеде у Риза Грайера, молодого скульптора, делающего светскую карьеру и представленного ей Тейлором Лордом, Эйлин пришлось убедиться в том, что общество не склонно сочувствовать женщине, утратившей привязанность своего супруга. Входя в гостиную, она услышала, как одна дама, стоя у ширмы, где гости оставляли свои накидки и шали, шепнула другой: — Смотрите, вон идет миссис Каупервуд. Жена того самого Каупервуда, которому принадлежит половина всех городских железных дорог у нас в Чикаго. Весь прошлый сезон он путался с этой Плейто — актрисочкой из «Театра гарриковцев». Вторая дама утвердительно кивнула, с завистью разглядывая туалет Эйлин — роскошное платье из темно-зеленого бархата. — А вы думаете, что она верна ему? — Эйлин вся превратилась в слух. — Вид у нее во всяком случае довольно вызывающий. Эйлин удалось потом поближе рассмотреть этих дам, когда они стояли отвернувшись и не смотрели на нее, и на лице ее было ясно написано все, что она о них думает, — но что толку? Проклятые сплетницы уже ранили ее в самое сердце. Эйлин была возмущена, ошеломлена, растеряна. В какое унизительное положение ставит ее Фрэнк, давая своим легкомысленным поведением пищу для подобных пересудов! Но прошло еще несколько дней, и Эйлин ждало новое испытание. Как-то раз, выйдя из своей спальни на галерейку, окружавшую холл, Эйлин услышала внизу голоса; две служанки оживленно обсуждали чикагские нравы вообще и поведение своего хозяина в частности. Одна из них — рослая, костлявая девица лет двадцати восьми, работала у Каупервудов горничной, другая — коренастая, дородная особа сорока с лишним лет, состояла на должности младшей экономки. Обе делали вид, что заняты уборкой, но работали не столько руками, сколько языком. Костлявая горничная совсем недавно перешла к Каупервудам от Кокрейнов. Эймар Кокрейн, бывший директор Железнодорожной компании Западной стороны, был теперь директором новой компании — Западно-чикагской транспортной. — Можете себе представить, голубушка, — услышала Эйлин голос костлявой горничной, — как я удивилась, когда узнала, кто меня нанимает! Когда мне хозяева сказали, я своим ушам не поверила. Да ведь наша-то мисс Флоренс бегала к нему на свидания почитай три раза на неделе! Просто в толк не возьму, как это ее маменька все проморгала. — Да, — вздохнула вторая, — уж это бабник так бабник. — При этом она выразительно всплеснула руками, чего Эйлин, разумеется, уже не могла видеть. — Сюда тоже бегала одна девчонка. Она живет на нашей улице, Хейгенин по фамилии. Отец у нее издает газету. У них очень красивый дом в двух шагах отсюда. Последнее время, правда, она что-то к нам не захаживает. А то я сколько раз видела, как он целовался с ней в этой самой комнате. Быть того не может, чтобы миссис Каупервуд ничего не знала, никогда этому не поверю. Мне рассказывали, как она однажды налетела на одну дамочку, с которой путался ее муженек. Говорят, тут ужас что было, когда она в нее вцепилась, и обе визжали на весь дом, как зарезанные. Да уж мужчины — все подлецы, как до женщин дойдет. Легкий шорох заставил сплетниц отскочить друг от друга, но Эйлин и так уже слышала достаточно. Что же, что ей теперь делать? Опять новые связи, новые женщины, о которых она и не подозревала! Мисс Флоренс — это, конечно, Флоренс Кокрейн — ведь долговязая горничная работала раньше у Кокрейнов. И еще Сесили Хейгенин. Подумать только — дочь издателя Хейгенина, одного из их лучших друзей! И Фрэнк целовал ее здесь! Неужели этому конца не будет — его вероломству, его изменам! Эйлин вернулась в спальню вне себя от ярости и горя; мысли ее путались. Что же ей делать? Оставить Фрэнка? Сказать ему в лицо все, что она о нем думает? Следить за ним? Нанять еще сыщиков? К чему, к чему? Она уже нанимала сыщиков однажды. Разве это помешало Фрэнку завести роман со Стефани Плейто? Ничуть. Разве это может помешать новым увлечениям? Конечно, нет. Как видно, ее совместная жизнь с Фрэнком приходит к концу, неотвратимому, горестному концу. Долго ведь так продолжаться не может. Вероятно, она была неправа, когда разлучила его с миссис Каупервуд. Но ведь Лилиан совсем не пара Каупервуду. За что же такая страшная расплата? Будь Эйлин суеверна или религиозна, читай она библию, чего она, разумеется, не делала, ей сейчас вспомнилось бы, вероятно, одно из самых фаталистических утверждений Нового завета: «Какою мерой мерите, такою же отмерится и вам». Неукротимое влечение Каупервуда к прекрасному полу и в самом деле не могло не привести к плачевным последствиям. После разрыва со Стефани Плейто Каупервуд, как говорится, пустился во все тяжкие, и в числе его многочисленных жертв оказались сначала Сесили Хейгенин — очаровательная дочка издателя Хейгенина, весьма достойного человека, искренне расположенного к Каупервуду и служившего ему опорой в газетном мире, а затем и дочь Эймара Кокрейна. Впрочем, нельзя не заметить, что во всех своих любовных приключениях Каупервуд являлся не только соблазнителем, но и жертвой соблазна. Его сближение с Сесили Хейгенин произошло очень просто. Будучи приятелем ее отца и частым гостем в их доме, Каупервуд в один прекрасный день обнаружил, что молодая девушка весьма чувствительна к его чарам. Сесили в ту пору исполнилось двадцать лет. Пышная, белокожая, светловолосая и голубоглазая, она отличалась жизнерадостным нравом и, несмотря на свою кукольную внешность, довольно живым умом. Каупервуду нравилось шутить и забавляться с ней. Он привык играть с Сесили, когда та была еще ребенком, школьницей. Игры и шутливые поддразнивания продолжались и потом, когда Сесили уже училась в колледже и приезжала домой на каникулы. Теперь она жила дома, и Каупервуд видел ее значительно чаще — почти всякий раз, когда заходил к ее отцу, чтобы обсудить с ним, как лучше преподнести публике ту или иную из своих очередных махинаций. Как-то вечером Хейгенин отлучился из дома по делам, связанным с концессиями Каупервуда, и тот оказался наедине с Сесили. Произошел обмен улыбками, многозначительными взглядами, и Сесили в ответ на какую-то шутку Каупервуда игриво замахнулась на него книгой. Каупервуд схватил девушку за руки и сжал их — ласково, но крепко. — Пустите, вам все равно со мной не справиться, — храбро сказала Сесили. — Посмотрим, — отвечал Каупервуд. За этим последовала шутливая борьба, в результате которой Сесили после полупритворного сопротивления очутилась в объятиях Каупервуда и головка ее склонилась на его плечо. — Вот вы как! — сказала она, глядя на него снизу вверх насмешливо и чуть-чуть испуганно. — А дальше что? Вам придется отпустить меня — и только. — Нет, не так скоро, как вы думаете. — Очень скоро. Сейчас вернется папа. — Ну что ж, до тех пор во всяком случае я вас не отпущу. Какая вы красивая, Сесили, вы хорошеете с каждым днем. Она притихла, перестав сопротивляться, и на ее испуганном лице появилось томное выражение. Каупервуд погладил ее по щеке, поцеловал. Возвращение мистера Хейгенина положило конец этой сцене, но после такого начала найти общий язык было уже нетрудно. Первые шаги к сближению с Флоренс Кокрейн — дочерью Эймара Кокрейна, директора Железнодорожной компании Западной стороны, — мало чем отличались от описанного выше, а финал в обоих случаях был совершенно одинаков. Чтобы представить вам Флоренс Кокрейн, скажем, что она тоже была блондинка, как и Сесили, но совершенно иного типа — тоненькая, хрупкая, мечтательная. Она запоем читала романы, увлекалась Марло и Джонсоном, и Каупервуд, этот крупный делец, занятый какими-то таинственными финансовыми операциями и часто приходивший совещаться с ее отцом, пленил воображение девушки, словно какой-нибудь герой елизаветинской эпохи. Тоскливо-размеренный уклад жизни, мещанское благополучие ее домашнего очага претили Флоренс Кокрейн, и в душе ее зрел протест. Каупервуд разгадал, что творится с девушкой, провел с ней несколько вечеров в отвлеченно-возвышенных беседах, проникновенным взором смотрел ей в глаза и вскоре прочел в них желанный ответ. Ни Эймар Кокрейн, ни его чопорно-добродетельная супруга ни о чем не догадывались.И все же Эйлин, раздумывая над последними любовными приключениями Каупервуда, почувствовала вдруг, несмотря на всю свою досаду и горе, некоторое успокоение. Что ни говори, а такие мимолетные измены менее опасны для нее, чем одна устойчивая привязанность. Если Каупервуд и впредь будет так гоняться за женщинами, он едва ли полюбит кого-нибудь всерьез, а в таком случае зачем ему покидать ее? Но какой это все-таки удар для ее женского самолюбия, невольно думалось ей. Какой позорный конец идеального супружеского союза, который, казалось, будет длиться всю жизнь! Подумать только, что она, Эйлин Батлер, не знавшая себе равных, затмевавшая всех своей красотой и очарованием, должна так рано — ведь ей едва минуло сорок лет — уступить дорогу более молодым соперницам! И кому? Каким-то жалким, невзрачным подросткам! Стефани Плейто! Сесили Хейгенин! Или этой, как ее… Флоренс Кокрейн — сухой, как щепка, и бледной, как мертвец! И вот она, блистательная красавица, в расцвете сил и всех своих женских чар, отодвинута на задний план. Гладкая ослепительная, кожа, ясные, лучистые глаза, на лбу, на шее, на подбородке — ни единой морщинки; золотое руно волос, упругая походка, прекрасный рост и безукоризненное сложение, роскошные туалеты, драгоценности, уменье одеваться… А Фрэнк предпочитает ей каких-то желторотых выскочек! Это казалось Эйлин невероятным и глубоко несправедливым. Как жестока жизнь! Как непостоянен Фрэнк в своих вкусах и привязанностях! Боже мой, боже мой, неужели это правда? Почему Фрэнк разлюбил ее? Эйлин снова и снова рассматривала себя в зеркале и все больше растравляла свои раны. Почему он отверг ее красоту? Почему другие женщины кажутся ему лучше? Сколько раз уверял он ее в своей любви — зачем он лгал? Почему другие мужчины сохраняют верность своим женам? Ее отец всегда был верен ее матери. При мысли об отце у Эйлин екнуло сердце — ведь она опозорила себя в его глазах… Но все равно, что было — то прошло, а теперь только она имела права на Фрэнка. Эйлин разглядывала свои глаза, волосы, руки, плечи… Почему Фрэнк разлюбил ее? Почему, почему? Однажды вечером, вскоре после этого приступа горя, Эйлин читала у себя в будуаре какой-то роман, поджидая возвращения мужа, как вдруг зазвонил телефон. Каупервуд хотел предупредить ее, что задержится в конторе, а потом, быть может, ему придется поехать в Питсбург. Дня на полтора, не больше. Послезавтра он уж во всяком случае будет дома. Эйлин огорчилась, и Каупервуд понял это по ее голосу. Они собирались в этот день обедать у Хоксема, а потом поехать в театр. Он предложил ей отправиться к Хоксема без него, но Эйлин что-то резко возразила в ответ и повесила трубку не попрощавшись. В десять часов Каупервуд позвонил снова и сказал, что он передумал. Может быть, Эйлин хочет поужинать с ним в ресторане? Тогда пусть она переодевается, он заедет за ней. А нет — так они проведут вечер дома. Эйлин тотчас решила, что Фрэнк собирался развлекаться на стороне, но что-то ему помешало. Он испортил ей вечер, а теперь, за неимением лучшего, решил явиться домой, чтобы осчастливить ее своим присутствием. Это взбесило Эйлин. Двусмысленность ее положения, постоянная неуверенность в Каупервуде начинали сказываться на ее нервах. В воздухе запахло грозой, и вскоре гроза разразилась. Каупервуд приехал чуть позже, чем обещал, стремительно вошел в комнату, заключил Эйлин в объятия и, поцеловав, нежно и шутливо погладил по руке, потом потрепал по плечу. Эйлин нахмурилась, и он спросил: — Что случилось? Малютка не в духе? — Ничего особенного, — отвечала Эйлин с раздражением. — То же, что всегда, не стоит об этом говорить. Ты обедал? — Да, нам приносили обед в контору. — Каупервуд не лгал. Он действительно обедал у себя в конторе вместе с Мак-Кенти и Эддисоном. Не чувствуя на сей раз за собой вины, Каупервуд захотел оправдаться перед Эйлин. — Я не мог вырваться сегодня, — сказал он, — мне самому жаль, что дела отнимают у меня так много времени, но скоро будет легче. Все идет теперь на лад. Эйлин высвободилась из его объятий и подошла к туалетному столику. Пригладила растрепавшиеся волосы, внимательно оглядела себя в зеркало, села и углубилась в роман. «Опять надулась!» — подумал Каупервуд. — Ну, Эйлин, в чем дело? — спросил он. — Ты не рада, что я пришел домой? Я знаю, последнее время тебе было нелегко, но пора уже забыть прошлое. Право же, лучше подумать о будущем. — О будущем? Не смей говорить мне о будущем, — злобно воскликнула Эйлин. — Не очень-то много радости оно мне сулит. Каупервуд видел, что все в ней кипит, но, полагаясь на ее привязанность к нему и на свое умение убеждать и уговаривать, надеялся, что сумеет ее успокоить. — Напрасно ты так горюешь, детка, — сказал он. — Ты же знаешь, что я никогда не переставал тебя любить. И никогда не перестану. Правда, сейчас у меня куча всяких хлопот, которые часто разлучают нас с тобой против моей воли, но чувство мое к тебе неизменно. Мне кажется, ты сама это понимаешь. — Чувство? Твое чувство? — с горечью вскричала Эйлин. — О каком чувстве ты толкуешь? Ты даришь другим женщинам нефритовые драгоценности и волочишься за каждой юбкой, какая только попадется тебе на глаза! И у тебя еще хватает духу говорить мне о своих чувствах! Ведь ты и домой-то явился только потому, что тебе не удалось повеселиться где-то на стороне. Да, да, я знаю цену твоим чувствам. Знаю! Эйлин в сердцах откинулась на спинку кресла и снова схватила свой роман. Каупервуд пристально посмотрел на нее — этот намек на Стефани был для него полной неожиданностью. Да, иметь дело с женщинами становится по временам невыносимо утомительным. — Что ты, собственно, хочешь сказать? — спросил он осторожно, самым, казалось бы, искренним и невинным тоном. — Никаких нефритов я никому не дарил и ни за какими юбками, как ты изволишь выражаться, не волочился. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь, Эйлин. — О Фрэнк! — воскликнула Эйлин устало, в голосе ее прозвучал упрек. — Как ты можешь так лгать! Ну, к чему ты лжешь мне в глаза? Мне тошно от твоей лжи, от твоего притворства. Даже слуги — и те уже судачат о твоих похождениях, а ты хочешь, чтобы я тебе верила. Разве я виновата, что миссис Плейто является сюда и спрашивает меня — с какой стати ты даришь драгоценности ее дочери! Я понимаю, почему ты лжешь, тебе нужно заткнуть мне рот, заставить меня молчать. Ты боишься, что я побегу к мистеру Хейгенину, или к мистеру Кокрейну, или к мистеру Плейто, или ко всем трем зараз. Можешь не беспокоиться, не побегу, не бойся. Ты опостылел мне своей ложью. И подумать только, на кого он польстился! Стефани Плейто — эта сухая жердь! Сесили Хейгенин — квашня с тестом! А Флоренс Кокрейн — ни дать ни взять, сонная рыба! (Эйлин иной раз давала довольно меткие характеристики.) Если бы не мои близкие, которым я и так уж принесла немало огорчений, да не разные толки и сплетни, которые могут повредить твоим делам, я бы не стала ждать ни минуты, я бы ушла от тебя! И как только я могла поверить, что ты меня любишь, что ты вообще способен кого-нибудь любить по-настоящему! Какая чушь! Но мне теперь все равно! Можешь продолжать в том же духе. Только запомни: не воображай, что я и дальше буду терпеть все, как терпела до сих пор. Нет, не буду. Больше тебе не удастся меня обмануть. Я не хочу так жить. Я еще не старуха. Найдутся мужчины, которые рады будут подарить меня своим вниманием, раз я тебе не нужна. Я уже сказала тебе однажды и повторяю снова: если ты будешь мне изменять, я в долгу не останусь, так и знай! Вот посмотришь, я тоже заведу себе любовников. Да, да! Клянусь! — Эйлин! — сказал Каупервуд мягко, с мольбой, сознавая бесполезность новой лжи. — Неужели ты не простишь мне еще один, последний раз? Будь снисходительна, пожалей меня. Я сам не понимаю себя порой. Должно быть, я как-то иначе устроен — не так, как другие. Мы с тобой уже прожили вместе такую долгую жизнь. Подожди еще немного. Дай мне время. Увидишь, я стану другим. Я докажу тебе. — О да, конечно, я должна ждать! Он, видите ли, станет другим! А разве я мало ждала? Разве мало провела бессонных ночей, слоняясь здесь из угла в угол, пока ты пропадал невесть где? Пожалеть тебя? Конечно, конечно! А кто пожалеет меня, когда сердце мое рвется на части! О боже мой, боже мой! — в безмерном отчаянии воскликнула вдруг Эйлин. — Я так несчастна! Так несчастна! В сердце такая боль! Такая невыносимая боль! Она судорожно прижала руки к груди и бросилась вон из комнаты. Ее легкий, стремительный, упругий шаг, всегда пленявший Каупервуда, даже и сейчас произвел на него впечатление. Но, увы, это было лишь мгновенное сожаление о том, что жизнь так жестока и все в ней так преходяще! Каупервуд поспешил за Эйлин и (совсем как после стычки с Ритой Сольберг) попытался заключить ее в объятия, но она раздраженно оттолкнула его. — Нет, нет! — крикнула она. — Оставь меня! Мне все это надоело. — Право же, ты несправедлива ко мне, Эйлин! — Он произнес это с чувством, подкупающе искренним тоном. — Из-за одного прискорбного случая в прошлом ты теперь видишь все в искаженном свете. Клянусь, я не изменял тебе ни со Стефани Плейто, ни с другими женщинами. Я ухаживал за ними слегка, но ведь это все сущие пустяки. Будь благоразумна. Я вовсе не такой негодяй, как тебе кажется. Я занят сейчас очень большими делами, от которых твое благополучие, твое будущее зависит в такой же мере, как и мое. Будь же благоразумна, Эйлин, будь снисходительна ко мне. Все повторялось снова и снова: те же упреки и обвинения с одной стороны, те же оправдания и уговоры — с другой. Наконец, усталая, измученная телом и душой, чувствуя, что ей не под силу разрубить этот узел, Эйлин сдалась и, уступая увещеваниям Каупервуда, позволила ему убедить себя в том, что и на ее долю остались еще какие-то крохи чувства. Она совсем пала духом, тоска грызла ее сердце. Да и сам Каупервуд, хотя и пытался утешить Эйлин, отчетливо понимал, что ему никогда не удастся возродить в ней прежнюю веру в его любовь, ибо для этого он должен был бы окружить ее таким вниманием, на какое он, с его стремлением к разнообразию и новизне, уже не был способен. До поры до времени мир был восстановлен, но, зная, чего ждет от него Эйлин, зная ее пылкую и эгоистически требовательную натуру, Каупервуд понимал, что это ненадолго. Он будет идти своим путем, и она рано или поздно оставит его. Ничем тут, как видно, не поможешь. Переделать себя он не мог. Он был человеком слишком страстным, многогранным и сложным и слишком большим эгоистом, чтобы сохранять приверженность к кому-то одному.
Глава 30
Препятствия
Препятствия, которые возникают порой на пути самого удачливого и преуспевающего человека, неожиданны и разнообразны. Сильный пловец может выплыть и против течения. Иным помогает случай, порой вступающий в союз с человеком, иные сами, приноравливаясь к обстоятельствам, бессознательно отдаются на волю этого случая, и прилив выносит их на берег. Что это, божественный промысел? Едва ли! Никто еще не проник в эту тайну. Добрый гений? Так думают многие — на свою погибель (вспомним Макбета!). Или это наша бессознательная тяга к добру, долгу, справедливости? Но все эти ярлыки — творения рук человеческих. Все не доказано и все — дозволено. Так, например, когда Каупервуд завладел конкой на Западной стороне, между возглавляемой им компанией и неким Рэдмондом Парди, крупным ростовщиком, скупщиком земельных участков и торговцем недвижимостью, возникла тяжба, которая взбудоражила весь Чикаго. Туннели на Ла-Саль-стрит и Вашингтон-стрит были уже сданы в эксплуатацию, но тут возникла потребность в третьем туннеле — к югу от Вашингтон-стрит, — так как интересы северной и южной окраин Западной стороны требовали проведения канатной дороги поВан-Бьюрен-стрит и Блю-Айленд авеню. Предпочтительнее всего было бы проложить туннель в районе Ван-Бьюрен-стрит, ибо это был кратчайший путь к деловому центру города. Туннель был решительно необходим Каупервуду, — но как добиться разрешения проложить его под рекой от Ван-Бьюрен-стрит и как раз под мостом, по которому шло интенсивное движение? Тут сразу возникали всевозможные осложнения. Прежде всего для прокладки туннеля под рекой требовалось разрешение военного министерства в Вашингтоне. Далее: это было делом чрезвычайно трудным и хлопотливым, так как пришлось бы на время закрыть движение на мосту или даже разобрать таковой. После захвата Каупервудом двух туннелей газеты и без того уже следили за каждым его шагом. Большинство из них было настроено подозрительно, а многие и прямо враждебно, и потому Каупервуд решил, вместо того чтобы обращаться в муниципалитет за разрешением, купить значительный участок земли к северу от моста и таким образом получить возможность беспрепятственно приступить к работам. Самым подходящим для этой цели оказался участок на берегу реки, занятый семиэтажным торговым зданием. И участок и здание принадлежали уже упомянутому выше мистеру Рэдмонду Парди — длинному, тощему, нечистоплотному с виду субъекту, который носил целлулоидные воротнички и манжеты и сильно гнусавил. Каупервуд, как водится, подослал к мистеру Парди подставных лиц, предложивших тому продать участок по сходной цене. Но Парди, подозрительный и осторожный, как всякий скряга, обладал нюхом ищейки и уже успел проведать о замыслах Каупервуда. Он почуял хорошую поживу. — Нет, нет и нет, — всякий раз заявлял он представителям мистера Сильвестра Туми, пронырливого земельного агента Каупервуда. — Не хочу я продавать. Ступайте с богом. Мистер Сильвестр Туми стал в конце концов в тупик и признался в этом Каупервуду; тот немедленно призвал на помощь генерала Ван-Сайкла и достопочтенного Кента Бэрроуза Мак-Кибена, которые, подобно спасительным маякам, всегда указывали ему верный путь в штормовую погоду. Генерал, правда, уже изрядно поглупел от старости, и Каупервуд подумывал о том, чтобы удалить его на покой, но Мак-Кибен был в расцвете сил и способностей — самодовольный, красивый, расфранченный, ловкий. Переговорив с мистером Туми, генерал и Мак-Кибен вернулись к Каупервуду с неким многообещающим проектом. После этого на сцене появился новый персонаж, а именно достопочтенный Наум Дикеншитс, один из судей апелляционного суда штата, уже давно, — а с помощью каких махинаций, мы здесь лучше умолчим, — впряженный в колесницу великого Каупервуда; судье предложили применить все свои познания в области крючкотворства и найти выход из затруднительного положения. По его совету решено было тотчас приступить к прокладке туннеля — сначала с восточной стороны, то есть от Франклин-стрит, а затем, спустя восемь месяцев, — с западной, то есть от Канал-стрит. Между участком мистера Парди и рекой, всего в тридцати футах от его торгового здания, появилась шахта. Мистер Парди следил за этими зловещими приготовлениями с алчным блеском в глазах. Он не сомневался в том, что когда туннель приблизится к его владениям, компания вынуждена будет отвалить ему за его участок столько звонкой монеты, сколько он пожелает. — Ну и ну, черт меня подери! — бормотал мистер Парди, потирая руки, словно Шейлок, знающий, что расплата человеческим мясом уже неизбежна. И все же порой его охватывала какая-то смутная тревога. Наконец, когда приобретение вожделенного участка стало для Каупервуда насущной необходимостью, он послал за его владельцем, и тот явился в приятном предвкушении выгодной сделки, сулившей целое состояние. — Мистер Парди, — непринужденно начал Каупервуд, — вы владеете по ту сторону реки земельным участком, который мне очень нужен. Почему бы вам его не продать? Мне кажется, нам следует уладить дело полюбовно. Он с улыбкой смотрел на Парди, а тот исподтишка, по-волчьи, оглядывался вокруг, боясь продешевить, прикидывая в уме, сколько тут можно содрать. Принадлежавший мистеру Парди земельный участок вместе со зданием и всем инвентарем стоил около двухсот тысяч долларов. — А зачем мне продавать? — сказал Парди. — Там у меня хороший, крепкий дом. Мне он нужен не меньше, чем вам. Я от него доход получаю. — Правильно, — отвечал Каупервуд. — Но я готов заплатить вам хорошую цену. Ведь речь идет о предприятии общественного пользования. Туннель насущно необходим населению Западной стороны и даже лично вам, если у вас имеются там земельные участки. На деньги, что я вам уплачу, вы можете приобрести участок значительно больше этого, где-нибудь по соседству или в любом другом районе, и будете получать с него хороший доход. У нас другое положение. Туннель должен пройти именно здесь, иначе я не стал бы тратить время на пререкания с вами. — Вот то-то и оно, — упрямо отвечал мистер Парди. — Вы начали рыть этот свой туннель, никого не спросясь, а теперь я должен, видите ли, убираться со своей земли. Да с какой стати мне уступать вам свой участок? — Я дам вам хорошую цену. — Сколько же вы дадите? — А сколько бы вы хотели получить? Мистер Парди — старая лиса — почесал за ухом. — Миллион долларов. — Миллион долларов? — воскликнул Каупервуд. — Не кажется ли вам, мистер Парди, что вы хватили через край? — Нет, не кажется, — невозмутимо отвечал мистер Парди. — Я прошу не больше того, что стоят участок и постройка. Каупервуд вздохнул. — Очень жаль, — с расстановкой проговорил он. — Вы слишком запрашиваете, мистер Парди. Если угодно, получайте триста тысяч долларов наличными, и покончим с этим. — Миллион долларов, — упрямо повторил Парди, уставясь в потолок. — Что ж, очень жаль, мистер Парди, — повторил Каупервуд. — Но с вами, видно, не столкуешься. Я предлагаю хорошую цену, а вы требуете чего-то несуразного. Подумайте как следует. Мы можем проложить туннель и без вас. — Миллион долларов, — сказал Парди. — Ничего не выйдет, мистер Парди. Ваш участок этого не стоит. Зачем вы упрямитесь? Ну хорошо, пусть будет триста двадцать пять тысяч, и я сейчас выпишу вам чек. — Я не возьму ни пятисот, ни шестисот тысяч долларов, ни сейчас, ни потом. Я знаю свои права, мистер Каупервуд. — Прекрасно, значит больше и толковать не о чем, — сказал Каупервуд. — Не хотите продавать, не надо. Быть может, вы еще передумаете. Мистер Парди удалился, а Каупервуд вызвал к себе своих адвокатов и инженеров. Прошло недели полторы, и в субботу вечером, когда все конторы закрылись и здание, служившее предметом раздора, опустело, на участок мистера Парди прибыла партия рабочих — человек около трехсот — с кирками, лопатами, тачками и динамитными шашками. На следующий день, то есть в воскресенье, и следовательно в день неприсутственный, когда судебные и административные учреждения закрыты, примерно к заходу солнца все уже было кончено и на месте одного из крыльев солидного семиэтажного здания — бывшей собственности мистера Парди — зиял огромный черный котлован. Весть о том, что его строение уже почти не существует, долетела до джентльмена в целлулоидном воротничке и манжетах только в девять часов утра в воскресенье и повергла его, как и следовало ожидать, в чрезвычайную ярость. Когда мистер Парди, красный и потный от волнения, прибыл на место происшествия, часть стены еще стояла, и он тотчас вызвал полицию. Однако, как ни странно, это мало помогло мистеру Парди, ибо полиции было предъявлено предписание высокой судебной инстанции, за подписью достопочтенного Наума Дикеншитса, в котором предлагалось прокладке туннеля не препятствовать. (Впоследствии, когда этим достопримечательным документом заинтересовалась другая высокая инстанция, выяснилось, что он исчез. Поговаривали, что документ этот никак не мог быть предъявлен полиции, так как его не существовало вовсе.) Между тем работы на участке шли своим чередом. Адвокаты забегали от одного знакомого судьи к другому. Горящие глаза, багровые лица, срывающийся от возмущения голос… Судьи выслушивали сообщение о неслыханном бесчинстве, но — закон есть закон, установленная процедура есть установленная процедура, и никакое предписание не может быть вынесено в праздничный день, когда все присутственные места закрыты. Правда, около трех часов удалось все же разыскать услужливое должностное лицо, которое согласилось выдать предписание, приостанавливающее это чудовищное самоуправство. Но к этому времени строение уже было снесено и работы в основном закончены. Западно-чикагской транспортной оставалось только раздобыть новое предписание, аннулирующее вышеуказанное и предостерегающее против посягательства на права, привилегии и прочая и прочая этой компании, и создать, таким образом, кляузное дело, которое естественным ходом вещей должно было попасть в апелляционный суд штата, где ему предстояло благополучно пролежать под сукном до скончания века. Затем еще в течение нескольких лет писались всевозможные предписания, отмены решений, запросы, апелляции, ходатайства о передаче дела из суда штата в федеральный суд на основе конституционных прав и привилегий и тому подобное. В конце концов дело было улажено помимо всех судебных инстанций, ибо мистер Парди к тому времени стал сговорчивее. Однако газеты, сумевшие раздобыть полную информацию об этой тяжбе, снова открыли огонь по Каупервуду. И все же поединок с Рэдмондом Парди причинил Каупервуду куда меньше хлопот и беспокойств, нежели соперничество новой компании — Чикагской транспортной. Идея создания такой компании первоначально зародилась в мозгу некоего Джемса Фернивейла Уолсена, весьма предприимчивого молодого калифорнийца, и вылилась мало-помалу в поток прошений и ходатайств со стороны доброй половины населения юго-западной окраины города, где было намечено проложить новую линию городской железной дороги. От этого молодого честолюбца, Джемса Фернивейла Уолсена, не так-то легко было отделаться. Помимо всех этих прошений и ходатайств, которые никто не мог запретить ему подавать, у Уолсена имелся на руках еще один козырь: он предлагал ввести новый вид транспорта, уже существующий кое-где в других городах и действующий на электрической тяге. На крыше вагона устанавливалась длинная металлическая штанга с роликом, который скользил по электрическому проводу, подвешенному на столбах. Такой способ передвижения считался более удобным, чем канатная дорога, и даже более дешевым, чем конка. Каупервуд уже и раньше слышал об этих электрических железных дорогах и в течение последних лет с величайшим интересом изучал их, ибо понимал, что они должны произвести переворот в городском железнодорожном транспорте. Но так как он совсем недавно соорудил свою великолепную канатную дорогу, то, естественно, считал невыгодным от нее отказываться. Трамвай был новшеством, с которым, по мнению Каупервуда, население Чикаго могло повременить до тех пор, пока он, Каупервуд, не сочтет для себя удобным ввести этот новый вид тяги — сперва на окраинах, а затем и повсеместно. Однако, прежде чем Каупервуд успел принять необходимые меры для обуздания Уолсена, этот ловкий молодой пройдоха, обладавший неукротимой фантазией и хорошо подвешенным языком, сумел привлечь на свою сторону таких сугубо заинтересованных лиц, как Джордан Джулс, бывший директор Северо-чикагской газовой компании, потерявший изрядную долю своего состояния в «газовой войне» с Каупервудом, и Трумен Лесли Мак-Дональд. Последний воспринял предложение Уолсена, как самим небом ниспосланную возможность свести, наконец, счеты с Фрэнком Алджерноном Каупервудом. Трудно было подобрать лучших союзников для беспощадной мести тому, кого они считали своим заклятым врагом: Трумен Лесли Мак-Дональд, худой, подвижный, с черными колючими глазками, всегда сверкавшими подозрением и завистью, и Джордан Джулс — тучный, приземистый, рыжий, с длинной редкой бахромой сальных волос, окружавших блестящий голый череп и свисавших на грязный воротник, и пронзительным злым взглядом жестких голубых глаз. Эта пара в свою очередь втянула в дело Сэмюэла Блэкмена, бывшего председателя правления Южной газовой компании, Сандерленда Слэда, крупного биржевика и директора одной из чикагских железных дорог, и Нори Симса, председателя кредитного общества «Дуглас»; последний, впрочем, выступал скорее в роли финансового агента. Все они сходились во мнении, что избранному Каупервудом пассивному способу борьбы, заключавшемуся в том, чтобы заставлять муниципальный совет игнорировать все обращенные к нему прошения и ходатайства новой компании, не так уж трудно противостоять. — Ну, я думаю, что мы скоро выкурим этих жуликов из муниципалитета, — заявил молодой Мак-Дональд на одном из очередных совещаний своей клики. — Нужно только поднять шум вокруг этого дела. Молодой Мак-Дональд обратился к отцу, желая использовать в своих целях «Инкуайэрер», но старый генерал не хотел до поры до времени ввязываться в это дело, заметив, что его сынок что-то слишком уж в нем заинтересован. Лесли Мак-Дональд, разъяренный пассивным сопротивлением олдерменов, явился в муниципалитет и потребовал объяснений от олдермена Даулинга. Почему проект первостепенной важности продолжает лежать под сукном? На что председатель комитета городского благоустройства мистер Даулинг, человек могучего телосложения, голубоглазый, флегматичный, с неизменной плотоядной улыбкой на устах, соизволил ответить, что впервые слышит о таком проекте. — Впрочем, я в последнее время мало занимался этими вопросами, — добавил он. Лесли Мак-Дональд посетил и других членов комитета. Но все равно не добился толку. Да, да, они непременно ознакомятся с этим проектом. Кажется, там прошения составлены не по установленной форме, — заявил ему кто-то из них. Ясно было, что тут дело не чисто, и за всем этим, конечно, скрывается Каупервуд. Молодой Мак-Дональд посовещался с Блэкменом и Джорданом Джулсом, и было решено принудить муниципалитет выполнить свой долг. Ведь проектируемое предприятие было вполне законным. Почему не дают городу применить новый, усовершенствованный вид транспорта? Шрайхарт, которому было предложено войти в дело на очень выгодных условиях и который рассчитывал со временем прибрать его к рукам, согласился, что нужно заставить муниципалитет рассмотреть прошения. И тотчас газеты ринулись к нему на помощь. «Нужно покончить с этим безобразием!» — кричали шрайхартовская «Кроникл», газеты Хиссопа и Мэррила и «Инкуайэрер». Если представители главенствующей партии в муниципалитете пляшут под дудку такой темной личности, как Каупервуд, и готовы в угоду ему задушить всякую иную инициативу в области городского железнодорожного транспорта, то избирателям остается только одно: выгнать вон зарвавшихся негодяев! Ни одна партия не может оставаться у власти, имея на своем счету подобные политические плутни и мошеннические сделки! Газеты изображали Мак-Кенти, Даулинга и Каупервуда алчными, тупыми противниками прогресса, темной, губительной силой. Но Каупервуд только усмехался. Весь этот вой, писк и визг свидетельствовал лишь о слабости его врагов. Позднее, когда Трумен Лесли Мак-Дональд пригрозил обратиться в суд, дабы заставить муниципалитет выполнить свой долг, Каупервуд и его присные отнеслись к этому уже не столь иронически. Судебное предписание, даже если бы оно ни к чему не привело, дало бы новую пищу газетным крикунам, а тем временем близились выборы в муниципалитет. Но, разумеется, ни Мак-Кенти, ни Каупервуд не собирались складывать оружие. В их распоряжении были деньги, возможность назначения на должности, административный аппарат, хорошо налаженная партийная машина, пивные, бары, кабаки для вербовки голосов и те темные закоулки, где ночью, в последние минуты голосования в избирательные урны подсовываются фальшивые бюллетени. Принимал ли сам Каупервуд в этом участие? Разумеется, нет. А Мак-Кенти? Тоже, конечно, нет. В прекрасных добротных костюмах и тончайшем белье, самоуверенные, благополучные, они частенько совещались в эти дни — то в конторе Чикагского кредитного общества, то в кабинете директора Северо-чикагской транспортной, то в библиотеке мистера Каупервуда. Никакие темные личности не имели сюда доступа, здесь не совершалось никаких подозрительных дел. И тем не менее, когда подоспело время, газетный заговор Шрайхарта — Симса — Мак-Дональда потерпел крах. Партия Мак-Кенти получила большинство голосов. Некоторые особенно оскандалившиеся олдермены были, правда, забаллотированы, но какое может иметь значение потеря одного-двух олдерменов? Те, что займут их место, очень скоро позабудут все предвыборные посулы и клятвы и поймут свою выгоду, а нет — так их нетрудно будет приструнить. Итак, противники Каупервуда ни на шаг не продвинулись вперед, но отношение к нему заметно изменилось к худшему, и уже в самых широких слоях населения начали поговаривать о том, что Каупервуд нечестно ведет дела и накладывает свою хищную лапу на весь городской железнодорожный транспорт в Чикаго.Глава 31
Непредвиденные открытия
Как раз во время этих бурных событий в общественной жизни Чикаго издатель Хейгенин узнал о связи своей дочери Сесили с Каупервудом, и это открытие возымело свои последствия. Выплыло это наружу безо всякого участия со стороны Эйлин, которая уже устала бороться с бесчисленными изменами мужа. Зато некая дама, работавшая в газете Хейгенина редактором светской хроники и считавшая себя весьма обязанной своему патрону, услыхав неизвестно откуда о скандальной истории с его дочкой, почла своим долгом без дальнейших околичностей выложить ему эту новость. Хейгенин, человек простой и, несмотря на свою профессию, недостаточно хорошо знавший жизнь, отказывался верить своим ушам. Каупервуд? Каупервуд, всегда такой сдержанно-учтивый, такой деловитый? До Хейгенина доходили, правда, кое-какие слухи о его прошлом, но ему казалось, что Каупервуд не станет рисковать своим положением в Чикаго и марать свою репутацию. Однако сплетня эта касалась, как-никак, его родной дочери, и Хейгенин скрепя сердце призвал к себе Сесили. Га, не выдержав допроса, призналась во всем. Как это обычно бывает в подобных случаях, Сесили заявила, что она уже совершеннолетняя и сама отвечает за свои поступки, — рассуждения, почерпнутые главным образом из бесед с Каупервудом. Хейгенин решил было ограничиться отправкой Сесили к тетке в Небраску, но Сесили заупрямилась. Тогда, опасаясь влияния на нее Каупервуда и каких-либо ответных мер со стороны последнего, ибо Каупервуд, кстати сказать, индоссировал его векселя на сто тысяч долларов, Хейгенин решил переговорить с ним лично. Конечно, это повлечет за собой разрыв отношений и некоторые финансовые осложнения, но другого выхода не было. Хейгенин уже собирался отправиться к Каупервуду, когда тот, не подозревая о том, что его отношения с Сесили перестали быть тайной, позвонил Хейгенину и пригласил его позавтракать с ним, чтобы обсудить кое-какие деловые вопросы. Хейгенин был удивлен и в то же время почувствовал известное облегчение. — Я занят сейчас, — сказал он, с трудом подбирая слова, — но, может быть, вы зайдете потом ко мне в редакцию? Мне нужно поговорить с вами. Каупервуд, полагая, что тот хочет сообщить ему какие-то интересные газетные или политические новости, пообещал быть после четырех. Он приехал в редакцию газеты, помещавшуюся в Доме прессы, и прошел в кабинет к Хейгенину, где был встречен угрюмым, суровым и глубоко уязвленным человеком. — Мистер Каупервуд, — начал Хейгенин, когда финансист, элегантный, подтянутый, довольный, живое воплощение успеха и преуспеяния, быстро вошел в кабинет, — мы с вами знакомы уже добрых полтора десятка лет, и все эти годы вы всегда встречали с моей стороны самое искреннее и дружеское расположение. Не так давно вы в свою очередь оказали мне некоторые финансовые услуги, но я полагал, что вами руководит только дружба. Совершенно случайно мне стало известно о ваших отношениях с моей дочерью. Я говорил с ней, и она призналась во всем. Простая порядочность, думается мне, должна была бы остановить вас, когда вам вздумалось включить мое дитя в число обесчещенных вами женщин. Поскольку вы рассудили иначе, мне остается только просить вас, — тут мистер Хейгенин перевел дыхание, лицо его было сурово и бледно, — забыть дорогу в мой дом. Сто тысяч долларов по индоссированным вами векселям будут оплачены мною в ближайшие дни, а вы соблаговолите вернуть мне акции, принятые вами в виде дополнительного обеспечения. Человек другого склада, мистер Каупервуд, заставил бы вас понести иного рода ответственность за ваш поступок. Вы, вероятно, никогда не имели детей или же лишены от природы отцовских чувств, иначе у вас не хватило бы духу нанести мне подобное оскорбление. Здесь у нас, в Чикаго, такие поступки не доведут вас до добра, да и в другом месте тоже, и я надеюсь, что вы скоро в этом убедитесь. Хейгенин медленно повернулся к Каупервуду спиной и направился к своему столу. Каупервуд, который выслушал его, не сморгнув глазом, внимательно и терпеливо, сказал: — Я вижу, что в этом вопросе нам с вами не столковаться, мистер Хейгенин, — мы слишком по-разному смотрим на вещи. Вы не можете встать на мою точку зрения, а я, к сожалению, не могу принять вашу. Но как бы то ни было, поскольку вы этого хотите, акции будут вам возвращены, лишь только я получу индоссированные мною векселя. Больше я ничего не имею вам сказать. Каупервуд повернулся на каблуках и с самым невозмутимым видом вышел из кабинета. «Скверно, конечно, потерять поддержку такого почтенного человека, — думал он, — ну, да обойдемся и без него. Как это глупо, что все отцы непременно хотят навязать своим дочерям добродетель, к которой те не питают ни малейшей склонности». После ухода Каупервуда Хейгенин еще долго неподвижно стоял перед письменным столом, раздумывая над тем, где достать сто тысяч долларов и как заставить Сесили понять, что она совершила непоправимую ошибку. Какой неожиданный удар и от кого? От человека, которого он считал своим другом. Потом у него мелькнула мысль, что Уолтер Мелвиль Хиссоп получает хорошие барыши со своих двух газет и может прийти ему на выручку; он расплатится с ним, как только в «Пресс» поправятся дела. Мистер Хейгенин поехал домой, недоуменно размышляя над тем, какие неприятные неожиданности готовит иной раз людям судьба. А Каупервуд отправился в Чикагское кредитное общество посовещаться с Видера; оттуда он тоже отправился домой, по дороге обдумывая, как бы ему побыстрее возместить себе потерю издателя Хейгенина. Самые различные вопросы волновали его сейчас, и судьба Сесили Хейгенин уже не занимала Каупервуда.Однако Каупервуду пришлось все-таки призадуматься, когда его связь с миссис Хосмер Хэнд, женой крупного банкира и финансиста, стала достоянием гласности. Хэнд, солидный, медлительный, флегматичный человек, несколько лет назад потерял жену, которой он был неизменно верен. После ее смерти он долгое время оставался вдовцом, с головой уйдя в свои крупные и разнообразные финансовые спекуляции. Потом его колоссальное богатство, довольно представительная внешность и хорошее положение в обществе обратили на себя внимание некоей миссис Джесси Дрю Баррет. Она принялась его обхаживать и в конце концов женила на своей дочке Керолайн, весьма решительной молодой особе, живой, неглупой, бойкой на язык, расчетливой, легкомысленной и очень веселой. Пустое сердце и честолюбивый ум, мысль о хэндовских миллионах и о возможности блистать в свете (особенно после смерти мужа) помогли Керолайн примириться с тем, что жених немолод и с ее точки зрения малопривлекателен, и она подарила его своей благосклонностью. Не обошлось, конечно, и без пересудов. Хэнд был объявлен жертвой, а Керолайн и ее мать — бесстыдными авантюристками и развратницами. Но, поскольку богач-банкир был уже прочно пойман в сети, всем, кто рассчитывал попасть в число его друзей и приближенных, надлежало быть любезными с его супругой, что они и делали. На свадьбу съехался весь чикагский «свет». Вскоре миссис Хэнд начала давать роскошные балы, обеды, музыкальные вечера. В начале своей деятельности Каупервуду не приходилось встречаться ни с мистером Хэндом, ни с его супругой. Но как-то раз, когда работы по проведению канатной дороги шли уже полным ходом, ему потребовалось срочно достать двести пятьдесят тысяч долларов. Чикагское кредитное общество, «Лейк-сити Нейшнл» и другие кредитные учреждения были уже сверх меры обременены его обязательствами, и Каупервуду пришло на ум пойти к Хэнду. Каупервуд всегда смело делал крупные займы, и в обращении, как правило, находилось большое количество его векселей. Он являлся к кому-нибудь из чикагских богачей, делал краткосрочный или долгосрочный заем под высокий или низкий процент, смотря по обстоятельствам, и нередко завязывал таким образом полезные знакомства. Что касается Хэнда, то он по своим связям явно принадлежал к враждебному лагерю — к клике Шрайхарта, старых газовых компаний, общества «Дуглас» и т. д., — однако это не остановило Каупервуда. Он надеялся, что ему удастся рассеять предубеждение банкира, если таковое существует, и расположить его к себе. Хэнд, человек практичный, уравновешенный и по натуре прямой, слышал много дурного о Каупервуде, но не хотел доверять слухам и быть к нему несправедливым. Возможно, что Каупервуд не так уж плох, как изображают его завистливые конкуренты. Поэтому, когда тот явился к нему в контору в «Рукери-Билдинг», Хэнд встретил финансиста довольно приветливо. — Прошу вас, присядьте, мистер Каупервуд, — сказал он. — Я уже слышал о вас от разных лиц, да и газеты уделяют вашим делам немало внимания. Чем могу служить? Каупервуд вынул из кармана пачку «Западно-чикагских транспортных» на сумму в пятьсот тысяч долларов. — Могу ли я получить у вас завтра утром двести пятьдесят тысяч долларов под обеспечение вот этих бумаг? Хэнд, как всегда спокойный и невозмутимый, молча посмотрел на акции. — А что же ваш банк? — спросил он, имея в виду Чикагское кредитное общество. — Разве он не может выручить вас? — Перегружен сейчас другими обязательствами, — отвечал Каупервуд со своей открытой, располагающей улыбкой. — Ну, если верить газетам, то вы неминуемо должны вылететь в трубу вместе с этой вашей канатной дорогой. Но я не слишком им верю. На какой срок нужны вам деньги? — На полгода, на год, если вы сочтете это возможным. Хэнд повертел в руках акции, разглядывая их золоченые печати. — «Западно-чикагские транспортные», привилегированные, шестипроцентные на сумму пятьсот тысяч долларов, — проронил он. — А дают они сейчас шесть процентов? — Они дают восемь. И вы увидите еще, что эти акции дойдут до двухсот долларов и будут давать двенадцать процентов. — Вы ведь, кажется, выпустили акций в четыре раза больше, чем старая компания? Ну что ж, Чикаго растет. Оставьте мне их или занесите завтра. Можете позвонить утром по телефону или прислать кого-нибудь — я дам вам ответ. Они потолковали еще немного о городских железных дорогах и других предприятиях. Хэнда интересовали участки в западной части города, около Равенсвуда, и Каупервуд дал ему дельный совет. На другой день Каупервуд позвонил Хэнду, и тот сказал ему, что обеспечение принято. Мистеру Каупервуду будет прислан чек. Так началось их знакомство, которое перешло в осторожную деловую дружбу, продолжавшуюся до тех пор, пока Хэнд не узнал об отношениях, завязавшихся между Каупервудом и его женой. Керолайн Баррет — как она иной раз предпочитала себя называть — была существом почти столь же беспокойным и непостоянным, как и Каупервуд, но уступала ему, пожалуй, в расчетливости и коварстве. Желая блистать в свете, Керолайн вместе с тем не желала подчиняться его условностям. Хэнда она не любила. Став его женой, она вознаграждала себя за эту жертву тем, что проводила дни в беспрестанных развлечениях. Ее первая встреча с Каупервудом произошла в роскошном особняке Хэндов на Норс-Шор-Драйв, где из окон открывался великолепный вид на озеро. Хэнд пригласил Каупервуда потолковать о делах. Миссис Хэнд была очень заинтригована скандальной репутацией Каупервуда. Маленькая шатенка с ярко накрашенным ртом, ослепительно белыми зубами и веселым дерзким взглядом блестящих карих глаз, она старалась быть остроумной, находчивой, забавной — и до некоторой степени преуспевала в этом. — Кто не слыхал про Фрэнка Алджернона Каупервуда? — воскликнула она, протягивая ему тонкую белую, унизанную кольцами, руку с чуть подкрашенной розовым ладонью и ногтями, обведенными хной. Глаза миссис Хэнд лучились, зубы блестели. — В газетах только о вас и пишут. Каупервуд ответил ей одной из своих самых обольстительных улыбок. — Счастлив познакомиться с вами, миссис Хэнд. И мне приходилось немало слышать о вас. Надеюсь, однако, что вы не верите всему, что пишут обо мне в газетах? — Если бы я даже и верила, это не могло бы уронить вас в моих глазах. В наше время не сплетничают только о тех, о ком нечего сказать. Каупервуд рассчитывал использовать Хэнда в своих целях и потому в этот вечер был неотразим. Разговор не выходил из рамок обычной светской болтовни, но улыбки, которыми незаметно обменивались хозяйка дома и гость, говорили красноречивее всяких слов. Каупервуд с первого взгляда понял, что миссис Хэнд вышла замуж по расчету и теперь намерена развлекаться, невзирая на ревнивый надзор своего супруга. Есть своеобразный веселый азарт в том, чтобы обмануть бдительность стража, выскользнуть из-под надзора при первом удобном случае. Именно эти чувства испытывала миссис Хэнд и потому была жива, весела, остроумна, как никогда. Каупервуд, хорошо изучивший женщин и все их повадки, разглядывал ее руки, глаза, волосы, всегда смеющийся рот. В конце концов он пришел к выводу, что миссис Хэнд очень недурна собой, и так как ей, видимо, угодно обратить на него внимание, то он не прочь ответить ей тем же. Ее пылающие щеки, выразительные взгляды и улыбки очень скоро подтвердили Каупервуду, что он не ошибся в своей догадке. Прошло несколько дней, и Каупервуд встретил миссис Хэнд на улице. Она тотчас сообщила ему, что собирается навестить друзей в Окономовоке, штат Висконсин. — Вы, вероятно, никогда не забираетесь летом в такую глушь на север? — многозначительно спросила она и улыбнулась. — Пока не забирался, — отвечал Каупервуд. — Но если меня раздразнить, я на все способен. Вы там, верно, гребете, катаетесь верхом? — Конечно. И, кроме того, играю в теннис и в гольф. — Но где же бедный странник вроде меня мог бы найти приют в этих краях? — О, насчет этого не беспокойтесь. Там сколько угодно первоклассных гостиниц. А вы тоже ездите верхом? — Да, с грехом пополам, — ответил Каупервуд, который был отличным наездником. И вот ранним воскресным утром, среди живописных холмов Висконсина, произошла нечаянная встреча миссис Керолайн Хэнд и мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда. Веселая верховая прогулка легким галопом бок о бок; пустая, беззаботная болтовня о природе, гостиницах, добрых знакомых. Потом внезапное объяснение в любви в обычной для Каупервуда смелой и решительной манере… А потом наступил день расплаты. Керолайн Хэнд была, пожалуй, чересчур беспечна. Она не любила Каупервуда, но восхищалась и гордилась им. А Каупервуда привлекала в ней молодость, жизнерадостность, дерзкая самоуверенность; это был новый для него тип женщины. По возвращении они стали встречаться в Чикаго, потом в Детройте, где у Керолайн тоже были друзья, потом в Рокфорде, куда переехала жить ее сестра. У Каупервуда было достаточно денег и свободного времени для этих встреч. Но вот как-то раз Дьюэйн Кингсленд, оптовый торговец мукой — суровый, набожный блюститель нравов и приличий, знавший Каупервуда и ходившую о нем дурную славу, встретил его погожим летним днем в окрестностях Окономовока в обществе миссис Керолайн Хэнд, а еще через несколько дней эта пара снова попалась ему на глаза уже в Чикаго, на Рэндолф-стрит, где у Каупервуда была холостая квартира. Дьюэйн Кингсленд, давно знавший «старину Хэнда», не испытал ни сомнений, ни колебаний — ему сразу стало ясно, чего требует от него долг. Он отправился к Хэнду и спросил его напрямик, известно ли ему, в каких отношениях находятся его жена и Фрэнк Каупервуд? В особняке Хэндов произошла бурная сцена. Хэнд подверг жену суровому допросу. Та отрицала все, но Хэнд ей не поверил. Волнение и наигранный гнев выдавали ее с головой. Первой мыслью Хэнда было объясниться с Каупервудом, но, будучи человеком рассудительным и практичным, он, подумав, решил, что лучше порвать с ним деловые отношения и отомстить ему другим путем. За миссис Хэнд была установлена слежка, и подкупленная Хэндом горничная вскоре нашла старую записку, написанную Керолайн Каупервуду. Хэнд потребовал от жены, чтобы она уехала в Европу (совершенно так же, как старик Батлер требовал этого в свое время от Эйлин), что вызвало новую бурю, но в конце концов миссис Хэнд подчинилась. Хэнд, всегда относившийся к Каупервуду непредубежденно и даже скорее дружелюбно, сделался одним из самых грозных и могущественных его врагов. Гнев его был безграничен. Теперь он считал Каупервуда темной и опасной личностью, от растлевающего влияния которой необходимо избавить Чикаго.
Глава 32
Вечер в игорном доме
С тех пор как Каупервуд стал все чаще и чаще оставлять Эйлин в одиночестве, ей неизменно оказывали самое преданное внимание Тейлор Лорд и Кент Мак-Кибен. Оба они восхищались Эйлин — ее внешностью, ее живым, веселым нравом, но, будучи слишком многим обязаны Каупервуду, не выходили из рамок самого почтительного поклонения — особенно в те годы, когда Каупервуд был еще горячо привязан к жене. Впоследствии они стали менее щепетильны. Эти друзья мало-помалу ввели Эйлин в чикагский полусвет, и Эйлин нашла, что там можно нескучно проводить время. В каждом большом городе существует такая смешанная среда, где люди искусства встречаются с теми из представителей высшего света, которые тяготятся условностями и ищут новых впечатлений. Это издревле знакомый нам мир богемы. Отсюда выходят те эксцентрические личности, без которых и сцена, и салон, и студия были бы лишены всякой остроты и своеобразия. В Чикаго было несколько таких мастерских — вроде мастерской Лейна Кросса или Риза Грайера, — где находила себе приют богема. Риз Грайер, обыкновенный салонный портретист, с манерами и повадками светского пройдохи, имел целую свиту почитателей. В его мастерскую и другие подобные, места Тейлор Лорд и Мак-Кибен стали водить Эйлин, желая развлечь ее в отсутствие Каупервуда. Среди друзей Тейлора Лорда и Мак-Кибена числился в то время некий Польк Линд, молодой светский вертопрах, сын крупного фабриканта сельскохозяйственных машин, проводивший время на балах, на скачках и в казино, — словом, живший в свое удовольствие. Линд был высок, статен, широкоплеч, смугл лицом, с темно-карими, почти черными глазами, курчавыми черными волосами и холеными усиками. Он щеголял изящными костюмами и военной выправкой. Искусный покоритель женских сердец, Линд гордился тем, что не хвастал своими победами, однако самодовольный его вид говорил сам за себя. Эйлин впервые увидела его в студии Риза Грайера. Это была мимолетная встреча, но Польк Линд сразу обратил на себя ее внимание; заметила она и его ответный взгляд — восхищенный и жадный. Этот взгляд показался ей чрезмерно дерзким, он испугал и даже возмутил Эйлин, однако красивое и наглое лицо Полька Линда произвело на нее впечатление. Линд принадлежал к кругу избранных, всегда манившему ее и, видимо, навеки ей недоступному. Эйлин представилось вдруг, что она встретила, наконец (Каупервуд, разумеется, был не в счет), настоящего мужчину и что поклонение этого самоуверенного светского франта было бы ей приятно, если, конечно, он будет держаться в определенных рамках. Если уж стать дурной женщиной, — как мысленно назвала это Эйлин, — так только ради такого человека. Эйлин чувствовала, что он может быть вкрадчив и нежен и в то же время решителен, смел и даже груб порой — совсем как ее Фрэнк. Вместе с тем в нем было то, чего недоставало даже Каупервуду, — тот особый светский лоск, та беззаботная небрежность, которые создаются пустой, праздной и обеспеченной жизнью, сознанием своего привилегированного положения и равнодушным презрением к чувствам и мыслям других людей. Недели две спустя она снова встретила его, но на этот раз у Кортнея Таборса, одного из приятелей Тейлора Лорда. При появлении Эйлин Линд воскликнул: — Кого я вижу! Ведь это же миссис Каупервуд! Мы встречались с вами однажды в студии Риза Грайера. Помните — Тейлор Лорд познакомил нас. С тех пор я не мог вас забыть. Я искал вас повсюду, ваш образ неотступно стоял у меня перед глазами. Вы — изумительно красивая женщина! Он приблизился к ней с восхищенным, почтительным и лукавым видом. Поведение Линда показалось Эйлин несколько странным — ну, можно ли проявлять такой бурный восторг на глазах у всех! Она не догадывалась, что, несмотря на ранний час, он побывал уже в разных домах и успел порядком угоститься виски. Глаза его блестели, сквозь смуглую кожу пробивался горячий румянец, он держал себя с ней развязно, дерзко, вызывающе. Эйлин насторожилась. Ей нравилось его смуглое мужественное лицо, красиво очерченный рот, крутые завитки волос, придававшие его голове скульптурную форму. Но его восхищение выходило за рамки приличия, и она сделала попытку ускользнуть. — Польк, идите сюда! Здесь ваша старинная приятельница Сэди Ботуэл — она хочет вас видеть, — воскликнул кто-то из гостей, беря Линда под руку. — Ну, нет, — возразил тот шутливо, хотя в голосе его прозвучало раздражение захмелевшего человека, которому чем-то досаждают. — Все эти дни, куда бы я ни пошел, я видел перед собой образ одной дамы, и теперь, когда мы, наконец, встретились, я не позволю, чтобы нас так быстро разлучили. Я хочу сначала побеседовать с ней. Эйлин рассмеялась: — Право, я очень тронута, но ведь мы, вероятно, еще встретимся, а сейчас меня зовут. — Тейлор Лорд тактично выручил ее, сказав, что хочет ее познакомить со своей приятельницей; Риз Грайер и Мак-Кибен тоже спешили уже к ней на помощь. Общими усилиями Эйлин была на этот раз избавлена от навязчивости Полька Линда. Но потом они встретились снова, и обоим стало ясно, что эта встреча будет не последней. Линд тут же вполне хладнокровно обдумал все и решил, что ему следует приложить некоторые старания и сблизиться с миссис Каупервуд. Эта женщина, хотя и не первой молодости, была как раз в его вкусе: великолепно сложена, чувственная и влекущая. Она не принадлежала к его кругу, но что ему до того? Как-никак, она жена крупного финансиста, который когда-то был принят в обществе, и у нее очень романтическое прошлое, — Линд был в этом уверен. Он сможет добиться ее, если захочет. Это будет нетрудно; он понял это сразу, с первого взгляда — ни она, ни ее жизнь не представляли для него загадки. Итак, не теряя времени даром, Польк Линд пригласил миссис Каупервуд, Тейлора Лорда, Мак-Кибена, мистера и миссис Риз Грайер и подругу миссис Грайер — мисс Кристобел Лэнмен, молоденькую и довольно хорошенькую девушку, — провести с ним вечер. Решено было сначала посмотреть модный фарс, потом поужинать у Ришелье и отправиться в какой-нибудь закрытый игорный дом. За последние годы на Южной стороне развелось множество таких злачных мест. Здесь, среди довольно претенциозной роскоши, велась крупная игра в рулетку, в трант-и-карант, в баккара и в покер, и сюда, попытать счастья, стекались как представители богемы, так и светские кутилы. После ужина у Ришелье — с цыплятами, омарами и хорошим шампанским — все были слегка навеселе и в наилучшем расположении духа. В игорном зале «Олкот клуба» Польк Линд предложил Эйлин научить ее игре в баккара или в покер, или любой другой — по ее выбору. За ужином, усадив ее между собой и Мак-Кибеном, он говорил: — Вы только слушайтесь моих советов, миссис Каупервуд, и если не выиграете, то уж свои деньги во всяком случае вернете; я вас научу, как это делается. Кстати сказать, не каждый умеет дать хороший совет, — добавил он шутливо, бросая взгляд в сторону Мак-Кибена, который в одно из своих последних посещений игорного дома очень старательно давал приятелям советы и все невпопад. — Так вы тоже играете, Кент? — спросила Эйлин лукаво, оборачиваясь к своему старому другу и покровителю. — Нет, по чести сказать, это нельзя назвать игрой, — отвечал тот улыбаясь. — Я воображал, что играю, пока не понял, что понятия не имею о том, как это делается. Вот Польк, тот всегда выигрывает. Верно, Польк? Вам нужно только его слушаться. Линд криво усмехнулся. Его крупные проигрыши в десять, пятнадцать тысяч были предметом пересудов в светских кругах Чикаго. Рассказывали, как он однажды, просидев за карточным столом круглые сутки, выиграл в баккара двадцать пять тысяч и тут же спустил их. Весь вечер Польк Линд следил за Эйлин тяжелым, многозначительным взглядом. Она не могла избежать этого взгляда, да и не хотела. Польк Линд был так хорош! В театре он все время, незаметно для окружающих, нашептывал ей на ухо комплименты. Эйлин прекрасно понимала, что у него на уме. И временами, совсем как в первые дни ее знакомства с Каупервудом, она невольно чувствовала волнение в крови. Глаза ее сияли. Как знать, быть может, она и вправду полюбит этого человека. Конечно, это было бы ужасно! Однако Фрэнку поделом, он первый стал пренебрегать ею. И хотя образ Каупервуда и сейчас неотступно стоял перед ее глазами, но Эйлин истосковалась по любви и страстно хотела снова ощутить полноту жизни. В игорном зале собралась, как обычно, нарядная оживленная толпа: актеры, актрисы, завсегдатаи клуба — две-три эксцентричные дамы из высшего общества и множество молодых игроков более или менее джентльменского вида. Тейлор Лорд и Мак-Кибен советовали дамам, на какие числа ставить для начала, а Польк Линд, низко склонившись к напудренным плечам Эйлин и бросая на стол двадцатидолларовую золотую монету, прошептал: — Позвольте мне поставить это на «катр премье» для вас. — О нет, я сама поставлю, — возразила Эйлин. — Я хочу играть на свои деньги. Иначе у меня не будет ощущения выигрыша. — Хорошо, хорошо! Но не можете же вы играть на ассигнации. — Эйлиндоставала из сумочки хрустящую пачку новых банкнот. — Их надо прежде разменять на золото. Потом вернете мне, если угодно! Смотрите! Сейчас ставки прекратятся. Пошло! Видите, видите! Останавливается! Вы наверное выиграете! — Линд замолчал, напряженно следя за маленьким шариком, который теперь вертелся все тише и тише над гнездами с номерами. — Неужели! А сколько я получу, если выпадет «катр премье»? — Эйлин старалась припомнить правила рулетки, в которую играла за границей. — Десять за один, — отвечал Линд. — Только вы их не получите. Вы проиграли. Давайте попробуем еще раз на счастье. Эта комбинация выпадает довольно часто. Один раз на десять — двенадцать игр. Мне случалось выигрывать с первой ставки. Давно не выходило «катр премье»? — спросил он у кого-то из знакомых игроков. — Да нет, не очень! Ну, как дела, Польк? — Еще неясно. — Линд снова повернулся к Эйлин. — Должно скоро выпасть. Мое правило — удваивать ставки. Тогда рано или поздно получаешь обратно весь проигрыш. — И он поставил две двадцатидолларовые монеты. — Подумать только! Значит, мы могли выиграть двести долларов! — воскликнула Эйлин. — Я совсем позабыла правила игры. Раздался голос крупье: «Ставок больше нет!» — и Эйлин сосредоточила все свое внимание на шарике. Он крутился и крутился, так что у нее даже зарябило в глазах, и вдруг остановился. — Опять не повезло, — сказал Линд. — Ну что ж, теперь поставим восемьдесят. — И он бросил на сукно четыре золотых. — И попытаем еще счастья на тридцать шестом, тринадцатом и девятом. — Небрежным жестом он положил на каждый из названных номеров по сотне долларов. Эйлин нравилась его манера игры. Линд напоминал ей Фрэнка. У него была выдержка настоящего игрока, умеющего хладнокровно рисковать. Отец Линда, зная нрав сына, определил на его содержание довольно крупную сумму, которая выплачивалась ему ежегодно. Эйлин поняла, что Линд так же азартен по натуре, как Каупервуд, только подвизаются они в разных областях. Вероятно, при своей бесшабашности, Линд рано или поздно свернет себе шею, но что с того? Он джентльмен с головы до пят. У него прочное положение в обществе. А она, видно, никогда этого не достигнет. Мысль о провале ее светской карьеры не переставала печалить Эйлин. — Ох, у меня даже голова закружилась! — воскликнула она и весело, как девочка, захлопала в ладоши. — Сколько же это я теперь получу, если выиграю? — Многие обернулись в ее сторону, хотя в эту минуту шарик как раз остановился. — Вот видите, ваша взяла! — крикнул Линд, следивший за крупье. — Восемьсот, двести, еще двести… — он считал про себя, — но тринадцатый проиграл. Отлично — значит, за вычетом ставок мы выиграли около тысячи долларов. Неплохо для начала — что вы скажете? Теперь я бы советовал вам до поры до времени не ставить на «катр премье». Попробуем удвоить тринадцать — мы проиграли на нем и будем играть по формуле Бейтса. Сейчас я вам все объясню. У Линда была слава азартного игрока, и за его стулом уже начинали собираться зрители. Эйлин как зачарованная следила за ним, увлеченная таинственным капризом случая. Оторвавшись от игры, Линд обернулся к Эйлин, увидел ее сияющую улыбку и, близко наклонившись к ее лицу, прошептал: — Какие у вас чудесные глаза, какие волосы! Вы кажетесь мне большой, пышно распустившейся розой. Вы ослепительны и вся словно светитесь изнутри. — О, мистер Линд! Перестаньте. Неужели игра всегда так действует на ваше воображение? — Всегда, всегда, только не игра, а вы, — и он упорным, красноречивым взглядом посмотрел в ее поднятые к нему глаза. Линд продолжал ставить очень крупно, всякий раз подчеркивая, что играет для Эйлин. Следуя своей системе, он удвоил предыдущую ставку и положил на стол кучку золотых в тысячу долларов. Эйлин стала просить его играть для себя — она будет просто наблюдательницей. — Вы играйте по своей системе, а я буду ставить сама маленькими суммами на разные номера. Согласны? — Нет, нет, не согласен, — решительно отвечал он. — Вы — моя удача. Мы играем вместе. Вы будете раскладывать ставки по клеткам. Если мы выиграем, я куплю вам какую-нибудь красивую безделушку. Проигрыш плачу я. — Ну, как хотите. Я, правда, мало смыслю в этой игре. Значит, если мы выиграем, я получу от вас что-нибудь на память? — Выиграем мы или проиграем, я все равно вам что-нибудь подарю, — прошептал Линд. — А теперь ставьте на те номера, которые я буду называть. Двадцать долларов на седьмой. Восемьдесят — на тринадцатый. Двадцать — на девятый. Пятьдесят — на двадцать четвертый. — Линд ставил по разработанной им самим системе, и белая пухлая ручка Эйлин послушно клала золотые кружочки то на одну, то на другую клетку, а взволнованные зрители придвигались все ближе: эта пара вела самую крупную игру в зале. Линд играл азартно, в расчете на эффект. Он потерял тысячу пятьдесят долларов сразу. — Как, мы проиграли всю эту кучу денег? — с притворным ужасом воскликнула Эйлин, когда крупье сгреб лопаточкой их ставки. — Ничего, ничего, мы получим их обратно, — заявил Польк Линд, бросая кассиру две тысячедолларовых банкноты. — Разменяйте на золото. Получив две полных пригоршни золотых, он высыпал их на стол, между розоватых ладоней Эйлин. — Сто долларов — на второй, сто — на четвертый, сто — на шестой, сто — на восьмой. Все монеты были по пять долларов, и Эйлин, проворно составив из них невысокие желтые столбики, передвинула каждый на соответствующую клетку. Остальные игроки снова прервали игру и с интересом наблюдали за этой необыкновенной парой. Розовые щеки и сияющие глаза, копна рыжевато-золотистых волос и пышный туалет из шелка и кружев — все в Эйлин невольно приковывало взоры, а рядом с ней — Польк Линд, красивый, статный, в превосходно сшитом фраке и белоснежном крахмальном белье, выгодно оттенявшем его смуглое лицо и кудрявые темные волосы… Поистине очень эффектная пара. — Что тут происходит? Что такое? — спросил, протискиваясь к ним, Риз Грайер. — Крупная игра? Это вы играете, миссис Каупервуд? — Игра самая обычная, — небрежно отвечал Линд. — Просто мы играем по определенной системе — миссис Каупервуд и я. Играем сообща. Эйлин улыбалась. Она чувствовала себя в своей стихии. На нее обращают внимание! Она начинает блистать. Наконец-то! — Сто — на двенадцать. Сто — на восемнадцать. Сто — на двадцать шесть. — Черт возьми, что вы затеяли, Линд? — воскликнул Тейлор Лорд, оставив миссис Риз и подходя к их столу. Миссис Риз не замедлила последовать за ним. Подходили и еще какие-то люди, — толпа зрителей росла. Шел второй час ночи, игра была в самом разгаре, и залы переполнены. — Как интересно! — воскликнула мисс Лэнмен, сидевшая в противоположном конце стола. Она бросила игру и стала следить за Эйлин и Линдом. Мак-Кибен, стоявший за ее стулом, тоже перестал ставить и смотрел в их сторону. — Они крупно играют. Посмотрите, сколько золота! А какой у нее задорный вид, верно? А он… — Унизанные кольцами руки Эйлин непрерывно двигались, ловко и проворно раскладывая ставки. — Видите, он опять меняет деньги. — Достав из кармана еще одну толстую пачку банкнот, Линд менял их на золото. — Не правда ли — необыкновенная пара? Почти весь стол был уже покрыт ставками Линда, — аккуратными желтыми столбиками золотых. Теперь Линд играл по так называемой «системе Мазарини». В случае выигрыша он должен был получить пять к одному и мог сорвать банк. Вокруг стола собралась уже целая толпа. Яркий свет подчеркивал напряжение, написанное на лицах. «Крупная игра!», «Он хочет сорвать банк!» — слышалось то здесь, то там. Линд играл смело, с поразительным хладнокровием. Он сидел очень прямо, сосредоточенно глядя на стол перед собой, зажав в зубах незажженную папиросу. Эйлин была взволнована, как ребенок, получивший в подарок интересную игрушку. Она чувствовала себя в центре внимания, и это приводило ее в восторг. Тейлор Лорд смотрел на нее, сочувственно улыбаясь. Он симпатизировал ей. Ну что ж, пусть забавляется. Надо же ей развлекаться время от времени. Но Линд — дурак! Рисковать такими крупными суммами только затем, чтобы пустить пыль в глаза! — Ставок больше нет! — объявил крупье. Шарик снова пришел в движение и снова приковал к себе все взоры. Он крутился и крутился, и Эйлин вся превратилась в напряженное ожидание. Щеки у нее разгорелись, глаза сияли. — Если мы проиграем, — сказал Линд, — удвоим еще раз ставки, а если нам снова не повезет, — покончим на этом. — Он проиграл уже около трех тысяч долларов. — Да, да, конечно. Только, мне кажется, лучше кончить сейчас. Ведь в случае проигрыша мы потеряем еще две тысячи долларов. Вы не думаете, что уже хватит? Нельзя сказать, чтобы я принесла вам счастье! — Вы сами — счастье, — прошептал Линд. — Единственное счастье, которое мне нужно. Попытаем удачи еще раз. Еще один последний раз вместе — идет? Если мы выиграем, я кончу на этом. Эйлин кивнула, и в ту же секунду шарик с легким стуком остановился, и крупье, выплатив несколько мелких ставок, неторопливо сгреб все остальное золото в специальное отверстие в столе. Зрители отозвались на это вздохом разочарования, сочувственным шепотом. — Сколько у них было поставлено? — спросила мисс Лэнмен, глядя на Мак-Кибена расширенными от изумления глазами. — По-моему, уйма денег! — Тысячи две, вероятно. Не так уж много в конце-то концов. Бывают игры, когда ставки достигают восьми, десяти тысяч. Всяко бывает. — Мак-Кибен был настроен скептически. — Да, да, конечно, но это случается не так уж часто, я думаю! — Послушайте, Польк! — воскликнул Риз Грайер, приближаясь к Линду и дергая его за рукав. — Если вам непременно нужно освободиться от ваших денег, так отдайте их лучше мне. Я не хуже этого крупье сумею сгрести их; пригоню небольшую тачку, отвезу домой и найду им хорошее применение. Ведь это ужас, как вы зарываетесь! Линд отнесся к своей потере совершенно невозмутимо. — Ну, теперь удвоим ставки и либо вернем весь проигрыш, либо пойдем вниз и будем пить шампанское к есть гренки с сыром. Что бы вы хотели получить на память об этом вечере, миссис Каупервуд? Впрочем, я знаю одну премилую вещицу! И он, улыбаясь, разменял еще одну пачку банкнот. Эйлин медленно, словно с неохотой, раскладывала ставки. Она не одобряла такой азартной игры и вместе с тем невольно увлеклась — ей нравился риск. Через несколько минут ставки были сделаны — в тех же комбинациях, только удвоенные — ровно четыре тысячи долларов. Раздался голос крупье, шарик побежал по кругу и остановился. Крупье выплатил триста долларов и забрал все остальное. — Ну вот, теперь можно приниматься за гренки, — беззаботно воскликнул Польк Линд, оборачиваясь к Тейлору Лорду, который, улыбаясь, стоял за его стулом. — Нет ли у вас спичек, Лорд? Нам здорово не везло сегодня, ничего не скажешь. Линд в душе был слегка раздосадован, он надеялся выиграть и часть денег истратить на ожерелье или другую безделушку для Эйлин. А теперь придется раскошелиться еще и на подарок. Вместе с тем он чувствовал некоторое удовлетворение оттого, что показал Эйлин, как легко и беззаботно можно просаживать в рулетку крупные суммы. Это явно произвело на нее впечатление. Он встал и предложил ей руку. — Итак, мы проиграли, миледи, — сказал он шутливо. — Но я надеюсь, что это вас немножко позабавило? Последняя комбинация, в случае удачи, могла бы принести вам неплохой выигрыш. Ну, не повезло сегодня — в другой раз повезет. И он ласково и беспечно улыбнулся Эйлин. — Но я должна была принести вам счастье и не принесла, — сказала она. — Вы — единственное счастье, к которому я стремлюсь, — лишь бы вы захотели мне его дать. Прошу вас, приходите завтра к Ришелье, мы позавтракаем вместе, хорошо? — Я подумаю, — сказала Эйлин. Его пылкая настойчивость заставила ее насторожиться. — Нет, завтра я не могу, — решила она после минутного размышления. — Я занята. — Тогда, может быть, во вторник? Эйлин вдруг поняла, что ей не следует принимать это слишком всерьез, и ответила небрежно: — Во вторник? Чудесно. Только позвоните мне накануне. Мало ли что может измениться за это время, — и она дружелюбно улыбнулась ему. В этот вечер Линду не пришлось больше говорить с Эйлин наедине. И только на прощанье он многозначительно пожал ей руку. Нервная дрожь пробежала по ее телу, но она поспешила себя успокоить: просто в ней говорит жажда жизни, жажда расплаты, но она должна хорошенько все обдумать. Хочет ли она, чтобы эти отношения развивались? Этот вопрос ей надо решить прежде всего. Но как это часто бывает, обстоятельства пришли ей на помощь, решив за нее, и подсознательно она уже знала, что ее ждет, когда возвратилась домой в тот вечер и Тейлор Лорд галантно помог ей выйти из экипажа.Глава 33
Мистер Линд приходит на помощь
Появление такого человека, как предприимчивый Польк Линд, на жизненном пути Эйлин, да еще в тот момент, когда в ее семейных делах наступил разлад, было одной из причуд судьбы, которые нельзя объяснить простой случайностью, хотя истинная природа их никем еще не разгадана. Эйлин в одиночестве печально размышляла над своей горькой участью, над своими ошибками. И вот появился Польк Линд — неотразимый, напористый Лотарио из города Чикаго… Среди окружавших Эйлин мужчин не было никого, — исключая, разумеется, Каупервуда, — кто в такой мере отвечал бы ее требованиям и вкусам, как обольстительный мистер Линд. Он и в самом деле был не лишен привлекательности. Сравнительно молодой — ровесник Эйлин, получивший в свое время если не образование, то воспитание в одном из наиболее привилегированных американских колледжей, он со вкусом одевался, со вкусом выбирал друзей и вообще умел жить со вкусом, а по существу был повесой и распутником. С юных лет он любил азартную игру, много пил, но это почти не отзывалось на его железном здоровье; поглотив несметное количество алкоголя, Линд бывал разве что «под хмельком». Немалое место в его жизни занимала также страсть к женщинам, которую Гиббон назвал «самым приятным из наших пороков». Упорное, терпеливое, жестокое накопление богатства, которому посвятил себя его отец, создавая свое гигантское предприятие, интересовало Полька Линда не больше, чем священные таинства халдеев. Он признавал, впрочем, что доходное предприятие само по себе — превосходная штука, и любил иногда думать о грандиозных линдовских заводах, раскинувшихся на огромном пространстве, мысленно представляя себе бесконечные однообразные ряды кирпичных строений, высокие дымящиеся трубы, пронзительные заводские гудки. Но принимать какое-либо участие в унылой рутине управления всей этой машиной — нет уж, увольте! Для Эйлин наибольшая опасность таилась сейчас в ее непомерном тщеславии и самолюбии. Трудно было бы найти более тщеславное и вместе с тем сильнее истосковавшееся по любви существо, чем она. Почему, почему, спрашивала себя Эйлин, приходится ей вечно сидеть в одиночестве, терзаясь думами о Фрэнке, изводясь от ревности и тоски, в то время как он порхает где-то, словно мотылек, и наслаждается всеми радостями жизни? Что мешает ей, пока красота еще не увяла, подарить ее другим мужчинам, которые сумеют оценить этот дар? Разве такое возмездие Фрэнку не было бы справедливым? Но Каупервуд был все еще дорог Эйлин; даже сейчас, даже в мыслях она не могла решиться на измену. Он умел быть так очарователен, так нежен, когда ему хотелось ее приласкать. Когда Польк Линд напомнил Эйлин ее обещание встретиться с ним, она сначала ответила отказом, и на этом все могло бы кончиться, если бы обстоятельства сложились по-другому. Но случилось так, что именно в это время Эйлин стала чуть ли не ежедневно получать все новые доказательства неверности Каупервуда, все новые напоминания о его изменах. Так, явившись однажды к Хейгенинам, с которыми она старалась поддерживать дружбу, пока правда не выплыла наружу, Эйлин услышала, что «миссис Хейгенин нет дома». Вскоре после этого «Пресс», всегда писавшая о Каупервуде в дружественном тоне, что побуждало Эйлин читать именно эту газету, внезапно резко изменила свою позицию и разразилась нападками по его адресу. Сначала это были лишь патетические возгласы по поводу того, что намерения Каупервуда и проводимая, им политика идут вразрез с интересами города. Но затем появилась передовая, в которой Каупервуд уже попросту именовался «филадельфийским авантюристом», «грабителем», «бессовестным прожектером» и так далее и тому подобное. Эйлин мгновенно поняла, в чем причина такой перемены, но была слишком погружена в свое горе, чтобы пускаться в объяснения с Фрэнком. Она чувствовала себя совершенно беспомощной перед лицом всех этих обвинений и угроз, направленных против Фрэнка, и не видела никакого выхода из своего отчаянного положения. А еще несколько дней спустя, просматривая «Сэтердей ревю», усердную вестницу всех светских сплетен города, Эйлин наткнулась на скандальную заметку, которая нанесла ей страшный удар.«За последнее время в высших кругах чикагского общества, — говорилось в заметке, — вызывают немало толков любовные похождения некоего субъекта, обладающего большим состоянием и довольно сомнительной известностью. Господин этот делал в свое время безуспешные попытки втереться в лучшие дома Чикаго. Нам нет нужды называть здесь его имя, так как всем, кто знаком с последними событиями чикагской общественной жизни, будет ясно, кого мы имеем в виду. И без того грязная репутация этого авантюриста недавно обогатилась, как говорят, еще двумя бесчестными поступками. Последними жертвами пали — жена весьма почтенного чикагского коммерсанта и дочь не менее уважаемого общественного деятеля. Следует отметить, что такими подвигами вышеупомянутый субъект естественно нажил себе могущественных врагов и в светских и в деловых кругах, ибо муж одной из дам, о которых было сказано выше, и отец другой пользуются большим весом и влиянием в городе. Уже не раз говорилось о том, что Чикаго не должен и не станет терпеть разбойничьи приемы, к которым прибегает этот господин во всех своих финансовых и общественных делах, однако до сих пор не было принято никаких сколько-нибудь серьезных мер, чтобы от него избавиться. Особенное изумление вызывает у всех то, что жена этого субъекта, которую он привез сюда из Восточных штатов и которая, как говорят, самым скандальным образом пожертвовала и своей репутацией и семейным очагом другой женщины ради сомнительного удовольствия разделить с ним его судьбу, продолжает оставаться с этим человеком и по сей день».
Все было ясно. Отец «одной из дам» — это, конечно, Хейгенин, или, быть может, Кокрейн; скорее Хейгенин, Муж другой… но кого же они имеют в виду? Эйлин ничего не слышала о связи Каупервуда с какой-либо замужней женщиной. Рита Сольберг? Нет, не может быть, это уже далекое прошлое. Значит, какое-то новое любовное приключение, о котором она даже и не подозревала. И снова Эйлин сидела одна и думала, думала… Теперь, сказала она себе, если Линд еще раз пригласит ее, она примет его приглашение.
Встреча Эйлин с Польком Линдом произошла спустя несколько дней в раззолоченном зале ресторана Ришелье. Эйлин твердила себе, что Линд ей совершенно безразличен, однако, как ни странно, уделила в тот вечер сугубое внимание своему туалету. Стоял февраль, холодный ветер наметал на улицах сверкающие белизной сугробы, и Эйлин надела темно-зеленое шерстяное платье с большими пуговицами из ляпис-лазури, сходившимися углом на ее груди, от плеч к талии, котиковую шапочку с изумрудным пером, котиковый жакет, тоже отделанный огромными серебряными пуговицами ручной работы, и бронзовые туфельки. Подумав, Эйлин прибавила к этому туалету серьги из ляпис-лазури в форме цветка и тяжелый, гладкий золотой браслет. Линд устремился ей навстречу: на его красивом смуглом лице было написано восхищение. — Вы выглядите очаровательно! — воскликнул он, когда они сели за столик. — С каким вкусом вы умеете подбирать тона. Эти серьги необыкновенно идут к вашим волосам. Польк Линд неизменно пугал Эйлин своим беззастенчивым восторгом, но она невольно покорялась его настойчивой лести, упорной, непреклонной воле, скрытой под маской светского обольстителя. Даже в тонких смуглых мускулистых руках Линда чувствовалась незаурядная сила — так же как в его твердом подбородке и в улыбке, обнажавшей ряд ровных белых зубов. — Итак, вы все-таки пришли, — в упор глядя на нее, произнес он. Она смело встретила его взгляд, но тут же отвела глаза. Линд внимательно, неторопливо разглядывал ее подбородок, рот, небольшой, слегка вздернутый нос. Яркий румянец, крепкие сильные руки и плечи, обрисованные плотно облегающим платьем, — в Эйлин было то, что он больше всего ценил в женщинах: неуемная жизненная сила. Чтобы прервать молчание, Линд заказал коктейль с виски и стал уговаривать Эйлин выпить, но она отказалась. Тогда он вынул из кармана небольшой футляр. — Вы помните тот вечер, в казино? Вы обещали принять от меня что-нибудь на память, — сказал он. — Небольшую безделушку. Угадайте, что в этом футляре? Эйлин растерянно посмотрела на Линда. В таком футляре могли быть только драгоценности. — О нет, нет, вы не должны этого делать, — запротестовала она. — Ведь я согласилась только в том случае, если мы выиграем. А мы проиграли — значит, не о чем и говорить. Наоборот, я еще сержусь на вас за то, что вы не позволили мне заплатить мой проигрыш. — Вот это поистине было бы весьма галантно с моей стороны, — рассмеялся Линд, играя длинным лакированным футляром. — Что ж хорошего, если б я оказался таким невежей? Докажите, что вы настоящий игрок, настоящий товарищ, как говорится. Угадайте, и коробочка ваша. Эйлин кокетливо надула губки — как он настойчив! — Ну что ж, попробую, — снисходительно сказала она. — Просто ради шутки, конечно. Это, вероятно, серьги, или булавка, или браслет… Линд молча открыл футляр, и Эйлин увидела золотое ожерелье в виде виноградной лозы тончайшей филигранной работы; в центре его, среди золотых листьев, сверкал большой черный опал. Линд знал, что поразить воображение Эйлин, имевшей уйму драгоценностей, можно только чем-то незаурядным. Он внимательно следил за ней, пока она рассматривала ожерелье. — Какая тонкая работа! — воскликнула Эйлин. — И какой чудесный опал! Очень странная форма. — Она перебирала ожерелье, листик за листиком. — Но это безумие! Я не могу принять такой подарок. У меня и без того куча драгоценностей, и к тому же… («А что, если Фрэнк увидит это ожерелье? Как объяснить ему, откуда оно взялось? — думала Эйлин. — Он ведь сразу догадается!»). — И к тому же? — вопросительно повторил Линд. — Нет, ничего, просто я не могу принять это, вот и все. — Неужели вы не хотите взять его на память, если даже… помните наш уговор? — Если что? — Если даже мы видимся сегодня в последний раз. Пусть у вас останется хоть память обо мне… Он сжал ее пальцы своей большой, сильной рукой. Год, даже полгода назад Эйлин с улыбкой отняла бы руку. Теперь она заколебалась. К чему быть недотрогой, если Фрэнк так жесток к ней? — Скажите, я ведь не совсем безразличен вам? — спросил Линд, заметив колебание Эйлин и еще крепче сжимая ее пальцы. — Да, конечно, вы мне нравитесь… Но и только, — однако, сказав это, она невольно зарделась. Линд молчал, не сводя с нее упорного, горячего взора. Чувственное волнение охватило Эйлин, и на мгновение она забыла о Каупервуде. Это было удивительное, совсем новое для нее ощущение. Она вся горела ответным огнем, а Линд смотрел на нее, улыбаясь ласково и ободряюще. — Почему вы не хотите быть мне другом, Эйлин? Я знаю, вы несчастливы, я вижу это. И я несчастлив тоже. У меня проклятый, беспокойный характер, и я много натерпелся из-за этого в жизни. Мне нужен друг, который любил бы меня. Почему вы не хотите мне помочь? Мы с вами созданы друг для друга, я чувствую это. Неужели вы так сильно любите его? — Линд разумел Каупервуда. — Неужели ваше сердце совсем закрыто для других? — Люблю ли я его!.. — с горечью повторила Эйлин, и слова ее прозвучали почти как отречение. — Да. А ему это все равно, он больше не любит меня. Дело не в нем. — А в чем же? Я вам не нравлюсь? Вам скучно со мной? Вы не чувствуете, что мы подходим друг к другу? — И снова его рука слегка коснулась ее руки. Эйлин не противилась этой ласке. — Нет, нет, не то, — сказала она горячо, внезапно вспомнив все, весь свой долгий путь с Каупервудом, его любовь, его страстные уверения. Как мечтала она о жизни с ним, какие строила планы! А теперь сидит здесь, в ресторане, и кокетничает с чужим, малознакомым человеком, позволяя ему жалеть себя! Эта мысль жгучей болью отозвалась в ее сердце. Она сжала губы, но горячие, непрошенные слезы уже прихлынули к ее глазам. Линд увидел, что она готова расплакаться. Ему стало жаль ее, но она была красива, и он решил сыграть на ее настроении. — Зачем же плакать, любимая? — сказал он нежно, глядя на ее пылающие щеки и ярко-синие, полные слез глаза. — Вы красавица, молодая, обаятельная. Разве ваш муж — единственный мужчина на свете? Почему вы хотите хранить ему верность, хотя его измены для вас не тайна? Об этой истории с миссис Хэнд говорит весь город, вы встретили человека, который искренне полюбил вас, и отвергаете его любовь. Если ваш муж не ценит вас, то ведь есть другие, которые ценят. Услышав имя миссис Хэнд, Эйлин насторожилась. — О какой истории вы говорите? — спросила она, подняв брови. — Как, разве вы не знаете? — удивился Линд. — Я был уверен, что вам все известно, иначе я никогда не заговорил бы об этом. — О, я догадываюсь! — воскликнула Эйлин с горькой усмешкой. — Уже столько было всяких историй. «Жена крупного финансиста…» — так, кажется, сказано в «Сэтердей ревю»?.. Так вот кого они имели в виду! Значит, у него роман с миссис Хэнд? — Да, по-видимому, — отвечал Линд. — Мне очень жаль, что я заговорил об этом. Вот уж действительно поневоле попал в сплетники. — Круговая порука? — насмешливо спросила Эйлин. — Нет, не потому. Не нужно быть злюкой. Я вовсе не такой скверный, как вам кажется. Просто это не в моих правилах. В конце концов все мы не без греха. — Да, да, конечно, — рассеянно подтвердила Эйлин, думая о миссис Хэнд. Так вот это значит кто! Последнее увлечение Фрэнка! — Ну что ж, во всяком случае я не могу не одобрить его выбор, — сказала она, вымученно улыбнувшись. — Все равно этих женщин было уже так много! Одной больше, одной меньше. Линд усмехнулся. Он и сам одобрял выбор Каупервуда и решил, что лучше переменить тему беседы. — Не стоит больше говорить об этом, — сказал он. — Не сокрушайтесь из-за него, дорогая. Возьмите себя в руки. Тут уж ничего нельзя изменить. — Он снова сжал ее пальцы. — Ну как, согласны? — О чем это вы? — О, вы же знаете! Согласны вы подружиться со мной? Принять это ожерелье и меня в придачу? — Его глаза улыбались, в них была и ласка, и вызов. Эйлин покачала головой. — Вы просто скверный, избалованный мальчик, — сказала она уклончиво. Сделанное ею открытие снова пробудило в ней мстительные чувства. — Дайте мне подумать. Не заставляйте меня брать это ожерелье сегодня. Я не могу. Все равно мне не придется его надевать. А потом видно будет. — Она сделала неопределенный жест, и Линд поймал на лету ее руку и погладил. — Хотите пойти со мной в мастерскую к моему приятелю-художнику? — спросил он как бы между прочим. — Это здесь неподалеку. Вы увидите прелестную коллекцию пейзажей. Вы ведь любите картины, я знаю. У вашего супруга есть превосходные полотна. Эйлин мгновенно поняла, куда он клонит, поняла инстинктивно. Эта мастерская, очевидно, просто холостая квартира. — Только не сегодня, — сказала она нервно, испуганно. — Нет, нет, не сегодня. Как-нибудь в другой раз. Теперь мне пора домой. Мы еще увидимся. — А это? — спросил Линд, указывая на футляр. — Пусть пока останется у вас, до нашей следующей встречи. Быть может, я и надумаю потом принять ваш подарок… Эйлин была рада, что все так благополучно кончилось и она может вернуться домой. У нее сразу отлегло от сердца. Однако Линд отнюдь не был ей безразличен, и все чувства ее были в смятении, словно клочья гонимых ветром облаков. Ей просто хотелось отдалить, хоть немного отдалить неизбежное.
Глава 34
Хосмер Хэнд выступает на арену
Мрачная ярость Хэнда, скорбь и гнев Хейгенина, злобное неистовство Рэдмонда Парди, который без устали рассказывал всем свою печальную историю, мстительная ненависть молодого Мак-Дональда и всех его присных из Общечикагской городской создали вокруг Каупервуда атмосферу, таившую для него серьезные неприятности и даже опасности. Самым непримиримым врагом Каупервуда стал Хосмер Хэнд. Огромное богатство и видное положение, которое он занимал в многочисленных коммерческих и финансовых предприятиях города, давали ему в руки могущественное оружие против Каупервуда. Хэнд был без памяти влюблен в свою молодую жену. Не имея никакого опыта в отношении женщин, он удивлялся и негодовал при мысли о том, что Каупервуд посмел так беззастенчиво и нагло посягнуть на его права, так легко, походя, опозорить его. Хэнд горел жаждой мести; медленно и упорно разгоралось это пламя и жгло его душу. Всякий, кто знаком с миром дельцов, крупных коммерческих и финансовых операций, знает, как важно здесь иметь репутацию человека солидного, положительного, степенного, то есть обладать теми качествами, которые служат залогом успеха многих коммерческих предприятий. Правда, порядочность отнюдь не является отличительной чертой представителей вышеупомянутого мира, но это не мешает каждому из них ждать и даже требовать порядочности от других. Никто с такой жадностью не прислушивается к слухам, не собирает с таким усердием сплетен, которые могут повредить карьере того или иного дельца, не следит так пристально и неутомимо за чужими делами и не прячет с таким тщанием свои собственные грязные дела и делишки, как деятели коммерческого и финансового мира. Кредит Каупервуда был до сих пор достаточно прочен, ибо все знали, что чикагские городские железные дороги — весьма и весьма доходное дело, что Каупервуд без задержки погашает все свои обязательства, что он фактически стоит во главе созданного им вместе с группой других предпринимателей Чикагского кредитного общества и двух городских железнодорожных компаний — Северной и Западной, — и наконец, что «Лейк-Сити Нейшнл бэнк», все еще возглавляемый Эддисоном, охотно принимает в обеспечение бумаги Фрэнка Каупервуда. Правда, и раньше у Каупервуда находились недруги вроде Шрайхарта, Симса и других влиятельных коммерсантов из кредитного общества «Дуглас», которые кричали на всех перекрестках, что Каупервуд выскочка и аферист, что вся его деятельность построена на грязных политических махинациях и обмане общественного мнения и что он не брезгует даже прямым мошенничеством в финансовых делах. Так, например, незадолго до описываемых событий Шрайхарт, состоявший наряду с Хэндом, Арнилом и рядом других дельцов членом правления «Лейк-Сити Нейшнл», вышел из его состава и изъял все свои вклады, ибо, как он объяснил, Эддисон уж слишком широко ссужает Каупервуда и Чикагское кредитное общество деньгами, не считаясь с интересами руководимого им банка. Арнил и Хэнд, не питавшие в то время личной неприязни к Каупервуду, сочли это обвинение необоснованным. Эддисон же заявил, что ссуды, получаемые Каупервудом, не превышают всех прочих ссуд, выдаваемых банком, а предоставляемое под них обеспечение — вполне солидно. — Я не хочу ссориться с Шрайхартом, — сказал Эддисон, — но боюсь, что он судит предвзято. Он хочет использовать «Лейк-Сити Нейшнл» как орудие своей личной мести. Этак действовать не годится. Хэнд и Арнил, оба люди здравомыслящие, согласились с Эддисоном, который всегда пользовался их уважением, и на том дело и кончилось. Шрайхарт, однако, продолжал трубить им в уши, что Каупервуд укрепляет Чикагское кредитное общество за счет «Лейк-Сити Нейшнл», добиваясь возможности впредь обходиться без помощи последнего. Эддисон же метит выйти в отставку и потому не очень-то печется о будущем банка. Эти предостережения поневоле заставляли Хэнда иной раз призадуматься, но пока он ничего не предпринимал. Однако, когда весть о связи Каупервуда с миссис Хэнд достигла ушей ее супруга, на горизонте начали собираться тучи. Хэнд был уязвлен в самое сердце и решил как следует расквитаться с обидчиком. Встретив Шрайхарта на каком-то деловом совещании вскоре после рокового открытия, Хэнд сказал: — Несколько лет назад, Норман, когда вы предостерегали нас против этого типа — Каупервуда, я думал, что в вас говорит зависть к более удачливому дельцу. Недавно под влиянием кое-каких событий я переменил свое мнение. Теперь я знаю, что этот человек — прожженный негодяй. Очень жаль, что мы вынуждены терпеть его в нашем городе. — Значит, и вы раскусили его наконец, Хосмер? — сказал Шрайхарт. — Ладно, не буду уж напоминать вам, как давно я это утверждал. Надеюсь, вы согласны теперь, что город должен принять какие-то меры, чтобы обуздать этого проходимца? Хэнд, угрюмый и, как всегда, немногословный, внимательно посмотрел на Шрайхарта. — Я лично готов действовать, — сказал он, — как только увижу, что тут можно предпринять. Вскоре после этого разговора Шрайхарт встретил Дьюэйна Кингсленда и, узнав истинную подоплеку внезапной ненависти Хэнда к Каупервуду, не замедлил поделиться этой пикантной новостью с Мэррилом, Симсом и прочими. Мэррил, который всегда восхищался смелостью и предприимчивостью Каупервуда и даже симпатизировал ему, хотя тот и отказался продолжить линию, выходящую из туннеля у Ла-Саль-стрит, до Стэйт-стрит, где помещался его магазин, был возмущен до глубины души. — Ну, Энсон, — сказал Шрайхарт, — теперь вы видите, что это за тип! У него сердце гиены и душа хамелеона. Вы слышали, как он поступил с Хэндом? — Нет, — отвечал Мэррил, — ничего не слышал. — Не слышали? Ну, доложу я вам… — и Шрайхарт, наклонившись к уху Мэррила, поспешил сообщить все, что было ему известно. Мэррил приподнял брови. — Не может быть! — сказал он. — А вы знаете, как он с ней познакомился? — с негодованием продолжал Шрайхарт. — Он явился к Хэнду, чтобы сделать у него заем в двести пятьдесят тысяч долларов под «Западно-чикагские транспортные». Что вы скажете? Ведь этому нет названия! — Вот так история, — сказал Мэррил довольно безразличным тоном, хотя в душе был очень заинтригован, ибо всегда считал миссис Хэнд весьма привлекательной молодой особой. — Впрочем, я не особенно удивлен. Мэррилу припомнилось вдруг, что еще совсем недавно его жена с необыкновенной настойчивостью требовала, чтобы он пригласил в гости Каупервуда. Хэнд же, со своей стороны, встретив Арнила, признался ему, что Каупервуд позволил себе посягнуть на святость его семейного очага. Арнил был поражен и опечален. Его другу Хэнду нанесено тяжкое оскорбление! Они вдвоем решили потребовать от Эддисона, чтобы он, как директор «Лейк-Сити Нейшнл», немедленно прекратил всякие деловые отношения с Каупервудом и Чикагским кредитным обществом. В ответ на это требование Эддисон весьма учтиво выразил готовность известить Каупервуда о том, что он должен погасить все свои займы, но тут же подал в отставку, чтобы семь месяцев спустя занять пост директора Чикагского кредитного общества. Такое вероломство вызвало чрезвычайное волнение в деловых кругах города, поразив даже тех, кто предрекал, что рано или поздно это должно случиться. Все газеты оживленно обсуждали событие. — Ладно, скатертью дорога, — угрюмо заметил Арнил Хэнду в тот день, когда Эддисон поставил в известность членов правления «Лейк-Сити Нейшнл» о своем уходе. — Если он решил порвать с банком и связать свою судьбу с этим авантюристом, — что ж, его дело. Но как бы ему не пришлось об этом пожалеть. Между тем в Чикаго приближались выборы в муниципалитет. Хэнд и Шрайхарт решили воспользоваться этим обстоятельством, чтобы свалить Каупервуда, действуя единым фронтом со своим другом Арнилом. Хосмер Хэнд считал, что долг призывает его к действию, и принялся за дело без промедления. Он всегда был несколько тяжел на подъем, но, раз ввязавшись в драку, умел биться упорно и ожесточенно. Зная, что для предстоящей выборной кампании ему нужен ловкий и расторопный помощник, он после некоторых размышлений остановил свой выбор на Пэтрике Джилгене — том самом Пэтрике Джилгене, который принимал когда-то участие в «газовой войне» Каупервуда за концессию в предместье Хайд-парк. Теперь мистер Джилген был уже довольно состоятельным человеком. Он обладал редкой способностью сходиться с людьми самого различного сорта, умел держать язык за зубами, не признавал за широкими массами никаких прав, вследствие чего в делах общественных отличался редкой беспринципностью, — словом, имел все данные к тому, чтобы сделать блестящую политическую карьеру. Мистер Пэтрик Джилген был владельцем одного из самых шикарных питейных заведений на Уэнтуорс авеню. Оно все сияло и сверкало, залитое светом калильных ламп (новинка в Чикаго!), яркие огни которых отражались в бесчисленных зеркалах, заставляя их грани переливаться всеми цветами радуги. Избирательный округ, который Пэтрик Джилген представлял от своей партии в конгрессе штата, был застроен одноэтажными ветхими домишками, теснившимися вдоль немощеных улиц, но мистер Джилген тем не менее был уже сенатором штата, кандидатом в члены конгресса на предстоящих выборах и, в случае победы республиканской партии, вероятным преемником достопочтенного Джона Дж. Мак-Кенти на его неофициальном посту Диктатора города. (Хайд-парк до слияния с городом всегда считался республиканским районом, и потому Пэтрику Джилгену неудобно было теперь перекинуться в другой лагерь, хотя большая часть города обычно стояла за демократов.) Во время предвыборной кампании стало очевидно, что среди политических деятелей Южной стороны Пэтрик Джилген пользуется наибольшим влиянием, и Хэнд решил пригласить его к себе для переговоров. Надо сказать, что Хэнд куда больше одобрял холодный практический расчет и беспощадную логику Каупервуда, чем велеречивое, пустое морализирование Хейгенина или Хиссопа, которые довольствовались тем, что читали мораль и таким образом пытались победить зло добром. Если Каупервуд с помощью Мак-Кенти мог забрать такую силу, то он, Хэнд, найдет кого-нибудь другого, кто с его помощью побьет Мак-Кенти. — Мистер Джилген, — сказал Хэнд, когда этот ирландец — краснолицый, коренастый, с хитрыми серыми глазками и здоровенными волосатыми ручищами, предстал перед ним, — вы меня не знаете… — Но я достаточно знаю о вас, — улыбаясь, прервал его тот с легким ирландским акцентом. — Мы можем, я полагаю, разговаривать, не дожидаясь, когда нас представят друг другу. — Отлично, — сказал Хэнд, протягивая ему руку. — Я тоже вас знаю и думаю, что мы найдем общий язык. Мне хотелось обсудить с вами нынешнюю политическую обстановку в Чикаго. Я сам не политик, но меня интересует все, что делается у нас здесь, и мне хотелось бы услышать ваше мнение о том, что нас ждет в ближайшем будущем, какие могут произойти перемены. Джилген не имел ни малейшей охоты сообщать свои политические прогнозы человеку, чьи намерения были ему неизвестны. — О, я думаю, что у республиканцев неплохие виды на успех, — отвечал он. — Почти вся пресса, за исключением одной или двух газет, поддерживает их. Впрочем, я знаю только то, что печатают в газетах да о чем толкуют вокруг. Мистер Хэнд отлично понял, что Джилген увиливает от прямого ответа, и это пришлось ему по душе: такой человек ему и нужен — осторожный, хитрый, расчетливый. — Я пригласил вас сюда, мистер Джилген, разумеется, не только для того, чтобы потолковать о политике. У меня есть к вам вполне определенное предложение. Не знакомы ли вы случайно с мистером Мак-Кенти или, быть может, с мистером Каупервудом? — Мне никогда не приходилось разговаривать ни с кем из них, — ответил Джилген. — Но я знаю мистера Мак-Кенти в лицо, да и мистера Каупервуда мне тоже приходилось видеть. — Больше он ничего не прибавил. — Отлично, — сказал Хэнд. — Предположим теперь, что группа достаточно влиятельных в Чикаго лиц берется довольно широко субсидировать предвыборную кампанию республиканцев. Возьметесь ли вы, со своей стороны, с помощью вашей партии и при поддержке газет организовать провал демократов на выборах? Речь идет не только о мэре и главных должностных лицах, но о полной смене всего состава муниципалитета, всех олдерменов, понятно? Нам нужно, чтобы клика Каупервуда — Мак-Кенти не могла больше подкупить ни одного городского чиновника, ни одного вновь избранного олдермена. Демократы должны потерпеть такое поражение, такой крах, чтобы это было всем и каждому ясно. За деньгами мы не постоим, если вы дадите мне, или, вернее, группе лиц, интересы которой я представляю, доказательства того, что мы можем рассчитывать на успех. Мистер Джилген состроил серьезную мину, помигал своими крохотными глазками, потер ладонями колени, заложил большие пальцы за проймы жилета, потом достал из кармана сигару, закурил и меланхолически уставился в потолок. Он размышлял, напряженно размышлял. Каупервуд и Мак-Кенти — люди могущественные. В своем избирательном округе и в некоторых прилегающих к нему округах, а также в восемнадцатом округе, от которого он был избран сенатором, мистеру Джилгену всегда удавалось справляться с оппозицией Мак-Кенти. Но одолеть Мак-Кенти по всем округам — это задача потрудней. Однако мысль о крупных средствах, которыми он будет единолично распоряжаться, очень вдохновляла мистера Джилгена, как, впрочем, и перспектива с помощью почтеннейших лиц, так сказать столпов чикагского общества, отнять у Мак-Кенти власть над городом! Мистер Джилген был весьма ловким политиком. Он любил устраивать заговоры, вести подкопы, заключать хитроумнейшие сделки — все это интриганства ради. И сейчас он хоть и принял серьезный, озабоченный вид, но сердце его радовалось. — Я слышал, — продолжал Хэнд, — что вам удалось сколотить крепкую организацию в своем районе и округе? — Да, мы не сдаем позиций, — ухмыльнулся Джилген. — Но побить демократов по всему Чикаго, — продолжал онпомолчав, — не простая задача. В эти выборы в городе будет тридцать один избирательный округ, и за исключением восьми — все они в руках демократов. Я знаю их кандидатов, это все большие ловкачи. В муниципальном совете у них сидит Даулинг, тоже отнюдь не дурак, имейте в виду. А кроме него, у них там еще Унгерих и Дуваницкий, Тирнен и Кэриген, и никто из джентльменов себя в обиду не даст. — Упомянутые выше лица принадлежали к числу наиболее влиятельных и наиболее продувных олдерменов. — Вы видите, мистер Хэнд, как обстоит дело: демократы держат в руках весь аппарат, они распределяют должности, работу и тем самым вербуют себе сторонников. А потом без стеснения тянут деньги со всех, кто у них там занимает хлебные местечки, чтобы с помощью этих денег добиваться победы на выборах. Это, как вы сами понимаете, большое подспорье. — Джилген многозначительно улыбнулся. — Ну, затем на предприятиях этого самого Каупервуда занято сейчас по меньшей мере тысяч десять рабочих; любой босс избирательного округа, поддерживающий Каупервуда, может прислать к нему любого безработного, и у Каупервуда наверняка найдется для него работенка. А это ведь очень и очень способствует увеличению числа сторонников его партии. Кроме того, надо принять во внимание, что такие богачи, как Каупервуд и ему подобные, не скупятся на деньги во время выборов. Что бы там ни говорили, мистер Хэнд, а все же исход дела решают доллары — два, пять, десять, — которые кто-нибудь в последнюю минуту выкладывает на стойку в баре или даже сует избирателю в карман перед самой избирательной урной. Дайте мне хорошую сумму денег, — и как бы в подкрепление этой благородной идеи мистер Джилген выпрямился и стукнул кулаком о ладонь, положив предварительно сигару, чтобы не обжечься, — и я поведу за собой все избирательные округа Чикаго, все до единого! Но для этого нужны деньги! — повторил он, выразительно подчеркнув два последних слова. Потом снова сунул сигару в рот, откинулся на спинку стула и вызывающе прищурился. — Хорошо, — сказал Хэнд просто. — Сколько же вам нужно? — Ну, это уж другой вопрос, — отвечал Джилген, мгновенно выпрямляясь. — Одни округа обойдутся дороже, другие дешевле. Откинув восемь республиканских — о них беспокоиться нечего, — мы должны будем обработать еще восемнадцать для того, чтобы получить большинство в муниципалитете. На мой взгляд, не имея десяти — пятнадцати тысяч долларов на округ, не стоит и затевать дело. Для верности я бы сказал, что всего потребуется тысяч триста — никак не меньше. Мистер Джилген затянулся сигарой и, выпустив густые клубы дыма, уставился в потолок. — А как будут расходоваться эти деньги? — осведомился мистер Хэнд. — О, в такие подробности никогда не следует особенно вдаваться, — безмятежно отвечал мистер Джилген. — В политике кроить в обрез не приходится. Учтите: мы ведь связаны с руководителями участков, организаторами, уполномоченными по кварталам, агентами… Все они должны иметь немалые деньги для работы, чтобы, так сказать, располагать к себе души и сердца, и было бы большой ошибкой допытываться у них, как и куда они эти деньги тратят. Деньги нужны, чтобы поставить папаше пару пива и купить мамаше пакет угля, а маленькому Джонни — новый костюмчик. А торжественные шествия с факелами? А залы для собраний? А оплата разных крупных и мелких услуг? Да мало ли что. Тут расходов не оберешься, будьте покойны. Некоторые округа придется перед выборами временно заселить погуще, а значит неделю, а то и дней десять оплачивать содержание наших агентов в меблированных комнатах… Мистер Джилген утомленно махнул рукой и умолк. Мистер Хэнд, никогда не интересовавшийся деталями политических махинаций, слегка приподнял брови. «Предвыборное заселение округов?.. Не слишком ли это дорогая затея?» — подумал он. — А кто же ведает распределением денег? — спросил он наконец. — Номинально — окружной комитет республиканской партии, если ему это поручено, фактически — то лицо или группа лиц, которые руководят борьбой. У демократов этим лицом является Джон Дж. Мак-Кенти, и вам следует об этом помнить. В моем округе — это я, и только я. Мистер Хэнд, уравновешенный, медлительный, а в иных случаях даже несколько туповатый, сдвинул брови и погрузился в раздумье. До сих пор ему приходилось иметь дело только с людьми из так называемого хорошего общества, которые не принимали непосредственного участия в темных предвыборных плутнях, совершавшихся в задних комнатах баров и пивных. Как и все дельцы, он знал, конечно, что нередки случаи, когда в урны опускаются фальшивые избирательные бюллетени и в отдельных округах меблированные комнаты временно заселяются нужными людьми. Каждому, хоть мало-мальски искушенному в этих делах, человеку известно, что деньги на проведение предвыборных кампаний собираются с тех, кто жаждет получить ту или иную должность, а также с тех, кто пользуется всевозможными поблажками, привилегиями и благодеяниями лиц, стоящих у кормила правления. Сам Хэнд не раз делал пожертвования в фонд республиканской партии в благодарность за уже оказанные услуги или в счет будущих. Он понимал, что, ворочая большими делами в больших масштабах, не следует скупиться на побочные расходы. Конечно, триста тысяч долларов — деньги не малые, но Хэнд и не собирался вынимать их все из своего кармана, предполагая, что такую сумму можно будет собрать при некотором нажиме с его стороны. Но годится ли Джилген на то, чтобы побить Каупервуда? Мистер Хэнд еще раз окинул своего собеседника внимательным взглядом и решил, что, за неимением лучшего, сойдет и Джилген. Итак, сделка состоялась. Джилген, как член центрального комитета республиканской партии, а в будущем, возможно, и его председатель, должен был обойти все округа, не оставив без внимания ни единой сколько-нибудь стоящей республиканской организации, выбрать сильных, надежных антикаупервудовских кандидатов и попытаться провести их в муниципалитет; а Хэнд в свою очередь должен был раздобыть деньги и передать их Джилгену в собственные руки. Кроме того, Джилгену обеспечивалась безоговорочная, хотя и тайная, поддержка всех влиятельных членов республиканской партии в Чикаго. Его дело было — победить любой ценой. В случае успеха республиканская партия поддержит его кандидатуру на выборах в конгресс. Если же это почему-либо не выгорит, его поставят во главе республиканской партии города и округа. «Ну, как бы то ни было, — сказал себе Хэнд, когда мистер Джилген, наконец, откланялся, — а мистеру Каупервуду будет теперь не так-то легко обделывать свои дела. Не успеет он оглянуться, как придет пора возобновлять концессии, и если только я буду жив, мы поглядим, что у него из этого получится». Последние слова финансист проворчал уже почти вслух. Он чувствовал неистребимую ненависть к этому человеку, который, как он полагал, отнял у него привязанность его очаровательной молодой супруги.Глава 35
Политическая сделка
В описываемое время в первом и втором избирательных округах Чикаго, включавших в себя деловую часть города, Южную Кларк-стрит, пристань, набережную и несколько прилегающих к ним улиц и переулков, немалой известностью пользовались два человека — Майк Тирнен (он же «Веселый Майк») и Пэтрик Кэриген (он же «Изумрудный Пэт»). По своеобразию характеров и подозрительности делишек вторую такую пару не легко было бы сыскать в городе, а быть может и во всей Америке. «Веселый Майк» Тирнен, гордый обладатель четырех самых вместительных и самых грязных пивных района, отличался внушительными размерами и весьма округлыми формами. Ростом шесть футов и один дюйм, широкоплечий, с бычьей шеей и большой, круглой, как шар, головой, здоровенными волосатыми кулачищами и огромными ступнями, Майк Тирнен испробовал на своем веку немало самых различных занятий, начиная от очистки выгребных ям и кончая деятельностью члена муниципального совета в Чикаго. Выдвинутый на этот пост дорогим его сердцу первым избирательным округом, «Веселый Майк» довольно регулярно предавал интересы своих избирателей, — в сущности, всякий раз, как для этого представлялся удобный случай. Но излюбленным времяпрепровождением Майка было сидеть в задней комнате своего трактира «Серебряная луна» на Кларк-стрит, за палисандровым столом, отгороженным от остального пространства солидной перегородкой красного дерева. Здесь подсчитывал он доходы со своих разнообразных предприятий — пивных, игорных притонов и домов терпимости, которые он содержал при содействии или попустительстве городской администрации, смотревшей на его деятельность сквозь пальцы, и здесь же выслушивал жалобы и просьбы своих клиентов, арендаторов и просто прихвостней. Мистер Кэриген, единственный соперник мистера Тирнена в его нелегкой и довольно темной деятельности, был человеком несколько иного склада. Невысокого роста, весьма щеголеватый, с худым лицом, украшенным колючими усиками, с хитрыми темно-карими глазками и целой копной черных как смоль волос, разделенных аккуратным косым пробором, он являл собой фигуру довольно представительную и безусловно колоритную. Словом, на него стоило поглядеть, в особенности, если вспомнить, что помимо всего прочего мистер Кэриген был еще обладателем больших торчащих ушей, придававших ему сходство с летучей мышью. В делах финансовых он смыслил значительно больше мистера Тирнена, да и денег у него водилось больше, хотя ему было всего тридцать пять лет, в то время как мистеру Тирнену шел уже пятый десяток. Подобно мистеру Тирнену в первом избирательном округе, мистер Кэриген был крупной силой во втором и держал в руках тех «неоседлых» избирателей, которые могут быть и очень полезны и чрезвычайно опасны для исхода выборов, смотря по обстоятельствам. Портовые грузчики, сезонные рабочие, бездомные бродяги, воры, хулиганы, жулики, шпики стекались со всех концов города в пивные мистера Кэригена. Он был очень тщеславен и почитал себя красавцем и сердцеедом. Женатый на молодой степенной женщине, отец двух детей, мистер Кэриген содержал еще и любовниц, которых он менял примерно раз в год, не считая «случайных» девиц. Одевался он весьма вычурно, хотя и кичился тем, что не носил никаких украшений, кроме булавки с колоссальным изумрудом стоимостью в четырнадцать тысяч долларов, которая в особо торжественных случаях сверкала в его галстуке, приводя в изумление всю Дирборн-стрит и муниципальный совет. Из-за этой-то булавки его и прозвали «Изумрудным Пэтом». На первых порах такое прозвище доставляло мистеру Кэригену немало простодушной радости, так же как и золотая с бриллиантами медаль — выражение признательности чикагских пивоваров за несметное количество проданных им бочонков пива, — в этой области мистер Кэриген не знал себе равных. Впоследствии, однако, когда газеты начали уделять слишком пристальное и ироническое внимание особе мистера Кэригена, так же как и особе мистера Тирнена, и их материальному процветанию, мистер Кэриген потерял вкус и к тому и к другому. Отношение обоих этих джентльменов к тогдашней политической обстановке в Чикаго было довольно своеобразным и, как выяснилось впоследствии, весьма опасным для союза Каупервуд — Мак-Кенти. Тирнен и Кэриген, будучи соседями и приятелями, обделывали сообща разные делишки как по части коммерции, так и политики, и от случая к случаю оказывали друг другу различные услуги. Занимаясь делами весьма сомнительного и рискованного свойства, они оба нередко нуждались в совете, а порой и в утешении. Им, конечно, было далеко до такого человека, как Мак-Кенти, с его острым нюхом и железной хваткой, однако, по мере того как оба приятеля преуспевали в своих делах, зависть к Мак-Кенти и его высокому положению начинала все больше разъедать их души. Успехи Мак-Кенти заставляли их призадумываться. Они неустанно и ревниво наблюдали за тем, как Мак-Кенти после своего союза с Каупервудом неуклонно шел в гору, как он умел из всего извлечь для себя выгоду — получал хорошую мзду от городской полиции и ежегодно собирал крупную дань с предпринимателей, пользовавшихся любезностями газового и водного отделов муниципалитета. Мак-Кенти, прирожденный интриган, знал, где в случае необходимости можно получить средства на осуществление тех или иных махинаций, и, не колеблясь, черпал из этих источников. Он был всегда в меру любезен с Тирненом и Кэригеном, поскольку это входило в его расчеты, однако ни тот, ни другой не были причислены к тайной клике его ближайших сподвижников. Когда Мак-Кенти случалось бывать в торговых кварталах, он заглядывал к ним в пивные, спрашивал, как идет торговля, не может ли он чем-нибудь быть полезен, пожимал руку на прощанье, но ни разу не снизошел до того, чтобы лично обратиться к ним с той или иной просьбой или пообещать ту или иную награду. Этим должен был заниматься Даулинг или другие лица, через которых Мак-Кенти устраивал свои дела. Наделенные нравом беспокойным, хищным и напористым, Тирнен и Кэриген не находили удовлетворения своим растущим аппетитам и жадно искали случая расширить круг своей деятельности, дабы стяжать славу и приумножить доходы. В смысле подтасовки избирательных голосов их округа перещеголяли все другие округа города; количество законных избирателей было здесь не так уж велико, но зато какой простор для «дублирования» голосов на разных участках, для «заселения», для подсовывания в избирательные урны фальшивых бюллетеней! Во время выборов в муниципалитет, когда чаши весов начинали колебаться то в одну, то в другую сторону, первый и второй округа, совместно с частью третьего, соседнего с ними округа, умудрялись зарегистрировать такое количество фальшивых бюллетеней даже по истечении времени, отведенного для голосования, что эта подтасовка коренным образом меняла весь состав городского самоуправления. Во время предвыборных кампаний Тирнен и Кэриген получали от окружного комитета демократической партии крупные суммы, которыми они распоряжались по своему усмотрению. Самый приблизительный подсчет предполагаемых расходов — вот и все, что от них требовалось, после чего им всегда вручалось несколько больше, чем они просили. Куда шли эти деньги — об этом они никому не давали отчета, да никто с них его и не спрашивал. Тирнен получал от пятнадцати до восемнадцати тысяч долларов, Кэриген — тысяч двадцать, иной раз двадцать пять, так как его район играл особо важную роль. Мак-Кенти уже начал подумывать о том, что не мешало бы как-то отметить деятельность Тирнена и Кэригена, ибо мало-помалу они становились особами довольно влиятельными. Но как это сделать? Оба они не пользовались общественным доверием, про них шла худая слава — так же как и про их округа и практиковавшиеся там методы предвыборной борьбы. Однако город рос, росли и расширялись многообразные коммерческие предприятия господ Тирнена и Кэригена, а вместе с этим росла и потребность в противозаконных предвыборных плутнях, на которые эти двое были такие мастера, и потому день ото дня сия достойная пара становилась все требовательнее и все беспокойнее. «Почему бы мне не выставить свою кандидатуру на какой-нибудь более высокий пост?» — не раз уже вопрошал себя каждый из них. Тирнен, например, был бы совсем не прочь занять пост шерифа или городского казначея. Он считал себя человеком как нельзя более подходящим для любой из этих должностей. Кэриген на последней конференции городской организации демократической партии старался исподтишка внушить Мак-Кенти благую мысль выдвинуть его на должность инспектора шоссейных дорог и канализации; ему очень хотелось получить это тепленькое местечко, так как было заведомо известно, что оно приносит совсем неплохой побочный доход. Однако в этом году оппозиция республиканцев была сильнее, чем когда-либо, и потому список кандидатов демократической партии должен был быть безупречен и включать в него кандидатуры Кэригена или Тирнена было просто немыслимо. Это значило бы восстановить против себя всех почтенных, солидных избирателей. А Тирнен и Кэриген, перебирая в уме все свои заслуги, бывшие и будущие, возмущались и негодовали. Им не хватало широты кругозора, чтобы понять, в какой мере, несмотря на все их старания, такие люди, как они, опасны для своей партии! После беседы с Хэндом Джилген обошел весь город и не скупился на посулы. В результате ему удалось завербовать немало восторженных сторонников для республиканской партии. Можно было надеяться, что в тех избирательных округах и участках, где преобладала так называемая «чистая публика», все наиболее почтенные избиратели на сей раз довольно единодушно объединятся против Каупервуда, вняв голосу неутомимо обличающих его газет. В районах, заселенных беднотой, дело обстояло несколько сложнее. Правда, и здесь, выложив изрядную сумму денег, можно было найти каких-нибудь отъявленных плутов, которые согласятся «зарезать» своих единомышленников, но это было дело рискованное и неверное. А так как слухи о недовольстве Кэригена и Тирнена доходили до Джилгена со всех сторон, то он решил навестить их и выяснить, нельзя ли окончательно восстановить обоих приятелей против нынешних заправил и перетянуть в свой лагерь. Мистер Джилген, хотя и принадлежал к враждебной партии, но был уверен, что скорее найдет с ними общий язык, чем мистер Мак-Кенти или мистер Даулинг. По зрелом размышлении он положил свой первый визит нанести «Изумрудному Пэту», с которым был немного знаком, хотя на политической почве им еще и не приходилось снюхиваться, и, не мешкая более, направился в «Центральную пивную» на Дирборн-стрит. Знаменитая пивная — типичные «политические задворки» Чикаго тех дней — была довольно внушительным заведением, среди различных достопримечательностей которого не последнее место занимала круглая буфетная стойка вишневого дерева, — она, словно диковинная горная цепь, опоясывала зал, сверкая белым и цветным стеклом стаканов и пестрыми наклейками бутылок, отражавшимися в зеркалах. Пол в пивной был сложен из красных и зеленых, уже слегка стершихся, мраморных квадратиков, а потолок веселил взор намалеванными на нем пышными розовотелыми красавицами, парящими нагишом среди прозрачных облаков. Панели на стенах были в алую и коричневую полоску с филенкой из палисандрового дерева. Мистер Кэриген, если у него не было каких-либо безотлагательных дел, обычно торчал здесь с утра до ночи, болтая с приятелями и любуясь великолепием своего торгового предприятия. В тот день взору Джилгена он предстал в ослепительном щегольском костюме — темно-коричневом в ярко-красную полоску, в бордовом галстуке, украшенном прославленным изумрудом, шевровых ботинках и соломенной шляпе новомодного фасона и устрашающих размеров. Вместо жилета талию мистера Кэригена облегал шелковый кушак — последняя причуда современной моды. Короче говоря, он являл разительный контраст с мистером Джилгеном, который ввалился в пивную красный, запыхавшийся, потный, в легком фланелевом костюме кремового цвета и желтых полуботинках. — Как поживаете, Кэриген? — любезно приветствовал его мистер Джилген, ибо эти политические противники не враждовали друг с другом. — Как идут дела, как торговля? Изумруд, я вижу, на месте, не потеряли еще? — Нет, такая опасность ему не угрожает. Дела что ж, идут понемножку. А вы как поживаете, мистер Джилген? — мистер Кэриген радушно протянул руку. — Мне бы надо с вами потолковать. Можете уделить мне минутку? Вместо ответа мистер Кэриген провел гостя в заднюю комнату; до него уже доходили слухи, что республиканцы сколачивают сильную оппозицию к предстоящим выборам. Мистер Джилген опустился на стул. — Я, как вы сами понимаете, пришел к вам по поводу тех событий, которые предстоят нам этой осенью, — начал он с непринужденной улыбкой. — Считается, что нас с вами разделяет вроде как бы барьер, да так оно, пожалуй, и было до сих пор, а я вот подумал — не сломать ли нам его на сей раз? Мистер Кэриген насторожился, но и глазом не сморгнул. — Что вы такое надумали? — спросил он, поглядев на гостя с самым простодушным видом. — Я всегда готов поддержать хорошую идею. — Дело в том, — продолжал мистер Джилген, нащупывая почву, — что у вас тут хороший большой избирательный округ, и вы крепко держите его в руках; то же самое можно сказать и про Тирнена… Это всем известно. Но известно также и то, что если бы вы с Тирненом так рьяно не орудовали, то демократическая партия вряд ли неизменно проводила бы своего мэра. А между тем, если хорошенько вникнуть в дело, так ни вы, ни Тирнен, на мой взгляд, не получаете того, что вам следовало бы получать по заслугам. Мистер Джилген помолчал, но мистер Кэриген, соблюдая осторожность, не проронил ни слова. — Так вот, у меня есть к вам предложение, а вы вольны принять его или отвергнуть, — мы из-за этого ссориться не станем. Мак-Кенти или не Мак-Кенти, а в эти выборы республиканцы, как мне кажется, должны победить, независимо от того, с кем будут первый, второй и третий округи. Сделки вашего главаря, — мистер Джилген имел в виду Мак-Кенти, — с этим субъектом с Северной Кларк-стрит, — сей джентльмен любил по временам выражаться несколько туманно, — слишком уж намозолили всем глаза. Вы же видите, как настроены газеты. Так вот, мне случайно стало известно, что на это дело отпущены немалые денежки кое-кем из наших финансовых тузов, которым этот господин с его городскими железными дорогами стал, как видно, поперек горла. Тут, насколько я понимаю, замешаны весьма крупные люди с Ла-Саль-стрит и с Дирборн-стрит. А в чем причина — не знаю. Ясно только, что все это неспроста. Быть может, вам известно даже больше, чем мне. Во всяком случае так обстоят дела. Теперь учтите, что восемь округов — республиканские, как ни крути, и еще десять — ни нашим, ни вашим, значит их можно перетянуть к нам в два счета. Вы понимаете, к чему я клоню? Но давайте плюнем пока на эти десять, будем считать только восемь — те, что уж никуда от нас не денутся. Тогда остается, значит, двадцать три округа, которые мы, республиканцы, всегда уступали вам. Теперь вообразите себе, что нам удастся на этот раз перетащить на свою сторону тринадцать округов из этих двадцати трех, что тогда? Тогда эти тринадцать, да еще восемь, о которых я вам уже говорил, — и мы имеем большинство в муниципалитете, и… — тут мистер Джилген щелкнул пальцами, — все вы летите вверх тормашками — и вы, и Мак-Кенти, и Каупервуд, и все прочие. Никаких концессий, никаких контрактов на мощение улиц, никаких разрешений на проведение газа. Ничего по меньшей мере в течение двух лет, а то, глядишь, и больше. Если мы победим, все сделки, все лакомые кусочки перепадут нам. — Джилген перевел дух и с веселым вызовом поглядел на Кэригена. — Ну так вот, я на днях объехал весь город, — продолжал он, — побывал во всех округах, на всех участках, и, уж поверьте, — знаю, о чем говорю. У меня сейчас хватит и людей и денег, чтобы повести борьбу по всей линии. На этих выборах мы возьмем верх — я и большие воротилы с Ла-Саль-стрит и все республиканцы или демократы, или противники алкогольных напитков, или кто бы то ни было — словом, все, кто захочет пойти с нами, — вы меня понимаете? На этих выборах мы дадим такой бой, какой еще не снился Чикаго! Я пока не могу назвать вам имен, но придет время, и вы все узнаете. Я вам прямо скажу, чего мне от вас надо, — я ведь не любитель ходить вокруг да около. Хотите вы с Тирненом присоединиться ко мне и Эдстрому и годика на два забрать город в свои руки? Если мы будем действовать сообща, мы можем победить, даже пальцем не шевельнув. А потом поделим все доходы поровну — газ, воду, городской транспорт, шоссейные дороги, полицию, — все. Или, если хотите, можем поделить все наперед и записать сейчас что — кому, черным по белому. Я знаю, что вы с Тирненом работаете заодно, иначе я не стал бы и толковать об этом. У Эдстрома все его шведы побегут за ним, куда он захочет; на этих выборах они дадут ему двадцать тысяч голосов. Потом еще Унгерих со своими немцами. Один из нас может с ним договориться и выделить для них потом какие-нибудь тепленькие местечки. Если мы победим, мы можем продержать город в своих руках лет шесть, а то и восемь, а потом… да стоит ли загадывать так далеко… Во всяком случае мы будем иметь большинство в муниципалитете, и мэр будет ходить у нас на поводу. — Да, если… — сухо вставил мистер Кэриген. — Верно, если… — как эхо отозвался мистер Джилген. — Вы правы, конечно. Во всем этом есть еще одно большое «если», не отрицаю. Но если ваши два округа — ваш и Тирнена — по тем или иным причинам перейдут на сторону республиканцев, — это будет равносильно поддержке четырех или пяти других округов. — Правильно, — согласился мистер Кэриген. — Если они перейдут. Но они этого не сделают. Чего вы, собственно, от меня хотите? Чтобы я лишился своего места в муниципалитете и вылетел из демократической партии? Этого вы добиваетесь? Да что, вы меня совсем за дурака считаете, что ли? — Жаль мне того человека, который вздумает считать «Изумрудного Пэта» за дурака, — льстиво отвечал Джилген. — Я во всяком случае на такой промах не способен. Кто просит вас терять место в муниципалитете и вылетать из партии? Кто мешает вам быть избранным в муниципалитет и провалить, — у мистера Джилгена чуть не сорвалось с языка «зарезать», — остальных кандидатов вашего списка? Мистер Кэриген улыбнулся. Хоть он последнее время и проявлял довольно открыто свое недовольство политической обстановкой в Чикаго, но никак не ожидал, что мистер Джилген сделает ему такое предложение. Идея показалась ему стоящей. «Зарезать» одного-двух кандидатов, с которыми желательно было развязаться, — это ему случалось проделывать и раньше. Если демократической партии и вправду грозит опасность провалиться на предстоящих выборах и если Джилген готов честно распределить посты и поделить доходы, то над его предложением следует подумать. Ни Каупервуд, ни Мак-Кенти, ни Джилген ничем его особенно не вознаграждали. Если ему удастся провалить их ставленников, а самому удержаться в муниципалитете, им придется прийти к нему на поклон. Изобличить его они едва ли сумеют. А если так, то почему бы, действительно, не «зарезать» их кандидатов? Во всяком случае подумать стоит. Придя к такому выводу, мистер Кэриген произнес сухо: — Все это очень хорошо, но кто мне поручится, что вы не измените потом вашему слову и не оставите меня с носом? (Услыхав такое предположение, мистер Джилген раздраженно заерзал на стуле.) Дэйв Морисси тоже вот просил меня помочь ему года четыре назад. Не очень-то много было мне от этого проку. — Слова мистера Кэригена относились к одному неблагодарному субъекту, которому он помог занять пост секретаря окружного совета. Когда впоследствии мистер Кэриген в награду за свои старания захотел воспользоваться его поддержкой для получения вожделенной должности инспектора шоссейных дорог, тот для него и пальцем не шевельнул. Этот Морисси стал теперь чрезвычайно важной персоной в политических кругах. — Вы, конечно, вольны говорить все, что вам угодно, — с раздражением отвечал мистер Джилген, — но в отношении меня это несправедливо. Спросите тех, кто меня знает. Спросите любого человека из моего округа. Мы можем оформить нашу сделку на бумаге — вы напишете свои обязательства, а я — свои, черным по белому. Если я не сдержу слова, вы в два счета выведете меня на чистую воду. Я сведу вас с людьми, которые меня поддерживают. Вы увидите, какие мне отпущены средства. На этот раз у меня будет все, что нужно. Что вы теряете в конце-то концов? Они не могут выгнать вас за то, что вы провалите остальной список. Как они докажут? Мы приведем полицию, чтобы вся процедура выборов имела законный вид. Я не поскуплюсь на деньги, лишь бы иметь этот округ за собой. Мистер Кэриген понял, что здесь можно хорошо поживиться. С демократов можно «сорвать» (как мысленно выразился мистер Кэриген) от двадцати до двадцати пяти тысяч долларов за ту грязную работу, которую он для них проделывает. Джилгену он нужен позарез, и тот выложит, конечно, не меньше. Тысяч пятнадцать-восемнадцать понадобится, пожалуй, чтобы обеспечить необходимое количество голосов, которые в зависимости от нужды можно будет использовать либо так, либо этак. В последний час перед окончанием голосования он выяснит, как прошли выборы по другим округам. Если будет ясно, что республиканцы одерживают верх, он поможет им доконать противников, а потом свалит всю вину на своих подручных — скажет, что их подкупили. А если окажется, что одолевают демократы, он плюнет на Джилгена и положит в карман его денежки. Так или иначе, тысяч двадцать пять — тридцать он на этом деле заработает и по-прежнему останется членом муниципалитета. — Ну, допустим, что вы правы, — заметил Кэриген, изображая нерешительность, хотя он давно уже все решил. — Но тем не менее это дьявольски щекотливое дело. Не знаю, стоит ли за него браться, даже если верить, что оно выгорит. Что верно, то верно, наши заправилы из муниципалитета не очень-то щедро вознаграждают меня за труды, но не забывайте, что я демократ, а второй округ — искони демократический. Если только выплывет наружу, что я сыграл такую штуку со своей партией, мне крышка. — Я человек слова, — важно заявил Джилген, поднимаясь со стула. — Если я обещал — значит, не подведу. Спросите обо мне в восемнадцатом. Слыхали вы, чтобы я хоть раз в жизни кого-нибудь обманул? — Нет, нет, не слыхал, — примирительно отвечал Кэриген. — Но это очень серьезная штука — то, что вы мне предлагаете, мистер Джилген. Я не хочу решать этот вопрос на ходу. Округ считается демократическим. Шутка ли переманить его на сторону республиканцев, — вы знаете, какой подымется шум? Повидайтесь-ка с мистером Тирненом — послушаем сначала, что он вам скажет. А потом, быть может, мы с вами еще раз потолкуем. Сейчас решать рановато. Мистер Джилген удалился в самом бодром и веселом расположении духа. Он отнюдь не был обескуражен.Глава 36
Выборы приближаются
Несколько дней спустя мистер Кэриген как бы невзначай наведался к мистеру Тирнену. Мистер Тирнен нанес ему ответный визит. Вскоре после этого в городе Милуоки в небольшой гостинице (подальше от нескромных взоров) состоялось совещание между господами Тирненом, Кэригеном и Джилгеном. А вслед за этим произошла заключительная встреча господ Тирнена, Эдстрома, Кэригена и Джилгена, в результате которой возник план дележа, слишком сложный и запутанный, чтобы воспроизводить его здесь. Само собой разумеется, что было поделено все и даже в соответствующей пропорции — все секретарские должности, все доходы от полиции, вся дань, взимаемая с игорных притонов и домов терпимости, все добровольные приношения газовых, транспортных и других компаний. Дележ был скреплен взаимными торжественными заверениями. Союз этой лихой четверки мог бы просуществовать годы, если бы ей удалось претворить в жизнь задуманное. Судьи, судейские чиновники, шерифы, крупные и мелкие должностные лица, налоговый аппарат, городской водопровод — все должно было попасть к ней в лапы. То была великолепная мечта лихоимцев, и, как таковая, она была достойна всяческого внимания и поощрения; но все же то была только мечта, и сами творцы ее понимали это порой… Предвыборная кампания была уже в полном разгаре. Конец лета и начало осени — сентябрь и октябрь — прошли под звуки оркестров и топот марширующих ног, под истошные выкрики демократических и республиканских ораторов, выступавших в парках, на перекрестках улиц, в деревянных импровизированных «вигвамах» или палатках, в залах и вестибюлях общественных зданий — словом, всюду, где им удавалось собрать вокруг себя хотя бы ничтожную кучку людей и заставить слушать их речи. Газеты метали громы и молнии, как и подобает этим наемным поборникам «права» и «справедливости». Каупервуда и Мак-Кенти поносили на каждом углу. По улицам сновали повозки и тележки с намалеванными на огромных плакатах призывами: «Положим конец сделкам транспортных заправил с городским самоуправлением!», «Не позволим красть наши улицы!», «Не отдадим Чикаго во власть Каупервуда!» Утром, по дороге в контору, или вечером, возвращаясь домой, Каупервуд повсюду видел эти воззвания. Он глядел на плакаты, слушал ораторов, разносивших его в пух и прах, и улыбался. Он знал, кто взбунтовал против него город. Хэнд скрывался за всем этим — так донесли ему Мак-Кенти и Эддисон, без промедленья пущенные им по следу, — а Хэнда поддерживали Шрайхарт, Арнил, Мэррил, кредитное общество «Дуглас», издатели различных газет и среди них, конечно, Трумен Лесли Мак-Дональд, вся старая газовая шайка, Общечикагская городская компания — словом, все его недруги. Каупервуд подозревал даже, что им удалось уже подкупить кое-кого из олдерменов, хотя те, все как один, клялись ему в верности. Вместе с Мак-Кенти, Эддисоном и Видера, он, не теряя времени, разработал подробный план обороны. Каупервуд прекрасно понимал, что поражение на этих выборах, — где ему впервые предстояло столкнуться с решительной оппозицией, — повлечет за собой целую цепь довольно серьезных последствий, однако это не слишком его тревожило. Борьбу можно продолжать и потом: в судах — с помощью денег, в муниципалитете — путем влияния на раздачу постов; всегда можно найти общий язык с мэром и с городским прокурором. «Не мытьем, так катаньем», — любил говорить Каупервуд, и эта поговорка как нельзя лучше отражала его образ мыслей и упорство духа. Но, понятно, он предпочел бы и сейчас не проигрывать битвы. В этой предвыборной борьбе бросалась в глаза одна забавная черта: сторонники Мак-Кенти, согласно полученному от него предписанию, ничуть не меньше драли глотки в защиту реформ, чем республиканцы; разница была только в том, что они не разоблачали Каупервуда и Мак-Кенти, а обрушивались на шрайхартовскую Чикагскую городскую железнодорожную, ибо, по их словам, это и был главный хищник, стремившийся захватить концессии на все улицы, по которым ни Каупервуд, ни Шрайхарт, Хэнд и Арнил не проложили линии. На этот поединок стоило поглядеть. Демократы похвалялись своим либеральным толкованием некоторых докучных воскресных законов: вот, мол, при республиканском муниципалитете ни один честный труженик не мог в воскресный день получить кружки пива или стакана вина. Республиканцы же в свою очередь кричали, что Мак-Кенти собирает дань со всех «грязных притонов и кабаков», и только избрание на пост мэра всеми уважаемого и высокочтимого кандидата республиканцев может положить конец этому безнравственному союзу городской администрации с грехом и пороком. — Если я буду избран, — заявил достопочтенный Чэффи Зейер Сласс, республиканский кандидат, — ни Фрэнк Каупервуд, ни Джон Мак-Кенти не посмеют даже сунуться в муниципалитет с нечистыми руками и нечестными предложениями. — Ура! — ревели избиратели. — Я знаю этого осла, — заметил Эддисон, прочтя излияния мистера Сласса в «Трэнскрипт». — Он служил раньше в кредитном обществе «Дуглас». Потом, сколотив немного деньжонок, открыл комиссионную контору по продаже бумаги. Он просто пешка в руках Арнила и Шрайхарта. Характера и мужества у него не больше, чем у червяка на крючке рыболова. А Мак-Кенти, прочитав «Трэнскрипт», сказал только: — Необязательно самому являться в муниципалитет, можно проникнуть туда и другими путями. Мак-Кенти считал, что на худой конец он всегда будет иметь поддержку большинства членов муниципального совета. Однако среди всего этого шума и гама никто не обратил должного внимания на оживленную деятельность господ Джилгена, Эдстрома, Кэригена и Тирнена. Трудно было бы найти другую пару таких ловких пройдох, как последние два из вышепоименованных джентльменов. Тайком разрабатывая план совместных действий с Джилгеном и Эдстромом, они в то же время совещались с Даулингом, Дуваницким и даже с самим Мак-Кенти. Видя, что результат выборов по каким-то, ему самому неясным, причинам становится все более и более сомнительным, Мак-Кенти решил пригласить обоих к себе. Прочтя его послание, мистер Тирнен тотчас же отправился к мистеру Кэригену, узнать, не получил ли и он подобного приглашения. — Как же, как же, получил! — весело отвечал Кэриген. — Вот оно тут, у меня в кармане. «Дорогой мистер Кэриген, — прочитал он. — Не окажете ли Вы мне честь отобедать со мной завтра в семь часов вечера? Мистер Унгерих, мистер Дуваницкий и еще кое-кто из наших друзей присоединятся к нам несколько позже. Мистера Тирнена я просил прибыть к тому же часу, что и Вас. Искренне Ваш Джон Дж. Мак-Кенти». Вот и все, — заметил мистер Кэриген. — Это вполне в его духе. Он сделал вид, что целует письмо, и отправил его обратно в карман. — Так, так. Ну и у меня то же самое — почти слово в слово, — с довольным видом подтвердил мистер Тирнен. — Похоже, что он начинает, наконец, протирать себе глаза. А, что ты скажешь? Должно быть, почуяли, что без нас с тобой им теперь трудно придется. А? — Понятно, положение может измениться, — не без язвительности заметил мистер Кэриген. — Очень уж они стали нос задирать. Мало ли что может еще случиться. Сейчас самое время им побеспокоиться. — Что и говорить, все на свете меняется, — горячо подхватил мистер Тирнен. — А ведь у нас два самых больших округа в городе, и я думаю, это им известно. Хороши будут эти господа, когда наши избиратели в последнюю минуту покажут им спину. Он хитро скосил глаза на мистера Кэригена и почесал свой красный мясистый нос толстым указательным пальцем. — Твоя правда, черт побери, — весело отозвался его единомышленник. Чтобы их не заподозрили в сговоре, они отправились на обед врозь и при встрече приветствовали друг друга так, словно давным-давно не видались. — Как дела, Майк? — Спасибо, Пэт, отлично. А как у тебя? — Ничего, идут помаленьку. — В ноябре твой округ не подкачает, надеюсь? Мистер Тирнен собрал в складки свой жирный лоб. — Сейчас еще трудно сказать. Все это говорилось для успокоения мистера Мак-Кенти, который и не подозревал еще о бесстыдном вероломстве членов своей партии. Толку от этого совещания вышло мало. Сидели, переливали из пустого в порожнее, прикидывали, в каком округе можно набрать абсолютное большинство голосов, да что Зиглер даст по двенадцатому, да сумеет ли Пинский сладить с шестым, а Шламбом — с двадцатым, и так далее и тому подобное. Кандидаты республиканцев, появившиеся в исконно демократических, всегда считавшихся надежными округах, порождали тревогу. — Ну, а как дела в первом, Кэриген? — спросил Унгерих, тощий, угрюмый немец, по всем повадкам — прожженный политикан. За последнее время Унгерих преуспел значительно больше в смысле снискания благосклонности Мак-Кенти, нежели Кэриген или Тирнен. — О, первый… первый в порядке, — коварно отвечал Кэриген. — Хотя, конечно, ничего нельзя знать наперед. Этот парень, Скалли, может еще, разумеется, натворить чего-нибудь, но не думаю, впрочем, чтобы ему удалось многого добиться. Если полиция и на этот раз возьмет нас под защиту… Этот ответ удовлетворил Унгериха. Ему в своем округе приходилось нелегко: у него появился противник, некий Гловер, не скупившийся, как видно, на подкупы, и Унгериху, чтобы победить на выборах, требовалось на этот раз куда больше денег, чем обычно. Совершенно то же самое творилось и у Дуваницкого. Наконец Мак-Кенти отпустил своих подручных — с Кэригеном и Тирненом он распростился с необычной для него теплотой. Он не особенно доверял этой паре и совсем не был в восторге от их способов вести борьбу, — грубее уж ничего нельзя было придумать, — но они были нужны ему. — Рад слышать, что дело у вас спорится, Пэт, и у вас, Майк, — сказал он им на прощанье, напутствуя каждого благосклонным кивком. — Нам сейчас потребуется вся ваша сноровка, и я уверен, что вы заткнете за пояс другие округа. А мы не забудем ваших стараний, когда придет время расплачиваться с каждым по заслугам. — Можете на меня положиться, сделаю все, что в моих силах, — прочувствованно заявил мистер Кэриген. — Что говорить, годик выдался трудный, но нас еще не положили на обе лопатки. — И на меня тоже, хозяин. Можете положиться и на меня, — просипел Тирнен. — Постараюсь, как могу. — Желаю вам удачи, Майк, — ободряюще проронил Мак-Кенти, мягко опуская руку на его плечо. — И вам, Кэриген. Ваши округа имеют решающее значение, и мы помним об этом. Я всегда считал неправильным, что вы оба до сих пор только члены муниципалитета: наши руководители все как-то не могли столковаться и устроить для вас что-нибудь получше. Ну, теперь это уж не вызовет возражений, если, конечно, мое мнение к тому времени будет чего-нибудь стоить. — С этими словами мистер Мак-Кенти отпустил своих гостей. На улице холодный октябрьский ветер гнал по мостовой желтые листья и сухие травинки. Тирнен и Кэриген молча шагали рядом, направляясь к Ван-Бьюрен-стрит, и ни один не проронил ни слова, пока они не отошли на добрую сотню шагов от дома Мак-Кенти. — Ишь, как запел, слыхал? — промолвил, наконец, Тирнен, искоса глянув на Кэригена, освещенного зыбким светом газового фонаря. — Еще бы! Они всегда щедры на посулы, когда выборы уже на носу. Медовые речи, ничего не скажешь! — Да, после того как мы десять лет везем на себе всю грязную работу. Пора бы уж, кажется. А вот в июне прошлого года, во время сессии, что-то они не очень много о нас думали. — Тише, тише, Майки, — мрачно улыбнулся мистер Кэриген. — Ты просто капризный, избалованный мальчишка. Я вижу, тебе не терпится ухватить кусочек сладкого пирога? Ну, твое время еще не приспело. Подожди годика четыре, а то и шесть, бери пример с Пэдди Кэригена и прочих скромников. — Ну нет, не стану, — проворчал мистер Тирнен. — Не стану ждать шесть лет. — И я не стану, — заявил мистер Кэриген. — Мы с тобой, кажется, знаем одну штуку, которая к будущему году может перевернуть здесь все вверх тормашками. Так, что ли? — Верно, черт подери, — с жаром подтвердил мистер Тирнен. И они разошлись по домам, вполне довольные друг другом.Глава 37
Мщение Эйлин
Неотразимый Польк Линд, проснувшись как-то утром, решил, что роль чувствительного вздыхателя ему надоела и нужно сегодня же или, на худой конец, завтра сломить сопротивление Эйлин. После встречи у Ришелье прошло уже немало времени, однако, несмотря на все его старания, ему ни разу не удалось увидеться с Эйлин: она избегала его. Неопределенное чувство страха за будущее заставляло еесо дня на день откладывать встречу. Она понимала, что стоит у крутого поворота на своем жизненном пути, а судьба неумолимо толкает ее вперед, и была смущена и растеряна. Каупервуд и сейчас, помимо ее воли, сохранял над ней всю свою былую власть: он рисовался Эйлин колоссом, способным покорить весь мир, и это заставляло ее проводить дни в странной тревоге, смятении и раздумье. Женщина другого склада, быть может, не стала бы колебаться так долго после всего, что ей пришлось пережить, и особенно теперь, когда выплыла наружу связь Каупервуда с миссис Хэнд. Но не такова была Эйлин. В ее ушах все еще звучали прежние страстные клятвы и обещания, и она не в силах была отказаться от своей безумной мечты, ей все еще хотелось верить, что Фрэнк снова станет таким, каким был когда-то, — нежным и любящим. Но и Польк Линд, хищник, светский авантюрист, покоритель женских сердец, был не из тех мужчин, которые отступают перед препятствиями и, вздыхая, покорно ждут в сторонке. Силой воли и настойчивостью он не уступал Каупервуду, а с женщинами был еще более беззастенчив и смел. Из своих бесчисленных любовных приключений он вынес уверенность, что все женщины нерешительны, боязливы, странно противоречивы и непоследовательны в своих поступках, а порой — даже в самых сокровенных своих желаниях. Чтобы одержать над ними победу, иной раз нужно проявить железное упорство. Вот почему за Польком Линдом установилась такая худая слава. Эйлин чутьем разгадала все это еще в тот день, когда собиралась встретиться с ним у Ришелье. В глубине его темных, ласковых глаз таилось коварство. Она чувствовала, что он увлекает ее куда-то, по тому пути, где она может потерять свою волю и уступить его внезапному порыву, — и все же в условленный час явилась к Ришелье. А Польк Линд, убедившись, что Эйлин избегает его, положил, не откладывая более, добиться решительного свидания. В десять часов утра он позвонил ей по телефону и принялся подтрунивать над ее нерешительностью, робостью, над прихотливостью ее настроений. Быть может, она отважится, наконец, прийти в мастерскую к его приятелю-художнику поглядеть картины? А нет, так он приглашает ее пойти с ним на летний праздник с танцами, который устраивает у себя в саду один из его холостых друзей. Эйлин, как всегда, стала отнекиваться. — Нет, нет, я сегодня что-то не в духе, — заявила она. Но Линд не унимался. — Нужно взять себя в руки, — сказал он. И прибавил шутливо: — Вы создаете совершенно невыносимые условия для ваших поклонников. Эйлин думала, что ей и на этот раз удалось, не говоря ни «да» ни «нет» и не принимая решительного боя, продлить поединок, но в два часа раздался звонок у парадной двери, и слуга доложил, что ее хочет видеть мистер Линд. — Мистер Линд просит уделить ему всего несколько минут, он постарается не задержать вас. Он проезжал мимо, и ему случайно стало известно, что вы дома, — докладывал лакей, получивший доллар на чай. Эйлин а сиреневом капоте, отделанном горностаем, сидела одна у себя в будуаре и читала роман. Застигнутая врасплох, пораженная такой наглой навязчивостью, встревоженная тем, что Линд, быть может, хочет сообщить ей что-то важное, досадуя на себя за свою растерянность и снова чувствуя над собой власть этого человека, — его голос, ласковые упреки, которыми он осыпал ее по телефону, все еще продолжали звучать в ее ушах, — она решила спуститься вниз. — Просите мистера Линда в музыкальную комнату, — приказала она дворецкому. Переступая порог этой комнаты, Эйлин почувствовала, что у нее перехватило дыхание — так взволновала ее предстоящая встреча. Эйлин понимала, что, уклоняясь от свидания с Линдом, она показала, что боится его, а обнаружив свой страх перед противником, уже трудней оказывать ему сопротивление. — О! — воскликнула она с наигранной беспечностью. — Вот уж не ожидала увидеть вас так скоро после вашего звонка! Вы ведь у нас впервые, не правда ли? Положите шляпу, и пойдемте, я покажу вам картины. Они хорошо освещены сейчас, и думаю, что некоторые из них вам понравятся. Линд, который рад был всякому предлогу, чтобы продлить свидание и заставить Эйлин преодолеть свою растерянность и страх, охотно согласился, но продолжал делать вид, что спешит и заглянул к ней случайно, проездом. — Не мог устоять против искушения увидеть вас. Решил — зайду хоть на минутку. Очаровательная комната! Как много света и воздуха! А, вот и вы! Кто вас писал? Вижу, вижу: Ван-Беерс! Прелестно, просто восхитительно! Он окинул Эйлин быстрым взглядом и снова повернулся к портрету, где та же Эйлин, но десятью годами моложе, веселая, жизнерадостная, полная сил и надежд, сидела на каменной скамье на фоне голландского пейзажа, синего неба и пушистых облаков, прикрываясь от солнца нарядным розовым зонтиком. И оригинал и копия равно восхищали Полька Линда, и он рассыпался в комплиментах. Эйлин слегка пополнела с тех пор, цвет лица у нее стал грубее, походка немного тяжеловесней — что почти неизбежно с годами, но она все еще была в полном расцвете красоты, хотя осень и овеяла ее уже своим дыханием. — О, да у вас Рембрандт! Изумительно! Я и не подозревал, что у вашего мужа такое прекрасное собрание! И Жером, и Израэльс, и Мейссонье! Великолепная коллекция! — Некоторые полотна действительно превосходны, — небрежно заметила Эйлин, невольно подражая Каупервуду или кому-то из других знатоков. — Но кое-что мы решили убрать отсюда — вот этого Пауля Поттера и этого Гойю, как только нам удастся достать что-нибудь получше. Она слово в слово повторяла то, что не раз слышала из уст Каупервуда. Видя, что разговор не выходит из рамок обычной светской болтовни, Эйлин мало-помалу овладела собой и держалась довольно естественно и непринужденно. Теперь она даже радовалась приезду Полька Линда, который был так очаровательно скромен и мил. Видимо, он и вправду решил нанести ей обычный светский визит. А Линд исподтишка приглядывался к Эйлин, стараясь разгадать, какое впечатление производит на нее его учтиво-сдержанный тон. Довольно бегло осмотрев картины, он сказал: — Я давно стремился увидеть ваш дом. Я знаю, что его строил Лорд и что он считается одной из лучших работ этого архитектора. Там у вас, как видно, столовая? Эйлин, непомерно гордившаяся своим домом, хотя ей и не удавалось устраивать в нем пышных приемов, была очень польщена и обрадована интересом, который проявил к нему Линд, и тотчас повела его по всем комнатам. Линд, видевший на своем веку немало роскошных особняков, — дом его отца занимал среди них далеко не последнее место, — выказывал интерес и восхищение, которых отнюдь не испытывал. Переходя из комнаты в комнату, он хвалил то деревянную резьбу панелей, то подобранные в тон мебели драпировки, то открывавшийся из окон вид. — Обождите минутку, — сказала Эйлин, когда они подошли к двери ее спальни. — Я хочу показать вам мои комнаты, но боюсь, что там беспорядок. Она торопливо вошла и притворила за собою дверь. — Войдите! — крикнула она через минуту. Линд не замедлил воспользоваться приглашением. — О, какая прелесть! И как уютно! Эти пляшущие фигурки необыкновенно легки и грациозны. И все тона подобраны изумительно. Они чудесно гармонируют с вашим обликом. Эта комната — как бы одно целое с вами. Он умолк, разглядывая кровать из золоченой бронзы и огромный ковер, где теплые палевые тона перемежались с тускло-голубыми. — Превосходная работа, — сказал он и, внезапно переменив тон, шагнул к Эйлин, которая стояла в глубине комнаты по правую руку от него. — Скажите мне теперь, почему вы не захотели пойти со мной на танцы? — спросил он. — Там будет очень весело. Вы бы не пожалели, что пошли. От Эйлин не укрылась внезапная перемена в его настроении. Она вдруг поняла, что, водя его из комнаты в комнату, поставила себя в довольно затруднительное положение. В устремленном на нее беззастенчивом взгляде Эйлин читала все обуревавшие Линда мысли и чувства. — Нет, нет, у меня просто нет к этому охоты. Я как-то потеряла вкус ко многим развлечениям с некоторых пор. Я… Не договорив, она, словно невзначай, шагнула к двери, но Линд схватил ее за руку. — Постойте, не уходите, — сказал он. — Дайте мне поговорить с вами. Вы всегда стараетесь ускользнуть от меня, словно я вам страшен. Или я совсем вам не нравлюсь? — Конечно, вы мне нравитесь, но разве мы не можем с таким же успехом разговаривать внизу, в гостиной? Я сумею объяснить вам там ничуть не хуже, чем здесь, почему я вас избегаю. — И Эйлин улыбнулась лукаво и на этот раз действительно бесстрашно. Линд ответил ей улыбкой, обнажившей два ряда ровных, ослепительно белых зубов. Веселые и злые огоньки заплясали в его глазах. — Разумеется, разумеется, — сказал он. — Но здесь, в этой комнате, вы как-то особенно милы. Мне совсем не хочется уходить отсюда. — Ну, тем не менее вам придется уйти, — отвечала Эйлин, стараясь говорить шутливо, но в голосе ее уже зазвучали тревожные нотки. — Вы увидите, что в гостиной я буду не менее мила, чем здесь. Она снова двинулась к двери, но вдруг почувствовала, что у Линда очень сильные руки — совсем, как у Фрэнка, и что она так же беспомощна перед ним. — Что вы делаете? Сюда могут войти, — сказала Эйлин. — Чем дала я вам повод так обращаться со мной? — Чем? — повторил Линд, наклоняясь к ней и ласково сжимая ее полные белые руки своими смуглыми руками. — Быть может, вы и не давали мне повода. Вы сами — повод. Еще в ту ночь, в Олкот-клубе, я сказал вам, как вы мне дороги. Мне казалось, что вы поняли тогда, разве нет? — О, я поняла, что нравлюсь вам… Ну что ж, это никому не возбраняется… Но чтобы позволять себе такие… такие вольности! Я никогда не думала, что вы посмеете! Ну вот, слышите? Кто-то идет сюда… — Эйлин сделала решительную, но безуспешную попытку освободиться. — Прошу вас отпустить меня, мистер Линд. Мне кажется, это не очень галантно — удерживать женщину против ее воли. Я не дала вам никакого повода… Смотрите, я рассержусь! Линд снова улыбнулся, и глаза его блеснули. — Право? Вот вы какая? Разве мы с вами совсем, совсем чужие друг другу? Разве вы не помните, что сказали мне однажды, когда мы завтракали у Ришелье? Вы не исполнили своего обещания. Вы ведь дали мне понять тогда, что придете ко мне. Почему же вы не пришли? Я не нравлюсь вам, или вы боитесь меня? Вы — прелесть, сокровище, я без ума от вас и хочу, наконец, знать правду. Он обнял ее и притянул к себе, заглядывая ей в глаза. Потом внезапно поцеловал ее в губы, в щеку. — Ведь я нравлюсь вам, я же вижу. Почему вы сказали, что придете, и не пришли? Эйлин пыталась оттолкнуть его, но он только крепче прижимал ее к себе. Это было странное, совсем новое для нее ощущение, — кто-то другой, не Фрэнк, держал ее в объятиях. И страшно было то, что это — Польк Линд, единственный мужчина, к которому ее потянуло. Но как он осмелился так вести себя здесь, в ее доме! Фрэнк может каждую минуту вернуться, может войти кто-нибудь из слуг! — Опомнитесь, что вы делаете! — возмущенно воскликнула она. Впрочем, ей все еще казалось, что Линд хочет только заставить ее быть ласковее к нему, что он не посмеет оскорбить ее, и потому она не испытывала особого страха за исход этого поединка. — Не забывайте, что вы в моем доме! Если вы сию же минуту не отпустите меня, значит вы не тот человек, каким я вас считала. Мистер Линд! — он покрывал поцелуями ее лицо. — Мистер Линд! Я запрещаю вам! Вы слышите! Я… я сказала, что приду, быть может, но это ничего не значит… А вы ворвались в мой дом, захватили меня врасплох… Это отвратительно! Если вы и нравились мне раньше, так теперь я не хочу вас видеть! Сейчас же оставьте меня, или, даю слово, вы меня больше не увидите! Никогда, никогда! Клянусь! Вы слышите? Оставьте меня! Прошу вас, умоляю! Я буду кричать… С этого дня вы не увидите меня больше… Это была отчаянная, но бесполезная борьба.Прошла неделя, и Каупервуд, вернувшись однажды вечером домой, заметил, что Эйлин пребывает в каком-то странно неуравновешенном состоянии — то весело напевает, то впадает в глубокую задумчивость. В нарядном вечернем туалете она охорашивалась перед зеркалом и казалась удивительно юной, полной огня и, совсем как прежде, жадно влюбленной в жизнь. — Ну, как ты провела сегодня день? — весело спросил он. Эйлин, сознавая свою вину перед Каупервудом, но находя себе множество оправданий, была доброжелательно расположена к нему; притом ей почему-то казалось; что, быть может, теперь она сумеет вернуть его себе. — О, прекрасно! — ответила она. — Утром я заезжала ненадолго к Хоксема. В ноябре они собираются в Мексику. У миссис Хоксема новая плетеная коляска — прелесть что такое, если бы она своим видом не портила ее. Эдда готовится в колледж и очень волнуется, как она оставит своего котенка и собачку. От них я заезжала в студию к Лейну Кроссу, оттуда — к Мэррилу (Эйлин имела в виду универсальный магазин) и — домой. На Уобеш авеню встретила Тейлора Лорда с Польком Линдом. — С Польком Линдом? — переспросил Каупервуд. — Говорят, он очень интересен? — Очень. Я не видела ни у кого таких безупречных манер. Он очарователен. В нем есть что-то мальчишеское, а вместе с тем можно поручиться, что он немало повидал на своем веку. — Должно быть, — заметил Каупервуд. — Ведь это он, если не ошибаюсь, был замешан в скандальной истории с Кармен Торриба, испанской танцовщицей, приезжавшей сюда года два назад? Я слышал, что он был без памяти влюблен в нее. — Ну и что ж? — возразила Эйлин с досадой. — Какое тебе до этого дело? Все равно он обворожителен. Он мне нравится. — Мне, разумеется, никакого до этого дела нет. Просто припомнились кое-какие разговоры. — О, я знаю, почему они тебе припомнились, — сказала Эйлин задорно. — Я вижу тебя насквозь. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил он, пристально вглядываясь в ее лицо. — Я знаю тебя — вот что, — повторила она ласково, но уже с некоторым вызовом. — Ты будешь бегать за каждой юбкой, а я, по-твоему, должна довольствоваться ролью обманутой, но любящей и преданной супруги. А я не собираюсь. Я ведь понимаю, почему ты сказал так о Линде. Ты боишься, как бы я не влюбилась в него. Что ж, это может случиться. Я ведь говорила тебе, что рано или поздно так будет, нравится тебе это или не нравится. Я тебе не нужна, так не все ли тебе равно, как относятся ко мне другие мужчины? Каупервуд отнюдь не помышлял об опасности, угрожавшей ему со стороны Полька Линда, — во всяком случае не больше, чем со стороны всякого другого мужчины. И все же подсознательно он, как видно, почувствовал что-то, и это передалось Эйлин и вызвало такой, казалось бы необоснованный, взрыв с ее стороны. Каупервуд тотчас попытался успокоить ее, понимая, куда может завести их подобный разговор. — Эйлин! — сказал он с нежным укором. — Как можешь ты так говорить! Ты же знаешь, что я люблю тебя. Конечно, я ни в чем не могу тебе помешать, да и не хочу. Единственное, к чему я стремлюсь, — это чтобы ты была счастлива. Я люблю тебя — ты знаешь это. — О да, я знаю, как ты меня любишь, — сказала Эйлин; настроение ее сразу изменилось. — Прошу тебя, не начинай ту старую песню. Мне она давно надоела. Я знаю, как ты развлекаешься на стороне. Знаю и про миссис Хэнд. Это можно было понять даже из газет. За целую неделю ты только раз появился дома вечером, да и то на несколько минут. Молчи, молчи! Не пытайся снова обманывать меня. Я давно все про тебя знаю. Знаю и про последнее твое увлечение. Так что уж, будь добр, не жалуйся и не укоряй меня, если и я начну интересоваться другими, потому что так оно и будет, можешь не сомневаться. Ты сам знаешь, что никто, кроме тебя, в этом не виноват, и нечего упрекать меня. Это ни к чему. Я не намерена больше делать из себя посмешище. Я уже говорила тебе это не раз. Ты не верил, но я докажу. Я говорила, что найду кого-нибудь, кто не будет так пренебрегать мною, как ты, и найду, увидишь, долго, ждать тебе не придется. Сказать по правде, я уже нашла. Услышав это заявление, Каупервуд окинул Эйлин холодным, осуждающим взглядом. Впрочем, в этом взгляде можно было уловить и сочувствие, но Эйлин с вызывающим видом вышла из комнаты, прежде чем Каупервуд успел произнести хоть слово, и через несколько минут до его слуха донеслись снизу из гостиной звуки «Второй венгерской рапсодии». Эйлин играла страстно, с необычным проникновением, изливая в музыке свое горе и смятение. Каупервуда охватила злоба при мысли о том, что это смазливое ничтожество, этот светский хлыщ Польк Линд мог покорить Эйлин… Но… что ж тут поделаешь? Как видно, это должно было случиться. Он не имеет права упрекать ее. И тут же воспоминания о прошлом нахлынули на него и пробудили в нем искреннюю печаль. Ему припомнилась Эйлин школьницей в красном капюшоне… Эйлин верхом, в коляске… Эйлин в доме ее отца в Филадельфии. Как беззаветно любила его тогда эта девочка, как слепо, без оглядки! Возможно ли, чтобы она стала так равнодушна, совсем охладела к нему? Возможно ли, чтобы ее и вправду сумел увлечь кто-то другой? Каупервуду было трудно освоиться с этой мыслью. В тот же вечер, когда Эйлин спустилась в столовую в зеленом шелковом, отливавшем бронзой платье, с тяжелым золотым венцом уложенных вокруг головы кос, Каупервуд против воли залюбовался ею. В ее глазах было раздумье, и нежность (к кому-то другому — почувствовал он), и молодой задор, и нетерпенье, и вызов. И у Каупервуда мелькнула мысль о том, как самоуправно властвуют над людьми любовь и страсть. «Все мы — рабы могучего созидательного инстинкта», — мелькнуло у него в уме. Он заговорил о приближающихся выборах, рассказал Эйлин, что видел на улице фургон с плакатом: «Не отдадим Каупервуду Чикаго!» — Дешевый прием! — заметил он. — Республиканцы возвели на углу Стэйт-стрит «вигвам» — огромный дощатый барак — и понаставили в него скамеек. Я зашел туда и услышал, как надрывался очередной оратор, изобличая и понося пресловутого Каупервуда. Меня так и подмывало задать этому ослу несколько вопросов, но в конце концов я решил, что не стоит связываться. Эйлин не могла сдержать улыбки. При всех своих пороках Фрэнк — поразительный человек! Так взбудоражить весь город! А впрочем… «каков бы ни был он — хороший иль плохой — не все ли мне равно, когда он плох со мной» — вспомнилось ей. — Ну, а кроме очаровательного мистера Линда, еще кто-нибудь пользуется твоим расположением? — коварно спросил Каупервуд, решив выведать все, что можно, не слишком, разумеется, обостряя отношения. Эйлин наблюдала за ним и каждую минуту ждала, что он вернется к этой теме. — Нет, больше никто, — сказала она. — А зачем мне еще кто-нибудь? Одного вполне достаточно. — Как я должен тебя понять? — осторожно осведомился Каупервуд. — Так, как я сказала. Одного достаточно. — Ты хочешь сказать, что влюблена в Линда? — Я хочу сказать… — она запнулась и с вызовом взглянула на Каупервуда. — Да не все ли тебе равно, что я хочу сказать? Да, я влюблена в него. А что тебе до этого? С какой стати ты допрашиваешь меня? Тебе ведь совершенно безразлично, что я чувствую. Я не нужна тебе. Зачем же ты стараешься выпытать у меня что-то, зачем следишь за мной? Если я тебе не изменяла, так это вовсе не из уважения к тебе. Предположим, что я влюблена. Тебе же все равно. — О нет, не все равно. Ты знаешь, что не все равно. Зачем ты так говоришь? — Ты лжешь! — вспыхнула Эйлин. — Лжешь, как всегда. Так вот, если хочешь знать… — Его холодное спокойствие и безразличие задели ее за живое и, не помня себя от обиды, она выкрикнула: — Да, я влюблена в Линда, больше того — я его любовница! И не жалею об этом. А тебе-то что? Ее глаза сверкали, она густо покраснела и задыхалась от волнения. Услышав это признание, брошенное в пылу ярости и обиды, порожденных его равнодушием, Каупервуд выпрямился, взгляд его стал жестким, и выражение беспощадной злобы промелькнуло в нем, как бывало всегда при встрече с врагом. Мысль, что он может превратить в пытку жизнь Эйлин и жестоко отомстить Польку Линду, возникла было в его уме, но он тут же ее отбросил. Это было продиктовано не слабостью, а наоборот — сознанием своей силы и превосходства. Разыгрывать роль ревнивого супруга? Стоит ли? Он и так уже причинил Эйлин немало зла. Чувство сострадания к ней, к себе самому, чувство грусти перед неразрешенными противоречиями жизни пришло на смену мстительной злобе. Как может он винить Эйлин? Польк Линд красив, обаятелен. Расстаться с Эйлин? Потребовать объяснений у Линда? К чему все это? Лучше временно отдалиться от нее и ждать — быть может, ее увлечение скоро пройдет. А нет, так, вероятно, она по собственному почину решит покинуть его. Но уж во всяком случае, если он встретит, наконец, такую женщину, какая ему нужна, и решит оставить Эйлин, он припомнит ей эту историю с Линдом. А есть ли где-нибудь на свете такая женщина? Пока ему еще не довелось с нею встретиться. — Эйлин, — сказал он мягко, — зачем столько горечи? К чему? Скажи мне, когда это случилось? Я полагаю, ты можешь мне сказать? — Нет, не могу, — резко ответила Эйлин. — Тебя это не касается. Зачем ты спрашиваешь, тебе ведь все равно. — Нет, не все равно, и я тебе это уже не раз говорил, — раздраженно, почти грубо возразил Каупервуд, и снова выражение жестокости и злобы промелькнуло в его глазах. Потом взгляд его смягчился. — Могу я по крайней мере узнать, когда это случилось? — Не так давно. Неделю назад, — как бы против воли вымолвила Эйлин. — А давно ты с ним познакомилась? — с затаенным любопытством продолжал расспрашивать ее Каупервуд. — Месяцев пять назад. Зимой. — И ты сделала это потому, что любишь его, или просто мне назло? Он все еще не верил, что Эйлин могла охладеть к нему. Эйлин вспыхнула. — Нет, это уж слишком! Да, да, можешь быть уверен, я сделала это потому, что так хотела, а ты здесь совершенно ни при чем. Да как ты смеешь допрашивать меня после того, как годами пренебрегал мною! — Она оттолкнула тарелку и хотела встать из-за стола. — Обожди минутку, Эйлин, — сказал Каупервуд спокойно, кладя вилку и глядя на нее в упор через разделявший их стол, уставленный севрским фарфором, цветами, фруктами в хрустальных и серебряных вазах и залитый мягким светом затененной шелковым абажуром лампы. — Зачем ты так говоришь со мной? Я надеюсь, ты не считаешь меня мелким, тупым ревнивцем? Как бы ты ни поступала, я не намерен ссориться с тобой. Я ведь знаю, что с тобой происходит, знаю, почему ты себя так ведешь и каково тебе будет потом, если ты пойдешь по этому пути. Дело не во мне, дело в тебе самой… — Он умолк, ему внезапно стало жаль ее. — Ах, вот как, дело не в тебе? — вызывающе повторила она, борясь с охватившим ее волнением. Его тихий, мягкий голос пробудил в ней воспоминания прошлого. — Ну, а я не нуждаюсь в твоем милосердии. Я не хочу, чтобы ты меня жалел. Я буду поступать так, как найду нужным. И лучше бы уж ты совсем не говорил со мной. Эйлин отшвырнула тарелку, опрокинув бокал с шампанским, которое желтоватым пятном разлилось по белоснежной скатерти, вскочила и бросилась вон из комнаты. Гнев, боль, стыд, раскаяние душили ее. — Эйлин! — Каупервуд поспешил за нею следом, не обращая внимания на дворецкого, привлеченного в столовую шумом отодвигаемых стульев (семейные сцены в доме Каупервудов были ему не в диковинку). — Послушай меня. Эйлин! Это же месть, а ты жаждешь любви, не мести; ты хочешь, чтобы тебя любили, любили беззаветно. Я все понимаю. Прости меня и не суди слишком строго, как я не сужу тебя. Они вышли в соседнюю комнату, и он схватил Эйлин за руку, пытаясь удержать ее. Эйлин почти не понимала, что он говорит, она была вне себя от обиды и горя. — Оставь меня! — выкрикнула она, и горькие слезы хлынули у нее из глаз. — Оставь меня! Я не люблю тебя больше. Я ненавижу тебя! Понимаешь, ненавижу! — Она вырвала у него руку и, выпрямившись, стала перед ним. — Я не хочу тебя слушать! Не хочу говорить с тобой! Ты один виноват во всем. Ты, только ты виноват в том, что я сделала, и в том, что я еще сделаю, и ты не смеешь этого отрицать. О, ты еще увидишь! Увидишь! Я еще покажу тебе! Она повернулась, чтобы уйти, но он снова схватил ее за руки и притянул к себе. Он держал ее крепко, не обращая внимания на ее сопротивление, и в конце концов она, как всегда, перестала противиться и только судорожно всхлипывала, припав к его плечу. — О да, я плачу! — воскликнула Эйлин сквозь слезы. — Но все равно, все равно теперь уж ничего не изменишь. Слишком поздно! Слишком поздно!
Глава 38
Перед лицом поражения
Стоический Каупервуд, прислушиваясь к громогласным словоизвержениям ораторов и наблюдая за суетой, предшествовавшей осенним выборам в муниципалитет, был куда больше огорчен неверностью Эйлин, чем происками своих врагов, хотя и видел, что на него ополчился весь город. Он еще не забыл неповторимого очарования тех дней, когда Эйлин была молода и все ее существо, казалось, излучало любовь и светлую веру в будущее. Эти воспоминания вплетались во все его мысли и дела, как вторая тема в оркестре. Несмотря на то, что по натуре Каупервуд был человеком на редкость деятельным, он не прочь был иной раз предаться самоанализу, способен был понять высокий драматизм и пафос разбитых иллюзий. Он не испытывал ненависти к Эйлин, — лишь печаль при мысли о том, к каким последствиям привело его непостоянство, его упрямое стремление к свободе от всяких уз. Жажда нового! Вечная жажда нового! Но все уходит безвозвратно… И кто же может без сожаления проститься с тем, что поистине прекрасно? Даже если это всего-навсего любовь, безрассудная, шальная любовь. Но вот настало 6 ноября — день выборов в муниципалитет, — и шумная, нелепая и бестолковая процедура эта окончилась громовым поражением для ставленников Каупервуда. Из тридцати двух кандидатов демократической партии только десять были избраны олдерменами; две трети мест, то есть подавляющее большинство в муниципалитете, досталось республиканцам. Господа Тирнен и Кэриген благополучно оказались на своих старых местах, однако вместе с ними пришел к власти республиканский мэр и все его сторонники по республиканскому списку, которые теперь, судя по их заверениям, должны были стать носителями высоконравственного и неподкупного начала. Каупервуд прекрасно понимал, что все это должно означать, и уже готовился войти в соглашение с неприятельским лагерем. От Мак-Кенти и других политических заправил ему были известны все подробности предательства Тирнена и Кэригена, но он не питал к ним злобы. Что ж, такова жизнь. Значит, в дальнейшем надо либо зорче следить за этими господами, либо расставить им какую-нибудь ловушку и покончить с ними раз навсегда. Они, конечно, изображали дело так, что им-де самим с трудом удалось набрать необходимое количество голосов. — Нет, вы поглядите-ка, что получилось! Я сам едва-едва пролез — набрал всего на три сотни голосов больше, чем противник! — жаловался лукавый Кэриген при всяком удобном случае. — Черт подери! Я уж думал, что потеряю свой округ. Мистер Тирнен горячился ничуть не меньше. — От полиции нет никакого проку, — торжественно заявил он. — Моих ребят избивают, а полисменам хоть бы что! Я едва наскреб шесть тысяч голосов, а ведь должен был получить не меньше девяти. Но им никто, разумеется, не верил.Пока Мак-Кенти напряженно обдумывал, как бы в течение ближайших двух лет восстановить свое пошатнувшееся положение, а Каупервуд строил планы умиротворения враждебных ему олдерменов, считая это наилучшей политикой при сложившихся обстоятельствах, господа Хэнд, Шрайхарт и Арнил, в союзе с молодым Мак-Дональдом, ломали себе голову над тем, как, воспользовавшись своей временной победой, окончательно добить Каупервуда. Снова началась борьба, длительная, сложная, и в результате ее (прежде чем Каупервуд получил возможность войти в соглашение с новыми олдерменами) муниципалитет принял на рассмотрение и уже готовился одобрить проект концессии, которую давно просила Общечикагская компания электрических железных дорог и против которой всегда боролся Каупервуд; кроме того, уже шли слухи о предоставлении различным мелким компаниям прав и привилегий в окраинных районах, и наконец — что было хуже всего и до чего Каупервуд не додумался, — поговаривали, что муниципалитет склонен разрешить некой компании постройку и эксплуатацию надземной железной дороги на Южной стороне. Это было самым жестоким ударом для Каупервуда, ибо теперь положение с чикагскими железными дорогами, которое, несмотря на все трудности, было до сего времени сравнительно простым, чрезвычайно осложнялось. Вкратце дело сводилось к следующему. Лет двадцать назад в Нью-Йорке было построено несколько линий надземной железной дороги с целью разгрузить движение в нижней части этого узкого и длинного острова, и успех нового вида транспорта превзошел ожидания. Каупервуд заинтересовался надземными дорогами с самого момента их возникновения, как интересовался всем, что имело какое-либо отношение к городскому железнодорожному транспорту. Во время своих неоднократных наездов в Нью-Йорк он подробно ознакомился с их устройством. Ему удалось также разузнать и всю коммерческую сторону дела — стоимость содержания дорог, размеры дохода, финансовое состояние компаний, которым они принадлежали, и имена тех, кто стоял за спиной этих компаний. Каупервуд тогда же пришел к выводу, что для такого перенаселенного островка, как Нью-Йорк, надземные дороги являются идеальным разрешением транспортной проблемы. Совсем другое дело — Чикаго, где население едва достигало миллиона и было разбросано на довольно обширной территории. Здесь, по мнению Каупервуда, эти дороги никак не могли оправдать себя — в течение ближайших лет во всяком случае. Они бы только переманивали пассажиров у наземных дорог, и, следовательно, построив надземные дороги, он увеличил бы свои издержки, отнюдь не увеличив доходы. Впрочем, мысль о том, что надземные дороги могут быть построены помимо него, если кому-нибудь удастся раздобыть концессию, — что до последних выборов он не считал возможным, — порой все же приходила ему в голову, и он как-то сказал Эддисону: — Пускай себе вкладывают деньги в это предприятие; к тому времени, когда население у нас возрастет и дороги эти станут доходными, они уже перейдут к кредиторам. Если кому-то пришла охота загонять дичь в мой силок — что ж, пожалуйста, со временем их дороги достанутся мне за бесценок. Эддисон нашел такое умозаключение вполне разумным. Однако вскоре после этого разговора положение изменилось, и постройка надземных железных дорог в Чикаго стала делом отнюдь не столь проблематичным, как это казалось вначале. Прежде всего само население Чикаго начало все больше и больше интересоваться надземными дорогами. Они были новшеством, событием в жизни Нью-Йорка, а чувство соперничества с этим огромным городом-космополитом жило в сердце почти каждого чикагского обывателя. Такие настроения, сколь бы они ни были наивны, могли сделать надземную дорогу достаточно популярной в Чикаго. Кроме того, это совпало с периодом рьяного местного патриотизма, эпохой своеобразного Возрождения на Западе, в результате которого Чикаго, незадолго до описанных выше выборов в муниципалитет, был, наконец, намечен как наиболее подходящий город для устройства грандиозной международной выставки — самой большой в истории Америки. Видные горожане — такие, как Хэнд, Шрайхарт, Арнил, не говоря уж о редакторах и издателях газет, — горячо ратовали за эту затею, и Каупервуд на сей раз был с ними вполне согласен. Однако, как только честь устройства выставки была официально отдана Чикаго, противники Каупервуда тотчас постарались использовать это обстоятельство против него. Во-первых, по решению нового, враждебного Каупервуду муниципалитета, место для выставки было отведено на Южной стороне, у конца шрайхартовской линии городских железных дорог, и весь город вынужден был, таким образом, платить дань этой компании. Вот тогда-то у противников Каупервуда и зародилась мысль использовать нью-йоркский опыт сооружения надземных дорог для Чикаго. Это был ловкий ход. Предприятие не сулило пока больших барышей, но зато оно должно было показать ненавистному всем дельцу, что у него есть грозный соперник, который сумеет проникнуть на захваченную им территорию, перебить у него доходы и в конце концов заставить его убраться из этого города. Между господами Шрайхартом и Хэндом, а также между господами Хэндом и Арнилом происходили по этому поводу весьма интересные и поучительные беседы. План их в своем первоначальном виде был таков: построить надземную дорогу на Южной стороне, к югу от места предполагавшейся выставки, и, как только дорога эта приобретет популярность среди населения, приняться, не спеша и заручившись предварительно концессиями, за постройку новых надземных линий на Западной, Южной и Северной сторонах и таким образом выжить постепенно отовсюду вредоносного Каупервуда. Каупервуд, однако, тоже не дремал; он вовсе не намеревался целый месяц сидеть сложа руки и ждать, пока соберется новый муниципалитет, чтобы потом дать противникам захватить себя врасплох. Призвав надежных соглядатаев — поверенных и адвокатов компаний, — он услышал от них неприятное сообщение о новом коварном замысле своих врагов. По-видимому, Хэнд и Шрайхарт решили на этот раз взяться за дело всерьез. Не теряя ни минуты, Каупервуд продиктовал письмо к мистеру Джилгену, в котором приглашал этого джентльмена зайти к нему. Одновременно он потребовал от своих советников и крючкотворов, чтобы они поспешили разузнать, какие средства должны быть пущены в ход, чтобы произвести полный переворот в образе мыслей нового мэра, достопочтенного Чэффи Зейера Сласса, и заставить его наложить свое вето на предполагаемые концессии, если до этого дойдет дело.
Достопочтенный Чэффи Зейер Сласс, от позиции которого зависела, как мы увидим вскоре, судьба этого сложного дела, был высок, статен, преисполнен сознания собственной значимости и вдобавок имел самые возвышенные представления о своей коммерческой и общественной деятельности. Вам знаком, быть может, этот тип людей, выросших в атмосфере обывательского благополучия и всевозможных мелких социальных предрассудков и претензий и лишенных некоторых необходимых извилин в сером веществе головного мозга, что мешает им видеть жизнь со всеми ее превратностями. Не познав нужды и не имея никакого жизненного опыта, такие люди смотрят на самих себя с величайшим благоговением и полагают, что само провидение печется о них и руководит их поступками. Достопочтенный мистер Сласс гордился своими предками, считая, что ему по наследству досталась безукоризненная честность. Родители его сколотили небольшое состояние, ведя оптовую торговлю шорными изделиями. Сам Чэффи в возрасте двадцати восьми лет связал себя брачными узами с некоей миловидной, но весьма посредственной молодой особой, отец которой довольно бойко торговал бакалеей. В тех местах, откуда мистер Чэффи Сласс был родом, дочка бакалейщика считалась «завидной партией». Свадьбу отпраздновали торжественно и пышно, как и полагалось, после чего молодые отбыли в свадебное путешествие, сначала к «Большому каньону», а потом в «Сад богов». По возвращении удачливый Чэффи — любимец обоих породнившихся между собой семейств, завоевавший эту любовь своим мудрым и неукротимым стремлением сделать карьеру, — вернулся к повседневным занятиям, то есть в свою контору по продаже бумаги, и принялся с величайшим усердием сколачивать себе состояние. Здесь необходимо прежде всего сказать, что достопочтенный Чэффи Сласс не имел почти никаких пороков, ибо нельзя же считать за таковые известную долю чванства и самодовольства и несколько чрезмерную заботу о своей выгоде и благополучии. Но все же одна маленькая слабость у него была, и она доставляла ему, увы, довольно много хлопот и тревог ввиду непримиримо пуританских воззрений его молодой супруги и суровой набожности его отца и тестя. Мистер Сласс был большим поклонником женской красоты, причем особым вниманием пользовались у него белокожие пышнотелые блондинки. Задумчиво-восхищенный взор этого отца двух детей и законного супруга добродетельнейшей из жен не раз украдкой следил за какой-нибудь лукавой соблазнительницей — одной из тех, что время от времени возникают на пути каждого мужчины, чтобы с помощью различных коварных уловок заманить его в свои тенета. Однако следует отметить, что достопочтенный мистер Сласс пустился по стопам веселого Лотарио лишь через несколько лет после женитьбы, когда за ним уже прочно утвердилась репутация высоконравственного человека. Два-три грехопадения с не слишком бесстыдными и распутными уличными красотками, тайная интрижка с девушкой, работавшей у него в конторе и имевшей некоторый опыт в такого рода делах, — и начало было положено. По наивности мистер Сласс сперва вел себя несколько опрометчиво: он пытался всякий раз уверять этих молодых и просвещенных особ в своей искренней и неподдельной любви, что вызывало у них довольно ядовитые замечания. Они не требовали столь возвышенных чувств: некоторые материальные блага и развлечения были, по их мнению, достаточной наградой. Впрочем, для того чтобы успокоить одну соблазненную им особу, понадобилось ровным счетом пять тысяч долларов, причем мистер Чэффи Сласс натерпелся за это время такого страха (грозный образ жены и полные укоризны лица всех родичей и домочадцев неотступно стояли у него перед глазами), что это, по-видимому, должно было навеки излечить его от увлечений секретаршами и стенографистками. И действительно, довольно долгое время после этого злосчастного случая мистер Сласс предпочитал ограничиваться знакомствами, которые ему удавалось завязать через различных агентов, маклеров и коммерсантов, имевших с ним дела и время от времени приглашавших его принять участие в их холостых пирушках. Шли годы, и жизненный опыт мистера Сласса значительно возрос, но с ним, на беду, возросла и его пылкость. Мистер Сласс встречался с крупными дельцами и политическими заправилами города; избирательный округ, к которому он принадлежал, был одним из ведущих; все это понуждало его выступать время от времени с публичными речами. И вот в результате такой деятельности он начал понемногу усваивать некоторые новые для него взгляды. Сущность их сводилась к тому, что человек живет затем, чтобы удовлетворять свои первобытные инстинкты, а христианская религия, мораль и прочие условности — всего лишь парадное одеяние, которое люди из века в век то снимают, то снова надевают, в зависимости от того, что подскажет им выгода, настроение или очередная причуда. Понять истинный смысл таких воззрений было достопочтенному Чэффи Зейеру Слассу, разумеется, не под силу. Для этой работы мозг его был недостаточно совершенен. «Люди ведут двойственное существование — это ясно, чего уж там… — говорил он себе. — Но ведь это скверно, очень скверно…» Его собственные грехи и заблуждения были тому примером. По воскресеньям, направляясь под руку с женой в приходскую церковь, мистер Чэффи Сласс всем своим существом ощущал великое и очистительное значение религии. В коммерческих делах, правда, он частенько натыкался на необходимость действовать вразрез со своими убеждениями, когда ему случалось наживать деньги не совсем честным способом или заключать фиктивные сделки и допускать прочие мелкие отступления от буквы закона… Но, как бы там ни было, а без бога, как говорится, не до порога, нравственность — превыше всего, и церковь необходима человеку. Поддаваться своим страстям (к чему мистер Сласс ощущал такую непреодолимую склонность) хотя и очень соблазнительно, но дурно. Нужно быть образцом добродетели для своих ближних или хотя бы казаться таковым. Ну что можно было поделать с таким ханжой и морализирующим пустомелей? Впрочем, невзирая на то, что мистер Сласс позволял себе частенько уклоняться от пути истинного, — после чего всякий раз корчился от страха, ожидая разоблачения, — дела его неуклонно шли в гору, и он начинал приобретать некоторый вес и влияние в своем кругу. С годами он становился все более распущенным, но вместе с тем все более снисходительным и терпимым к чужим слабостям, пока не сделался в глазах многих человеком вполне приемлемым. Он был верным республиканцем и преданным прихвостнем Нори Симса и молодого Трумена Лесли Мак-Дональда. Тесть достопочтенного Чэффи Сласса был богат и обладал кое-какими связями. В одну из выборных кампаний мистер Чэффи Сласс особенно отличился, произнеся бесконечное количество речей, и проявил себя ярым сторонником республиканской партии. Все это вместе взятое и в первую очередь редкое уменье мистера Сласса подлаживаться и приспосабливаться, а также незапятнанная пока что репутация позволили ему попасть в список кандидатов республиканской партии и быть благополучно избранным по этому списку на пост мэра города Чикаго. Из отдельных замечаний и высказываний мистера Чэффи Сласса во время последней предвыборной кампании Каупервуд мог заключить, что вновь избранный мэр относится весьма неодобрительно к его деятельности. Каупервуд даже беседовал об этом с одним из своих адвокатов, достопочтенным Джоэлом Эвери, бывшим сенатором. Мистеру Эвери случалось вести дела самых различных компаний, и потому он знал не хуже, чем свои уставы и уложения, все ходы и выходы в местных судах, а также всех адвокатов, судей и политических заправил. Это был тщедушный человечек с красновато-желтыми, как шафран, волосами и бровями, хитрыми рысьими глазками и отвисшей нижней губой, которая по временам, когда мистера Эвери охватывало раздумье, норовила совсем прикрыть верхнюю. Мистер Эвери уже немало пожил на свете и в конце концов кое-как научился улыбаться — правда, очень странной и решительно ни на что не похожей улыбкой. Уставившись в одну точку и выпятив нижнюю губу, он обычно не торопясь изрекал свои мысли, облекая их в короткие, деловитые фразы. На сей раз именно мистер Джоэл Эвери дал Каупервуду весьма и весьма дельный совет. — По-моему, единственное, что мы можем сейчас предпринять, — сказал он ему во время одного сугубо секретного разговора, — это поглубже вникнуть в… ну, скажем — в сердечные дела достопочтенного Чэффи Зейера Сласса. — Кошачьи глаза мистера Эвери насмешливо блеснули. — Либо я ровно ничего не смыслю в людях, либо у такого человека непременно должна быть тайная связишка с какой-нибудь дамочкой. А если нет, его нетруднобудет к этому склонить. Тогда ему придется пойти на некоторые уступки, так как он, вероятно, не захочет, чтобы все это выплыло наружу. Все мы люди, у всех есть свои маленькие слабости… — Нижняя губа мистера Эвери поползла наверх, совершенно закрыв верхнюю, потом снова вернулась в исходное положение. — И не к лицу нам, знаете ли, разыгрывать из себя чересчур уж суровых поборников нравственности. Мистер Сласс преисполнен, конечно, самых благих намерений, но на мой взгляд он слишком сентиментален. Мистер Эвери сделал паузу; Каупервуд смотрел на него с любопытством. Внешность этого человека забавляла его не меньше, чем высказанные им суждения. — Неплохая мысль, — сказал он. — Хотя, по правде сказать, я не охотник мешать любовные дела с политикой. — Да, — с чувством заверил его мистер Эвери, — тут можно кое-чего добиться. Я, конечно, не убежден… Но это не исключено. В результате вышеупомянутого собеседования на некоего мистера Бэртона Стимсона, теперь уже довольно преуспевающего поверенного, была возложена задача — представить отчет о вкусах, склонностях и привычках достопочтенного мистера Чэффи Зейера Сласса, а мистер Бэртон Стимсон в свою очередь перепоручил это своему помощнику, мистеру Марчбэнксу. Дельце было не совсем обычное, но тот, кто знает, сколь темными, извилистыми путями осуществлялся финансовый и политический контроль со стороны компаний в те незабвенные дни расцвета, едва ли придет в изумление, какие бы глубины коварства, клоаки грязи и трясины несчастья ни открылись его взгляду.
Тем временем из неприятельского лагеря на зов Каупервуда не замедлил откликнуться Пэтрик Джилген. Каковы бы ни были его политические связи и пристрастия, он не считал возможным пренебречь столь могущественным человеком, как Каупервуд. — Чем могу быть вам полезен, мистер Каупервуд? — осведомился он, представ перед финансистом. Мистер Джилген после одержанной победы выглядел очень бодро и уверенно и был одет с иголочки. — Скажите, мистер Джилген, — напрямик спросил его Каупервуд, пристально вглядываясь в лицо председателя окружного комитета республиканской партии и задумчиво вертя большими пальцами переплетенных рук, — должен ли я понять, что вы намерены позволить Общечикагской городской электрической протащить через муниципалитет свой проект и не собираетесь препятствовать выдаче разрешения на прокладку надземной железной дороги-на Южной стороне, а мне не дадите даже возможности что-либо предпринять или хотя бы высказать свое мнение? Мистер Джилген был лишь одним из четверки, временно захватившей в свои руки городское самоуправление, и Каупервуд, разумеется, прекрасно знал это, но предпочел сделать вид, что для него мистер Джилген — человек, которому принадлежит последнее слово, почти единоличная власть в городе, вроде самодержца Мак-Кенти. — Дорогой мой мистер Каупервуд! — с лукавой усмешкой воскликнул Джилген. — Вы мне льстите! Право же, голоса членов городского муниципалитета не лежат у меня в кармане. Я был руководителем округа, это верно, и помог избрать кое-кого из этих людей, что тоже верно, но тем не менее я ведь не купил их на веки вечные. Почему бы им не принять проект Общечикагской городской электрической. Это вполне честное предложение, насколько мне известно. Все газеты за него горой стоят. Что касается концессии на надземную дорогу, то я здесь совершенно ни при чем. Не знаю даже толком, в чем там дело, об этом надо спрашивать мистера Шрайхарта и молодого Мак-Дональда. Нельзя не отметить, что на этот раз почтенный мистер Джилген говорил сущую правду. Не господа Джилген, Тирнен, Кэриген и Эдстром, а именно молодой Мак-Дональд, начинавший постигать искусство политической интриги, призван был вразумить непокорных олдерменов и научить их исполнять свой долг, и один из его прихвостней, некий олдермен Клемм, был с этой целью избран, если позволительно так выразиться, на пост фельдмаршала. Джилгеновская четверка тогда еще не успела привести в действие свою административную машину, хотя и прилагала к тому все усилия. — Да, да, каждый из них избран с моей помощью, что верно, то верно, но только это не значит, что я могу ими распоряжаться. Нет, пока до этого еще далеко. При этом «пока» по губам Каупервуда пробежала усмешка. — Ну, как бы то ни было, мистер Джилген, — вкрадчиво проговорил он, — но вы в настоящее время — всеми признанный руководитель этого затеянного против меня похода, и, следовательно, с вами мне и надо договариваться в первую очередь. Вы держите в руках все нынешнее республиканское самоуправление и можете заставить его повернуть в любую сторону, стоит вам только захотеть. Во всяком случае вы можете уговорить членов муниципалитета не слишком торопиться с выдачей этих концессий, все зависит только от вашей доброй воли, я в этом уверен. Не знаю, известно ли вам, мистер Джилген, — впрочем, вероятно, известно, — что мои конкуренты стремятся выжить меня из Чикаго, — вот ради чего и ведется вся эта травля. Так позвольте мне спросить вас, как человека, наделенного здравым смыслом и большим деловым опытом, — полагаете ли вы, что это справедливо? Семнадцать лет назад я приехал сюда и вложил свои деньги в газовые предприятия города. В то время возможность эта — провести газ в предместье города, на Северной, Южной и Западной сторонах — была открыта для любого, и я решил ею воспользоваться. Но стоило мне взяться за дело, как на меня ополчились старые газовые компании, хотя я отнюдь не посягал на их права. — Помню, помню, как же, — отозвался Джилген. — Я ведь тоже в числе прочих помогал вам тогда получить хайдпарковскую концессию. Не будь меня, вам бы не видать ее как своих ушей. А этот парень, Мак-Кибен, — прибавил Джилген усмехаясь, — каков был красавчик, а? Такие мягко стелют, да жестко спать. Он, верно, и сейчас работает с вами? — Да, он служит в одном из моих предприятий; — надменно отвечал Каупервуд. — Но вернемся к интересующему нас вопросу. За Общечикагской электрической и той компанией, которая собирается прокладывать надземную дорогу, стоят, в сущности, все те же лица из старых газовых компаний — Блэкмен, Джулс, Бейкер, Шрайхарт и другие — и все они злы на меня, ибо я позволил себе заняться тем, что они считали своей монополией, и в конце концов принудил их от меня откупиться. Эти господа возненавидели меня еще и потому, что я переоборудовал ваши допотопные конки и сделал их доходными. Мэррил имеет против меня зуб за то, что я проложил петлю не вокруг его магазина, а другие — за то, что я вообще ее проложил. Они все ненавидят меня только потому, что я занялся тем же делом, что они, и сделал то, что им давно надлежало сделать. Я явился сюда незваный — вот вам и вся подоплека этой вражды. Я должен был привлечь муниципалитет на свою сторону — без этого мне и шагу ступить не давали, но как только я этого достиг, все мок недруги тотчас ударились в политику, чтобы атаковать меня еще и с этой стороны. Мне очень хорошо известно, мистер Джилген, кто стоял за вашей спиной во время последних выборов. Вы думаете, я не знаю, кто снабжает вас деньгами? Вы хорошо поработали, и победа осталась за вами. Я не питаю к вам никаких враждебных чувств, но хочу знать, намерены ли вы и впредь помогать этим господам в их борьбе со мною, или вы дадите и мне возможность померяться силами с их кликой? Через два года у нас будут новые выборы. Политика — не ложе из роз, на котором можно покоиться до скончания века, если уж вы улеглись на него однажды. Мои враги, с которыми вы стакнулись, — это все, так сказать, сливки местного общества. Им, в сущности, нет никакого дела до вас и до таких, как вы. Сейчас они с вами заигрывают, потому что вы им нужны, они надеются с вашей помощью прикончить меня. Ну, а потом, как вы полагаете, долго еще они будут в вас нуждаться? — Очень может быть, что и не долго, — просто и чуть-чуть меланхолично отвечал Джилген. — Но так уж устроен мир, и ничего тут не поделаешь. — Вы правы, — спокойно согласился Каупервуд, — но Чикаго — это Чикаго, и уступать им поле боя я не собираюсь. Вы можете на каждом шагу вставлять мне палки в колеса, можете строить надземные дороги, чтобы урезать мои доходы, выдавать концессии конкурирующим со мной компаниям, но все равно вы не выживете меня отсюда и даже не очень повредите мне. Я останусь здесь, а вот политическая обстановка не вечно будет оставаться такой, как сейчас. Вы, мистер Джилген, человек честолюбивый, в этом я не сомневаюсь, и, разумеется, не для развлечения занимаетесь политикой. Скажите мне, к чему вы стремитесь, и посмотрим, быть может, я сумею для вас сделать больше, чем эти джентльмены, с которыми вы связались. Чем я могу быть вам полезен? Я хочу доказать, что со мной не так уж плохо иметь дело. Я веду честную игру в Чикаго. Я создал здесь превосходный городской транспорт и вовсе не хочу, чтобы мои конкуренты поминутно совались в мои дела и докучали мне. Прошу вас, скажите, что я должен сделать, чтобы уладить наши отношения? Я уверен, что мы с вами можем договориться. К чему нам враждовать и на каждом шагу строить друг другу козни? Быть может, вы могли бы предложить какую-то программу действий, которой мы бы и стали придерживаться впредь к обоюдному удовлетворению? Каупервуд умолк, а Джилген погрузился в раздумье. Каупервуд прав — не от нечего делать ввязался мистер Джилген в политику. Однако в настоящее время обстоятельства складывались не особенно благоприятно для осуществления той заманчивой программы, которую он некогда себе начертал. Тирнен, Кэриген и Эдстром, хотя и держались с ним пока еще довольно дружелюбно, но уже начинали предъявлять ни с чем несоразмерные требования. А так называемые сторонники реформ, — те, что, поверив на слово газетам, считали Каупервуда мошенником, а все его начинания — вредоносными, — требовали от нового муниципалитета неподкупной честности во всех делах: никакие договоры, контракты и всякого рода сделки не должны были отныне и впредь заключаться без ведома населения и газет. Джилген после первого же совещания со своими единомышленниками, последовавшего вскоре за их избранием, уже почувствовал себя между молотом и наковальней. Но до поры до времени он только не спеша нащупывал почву и отнюдь не склонен был принимать какие-либо опрометчивые решения и действовать очертя голову. — Да-а, это откровенное предложение, ничего не скажешь, — пробормотал он наконец. — Вы, стало быть, советуете мне предать моих друзей, едва только я одержал для них победу? Ну, в своей политической практике я, признаться, к таким трюкам не привык. Может быть, оно и правда — то, что вы сказали, — так все равно нельзя же бросаться из стороны в сторону, как кот в мешке. Приходится ведь иной раз и сохранять верность. — Мистер Джилген запнулся, не зная, как выйти из столь щекотливого положения. — Ну что ж, — сочувственно промолвил Каупервуд, — подумайте еще. Из всех дел политика — самое сложное. Я лично занимаюсь ею только потому, что меня к этому вынуждают. Если вы увидите, что мы можем быть чем-либо полезны друг другу, — дайте мне знать. Так или иначе, но в моем предложении нет ничего для вас обидного. Меня хотят прижать к стене. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Вполне понятно, что я буду бороться. Но это не значит, что мы с вами должны враждовать. Напротив, мы еще можем со временем стать закадычными друзьями. — Понимаю, понимаю, — сказал Джилген, — и уж, поверьте, ничего бы, кажется, так не хотел, как подружиться с вами. Но если бы мне даже и удалось сладить с олдерменами — а это, конечно, не так просто, — то ведь остается еще мэр! А у меня с ним не более как шапочное знакомство. К тому же, насколько мне известно, он настроен по отношению к вам очень, враждебно и, значит, непременно поднимет шумиху в газетах. Да, мэр может вам здорово насолить. — Ну, это я, пожалуй, сумею уладить, — сказал Каупервуд. — Вероятно, мне удастся повлиять на мистера Сласса. Быть может, он не так уж враждебно настроен против меня, как ему кажется. Ничего нельзя знать наперед.
Глава 39
Новый мэр города Чикаго
На Оливера Марчбэнкса, подающего надежды юнца лисьей породы, мистер Стимсон возложил ответственную задачу — уличить достопочтенного мистера Сласса в каком-либо предосудительном поступке, и мистер Марчбэнкс раскапывал и разнюхивал до тех пор, пока не собрал достаточно данных, чтобы состряпать историю, которая могла бы навеки отравить жизнь мистера Сласса, если бы ему вздумалось стать слишком послушным орудием в руках врагов Каупервуда. Главным действующим лицом этого заговора явилась некая Клаудия Карлштадт, авантюристка и шпионка по призванию, веселая потаскушка и продажная душа, обладавшая большим житейским опытом и довольно приятной внешностью. Излишне говорить, что Каупервуд не входил ни в какие подробности, хотя один его снисходительный кивок привел в движение весь хитроумный механизм ловушки, сфабрикованной для уловления достопочтенного Чэффи Сласса. Клаудия Карлштадт — орудие соблазна, с помощью которого была уготована гибель достопочтенному Чэффи, — была высокая стройная блондинка, еще довольно свеженькая, так как ей едва сравнялось двадцать шесть лет, и отличавшаяся тем бездушием и жестокостью, которые свойственны лишь самым алчным и самым легкомысленным созданиям. Чтобы понять, как сложился такой характер, следовало бы познакомиться поближе с беспросветной нуждой Южной Холстедской улицы, на которой родилась и выросла эта особа, заглянуть в одну из тех ветхих, вросших в землю лачужек, где оторванные ставни болтаются на одной петле, а перед окнами денно и нощно снует оборванный и вечно пьяный люд. В юности Клаудия привыкла бегать «на угол за пивом», продавать газеты на перекрестке Холстед и Харрисон-стрит и покупать кокаин в соседней лавчонке. Ее рубашка и платьишко — рваные и замызганные — были из самой что ни на есть плохонькой материи, чулки — асе в дырах, открывавших глазу синеватую кожу тонких ножек, башмаки — стоптанные, прохудившиеся, в непогоду всегда промокшие насквозь. Клаудия водила дружбу с целой ватагой отпетых сорванцов-мальчишек с окрестных улиц; она рано постигла искусство сквернословить и познала порок, хотя, как это часто бывает с детьми, в душе еще не была развращена. В одиннадцать лет, сбежав из омерзительного детского приюта, куда ее поместили после смерти матери, она сумела разжалобить рассказами о своих злоключениях одну ирландскую чету, которая и взяла ее к себе в дом на Западной стороне. В этом семействе были две дочери, обе служили конторщицами в большом универсальном магазине. С помощью этих девушек Клаудии удалось стать кассиршей. Дальнейшая судьба ее была так же пестра и необычна, как и начало ее жизненного пути. Следует отметить, что природа наделила эту девушку довольно живым умом. Когда ей минуло двадцать лет, она уже была обладательницей (сначала с помощью какого-то ювелира, затем — сына одного фабриканта обуви) обширного гардероба и небольшой наличной суммы денег. Вскоре некий молодой и весьма привлекательный член конгресса, только что избранный на этот пост от Западных штатов, пригласил Клаудию в Вашингтон для работы в правительственном учреждении. Новая должность требовала знания стенографии и машинописи, и Клаудия без труда усвоила все это. А затем один секатор привлек ее к тому роду секретной службы, который не предусмотрен государственным бюджетом, но является весьма доходным для тех, кто им занимается. Там, где не помогал обыкновенный подкуп, пускались в ход кокетство и лесть, и Клаудии удавалось раскрывать немало секретов. Одно из поручений — разведать тайные финансовые связи некоего члена конгресса от штата Иллинойс — привело Клаудию назад в Чикаго, где она свела знакомство с молодым Стимсоном. От Стимсона Клаудия узнала об интриге, которая плелась против Каупервуда в финансовых и административных кругах города, и любопытство ее было сильно возбуждено. В Вашингтоне ей уже приходилось слышать кое-что о Слассе. Стимсон дал Клаудии понять, что некое лицо не пожалеет двух-трех тысяч долларов и сверх того покроет, разумеется, все необходимые затраты, если господин мэр будет основательно скомпрометирован. Так судьба авантюристки Клаудии Карлштадт неприметным образом сплелась с блистательной судьбой неподкупного Чэффи Сласса. Привести в исполнение задуманный план оказалось делом не слишком сложным. С помощью достопочтенного Джоэла Эвери, Марчбэнксу удалось раздобыть письмо к мистеру Слассу от одного из его политических единомышленников. Это было ходатайство о некоей молодой вдове, опытной машинистке, стенографистке и так далее и тому подобное, оказавшейся в затруднительном положении и желающей устроиться на работу в местном муниципалитете. Вооруженная этим письмом, в необходимых для предстоящего поединка доспехах (платье из тяжелого черного шелка, плотно облегающее фигуру, скромная нитка жемчуга на шее, жемчужные перстни на пальцах, соломенно-желтые локоны, соблазнительно уложенные ка висках), Клаудия явилась в резиденцию нового мэра. У мистера Сласса дел было по горло, но тем не менее этой даме он назначил день и час приема. На сей раз Клаудия прибавила к своему туалету две бархатные розы, пунцовую и желтую, которые она приколола к корсажу. Итак, перед мистером Слассом предстала полногрудая молодая особа, весьма недурно сложенная и в совершенстве овладевшая искусством стоять, сидеть, двигаться и изгибать торс по всем правилам записных вашингтонских кокоток. Мистер Сласс загорелся с первого взгляда, но подошел к делу осмотрительно и осторожно. Как-никак, он теперь мэр большого города и у всех на виду! Ему показалось, что он уже встречался где-то с миссис Брэндон — так эта дама предпочла именовать себя на сей раз, — и она не замедлила напомнить ему, где именно. Два года назад в ресторане Ришелье. В воображении мистера Сласса тотчас возникли все подробности этой знаменательной встречи. — Так, так. И с тех пор, как я понимаю, вы успели выйти замуж и овдоветь. Позвольте выразить вам мое соболезнование. Обхождение мистера Сласса было снисходительно-величественным и вместе с тем непринужденным, как и подобало, по его мнению, человеку, вознесенному на столь высокий пост. Миссис Брэндон ответила сдержанным наклонением головы. Ее ресницы и брови были слегка подчернены, а на пухлой розовой щечке оранжевым гримировальным карандашом сделано некое подобие соблазнительной ямочки. Поистине эта дама была воплощением женственности и трогательно безыскусной печали. Вместе с тем в ней чувствовалась и хорошая деловая сноровка. — Когда я имел удовольствие с вами познакомиться, вы как будто состояли на службе в правительственных органах в Вашингтоне? — Да, я занимала скромную должность в Государственном казначействе, но при новом правительстве мне пришлось уйти. Миссис Брэндон прикрыла ресницами глаза и слегка подалась вперед, приняв самую соблазнительную позу. Не могло быть сомнений в том, что, помимо работы в Государственном казначействе, эта дама пробовала свои силы в самых различных областях. Миссис Брэндон с удовлетворением отметила про себя, что от зоркого глаза мистера Сласса не укрылось ничего, ни одна самая ничтожная деталь. Он окинул взглядом знатока ее лакированные ботинки на пуговках с прюнелевым верхом, черные лайковые перчатки, простроченные белым шелком и застегнутые гранатовыми пуговками, коралловое ожерелье, украшавшее на сей раз белоснежную шейку, и бархатные розы — пунцовую и желтую, — приколотые к корсажу. Весьма элегантная и подающая надежды молодая вдова, хотя и перенесшая недавно столь тяжелую утрату. — Так, так, дайте подумать, — с важным видом бормотал мистер Сласс. — Где вы изволите проживать? Позвольте, я запишу ваш адрес. Мистер Барри очень тепло отзывается о вас в своем письме. Разрешите мне подумать денька два-три. Сегодня вторник? Зайдите в пятницу. Быть может, я сумею подыскать для вас подходящее место. Он проводил посетительницу до дверей, и поступь ее, упругая и легкая, также не укрылась от его внимания. В дверях миссис Брэндон обернулась и бросила на мэра столь нежный и томный взгляд, что он тут же решил непременно пристроить ее куда-нибудь. Более очаровательная просительница еще ни разу не переступала порога его кабинета. А вскоре после этого достопочтенному Чэффи Слассу пришел конец. В назначенный день миссис Брэндон появилась снова. Ее туалет на этот раз приятно оживляла красная шелковая нижняя юбка, кокетливые оборки которой поминутно выглядывали из-под подола черного атласного платья. — Видал, какие теперь тут ходят? — заметил один из привратников, обломок прежнего режима, другому ветерану. — Вот оно что значит — новое-то начальство. Из молодых, да ранние! Он покрутил головой, оправляя воротник, франтовато, не без лихости обдернул шинель и весело взглянул на своего товарища, такое же старое пропыленное чучело, как и он сам. В ответ ему достался дружеский шлепок по животу. — Легче на поворотах, Билл. Не забегай вперед. Мы не успели развернуться как следует. Вот, погоди с полгодика — то ли еще будет! Мистер Сласс не скрыл своей радости при виде миссис Брэндон. Он уже успел переговорить с Джоном Бастинелли, новым налоговым инспектором, чей кабинет был расположен на том же этаже, как раз напротив кабинета самого мэра, и мистер Бастинелли, в расчете на взаимную услугу, охотно согласился оказать покровительство молодой особе. — Очень рад, что могу снабдить вас этим письмом к мистеру Бастинелли, — сказал мистер Сласс, нажимая звонок, чтобы вызвать стенографистку. — Мне в равной мере приятно сделать это как для моего друга мистера Барри, так и для вас. Кстати, вы хорошо знакомы с мистером Барри? — полюбопытствовал он. — Нет, не очень, — призналась миссис Брэндон, быстро смекнув, что мистеру Слассу будет приятно узнать о ее крайне поверхностном знакомстве с лицом, давшим ей рекомендацию. — Меня направил к нему мистер Амермен. — Брэндон назвала первое подвернувшееся ей на язык имя. Мистер Сласс почувствовал облегчение. Он протянул ей письмо, и она снова подарила его нежным, влекущим, исполненным благодарности взглядом. От этого взгляда у достопочтенного мэра не на шутку закружилась голова и началось такое волнение в крови, что благие намерения — держать ухо востро с этой малознакомой ему особой — тотчас разлетелись прахом. — Вы, помнится, говорили, что изволите проживать где-то на Северной стороне? — осведомился он, растянув рот в безвольную глуповатую улыбку. — Да, я сняла премиленькую квартирку, окнами на Линкольн-парк. Правду сказать, я не была уверена, хватит ли у меня средств содержать ее, но теперь, если я получу это место… Ах, вы были так добры ко мне, мистер Сласс. Я надеюсь, вы не забудете меня теперь на веки вечные? — По всему было видно, что это беззащитное создание остро нуждается в покровительстве. — Если только я когда-нибудь смогу быть вам полезна… А мистер Сласс пришел в неописуемое волнение, подумав о том, что это восхитительное существо женского пола, которое находилось сейчас в такой соблазнительной от него близости, может исчезнуть навсегда. Провожая миссис Брэндон до дверей, он собрался с духом и пролепетал: — Я как-нибудь загляну к вам в вашу новую квартирку, посмотрю, как вы там устроились. Я ведь живу неподалеку. — О, пожалуйста, пожалуйста, приходите! — горячо воскликнула миссис Брэндон. — Это было бы так мило с вашей стороны. Я ведь совсем одна на белом свете. Может быть, вы играете в карты? А я умею готовить замечательный пунш. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели, как уютно я устроилась в своем новом гнездышке. И мистер Сласс, уже всецело во власти тех чувств, которые были его единственной, но, увы, неискоренимой слабостью, воскликнул: — Приду! Непременно приду! Быть может, даже скорее, чем вы ожидаете. Дайте мне знать, как идут у вас дела. Он взял ее за руку. Она ответила ему горячим пожатием. — Ловлю вас на слове, — проворковала она нежно, томно, понизив голос почти до шепота. А через несколько дней мистер Сласс снова столкнулся с миссис Брэндон у себя в приемной: она уже давно подкарауливала его здесь, чтобы повторить приглашение. После этого мистер Сласс нанес ей визит. Кое-кому из служащих, уцелевших от прежней администрации и работавших в канцелярии мэра, было поручено вести учет посещениям миссис Брэндон и отмечать длительность ее пребываний в кабинете мистера Сласса. Записка, написанная мистером Слассом миссис Брэндон, вошла в драгоценный фонд вещественных доказательств, среди которых не последнее место занимали свидетельские показания о посещении этой парой гостиниц, ресторанов и прочих злачных мест. Улик вскоре набралось более чем достаточно, чтобы навсегда погубить репутацию достопочтенного мэра. На все эти мероприятия потребовалось около четырех месяцев, после чего миссис Брэндон неожиданно получила предложение возвратиться в Вашингтон и решила его принять. Письма, полетевшие ей вдогонку, были тут же приобщены мистером Стимсоном к другим уже собранным им неопровержимым уликам, с помощью которых можно было бы изобличить преступного мэра, если бы он вздумал проявить слишком большое рвение и упорство в своей борьбе против Каупервуда.Меж тем осуществление плана наживы и дележа, намеченного мистером Джилгеном совместно с Тирненом, Кэригеном и Эдстромом, встретило довольно солидные помехи. Похоже было на то, что некоторые из вновь избранных олдерменов, затвердившие фарисейские уроки своих политических опекунов, не позволят провести через муниципалитет ни одной сколько-нибудь выгодной концессии, если на то не последует соизволения таких столпов общества и блюстителей нравственности, как господа Хэнд, Сласс и прочие. Более того: все отныне должно было делаться безвозмездно, никто, никому и ни за что не должен был отныне платить! — Нет, как вам нравятся эти проклятые болтуны? Вот жулики-то, прости господи! — возопил мистер Кэриген, явившись к мистеру Тирнену прямо с совещания с мистером Джилгеном, на котором мистер Тирнен не присутствовал и, разумеется, не по своей вине. — Они уже состряпали проект — хотят весь город покрыть своими надземными дорогами. Только нам с вами при этом ничего не перепадет, не надейтесь! За кого они нас принимают в конце-то концов? А? Ну, что вы скажете? А мистер Тирнен в свою очередь уже успел посовещаться с мистером Эдстромом и произвести, как он выражался, «разведку в тылу врага», что принесло ему следующие малоутешительные сведения: республиканцы выдвигали своим лидером в муниципальном совете некоего олдермена по имени Клемм — очень неглупого и весьма почтенного американского немца с Северной стороны, и этот самый Клемм, вместе с дюжиной других олдерменов, порешил, руководствуясь принципами высокой морали, что впредь городское самоуправление будет вершить дела только честным путем. От этого поистине можно было сойти с ума! Услышав новость, мистер Кэриген, уже заранее прикинувший было, сколько тысяч долларов удастся ему сорвать и тут и там, когда понадобится его голос, вытаращил глаза от удивления. — Как, черт возьми! — воскликнул он. — Вот это удумали! Да что же это такое? — Я уже имел честь разговаривать с этим самым Клеммом из двадцатого избирательного, — процедил мистер Тирнен сквозь зубы. — Ну и субъект, доложу я вам. Мы встретились в «Тремонте», он был там с Хвранеком. Когда он пожал мне руку, я сразу увидел, что это за человек. Дохлая рыба какая-то! И вообразите себе, что он посмел мне сказать? «Если не ошибаюсь, мистер Тирнен из второго избирательного?», — говорит он. «Да, вы не ошиблись», — отвечаю я. «А вы не такой уж страшный с виду, как я думал», — говорит он. Хо-хо! Я чуть не сказал этому наглецу: «А ну, проваливай, пока я тебе скулы не своротил!» Попадись он мне теперь под злую руку где-нибудь в укромном местечке! — Мистер Тирнен даже зубами заскрипел от злости. — Послушали бы вы, как он разглагольствовал о том, что ему, дескать, непонятно, по какой такой причине препятствуют новым компаниям прокладывать в Чикаго свои трамвайные линии. «Кому ж это не ясно (тут мистер Тирнен сделал даже попытку передразнить мистера Клемма), — что население решительно против всяких монополий». Ну и ну! Поглядим, как он преподнесет эту галиматью Гамблу, или Пинскому, или Шламбому! Мистер Кэриген, услышав имена этих матерых взяточников, привыкших драть с каждого по три шкуры и извлекать побочные доходы везде, где только можно, злорадно расхохотался и откинулся на стуле. — Я вам скажу, Майк, что я насчет этого думаю, — с хитрым видом проговорил он, поддергивая узкие на английский манер модные брючки, — эта джилгеновская шатия — просто жалкие трусы, и их следует хорошенько проучить. Джилген это понимает не хуже нас с вами. Вся эта великопостная христианская белиберда не для меня. По-моему, Каупервуд прав: это кучка старых ханжей, которые лопаются от зависти. Если Каупервуд готов выложить хорошие деньги за то, чтобы мы не дали им залезть в его кормушку, так пусть и они выкладывают, если им припала охота туда залезать! Городское самоуправление — не богадельня! И нам нужно сейчас во что бы то ни стало сколотить в новом муниципалитете хорошее, очень крепкое ядро, чтобы Шрайхарту и Мак-Дональду не удалось получить того, на что они зарятся. Джилген так расписывал этих господ — я думал, с ними и вправду можно иметь дело. За выборы они с нами рассчитались, спору нет. Ну, а теперь пускай платят, если хотят получить хорошую концессию. — Вы правы, черт побери, — отозвался Тирнен. — Готов подписаться под всем, что вы сказали! В самом непродолжительном времени после этой поучительной беседы мистер Мак-Дональд был весьма неприятно поражен, обнаружив при помощи своего ставленника, олдермена Клемма, что у него много меньше сторонников, чем он предполагал. Да, союз с такими политиканами — штука ненадежная! Некоторые олдермены — какие-то там Хорбэки, Фогарти, Мак-Грейны, Сэмельские — всем своим поведением давали основание предполагать, что получили взятку. С этим неутешительным известием мистер Мак-Дональд поспешил к Хэнду, Шрайхарту и Арнилу, которые уже поздравляли друг друга, полагая, что одержанная победа не замедлит принести им концессию на постройку разветвленной сети надземных железных дорог в Чикаго, после чего они поставят, наконец, на колени своего заклятого врага — Каупервуда. Выслушав молодого Мак-Дональда, Хэнд, не медля ни минуты, послал за Джилгеном. На вопрос Хэнда — когда же, наконец, муниципалитет утвердит предложенный Клеммом проект концессии Общечикагской городской электрической — Джилген заявил, что, к великому его, Джилгена, прискорбию, этот проект наталкивается на довольно сильное противодействие со стороны целого ряда лиц. — Что такое? — свирепо спросил Хэнд. — Мы ведь, кажется, обо всем с вами договорились? Вам, по-моему, уплатили все сполна, как было условлено? Вы брались провести в муниципалитет двадцать шесть олдерменов, которые будут голосовать так, как им прикажут. А теперь что же — на попятный? Хотите отказаться от своих обязательств? — Обязательств! Обязательств! — проворчал Джилген, раздраженный чрезмерной, по его мнению, грубостью этого наскока. — Я взялся провести в муниципалитет двадцать шесть олдерменов-республиканцев и провел. А покупать их со всеми потрохами я и не брался. Я в конце концов не выбирал каждого из них по своей воле. Мне приходилось договариваться с разными людьми, по разным округам, — с теми, кто пользуется популярностью и у кого было больше шансов пройти. Но разве я могу отвечать за каждую подлость, которая творится за моей спиной? Если люди не держат слова, так я-то здесь причем? Физиономия мистера Джилгена изображала укоризненный вопрос. — Позвольте, но вы же сами подбирали этих людей? — наседал на него Хэнд. — Каждый из них был избран с вашего одобрения. Все они дали торжественное обещание бороться с Каупервудом до победного конца. А что же вышло? Теперь они отрекаются от этой своей священной обязанности? Они же не могут не знать, для чего их выбрали в муниципалитет. Все газеты требовали в один голос, чтобы Каупервуду не предоставлялось больше никаких привилегий. — Все это правильно, — отвечал Джилген, — но только я никак не могу отвечать за честность других. Да, конечно, я провел их в муниципалитет, что верно, то верно! Но я подбирал их с помощью других республиканцев и кое-кого из демократов. Ведь как-никак, а прежде всего надо было отобрать таких, которые не провалятся на выборах. Впрочем, насколько я понимаю, большинство из них вовсе и не собирается потакать Каупервуду. Но вот концессии для других компаний — это уж совсем другое дело. Мистер Хэнд наморщил свой широкий лоб и с нескрываемым подозрением вперил голубые глазки в мистера Джилгена. — Но кто же все-таки там мутит воду? — спросил он. — Я хотел бы иметь список этих олдерменов. Мистер Джилген, хитро обезопасив себя со всех сторон, готов был принести в жертву «непокорных». Пусть каждый ратует сам за себя. Мистер Хэнд записал имена тех, на кого надо было немедленно оказать давление, а заодно решил последить и за мистером Джилгеном. Если при осуществлении намеченного плана в административном аппарате начнет «заедать», придется опять обратиться к газетчикам и велеть им шуметь погромче! А тех олдерменов, которые не оправдают возложенного на них высокого доверия, — гнать в шею из муниципалитета, отдать на суд обманутых ими избирателей, пригвоздить к позорному столбу! И пусть газеты с удвоенной силой протрубят на весь мир о неслыханном коварстве и бесстыдных мошеннических проделках Каупервуда! Тем временем господа Стимсон, Эвери, Мак-Кибен, старик Ван-Сайкл и другие агенты Каупервуда тоже не плошали, обрабатывая в его пользу отдельных олдерменов, из числа тех, кто не проявлял особого тяготения к высокой морали. Они старались втолковать им, что стоит только в течение двух лет воздерживаться от неугодных мистеру Каупервуду решений, и соответствующая награда не замедлит воспоследовать — либо в виде ежегодного жалованья в две тысячи долларов, либо в виде других преподношений… формы их могут быть разнообразны. Существуют просроченные и гнетущие, подобно тяжелому кошмару, векселя, которые можно индоссировать, закладные, которые можно выкупить… Да мало ли что. Строжайшее соблюдение тайны гарантировалось в любом случае. Само собой разумеется, что предложения такого рода никогда не исходили непосредственно от упомянутых выше лиц. Кто-нибудь из друзей или из соседей неожиданно выступал в роли посредника. А то просто какой-то незнакомец являлся с таинственным поручением. Так, еще одиннадцать олдерменов — помимо тех десяти олдерменов-демократов, которые уже были приручены Мак-Кенти, — попали в силок. Все расчеты Шрайхарта, Хэнда и Арнила были уже до основания разрушены, хотя они об этом и не подозревали, и, невзирая на все их усилия, долгожданная общегородская концессия на проведение трамвая никак не давалась им в руки. В конце концов им пришлось до поры до времени удовлетвориться концессией ка прокладку одной единственной линии надземной железной дороги на Южной стороне, то есть — на территории, уже фактически покрытой шрайхартовскими же линиями; Общечикагская городская компания электрических железных дорог получила концессию тоже на одну и притом совершенно незначительную трамвайную линию, которую Каупервуд, если счастье ему не изменит, мог впоследствии легко присоединить к своим.
Глава 40
Поездка в Луисвиль
Теперь на пути Каупервуда возникла новая трудность, и не столько политического, сколько финансового порядка. В те дни, когда Эддисон еще возглавлял «Лейк-Сити Нейшнл», Каупервуд черпал средства на финансирование своих городских железнодорожных предприятий преимущественно из его банка. Когда же Эддисону пришлось оставить свой пост, чтобы встать во главе Чикагского кредитного общества, Каупервуду удалось добиться того, что этот банк был объявлен резервным банком округа и ряду сельских банков было предложено держать там свои капиталы. Однако стараниями Хэнда и Арнила, контролировавших большинство чикагских банков и состоявших в тесной связи с нью-йоркскими финансовыми магнатами, борьба против Каупервуда и всех его начинаний обострялась все более и более, и вот, под воздействием враждебных ему сил, некоторые местные банки начали требовать обратно свои вклады, и можно было ожидать, что другие не замедлят последовать их примеру. Каупервуд не сразу уяснил себе масштабы финансовой войны, которая велась против него. Прежде всего он оказался вынужденным в поисках наличных денег предпринять ряд поездок: то в Нью-Йорк, то в Филадельфию, то в Цинциннати, то в Балтимору, то в Бостон, а иной раз даже в Лондон. В одну из таких поездок ему довелось свести несколько необычное знакомство, последствия которого, сложные и неожиданные, оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь. Разъезжая по стране, Каупервуд завязывал многочисленные деловые знакомства — преимущественно с теми, у кого водились деньги. Среди его новых знакомых были люди самого различного склада, от суровых дельцов до беспечных прожигателей жизни. К числу последних принадлежал и полковник Натаниэл Джилис — богач, спортсмен, кутила и прожектер, с которым Каупервуд встретился в городе Луисвиле, штат Кентукки. Полковник был заметной фигурой в тамошнем избранном обществе. Проникшись симпатией к Каупервуду, он не раз ссужал его деньгами и, как человек светский и с большими связями, вменил себе в обязанность развлекать своего нового приятеля во время его кратковременных наездов в Луисвиль. Однажды он сказал Каупервуду: — С вашего позволения, Фрэнк, я бы хотел познакомить вас с одной из самых интересных женщин, которых я когда-либо встречал. Репутация у нее не безупречна, но она весьма занимательная особа. Она прожила очень бурную жизнь, дважды была замужем и дважды овдовела. Оба ее супруга были моими лучшими друзьями. Третий мой друг был ее любовником. Я привязан к ней, потому что знал ее отца и мать; она была тогда прелестным ребенком, да и теперь еще очень мила, хотя и свернула со стези добродетели. У нее здесь, в Луисвиле, нечто вроде дома свиданий, куда открыт доступ кое-кому из старых друзей. Вы свободны сегодня вечером? Быть может, мы навестим эту даму? Каупервуд, который охотно откликался на любое предложение, а главное, умел угождать тем, кто мог быть ему полезен, — наподобие свирепой овчарки, весело скачущей вокруг хозяина в ожидании хорошей подачки, — не замедлил согласиться. — Охотно, вы меня очень заинтересовали. Расскажите мне о ней еще что-нибудь. Она хороша собой? — Недурна. Но главное ее достоинство в том, что у нее всегда есть на примете с десяток совершенно прелестных созданий. — Полковник погладил свою седеющую козлиную бородку и весело подмигнул приятелю. Каупервуд встал. — Ну что ж, поехали! Вечер был дождливый. Дело, которое привело Каупервуда к полковнику, можно было закончить лишь на следующий день, и Каупервуд скучал, не зная, чем заполнить досуг. По дороге полковник поведал ему еще некоторые подробности из жизни Нэнни Хэдден, как он фамильярно называл эту особу, ибо таково было ее девичье имя. Она изменила его потом, став миссис Джон Александер Флеминг; через несколько лет после бракоразводного процесса превратилась в миссис Айра Джордж Картер, а теперь была известна среди луисвильских прожигателей жизни, к которым причислял себя и полковник, как Хэтти Стар, хозяйка веселого дома. Все это не пробудило особого интереса в Каупервуде до тех пор, пока он не увидел эту даму и не узнал от полковника, что у нее есть двое детей: дочь от первого брака, Беренис Флеминг, которая воспитывалась в пансионе в Нью-Йорке, и сын от второго брака — Ролф Картер, обучавшийся в военной школе где-то в Западных штатах. — Эта ее дочка — настоящий отпрыск хорошего старинного рода, насколько я понимаю, — заметил полковник. — Я видел ее всего два или три раза, несколько лет назад, когда бывал в их загородном доме, но она уже тогда поразила меня, — столько обаяния было в этой десятилетней девочке. Настоящая маленькая аристократка с головы до пят… Как миссис Картер при своем образе жизни ухитрилась так воспитать девочку — загадка для меня. В равной мере непостижимо и то, что ей удается держать Беренис в столь аристократическом пансионе. В любую минуту там может разразиться страшный скандал. Я уверен, что девочка и не подозревает, чем занимается ее мамаша. В Луисвиль ей приезжать не дозволяется. «Беренис Флеминг, — мысленно повторил Каупервуд. — Какое прелестное имя. И какое странное начало жизненного пути». — А сколько же сейчас лет этой девочке? — спросил он. — Вероятно, лет пятнадцать — не больше. Экипаж остановился перед домом на пустынной, без единого деревца, унылой улице. Внутри дом, к удивлению Каупервуда, оказался просторным и обставленным с большим вкусом. Миссис Картер, как некогда звали эту даму в обществе, или Хэтти Стар, как именовали ее в более узком и менее респектабельном кругу, тотчас вышла к гостям… При первом же взгляде на нее Каупервуд понял, что, каково бы ни было ее теперешнее занятие, она несомненно не лишена светской утонченности. В ней чувствовалось хорошее воспитание. Она была жива, находчива, и если и не слишком умна, то во всяком случае не банальна. В ее скользящей походке и мягкой пластичности движений была какая-то своеобразная одухотворенность, которая пленила Каупервуда, — так же как веселое, откровенно беспечное отношение миссис Картер к своему щекотливому положению и спокойная непринужденность манер, сразу изобличавшая в ней светскую даму. Волосы миссис Картер были уложены высоко на макушке на французский манер, в стиле Империи; на щеках уже обозначились кое-где красные жилки. Румянец ее показался Каупервуду пожалуй слишком ярким, но в общем он нисколько не портил ее. Приветливые серо-голубые глаза миссис Картер красиво оттенялись светло-каштановыми волосами. Одета она была в простое домашнее платье, розовое в цветочках, которое красиво обрисовывало ее начинавшую полнеть фигуру. Шею украшала нитка жемчуга. «Вдова двух мужей, — думал Каупервуд, разглядывая хозяйку. — Мать двоих детей». Полковник представил своего приятеля, и тотчас же завязалась непринужденная беседа. Миссис Картер любезно заверила Каупервуда, что много слышала о нем. Слухи о его деятельности в области городского железнодорожноготранспорта доходили и до нее. — Раз уж мистер Каупервуд почтил нас сегодня своим посещением, может быть мы пригласим Грэйс Демминг? — предложила хозяйка. Упомянутая дама пользовалась особым расположением полковника. — Я буду счастлив, если вы удостоите меня беседой, миссис Картер, — галантно отозвался Каупервуд, подстрекаемый каким-то не вполне осознанным любопытством. Судьба этой женщины почему-то заинтересовала его. Мало-помалу из последующих бесед с полковником и новых встреч с самой миссис Картер он составил себе довольно отчетливое представление о ее прошлом. Нэнни Хэдден, она же миссис Джон Александер Флеминг, она же миссис Айра Джордж Картер, она же Хэтти Стар, была прямым потомком вирджинских и кентуккских Хэдденов и Колтеров, насчитывавших несколько поколений и связанных родственными узами с доброй половиной аристократической верхушки четырех-пяти близлежащих штатов. Сейчас эта женщина, все еще обладавшая блестящими связями, была, в сущности, просто содержательницей дома свиданий в захолустном городке с двумястами тысяч жителей. Как же это случилось? Когда-то Нэнни Хэдден слыла красавицей. Она родилась в богатой семье и вышла замуж за богача. Ее первый муж, Джон Александер Флеминг, унаследовавший состояние, привилегии, наклонности и пороки всего рода Флемингов, в течение нескольких поколений разводивших табак и эксплуатировавших рабов, был очаровательным светским бездельником, типичным представителем вирджинско-кентуккских светских кругов. Он обучался праву и должен был сделать дипломатическую карьеру, но так и не-сделал, ибо по натуре был бездельником и шалопаем. Лошади, скачки, балы, охота, флирт и прочие развлечения подобного рода поглощали весь его досуг. Его бракосочетание с Нэнни Хэдден было расценено всеми как блестящий союз. К солидному капиталу жениха присоединилось не менее солидное состояние невесты. Молодожены закружились в вихре светских удовольствий, что было лишь естественным продолжением того рассеянного образа жизни, который предшествовал браку. Кое-какие уклонения в сторону от прямой стези супружеского долга считались допустимыми в этом кругу, при условии соблюдения тайны или хотя бы ее видимости. Поэтому появление молодого вертопраха по имени Тэккер Теннер, присоединившегося как-то раз, погожим осенним днем, к чете Флеминг во время их прогулки в горах Северной Каролины, было явлением вполне закономерным, так же как и нежная, хотя и недолговечная привязанность к нему прелестной Нэнни Флеминг, как она звалась в ту пору. Однако услужливые друзья не замедлили открыть мистеру Флемингу глаза на то, чего ему не удалось разглядеть без их помощи, и рассерженный супруг, который, кстати сказать, сам был изрядным повесой, повстречав как-то под вечер на одной из высокогорных тропинок мистера Тэккера Теннера, сказал ему примерно следующее: — Советую вам убраться из этих мест подобру-поздорову, и не позже как сегодня же ночью. Иначе завтра солнце будет светить через те дырки, которые я в вас проделаю. Тэккер Теннер, рассудив, что, как бы ни были смешны понятия о чести в Южных штатах, однако пули остаются пулями, — решил покориться. Миссис Флеминг была смущена, взволнована, но ни о чем не жалела и не проявила раскаяния. Напротив, она почла себя глубоко оскорбленной. Скандальная история эта вызвала немало толков. Между супругами начался разлад, оба стали топить свое раздражение в вине и в конце концов почли за благо развестись. Тэккер Теннер больше не появлялся и не делал попыток восстановить свои попранные права, но упоминавшийся уже выше Айра Джордж Картер, еще один светский лоботряс без гроша за душой, принадлежавший к тому же кругу прожигателей жизни, что и Флеминги, предложил миссис Флеминг остановить на нем свой выбор, и его предложение было принято. Плодом первого брака был один ребенок — девочка. Плодом второго брака — сын. Айра Джордж Картер, пока миссис Картер была еще слишком молода и легкомысленна, чтобы проникнуться заботой о своих детях и защищать их права, успел промотать на различные бессмысленные авантюры почти все состояние, доставшееся ей от отца, майора Уикхэма Хэддена. Пьянство и разврат быстро свели мистера Картера в могилу, и вдова его оказалась на краю нищеты. Миссис Картер была натура страстная, непрактичная и легко поддающаяся соблазну. Однако пример ее второго мужа, который бесплодно и бесцельно погибал на ее глазах, печальная судьба, грозившая детям, и пробуждение материнского инстинкта, а вместе с ним и чувства ответственности за детей, подействовали на нее отрезвляюще. Жажда жизни и любви еще не угасла в ней, но, увы, возможностей утолять эту жажду становилось с каждым днем все меньше. Миссис Картер сравнялось тридцать восемь лет, она все еще была хороша собой и не желала довольствоваться объедками жизненного пира. Гордость ее возмущалась при мысли о том, что она может попасть в унизительное положение светских парий, которые, утратив свое место в обществе, становятся предметом веселых насмешек со стороны тех, кого судьба не лишила своих милостей. Состояние ее было потеряно, и ею мало-помалу перестали интересоваться даже в ее собственном кругу, а наиболее консервативные семейства уже открыто ее сторонились. Тем не менее миссис Картер сказала себе, что она не опустится до положения швеи или просто приживалки, живущей щедротами своих старых друзей. Как-то само собой стали возникать не освященные браком узы — иной раз их вязала дружба, иной раз мимолетная страсть; затем еще некоторое время миссис Картер занимала какое-то странное промежуточное положение между светскими дамами и женщинами полусвета, пока, наконец, не открыла в Луисвиле, правда негласно, дом свиданий. Совет этот подал ей кто-то из приятелей, знавший, как делаются такие вещи, и заботившийся больше о собственных развлечениях, чем о благополучии миссис Картер. Ее друзьям — в том числе и полковнику Джилису — нужна была укромная, уединенная квартирка, где они могли бы отдыхать, играть в карты и встречаться со своими дамами. С этого времени миссис Картер превратилась в Хэтти Стар и в качестве таковой стала известна даже полиции. Впрочем, пока ходили лишь смутные слухи о том, что в ее доме временами царит какое-то подозрительно буйное веселье. Каупервуд, который всегда проявлял интерес ко всему незаурядному, необычному и умел ценить драматичность жизненных взлетов и падений, не мог пройти мимо этого сбившегося с пути создания, игрушки в руках капризного случая. Полковник Джилис обмолвился как-то невзначай, что при поддержке влиятельного человека Нэнни Флеминг могла бы вновь войти в общество. Она умела трогать сердца. Говорили, что это свойство передалось и ее детям, о которых, впрочем, эта дама никогда не упоминала. Побывав несколько раз в доме миссис Картер, Каупервуд стал проводить долгие часы в беседах с нею всякий раз, как приезжал в Луисвиль. Однажды, когда он вошел следом за ней в ее будуар, она поспешно убрала с туалетного столика фотографию дочери. Каупервуд никогда раньше не видел ни одного ее снимка. Он успел заметить только, что фотография изображает девочку лет пятнадцати — шестнадцати, но даже этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы облик ее врезался ему в память. Это была худенькая, трогательно хрупкая девочка. Каупервуда поразила ее улыбка, горделивая посадка головы на тонкой шейке и выражение надменного превосходства, сквозившее в презрительном и усталом взгляде из-под полуопущенных век. Каупервуд был очарован. Заинтересовавшись дочкой, он стал выказывать несколько преувеличенный интерес и к матери. А вскоре после этого случай заставил Каупервуда от созерцания перейти к действиям: однажды он снова увидел лицо Беренис — на этот раз в витрине луисвильского фотографа. Это был довольно большой портрет, увеличенный с маленького снимка, который миссис Картер недавно получила от дочери. Беренис стояла вполуоборот, небрежно облокотившись о доску высокого, в колониальном стиле камина; в левой руке, свободно повисшей вдоль бедра, она держала широкополую соломенную шляпу. Слабая, едва приметная улыбка играла в углах ее рта, а широко раскрытые глаза светились притворным простодушием и лукавством… Непринужденная грация ее позы покорила Каупервуда. О том, что миссис Картер не давала разрешения выставлять портрет а витрине, он не имел ни малейшего представления. «Это самородок», — сказал себе Каупервуд и зашел в фотографию. Он пожелал, чтобы портрет был снят с витрины и негативы уничтожены. Выяснилось, что за полсотни долларов он может получить и портрет, и нега-швы — все, что захочет. Купив портрет Беренис, Каупервуд тотчас отдал его вставить в раму, увез в Чикаго и повесил у себя в кабинете. Нередко вечерами, поднявшись наверх, чтобы переодеться, он задерживался на мгновение перед портретом, и восхищение его все росло, а вместе с ним росло и любопытство. Каупервуд видел в этой девочке прирожденную аристократку, настоящую светскую женщину до мозга костей, воплощение, быть может, того идеала, слабым подражанием которому были светские дамы вроде миссис Мэррил и ей подобных.Заехав как-то снова в Луисвиль, Каупервуд нашел миссис Картер в большой тревоге. Дела ее внезапно сильно пошатнулись. Некто майор Хейгенбек, личность, пользовавшаяся немалой известностью, скоропостижно скончался в ее доме при довольно странных обстоятельствах. Майор был человек богатый, семейный; официально считалось, что он проживает со своей женой в городе Лексингтоне. В действительности же он почти никогда там не бывал, и внезапная смерть от паралича сердца застигла его в обществе некоей мисс Трент, актрисы, с которой он довольно весело проводил время и которую ввел в дом миссис Картер в качестве своей приятельницы. Из-за болтливости следователя, производившего дознание, полиции стало известно все. Фотографии мисс Трент, миссис Картер, майора Хейгенбека и его жены, а также различные весьма любопытные подробности, разоблачавшие нравы дома миссис Картер, уже должны были появиться в печати, когда вмешался полковник Джилис и еще кое-кто из людей светских и влиятельных; скандал замяли, но миссис Картер продолжала пребывать в смятении. Такого оборота дел она никак не ожидала. Все друзья, напуганные угрозой скандала, покинули ее. Сама она упала духом. Каупервуд застал ее за самым тривиальным занятием: она плакала, — глаза у нее вспухли и покраснели от слез. — Ну, полно, полно, — воскликнул он, глядя на миссис Картер, которая, прилично случаю, облеклась в уныло-серые тона, — я уверен, что ничего страшного не случилось. — О, мистер Каупервуд, — патетически воскликнула эта дама. — Несчастья так и сыплются на меня с тех пор, как вы нас покинули. Вы слышали о смерти майора Хейгенбека? — Каупервуд, которому полковник Джилис успел шепнуть кое-что, утвердительно кивнул. — Так вот, я сейчас получила извещение из полиции: мне предлагают покинуть город. Да и домохозяин уже предупредил меня, что я должна съехать. Ах, если б не дети, я бы, кажется… И жестом, исполненным драматизма, она прижала к глазам кружевной платочек. Каупервуд глядел на нее с любопытством, что-то обдумывая. — Вам совсем некуда поехать? — спросил он. — У меня есть дача в Пенсильвании, — призналась миссис Картер. — Но не могу же я там поселиться в феврале! Да и на какие средства я буду жить? Ведь это мой единственный источник дохода. И миссис Картер обвела вокруг себя рукой, давая понять, что имеет в виду свою квартиру. — А эта дача в Пенсильвании — ваша собственность? — спросил Каупервуд. — Да, но она очень мало стоит, и, кроме того, мне никак не удается ее продать. Я уже пробовала не раз, потому что она надоела Беренис. — И вы не отложили денег про черный день? — Все, что я имела, уходило на содержание этой квартиры и обучение детей. Я старалась дать Беренис и Ролфу возможность достичь чего-нибудь в жизни. При этом вторичном упоминании имени Беренис мысли Каупервуда невольно устремились к тому, что было истинной подоплекой его интереса к миссис Картер, его прихотью, капризом. Небольшая денежная помощь не обременит его. Зато впоследствии это может привести к знакомству с ее дочерью. — Почему бы вам не покончить здесь со всем раз и навсегда? — сказал он. — Это вовсе неподходящее для вас занятие — надо ведь подумать и о будущем детей. Этак можно непоправимо испортить им жизнь. Вы, вероятно, хотите, чтобы ваша дочь была принята в обществе, не правда ли? — О, разумеется! — воскликнула миссис Картер, почти молитвенно глядя на Каупервуда. — Вот именно, — сказал Каупервуд. Мысль его напряженно работала, и он, как всегда в таких случаях, сразу перешел на лаконичный, деловой тон, хотя все это интересовало его отнюдь не с деловой стороны. — Так почему бы вам не пожить пока на вашей даче в Пенсильвании или, скажем, в Нью-Йорке? Здесь вам нельзя оставаться. Продайте обстановку или отправьте ее туда пароходом. — Ах, я бы рада была уехать, — вздохнула миссис Картер, — если бы только знала, как это осуществить. — Послушайтесь моего совета и поезжайте пока что в Нью-Йорк. Уладьте все ваши денежные дела здесь, а в остальном я вам помогу — на первых порах. Начните новую жизнь. То, что сейчас произошло, может очень дурно отразиться на судьбе ваших детей. Я позабочусь о мальчике, когда он подрастет. Что же касается Беренис, — голос его прозвучал непривычно мягко, когда он произнес это имя, — то она может завязать хорошие знакомства, если пробудет в пансионе лет до двадцати, а это очень поможет ей в будущем. От вас же требуется только одно — стараться избегать встреч с вашими здешними приятелями. Быть может, не мешало бы даже увезти Беренис на некоторое время за границу, после того как она окончит пансион. — Конечно, конечно, если бы только я могла все это устроить, — жалобно пролепетала миссис Картер. — Прекрасно. Сделайте пока то, что я вам предлагаю, а там посмотрим, — сказал Каупервуд. — Было бы очень грустно, если бы это злополучное происшествие испортило жизнь вашим детям. Миссис Картер, видя, что в лице Каупервуда — если он пожелает быть щедрым — судьба посылает ей избавление от грозных тисков нищеты, готова была рассыпаться в благодарностях, но, почувствовав легкую отчужденность в его тоне, умерила свой пыл. Хотя Каупервуд и бывал порой, когда ему этого хотелось, приветлив и сердечен, но обычно известный холодок сквозил в его обращении. Сейчас он думал о Беренис Флеминг, о том, что эта девушка с утонченной душой может стать очень ценным для него приобретением.
Глава 41
Дочь миссис Флеминг
Беренис Флеминг в ту пору, когда Каупервуд свел знакомство с ее матерью, воспитывалась у «Сестер Брустер» — в «Пансионе для молодых девиц», который помещался на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке и слыл одним из самых фешенебельных заведений такого рода. Общественное положение и связи Хэдденов, Флемингов и Картеров раскрыли перед Беренис двери пансиона, хотя дела ее матери находились а то время уже в упадке. Высокая, трогательно хрупкая девушка, с медно-каштановыми кудрями, напоминавшими Каупервуду рыжевато-золотистые волосы Эйлин, она была не похожа ни на одну из женщин, которых он когда-либо знал. Даже в семнадцать лет она уже была проникнута чувством собственного достоинства, чем-то необъяснимо возвышалась над окружающими и снисходительно принимала истерически восторженное преклонение своих более заурядных сверстниц, которые, ища выхода пробуждавшейся чувственности, курили фимиам своему кумиру. Да, она была поистине странным созданием. Девочка, почти ребенок, она уже сознавала свое превосходство, свою женскую прелесть, уже мечтала о высоком положении в свете. Наделенная от природы нежной кожей, чуть тронутой веснушками на прямом точеном носике, ярким, даже неестественно ярким румянцем, удивительными, синими, как у ангорской кошки, глазами, прелестным ртом и безукоризненной линией подбородка, Беренис Флеминг отличалась какой-то особенной, хищной грацией. Движения ее, ленивые, надменные, плавные, находились в совершенной ритмической гармонии с прекрасными линиями тела. Когда воспитанницы собирались в столовой, а наставница запаздывала, она любила пройтись по комнате, поставив на голову шесть тарелок и увенчав это сооружение кувшином с водой на манер азиатских или африканских женщин. Ноги ее свободно и плавно двигались, но голова, шея, плечи пребывали в полном покое. Воспитанницы неделями приставали к ней, чтобы она повторила «этот фокус». Другой «фокус» состоял в том, что Беренис, вытянув руки за спиной наподобие крыльев, устремлялась вперед, имитируя крылатую богиню Победы, статуя которой украшала библиотечный зал. — Знаешь, Беренис, — твердила ей какая-нибудь розовощекая почитательница, — я уверена, что она была похожа на тебя. У нее было такое же лицо, я уверена! Ах, ты изумительно ее изображаешь! Синие глаза Беренис окидывали восторженную поклонницу равнодушно-пытливым взглядом. Она молчала, словно тая что-то про себя, — и это внушало всем благоговейный трепет. Учиться в этом пансионе, руководимом благородными дамами — важными, похожими на старых сов, невежественными рутинерками, было для Беренис сущим пустяком, невзирая на все скучные и тупые правила, неукоснительное выполнение которых требовалось от воспитанниц. Беренис понимала ценность такого воспитания в глазах светского общества, но даже в пятнадцать лет уже считала себя выше окружавшей ее среды. Она чувствовала свое превосходство и над теми, кто ее воспитывал, и над своими сверстницами — отпрысками местной знати, которые ходили за ней по пятам, дружно восхищаясь тем, как она поет, рассказывает, имитирует кого-нибудь, танцует… Беренис была глубоко, страстно, восторженно убеждена в огромной ценности своей особы — внутренней ценности, не зависящей ни от каких унаследованных социальных привилегий и обусловленной только ее редкими качествами, дарованиями и чудным совершенством ее тела. Больше всего любила она, затворившись у себя в спальне, подолгу простаивать перед зеркалом, принимая различные позы, или, потушив лампу, танцевать в бледном свете луны, льющемся с окно, какие-то наивные танцы, на манер греческих плясок, — легкие, пластичные, воздушные, казалось бы совершенно бесплотные… Но под прозрачными хитонами цвета слоновой кости, в которые она любила наряжаться, Беренис всегда чувствовала свою плоть. Однажды она записала в дневнике — она вела его тайно от всех, и это было еще одной из потребностей ее художественной натуры или, если хотите, просто еще одной причудой: «Моя кожа необычайна. Она налита жизненными соками. Я люблю ее и люблю свои крепкие, упругие мускулы. Я люблю свои руки, и волосы, и глаза. Руки у меня тонкие и нежные, глаза синие, совсем синие, глубокие; а волосы — каштановые с золотистым оттенком, густые и пышные. Мои длинные, стройные ноги не знают усталости, они могут плясать всю ночь. О, я люблю жизнь! Я люблю жизнь!» Вы, вероятно, не назвали бы Беренис Флеминг чувственной — ибо она умела владеть собой. Ее глаза солгали бы вам. Они лгали всему свету. Они глядели на вас с насмешливым вызовом, спокойной savoir faire[30], и только легкая усмешка в уголках рта могла подсказать, что этот взгляд говорит: «Ты не разгадаешь меня, не разгадаешь!» Беренис склоняла голову набок, улыбалась и лгала (взглядом — не словами), что она еще просто ребенок. И это было так, пока еще это было так. А впрочем, не совсем. У этой девочки уже были свои, глубоко укоренившиеся воззрения, но она скрывала их — тщательно и умело. Мир никогда, никогда не увидит того, что происходит в ее душе! Он никогда ничего не узнает. Каупервуд впервые узрел воочию эту Цирцею — дочь столь незадачливой матери, когда приехал весной в Нью-Йорк, через год после того, как он свел знакомство с миссис Картер в Луисвиле. Беренис должна была выступать на торжественном празднике, устраиваемом пансионом Брустер в честь окончания учебного года, и миссис Картер решила поехать в Нью-Йорк в сопровождении Каупервуда. В Нью-Йорке Каупервуд остановился в роскошном отеле «Незерленд», а миссис Картер — в значительно более скромном «Гренобле», и они вместе отправились навестить этот перл творения, чей запечатленный образ уже давно украшал одну из комнат чикагского особняка. Их ввели в мрачноватую приемную пансиона, и почти тотчас в дверь скользнула Беренис — тоненькая, стройная, восхитительно грациозная. Каупервуд тут же с удовлетворением отметил, что она воплощает в себе все, что обещал ее портрет. Ее улыбка показалась ему загадочной, лукавой, насмешливой и вместе с тем еще совсем детской и дружелюбной. Едва удостоив Каупервуда взглядом, Беренис подбежала к матери, простирая вперед руки неподражаемо пластичным, хоть и несколько театральным жестом, и воскликнула, тоже несколько манерно, но с искренней радостью: — Мама, дорогая! Наконец-то вы приехали! Я думала о вас сегодня все утро и боялась, что вы не приедете, — ваши планы так часто меняются. Я даже видела вас сегодня во сне! Она все еще носила полудлинные платья: ее нарядная юбочка из модного шуршащего шелка только чуть прикрывала края ботинок. Вопреки правилам пансиона от нее исходил тонкий запах духов. Каупервуд видел, что миссис Картер немного нервничает — отчасти от сознания превосходства Беренис, отчасти из-за его присутствия здесь, — но в то же время гордится дочерью. Вместе с тем он заметил, что Беренис уголком глаза следит за ним. Впрочем, одного быстрого взгляда, которым она его окинула, было для нее достаточно: она сразу, и довольно точно, определила его характер, возраст, воспитание, общественное и материальное положение… Ни на секунду не усомнившись в правильности своих выводов, Беренис отнесла Каупервуда к разряду тех преуспевающих дельцов, которых, как она заметила, было немало среди знакомых ее матери. О своей матери Беренис думала часто и с любопытством. Большие серые глаза Каупервуда понравились девушке; она прочла в них волю, жизненную силу; их испытующий взгляд, казалось ей, с быстротой молнии оценил ее. Несмотря на свою молодость, Беренис мгновенно почувствовала, что Каупервуд любит женщин и что, наверное, он находит ее очаровательной. Но уделить ему хоть чуточку больше внимания было не в ее правилах. Она предпочла видеть перед собой только свою милую маму. — Беренис, — деланно небрежным тоном сказала миссис Картер, — познакомься с мистером Каупервудом. Беренис обернулась и на какую-то долю секунды остановила на нем смелый, открытый и чуть-чуть снисходительный взгляд, идущий из самой глубины ее синих глаз. «Цвета индиго», — невольно подумал Каупервуд. — Ваша матушка не раз рассказывала мне о вас, — сказал он улыбаясь. Не говоря ни слова, но и без тени замешательства, она отняла у него свою тонкую, прохладную руку, гибкую и податливую, как воск, и снова повернулась к миссис Картер. Каупервуд, по-видимому, не представлял для нее никакого интереса. — Что ты скажешь, детка, если я на будущую зиму переселюсь в Нью-Йорк? — спросила миссис Картер, после того как они с дочерью обменялись еще несколькими довольно банальными фразами. — О, это будет чудесно, я бы так хотела пожить дома. Этот дурацкий пансион ужасно мне надоел. — Беренис, как можно! Мне казалось, что тебе нравится здесь! — Я ненавижу пансион — тут такая отчаянная скука. И все эти девчонки нестерпимо глупы. Миссис Картер выразительно подняла брови и взглянула на своего спутника, как бы говоря: «Ну, что вы на это скажете?» Каупервуд спокойно стоял поодаль, считая неуместным высказывать сейчас свое мнение. Он видел, что миссис Картер в разговоре с дочерью держится крайне неестественно, что она, словно на сцене, играет роль снисходительно-величавой светской дамы. Быть может, виной тому был беспорядочный образ жизни, который она вела и вынуждена была скрывать. Беренис же держалась совершенно непринужденно. Тщеславие, самоуверенность и сознание своего превосходства — все было естественно в ней. — У вас здесь премилый сад, я вижу, — заметил Каупервуд, приподнимая штору и глядя на клумбы с цветами. — Да, наш цветник довольно красив, — отозвалась Беренис. — Подождите, я нарву вам букет. Это, конечно, не разрешается, но что могут со мной сделать? Исключить из пансиона? А я только этого и хочу. — Беренис! Поди сюда! — в испуге закричала миссис Картер. Но та уже ускользнула, легко и грациозно прошуршав оборками. — Ну, как вы ее находите? — спросила миссис Картер, оборачиваясь к своему другу. — Молодость. Одаренность. Силы брызжут через край — да мало ли еще что. Мне кажется, нет никаких оснований за нее тревожиться. — Ах, если б только я могла убрать все препятствия с ее пути! Беренис уже снова появилась в дверях: прелестная модель для художника. В руках у нее были розы и душистый горошек, — она безжалостно нарвала их целую охапку. — Как ты своевольна, Беренис! — притворно сердито воскликнула мать. — Придется теперь объясняться с твоими наставницами. Ну что мне с ней делать, мистер Каупервуд? — Заковать в цепи из роз и отослать на остров Цитеры, — отвечал Каупервуд, который посетил однажды этот романтический остров и знал его историю. Беренис взглянула на него. — Как мило вы сказали! — воскликнула она. — Мне даже хочется подарить вам за это цветок. Да, придется, — и она протянула ему розу. Каупервуд подумал: «Как она меняется!» Когда эта девочка неслышно скользнула в комнату всего несколько минут назад, она казалась примерной скромницей — едва взглянула в его сторону. Но такова особенность тех, что родятся актрисами. А Каупервуд, наблюдая за Беренис, приходил к выводу, что она прирожденная актриса, тонкая, капризная, надменно-равнодушная. Она смотрит на мир свысока и ждет, что он, подобно комнатной собачонке, во всем будет ей повиноваться, будет стоять перед ней на задних лапках и просить подачки. Какой капризный и очаровательный характер! Как жаль, что жизнь не позволит ей безмятежно цвести в этом волшебном саду, созданном ее воображением! Как жаль, как жаль!Глава 42
Фрэнк Алджернон Каупервуд в роли опекуна
Прошло немало времени, прежде чем Каупервуд снова увидел Беренис. На этот раз встреча произошла в горах Поконо, на даче миссис Картер, куда он приехал на несколько дней. Это был идиллический уголок; домик стоял на горном склоне, в трех-четырех милях от Струдсбурга, среди живописных холмов, которые, по мнению миссис Картер, издали, с веранды ее дома, были похожи то ли на стадо слонов, то ли на караван верблюдов. Некоторые из этих величавых, поросших зеленью холмов достигали почти двух тысяч футов в вышину. В глубине долины, открытая для глаз более чем на милю, вилась белая пыльная дорога, спускавшаяся к Струдсбургу. Когда миссис Картер жила в Луисвиле, она могла себе позволить держать на даче летом садовника, и он разбил цветник на лужайке перед домом, полого сбегавшей с холма. У Картеров была хорошая лошадка, которую запрягали в нарядный новый кабриолет, а помимо того и у Ролфа и у Беренис имелись модные низкоколесные велосипеды — последняя новинка, вытеснившая старую разновидность велосипеда с высокими колесами. Затем у Беренис были еще рояль, этажерка с нотами — классические музыкальные пьесы и модные песенки, — полка с ее любимыми книгами, краски, холст и палитра, всевозможные гимнастические снаряды и несколько греческих хитонов, сшитых по ее собственным рисункам, а к ним сандалии и повязки для волос. Беренис была ленивое, мечтательное, чувственное создание! Она проводила дни в пустых грезах, рисуя себе свои будущие победы в свете, близкие и все еще далекие, а остальное время отдавала тем светским развлечениям, которые были ей доступны уже теперь. Да, такие холодно-расчетливые и своенравные девицы, как Беренис Флеминг, встречаются не на каждом шагу! В ней с семнадцати лет каким-то непостижимым путем происходил процесс духовного приспособления; она уже очень хорошо знала, как нужно выбирать себе друзей и как важно уметь скрывать свои истинные чувства и намерения. И все же в душе она не была просто бездушной и расчетливой маленькой карьеристкой. Многое в ее жизни и в жизни ее матери оставило тревожный след в душе Беренис. Она помнила страшные ссоры между матерью и отчимом, свидетельницей которых была еще в раннем детстве, от семи до одиннадцати лет. Отчим напивался до бесчувствия, до белой горячки. В памяти Беренис еще были живы бесконечные переезды из города в город, из дома в дом, мрачные, унылые перипетии безрадостного детства. Она росла впечатлительным ребенком. Некоторые происшествия с особенной силой врезались ей в память. Однажды отчим в присутствии ее и гувернантки пинком ноги перевернул стол и, с дьявольской ловкостью подхватив падавшую лампу, швырнул ее в окно. Во время одного из таких приступов ярости он схватил Беренис за плечи и с силой отбросил от себя, прорычав в ответ на испуганные вопли окружающих: «Хоть бы она все кости себе переломала, сатанинское отродье!» Таким запомнился Беренис ее названый отец, и это отчасти смягчало ее отношение к матери, помогало жалеть ее, когда в душу к ней закрадывалось осуждение. О своем отце Беренис знала только то, что он развелся с ее матерью, но что послужило причиной развода — осталось ей неизвестно. Она была привязана к матери, но особенно горячей любви к ней не испытывала. Миссис Картер была то слишком взбалмошна и беспечна, то вдруг напускала на себя чрезмерную строгость. В этом летнем домике в горах Поконо — в «Лесной опушке», как нарекла его миссис Картер, — жизнь текла не совсем обычным чередом. Жили в нем только с июня по октябрь; остальное время года миссис Картер проводила в Луисвиле, а Беренис и Ролф — в своих учебных заведениях. Ролф был веселый, добродушный, хорошо воспитанный юноша, но звезд с неба не хватал. Каупервуд решил, что из этого мальчика в обычных условиях мог бы получиться довольно исполнительный секретарь или банковский служащий. Беренис же была существом совсем иного сорта, наделенным причудливым складом ума и изменчивым, непостоянным нравом. Во время своей первой встречи с Беренис, в приемной пансиона сестер Брустер, Каупервуд почувствовал, что перед ним еще не вполне сложившийся, но сильный и незаурядный характер. Он уже много женщин перевидал на своем веку и успел накопить немалый опыт, и женщина совсем нового, необычного для него типа не могла не воспламенить его воображения. Так породистая лошадь привлекает к себе внимание знатока. И подобно тому, как любитель лошадей замирает в скаковой конюшне от тщеславного восторга, угадав в одной из молодых кобылиц будущую победительницу дерби, так затрепетал и Фрэнк Каупервуд, угадав, как ему казалось, в скромной пансионерке, встреченной им в приемной брустерского пансиона, будущую королеву лондонских салонов и ньюпортских летних празднеств. Но почему? В Беренис Флеминг чувствовалась порода; ей были присущи стиль, грация, манеры подлинной аристократки, и этим она пленила Каупервуда сильнее, чем какая-либо женщина до нее. Теперь он увидел ее снова — на лужайке перед «Лесной опушкой». Здесь по приказу Беренис садовник врыл в землю высокий шест, к которому на длинной веревке был привязан мяч, и Беренис вместе с братом забавлялась игрой в спиральбол. Получив телеграмму Каупервуда, миссис Картер встретила его на станции и привезла домой в своем кабриолете. Зеленые холмы, желтая извилистая дорога, всползавшая в гору, и в отдалении серебристо-серый домик с коричневой дранковой кровлей понравились Каупервуду. Время было около трех часов пополудни, и клонившееся к западу солнце заливало долину ослепительным светом. — Взгляните, вон они, — растроганно промолвила миссис Картер, когда кабриолет, обогнув пологий склон холма, свернул на дорогу, ведущую к коттеджу. Беренис в эту минуту, высоко подпрыгнув и откинувшись назад, ловко отбила ракеткой мяч. — Ну конечно, опять они с этим мячом! Вот сорванцы! Она любящим материнским взором следила за ними, и Каупервуд решил, что такие чувства делают ей честь. «Было бы очень печально, — думал он, — если бы надежды, которые она возлагает на детей, пошли прахом. Однако все может случиться. Жизнь — суровая штука. И какая странная женщина, как легко сочетается в ней нежная привязанность к детям с легкомысленным потворством мужским страстям и порокам. Удивительно, что она вообще обзавелась детьми». На Беренис была короткая белая плиссированная юбка, белые теннисные туфли и легкая шелковая блузка бледно-желтого цвета. Ее розовые щеки еще больше разрумянились от прыжков и беготни, рыжеватые, отливавшие тусклым золотом волосы растрепались. Она была так увлечена игрой, что не удостоила взглядом кабриолет, который проехал за живую изгородь и подкатил к западному крыльцу коттеджа. В конце концов для Беренис Каупервуд был всего лишь приятелем ее матери. Он снова с невольным восторгом отметил про себя, какой удивительной, непринужденной грацией исполнены все ее движения, все эти пластичные, мгновенно меняющиеся позы. Ему захотелось поделиться своими впечатлениями с миссис Картер, но он сдержался. — Занятная игра, — сказал он, с улыбкой следя за юной парой. — Вы тоже играете в нее? — Играла когда-то. Теперь уж редко. Иной раз пробую сразиться с Ролфом или с Беви, но они всегда безжалостно меня обыгрывают. — С Беви? Кто это — Беви? — Беренис. Так называл ее Рольф, когда был совсем маленький. — Беви! Очень мило. — Я тоже люблю это имя. Мне кажется, что оно идет к ней, — не знаю даже почему. Перед обедом появилась Беренис — освеженная купаньем, в воздушном платьице, которое, как показалось Каупервуду, все состояло из оборок и воланов и особенно подчеркивало ее природную грацию, ибо не требовало корсета. Каупервуд не мог отвести взгляда от ее лица и рук — продолговатого, очаровательно-худощавого лица и тонких, сильных рук. Внезапно перед ним воскрес образ Стефани — но лишь на секунду. Он подумал, что подбородок Беренис нежнее, округлее и вместе с тем еще упрямей. А глаза проницательные и взгляд прямой, не такой ускользающий, как у Стефани, но тоже очень лукавый. — Вот мы с вами и встретились, — сказал он несколько принужденно, когда Беренис вышла на веранду и, едва взглянув на него, небрежно опустилась в плетеное кресло. — Когда я видел вас в Нью-Йорке, вы были заняты учением. — Не столько учением, сколько нарушением правил. Впрочем — это самая легкая из всех наук. Ролф! — крикнула она через плечо, равнодушно отвернувшись от Каупервуда, — погляди, вон на траве валяется твой перочинный нож! Каупервуд, которым явно пренебрегали, немного помолчал. — Кто же из вас победил в этой увлекательной игре? — Я, конечно. Я всегда побеждаю в спиральбол. — О, вот как! — промолвил Каупервуд. — Ролфа — я хочу сказать. Он совсем плохо играет. — Она отвернулась и стала внимательно всматриваться в дорогу, поднимавшуюся от Струдсбурга. — Честное слово, это Хэрри Кемп, — пробормотала она как бы про себя. — Он, верно, захватил мои письма, если на почте было для меня что-нибудь. Она вскочила и скрылась в доме, но через несколько секунд появилась снова и, сбежав с веранды, направилась к калитке, шагах в ста от дома. Каупервуду показалось, что она не прошла мимо него, а проплыла по воздуху — так легок и пластичен был ее шаг. К калитке подкатила рессорная двуколка на высоких колесах. В ней восседал щеголеватый молодой человек в синем пиджаке, белых брюках и белых ботинках. — Вам два письма! — прокричал он высоким фальцетом. — Удивительно, что не восемь и не десять. Какая жарища, а? У него были изнеженные и вместе с тем развязные манеры, и Каупервуд тут же мысленно обозвал его ослом. Беренис взяла письма и подарила Хэрри Кемпа чарующей улыбкой. Читая на ходу письмо, она прошла мимо Каупервуда, даже не взглянув на него. И сейчас же из дома донесся ее голос. — Мама? Хэггерти приглашают меня к себе на конец августа. Я, кажется, приму это приглашение и откажусь от Таксидов. Я очень люблю Бесси Хэггерти. — Тебе надо обдумать это, детка. А где они проводят лето: в Тэрритауне или в Лун-Лейке? — В Лун-Лейке, разумеется, — отозвалась Беренис. «Она уже начинает вести светский образ жизни, — подумал Каупервуд. — И начинает неплохо». Хэггерти слыли богачами; им принадлежали обширные угольные копи в Пенсильвании. Состояние Херриса Хэггерти, с детьми которого, как видно, дружила Беренис, оценивалось в шесть-восемь миллионов долларов. Эта семья принадлежала к самому избранному обществу. После обеда всей компанией поехали в Садлер, в летний клуб «Садлеровский хуторок», где устраивались танцы и «гулянье при луне». По дороге Каупервуд впервые в жизни со всей остротой почувствовал свой возраст; быть может, отчужденность Беренис была тому причиной. Он был еще крепок и душой и телом, но все же в этот вечер мысль о том, что ему уже стукнуло пятьдесят два, а Беренис едва сравнялось семнадцать, не покидала его. Неужели юность вечно будет держать его в плену своих чар? Беренис была в белом платье: из пышного облака шелка и кружев выглядывали хрупкие девичьи плечи и стройная, горделивая, словно изваянная из мрамора шея. Каупервуд смотрел на ее тонкие, нежные руки и видел скрытую в них силу. «Не слишком ли поздно? — сказал он себе. — Я становлюсь стар». С холмов веяло прохладой; в светлой лунной ночи была разлита какая-то грусть. В Садлере, куда они приехали только к десяти часам, собрались все, кто был беспечен, красив и весел, вся молодежь со всей округи. Миссис Картер в блекло-розовом бальном платье, отделанном серебром, выглядела очень эффектно и, по-видимому, ждала, что Каупервуд будет танцевать с ней. Он приглашал ее и танцевал, но взгляд его неотступно следовал за Беренис, которая весь вечер не присела, — то кружилась в вальсе с одним разряженным юнцом, то плясала шотландский — с другим. В моду тогда входил новый танец: сначала все весело и стремительно бежали вперед, потом, остановившись, слегка подпрыгивали на одной ноге, выбрасывая вперед другую, затем поворачивались, бежали назад и снова подпрыгивали, после чего кружились, став друг к Другу спиной и с задорным видом глядя через плечо. Беренис, легкая, ритмичная, казалась живым воплощением духа танца; она танцевала упоенно, забывая в эти минуты обо всем. Словно какая-то древняя богиня плясок и веселья сошла на землю в образе молодой девушки, чтобы в певучей гармонии движений излить переполнявшие ее чувства. Каупервуд был изумлен и взволнован. — Беренис, — сказала миссис Картер, когда в перерыве между танцами девушка подошла к ней. Миссис Картер сидела с Каупервудом в залитом луной саду, смакуя нью-йоркские и кентуккские сплетни. — Неужели ты не оставила хотя бы одного танца для мистера Каупервуда? Каупервуд, негодуя на бестактность миссис Картер и мысленно обозвав ее дурой, поспешил заявить, что он больше не собирается танцевать. — Да, кажется, у меня уже все танцы расписаны, — равнодушно проронила Беренис. — Можно, впрочем, отказать кому-нибудь. — Только не ради меня, прошу вас, — сказал Каупервуд. — Я не хочу больше танцевать, весьма благодарен. Бездушная кривляка! Он почти ненавидел ее в эту минуту. И все же — нет, это было невозможно. — Что с тобой, Беви? Как ты разговариваешь с мистером Каупервудом! Ты сегодня просто невыносима. — Нет, нет, прошу вас, миссис Картер, — довольно резко перебил ее Каупервуд. — Прошу вас, оставьте. У меня нет ни малейшего желания танцевать. Беренис как-то странно поглядела на него — это был мгновенный, но пытливый взгляд. — Но ведь я же пошутила, — сказала она мягко. — Разве вы не хотите потанцевать со мной? У меня есть один танец. — Не смею отказаться, — ледяным тоном отвечал Каупервуд. — Следующий танец, — предупредила Беренис. Они стали танцевать, но Каупервуд был раздосадован, зол и не сразу смягчился. И поэтому в первые минуты он чувствовал себя связанным и неуклюжим. Этой девчонке удалось вывести его из равновесия, поколебать его всегдашнюю самоуверенность. Но мало-помалу совершенная прелесть ее движений растопила лед и подчинила себе Каупервуда; у него вдруг исчезло ощущение скованности, ее чувство ритма передалось ему. Увлеченная танцем, Беренис прижалась к нему тесней, и их движения слились в одно гармоничное целое. — Вы восхитительно танцуете, — сказал он. — Я люблю танцевать, — отвечала она. Он отметил, что она уже достаточно высока — совсем под пару ему. Танец кончился. — Я хочу мороженого, — сказала Беренис. Он взял ее под руку; ее манера держать себя с ним и забавляла и обескураживала его. — Я вижу, вам нравится дразнить меня, — сказал он. — Нет, нет, я не дразнила вас, я просто устала, — заверила его Беренис. — Скучный вечер. Мне бы уже хотелось быть дома. — Мы можем уехать, как только вы пожелаете. Когда они подошли к буфету, Беренис, беря у Каупервуда из рук блюдечко с мороженым, снова внимательно поглядела на него своими матово-синими, холодными глазами, напоминавшими неглазированный голландский кафель. — Не сердитесь на меня, — сказала она. — Я была груба. Не понимаю, что со мной случилось. Мне все не по душе здесь, и я злюсь сама на себя. — А я ничего не заметил, — великодушно солгал Каупервуд. Весь гнев его как рукой сняло. — Нет, я нагрубила вам и надеюсь, что вы простите меня. Очень прошу вас. — Прощаю от всей души, хотя, право, не знаю, в чем вы провинились. Он подождал, пока она съест мороженое, чтобы проводить ее обратно и сдать с рук на руки какому-то юнцу — одному из дожидавшихся своей очереди кавалеров. Он смотрел ей вслед, пока она не затерялась в толпе танцующих, а потом предложил руку миссис Картер и усадил ее в кабриолет. Домой возвращались без Беренис — кто-то из друзей должен был привезти ее в своем экипаже. Каупервуд спрашивал себя, когда же она вернется и где ее комната, и вправду ли она была огорчена тем, что обидела его… Засыпая, он неотступно думал о Беренис Флеминг, и ее матово-синие глаза преследовали его даже во сне.Глава 43
Планета Марс
Неприязнь местных банкиров к Каупервуду, вынуждавшая его предпринимать поездки в Кентукки и другие штаты, усиливалась с каждым днем. С особенной остротой она проявилась, когда Каупервуд сделал попытку достать денег на постройку городской надземной дороги. Пробил час для введения в Чикаго этого нового вида транспорта.Население уже проявляло к нему интерес. Каупервуд видел, как начала строиться первая надземная дорога, Элли-лайн, на Южной стороне, и как проектировалась другая, Метрополитен-лайн — на Западной, и понимал, что все это делается главным образом для того, чтобы привлечь внимание населения к новому виду транспорта и затруднить ему, Каупервуду, борьбу против общегородской концессии. Каупервуду стало ясно, что пора браться за постройку надземной дороги, если он не хочет, чтобы это сделали другие. А наряду с этим ему еще предстояло вскоре перестроить свои линии конки, так как электрическая тяга повсеместно вытесняла все другие виды тяги. Мало того, что различные препоны, на которые он постоянно наталкивался в органах самоуправления, требовали от него все новых и новых затрат, — теперь придется взвалить себе на плечи еще и эти хлопоты и добиваться концессий всеми правдами и неправдами, а проще говоря — взятками. Надо сказать, что именно финансовая сторона дела беспокоила сейчас Каупервуда куда больше, нежели все затруднения формально-бюрократического порядка. Постройка надземных дорог в Чикаго представлялась ему делом довольно рискованным, так как многие обширные районы города были еще довольно слабо заселены. Новые силовые станции, новый подвижной состав, новые концессии — все это требовало колоссальных затрат. Каупервуд не любил вкладывать в предприятия свой личный капитал, предпочитая перелагать это бремя — путем выпуска акций — на плечи населения, а за собой сохранять право руководства и контроля, однако на этот раз он стал в тупик: чтобы начать работы — закупить строительные материалы, нанять инженеров и рабочих, — ему требовались сейчас, пока дороги не будут пущены в эксплуатацию, миллионные кредиты. Надземная дорога на Южной стороне (Каупервуду пришлось в конце концов примириться с тем, что концессия на эту дорогу выдана не ему, — ибо надо же было успокоить разбушевавшиеся страсти) приносила неплохой доход благодаря открытию Всемирной выставки. Однако по сравнению с нью-йоркскими надземными дорогами прибыли нового предприятия были невелики. Проектируемые Каупервудом линии должны были пройти по районам с еще более редким населением и, следовательно, могли принести еще меньше дохода. А сейчас надо было добывать деньги — миллионов двенадцать или даже пятнадцать — под акции и облигации этого предприятия, пустые бумажонки, которые, быть может, не будут приносить прибыли в течение еще нескольких лег. Чикагское кредитное общество было уже перегружено обязательствами Каупервуда, к Эддисон обратился в менее крупные, но достаточно солидные местные банки (в каждый банк по секрету от другого, разумеется) с предложением взять у него в обеспечение новые акции и выдать под них ссуду. Он был очень удивлен и опечален, когда все банки до единого ответили на его предложение отказом. — Видите ли, как обстоит дело, Джуд, — с таинственным видом признался Эддисону директор одного из них. — Тимоти Арнил держит в нашем банке не менее трехсот тысяч долларов, по которым мы выплачиваем ему всего-навсего три процента годовых. По условию он может в любую минуту востребовать этот вклад. Кроме того, когда нам срочно бывают нужны деньги, чтобы обернуться, наш главный источник — «Лейк-Сити Нейшнл», где мы никогда не встречаем отказа. Какую роль играет в этом банке мистер Арнил, вы сами знаете. Ссориться с ним нам никак нельзя. А меня уже предупредили, что он сильно не ладит с мистером Каупервудом. Так что, видите, я бы очень хотел удружить вам, но не могу, поверьте. — Послушайте, Симмонс, — сказал Эддисон, — ведь эти господа готовы отказаться от выгодной сделки, лишь бы напакостить другим. Акции и облигации, которые я вам предлагаю, — прекрасное обеспечение, вам ли этого не знать. Весь этот шум и крик в газетах против Каупервуда ни к чему не приведет и привести не может. Каупервуд абсолютно платежеспособен. Чикаго растет. Каупервудовские линии городских железных дорог с каждым годом приобретают все большую ценность. — Это-то я знаю, — отвечал Симмонс. — Да ведь уже существуют конкурирующие надземные дороги других компаний. И эта конкуренция может на первых порах нанести Каупервуду серьезный ущерб. — Я лучше вас знаю Каупервуда, — спокойно отвечал Эддисон, — и потому не сомневаюсь, что в Чикаго не будет никаких других надземных дорог, кроме тех, которые он сам построит. Правда, его конкурентам удалось как-то выклянчить в муниципалитете концессию на одну единственную линию на Южной стороне, но она не имеет отношения к территории, обслуживаемой мистером Каупервудом, а та, другая линия, которую прокладывает Общечикагская городская, пока что ровно ничего не стоит. Пройдут года, прежде чем она начнет приносить доход. А к тому времени Каупервуд, вероятно, приберет ее к рукам, если найдет нужным. Через два года в Чикаго будут новые выборы, и, как знать, быть может новое самоуправление окажется более покладистым. Но даже с помощью нынешнего муниципалитета врагам мистера Каупервуда не удалось напакостить ему так, как им хотелось бы. — Да. Но тем не менее его ставленники провалились на выборах. — Верно, но это еще не значит, что они провалятся на следующих и будут проваливаться впредь. — Все же должен вам заметить, — Симмонс снова таинственно понизил голос, — что мистера Каупервуда порешили во что бы то ни стало выжить из города. Шрайхарт, Хэнд, Мэррил, Арнил — все против него, а ведь это же очень влиятельные люди. Хэнд, говорят, заявил, что Каупервуду больше никогда не продлят концессий, а если и продлят, то на таких условиях, что он вылетит в трубу. Ну, словом, скоро тут у нас будет хорошая драка, насколько я понимаю, — торжественно заключил мистер Симмонс. — Не верьте вы этим басням, — презрительно сказал Эддисон. — И Хэнд, и Шрайхарт, и Арнил — еще не Чикаго. У мистера Каупервуда есть голова на плечах. Не думайте, что его так легко выбить из седла. Вы знаете, какова истинная причина всей этой ненависти к нему? — Да, слышал кое-что, — пробормотал Симмонс. — Вы, может быть, думаете, что это не так? — Не знаю, право. Да нет, почему же, все может быть. Только я полагаю, что это не имеет прямого отношения к делу. Завидуют его богатству, вот и все. И каждый готов перегрызть ему глотку. А Хэнд — большая сила. Вскоре после этого разговора Каупервуд, зайдя в кабинет директора Чикагского кредитного общества, спросил: — Ну, Джуд, как обстоят дела с акциями Северо-западной эстакадной? — Да так, как я и предполагал, Фрэнк, — осторожно ответил Эддисон. — Придется нам поискать денег где-нибудь за пределами Чикаго. Хэнд и Арнил со своей шайкой ополчились на нас. Ясно, что это их происки. Не знаю, что их так разъярило, но они точно с цепи сорвались, Возможно, что какую-то роль сыграл и мой уход. Словом, все банки, в которых у них есть рука, отказались принять наше обеспечение — все как один. Для проверки я даже наведался к нашему старому знакомцу — в Третий национальный, а потом зашел и в Торгово-скотопромышленный на Сорок седьмой улице. Там сейчас работает Чарли Уоллин. Когда я был еще директором «Лейк-Сити-Нейшнл», этот тип вечно обивал у меня пороги, и я делал ему различные одолжения. Теперь он признался мне, что получил от своих директоров распоряжение не вступать с нами ни в какие сделки. То же самое и в других банках — все трусят. Я спросил Уоллина, в чем дело. Почему его директора так восстановлены против Чикагского кредитного и лично против вас? Он, понятно, заявил, что ничего не знает. А потом пообещал зайти как-нибудь позавтракать со мной. Короче, это просто кучка старых, выживших из ума болванов, которые, точно страусы, зарывают голову в песок. Ну, не дадут они нам займа, так мы получим его в другом месте! Пускай их сидят в своих заплесневелых банках и играют в бирюльки, раз уж ни на что другое не способны. А я поеду в Нью-Йорк, и через двое суток мы получим ссуду хоть в двадцать миллионов! Эддисон разгорячился. Впервые приходилось ему сталкиваться с таким тупоумием. Каупервуд только презрительно скривил губы и задумчиво покрутил кончики усов. — Ладно, не волнуйтесь, — сказал он. — Вы хотите сами ехать в Нью-Йорк, или, может быть, лучше съездить мне? В конце концов они решили, что поедет Эддисон. Однако, прибыв в Нью-Йорк, Эддисон, к своему изумлению, обнаружил, что чикагские ненавистники Каупервуда успели каким-то таинственным образом распространить свое вредоносное влияние и на Нью-Йорк. — Видите ли, в чем дело, дорогой мой, — сказал Эддисону Джозеф Хэкелмайер, глава международного банкирского дома «Хэкелмайер, Готлеб и К°», маленький, толстенький человечек, похожий на жирного самодовольного кота. — До нас доходят странные слухи относительно мистера Каупервуда. Одни говорят, что он вполне платежеспособен, другие уверяют, что это далеко не так. Ему удалось добиться неплохих концессий, — я знаю, что сеть его городских железных дорог покрывает добрую половину Чикаго, — но ведь эти концессии выданы всего на двадцать лет, и к тысяча девятьсот третьему году срок их истечет. Насколько я понимаю, он там всех восстановил против себя, в том числе и лиц весьма влиятельных, так что ему теперь будет очень нелегко продлить свои концессии. Я, конечно, не живу в Чикаго и не особенно хорошо знаю ваши тамошние дела, но эти сведения получены мною от нашего представителя в Западных штатах. Мистер Каупервуд, по-видимому, очень способный и толковый делец, но если все эти господа так восстановлены против него, они еще доставят ему немало хлопот. Возбудить против него общественное мнение сейчас дело не хитрое. — Вы очень несправедливы к этому способному и толковому дельцу, мистер Хэкелмайер, — возразил Эддисон. — Имейте в виду, что успеху в делах почти всегда сопутствует зависть. Лица, которых вы изволили упомянуть, хотят распоряжаться в Чикаго, как у себя на плантации. Они, по-видимому, считают этот город своей собственностью. А уж если на то пошло, так не они создали Чикаго, а Чикаго создал их. Мистер Хэкелмайер поднял брови. Сложил на округлим, выпиравшем из-под жилета брюшке холеные, пухлые ручки с короткими пальцами. — Благорасположение общества — немаловажный фактор в такого рода делах, — со вздохом промолвил он. — Как вам известно, богатство человека наполовину заключается в его умении ладить с нужными людьми. Очень может быть, что мистер Каупервуд достаточно силен, чтобы преодолеть все эти препятствия. Не знаю, не знаю. Мне с ним встречаться не доводилось. Я говорю только то, что слышал. Сдержанно-чопорная манера мистера Хэкелмайера предвещала неблагоприятную для Каупервуда погоду. Банкир этот был чудовищно богат. Фирма «Хэкелмайер, Готлеб и К°» контролировала целый ряд железнодорожных магистралей и наиболее крупных банков страны. Мнением этих людей пренебрегать не приходилось. Распространение в Нью-Йорке таких опасных для Каупервуда слухов могло привести к тому, что банкирские дома — крупные банкирские дома во всяком случае — откажутся принимать его акции, если только в Чикаго не произойдет в ближайшее время каких-либо благоприятных для него событий. Примеру крупных банков последуют мелкие, а отдельные держатели акций придут в крайне тревожное состояние. Сообщение Эддисона о результатах его поездки весьма раздосадовало Каупервуда. Он был очень зол, прекрасно понимая, что все это дело рук Хэнда, Шрайхарта и их шайки, которая всеми силами старалась подорвать его кредит. — Ладно, пусть их треплют языками, — сказал он грубо. — Городские железные дороги принадлежат мне, Хэндовской шайке не удастся выкурить меня из города. Я могу продавать акции и облигации непосредственно самим вкладчикам, если на то пошло! Найдется немало охотников вложить деньги в такое доходное предприятие. Но в этот напряженный момент в дело совершенно неожиданно вмешалась судьба в лице Чикагского университета и планеты Марс. Университет этот в течение многих лет был всего лишь захудалым баптистским колледжем, пока однажды по прихоти некоего архимиллионера, одного из основных акционеров «Стандарт-Ойл», не превратился в знаменитое учебное заведение, привлекшее к себе взоры всего ученого мира. Университет стал одной из достопримечательностей города. В него ежегодно вкладывались миллионы долларов, что ни месяц воздвигались новые здания. Энергичный, разносторонне образованный ученый был приглашен из Восточных штатов на пост ректора. И все-таки еще многого не хватало: не было общежития, лаборатории, хорошей библиотеки и, наконец, — что тоже было отнюдь немаловажно, — большого телескопа, который мог бы обследовать небо с еще непревзойденной зоркостью и вырвать у него тайны, считавшиеся дотоле недоступными ни уму, ни глазу человека. Звездное небо и величественные математические и физические методы его изучения всегда интересовали Каупервуда. В описываемое нами время нареченная столь воинственным именем планета, зловеще мерцая, висела в западной части небосвода, и кроваво-огненное светило это вызывало в падких до всего непостижимого или неразгаданного человеческих умах беспокойное любопытство: все только и говорили, что о пресловутых каналах на Марсе. Мысль о возможности создания нового телескопа, более сильного, чем все до той поры существовавшие, телескопа, который пролил бы свет на эту неразрешимую загадку, волновала умы не только в Чикаго, но и во всем мире. Как-то в сумерки Каупервуд, взглянув на необъятный небесный простор, открывавшийся из окна его новой силовой станции на Вест-Мэдисон авеню, увидел эту планету: она стояла низко над горизонтом, мерцая теплым оранжевым светом на бледном и чистом вечернем небосклоне. Каупервуд задержался у окна, чтобы поглядеть на нее. Правда ли, что ее населяют разумные существа и что они соорудили каналы? Жизнь поистине странная штука. А еще через несколько дней Александр Рэмбо позвонил ему по телефону и сказал шутливо: — Вы знаете, Каупервуд, я только что сыграл с вами довольно скверную шутку. У меня был доктор Хупер, ректор университета, и предложил мне войти в число десяти лиц, которые могли бы сообща гарантировать ему приобретение объектива для нового телескопа. Он, как видно, убежден, что без этого телескопа его заштатный университетик никак обойтись не может. Я сказал ему, что это предложение может, пожалуй, заинтересовать и вас. Ему, видите ли, нужно найти человека, который отвалил бы на эту штуку сорок тысяч долларов, или, на худой конец, восемь-десять человек, которые отвалили бы по четыре-пять тысяч каждый. Вот я и подумал о вас, вы ведь, кажется, интересуетесь астрономией? — Пришлите его ко мне, — сказал Каупервуд, который не любил отставать от других там, где следовало проявить щедрость и размах, особенно если это могло способствовать прославлению его имени. Доктор Хупер не заставил себя ждать. Это был невысокий, шарообразный, румяный человечек; сквозь толстые, в золотой оправе, стекла очков на Каупервуда глянули круглые, быстрые, проницательные глаза. Доктор Хупер оказался жизнерадостным, восторженным, увлекающимся и уверенным в себе. Хозяин и гость внимательно присматривались друг к другу. Первый — с тем привычным скептицизмом, для которого даже знаменитые университеты суть явления преходящие и ничтожные в общей бесконечной смене вещей; второй — с той верой в торжество истины, которая даже сильных мира сего — даже таких вот, как этот финансовый магнат — заставляет служить высоким целям. — Я могу изложить вам суть дела в двух словах, мистер Каупервуд, — сказал доктор Хупер. — Вся наша астрономическая работа топчется сейчас на одном месте только по той причине, что у нас нет хорошего объектива, нет, в сущности, прибора, который мог бы по праву именоваться телескопом. Я хочу, чтобы наш университет занимался самостоятельными исследованиями в этой области и чтобы работа была поставлена на должную высоту. Если уж браться за дело, так нужно делать его лучше всех, — вот как я на это смотрю. Думаю, что вы со мной согласитесь? — И доктор Хупер улыбнулся, обнажив ряд ослепительно-белых зубов. Каупервуд ответил вежливой улыбкой. — А этот объектив, который должен стоить сорок тысяч долларов, будет действительно лучше всех других уже существующих объективов? — осведомился он. — Да, если он будет изготовлен в Дорчестере фирмой «Братья Эплмен», — отвечал доктор. — Я сейчас объясню вам, как обстоит дело, мистер Каупервуд. Эта фирма специализировалась на изготовлении линз. Для большого объектива прежде всего требуется хороший флинтглас. Как вы, может быть, знаете, получить большое и безупречно чистое стекло не так-то просто. Но оно существует и является собственностью мистера Эплмена. Чтобы отшлифовать его, потребуется года четыре, может быть пять. Должен вам сказать, что шлифовка линз производится вручную: шлифуют, знаете ли, пальцами — большим и указательным. Для такой работы нужен опытный и искусный специалист-оптик, и он тратит на нее много времени и труда, что пока еще, к сожалению, обходится недешево. Но, конечно, этот труд стоит своей цены, и сорок тысяч долларов, — тут доктор Хупер сделал неподражаемо пренебрежительный жест маленькой, пухлой ручкой, — не такая уж в конце концов большая сумма. Обладать самым совершенным объективом на свете, который лучше всего отвечал бы своему назначению, — немалая честь для нашего университета. И, насколько я понимаю, — большой почет для лиц, которые сделают для нас возможным такое приобретение. Каупервуду пришелся по душе этот ученый, говоривший о своем деле, как артист; он видел, что перед ним человек умный, одаренный, увлекающийся, подлинный энтузиаст науки. Каупервуду нравились сильные, целеустремленные натуры, а старались они для себя или для других — это было ему безразлично. — И вы считаете, что сорока тысяч будет достаточно? — спросил он. — Да, сэр. Во всяком случае сорок тысяч обеспечат нам главное — объектив. — Ну, а земельный участок, здание для обсерватории, самая труба — это у вас уже есть? — Пока еще нет. Но ведь шлифовка линз займет по меньшей мере четыре года, и у нас будет время подумать и об остальном. Место, впрочем, мы уже выбрали — в районе Лейк-Дженива, и уж, конечно, не упустим возможности приобрести участок и построить обсерваторию, как только к тому представится случай. И ровные, белые зубы снова блеснули в улыбке, в то время как острые глазки буравили Каупервуда сквозь толстые стекла очков. Каупервуд сразу увидел, какие перед ним открываются возможности. Он спросил, сколько будет стоить вся обсерватория. Доктор Хупер высказал уверенность, что триста тысяч долларов должны с лихвой покрыть расходы — стоимость объектива, земельного участка, зданий и остального оборудования. Словом, все величественное сооружение может быть выстроено на эти деньги. — Какая сумма уже имеется у вас для приобретения объектива? — Шестнадцать тысяч долларов пока что. — А в какие сроки должны быть внесены деньги? — В течение четырех лет, по десять тысяч в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить работу над линзами. Каупервуд задумался. Десять тысяч в год можно было рассматривать просто как выплату крупного жалованья в течение четырех лет, а за этот срок он сумеет без труда выделить остальную необходимую обсерватории сумму. Ведь к тому времени он будет еще богаче. Его планы будут еще ближе к осуществлению. После такого трюка (всем, конечно, станет известно, что он взял, да и подарил университету целую обсерваторию стоимостью в триста тысяч долларов, — и ее так и будут называть — обсерваторией Каупервуда!) он уж, конечно, не встретит отказа ни в нью-йоркских, ни в лондонских, ни в любых других банках, если ему понадобится кредит для его чикагских предприятий. Его имя в один день прогремит на весь мир! Каупервуд помолчал. Ничего нельзя было прочесть в его спокойном, непроницаемом взоре, хотя волнующее видение собственного величия как бы ослепило его на мгновение. Наконец-то! Наконец-то! — Что вы скажете, мистер Хупер, — вкрадчиво спросил он, — если вместо десяти человек, каждый из которых должен дать вам по четыре тысячи долларов, как вы первоначально предполагали, вам предложит эти деньги одно лицо? Даст вам все сорок тысяч в течение четырех лет, по десять тысяч в год? Устроит это вас или нет? — Дорогой мой мистер Каупервуд! — просияв, воскликнул доктор. — Должен ли я понять, что вы сами, лично хотите обеспечить нас средствами на приобретение объектива? — Да! Но только с одним условием, мистер Хупер. — А именно? — Я хочу, чтобы мне было дано право взять на себя и все остальные расходы — оплату участка, строений, короче говоря — всей обсерватории. Я надеюсь, что разговор этот останется между нами — в том случае, конечно, если мы не разрешим вопроса ко взаимному удовлетворению, — дипломатично и осторожно добавил Каупервуд. Ректор университета вскочил со стула и с непередаваемым выражением благодарности и восторга взглянул на Каупервуда. Он был человек деловой, обремененный трудами и заботами. Обязанности его были весьма обширны. Сбросить с плеч столь неожиданным образом одну из тягчайших забот было для него великим облегчением. — Лично я, в рамках данных мне полномочий, готов немедленно принять ваше предложение, мистер Каупервуд, и поблагодарить вас от лица нашего университета. Для соблюдения формальности я должен буду поставить этот вопрос перед советом попечителей, но, разумеется, я нисколько не сомневаюсь в их решении. Ваше предложение будет принято с глубокой благодарностью. Разрешите мне еще раз выразить вам мою признательность. Они обменялись дружеским рукопожатием, и доктор Хупер скрылся за дверью. Каупервуд неторопливо опустился в кресло, приставил кончики вытянутых пальцев друг к другу и на несколько секунд позволил себе погрузиться в мечты. Потом позвал стенографистку и стал диктовать. Он не хотел пока еще признаться даже самому себе, какие огромные выгоды сулила ему эта затея.В результате этого свидания предложение Каупервуда было в сравнительно короткий срок официально принято советом попечителей университета и, с согласия того же Каупервуда, опубликовано во всех газетах. Благодаря особому стечению обстоятельств, уже описанному выше, новость эта произвела сенсацию. Гигантские рефлекторы и рефракторы уже обозревали небо с различных точек земного шара, но ни один из них ни величиной, ни качеством объектива не мог поспорить с будущим телескопом. Не успел еще Чикагский университет получить этот дар, как Каупервуда уже объявили покровителем наук и благодетелем человечества. Не только в Чикаго, но и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Париже, во всех крупных городах мира, являющихся центрами научной жизни, взволнованно обсуждалось это необычайное преподношение сказочно богатого американца. Финансисты, разумеется, тоже не преминули его отметить, и когда агенты Каупервуда явились к ним в поисках денег под залог акций городской надземной железной дороги, на которую Каупервуд, по их словам, должен был не сегодня — завтра получить концессию сроком на пятьдесят лет, — они не встретили отказа. Что ни говорите, а человек, который оказался в состоянии подарить университету трехсоттысячную обсерваторию в тот момент, когда все считали, что он испытывает серьезные финансовые затруднения, должен крепко стоять на ногах, должен иметь колоссальный резервный капитал. И после некоторой подготовки — Каупервуд в эти дни побывал, как бы мимоходом, на Срэднидл-стрит в Лондоне и на Уолл-стрит в Нью-Йорке — было заключено соглашение с одним англо-американским банкирским домом, на основании которого большинство акций проектируемой надземной дороги было принято этой фирмой для продажи в Европе и других частях земного шара, а Каупервуд получил достаточно наличных денег, чтобы приступить к прокладке дороги. Все акции его наземных городских дорог тотчас поднялись на несколько пунктов, и тем, кто уже предрекал крушение Каупервуда, оставалось только скрежетать зубами в бессильной ярости. Даже «Хэкелмайер и К°» начали с интересом приглядываться к его деятельности. Энсон Мэррил, который совсем недавно пожертвовал университету большой земельный участок для спортивного стадиона, скорчил кислую мину, узнав, как перещеголял его Каупервуд. Хосмер Хэнд, пожертвовавший университету химическую лабораторию, и Шрайхарт, строивший общежитие, были не менее обескуражены: ведь Каупервуд, затратив пока что куда меньше средств, чем они, ухитрился наделать значительно больше шуму благодаря эффектности своего дара. Это только лишний раз свидетельствовало о том, как неслыханно везет этому человеку и как хранит его судьба, разрушая все козни его врагов.
Глава 44
В погоне за концессией
После того как деньги на постройку надземных железных дорог были добыты таким блистательным и необычным путем, перед Каупервудом возникла другая и не меньшая трудность — получить концессию. А для этого, наряду с прочим, необходимо было утихомирить достопочтенного Чэффи Зейера Сласса, который, находясь в полном неведении относительно собранных против него улик, начал метать громы и молнии, лишь только прослышал, что в близких к городскому самоуправлению кругах поговаривают о предоставлении Каупервуду новой концессии. — Вы, конечно, не допустите этого, мистер Сласс, — заявил Хэнд своему наймиту, которого он любезно, но весьма настойчиво пригласил к себе на завтрак для срочной деловой беседы. — Нужно приложить все силы, чтобы этому воспрепятствовать. (Будучи мэром, мистер Сласс легко мог повлиять на бюрократическую машину городского самоуправления.) Вы должны возбудить вокруг этого дела такой шум, чтобы олдермены не посмели провести концессию вопреки вашему желанию. Помните, ваша репутация в Чикаго, а следовательно и вся ваша политическая карьера, поставлена сейчас на карту. Если вы провалите эту концессию, вам обеспечена поддержка всех газет и всех финансовых и привилегированных кругов города. В противном же случае вы рискуете остаться совсем один. Это, знаете ли, не проходит даром — когда люди предают своих сторонников, изменяют своим клятвам и не исполняют того, ради чего их выбирали! Мистер Хэнд был очень разгневан. Мистер Сласс, в безукоризненном черном сюртуке и белоснежной манишке был решителен, бодр и исполнен уверенности в том, что все указания мистера Хэнда будут неукоснительно выполнены. Он разгромит этот проект концессии в пух и прах, и, конечно, большинство олдерменов присоединится к его мнению. — Не беспокойтесь, от меня им ничего не добиться, — торжественно заявил он. — Я знаю все, что они замышляют. И они знают, что я это знаю. Он бросил на мистера Хэнда взгляд, каким один поборник закона и справедливости должен награждать другого, и богач-банкир остался в приятной уверенности, что бразды правления находятся на сей раз в надежных руках. Тотчас после этой беседы мистер Сласс дал интервью в газеты, в котором он доводил до сведения всех олдерменов и муниципальных советников, что никаких постановлений о выдаче концессий вроде той, которую ему хотят навязать, он, мэр города Чикаго, не подпишет. В то самое утро, когда вышеозначенное интервью появилось в газетах и мистер Сласс, как всегда ровно в половине десятого, перешагнул порог своей канцелярии, раздался телефонный звонок, и секретарь доложил, что мистер Фрэнк Алджернон Каупервуд желает говорить с мистером мэром. Мистер Сласс, уже чувствуя на своей голове лавровый венок победителя, гордый появлением интервью на первых полосах газет, преисполнился вдруг непомерной спеси от сознания своих гражданских добродетелей и важно молвил: — Хорошо, соедините нас. — Мистер Сласс? — услышал он голос Каупервуда. — С вами говорит Фрэнк Алджернон Каупервуд. — Так. Чем могу служить, мистер Каупервуд? — Я прочел ваше интервью в утренней газете. Вы изволили заявить, что ни один проект предоставления мне концессии на постройку надземной дороги на Северной или Западной стороне не получит вашего одобрения. — Совершенно верно, — надменно отвечал мистер Сласс. — Не получит. — Не кажется ли вам, мистер Сласс, несколько поспешным и преждевременным бороться с тем, что относится пока лишь к области слухов? (Каупервуд, внутренне усмехаясь, играл с мистером Слассом, как кот с легкомысленной, зазевавшейся мышью.) Я бы хотел побеседовать с вами, прежде чем вы сделаете какой-либо непоправимый шаг. Может случиться, что, выслушав мои доводы, вы уже не будете так агрессивно настроены. Я ведь не раз направлял к вам кое-кого из моих друзей, но вы, как видно, не сочли возможным принять их. — Нет, не счел, — все так же надменно произнес мистер Сласс. — Не забывайте, мистер Каупервуд, что я человек занятой. А кроме того, я положительно не вижу, в чем я мог бы пойти навстречу вашим желаниям. И по своему характеру, и по своим нравственным воззрениям я не могу не быть решительным противником того, к чему направлена вся ваша деятельность, ибо моя деятельность преследует как раз противоположные цели. Не думаю, чтобы нам с вами удалось найти общий язык. Откровенно говоря, я уверен, что ничем не смогу быть вам полезен. — Позвольте, позвольте, одну минуту, уважаемый господин мэр, — любезно и торопливо проговорил Каупервуд, боясь, как бы мистер Сласс не повесил трубку — так снисходительно высокомерен был его тон. — Я, со своей стороны, полагаю, что мы с вами все-таки найдем общий язык, хотя сейчас вам это и кажется невероятным. Быть может, вы не откажетесь позавтракать сегодня у меня, а не то, если хотите, я могу приехать к вам: домой или в канцелярию, как вам будет угодно. Нам с вами необходимо кое о чем потолковать, и, согласившись на это хотя бы просто из любезности, вы вскоре убедитесь, что поступили весьма благоразумно. — У меня нет времени завтракать сегодня с вами, — отвечал мистер Сласс. — И принять вас у себя я тоже не могу. Я слишком занят. И, кроме того, должен вам сказать, что я вообще не склонен вести какие-либо секретные переговоры с глазу на глаз ни с вами, ни с вашими агентами. А если вы все-таки сочтете нужным посетить меня, то имейте в виду, что вам придется разговаривать со мной при свидетелях. — Отлично, — весело отвечал Каупервуд. — Я не потревожу вас своим посещением, мистер Сласс. Но если вы не навестите меня сегодня до пяти часов вечера, то завтра вам будет предъявлено обвинение в нарушении обещания сочетаться законным браком с некоей миссис Брэндон, и ваши письма, адресованные этой особе, станут достоянием гласности. Я хочу напомнить вам, что каждый день приближает нас к новым выборам, и Чикаго, вероятно, предпочтет иметь своим мэром человека, чья нравственность соответствует его показной добродетели. Всего наилучшего. Мистер Каупервуд с треском повесил трубку, а мистер Сласс остался сидеть словно пригвожденный к месту, мертвенная бледность разлилась по его лицу. Миссис Брэндон?! Нежная, очаровательная миссис Брэндон? Такая сдержанная, такая благоразумная и так коварно покинувшая его? Возможно ли, чтобы она стала преследовать его судом? И за что? За то, что он якобы нарушил обещание жениться на ней? И как могли его письма попасть в руки Каупервуда? Бог ты мой — эти умильные влюбленные письма! А что, если узнает жена? Дети? Или чего доброго, — весь приход, во главе с этим ужасным, похожим на филина пастором! Да что там — весь Чикаго узнает! Чикаго, где полным-полно ханжей, святош, моралистов, блюстителей нравственности! Внезапно ему пришло в голову, что миссис Брэндон никогда не писала ему, раз только какую-то ничего не значащую записку. По правде говоря, ему ведь ничего о ней не известно. Достопочтенному мэру припомнился вдруг жесткий, испытующий взгляд холодных голубых глаз миссис Сласс, и, вскочив со стула, он в порыве душевной муки глубоко запустил пальцы в волосы и долго стоял так, тупо уставясь в пол. Потом нервно стиснул руки, хрустнув суставами, и подошел к окну. Он думал о том, что в соседней комнате есть отводная трубка, и старался угадать — подслушивала ли, по своему обыкновению, его разговор секретарша — молоденькая богобоязненная пресвитерианка, или нет. О, как печальна, как полна превратностей жизнь! Если на Северной стороне узнают эту историю — узнает Хэнд, узнает молодой Мак-Дональд, узнают газеты, — станут ли они защищать его? Нет, не станут. Проведут ли они его еще раз в мэры? Нет, никогда! Кому охота голосовать за него, когда во всех церквах только и слышишь, как громят прелюбодеяние и фарисейство? Господи ты боже мой! Что же теперь делать! И всего хуже, что его ведь так уважают в Чикаго, почитают за образец! А этот дьявол Каупервуд вдруг выскочил со своим разоблачением, и как раз в такую минуту, когда он уже считал свое положение вполне упроченным. И он, как на грех, был еще так нелюбезен с ним. Что, если Каупервуд решит отомстить ему за грубость? Мистер Сласс вернулся к своему креслу, но не мог усидеть в нем и минуты. Он подошел к вешалке, снял пальто, повесил его обратно, снова снял, взял телефонную трубку, сказал секретарше, что сегодня никого больше принимать не будет, и вышел из кабинета через боковую дверь. Устало сгорбившись, брел он по Северной Кларк-стрит, глядя на уличную сутолоку, на грязную реку, с бесконечной вереницей судов, на дымное небо и серые здания и недоуменно спрашивал себя: что же ему теперь делать? Почему так жестока жизнь? Так беспощадна! Рушится его домашний очаг, его политическая карьера — рушится все. Как может он подписать постановление о выдаче концессии Каупервуду? Это же безнравственно, бесчестно, это скандал на весь город! Каупервуд — известный мошенник, посягающий на народное достояние. Но как же, как отказать ему, если миссис Брэндон, обольстительная и не слишком щепетильная миссис Брэндон, оказалась его союзницей? Ах, если бы увидеться с ней! Он стал бы ее просить, молить, заклинать… Но миссис Брэндон и след простыл. Вот уже несколько месяцев, как о ней ни слуху ни духу. Может быть, пойти к Хэнду и покаяться ему во всем? Но Хэнд такой же, как все, — суровый, черствый моралист. О боже мой, боже мой! И мистер Сласс вздыхал, стонал, ужасался, сознавая всю безнадежность своего положения. Горе жалкому грешнику, попавшему в тиски беспощадного кодекса морали. Живи мистер Сласс в другой стране или в другое время, его положение, быть может, было бы не столь отчаянно и безнадежно, а торжество Каупервуда — не столь полно. Но он жил в Соединенных Штатах Америки, он жил в Чикаго и знал, что здесь все силы лицемерия, показной добродетели, условной ханжеской морали дружно объединятся против него. Что подумают заправилы «Лейк-Сити Нейшнл»? Что подумает пастор? Что подумает Хэнд, и все его «высоконравственные» сподвижники? Да, вот оно — страшное, неотвратимое возмездие тому, кто свернул с пути истинного. Долго, в метель и стужу, блуждал мистер Сласс по чикагским улицам, кляня себя на чем свет стоит, а Каупервуд сидел за своим письменным столом, подписывал бумаги и, задумчиво поглядывая на тлеющие в камине угли, задавал себе время от времени вопрос: сочтет ли уважаемый мэр нужным явиться к нему, или нет? Наконец в четыре часа дверь кабинета отворилась, и безупречно вышколенная секретарша возвестила прибытие мистера Чэффи Зейера Сласса. Мистер Сласс возник в дверях — унылый, подавленный, растерянный, совсем не похожий на того самоуверенного джентльмена, который так надменно разговаривал по телефону пять-шесть часов назад. Стужа, ненастье и неотвязная мысль о невозможности примирить непримиримое сильно повлияли на состояние его духа. Достопочтенный мэр был бледен; походка его сделалась неуверенной. Душевные потрясения обладают свойством как бы придавливать человека к земле, и мистер Сласс в эту тягостную для него минуту стал словно бы ниже ростом и даже как будто тоньше, легковесней. Каупервуд не раз видел этого человека в различных общественных местах, а преимущественно — на трибунах, но впервые встречался с ним лицом к лицу. Когда встревоженный мэр перешагнул порог, Каупервуд поднялся и учтиво пододвинул ему стул. — Присаживайтесь, мистер Сласс, — сказал он любезно. — Пренеприятная сегодня выдалась погодка. Вы хотите, вероятно, продолжить наш утренний разговор? Не следует думать, что сердечный тон этих слов был наигранным. Бить лежачего было не в правилах Каупервуда, несмотря на все вероломство и коварство его натуры. В момент своего торжества над врагом он всегда бывал мягок, любезен, великодушен, а в иных случаях даже исполнен сочувствия, как, например, сейчас, и это отнюдь не было притворством. Мистер Сласс снял свою высокую конусообразную шляпу и произнес напыщенно и высокопарно, ибо такова была его манера изъясняться, и он не изменил ей даже в эту столь трудную минуту: — Вы видите, я здесь — перед вами, мистер Каупервуд. Что потребуете вы от меня теперь, что должен я сделать? — Ничего чрезмерного, уверяю вас, мистер Сласс, — поспешил заверить его Каупервуд. — Мне уже давно хотелось потолковать с вами по-деловому с глазу на глаз, а так как сегодня утром вы были не слишком приветливы, то мне пришлось прибегнуть к некоторому нажиму, чтобы добиться беседы с вами. Прошу вас прежде всего не думать, что я хочу в какой бы то ни было мере повредить вам. Я пока что не имею намерения опубликовывать вашу переписку с миссис Брэндон. (С этими словами Каупервуд выдвинул ящик стола и достал оттуда связку писем, при виде которой злосчастного мэра бросило в холодный пот, ибо он сразу узнал свои страстные послания к прекрасной Клаудии, превратившиеся ныне в неопровержимую улику против него.) Я вовсе не собираюсь, — продолжал Каупервуд, — ни губить вашу карьеру, ни принуждать вас к каким-то решениям, несовместимым с вашими убеждениями. Письма эти попали ко мне случайно. Я не охотился за ними. Но раз уж они в моих руках, я счел возможным упомянуть о них, полагая, что это может послужить поводом для нашей встречи и, быть может, залогом дальнейшего согласия между нами. Говоря так, Каупервуд даже не улыбнулся. Спокойно и задумчиво перебирая в руках письма, он смотрел на мистера Сласса, словно приглашая мэра убедиться в их подлинности и в том, что разговор идет не в шутку, а всерьез. — Так, — с трудом вымолвил мистер Сласс. — Я понимаю. Он не мог оторвать глаз от писем — эта небольшая связка выглядела чрезвычайно внушительно. Каупервуд скромно смотрел в сторону. Мистер Сласс с усилием перевел взгляд на свои ботинки, затем уставился в пол. Он нервно хрустнул пальцами, потер колени… Каупервуд видел, что достопочтенный мэр находится в состоянии полнейшей растерянности. Зрелище было и смешное и жалкое. — Полно же, полно, мистер Сласс, — сказал он мягко. — Не падайте духом. Все это не так ужасно, как вам кажется. Поверьте, я не потребую от вас ничего такого, чего бы вы сами, по зрелом размышлении, не могли признать справедливым. Вы — мэр города Чикаго. Я — один из его граждан. Я хочу только, чтобы вы не вели со мной нечестной игры, и прошу дать мне слово, что с нынешнего дня вы не будете принимать участия в борьбе, которая ведется против меня из зависти и личной вражды. Если уж ваши убеждения почему-то не позволяют вам пойти навстречу моим законным требованиям о получении дополнительных концессий, то вы по крайней мере не должны так ретиво обрушиваться на меня и на мои концессии в печати. Я положу эти письма в сейф, где они будут храниться до следующих выборов; затем я их уничтожу. Я не питаю лично к вам никакой неприязни, ни малейшей. Я не требую даже, чтобы вы санкционировали выдачу мне концессии на постройку надземной железной дороги, если муниципалитет примет такое решение. Все, о чем я вас прошу, — это воздержаться от науськивания на меня населения — в особенности, если муниципалитет найдет возможным решить вопрос в мою пользу, невзирая на ваше вето. Приемлемы для вас такие условия? — Но что скажут мои друзья? Что скажет общественность? Республиканская партия? Разве вы не видите, что от меня ждут, чтобы я повел против вас широкую кампанию? — в полном отчаянии воскликнул мистер Сласс. — Нет, не вижу, — сухо возразил Каупервуд. — И, кроме того, кампанию можно вести и так и этак. Выступая с речами, не вкладывайте в них столько жара. А главное — повидайтесь-ка с моими поверенными и впредь не отказывайте им в приеме, когда они будут наведываться к вам. Судья Дикеншитс человек справедливый и толковый. Ну и генерал Ван-Сайкл тоже. Почему бы вам не пользоваться время от времени их советами? Совсем не обязательно, конечно, встречаться с ними открыто, все это можно устроить так, чтобы ничто не бросалось в глаза. Вы увидите, что оба они могут оказаться вам очень полезны. И Каупервуд подарил мэра милостивой и ободряющей, почти отеческой улыбкой. А Чэффи Зейер Сласс, видя, как все его честолюбивые мечты разлетаются прахом, сидел перед ним в мучительном раздумье, растерянный, жалкий и беспомощный. — Хорошо, — сказал он наконец, лихорадочно потирая руки. — Я должен был этого ждать. Должен был знать заранее. Что ж, другого выхода нет… — И, едва сдерживая непрошенные слезы, внезапно прихлынувшие к глазам, достопочтенный мэр взял свою шляпу и покинул комнату. Излишне упоминать, что его проповеди против Каупервуда замолкли с этого часа раз и навсегда.Глава 45
Новые горизонты
В результате всех этих событий Каупервуд проникся таким чувством превосходства, какого никогда раньше не испытывал. Еще недавно он допускал, что враги могут одержать верх над ним, — отныне его путь был свободен от препятствий. Состояние его достигло кругленькой суммы в двадцать миллионов. Он владел крупнейшим собранием картин во всех Западных штатах, а если не считать публичных галерей, то, пожалуй, и во всей Америке. Он уже начал рассматривать себя как фигуру общеамериканского, а может быть и международного масштаба. И, однако, он все яснее чувствовал, что какие бы финансовые победы он в конечном счете ни одержал, двери чикагского общества никогда не откроются ни для него, ни для Эйлин. Слишком много наделал он шума своими делами, слишком многих оттолкнул от себя. Он по-прежнему был тверд в своем намерении удержать в руках все чикагские городские железные дороги; в успехе он не сомневался. Но уже во второй раз в жизни его терзала мысль, что, поддавшись увлечению, он опять женился неудачно, и не видел возможности исправить эту ошибку. Каковы бы ни были недостатки Эйлин, в характере ей отказать нельзя — она не будет такой покладистой и смиренной, как его первая жена. Кроме того, он считал, что все-таки многим ей обязан.Чувство к ней еще не вполне угасло в сердце Каупервуда, хотя она уже не тешила его тщеславия, не влекла и не соблазняла его так, как в прошедшие годы. Он, конечно, причинил ей немало горя, но и она слишком уж строго его судила. Он готов был ей сочувствовать, каяться в том, что так изменились его чувства к ней, но что было делать? Совладать с собой он не мог, так же как не могла и Эйлин. Положение осложнялось еще тем, что за последнее время мысли Каупервуда все чаще обращались к Беренис Флеминг. С тех пор как он познакомился с ее матерью и увидел портрет Беренис, в душе его начала разгораться беспокойная страсть к этой девушке — а ведь они еще не обменялись ни единым взглядом, ни единым словом. Но есть на свете нечто неизменное, имя чему красота; она может быть облачена и в лохмотья философа, и в шелка и атласы избалованной кокетки. Отблеск этой красоты, не зависящей ни от пола, ни от возраста, ни от богатства, сиял в развевающихся кудрях и темно-синих глазах Беренис Флеминг. Поездка к Картерам в Поконо принесла Каупервуду одно разочарование: он убедился в безнадежности своих попыток привлечь внимание Беренис, — с тех пор, во время их случайных встреч, она проявляла к нему лишь учтивое безразличие. Он не отступался, однако, и продолжал с обычным своим упорством преследовать намеченную цель. Миссис Картер, чьи отношения с Каупервудом в прошлом не были вполне платоническими, тем не менее объясняла внимание, которое он ей оказывал, главным образом тем, что он интересуется ее детьми и их будущими успехами в жизни. Беренис и Ролф ничего не знали о соглашении, заключенном между их матерью и Каупервудом. Верный своему обещанию оказывать ей помощь и покровительство, он снял для миссис Картер квартиру в Нью-Йорке, рядом с пансионом, где училась ее дочь, и уже мечтал о тех счастливых часах, которые будет проводить там вблизи от Беренис. Возможность часто видеть Беренис! Надежда вызвать в ней интерес к себе, снискать ее расположение! Каупервуд даже самому себе не признавался, какую роль это играло в том замысле, который с недавних пор начал созревать в его мозгу. Он задумал построить в Нью-Йорке роскошный дворец. Эта мечта мало-помалу совсем завладела им. Чикагский особняк Каупервуда давно уже превратился в пышный склеп, в котором Эйлин одиноко оплакивала постигшую ее беду. Он являлся напоминанием об их светских неудачах и, кроме того, даже как здание, уже не удовлетворял Каупервуда, не отвечал требованиям его изощренной фантазии, его жажде роскоши. Если же ему суждено будет осуществить свой замысел, новый дом станет великолепным памятником, который он воздвигнет самому себе. Во время своих путешествий по Европе Каупервуд видел такие дворцы, построенные с величайшим тщанием, по всесторонне продуманному плану, — хранилища культуры и художественного вкуса многих поколений. Его собрание картин и предметов искусства, которым он так гордился, уже настолько разрослось, что само по себе могло послужить ему прекрасным памятником. Там были собраны полотна всех знаменитых школ, не говоря уже о богатых коллекциях изделий из нефрита, старинных молитвенников, расписанных миниатюрами, фарфора, ковров, тканей, рам для зеркал; в последнее время ему удалось приобрести еще и несколько прекрасных статуй. Красота этих удивительных вещей, терпеливый труд мастеров разных эпох и стран порой вызывали у Каупервуда чувство, близкое к благоговенью. Из всех людей на свете он уважал — даже чтил — только преданного своему искусству художника. Жизнь — тайна, но эти люди, целиком отдавшиеся скромному труду во имя красоты, порой улавливали какие-то ее черты, о которых Каупервуд только смутно догадывался. Жизнь приоткрыла для них свою завесу, их души и сердца были настроены в унисон со сладкозвучными гармониями, о которых мир повседневности ничего не знает. Иногда, усталый после напряженного дня, Каупервуд заходил поздно ночью в свою тихую галерею, включал свет, равномерно заливавший всю эту прекрасную залу, и, усевшись перед одним из своих сокровищ, погружался в размышления о той природе, той эпохе, том мировоззрении и том человеке, которые породили этот шедевр. Иной раз то была какая-нибудь меланхолическая голова кисти Рембрандта, — например, печальный «Портрет раввина», иной раз тихая речка Руссо, задумчивый лирический пейзаж. Иногда его приводила в восторг исполненная важности голландская хозяюшка, писанная Гальсом с обычным для этого мастера смелым реализмом и в обычной для него манере — с заглаженной до звонкости, словно глазированной, поверхностью; иногда он пленялся холодной элегантностью Энгра. Так он сидел, дивясь искусству мастера, впервые узревшего и воплотившего эти образы, и восклицал время от времени: — Нет, это чудо! Это просто чудо!Что же касается Эйлин, то и в ней происходили перемены. Ее постигла участь многих женщин — она пыталась высокий идеал подменить более скромным, но видела, что все ее усилия напрасны. Роман с Линдом, правда, развлек ее и принес ей временное утешение, но теперь она уже начинала понимать, что совершила непоправимую ошибку. Линд был, конечно, очарователен. Он забавлял ее рассказами о своей жизни — совсем непохожими на те, что ей случалось слышать от Каупервуда. После того как они сблизились, он не раз весело и непринужденно рассказывал ей о своих многочисленных и разнообразных любовных связях в Америке и Европе. Линд был настоящий язычник, фавн и вместе с тем человек из высшего круга. Его откровенное презрение ко всему чикагскому обществу, кроме двух-трех лиц, перед которыми Эйлин втайне благоговела и знакомства с которыми всячески искала, его небрежные упоминания о знаменитостях, чьи дома в Нью-Йорке и Лондоне были всегда открыты для него, высоко подняли Линда во мнении Эйлин; для нее, увы, все это служило лишь доказательством того, что она не унизила себя, поддавшись так легко его чарам. И тем не менее, при всей своей любезности, ласковости и веселом нраве, Линд был и оставался всего-навсего бездельником и вертопрахом; устраивать для Эйлин новую жизнь на какой-то новой основе у него не было ни малейшего желания — и потому она уже раскаивалась в своем бесплодном увлечении, которое ни к чему не могло ее привести и в то же время могло окончательно оттолкнуть от нее Каупервуда. Внешне Каупервуд был, правда, так же приветлив и дружелюбен, как всегда, однако в их отношения вкралась какая-то неуверенность и чувство вины, которое они испытывали оба, но у Эйлин это чувство превратилось в утонченное самоистязание. До сих пор обиженной стороной была она: ее собственная супружеская верность не подвергалась сомнению, она могла считать, что Каупервуд грубо надругался над ее преданной любовью и простодушной верой. Теперь же все переменилось. Каупервуд, конечно, погрешил против нее, его вина была очевидна, но на другой чаше весов лежала ее измена, на которую она пошла ему в отместку. Что ни говори, а женскую верность так просто не сбросишь со счетов; установлена ли она природой, или выработалась под давлением общества, но большая часть человечества высоко ее чтит, и сами женщины являются рьяными и откровенными ее поборницами. Каупервуд отлично понимал, что Эйлин ему изменила не потому, что разлюбила его и влюбилась в Линда, а потому, что была глубоко оскорблена. И Эйлин знала, что он это понимает. С одной стороны, это ее бесило, ей хотелось еще больше ему насолить, с другой — она горько сожалела в том, что так бессмысленно подорвала его доверие к ней. Теперь, что бы он ни делал — он чист в собственных глазах. Свое главное оружие — нанесенную ей несправедливую обиду — она сама выпустила из рук. Гордость не позволяла ей заговорить с ним об этом, но выносить небрежную снисходительность, с какою он принимал ее измену, она была не в силах. Его улыбки, его готовность все простить, его шуточки, подчас очень остроумные, она воспринимала как самое жестокое оскорбление. В довершение всего у нее с Линдом, именно на почве ее преклонения перед Каупервудом, начали возникать ссоры. Линд, с самомнением светского льва, рассчитывал, что Эйлин полностью предастся ему и забудет о своем блистательном муже; и правда, когда они бывали вместе, Эйлин как будто поддавалась его обаянию, веселела, охотно откликалась на ласки, но все это скорее в пику обидевшему ее Каупервуду, чем из любви к Линду. Всякое упоминание имени Каупервуда вызывало у нее иронические замечания и насмешки по его адресу, но, несмотря на эту видимую враждебность, она и сейчас была безнадежно влюблена в него, считала его самым близким себе человеком, и Линд очень скоро это понял. Такое открытие — жестокий удар для любого покорителя сердец. Гордость Линда была сильно уязвлена. — Да ты все еще влюблена в него, что ли? — как-то спросил он с кривой усмешкой. Они обедали вдвоем в ресторане Кингсли в отдельном кабинете, и Эйлин, в туалете из блестящего зеленого шелка, который как нельзя лучше подходил к ее яркому цвету лица, была в этот вечер особенно хороша. Линд только что предложил ей поехать с ним на месяц прокатиться по Европе, но Эйлин решительно отказалась. Она не смела. Такой шаг с ее стороны мог привести к полному разрыву с Каупервудом, более того, мог послужить ему предлогом для развода. — Ах, да не в этом дело, — отвечала она Линду. — Просто мне не хочется. Не могу. У меня ничего не готово для такой поездки. Да и тебе вовсе не так уж нужно, чтобы я поехала, — это просто каприз. Тебе надоел Чикаго, скоро весна, вот тебе и не сидится на месте. Поезжай, а я буду ждать тебя здесь. Или потом приеду. — Она улыбнулась. Линд нахмурился. — Черт! — сказал он. — Думаешь, я не понимаю, что с тобой творится? Ты не можешь его забыть, хоть он и обращается с тобой как с собакой. Ты уверяешь, что разлюбила его, а сама сходишь по нем с ума. Я давно это вижу. Меня ты нисколько не любишь. Где уж там! Ты только о нем и думаешь. — Оставь, пожалуйста! — сердито крикнула Эйлин, раздраженная этим обвинением. — Не говори глупостей. Все это вздор. Я восхищаюсь им, это правда. И не одна я. (Как раз в эти дни имя Каупервуда гремело по всему Чикаго.) Он удивительный человек. И он никогда не бывал со мною груб. Он настоящий мужчина, надо отдать ему справедливость. К этому времени Эйлин настолько уже освоилась с Линдом, что могла смотреть на него со стороны: ей теперь случалось осуждать его про себя; она считала его бездельником, неспособным заработать хотя бы грош из тех денег, которые он так широко тратил, и порой она, не стесняясь, давала ему это понять. Она не рассуждала о влиянии социальных условий на характер, ибо мало что в этом понимала; но сопоставление Линда с Каупервудом — энергичным и неутомимым дельцом, зачинателем многих предприятий, а также свойственное Америке того времени презрение к праздности заставляло ее делать выводы не в пользу своего возлюбленного. Сейчас, после этой ее вспышки, Линд еще больше помрачнел. — Черт подери, — буркнул он. — Я тебя не понимаю. Иногда мне кажется, что ты любишь меня, а иногда, что ты по уши влюблена в него. Решай, кого же ты, наконец, любишь? Меня или его? Если ты так к нему привязана, что даже на месяц не в силах с ним расстаться, то уж, значит, ко мне у тебя нет никакого чувства. Эйлин, конечно, сумела бы ему ответить, — после стольких стычек с Каупервудом это не составляло для нее труда. Но она боялась потерять Линда, боялась одиночества. Кроме того, он ей нравился. Он служил для нее хоть небольшим, но все же утешением в ее печалях — по крайней мере в настоящую минуту. С другой стороны, сознание, что Каупервуд рассматривает эту связь как пятно на ее доселе безупречной добродетели, охлаждало в ней всякое чувство к Линду. Мысль о муже и о своей запятнанной и загубленной жизни приводила ее в отчаяние. — Черт! — раздраженно повторил Линд. — Не хочешь ехать, так и не надо. Умолять тебя я не собираюсь. Они еще долго ссорились, и хотя в конце концов помирились, но оба чувствовали, что дело идет к разрыву. Вскоре после этого разговора Каупервуд, которому последнее время очень везло, в весьма приподнятом настроении зашел утром в спальню к Эйлин, как он иногда еще делал, чтобы закончить у нее свой туалет и поболтать. — Ну, — весело сказал он, завязывая галстук перед зеркалом. — Как там у вас с Линдом? Воркуете? — Не смей так говорить! — вспыхнула Эйлин, задетая за живое: противоречивые чувства уже вконец измучили ее. — Кто, скажи пожалуйста, в этом виноват, как не ты сам? Да еще шуточки теперь отпускаешь, — что там у вас, да как там у вас! Очень хорошо у нас — великолепно. Он прекрасный любовник, — не хуже тебя, а может, даже и лучше. Я его люблю. И он меня любит, не то, что ты. И, пожалуйста, оставь меня в покое. Тебя ничуть не интересует, как я живу, так нечего и притворяться. — Эйлин, Эйлин, ну зачем ты так! Не сердись. Я вовсе не хотел тебя обидеть. Право, я очень огорчен и за тебя и за себя. Я не ревнив, я же тебе говорил. Ты думаешь, я тебя осуждаю? Да нет же, нисколько. Я отлично понимаю твое состояние. И от души тебе сочувствую. — Конечно, — проговорила Эйлин. — Конечно, ты мне сочувствуешь. Только знаешь что? Ты уж оставь свое сочувствие при себе. К черту! К черту! К черту! — Глаза ее сверкали. Каупервуд уже кончил одеваться и стоял сейчас перед Эйлин — оживленный, смелый, красивый — ее прежний Фрэнк! Она снова горько пожалела о своей ненужной измене, снова пришла в ярость от его равнодушия. «Негодяй! — хотела крикнуть она. — Бессердечное животное!» Но что-то в ней надломилось. К горлу подкатил комок, глаза наполнились слезами. Ей захотелось подбежать к нему, воскликнуть: «Фрэнк, неужели ты не видишь, что со мной, неужели не понимаешь, почему это случилось? Неужели ты уж никогда не сможешь любить меня по-прежнему?» Но она сдержалась. Подумала, что понять он ее, может быть, и способен, и даже наверное поймет, но обманывать все равно не перестанет. А она — с какой радостью она прогнала бы Линда, не взглянула бы больше ни на одного мужчину на свете, лишь бы Фрэнк сказал хоть слово, лишь бы он от души этого пожелал! Вскоре после этой утренней ссоры в спальне Эйлин Каупервуд изложил ей свой план перебраться в Нью-Йорк и построить там дом, более подходящий для его разросшейся коллекции; это даст Эйлин, прибавил он, возможность сделать еще одну попытку войти в светское общество. — Переехать в Нью-Йорк? — воскликнула Эйлин. — Ну да, для того, чтобы тебе было свободнее здесь без меня! О существовании Беренис Флеминг она тогда еще не подозревала. — Ну зачем ты так говоришь, — ласково сказал Каупервуд. — Ты же сама знаешь, что в Чикаго двери общества закрыты для нас. Здешние финансисты ополчились на меня. А когда у нас в Нью-Йорке будет такой дом, как я задумал, это само по себе послужит нам рекомендацией. Чикаго — это в конце концов провинция. Тон задают Восточные штаты, и в первую очередь Нью-Йорк. Если ты согласна, я продам этот дом, и мы станем жить большую часть года в Нью-Йорке. Там я смогу проводить с тобой не меньше времени, чем здесь, а пожалуй, и больше. Тщеславная душа Эйлин невольно откликнулась на этот призыв — в самом деле, какие перспективы открывались перед ней! Чикагский дом давно уже стал для нее кошмаром: его населяли воспоминания о пережитом горе и перенесенных обидах. Здесь она избила Риту Сольберг, здесь чикагское общество сперва раскрыло ей объятия, а потом оттолкнуло ее, здесь она так долго ждала, что Фрэнк вернет ей свою любовь, и здесь же убедилась, что ее ожидание тщетно. Пока Каупервуд говорил, она глядела на него задумчиво, даже печально, терзаясь сомнениями. И вместе с тем в ней уже зарождалась мысль, что в Нью-Йорке, где деньгам придают такое значение, она могла бы благодаря огромному, непрерывно растущему богатству Каупервуда и его весу в деловых кругах занять достойное положение в обществе! «Кто не рискует, тот не выигрывает» — таков всегда был девиз Эйлин, и она опять готовилась поднять его на мачте своего корабля, хотя давно могла бы догадаться, что оснастка этого корабля не пригодна для того рискованного плавания, в которое ей хотелось пуститься. Крашеная фанера и парус из фольги и мишуры! Бедная, суетная и вечно надеющаяся Эйлин! Но откуда ей было знать! — Хорошо, — сказала она наконец. — Делай, как хочешь. Мне в конце концов все равно, где тосковать в одиночестве — здесь или там. Каупервуд знал, о чем она мечтает. Знал, какие мысли проносятся сейчас в ее мозгу, и тщета ее надежд была для него очевидна. Жизненный опыт подсказывал ему, что лишь исключительное стечение обстоятельств может открыть такой женщине, как Эйлин, доступ в надменный высший свет. Но у него не хватало мужества сказать ей об этом. Нет, ни за что на свете! Он не мог забыть, как однажды за мрачной решеткой исправительной тюрьмы в Пенсильвании он плакал на плече у Эйлин. Он не хотел быть неблагодарным, не хотел раскрывать ей свои затаенные мысли и наносить еще новый удар. Пусть тешит мечтами о светских успехах свое уязвленное тщеславие, пусть утешает ими свое наболевшее сердце, а ему этот дом в Нью-Йорке позволит быть ближе к Беренис Флеминг. Можно сколько угодно осуждать подобное криводушие, но нельзя отрицать, что оно составляет характерную черту многих людей, и Каупервуд в данном случае не был исключением. Он все видел, все учитывал и строил свои расчеты на простых человеческих чувствах Эйлин.
Глава 46
Взлеты и падения
Многообразные любовные похождения Каупервуда порою так осложняли ему жизнь, что он задавался вопросом, стоит ли игра свеч и можно ли в конце концов обрести мир и счастье иначе, как в законном браке. Миссис Хэнд в разгаре скандала уехала в Европу, но потом вернулась и теперь осаждала Каупервуда просьбами о свидании. Сесили Хейгенин писала ему бесчисленные письма, в которых заверяла его в своей неизменной преданности. Флоренс Кокрейн, даже и после того как Каупервуд к ней охладел, упорно добивалась встречи с ним. К тому же Эйлин, запутавшаяся и удрученная своими неудачами, начала искать утешения в вине. Крах ее отношений с Линдом — она хоть и уступила его домогательствам, но страсть так и не согрела ей сердца — и равнодушие, с каким Каупервуд принял ее измену, ввергли Эйлин в то подавленное состояние, когда человек начинает предаваться бесплодному самоанализу, — состояние, которое у наиболее чувствительных или наименее устойчивых натур нередко кончается алкоголизмом, а иногда и самоубийством. Горе тому, кто отдает свое сердце иллюзии — этой единственной реальности на земле, но горе и тому, кто этого не делает. Одного ждут разочарование и боль, другого — запоздалые сожаления. После отъезда Линда в Европу, куда Эйлин отказалась за ним последовать, она завела роман со скульптором по имени Уотсон Скит, человеком очень незначительным. Единственный наследник председателя правления крупнейшей мебельной компании, он, в отличие от большинства художников, принадлежал к состоятельному кругу, но по стопам отца идти не пожелал. Скит учился за границей и вернулся в Чикаго с намерением насаждать искусство на Западе. Это был рослый, полнотелый блондин, державшийся с какой-то безыскусственной наивностью, которая и пленила Эйлин. Они встретились в мастерской у Риза Грайера. После отъезда Линда Эйлин чувствовала себя заброшенной и, больше всего на свете страшась одиночества, сблизилась со Скитом, но связь эта оказалась безрадостной. Эйлин так и не могла отрешиться от прежнего своего идеала, от настойчивой потребности все мерить мерой первой любви и первого счастья. Кому не знакомо мертвящее дыхание памяти о лучших днях! Оно удушает мечту настоящего, встает перед нами подобно призраку на пиршестве и пустыми глазницами иронически озирает наш жалкий праздник. Возможное, но не свершившееся в ее жизни с Каупервудом неотступно преследовало Эйлин. Если раньше она только изредка закуривала сигарету, то теперь стала страстной курильщицей. Если она любила иногда выпить бокал хорошего вина, коктейль, рюмку коньяку с содовой, то теперь пила только коньяк или, еще чаще, новомодную смесь — виски с содовой, называемую «хайбол», — пила стакан за стаканом с жадностью, которая показывала, что вкуса напитка она попросту не замечает. Впрочем, пьяница всегда ищет в вине забвенья, а не вкусовых ощущений. Эйлин не раз замечала, когда ей случалось после ссоры с Линдом или в припадке уныния выпить виски с содовой, что ее охватывает приятная теплота и какое-то блаженное безразличие. Горе словно улетучивалось. Она плакала, но это были сладостные, облегчающие душу слезы. Ее печаль начинала походить тогда на бесплотные туманные видения, которые навещают нас во сне: они обступали ее, вились вокруг, но существовали вне ее, и она как бы со стороны смотрела на них. Порой и она сама и эти призрачные тени ее печалей (ибо Эйлин и себя видела словно в искажающем образы сновидении) представлялись ей существами из мира, где нет полного забвения, но нет и нестерпимых душевных мук. Старое испытанное средство от всех бед — алкоголь — нашел в ней верную почитательницу. После того как Эйлин случайно убедилась, что спиртное утешает, или, вернее, притупляет боль, она стала все чаще прибегать к нему. Почему бы ей не пить, если это приносит облегчение от нравственных и физических страданий? Никаких дурных последствий она пока не замечала. И потом ведь она очень сильно разбавляет виски водой. Оставаясь дома одна, Эйлин по нескольку раз в вечер наведывалась в буфетную, где хранились ликеры и виски, и приготовляла себе свою любимую смесь, а не то приказывала лакею принести ей в спальню поднос с бутылкой виски и сифон с содовой водой. Каупервуд, постоянно видя у Эйлин этот поднос и заметив, что она помногу пьет за обедом и ужином, счел нужным ее предостеречь. — А не слишком ли ты этим увлекаешься, Эйлин? — спросил он как-то вечером, когда она залпом выпила стакан виски с содовой и сидела в каком-то отупении, разглядывая вышивку на скатерти. — Конечно, нет, — ответила она, вспыхнув от досады и немного запинаясь. — А что? Эйлин и сама уже не раз думала, не испортит ли ей вино цвет лица. Ее красота — вот единственное, чем она еще дорожила. — Да я все время вижу у тебя в комнате бутылку, вот и подумал, — может быть, ты сама не замечаешь, как много пьешь. Зная ее обидчивость, он старался говорить как можно мягче. — А если и так? — с сердцем отвечала она. — Какое это имеет значение? Я пью, а другие занимаются кое-чем похуже. Такого рода шпильки доставляли ей удовлетворение так же, как и его расспросы: следовательно, она еще что-то значит для него. Да, она ему и сейчас еще не безразлична. — Ну зачем так говорить, Эйлин? — сказал он. — Если тебе хочется иногда выпить — пожалуйста, я не возражаю. Впрочем, тебе, вероятно, все равно, возражаю я или нет. Но много пить, с твоей красотой, при твоем прекрасном здоровье, — просто грешно. Тебе это совсем не нужно, так ведь можно быстро скатиться бог знает куда. Никакой беды с тобой не стряслось. Мало ли женщин оказывалось в таком же положении! Уходить я от тебя не собираюсь, если ты сама этого не потребуешь, это я тебе сто раз говорил. Что поделаешь, все люди со временем меняются. Вероятно, и я кое в чем изменился, но это еще не причина, чтобы распускаться. И зря ты принимаешь это так близко к сердцу. В конце концов все может уладиться со временем. Он говорил, почти не думая о своих словах, лишь бы успокоить ее. — О! О! — Эйлин вдруг стала раскачиваться из стороны в сторону и плакать тяжелыми пьяными слезами, словно сердце у нее разрывалось на части. Каупервуд встал: ему было противно и жутко. — Не подходи ко мне! — крикнула Эйлин, внезапно протрезвев. — Я знаю, что тебе нужно. Знаю, как ты печешься обо мне и моей красоте. Захочу пить — и буду, и не то еще сделаю, если захочу. Это для меня облегчение, это мое дело, а не твое. — И назло ему она опять налила себе стакан и выпила. Каупервуд внимательно поглядел на нее и сокрушенно покачал головой. — Так не годится, Эйлин, — сказал он. — Прямо не знаю, что мне с тобой делать. Виски не доведет тебя до добра. От красоты твоей ничего не останется, и вдобавок на душе будет скверно. — Ну и черт с ней, с моей красотой! — вспылила она. — Что мне дала эта красота? Охваченная печалью и гневом, она вскочила из-за стола и выбежала из комнаты. Когда Каупервуд вошел через несколько минут к ней в спальню, она усердно пудрилась перед зеркалом. На туалете стоял наполовину опорожненный стакан виски с содовой. Странное чувство вины и бессилия овладело им. Тревожась за Эйлин, он в то же время не переставал думать о Беренис, и надежды его то разгорались, то гасли. На его глазах эта необыкновенная девушка становилась яркой человеческой личностью. Во время последних встреч она, к его великой радости, уже не замыкалась в себе, а болтала с ним дружески, почти откровенно; она ведь вовсе не гордячка, думал он, а разумное, мыслящее существо, наделенное незаурядными способностями, и главное — тонкой артистической душой. Не зная никаких забот, она жила в ей одной ведомом возвышенном мире, порой погруженная в мечтательную задумчивость, порой с головой окунаясь в интересы того общества, частью которого она была и которое удостаивала своим вниманием, в той же мере, в какой оно удостаивало ее своим. Как-то воскресным утром в конце июня, когда воздух в Поконских горах особенно прозрачен и там стоит необыкновенная тишина, Беренис вышла на веранду коттеджа, где сидел Каупервуд, просматривая финансовый отчет одной из своих компаний, и размышлял о делах — он приехал на несколько дней отдохнуть. Отношения их были теперь не столь далекими, как раньше, и она держалась в его присутствии непринужденно и весело. В общем он ей нравился. С неизъяснимо прелестной улыбкой, которая играла у нее на губах, собирая крошечные морщинки на носу и в уголках глаз, она сказала: — Сейчас я поймаю птичку. — Что поймаете? — переспросил Каупервуд, поднимая голову и притворяясь, что не расслышал. Он жадно следил за каждым ее движением. На ней было утреннее платье, все в оборках, как нельзя более подходящее для того воздушного мира, в котором она обитала. — Птичку, — отвечала она, беззаботно тряхнув головой. — Ведь сейчас июнь, и воробьи уже учат своих птенцов летать. Каупервуд, за минуту до того погруженный в финансовые расчеты, словно по мановению волшебной палочки перенесся в другой мир, мир, в котором птицы, трава и летний ветерок значили больше, чем кирпич и камень, векселя и акции. Он встал и пошел за нею следом по траве к зарослям ольхи, где воробьиха усердно показывала своему птенцу, как подняться в воздух. Беренис наблюдала эту сценку еще из окна своей комнаты. Внезапно Каупервуд почувствовал, сколь ничтожное место в мощном потоке бытия занимают его собственные дела, когда каждое создание исполнено неукротимой воли к жизни, которую так зорко подметила Беренис. А она уже бежала по лужайке за птенцом, вытянув вперед руки и временами грациозно пригибаясь к земле, но птенец, неловко трепыхаясь, все увертывался от нее. Вдруг Беренис словно нырнула в траву, потом обернулась к Каупервуду и с сияющим лицом воскликнула: — Вот, поймала! Да он сражается со мной, посмотрите! Ах ты, моя прелесть! Она держала птенца в горсти, так что головка его выглядывала между ее большим и указательным пальцами, и, смеясь, целовала его и поглаживала другой рукой. Беренис вовсе не так уж любила птиц, ее воодушевляла красота жизни и собственная красота. Услышав отчаянное чириканье вспорхнувшей на ветку воробьихи, она воскликнула: — Ну чего ты расшумелась! Я его только на минутку взяла. Каупервуд рассмеялся. — Вполне понятно, что она волнуется, — сказал он. — Она же отлично знает, что я ему ничего не сделаю, — возразила Беренис так горячо, точно слова ее не были шуткой. — Неужели знает? — спросил Каупервуд. — Почему вы так думаете? — Потому что так оно и есть. Они отлично понимают, когда их детям действительно грозит опасность. — Да откуда же им знать? — не унимался Каупервуд, очарованный и увлеченный ее капризной логикой. Эта девушка была для него загадкой, он никогда не мог сказать, что она думает. Беренис на мгновение остановила на нем взгляд своих холодных синих глаз. — Неужели, по-вашему, у всех этих созданий только пять чувств? — Вопрос ее прозвучал мягко и совсем не укоризненно. — Нет, они все понимают. Вот и она поняла. — Беренис грациозным движением указала на дерево, в ветвях которого теперь царила тишина. Чириканье смолкло. — Поняла, что я не кошка. И снова чарующая насмешливая улыбка пробежала по ее губам, собрала в морщинки нос и уголки глаз. Слово «кошка» прозвучало в ее устах как-то особенно выразительно и ласково. Каупервуд смотрел на нее, и ему казалось, что умнее ее он еще никого не видел. Вот женщина, которая могла бы завладеть всем его существом! Если он сумеет заинтересовать ее собой, ему понадобятся все его способности, все душевные силы. Какие у нее глаза — одновременно загадочные и ясные, приветливые и холодно-проницательные. «Да, — казалось, говорили эти глаза, — чтобы заинтересовать меня, нужно быть очень интересным!» А между тем она смотрела на него с искренним дружелюбием. Ее лукавая улыбка служила тому порукой. Да, это была не Стефани Плейто или Рита Сольберг. Он не мог просто поманить ее пальцем, как Эллу Хабби, Флоренс Кокрейн, Сесили Хейгенин. Это была женщина самобытная, с душой, открытой для романтики, для искусства, для философии, для жизни. Нет, завоевать ее не легко. А Беренис тем временем и сама стала все чаще думать о Каупервуде. Видно, он необыкновенный человек; так говорит ее мать, и газеты постоянно упоминают его имя, отмечают каждый его шаг. Через некоторое время они снова встретились, на этот раз в Саутгэмптоне, куда она приехала с матерью. Каупервуд, Беренис и еще один молодой человек, некто Гринель, пошли купаться. День был изумительный. На востоке, на юге и на западе перед ними расстилалась испещренная рябью синяя морская ширь, слева в нее причудливо вдавался рыжеватый песчаный мыс. Когда Каупервуд увидел Беренис в голубом купальном костюме и купальных туфельках, его больно кольнула мысль о поразительной быстротечности жизни — старое старится, а молодое снова и снова идет ему на смену. У него за плечами долгие годы борьбы, большой жизненный опыт, однако в самых важных вопросах он не мудрее этой двадцатилетней девушки с ее пытливым умом и взыскательным вкусом! О чем бы они ни говорили, он не находил ни малейшего изъяна в ее броне, — так много она знала, такие здравые суждения высказывала. Правда, она не прочь была порисоваться, но ведь она имела на это полное право. Гринель уже успел надоесть ей, поэтому она отослала его прочь и развлекалась беседой с Каупервудом, который удивлял ее силой и цельностью своего характера. — Знаете, — призналась она ему, — с молодыми людьми бывает иногда ужасно скучно. Они такие глупые. Посмотришь на них — штиблеты, галстук, носки, трость, а больше ничего и нет. Взять хотя бы Гринеля — ходячий манекен и только. Разгуливает живой костюм от английского портного и помахивает тросточкой. — Вот это я понимаю, обвинительный акт! — засмеялся Каупервуд. — Нет, право же, — отозвалась она. — И ничего-то он не знает, у него на уме только поло, да годный стиль плаванья, да кто куда поехал, да кто на ком женится. Разве это не скука? Она откинула голову и вздохнула полной грудью, словно хотела выдохнуть из себя всю эту скуку и глупость. — Вы и ему это говорили? — полюбопытствовал Каупервуд. — Конечно, говорила. — Тогда понятно, почему у него такой мрачный вид, — сказал он, оглядываясь на Гринеля и миссис Картер: они сидели рядом на пляжных стульчиках, Гринель сосредоточенно чертил по песку носком туфли. — Занятное вы существо, Беренис, — продолжал он непринужденным тоном. — Вы временами на диво откровенны и непосредственны. — Не более, чем вы, если верить тому, что о вас говорят, — ответила она, пристально поглядев на него. — Ну во всяком случае я не намерена себя мучить. Уж очень он скучный. Ходит за мной по пятам, а мне он вовсе не нужен. Она тряхнула головой и побежала по пляжу туда, где было меньше купающихся, оборачиваясь на бегу и словно говоря Каупервуду: «Ну, а вы что же отстаете?» Встрепенувшись, он побежал вслед за нею быстрым, молодым шагом и нагнал ее у мелкой закрытой бухточки с чистой, прозрачной водой. — Глядите! — воскликнула Беренис. — Рыбки! Вон, вон они! Она вбежала в воду, где, серебрясь на солнце, резвилась стайка колюшек, и стала ловить их, как ловила птенца, стараясь загнать в лужицу, отделенную от моря узкой песчаной косой. Каупервуд, словно десятилетний мальчишка, усердно помогал ей. Он с увлечением гонялся за рыбами, одну стайку упустил, зато другую подогнал совсем близко к берегу и стал звать Беренис. — Ой! — воскликнула она. — Здесь их тоже много, Скорей сюда! Гоните их на меня! Волосы ее разлетались, щеки разрумянились, глаза стали ярко-синими. Вытянув руки, и она и Каупервуд низко склонились над водой, где пять-шесть рыбок метались и прыгали, стараясь ускользнуть. Подогнав их к самому песку, оба одновременно сделали быстрое движение, и Беренис поймала рыбешку; Каупервуд промахнулся, но помог девушке удержать рыбку, которую она схватила. — Ах, какая чудесная! — воскликнула она, быстро выпрямляясь. — Как она трепещет! Это я ее поймала! От восторга ей не стоялось на месте, а Каупервуд, словно зачарованный, смотрел на нее. Он изнемогал от желания сказать ей, как она восхитительна, как дорога ему. — Чудесная, — с расстановкой проговорил он, — только вы, Беренис. С минуту она смотрела на него, держа рыбку в вытянутых руках. Он видел, что она не знает, как отнестись к его словам. Многие мужчины уже выказывали ей преувеличенное внимание. К комплиментам она привыкла. Но здесь было иное. Она ничего не ответила, только посмотрела на него, и взгляд ее сказал: «Мне кажется, сейчас вам больше ничего не нужно говорить». Потом, видя, что он понял и смущен и взволнован, она весело сморщила носик и сказала: — Это как в сказке. Как будто она приплыла ко мне из другого мира. Каупервуд понял. К ней нельзя приблизиться сразу. А между тем что-то уже связывало их — дружба, взаимная симпатия, — и оба они это чувствовали. Но воспитание в аристократической школе, светские условности, необходимость создать себе положение в обществе, консервативные взгляды ее знакомых — все это было очень живо в ней. Будь он свободен, думала Беренис, она бы, конечно, выслушала его до конца, потому что он, право же, очень интересен. Но так… А Каупервуду в этот день стало ясно, что Беренис — единственная женщина, на которой он бы с радостью женился, если бы только она согласилась.Глава 47
«Американская спичка»
После того как Каупервуд, пустив всем пыль в глаза своим пожертвованием трехсот тысяч на телескоп, получил нужные ему кредиты, враги его на время присмирели, но только потому, что не придумали еще способа разделаться с ним. Общественное мнение, возбужденное газетами, все еще было против него. Но срок его концессий истекал лишь через восемь-десять лет, а за это время он мог приобрести несокрушимое могущество. Окружив себя инженерами, управляющими, юристами, Каупервуд с молниеносной быстротой строил теперь линии своих надземных дорог, одну за другой. Одновременно он готовил западню враждебным ему чикагским банкам, предоставляя им через Видера, Кафрата и Эддисона онкольные ссуды, чтобы в случае кризиса прижать их. Получив в свое распоряжение огромное количество акций и облигаций и руководствуясь обычным своим правилом — не выплачивать более шести процентов дивиденда мелким акционерам, не принадлежащим к числу учредителей его компаний, Каупервуд наживал бешеные деньги. Когда представлялась возможность распределить большую прибыль, он тотчас выпускал новые акции, продавал их на бирже, а разницу клал себе в карман. Из касс своих бесчисленных компаний он забирал огромные суммы под видом временных займов, а потом, по его указанию, послушные исполнители относили их в счет расходов на «строительство», «оборудование», «эксплуатацию». Словом, он как матерый волк рыскал по чащобе, которую сам же и создал для себя. Слабым местом нового предприятия Каупервуда — его надземных дорог — было то, что первое время не приходилось ждать от них дохода. К тому же надземные дороги начнут конкурировать с его старыми компаниями наземных городских железных дорог и в какой-то мере могут даже сократить их прибыли. А в акции этих компаний, как и в акции надземных дорог, у него были вложены огромные суммы. Если почему-либо курс резко снизится, все сразу захотят сбыть эти бумаги с рук, отчего они еще больше упадут в цене, и ему самому придется их скупать, чтобы спасти положение. Боясь финансовых бурь и финансовых репрессий, Каупервуд стал накоплять резерв в государственных обязательствах, который решил довести до восьми или даже десяти миллионов долларов. Он поставил на карту слишком много и не хотел быть застигнутым врасплох. Когда Каупервуд приступал к постройке своих надземных дорог, не было никаких оснований предполагать, что в Америке в ближайшее время может разразиться финансовый кризис. Но вскоре возникло непредвиденное осложнение. Это было время расцвета трестов, во всем их дутом великолепии. Уголь, железо, сталь, нефть, машиностроение и ряд других наиболее важных и прибыльных отраслей промышленности были уже «трестированы», а такие, как кожевенная, обувная, канатно-веревочная и т. д., попадали во все большую зависимость от ловких и неразборчивых в средствах дельцов. В Чикаго — Шрайхарт, Хэнд, Арнил, Мэррил и еще с десяток таких же акул богатели не по дням, а по часам, становясь во главе все новых и новых монополий, ибо хищники помельче, у которых недоставало свободных средств, довольствуясь крохами с барского стола, неизменно приглашали их в учредители. Между тем среди широких слоев нации росло убеждение, что в верхах засела кучка воротил — титанов без души и без сердца, стремящихся заковать народ в цепи рабства. Жертвы нищеты и невежества, эти массы в конце концов ухватились за программу одного западного политического деятеля, обещавшего им избавление от всех зол, и с самозабвенной верой стали ее поддерживать. Сей апостол, видя, что золота в обращении становится все меньше и меньше, что деньги и кредиты нации забрала в свои руки горстка монополистов-банкиров, орудующих в целях личной наживы, узрел спасение в том, чтобы увеличить количество обращающихся денег, — это, как он считал, облегчит получение кредита и снизит ссудный процент. Серебро, которым изобиловали недра Америки, должно было чеканиться свободно, при этом государству надлежало узаконить постоянный паритет обоих металлов, исходя из соотношения одной весовой единицы золота к шестнадцати единицам серебра. Тогда меньшинство никогда не сможет больше закабалить большинство при помощи денег. Серебряной монеты будет столько, что ни центральным банкам, ни стоящим во главе их финансовым воротилам уже не удастся установить свою власть над денежным рынком. Это была, конечно, утопия, мечта сострадательного сердца, но она породила ожесточенную борьбу за руководящие посты в правительстве. Финансовая верхушка, страшась даже подумать о том, на что могли натолкнуть народ теории новоявленного политического лидера, повела борьбу как с ним, так и с теми элементами демократической партии, которые его поддерживали. Рядовые члены обеих партий — те алчущие и жаждущие, которых всегда попирала и та и другая сторона, — встретили его как ниспосланного небом избавителя, нового Моисея, пришедшего вывести их из пустыни нищеты и отчаяния. Горе политическому вождю, который проповедует новую доктрину спасения и по мягкосердечию своему предлагает панацею от всех социальных зол. Ему воистину уготован терновый венец. Каупервуд, как и другие финансисты, относился враждебно к этой, по его мнению, безумной идее — поддержания паритета между серебром и золотом законодательным путем. Он называл это конфискацией, конфискацией богатства немногих в пользу большинства. Превыше всего он опасался, как бы растущее волнение не вылилось в открытую классовую борьбу, при которой вкладчики обычно разбегаются и люди прячут деньги в кубышки. Он сразу стал свертывать паруса, приобретая только самые верные бумаги, а менее надежные начал исподволь сбывать с рук. Но для текущих своих нужд Каупервуду приходилось порой занимать довольно крупные суммы, и вскоре он заметил, что банки, связанные с его противниками в Чикаго и других городах, соглашались выдавать ссуды под залог его акций лишь при непременном условии погашения таковых по первому требованию. Каупервуд шел на это, хотя и подозревал, что дело тут не чисто, — видимо, Хэнд, Шрайхарт, Арнил и Мэррил намерены в трудную минуту потребовать возврата всех ссуд и таким образом загнать его в тупик. — Кажется, я понял, чего добивается эта шайка, — сказал он как-то Эддисону. — Только они не на того напали, меня не так-то легко захватить врасплох. Каупервуд не ошибся в своих подозрениях. Еще в самом начале агитации за свободную чеканку серебра, задолго до того, как разразилась буря, Шрайхарт, Хэнд и Мэррил, следя за каждым шагом Каупервуда через своих агентов и маклеров, установили, что тот занимает где только можно — в Нью-Йорке, в Лондоне, у некоторых чикагских банкиров. — Сдается мне, — сказал как-то Шранхарт своему другу Арнилу, — что наш приятель в долгу, как в шелку. Он зарвался. Это его строительство надземных дорог поглотило слитком много капитала. Осенью предстоят новые выборы, и он знает, что мы будем бороться беспощадно. На электрификацию старых линии ему опять-таки потребуются деньги. Если бы только узнать, как у него обстоят дела и кому и сколько он задолжал, можно было бы, пожалуй, что-нибудь предпринять. — Он несомненно запутался, — согласился Арнил. — История с чеканкой серебра уже сказывается на бирже — бумаги идут туго, а деньги в цене. Я считаю, что наши здешние банки должны давать ему по онкольным ссудам сколько он ни попросит. А когда придет время, мы прижмем его к стене. Хорошо бы раздобыть еще где-нибудь его векселя. Мистер Арнил произнес все это без тени раздражения или сарказма. В трудную минуту, которая, быть может, уже не за горами, Каупервуду будет обещано спасение, и его «спасут», при условии, что он навсегда покинет Чикаго. А они, в неусыпной заботе о родном городе и добром имени властей предержащих, отберут его собственность и станут управлять ею по своему усмотрению.Насвое несчастье, в это самое время господа Хэнд, Шрайхарт и Арнил сами оказались втянутыми в одну небольшую спекуляцию, для исхода которой агитация за чеканку серебра могла оказаться роковой. Дело касалось такого обыденного предмета, как спички, производство которых, подобно производству многих других предметов первой необходимости, было трестировано и приносило громадные барыши. Акции «Американской спички» уже котировались на всех биржах, и курс их — сто двадцать долларов — держался стойко. Гениальная идея объединить все спичечные фирмы в одну всеамериканскую спичечную монополию зародилась в мозгу двух приятелей, владельцев банкирско-маклерской конторы, господ Хэлла и Стэкпола. Мистер Финеас Хэлл, тщедушный, похожий на хорька и очень расчетливый человечек, с жидкой порослью песочно-серых волос и всегда прищуренным правым глазом — одно веко у него было частично парализовано, — имел несколько необычный, порою даже зловещий вид. Его компаньон, мистер Бенони Стэкпол, в прошлом возница в Арканзасе, а затем барышник, мужчина огромного роста, тучный, хитрый и отважный, отличался недюжинной силой воли и деловитостью. Не такой дальновидный, как Арнил, Хэнд и Мэррил, он тем не менее был достаточно ловок и изобретателен. В погоню за богатством он пустился уже немолодым человеком и теперь из кожи вон лез, чтобы привести в исполнение план, который разработал с помощью Хэлла. Вдохновляемые мыслью о будущем богатстве, они завладели контрольным пакетом акций в одной спичечной компании, что позволило им вступить в переговоры с владельцами других фирм. Патенты и секреты производства, составлявшие собственность отдельных компаний, переходили в их руки, расширялось производство и сбыт. Но для осуществления замысла Стэкпола и Хэлла требовались средства несравненно большие, чем те, которыми они располагали. Оба были уроженцами Западных штатов и потому прежде всего стали искать поддержки у западного капитала. Они обратились к Хэнду, Шрайхарту, Арнилу и Мэррилу, и солидные пакеты акций по ценам много ниже номинала перешли в руки этих господ. С помощью полученных таким путем средств объединение спичечных предприятий подвигалось весьма успешно. Патенты скупались направо и налево; «Американской спичке» предстояло в недалеком будущем заполонить Европу, а там, быть может, подчинить себе и мировой рынок. Тем временем высоким покровителям Хэлла и Стэкпола, каждому в отдельности и всем вместе, пришло в голову взвинтить курс акций, приобретенных ими по сорока пяти долларов за штуку и теперь уже продававшихся на бирже по ста двадцати, до трехсот долларов; если мечты о монополии сбудутся, такое повышение вполне оправдано. А если у них и окажется некоторый излишек акций спичечного треста, — положение которого казалось тогда прочным, а виды на будущее блестящими, — то это им никак не повредит. И вот они втихомолку стали скупать «Американскую спичку», надеясь в скором времени нажить большие деньги на повышении курса. Однако такая игра никогда не остается тайной для других финансистов. Кое-кто из крупных биржевиков скоро прослышал, что ожидается резкое повышение акций «Американской спички». Каупервуд узнал об этом от Эддисона, хорошо осведомленного обо всех биржевых слухах и сплетнях, и оба они закупили акций на крупную сумму, но с таким расчетом, чтобы в любой момент без труда продать их и даже кое-что на этом заработать. В последующие восемь месяцев акции «Американской спички» медленно и неуклонно повышались в цене, достигли внушительной цифры в двести долларов и полезли дальше вверх. Когда курс стоял на двухстах двадцати, Эддисон и Каупервуд продали свои бумаги, заработав на этой операции около миллиона. Между тем на горизонте собиралась давно ожидаемая гроза; сначала это было крохотное облачко, которое к концу тысяча восемьсот девяносто пятого года превратилось в грозную тучу, а к весне девяносто шестого эта туча зловещей пеленой закрыла полнеба, готовая вот-вот разразиться бурей. После того как в июле на пост президента Соединенных Штатов была выдвинута кандидатура «апостола свободной чеканки серебра», консервативные элементы и финансовые круги охватил страх. То, что Каупервуд предусмотрительно сделал больше года назад, другие, менее дальновидные дельцы, от штата Мэн до Калифорнии и от Мексиканского залива до Канады, принялись второпях делать сейчас. Вклады изымались из банков, неустойчивые и ненадежные бумаги выбрасывались на рынок. Шрайхарт, Арнил, Хэнд и Мэррил внезапно поняли, что попали впросак со своими огромными капиталовложениями в «Американскую спичку». Имея на руках эти акции, которые выпускались на миллионные суммы, они вынуждены будут либо поддерживать курс, либо реализовать их с большим для себя убытком. Так как многим акционерам «Американской спички» понадобились теперь наличные деньги, то со всех концов страны посыпались телеграфные распоряжения продавать акции на чикагской бирже, где они были впервые пущены в продажу и где на них, по-видимому, существовал спрос. Инициаторы спекуляции после ряда совещаний сочли за благо поддерживать курс. Господам Хэллу и Стэкполу, официально возглавлявшим трест, было дано указание покупать, а те в свою очередь обратились к основным акционерам с предложением взять свою долю дополнительных акций, пропорциональную вложениям. Хэнд, Шрайхарт, Арнил и Мэррил, не в силах справиться с растущим потоком акций, которые они должны были принимать по двести двадцать долларов, стали спешно закладывать их в банках по сто пятьдесят долларов и этими деньгами расплачивались за дополнительные партии, от которых не могли отказаться. В результате зависимые от них банки оказались загруженными до отказа, над многими нависла угроза краха. Принимать эти акции в заклад они были уже не в состоянии. — Нет, нет и нет! — решительно заявил Хэнд по телефону Финеасу Хэллу. — Я не могу рисковать больше ни одним долларом. Не могу и не хочу. Ваш план превосходен. Я не хуже вашего понимаю все его выгоды. Но с меня достаточно. Не сегодня — завтра разразится финансовый кризис. Потому-то биржа и наводнена бумагами. Я готов ограждать свои интересы, но всему есть предел. Повторяю: ни одна акция из тех, что у меня сейчас имеются, на рынок не попадет, но больше сделать я ничего не могу. Пусть остальные участники соглашения защищаются, как умеют. У меня есть другие, не менее важные дела, чем «Американская спичка», мне надо подумать и о них. Разговор с мистером Шрайхартом увенчался не большим успехом. Поглаживая жесткие черные усы, Шрайхарт уже прикидывал в уме, не лучше ли, пока не поздно, отступить, выручив за свои акции сколько удастся. Но он боялся гнева Хэнда и Мэррила, в случае если по его вине «Американская спичка» покатится вниз и на чикагской бирже возникнет паника. Это был рискованный шаг. Арнил и Мэррил в конце концов согласились держать имевшиеся у них акции, но наотрез отказались принять еще хотя бы одну; будь что будет. Попав в такую передрягу, оба почтенных джентльмена — Хэлл и Стэкпол — естественно приуныли. Значительно менее богатые, чем их высокие покровители, они могли потерять на этом все свое состояние. А в бурю хороша любая гавань. И вот Бенони Стэкпол явился в контору Каупервуда. Он испробовал уже все средства, а из крупных чикагских капиталистов Каупервуд был единственным, не участвовавшим в афере с «Американской спичкой». В самом начале, когда Стэкпол еще только вел переговоры с Хэндом и Шрайхартом, те, правда, сказали ему, что отказываются участвовать в деле, если к нему будет привлечен Каупервуд. Но это было больше года назад, а кроме того, Хэнд и Шрайхарт теперь отстранились, бросив его с компаньоном на произвол судьбы. Они не могут быть на него в претензии, если он обратится к Каупервуду, — лишь бы тот не подвел. Стэкпол был высокого роста — шести с лишком футов — и весил двести тридцать фунтов. Он предстал перед Каупервудом в соломенной шляпе, коричневом полотняном костюме (стоял конец июля), с веером из пальмового листа в одной руке и небольшим кожаным саквояжем, в котором лежали злополучные акции, — в другой. Пот лил с него градом, и мысли были самые мрачные. Ему грозило банкротство — ужасающее банкротство. Если акции «Американской спички» упадут ниже двухсот, придется закрывать свою банкирско-маклерскую контору, — у него с Хэллом столько акций на руках, что дефицит их составит двадцать миллионов долларов. А Хэнд, Шрайхарт, Арнил и Мэррил все вместе потеряют миллионов шесть-восемь. Местные банки тоже, конечно, пострадают, но не очень сильно, ибо, принимая в заклад «Американскую спичку» по сто пятьдесят долларов за акцию, они могут потерять только разницу между этой цифрой и той ценой, до которой акции упадут. Каупервуд не без иронии взглянул на входившего Стэкпола: он догадывался, что привело сюда этого джентльмена. Еще несколько дней назад в разговоре с Эддисоном он предсказал крушение «Американской спички». — Мистер Каупервуд, в этом саквояже у меня пятнадцать тысяч акций «Американской спички», — начал Стэкпол. — Стоимость их по номиналу один миллион пятьсот тысяч долларов, по сегодняшнему курсу — три миллиона триста, но настоящая их цена триста долларов за штуку, если не больше. Не знаю, насколько внимательно вы следили за развитием треста «Американская спичка». Нам принадлежат все патенты на новые усовершенствованные машины, значительно повышающие производительность труда. Более того, на этих днях мы заключаем договоры с Францией и с Италией на право пользования нашими машинами и технологическими процессами, за это они будут платить нам по миллиону долларов ежегодно. Мы ведем также переговоры с Австрией и Англией. На очереди другие страны. Не сомневаюсь, что Американский спичечный трест будет снабжать своими спичками весь мир, вне зависимости от того, останусь я во главе его или нет. Но агитация за чеканку серебра застигла нас, что называется, в открытом море, и нам сейчас не легко будет перебороть шторм. Вступая с кем-нибудь в деловые отношения, я всегда предпочитаю быть откровенным и хочу сказать вам начистоту, как обстоит дело. Если нам удастся благополучно выбраться из этого переплета, вызванного агитацией за серебро, то можно поручиться, что к концу года наши акции будут стоить триста долларов. Так вот, я предлагаю их вам по сто пятьдесят, при одном условии: до декабря не выбрасывать их на рынок. Или же, если вы не можете взять на себя такого обязательства (тут Стэкпол замолчал и впился глазами в непроницаемое лицо Каупервуда), тогда, может быть, вы ссудите мне по ста пятидесяти долларов за акцию сроком самое малое на тридцать дней, из десяти, пятнадцати или сколько найдете нужным процентов. При этом новом доказательстве изменчивости и непрочности всего земного Каупервуд задумался и, сложив руки, стал вертеть большими пальцами. Жизнь поистине полна превратностей, а тут представлялся долгожданный случай отплатить тем, кто преследовал его. Если взять акции в залог по сто пятьдесят и быстро по частям распродать их по двести двадцать или даже дешевле, «Американская спичка» вылетит в трубу. А когда курс упадет до ста пятидесяти или ниже, можно будет по дешевке снова скупить их, положить в карман разницу, завершить сделку с мистером Стэкполом, получив с него еще проценты, и улыбнуться, как улыбается сытый кот в детской сказке. Все это было проще простого и требовало не больше усилий, чем сидеть вот так и вертеть большими пальцами. — А разрешите узнать, кто из чикагских дельцов, кроме вас и мистера Хэлла, поддерживал эти бумаги? — учтиво осведомился он. — Я, конечно, догадываюсь, но все же хотелось бы знать наверное. — Отчего же, отчего же, пожалуйста, — с готовностью отвечал Стэкпол. — Мистер Хэнд, мистер Шрайхарт, мистер Арнил и мистер Мэррил. — Так я и предполагал, — небрежно заметил Каупервуд. — И что же, они не в состоянии взять у вас эти акции? Загрузились до отказа? — Загрузились, — уныло подтвердил Стэкпол. — Но если вы примете эти акции у меня в залог, мне придется поставить условием, чтобы ни одна не попала на рынок. Во всяком случае до тех пор, пока я сам не откажусь выполнить свои обязательства. Я знаю, что вы не в ладах с мистером Хэндом и другими джентльменами, которых я назвал. Но, как я уже говорил, — повторяю, я совершенно с вами откровенен, — положение у меня сейчас безвыходное, а в бурю хороша любая гавань. Если вы согласитесь меня выручить, я приму любые ваши условия и никогда не забуду оказанного мне одолжения. С этими словами Стэкпол раскрыл саквояж и стал одну за другой выкладывать на стол перед Каупервудом желто-зеленые продолговатые пачки, туго перетянутые толстой резинкой. В каждой было по тысяче акций. Каупервуд взял одну из них и, как бы в раздумье, взвесил на руке. — Очень сожалею, мистер Стэкпол, — сказал он, наконец, огорченным голосом, притворяясь, что пришел к какому-то решению, — но я не смогу быть вам полезен. Мне самому сейчас предстоят большие платежи, да и вообще я на бирже играю редко. К джентльменам, которых вы сейчас назвали, я не питаю никакого зла. На всех не угодишь. Я бы, конечно, мог, если б захотел, взять у вас эти акции, дать вам денег, а завтра же спустить их на бирже, но я этого делать не собираюсь. Я бы рад вас выручить, и, будь у меня возможность продержать ваши бумаги у себя три или четыре месяца, я бы охотно на это пошел. Но обстоятельства сложились так… — Каупервуд с сокрушенным видом поднял брови. — Вы побывали у всех банкиров в городе? — У всех без исключения. — И что же, никто не может прийти вам на помощь? — При теперешнем положении дел они не в состоянии взять больше ни одной акции. — Печально. Мне очень жаль, мистер Стэкпол. Постоите, а вы случайно не знакомы с мистером Милардом Бэйли или с мистером Эдвином Кафратом? — Нет, не знаком, — ответил Стэкпол, перед которым вновь забрезжила надежда. — И Бэйли и Кафрат значительно богаче, чем многие предполагают. У них часто бывают на руках крупные суммы. Почему бы вам не попытать счастья у них? А то есть еще мой приятель Видера. Я не знаю, правда, как у него сейчас с деньгами. Но вы всегда можете застать его в банке Двенадцатого района. Весьма возможно, что он захочет взять часть акций. Состояние у него порядочное, больше, чем некоторые думают. Удивительно, как это вас никто к ним не направил. (Без указания Каупервуда ни Бэйли, ни Кафрат, ни Видера не взяли бы у Стэкпола ни единой акции, но тот, разумеется, не мог этого знать. Мало кому было известно, что они связаны с Каупервудом.) — Я вам чрезвычайно признателен и непременно побываю у них, — заверил его Стэкпол, укладывая в саквояж свои никому не нужные бумаги. Каупервуд был необычайно любезен — он вызвал стенографистку, велел ей узнать для мистера Стэкпола домашние адреса Бэйли и Кафрата, которые, конечно, прекрасно знал, и, услужливо сообщив их посетителю, пожелал ему на прощание всяческого успеха. Озабоченный маклер решил тотчас наведаться не только к Бэйли и Кафрату, но и к Видера; однако, не успел Стэкпол доехать до конторы Бэйли, как туда уже позвонил Каупервуд. — Это вы, Бэйли? Я вот по какому поводу, — сказал он, когда в трубке раздался голос лесопромышленника. — Тут у меня только что был Бенони Стэкпол, знаете — банкирская контора «Хэлл и Стэкпол»? — Да, да. — Принес пятнадцать тысяч акций «Американской спички», номинальная стоимость их — сто долларов, курс на сегодня — двести двадцать. — Так. — Он хочет заложить все или часть по сто пятьдесят. — Так, так. — Вы, вероятно, знаете, как обстоит дело с «Американской спичкой»? — Нет, знаю только, что они здорово лезли вверх, кто-то усиленно играл на повышение. — Ну так слушайте. Скоро они покатятся вниз. «Американская спичка» должна лопнуть. — Так! — Я хочу, чтобы вы дали этому господину ссуду в пятьсот тысяч долларов, не больше чем по сто двадцать за акцию, а то и меньше; с остальными посоветуйте ему обратиться к Кафрату или Видера. — Да, но у меня сейчас нет таких денег. Шутка сказать, — полмиллиона! К тому же вы говорите, что «Американская спичка» вот-вот лопнет. — Я знаю, что у вас нет. Выпишете чек на Чикагское кредитное общество, Эддисон уплатит. А бумаги пришлите ко мне и забудьте об этом деле. Об остальном я позабочусь сам. Только ни в коем случае не упоминайте моего имени и не показывайте виду, что вы заинтересованы в сделке. Давайте не больше, чем по сто двадцать, слышите? А то и меньше. Вы узнаете мой голос? — Конечно. — Если у вас будет время, заезжайте потом ко мне, я бы хотел знать, чем кончится ваш разговор. — Хорошо, — коротко отвечал Бэйли. Затем Каупервуд позвонил Кафрату и Видера, с которыми у него состоялась примерно такая же беседа; не прошло и получаса, как все уже было подготовлено к приему мистера Бенони Стэкпола. Ссуду ему дадут под все его акции по сто двадцать долларов за штуку и ниже. Чеки будут выписаны сразу и при этом на различные банки, а не только на Чикагское кредитное общество. Он, Каупервуд, сам проследит за тем, чтобы по чекам уплатили без задержки, вне зависимости от того, есть ли у Бэйли, Кафрата или Видера деньги на текущем счету. Все заложенные акции он распорядился тотчас же прислать к нему в контору. Затем, позаботившись о том, чтобы нигде не произошло заминки, и уведомив банки, на которые должны были быть выписаны чеки, что они гарантируются им самим или еще кем-нибудь, Каупервуд стал спокойно дожидаться, когда его подручные принесут акции, которые он запрет в свой личный сейф.
Глава 48
Паника
Четвертого августа тысяча восемьсот девяносто шестого года Чикаго, а за ним и весь финансовый мир были ошеломлены известием о крахе Американского спичечного треста, акции которого считались одной из самых устойчивых ценностей на бирже, и банкротстве его учредителей — господ Хэлла и Стэкпола: дефицит их исчислялся в двадцать миллионов долларов. Уже накануне, в одиннадцать часов утра чикагские банкиры и маклеры почуяли недоброе. Высокий курс, на котором искусственно поддерживались акции «Американской спички», и нужда в наличных деньгах побуждали держателей пачками выбрасывать эти бумаги на рынок в надежде реализовать их до того, как они покатятся вниз. У серого, похожего на крепость здания биржи, угрюмо возвышавшегося в конце Ла-Саль-стрит, царило лихорадочное возбуждение — словно кто-то растревожил гигантский муравейник. Взад и вперед с озабоченным видом сновали клерки, непонятно куда и зачем торопились посыльные. Маклеры, распродавшие накануне весь имевшийся у них запас «Американской спички», явились задолго до открытия биржи и одновременно с ударом гонга вновь качали наперебой предлагать внушительные партии по четыреста-пятьсот акций. Агенты Хэлла и Стэкпола, затертые в самую гущу теснившейся, орущей толпы, покупали все, что предлагалось, по курсу, который они надеялись поддержать. Сами Хэлл и Стэкпол беспрерывно сносились по телефону и телеграфу не только с наиболее видными дельцами, которых они втянули в эту спекуляцию, но также со своими клерками и агентами на бирже. Естественно, что при создавшемся положении оба были настроены весьма мрачно. Игра шла уже не плавно и гладко, как во времена высокой конъюнктуры, и обоим джентльменам пришлось заниматься всевозможными малоприятными и мелкими делами. Ибо здесь, как, впрочем, всегда в жизни, широкий поток событий, попав в теснину обстоятельств, бурлил и мельчал. Где раздобыть пятьдесят тысяч, чтобы уплатить за свалившуюся на них очередную партию «Американской спички»? Это было все равно, что пытаться голыми руками заделать непрестанно разрастающуюся брешь в плотине, за которой бушуют разъяренные волны. В одиннадцать часов мистер Финеас Хэлл встал из-за большого письменного стола красного дерева и подошел к своему компаньону. — Боюсь, Бен, — сказал он, — что нам не справиться. Мы стольким людям здесь в Чикаго заложили наши акции, что теперь не узнаешь, кто выбросил их на рынок. Но только руку даю на отсечение, что кто-то, не знаю только кто, намеренно разоряет нас. Ты не думаешь, что это Каупервуд или кто-нибудь из тех, кого он нам присватал? Стэкпол, измученный тревогами последних недель, с трудом сдерживал раздражение. — Откуда мне знать, Финеас? — буркнул он и насупился размышляя. — Не думаю. Мне казалось, что они не играют на бирже. А деньги мне так или иначе надо было доставать. Сейчас ведь любой акционер может испугаться, пустить свои акции в продажу, и тогда — пиши пропало. Да, дело дрянь! И Стэкпол, уже в который раз за это утро, провел пальцем под тесным воротничком и засучил рукава рубашки; стояла удушливая жара, и он, придя с улицы, скинул сюртук и жилетку. В это мгновенье зазвонил телефон на столе у Хэлла, соединенный с кабинкой агента фирмы на бирже. Хэлл подскочил к аппарату и схватил трубку. — Ну что у вас там? — спросил он сердито. — Две тысячи акций «Американской» по двести двадцать. Брать? Человек, который звонил Хэллу, в случае надобности подавал знак другому служащему фирмы, стоявшему на галерее, которая опоясывала «шахту», или главный зал фондовой биржи, а тот в свою очередь сигнализировал агенту внизу. Таким образом, утвердительный или отрицательный ответ мистера Хэлла почти мгновенно претворялся в биржевую сделку. — Как быть? — спросил Хэлл у Стэкпола, прикрывая рукой трубку и еще более зловеще, чем обычно, сощуривая правый глаз. — Еще две тысячи. И откуда они только берутся? — Это конец, — с трудом выдавил из себя Стэкпол. — Выше головы не прыгнешь. Я вот что скажу: будем поддерживать курс двести двадцать до трех часов дня. Потом подсчитаем наши ресурсы и долги. А тогда я постараюсь что-нибудь придумать. Если банки нам не помогут и Арнил со всей своей компанией захочет увильнуть, мы обанкротимся, вот и все. Но, не попытавшись спасти свою шкуру, я не сдамся, черт побери! Пусть они не помогают нам, но… Мистер Стэкпол не знал, что, собственно, можно придумать, если Хэнд, Шрайхарт, Мэррил и Арнил не пожелают еще раз рискнуть крупной суммой, но выходил из себя при мысли, что эти господа даже пальцем не пошевельнут, если они с Хэллом пойдут ко дну. Он опять переговорил с Кафратом, Видера и Бэйли, но те остались непреклонны. Удрученный Стэкпол нахлобучил свою широкополую соломенную шляпу и вышел на улицу. В тени было девяносто шесть градусов по Фаренгейту. От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой жар, как в турецкой бане. Ни дуновенья ветерка. Белесо-голубое небо словно выгорело от зноя, и залитые солнцем стены высоких зданий слепили глаза. Мистер Хэнд в своей конторе, занимавшей чуть ли не весь седьмой этаж в Рукери-билдинг, изнемогал от жары и тягостных мыслей. Человек отнюдь не такой уж скупой или скаредный, он тем не менее из всех земных бед болезненнее всего переживал свои финансовые неудачи. Слишком часто приходилось ему видеть, как сильных и неглупых людей из-за какой-нибудь случайности или просчета, словно ненужный хлам, выбрасывали на свалку. После измены жены Хэнд почти ничем не интересовался, кроме умножения своего капитала, состоявшего из акций и облигаций полусотни всевозможных компаний. И все эти компании должны были давать, давать, давать непрерывно возрастающий доход, — все до единой. Даже мысль, что какая-нибудь из них может потерпеть крах или ввести его в убыток, вызывала в Хэнде почти физическое чувство беспокойства и неудовлетворенности, нечто похожее на душевную и нравственную тошноту, которую он испытывал до тех пор, пока трудность не была, наконец, преодолена. Хэнд не умел мириться с неудачами. Между тем положение с «Американской спичкой» становилось настолько угрожающим, что могло хоть кого привести в отчаяние. Не говоря уже о пятнадцати тысячах акций, которые господа Хэлл и Стэкпол в самом начале отложили для себя, Хэнд, Арнил, Шрайхарт и Мэррил приобрели каждый по пяти тысяч акций из расчета сорок долларов за штуку, затем для поддержания курса вынуждены были купить еще примерно столько же по цене уже от ста двадцати до двухсот двадцати долларов, причем большая часть была куплена по двести двадцать. Сам Хэнд попался почти на полтора миллиона, и немудрено, что у него на сердце скребли кошки. В пятьдесят семь лет человек, привыкший к постоянному успеху в делах и славящийся своим безошибочным коммерческим нюхом, поневоле начинает бояться неудач или ударов судьбы. Всякий промах может вызвать нежелательные толки о притуплении способностей, об отсутствии прежней хватки. Итак, в этот жаркий августовский день Хэнд, укрывшись у себя в кабинете, сидел в глубоком резном кресле красного дерева и предавался невеселым размышлениям. Еще сегодня утром, предвидя неминуемое падение курса, он готов был выбросить свои акции на биржу, но тут ему позвонили Арнил и Шрайхарт, которые предложили собраться и обсудить положение, прежде чем что-либо предпринимать. Нет, завтра при любых условиях, если только Стэкпол и Хэлл не придумают способа поддержать курс без его участия, он выйдет из игры и покончит со всей этой историей. Хэнд обдумывал, как лучше это устроить, когда явился Стэкпол — бледный, расстроенный, потный. — Ну, мистер Хэнд, — проговорил он устало, — я сделал все, что в моих силах. До сих пор Хэлл и я поддерживали курс. Вы ведь знаете, что произошло сегодня утром на бирже между десятью и одиннадцатью. Наша песенка спета. Мы отдали последний доллар и заложили последнюю акцию. И мое состояние и состояние Хэлла ушло на это все без остатка. Кто-то из неизвестных нам акционеров, а может быть и целая группа, выбивает почву у нас из-под ног. Четырнадцать тысяч акций с десяти утра! Что тут можно добавить? Мы ничего больше сделать не в состоянии, если только вы, мистер Арнил, и другие не согласитесь пойти на большие жертвы, чем шли до сих пор. Если бы вы могли между собой договориться и взять еще пятнадцать тысяч акций… Стэкпол замолчал, ибо мистер Хэнд внушительно поднял толстый указательный палец. — Хватит, — произнес он строго. — Всему есть предел. Я лично не рискну больше ни одним долларом. Лучше выброшу все свои акции на рынок и возьму за них что дадут. Я уверен, что и Арнил и другие думают совершенно так же. Предпочитая действовать наверняка, Хэнд заложил почти все свои акции в различных банках, чтобы освободить деньги для других операций, и никогда бы не посмел выбросить их разом на рынок, хотя бы уже потому, что должен был оплатить банкам ту сумму, по которой бумаги были приняты в заклад. Но припугнуть Стэкпола не мешало. Стэкпол тупо уставился на мистера Хэнда. — Что ж, — сказал он, — тогда мне остается только вывесить на дверях конторы объявление. Мы купили четырнадцать тысяч акций, поддержали курс, но платить за них нам нечем. Если банки или какой-нибудь маклер нас не выручат, мы прогорели. Хэнд сразу понял, что если Стэкпол выполнит свое намерение, он потеряет свои полтора миллиона, и заколебался. — Вы были во всех банках? — осведомился он. — Что вам сказал Лоренс из «Прери-Нейшнл»? — Все они в таком же положении, как и вы, — с ожесточением отвечал Стэкпол. — Не хотят и не могут ничего больше взять. Во всем виновата эта проклятая агитация за свободную чеканку серебра. Бумаги вполне надежные. Через несколько месяцев они себя оправдают. Это несомненно. — Вы так полагаете? — кисло заметил мистер Хэнд. — Все зависит от того, что будет в ноябре (он имел в виду предстоящие президентские выборы). — Да, я знаю, — вздохнул мистер Стэкпол, убеждаясь, что ему противостоит не теория, а весьма конкретное обстоятельство. И, сжав здоровенный кулачище, воскликнул: — Черт бы побрал этого проходимца! (Стэкпол подразумевал «апостола серебра».) Все это из-за него! Ну, раз ничего нельзя сделать, так я, пожалуй, пойду. Попытаюсь все-таки заложить кому-нибудь акции, которые мы сегодня купили. Если мы получим за них по сто двадцать долларов, это все-таки хоть что-то. — Совершенно справедливо, — отвечал Хэнд. — Желаю вам успеха. Но я лично бросаться деньгами больше не могу. Почему бы вам не сходить к Шрайхарту или Арнилу? Я с ними говорил, положение у них примерно такое же, как у меня, но если они согласны обсудить вопрос, то и я не прочь. Сейчас я, правда, не вижу еще никакого выхода, но, может быть, все вместе мы и найдем способ предотвратить завтрашнее избиение. Не знаю. Если, конечно, курс не упадет катастрофически. Мистер Хэнд думал о том, что, быть может, удастся заставить Хэлла и Стэкпола отдать все оставшиеся у них акции по пятидесяти или даже по сорока центов за доллар. Тогда, если банки примут в заклад эти бумаги у него, Шрайхарта и Арнила и продержат какое-то время, пока не представится возможность более или менее выгодно продать их, они возместят хоть часть своих убытков. Надо думать, что местные банки все же побоятся ослушаться приказа «могущественной четверки» и уж как-нибудь поднатужатся и изыщут средства. Но как все это устроить? Вот вопрос.Шрайхарт так упорно и настойчиво расспрашивал Стэкпола, когда тот явился к нему, что в конце концов выпытал у него правду относительно его визита к Каупервуду. У Шрайхарта самого рыльце было в пушку, ибо в этот самый день, тайком от своих компаньонов, он сбыл на бирже две тысячи акций «Американской спички». Вполне естественно, что ему хотелось узнать, подозревают ли об этом Стэкпол и другие участники соглашения. Потому-то он и подверг Стэкпола самому тщательному допросу, а тот, лишь бы достичь своей цели, охотно во всем покаялся. По его мнению, то обстоятельство, что ни один из «четверки» палец о палец не ударил, чтобы его выручить, служило ему достаточным оправданием. — Почему же вы пошли к нему? — воскликнул Шрайхарт, изображая на лице изумление и досаду, которые он если и чувствовал, то совсем по другому поводу. — Ведь мы с самого начала договорились: Каупервуда ни при каких условиях к этому делу не привлекать. С таким же успехом вы могли обратиться за помощью к дьяволу. — В то же время он думал про себя: «Как это кстати!» Поступок Стэкпола мог служить не только ширмой для его, Шрайхарта, хитроумной сегодняшней махинации, но, если на то будет воля «четверки», и превосходным предлогом, чтобы развязаться с попавшими в беду господами Хэллом и Стэкполом. — Дело в том, что в прошлый четверг у меня было на руках пятнадцать тысяч акций и надо было достать под них деньги, — несколько смущенно и вместе с тем вызывающе отвечал Стэкпол. — Ни вы, ни Хэнд, ни Арнил не пожелали эти акции взять. О банках и говорить нечего. Я на всякий случай позвонил Рэмбо, и он направил меня к Каупервуду. В действительности Стэкпол отправился к Каупервуду по собственному почину, но сейчас это маленькое отклонение от истины представлялось ему необходимым. — Рэмбо! — фыркнул Шрайхарт. — Приспешник Каупервуда, как и все остальные. Вот уж нашли к кому обратиться. Ну, теперь я прекрасно понимаю, откуда взялись эти акции. Каупервуд или его приятели предали нас. Этого следовало ожидать. Он нас ненавидит. Так вы говорите, что исчерпали все возможности? И ничего больше не можете придумать? — Ничего, — уныло отвечал Стэкпол. — Плохо. Вы, конечно, поступили весьма опрометчиво, обратившись к Каупервуду. Но посмотрим, нельзя ли еще как-нибудь помочь делу. У Шрайхарта, как и у Хэнда, был план: заставить Хэлла и Стэкпола отдать за бесценок все свои акции банкам. Тогда, с помощью некоторого нажима, можно будет убедить банки продержать бумаги, которые он сам, Хэнд и другие заложили у них, до тех пор, пока трест не будет реорганизован на новых, более доходных началах. В то же время Шрайхарт злился, что Каупервуд, благодаря счастливому стечению обстоятельств, опять, по-видимому, сорвал огромный куш. В том, что произошло сегодня на бирже, несомненно замешан этот тип. Как только Стэкпол ушел, Шрайхарт позвонил Хэнду и Арнилу и предложил встретиться, а через час все трое вместе с Мэррилом уже сидели в кабинете Арнила, обсуждая неприятную новость. К концу дня этих джентльменов стало все больше и больше одолевать беспокойство. Не то чтобы убытки, связанные с крахом «Американской спички», грозили кому-нибудь из них разорением, но неблагоприятное впечатление от такого грандиозного банкротства — в двадцать миллионов долларов, тень, которую оно могло набросить на их доброе имя и славу Чикаго как финансового центра, — вот что их пугало и заставляло призадуматься. И вдобавок, на этом еще нажился Каупервуд. Хэнд и Арнил выругались сквозь зубы, узнав о трюке Каупервуда, а Мэррил, как всегда, подивился его ловкости. Он поневоле любовался этим человеком. Кто не гордится родным городом! Среди членов всякой преуспевающей общины мало найдется людей, в груди которых не теплилось бы это чувство, и чаще всего оно проявляется именно в трудную минуту. Четверо собравшихся джентльменов не составляли в этом смысле исключения. Шрайхарт, Хэнд, Арнил и Мэррил принимали близко к сердцу и добрую славу Чикаго и свою репутацию солидных дельцов в глазах финансистов Восточных штатов. Самолюбие их страдало при мысли, что созданный ими крупнейший трест, не уступающий по размаху тем гигантам, что возникали в Нью-Йорке и некоторых других городах, постигнет безвременная кончина. Финансовый мир Чикаго должен быть по возможности избавлен от такого позора. Поэтому, когда явился разгоряченный и взволнованный Шрайхарт и подробно рассказал все, что узнал от Стэкпола, его выслушали с напряженным вниманием. Был шестой час, солнце еще палило вовсю, но стены зданий на противоположной стороне улицы уже окрасились в прохладный серый цвет, а местами на них легли черные пятна тени. В комнату врывался городской шум: пронзительные голоса мальчишек-газетчиков, продававших экстренный выпуск, шаги спешивших домой пешеходов, резкие звонки трамваев — трамваев Каупервуда. — Вот что я вам скажу, — произнес в заключение Шрайхарт. — Мы слишком долго терпели этого негодяя и его вмешательство в ваши дела. Разумеется, ни Хэлл, ни Стэкпол не имели никакого права к нему обращаться. Они и себя и нас поставили под удар, который и не замедлил на нас обрушиться. — Мистер Шрайхарт в своем праведном гневе был язвителен, холоден, неумолим. — Но всякий состоятельный человек нашего круга, — продолжал он, — конечно, счел бы своим долгом предварительно переговорить с нами, предоставив нам или по крайней мере нашим банкам возможность выкупить эти бумаги. Нам пошли бы навстречу, щадя доброе имя Чикаго. При теперешнем положении дел Каупервуд не имел морального права выбрасывать эти акции на рынок. Он прекрасно знал, что повлечет за собой крах «Американской спички». Пострадает чуть ли не весь город, но какое до этого дело Каупервуду. Мистер Стэкпол уверяет, что у него была твердая договоренность с Каупервудом, или, вернее, с теми лицами, которые действовали по его поручению, что ни одна акция «Американской спички» из этой партии не попадет на рынок. А я беру на себя смелость утверждать, что в настоящую минуту в сейфах этих господ не осталось ни одной акции. Я в какой-то мере готов еще извинить беднягу Стэкпола, он действительно находился в очень затруднительном положении. Но для мошеннической проделки Каупервуда нет и не может быть никаких оправданий. Это грабитель с большой дороги, как я с самого начала и говорил. И нам следует подумать о том, чтобы положить конец его карьере здесь, в Чикаго. Мистер Шрайхарт вытянул толстые ноги, поправил мягкий отложной воротничок и провел рукой по коротким, жестким усам, в которых уже пробивалась седина. В его черных глазах горела непримиримая ненависть к Каупервуду. И тут Арнил, казалось бы без всякой связи с предыдущим, спросил: — А знает ли кто-нибудь из вас, каково финансовое положение Каупервуда в настоящее время? Всем нам известно о его Северо-Западной надземной дороге и дороге на Лейк-стрит. Кроме того, я слышал, что он строит себе дом в Нью-Йорке, — это тоже должно стоить ему немало. Чикагский центральный банк предоставлял ему в разное время ссуды общей сложностью тысяч на четыреста. Но кому он еще должен? — Он должен «Прери-Нейшнл» двести тысяч, — поспешил сообщить Шрайхарт. — Я слышал и о других займах, но не помню сейчас, кто его кредитовал. Мистер Мэррил, большой дипломат, изысканный и щеголеватый, словно парижанин, беспокойно заерзал в кресле и поглядел на своих собеседников хитрым, но отнюдь не свидетельствовавшим о воинственных намерениях взглядом. Хотя у него тоже имелся зуб против Каупервуда — тот в свое время отказался провести свою дорогу мимо магазина Мэррила, — он с интересом наблюдал за успехами этого дельца, и ему претила мысль участвовать в каком-то заговоре против него. Однако, поскольку он уже присутствовал на этом совещании, отмалчиваться было неловко. — Мой финансовый агент, мистер Хилл, не так давно ссудил мистеру Каупервуду несколько сот тысяч, — произнес он, наконец, довольно нерешительно. — Вероятно, у него есть немало и других долгов. Мистер Хэнд нетерпеливо пошевелился. — Каупервуд и Третьему национальному и «Лейк-Сити» должен столько же, если не больше, — сказал он. — Я знаю, где он взял еще полмиллиона долларов, о которых здесь никто не упоминал: у полковника Баллингера двести тысяч и столько же у Энтони Иуэра. Потом в Торгово-скотопромышленном банке никак не меньше ста пятидесяти тысяч. Арнил тут же прикинул в уме, что Каупервуд, таким образом, задолжал по онкольным ссудам примерно три миллиона. — Это еще не все данные, — сказал он веско и неторопливо. — Нам следует переговорить сегодня вечером с председателями правлений наших банков и дополнить картину. Я не хочу проявлять жестокость по отношению к кому бы то ни было, но наше собственное положение очень серьезно. Если мы не примем неотложных мер, «Хэлл и Стэкпол» завтра обанкротятся. Все мы, конечно, в долгу у наших банков, и наша святая обязанность по мере сил помочь им. В какой-то степени здесь затронута честь Чикаго и его репутация крупного финансового центра. Как я уже говорил мистеру Стэкполу и мистеру Хэллу, я лично в это дело больше ничего вложить не могу. Вероятно, и вы находитесь в таком же положении. В настоящих условиях мы можем только рассчитывать на банки, а они, по-видимому, выдали так много ссуд под ценные бумаги, что теперь сами испытывают финансовые затруднения. Во всяком случае так обстоит дело с «Лейк-Сити-Нейшнл» и кредитным обществом «Дуглас». — Так обстоит дело почти со всеми банками, — вставил Хэнд. Шрайхарт и Мэррил кивнули, подтверждая его слова. — Насколько я знаю, у нас нет никаких обязательств в отношении мистера Каупервуда, — продолжал Арнил после краткой, но многозначительной паузы. — Как справедливо указал сегодня мистер Шрайхарт, он пользуется любым случаем, чтобы навредить нам. По-видимому, он еще не сумел вернуть банкам ссуды, о которых здесь упоминалось. Почему бы не востребовать их сейчас? Это укрепит местные банки, и тогда они, вероятно, смогут прийти нам на помощь. Впрочем, Каупервуд в настоящее время вряд ли в состоянии погасить свою задолженность. Мистер Арнил лично не чувствовал к Каупервуду особой неприязни. Но Хэнд, Мэррил и Шрайхарт были его друзьями и видели в нем главу финансовых кругов города. Возвышение Каупервуда, его наполеоновские замашки ставили под угрозу престиж Арнила. Он говорил, ни на кого не глядя, и усиленно барабанил пальцами по столу. Остальные трое, не сводя с него глаз, напряженно слушали, прекрасно понимая, куда он клонит. — Блестящая, поистине блестящая мысль! — воскликнул Шрайхарт. — Я за любое предложение, которое позволит нам избавиться от этого субъекта. Как говорится, нет худа без добра. Если бы не создавшаяся теперь обстановка, неизвестно, сколько бы нам еще пришлось его терпеть. И во всяком случае требование о возврате ссуд поможет нам справиться с затруднениями. — Я считаю эту меру правильной, — заметил Хэнд. — На таких условиях я готов поддержать «Хэлла и Стэкпола». — Я тоже не возражаю, — сказал Мэррил. — Мне только кажется, — добавил он, — что любое наше решение должно быть предано широкой гласности. — Что ж, давайте пригласим сюда банкиров, — предложил Шрайхарт, — узнаем точно, сколько и кому должен Каупервуд и какие потребуются суммы на то, чтобы поддержать «Хэлла и Стэкпола». Вот тогда мы и поставим Каупервуда обо всем в известность. Хэнд утвердительно кивнул и поглядел на свои большие, безвкусно гравированные золотые часы. — Я думаю, — сказал он, — что мы, наконец, нашли выход из положения. Предлагаю также вызвать Кандиша и Крамера (он имел в виду председателя и секретаря фондовой биржи), а также Симса из кредитного общества «Дуглас», тогда мы быстро выясним положение. Решено было собраться в библиотеке Арнила. Зазвонили телефоны, полетели телеграммы, во все стороны помчались рассыльные. Сателлиты четырех финансовых светил и сторожевые псы местных казначейств созывались, чтобы приложить руку к этому принятому втайне решению, ибо никто не сомневался, что они не посмеют ослушаться.
Глава 49
Совет олимпийцев
В восемь часов вечера, когда должно было состояться совещание, весь финансовый мир Чикаго пришел в великое волнение. Шутка ли — сами господа Хэнд, Шрайхарт, Мэррил и Арнил забили тревогу! Ровно в половине восьмого зацокали подковы, и элегантные, нарядные экипажи, звеня упряжью, стали подъезжать к солидным особнякам, чтобы доставить оттуда к дому мистера Арнила председателя или по меньшей мере члена правления того или иного банка, спешащих на зов могущественной четверки. Такие видные горожане, как Сэмюэл Блэкмен, бывший председатель правления старой Чикагской газовой, а ныне член правления банка «Прери-Нейшнл»; Хадсон Бейкер, бывший председатель Западной газовой компании, ныне член правления Чикагского центрального банка; Ормонд Рикетс, издатель «Кроникл» и член правления кредитного общества «Дуглас»; Уолтер Райзем Коттон, когда-то крупный комиссионер, ныне директор многочисленных и разнообразных предприятий, — все направлялись к вышеозначенной резиденции. То была внушительная процессия серьезных, торжественных, глубокомысленных и спесивых джентльменов, чрезвычайно озабоченных тем, какое впечатление произведет их появление и вид на всех прочих. Надо признаться, что никто так не кичится внешними проявлениями богатства, как тот, кто недавно это богатство приобрел. Новоявленные богачи, олицетворяющие собой силу капитала и почитающие себя столпами общества, прилагают все усилия к тому, чтобы внушить к себе почтение хотя бы своими манерами и осанкой, если они не располагаютдля этого никакими другими средствами. Итак, душным летним вечером все вышепоименованные лица и многие другие, числом до тридцати, с важным видом подкатили в своих экипажах к большому комфортабельному особняку мистера Тимоти Арнила. Сам хозяин еще не прибыл и не мог встретить гостей; точно так же не появлялись еще господа Шрайхарт, Хэнд и Мэррил. Столь могущественным особам, быть может, и не подобало в подобных случаях лично приветствовать своих подданных. В это время каждый из них еще находился у себя в конторе и продумывал заключительные детали совместно разработанного плана, который надлежало преподнести собравшимся как некое внезапное озарение. Пока что гости были предоставлены сами себе. К их услугам имелись вина и разные прохладительные напитки, но им, по правде говоря, было не до того. Вешалка для шляп пустовала; собравшиеся почему-то предпочитали держать свои головные уборы при себе. Вся эта компания, рассевшаяся на покрытых чехлами стульях, расставленных вдоль обшитых деревянными панелями стен, представляла собой довольно пестрое и небезынтересное зрелище. Стэкпол и Хэлл, для гальванизации чьих трупов и было созвано это высокоторжественное собрание, не присутствовали в зале заседания, но находились в другой части дома, откуда их в любую минуту можно было вызвать, если бы потребовался их совет или разъяснения. Надутые и важные, похожие на старых сов, сидели здесь те, что почитались самыми блестящими финансовыми умами города, сидели в тревожном предчувствии надвигавшегося на них краха. До появления мистера Арнила слышался лишь сдержанный гул голосов — шел обмен последними слухами. — Да не может быть! — Неужели даже до того дошло? — Я знал, что дела у них пошатнулись, но чтобы до такой степени! Кто бы мог подумать? — Какая удача, что мы не держали их акций! (Это можно было услышать из уст весьма немногих счастливцев.) — Да, положение серьезно. — Что и говорить! — Ну и дела! И ни слова осуждения по адресу господ Хэнда и Шрайхарта или Арнила и Мэррила, хотя всем и каждому было известно, какую роль они во всем этом сыграли. Тем не менее почему-то считалось, что эти джентльмены — благодетели, созвавшие совещание не для того, чтобы спасти свои карманы, а с единственной целью помочь ближним в тяжелую минуту. То и дело слышалось: — Мистер Хэнд? О, это замечательный человек, замечательный! Или: — Мистер Шрайхарт? О, это голова, да, да, это голова! Или: — Уж будьте спокойны, эти люди не допустят никаких серьезных финансовых потрясений в нашем городе. И тут же один шептал на ухо другому, что по наущению кое-кого из этой четверки многие банки стоят сейчас перед угрозой потери очень крупных сумм наличными или в бумагах. Впрочем, слух о том, что Каупервуд со своей шайкой пытается извлечь какую-то выгоду из создавшегося положения и что он вообще причастен к этому делу, еще не достиг ничьих ушей. Пока еще нет. Ровно в половине девятого, с видом крайне непринужденным и неофициальным, в зале появился мистер Арнил, а вслед за ним, по очереди, — Хэнд, Шрайхарт и Мэррил. Один потирал руки, другой прикладывал ко лбу платок, но все четверо старались в этих щекотливых обстоятельствах придать себе как можно более уверенный и беспечный вид. Среди присутствующих нашлось немало добрых друзей и знакомых, с которыми надо было обменяться приветствиями, справиться о здоровье жены и детей. Мистер Арнил с пальмовым листом вместо веера в руке, в чесучовом костюме и белой шелковой сорочке в бледно-лиловую полоску, был вполне свеж и бодр. В его массивной шее и мощном торсе было что-то отечески-успокоительное, что-то надежное и патриархальное. На круглой блестящей лысине мелкими бисеринками серебрился пот. Мистер Шрайхарт, напротив, несмотря на жару, был сух, прям, тверд и словно вытесан из большого куска какого-то темного сучковатого дерева. Мистер Хэнд, дородностью и телосложением весьма напоминавший мистера Арнила, но еще более грузный и еще более внушительный, облекся ради такого случая в синий саржевый пиджак и клетчатые брюки кричащей, почти легкомысленной расцветки. Его багровое, апоплектическое лицо было серьезно и вместе с тем сияло воодушевлением, словно он хотел сказать: «Мои дорогие чада! Вам предстоит тяжкое испытание, но мы сделаем все, что в наших силах, дабы его облегчить». Мистер Мэррил хранил надменный и лениво-скучающий вид — в той мере, в какой это допустимо для столь крупного коммерсанта. Двое-трое из присутствующих удостоились легкого пожатия его бледной, прохладной руки, остальным пришлось удовольствоваться молчаливым кивком или улыбкой. На долю мистера Арнила, как самого видного и богатого из граждан Чикаго, выпала честь (со всеобщего единодушного согласия) занять монументальное председательское кресло, стоявшее во главе стола. По залу пробежал шепот, когда мистер Арнил, после настоятельного приглашения со стороны мистера Шрайхарта, прошел вперед и занял вышеупомянутое кресло. Все прочие великие мужи тоже расселись по местам. — Итак, джентльмены, — начал мистер Арнил сухо и деловито (голос у него был очень густой и хриплый), — я буду краток. Обстоятельства, которые заставили нас собраться сегодня здесь, весьма необычны. Всем вам, я полагаю, известно, что произошло с мистером Хэллом и мистером Стэкполом. «Американской спичке» грозит крах — и не позже как завтра утром, если сегодня же не будут приняты какие-то экстренные меры. Это совещание созвано по инициативе правлений некоторых банков и отдельных предпринимателей. Мистер Арнил говорил негромко и держался неофициального тона — казалось, будто он, развалясь в кресле-качалке, ведет интимную беседу с кем-то из своих друзей. — Крах «Американской спички», — заявил мистер Арнил, — если нам не удастся его предотвратить, поставит в чрезвычайно затруднительное положение как некоторые банки, так и отдельных держателей акций, и мы, я полагаю, должны принять все меры к тому, чтобы этого избежать. Основными кредиторами «Американской спички» являются местные банки и кое-кто из наших коммерсантов, предоставлявших этой фирме денежные ссуды под залог ее акций. У меня имеется точный список этих банков и частных лиц, с указанием выданных ими ссуд — всего на сумму около десяти миллионов долларов. Мистер Арнил даже не потрудился объяснить, где он мог раздобыть такой список; с бессознательным высокомерием богача и местного воротилы он спокойно полез в карман, извлек оттуда какую-то бумажонку и положил ее перед собой. Все были заинтригованы: чьи имена стоят в списке? Какие суммы? Намеревается ли мистер Арнил огласить список? — Теперь, — солидно и важно продолжал мистер Арнил, — я хочу сообщить собравшимся, что мистер Шрайхарт, мистер Мэррил, мистер Хэнд и я сам имеем кой-какие вклады в этом предприятии и до сегодняшнего вечера считали своим долгом — не столько в наших личных интересах, сколько в интересах банков, принимавших акции «Американской спички» в качестве обеспечения, а также и в интересах города в целом, — всеми возможными средствами поддерживать курс. Мы верили в мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Мы могли бы действовать так и впредь, будь у нас хоть малейшая надежда, что остальные держатели смогут сохранить у себя акции, не понеся при этом большого урона, однако последние события убедили нас, что им это вряд ли удастся. Если раньше мистер Хэлл и мистер Стэкпол, так же как и представители некоторых банков, имели основание подозревать, что некое лицо, играя на понижение, старается выбить у них почву из-под ног, то теперь это окончательно подтвердилось. Мы сочли необходимым созвать сегодняшнее совещание, ибо только наши объединенные усилия могут в нынешних условиях спасти город от весьма тяжелых финансовых потрясений. Акции будут по-прежнему выбрасываться на рынок. Возможно, что Хэллу и Стэкполу придется частично ликвидировать свое предприятие. Одно несомненно: если к утру не будет собрана весьма солидная сумма для покрытия тех платежей, которые предстоят завтра Хэллу и Стэкполу, их ждет банкротство. «Серебряная агитация» косвенным образом сыграла здесь, конечно, свою роль, но основную причину всех затруднений «Американской спички» и тяжелого финансового положения, в котором все мы оказались, следует искать в раскрытых нами недавно жульнических проделках одного лица. Я не считаю нужным что-либо замалчивать. Все это — дело рук одного человека, Каупервуда. «Американская спичка» справилась бы со своими затруднениями и городу не угрожало бы сейчас никакой опасности, если бы господа Хэлл и Стэкпол не совершили роковой ошибки, обратившись за поддержкой к этому субъекту. Мистер Арнил сделал паузу, и мистер Нори Симс, наиболее экспансивный из всех, негодующе воскликнул: — Ах, мерзавец! Возмущенный ропот прозвучал как аккомпанемент к его словам, и все взволнованно заерзали на стульях. — Как только мистер Каупервуд получил акции упомянутой компании в виде обеспечения под выданную им ссуду, — раздельно произнес мистер Арнил, — он тотчас начал крупными партиями выбрасывать их на рынок, невзирая на принятое на себя обязательство не продавать ни единой акции. Вот чем объясняется тот ажиотаж, который наблюдался на бирже вчера и сегодня. Свыше пятнадцати тысяч акций «Американской спички» были выброшены на рынок, и есть все основания предполагать, что продает их одно лицо, а в результате «Американская спичка» и господа Хэлл и Стэкпол стоят на краю банкротства. — Негодяй! — снова воскликнул мистер Нори Симс, несколько даже привстав с места. Кредитное общество «Дуглас» имело немало причин тревожиться за судьбу «Американской спички». — Какое бесстыдство! — завопил мистер Лоуренс из банка «Прери-Нейшнл», которому падение курса грозило потерей трехсот тысяч долларов на одних только принятых в заклад акциях. Этому банку Каупервуд, кстати сказать, был должен не меньше трехсот тысяч долларов по онкольным ссудам. — Да уж будьте уверены, без его сатанинских происков тут дело не обошлось, — заявил мистер Джордан Джулс, которому никак не удавалось хоть сколько-нибудь преуспеть в своей борьбе против Каупервуда в муниципалитете и хоть немного продвинуть там дела Общечикагской городской. Чикагский центральный, во главе которого он в настоящее время стоял, тоже был одним из тех банков, чьими услугами Каупервуд пользовался весьма широко для получения ссуд. — Жаль, что ему все еще позволяют заниматься своими грязными делами в нашем городе, — заметил мистер Сандерленд Слэд сидевшему с ним рядом мистеру Дьюэйну Кингсленду — члену правления банка, возглавляемого мистером Хэндом. Последний, равно как и мистер Шрайхарт, с удовлетворением отмечал про себя впечатление, произведенное на присутствующих речью мистера Арнила. Мистер Арнил тем временем снова порылся в кармане и извлек оттуда еще один лист бумаги, который он тоже положил перед собой на стол. — В такую минуту, как сейчас, — торжественно произнес он, — мы должны разговаривать начистоту, если хотим чего-нибудь добиться, а я полагаю, что далеко не все потеряно. Я хочу предложить вашему вниманию еще один список — здесь перечислены ссуды, полученные мистером Каупервудом от некоторых банков и до нынешнего дня им не погашенные. Я хотел бы выяснить, — если вы найдете возможным предать это гласности, — не получало ли вышеозначенное лицо еще каких-либо ссуд, о которых нам пока неизвестно? И мистер Арнил обвел всех торжественно-вопрошающим взглядом. Тотчас мистер Коттон и мистер Осгуд сообщили о некоторых займах Каупервуда, не попавших в список мистера Арнила. Теперь уже каждому становилось ясно, к чему все это клонится. — Должен вам сообщить, джентльмены, — продолжал мистер Арнил, — что я беседовал с некоторыми нашими видными дельцами, прежде чем созывать это совещание, Они целиком разделяют мое мнение: поскольку банки остро нуждаются сейчас в наличных средствах и поскольку никто не обязан охранять интересы мистера Каупервуда, все еще не погашенные им ссуды должны быть немедленно востребованы и полученные таким образом деньги обращены на поддержку тех банков и тех лиц, которые заинтересованы в судьбе мистера Хэлла и мистера Стэкпола. Сам я не питаю никаких враждебных чувств к мистеру Каупервуду, то есть, я хочу сказать, что мне лично он никогда не делал зла, но, само собой разумеется, я не могу одобрить его образ действий. Добавлю: если не удастся собрать необходимую сумму, чтобы дать вам, джентльмены, возможность обернуться, последует еще ряд банкротств. Многим банкам предстоит выдержать огромный наплыв требований о возвращении вкладов. При таком положении, как сейчас, главное — это выиграть время, но мы, к сожалению, уже лишены этой возможности. Мистер Арнил умолк и снова обвел взглядом собрание. Ответом ему послужил гул голосов — возмущенные, негодующие восклицания по адресу Каупервуда. — Правильно, так и надо, пускай теперь расплачивается, — заявил мистер Блэкмен мистеру Слэду. — Ему слишком долго сходили с рук все его мошенничества. Пора уж положить этому предел. — Что ж, похоже, что сегодня это будет, наконец, сделано, — отвечал мистер Слэд. Слово взял мистер Шрайхарт. — Я считаю, — сказал он, — что мистеру Арнилу, как председателю, следует предложить всем присутствующим высказаться, дабы собрание могло прийти к какому-то решению. Тут поднялся мистер Кингсленд, высокий, тощий, с длинными усами, и пожелал узнать — как же все-таки это произошло? Каким образом акции «Американской спички» оказались в руках Каупервуда, и вполне ли присутствующие уверены в том, что именно Каупервуд и его клика, а никто другой, выбрасывают эти акции на рынок? — Мне бы не хотелось, — сказал он в заключение, — совершать несправедливость по отношению к кому бы то ни было. Тогда мистер Шрайхарт попросил председателя предоставить слово мистеру Стэкполу, дабы он мог рассеять сомнения. Часть акций была опознана с полной достоверностью. Стэкпол рассказал всю историю своих взаимоотношений с Каупервудом, и рассказ этот потряс собрание и еще сильнее восстановил всех против Каупервуда. — Просто диву даешься, как это таким людям позволяют у нас творить что угодно, и держат они себя при этом так, точно их коммерческая репутация чиста, как стеклышко, — произнес мистер Васто, председатель правления Третьего национального, обращаясь к своему соседу. — Я полагаю, что сегодня мы без труда придем к единодушному решению, — заявил мистер Лоуренс, председатель правления «Прери-Нейшнл», считавший себя обязанным Хэнду за различные одолжения в прошлом и в настоящем. — Это тот случай, — вставил мистер Шрайхарт, все время выжидавший удобной минуты, чтобы высказать свои затаенные мысли, — когда непредвиденное изменение политической ситуации порождает непредвиденный кризис, а субъект, о котором идет речь, использовал этот кризис в своекорыстных целях и в ущерб всем остальным финансистам. На благосостояние города ему наплевать. На финансовое равновесие тех самых банков, которые ссужают его деньгами, ему тоже наплевать. Это отщепенец, авантюрист, и если мы не используем представившуюся нам возможность показать наше отношение к нему и к его махинациям, мы окажем очень плохую услугу и городу и самим себе. — Джентльмены, — произнес мистер Арнил после того как все долги Каупервуда были тщательно занесены в список, — не считаете ли вы целесообразным послать за мистером Каупервудом и объявить ему как о принятом нами решении, так и о том, что побудило нас его принять? Я полагаю, все присутствующие согласятся с моим предложением. Мистер Каупервуд должен быть поставлен в известность. — Да, да, разумеется, — подтвердил мистер Мэррил, который за этими благожелательными словами ясно видел увесистую дубинку, занесенную над головой Каупервуда. Хэнд и Шрайхарт переглянулись и тут же перевели взгляд на Арнила; они помолчали, учтиво выжидая, не пожелает ли кто-либо высказаться, но, поскольку охотников не нашлось, Хэнд, считавший, что Каупервуду готовится неотразимый и сокрушительный удар, злорадно произнес: — Ну что ж, можно его известить, конечно… если мы сумеем его найти. Позвоним ему — этого будет вполне достаточно. Пусть знает, что таково единодушное решение всех крупных финансистов Чикаго. — Правильно, — одобрил мистер Шрайхарт. — Пора ему узнать, что думают о нем и о его мошеннических проделках все порядочные и состоятельные люди. Шепот одобрения пробежал среди собравшихся. — Прекрасно, — сказал мистер Арнил. — Энсон, вы как будто бы ближе других знакомы с ним. Может быть, вы позвоните ему по телефону и предложите приехать сюда? Скажите ему, что у нас экстренное совещание. — Мне кажется, что внушительнее будет, если вы сами позвоните ему, Тимоти, — возразил мистер Мэррил. Арнил, не любивший попусту тратить время, тотчас встал и направился к телефону, установленному на том же этаже, в небольшом уединенном кабинете неподалеку от зала, где происходило совещание; здесь никто не мог подслушать его разговор с Каупервудом.В тот вечер, сидя у себя в библиотеке и просматривая новые художественные каталоги, Каупервуд против воли не раз возвращался мыслями к «Американской спичке», которой, как он понимал, наутро грозило банкротство. Через своих маклеров и агентов он был осведомлен о совещании, происходившем в это самое время в доме мистера Арнила. Днем у него уже перебывало немало банкиров и маклеров, встревоженных возможным падением акций, под которые они выдавали ссуды, а вечером камердинер то и дело докладывал, что мистера Каупервуда вызывают к телефону. Звонили — Эддисон, Кафрат, маклер Проссер, нынешний агент Каупервуда на фондовой бирже, заместивший на этом посту Лафлина, а также, что нельзя не отметить, кое-кто из служащих тех банков, руководители которых находились в этот момент на небезызвестном совещании. Если высшие должностные лица этих финансовых предприятий ненавидели Каупервуда, боялись его и ему не доверяли, то подчиненные отнюдь не разделяли этих чувств и старались путем различных мелких услуг снискать его расположение, рассчитывая впоследствии извлечь из этого немалую для себя выгоду. Раздумывая над тем, как ловко провел он своих врагов и какой нанес им удар, Каупервуд испытывал глубокое удовлетворение и внутренне усмехался. В то время как они ломали себе голову, изыскивая способы предотвратить грозящие им наутро тяжелые потери, ему оставалось только подсчитывать барыши. Когда все будет кончено, он положит в карман около миллиона чистой прибыли. Каупервуд не задумывался над тем, как жестоко поступил он с Хэллом и Стэкполом. Они все равно зашли в тупик. Он их разорил, конечно, но, не воспользуйся он этой возможностью, мистер Шрайхарт или мистер Арнил не преминули бы сделать то же самое. Мысли о предстоящей победе на финансовом поприще перемежались у него с мыслями о Беренис. Увы, даже мозг титана не свободен от некоторых слабостей и причуд. Каупервуд думал о Беренис днем и ночью. А как-то раз даже видел ее во сне! Порой он смеялся над собой — так запутаться в сетях какой-то девочки, почти ребенка, в шелковистой паутине ее шафрановых волос! В эти дни, когда дела не позволяли ему отлучиться из Чикаго, он думал о ней беспрестанно: что она делает, у кого будет гостить там, на Востоке? О, как он был бы счастлив, если бы они были сейчас вместе — соединенные брачными узами. На беду, летом, в Наррагансете, Беренис стала не на шутку увлекаться обществом некоего Лоуренса Брэксмара, лейтенанта морского флота, прибывшего с Портсмутской военно-морской базы в отпуск в Наррагансет. Каупервуд, приехав туда же на несколько дней, чтобы лишний раз взглянуть на своего кумира, очень встревожился, когда ему представили лейтенанта Брэксмара, и поневоле задумался о последствиях, к которым может привести знакомство Беренис с этим молодым человеком. До сих пор мысли о том, что у Беренис могут появиться молодые поклонники, как-то не беспокоили его. Без памяти влюбленный, он не хотел думать ни о чем, что могло бы стать на пути к исполнению его мечты. Беренис должна принадлежать ему. Солнечный луч, воплотившийся в облике юной, прекрасной девушки, должен осветить и согреть его жизнь. Но Беренис была так молода и так неустойчива в своих настроениях, что порой на Каупервуда нападало раздумье. Как приблизиться к ней? Как себя держать? Какие найти слова? Беренис отнюдь не была ослеплена ни его громкой известностью, ни богатством. Она проводила время среди людей, занимавших более высокое положение в свете, чем Каупервуд, даже и не подозревая, в какой мере обязана этим его щедротам. Приглядываясь к Брэксмару во время своей первой встречи с ним, Каупервуд вынужден был признать, что молодой лейтенант недурен собой, ловок и неглуп, а следовательно, его необходимо удалить от Беренис. Наблюдая за Беренис и Брэксмаром, когда они гуляли бок о бок по залитой солнцем веранде на берегу моря, Каупервуд невольно вздыхал, охваченный чувством одиночества. Неопределенность отношений с Беренис порой становилась просто невыносимой. О, как ему хотелось снова быть молодым и свободным! Вот какие тревожные мысли смутно бродили в его мозгу, когда в половине одиннадцатого опять зазвонил телефон и чей-то густой, неторопливый бас произнес: — Мистер Каупервуд? Говорит мистер Арнил. — Я слушаю вас. — Здесь, у меня собрались все крупнейшие финансовые деятели нашего города. Мы обсуждаем вопрос о мерах, необходимых для предотвращения биржевой паники. Как вам, вероятно, известно, Хэлл и Стэкпол оказались в тяжелом положении. Если сегодня им не будет оказана поддержка, завтра они обанкротятся на двадцать миллионов долларов. Все мы крайне обеспокоены — разумеется, не столько предстоящим крахом этой фирмы, сколько тем, как он отразится на состоянии банков и биржи. Все это, как я понимаю, имеет прямое касательство к ссудам, полученным вами из различных банков. Лица, здесь присутствующие, уполномочили меня просить вас, если вам будет угодно, прибыть на наше совещание, дабы мы могли решить сообща, что сейчас следует предпринять. Какие-то весьма радикальные меры должны быть приняты до наступления утра. Пока мистер Арнил говорил, мозг Каупервуда работал, как хорошо налаженный механизм. — А при чем здесь полученные мною ссуды? — спросил он. Голос его звучал вкрадчиво. — Какое имеют они ко всему этому отношение? Я не должен Хэллу и Стэкполу ни полцента. — Нам это известно. Но очень многие банки обременены вашими обязательствами. Существует мнение, что часть ваших ссуд, значительная часть, должна быть погашена, если… если сегодня не будут изысканы какие-то другие средства для предотвращения катастрофы. Мы полагали, что вы, по всей вероятности, захотите приехать и обсудить с нами этот вопрос. Быть может, вы сумеете предложить какой-либо другой выход? — Вот оно что, — насмешливо сказал Каупервуд. — Вы решили пожертвовать мною и спасти Хэлла и Стэкпола. Так ли я вас понял? Он прищурился, словно мистер Арнил стоял перед ним, и в глазах его сверкнул зловещий огонек. — Ну, не совсем так, — уклончиво отвечал мистер Арнил. — Но какие-то шаги мы должны предпринять. А потому, не считаете ли вы, что вам все-таки лучше прибыть на наше совещание? — Отлично, — весело сказал Каупервуд. — Я приеду. Такие вопросы по телефону, конечно, решать не следует. Он повесил трубку и приказал закладывать кабриолет. По дороге он радовался своей дальновидности, которая побудила его сохранить в надежных сейфах Чикагского кредитного несколько миллионов долларов в государственных облигациях, приносивших низкий процент. На худой конец, их можно будет заложить. Господа заговорщики получат, наконец, возможность убедиться в том, как он силен и как мало он их боится. Через несколько минут он подъехал к дому мистера Арнила. В легком летнем костюме, с соломенной шляпой, украшенной сине-белой лентой, в щегольских ботинках из тончайшей кожи, Каупервуд казался олицетворением успеха и уверенности в себе. Войдя в зал, где происходило совещание, он окинул собравшихся неустрашимым, львиным взглядом. — Добрый вечер, джентльмены, — произнес он, направляясь к стулу, на который ему указал мистер Арнил. — Недурная погодка для совещания. Мне еще никогда не доводилось видеть такого количества соломенных шляп на чьих-либо похоронах. Насколько я понимаю, сегодня вы собрались здесь, чтобы похоронить меня. Итак, чем могу служить? Он улыбнулся весело и учтиво, и улыбка эта на устах всякого другого не замедлила бы вызвать ответные улыбки. Но на устах Каупервуда она означала сознание своей силы и превосходства и вызвала в ответ только гнев и мстительную ненависть, которые отразились на лицах большинства присутствующих. Никто не ответил на его приветствие, слышен был только раздраженный скрип стульев. Те, кто знал его лично, как, например, господа Мэррил, Лоуренс, Симс, ограничились лишь небрежным кивком и весьма недружелюбным взглядом. — Что ж, я слушаю вас, джентльмены, — сказал Каупервуд, нарушая воцарившееся в зале зловещее молчание, и посмотрел на демонстративно отвернувшегося от него Хэнда и уставившегося в потолок Шрайхарта. — Мистер Каупервуд, — спокойно начал мистер Арнил, нимало не обескураженный самоуверенным видом своего врага, — как я уже говорил вам, это совещание созвано с целью предотвратить, если это окажется возможным, грозящую нам завтра биржевую панику, которая чревата весьма тяжелыми последствиями. Хэлл и Стэкпол на краю краха. Не погашенные ими ссуды составляют значительную сумму — семь-восемь миллионов долларов по одному Чикаго. Вместе с тем у них имеется актив в виде акций «Американской спички» и другого имущества, вполне достаточный, чтобы они могли продержаться при условии, если банки не потребуют покрытия задолженности. Но, как вам, вероятно, известно, акции сейчас падают и банки остро нуждаются в наличных средствах. Необходимо принять срочные меры. Досконально обсудив создавшееся положение, мы единодушно пришли к выводу, что полученные вами ссуды — это та статья актива, которая может быть наиболее быстро реализована банками. Мистер Шрайхарт, мистер Мэррил, мистер Хэнд и я до последней минуты делали все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, но теперь нам стало известно, что кто-то, получив в заклад от Хэлла и Стэкпола акции «Американской спички», усиленно выбрасывает их на рынок с целью посеять панику. У нас есть средства оградить себя от повторения подобных трюков (тут мистер Арнил посмотрел в упор на Каупервуда), но в настоящую минуту нам требуются наличные средства, а ссуды, полученные вами, — наиболее крупные и легко реализуемые из всех. Считаете ли вы возможным погасить их не позднее завтрашнего утра? Арнил умолк, не сводя тяжелого взгляда с Каупервуда, и только слегка помаргивал своими колючими голубыми глазками, а все прочие дельцы, словно стая голодных волков, в полной тишине пожирали глазами свою жертву, с виду еще жизнеспособную, но уже явно обреченную на заклание. Каупервуд, отчетливо сознавая, какой ненавистью и враждой он здесь окружен, бесстрашно оглянулся кругом. Он держал в руках свою соломенную шляпу и небрежно похлопывал ею по колену. Кончики его усов задорно и надменно топорщились. — Да, я могу погасить свои ссуды, — не задумываясь, отвечал он. — Однако не советую ни вам, ни кому-либо из присутствующих требовать, чтобы я их сейчас погасил. — В голосе его, невзирая на беспечный тон, каким сказаны были эти слова, прозвучали угрожающие нотки. — А почему, собственно, разрешите узнать? — спросил Хэнд, грузно поворачиваясь на стуле и мрачно глядя на Каупервуда из-под насупленных бровей. — Вы, думается мне, сослужили не очень-то хорошую службу Хэллу и Стэкполу? — Лицо его побагровело. — А потому, — сказал Каупервуд, улыбаясь и словно не замечая намека на его бесчестный трюк, — а потому, что я знаю, зачем созвано это совещание. Все эти джентльмены, которые сидят, словно воды в рот набрав, — просто пешки в ваших руках, мистер Хэнд, и в ваших, мистер Арнил, мистер Шрайхарт и мистер Мэррил. Я знаю, как вы спекулировали на акциях «Американской спички» и сколько вы на этом потеряли. А теперь, чтобы спасти себя от дальнейших потерь, вы решили принести меня в жертву. Так вот, имейте в виду, — тут Каупервуд поднялся, и его статная фигура теперь возвышалась над всеми, — вам это не удастся. Я не стану таскать для вас каштаны из огня, и сколько бы вы ни созывали своих приспешников на совещания, вам меня к этому не принудить. Хотите знать, что делать? Я вам скажу. Закройте завтра с утра чикагскую биржу и держите ее под замком в течение нескольких дней. Предоставьте Хэлла и Стэкпола их судьбе или поддержите их, у вас четверых хватит на это средств. А нет, так хватит у ваших банков. Но если завтра хоть одна из взятых мною ссуд будет востребована, прежде чем я пожелаю оплатить ее, я выпотрошу все банки в Чикаго. Вот тогда у вас действительно будет паника, такая, какая вам и не снилась. Всего наилучшего, джентльмены. Каупервуд вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них и быстро направился к двери, надевая на ходу шляпу. Он уже легко сбегал по широкой лестнице, предшествуемый лакеем, спешившим вниз, чтобы распахнуть перед ним парадную дверь, когда в зале мгновенное оцепенение сменилось взволнованными, негодующими возгласами. — Мошенник! — снова и снова гневно восклицал Нори Симс, возмущенный брошенным им в лицо вызовом. — Негодяй! — вторил ему мистер Блэкмен. — Где он награбил денег, чтобы так с нами разговаривать? Мистер Арнил тоже был до глубины души потрясен беспримерной наглостью Каупервуда! Однако сдержанная ярость последнего заставила его насторожиться: он чутьем понимал, что тут следует действовать осмотрительно. — Джентльмены, — сказал он, — я думаю, что нам следует решать этот вопрос с большим хладнокровием. Мистер Каупервуд, по-видимому, имеет в виду какие-то ссуды, которые могут быть востребованы по его указанию и о которых мне лично ничего неизвестно. Прежде чем что-либо предпринимать, надо узнать, в чем тут дело. Может быть, кто-нибудь из вас сообщит нам дополнительные сведения? Но никто ничего толком не знал, и, еще раз обсудив положение, все пришли к выводу, что следует соблюдать осторожность. Ссуды, полученные Фрэнком Алджерноном Каупервудом, востребованы не были.
Глава 50
Нью-Йоркский дворец
Крах «Американской спички» произошел на следующее утро, и событие это взбудоражило весь город, даже всю страну, и на долгие годы осталось в памяти жителей Чикаго. В последнюю минуту решено было не трогать Каупервуда, принести в жертву Хэлла и Стэкпола, закрыть фондовую биржу и временно приостановить заключение каких бы то ни было сделок. Это должно было до некоторой степени предохранить акции от дальнейшего падения и дать банкам дней десять передышки, в течение которых они могли привести в порядок свои пошатнувшиеся дела и принять меры на случай каких-либо неожиданностей. Само собой разумеется, что все мелкие биржевые спекулянты, любители ловить рыбу в мутной воде, рассчитывавшие поживиться во время биржевой паники, бесились и вопили, но вынуждены были сложить оружие перед лицом непоколебимого, как скала, правления биржи, покорной ему и раболепной прессы и несокрушимого союза крупных банкиров, возглавляемых могущественной четверкой. Председатели правлений банков торжественно заявляли, что это лишь «кратковременное затруднение»; Хэнду, Шрайхарту, Мэррилу и Арнилу пришлось основательно раскошелиться, чтобы защитить свои интересы, а финансовая мелюзга единогласно окрестила торжествовавшего победу Каупервуда «хищником», «грабителем», «пиратом» и всеми прочими оскорбительными наименованиями, какие только приходили ей на ум. Дельцы покрупнее вынуждены были признать, что они имеют дело с достойным противником. Неужели Каупервуд их одолеет? Неужели он станет вершителем судеб в финансовых кругах их родного города? Неужели он будет и впредь безнаказанно издеваться над ними в глаза и за глаза и нагло кичиться своей силой, выставляя на посмешище их слабость перед лицом всяких мелких сошек? — Что ж, приходится уступить! — заявил Хосмер Хэнд Арнилу, Шрайхарту и Мэррилу, когда совещание окончилось и все прочие разъехались по домам. — Похоже, что сегодня мы оказались биты, но что до меня, так я еще не свел с ним счеты. Сегодня он победил, да не вечно ему побеждать. Я буду бороться до конца. А вы, господа, можете присоединиться ко мне или остаться в стороне, как вам будет угодно. — Полно, полно! — горячо воскликнул Шрайхарт, дружески кладя руку на плечо Хэнду. — Весь мой капитал, до последнего доллара, в вашем распоряжении, Хосмер. Разумеется, этот проходимец не вечно будет праздновать победу. Я — с вами. Арнил, провожавший их до дверей, был сумрачен и молчалив. Человек, на которого он еще недавно смотрел сверху вниз, позволил себе оскорбить его самым бесцеремонным образом. Он не побоялся явиться сюда и диктовать свои условия финансовым тузам города! Наглый, самоуверенный, он высмеял их всех в лицо и без всяких околичностей послал к черту. Мистер Арнил хмурился и свирепел, чувствуя свое бессилие. — Посмотрим, — сказал он своим коллегам, — что покажет время. Пока мы связаны по рукам и по ногам. Этот кризис подкрался нежданно-негаданно. Вы говорите, Хосмер, что еще сосчитаетесь с этим субъектом? Ну и я тоже. Только нам придется выждать. Мы сломим Каупервуда, лишив его поддержки в муниципалитете, а этого мы добьемся, ручаюсь вам! Тут все высказали благодарность мистеру Арнилу за твердость и мужество, проявленные им в такую тяжелую минуту. Ведь как-никак, а всем им наутро предстояло распрощаться с кругленькой суммой в несколько миллионов долларов во избавление себя и банков от окончательного краха. Энсон Мэррил видел, что отныне ему придется вступить в открытую борьбу с Каупервудом, но, несмотря ни на что, этот человек даже теперь вызывал в нем восхищение своей отвагой. «Какая дерзость, какая уверенность в своих силах! — думал мистер Арнил. — Это лев, а не человек, у него сердце нумидийского льва». И он по-своему был прав.Вслед за вышеописанными событиями в Чикаго наступило некоторое затишье, отчасти потому, что до новых выборов было еще далеко; впрочем, состояние это более всего напоминало вооруженное перемирие между двумя враждующими лагерями. Шрайхарт, Хэнд, Арнил и Мэррил притаились и выжидали. Главной заботой Каупервуда было не дать своим врагам выбить у него из рук оружие на предстоящих выборах. Выборы в муниципалитет происходили в Чикаго каждые два года, а следовательно, до 1903 года, когда истекал срок концессий Каупервуда, они должны были состояться еще три раза. До сих пор Каупервуду удавалось побеждать своих врагов путем подкупа, интриг и обмана, но он знал, что чем дальше, тем труднее будет ему подкупать новых выборных лиц. На место угодливых, продажных олдерменов, которые сейчас пляшут под его дудку, могут быть избраны другие, — если и не более честные, то более тесно связанные с враждебным ему лагерем, и тогда добиться продления концессий будет нелегко. А от этого зависело все. Каупервуд должен был во что бы то ни стало продлить концессии на двадцать лет, а еще лучше — на пятьдесят, чтобы осуществить все свои гигантские замыслы: собрать коллекцию произведений искусств, построить новый дворец, окончательно укрепить свой финансовый престиж, добиться признания в свете и, наконец, увенчать все это союзом (в той или иной форме) с единственной особой, достойной разделить с ним престол. Весьма поучительно наблюдать, как честолюбие может заглушить все остальные движения человеческой души. Каупервуду уже стукнуло пятьдесят семь лет. Он был сказочно богат, имя его приобрело известность не только в Чикаго, но и далеко за его пределами, и все же он не чувствовал себя у цели своих стремлений. Он еще не достиг того могущества, каким обладали некоторые магнаты Восточных штатов или даже пресловутая четверка крупнейших чикагских миллионеров, которые упорно множили свой капитал и получали чудовищные прибыли. Наживать деньги теми способами, какими они это делали, казалось Каупервуду чрезмерно скучным занятием. Почему, спрашивал он себя, ему вечно приходится наталкиваться на такое бешеное противодействие, почему он уже не раз видел себя на краю гибели? Не потому ли, что его считают безнравственным? Но ведь и другие не лучше. Большинство людей безнравственно вопреки религиозной догме и дутой морали, навязанной им сверху. Быть может, дело в том, что он не умеет верховодить исподтишка, не подавляя других своей личностью, и слишком мозолит всем глаза? Порой он думал, что это именно так. Все эти люди, скованные условностями, отупевшие от тоскливого однообразия своей жизни, не могли простить ему его вызывающего поведения, его беспечного пренебрежения к их законам, его упрямого стремления называть вещи своими именами. Высокомерная вежливость Каупервуда многих бесила, многими воспринималась как насмешка. Его холодный цинизм отталкивал от него робких. Если у Каупервуда не было недостатка в вероломстве, то в умении носить маску и льстить он уступал многим. А главное — он не находил нужным переделывать себя. Однако он еще не достиг исполнения всех своих честолюбивых замыслов, не сделался еще финансовым королем, не мог еще померяться силами с капиталистами Восточных штатов — акулами Уолл-стрит. А пока он не стал с ними в ряд, пока не построил свой дворец, всем на зависть и на диво, пока не создал свою коллекцию, которая прославит его на весь мир, пока у него нет Беренис, нет желанного количества миллионов — как мало он еще достиг в сущности. Нью-йоркский дворец должен был, отразив как в зеркале характер, вкусы и мечты Каупервуда, увенчать собой все его достижения последних лет. Вкусы с годами меняются; ни модернизованная готика его старого филадельфийского дома, ни архитектурный стиль его особняка на Мичиган авеню — традиционное подражание французскому средневековому зодчеству — не могли уже удовлетворить Каупервуда. Только итальянские палаццо эпохи Ренессанса, которыми он любовался во время своих путешествий по Европе, отвечали теперь его представлению о пышной и величественной резиденции. Он хотел создать не просто жилой дом по своему вкусу, а нечто, рассчитанное на века, — дворец-музей, который увековечил бы его в памяти потомства. После долгих поисков ему удалось, наконец, найти в Нью-Йорке архитектора, внушившего ему доверие. Реймонд Пайн, гуляка, повеса, прожигатель жизни, был подлинным художником, с тонким чутьем ко всему изысканному и прекрасному. Вдвоем с этим человеком Каупервуд проводил дни за днями, размышляя над мельчайшими деталями своего будущего дворца-музея. Западное крыло дворца должна была занимать огромная картинная галерея; скульптуре и другим произведениям искусства отводилось южное крыло. Оба эти крыла образовывали как бы букву «Г», центр которой занимало основное здание, собственно жилой дом Каупервуда. Весь ансамбль строился из бурого песчаника, богато украшенного барельефами. Уже производились заказы на мрамор, зеркала, шелк, гобелены, редчайшие, драгоценные сорта дерева для внутренней отделки комнат. В главном здании все комнаты располагались с таким расчетом, чтобы окна выходили во внутренний дворик или зимний сад, окруженный воздушной колоннадой из белого с розовыми прожилками алебастра. В центре сада помещался фонтан из алебастра и серебра, а вдоль восточной стены предполагалось повесить жардиньерки с орхидеями и другими живыми цветами. Освещенные утренним солнцем, они должны были создавать эффектную игру красок в этом искусственном раю. На втором этаже одна из комнат была облицована тончайшим мрамором, передававшим все оттенки цветущих персиковых деревьев; за этими прозрачными мраморными стенами скрывался невидимый источник света. Здесь, как бы в лучах никогда не меркнущей зари, должны были висеть клетки с заморскими птицами, а меж каменных скамей виться виноградные лозы, отражаясь в зеркальной поверхности искусственного водоема, и звучать далекие, как эхо, переливы музыки. Пайн уверял Каупервуда, что когда тот умрет, эта комната послужит отличным местом для устройства выставки фарфора, нефритов, изделий из слоновой кости и прочих художественных ценностей. Каупервуд уже начал перевозить свое имущество в Нью-Йорк и уговорил Эйлин сопровождать его. Непревзойденный мастер по части изворотливости и обмана, он с присущим ему бесстыдством уверял ее, что в Нью-Йорке они заживут совсем по-другому и даже будут приняты в обществе. Он стремился к супружескому миру с единственной целью сделать свой переезд в Нью-Йорк как можно более легким и приятным. А потом он добьется развода или каким-либо иным путем достигнет намеченной цели.
Об этих планах Каупервуда Беренис Флеминг, конечно, ничего не подозревала. Однако постройка великолепного дворца привлекла в конце концов ее внимание к финансисту. Оказывается, этот холодный делец может быть вместе с тем и ценителем прекрасного! До сих пор она считала его просто выскочкой, который явился с Запада к ним на Восток и, пользуясь добротой ее матери, старается хоть немного приобщиться к светской жизни. Но теперь то, что говорила о нем миссис Картер, превозносившая его на все лады как человека незаурядного, с огромным будущим, каждый день получало новое и все более блистательное подтверждение. Этот дворец, о котором кричали все газеты, будет поистине чем-то из ряда вон выходящим. Как видно, Каупервуды всерьез решили проникнуть в нью-йоркские салоны. — Жаль, что он не развелся со своей женой, прежде чем затевать все это, — сказала как-то миссис Картер дочери. — Боюсь, что их не станут принимать. Будь около него другая женщина, а не эта особа… — Миссис Картер с сомнением покачала головой; она как-то раз видела Эйлин в Чикаго. — Нет, нет, ему нужна не такая жена. У этой нет ни вкуса, ни манер, — изрекла она свой приговор. — Если ему так плохо с ней, — задумчиво промолвила Беренис, — почему он ее не оставит? Быть может, она была бы даже счастливее без него. Это глупо — жить как кошка с собакой. Впрочем, раз она сама так заурядна, ей, вероятно, не хочется терять свое положение при нем. — Он женился на ней лет двадцать назад, — сказала миссис Картер, — когда был, как я понимаю, совсем другим человеком. Она не то чтобы уж очень вульгарна, но ей не хватает такта и ума. Она не в состоянии понять, что ему нужно. Я ненавижу эти неравные браки,но, к сожалению, они встречаются на каждом шагу. Надеюсь, Беви, что ты выйдешь замуж за человека, который будет тебе подстать. Впрочем, я готова видеть тебя за кем угодно, лишь бы не за бедняком. Этой беседой завершился завтрак в доме на южной стороне Сентрал-парка; за окнами меж деревьев парка поблескивало озеро, золотясь в солнечных лучах. Беренис в зеленом платье, отделанном старинными кружевами, просматривала светскую хронику в утренних газетах. — Да, конечно, уж лучше быть несчастной с деньгами, чем без них, — уронила она небрежно, не подымая головы. Миссис Картер с обожанием смотрела на дочь, чувствуя ее высокомерное превосходство. Что ждет ее впереди? Успеет ли она вовремя выйти замуж? До сих пор ушей Беренис еще не коснулись слухи о том, какую жизнь вела ее мать в Луисвиле. Пока те, кто знал тайну миссис Картер, относились к этой даме доброжелательно и держали язык за зубами. Но как поручиться за всех? Разве не была она на краю гибели, когда на ее пути появился Каупервуд? — Видимо, мистер Каупервуд не просто денежный мешок, — задумчиво произнесла Беренис. — Большинство этих западных богачей так нестерпимо глупы и пошлы. — Моя дорогая! — с жаром воскликнула миссис Картер, которая успела стать самой горячей поклонницей своего тайного покровителя. — Ты совершенно не понимаешь его. Говорю тебе, это человек удивительный, необыкновенный! Мир еще услышит о Фрэнке Алджерноне Каупервуде. Ведь в конце-то концов должен же кто-то заниматься добыванием денег! Без денег, моя дорогая, тоже далеко не уедешь! Одного хорошего воспитания еще мало. Уж я-то знаю, до чего может довести человека бедность… Видела я кое-кого из наших друзей, впавших в нищету.
На лесах, окружавших дворец Каупервуда, знаменитый скульптор работал со своими помощниками над греческим фризом, изображавшим пляшущих нимф, оплетенных цветочными гирляндами. Миссис Картер и Беренис проходили мимо и остановились поглядеть. К ним подошел Каупервуд. Указывая на высеченные в камне фигуры, он сказал, как всегда весело и непринужденно, обращаясь к молодой девушке: — Скульптору следовало бы взять вас за образец, тогда фриз лучше удался бы ему. — Вы льстите мне, — ответила Беренис, внимательно оглядывая его своими холодными синими глазами. — Фриз очень красив. — Несмотря на свое предубеждение против Каупервуда, Беренис начинала думать, что он, подобно ей, благоговеет перед святыней искусства. Каупервуд смотрел на нее молча. — Этот дом — всего лишь музей для меня, — сказал он негромко, когда миссис Картер отошла в сторону. — Но я постараюсь, чтобы он был действительно хорош. Если он не принесет радости мне, пусть принесет ее кому-нибудь другому. Беренис задумчиво поглядела на него, и он улыбнулся. Она поняла, — он хотел поведать ей о своем одиночестве.
Глава 51
Воскрешение Хэтти Стар
Беренис Флеминг на деньги Каупервуда вела жизнь веселую и беспечную, нимало не задумываясь над своим будущим. Каупервуд был щедр. — Беренис молода, — снисходительно-великодушным тоном сказал он как-то раз миссис Картер, когда речь зашла о судьбе ее дочери. — Это редкий, изысканный цветок. Так пусть себе цветет, не зная печали. Потом она сделает хорошую партию и возместит вам все расходы… а вы — мне. Сейчас же нужно, чтобы она ни в чем не знала отказа. — И он подписывал чеки с видом садовода-любителя, выращивающего диковинную орхидею. Миссис Картер, со своей стороны, смотрела на дочь как на редкостное произведение искусства, как на будущую звезду нью-йоркских салонов; она готова была душу заложить дьяволу, лишь бы хорошо устроить ее судьбу. Но для того чтобы жить на широкую ногу, нужны были деньги, и миссис Картер отдалась на милость Каупервуда, сознательно закрывая глаза на то, что ставит этим и себя и своих близких в чрезвычайно двусмысленное положение. — О, как вы добры! — не раз говорила она Каупервуду, и взор ее увлажнялся слезами благодарности. — Я никогда не думала, что на свете могут быть такие люди, как вы. Но Беви… — Эстет всегда останется эстетом, — прерывал ее Каупервуд, — а я принадлежу к этой довольно редкой породе. Я не хочу, чтобы заботы коснулись создания столь совершенного, как ваша дочь. Ей суждено большое будущее. Заметив в свите Беренис новое лицо — лейтенанта Брэксмара, — миссис Картер повела себя совсем неосмотрительно: она стала надоедать дочери беспрестанными упоминаниями о нем, пытаясь снискать ее доверие. Спору нет, на Брэксмара стоило обратить внимание. Отпрыск старинной семьи, занимавшей прекрасное положение в обществе (качество весьма ценное в глазах Беренис), он был молод, статен, красив, неглуп и даже начитан, в меру весел и в меру меланхоличен, превосходно танцевал и отличался прекрасными манерами. Беренис встретилась с ним на балу, и молодой офицер в красивой морской форме, танцевавший с отменной легкостью, с первого взгляда произвел на нее впечатление. — Вы прекрасно танцуете, — сказала ему Беренис. — Можно подумать, что у вас балы сменяются балами, покуда корабль носит вас по волнам океана. — И даже, когда он идет ко дну, — шутливо ответил лейтенант. — Шторм иной раз доходит ведь и до десяти баллов, разве вы не знаете? — О, какой ужасный каламбур, — воскликнула Беренис. — Хуже быть не может! — Вовсе нет. Я могу придумать и похуже. — Ну только не в моем присутствии, — возразила она. — Я все равно не стану слушать. — И они продолжали порхать, скользить и кружиться. После танцев он снова подошел к ней и сел рядом. Потом они гуляли при луне, и молодой моряк рассказывал Беренис о своей жизни на корабле, о своем доме в Южных штатах, о друзьях и знакомых. Миссис Картер, которая уже заметила, что лейтенант весь вечер не отходит от Беренис, наутро сказала дочери: — Мне понравился этот молодой моряк, Беви. Я знаю кое-кого из его родственников. Они из Каролины. Его ждет большое наследство, он из очень богатой семьи. Ты, кажется, произвела на него впечатление, детка? — Не знаю, может быть… по-видимому, да, — небрежно ответила Беренис, слегка раздосадованная таким проявлением материнской заботы. Ей нравилось плыть по течению, наблюдая жизнь как бы сквозь легкую призрачную дымку, и манера ставить точки над «i» была ей не по нутру. — Впрочем, мне кажется, что он настолько поглощен своими кораблями, что едва ли может всерьез интересоваться чем-нибудь другим. У него на уме одни только крейсера. Беренис скорчила насмешливую гримаску, и миссис Картер рассмеялась. — Ах ты, плутовка! Нет мужчины, который бы не увлекся тобой. Так, значит, нечего и надеяться, что лейтенант Брэксмар может тебе понравиться? — Что за странный вопрос! Почему вы это спрашиваете, мама? Разве так необходимо, чтобы он мне понравился? — Нет, нет, конечно! Никакой необходимости в этом нет, — поспешила успокоить ее миссис Картер. Она помолчала, собираясь с духом, прежде чем выполнить то, что считала своим родительским долгом. — И все же, Беви, подумай о том, какая это прекрасная партия. Брэксмар из хорошей семьи, наследник огромного состояния… Ах, Беви, я не хочу торопить тебя. Упаси меня бог испортить тебе жизнь! Но прошу, подумай о своем будущем. Для тебя, с твоими вкусами и наклонностями, деньги — это так важно. А где же их взять, если ты не выйдешь замуж за богатого человека? Твой отец был так беспечен, а отец Ролфа — и того хуже. И миссис Картер глубоко вздохнула. Впервые в жизни Беренис пришлось задуматься над этим прозаическим вопросом, а заодно и над лейтенантом Брэксмаром. Мыслимо ли это — взять его себе в спутники жизни, следовать за ним по свету, быть может переселиться на юг? Но сколько она ни думала, решиться ни на что не могла. Наставления миссис Картер только испортили все дело, придав ему какой-то неприятный привкус. Правду сказать, в эти часы раздумий мысли Беренис не раз обращались к Каупервуду. Что-то в этом коммерсанте, дельце и стяжателе привлекало к себе Беренис. Ей припомнились его слова о том, что новый дом для него — лишь музей, припомнилось, как он молча взглянул ей в глаза, и она сразу поняла значение его взгляда; мелькнула мысль о его богатстве… Но Каупервуд был стар, да к тому же женат, значит нечего было о нем и думать, а Брэксмар — молод и привлекателен. Но как бестактно со стороны матери намекать ей, что она должна проявить к нему внимание! После этого Брэксмар стал ей почти неприятен. Неужели же их дела так плохи? Теперь ей припомнилось многое, чему она раньше не придавала значения. Так, незадолго до ее встречи с Брэксмаром она гостила в Реддинг-Хилл, поместье, принадлежащем семейству Корскейден-Бэтджер на Лонг-Айленде, и как-то утром сидела с хозяйкой дома в гостиной, откуда открывался прелестный вид на голубевший далеко внизу залив. Миссис Фредерика Бэтджер, свежая, полная, белокурая, невозмутимо-спокойная, казалась ожившим портретом работы какого-то фламандского мастера. В серебристо-сером шелковом капоте, причесанная на старинный лад, она занималась рукоделием, держа на коленях соломенную корзиночку с образцами норвежских вышивок. — Беви, — сказала миссис Бэтджер, — вы помните Килмера Дьюэлма? Он, кажется, тоже был у Хэггерти прошлым летом, когда вы у них гостили? Беренис за маленьким чиппендейловским столиком писала письмо и при этих словах подняла голову. Молодой человек, о котором шла речь, на мгновение предстал ее взору. Килмер Дьюэлма — высокий, грузный, фатоватый, одетый с нарочитой небрежностью и всегда по последней моде, с искусственно развинченной походкой, с ленивыми томными движениями, с толстыми красными щеками и бессмысленным взором… Этот молодой человек обладал удивительной способностью повторять чужие слова самым неожиданным и нелепым образом. Младший из двух сыновей Огаста Дьюэлма, банкира, предпринимателя, архимиллионера, он готовился унаследовать недурной капитал, в шесть-восемь миллионов долларов. Год назад в имении Хэггерти Килмер Дьюэлма не отходил от нее ни на шаг. Миссис Бэтджер с любопытством посмотрела на Беренис; потом снова взялась за рукоделье. — Я пригласила его к нам на конец недели, — сказала она. — Да? — вежливо отозвалась Беренис. — Будет еще кто-нибудь? — Вероятно, — уклончиво отвечала миссис Бэтджер. — А сам Килмер, по-видимому, не особенно интересует вас? Беренис улыбнулась. Эту улыбку можно было истолковать как угодно. — Вы помните Клариссу Фолкнер, Беви? — спросила миссис Бэтджер. — Она вышла замуж за Ромулуса Гэррисона. — Разумеется, помню. Где она теперь? — Они сняли на зиму замок Бриэль в Арсе. Ромулус, конечно, глуповат, но у Клариссы ума достанет на двоих. Она пишет, что они принимают очень широко. К ним съезжаются сливки парижского и лондонского общества. Я так за нее рада, воображаю, как она счастлива теперь. А было время, когда ее судьба внушала мне тревогу. Беренис мгновенно поняла намек, но не подала виду. Что ж, миссис Бэтджер права. Каждый должен вовремя подумать о своем будущем. Беренис впервые ощутила тягостное чувство необходимости. В пятницу, ровно в полдень, прибыл Килмер Дьюэлма, с чемоданами, портпледами, баулами и саквояжами, с собственным лакеем и чудовищным энтузиазмом к игре в поло и охоте — недугами, которыми он заразился от своих приятелей. Искусно составленный комплимент, исходивший якобы от Беренис и тактично преподнесенный ему миссис Бэтджер, направил его рассеянное внимание на девушку, после чего она удостоилась приглашения прокатиться верхом на Сэдл-Рок. — Хо! Хо! Я просто в восторге, знаете ли, что встречаю вас снова. Хэггерти я не видел уже целую вечность. Мы там все жалели, когда вы уехали. Хо! Хо! Особенно я, знаете ли. Я теперь занялся поло, — куда бы ни поехал, тащу с собой своих пони. Хо! Хо! У меня их три штуки, целая конюшня! Беренис мужественно старалась сохранять серьезность и проявлять интерес. Ее не покидало чувство необходимости, преследовали неотвязные мысли о замке Бриэль, о приемах Клариссы Гэррисон. Впервые появилось ощущение, что время-то уходит… Но поездка верхом была нестерпимо скучна, разговор не клеился, титанические попытки найти общий язык оказались тягостны и бесполезны. В понедельник Беренис не выдержала и уехала на всю неделю в Морристаун. Миссис Бэтджер, которая умела понимать без слов, только вздохнула. Ее собственный спутник жизни тоже мало чем мог похвалиться, кроме денег, но, что поделаешь, нужно ведь как-то устраивать свою жизнь, и тем, кто наделен честолюбием, необходимо обладать еще и богатством — унаследованным или добытым собственным умом. Какая-нибудь ловкая вульгарная девчонка подцепит этого Дьюэлма, и тогда… Миссис Бэтджер находила, что Беренис, пожалуй, чересчур разборчива. Теперь старания миссис Картер, ратовавшей за лейтенанта Брэксмара, заставили Беренис вспомнить свой разговор с миссис Бэтджер. Сделав неожиданное открытие, что они с матерью не располагают крупными средствами и что только происхождение открывает им доступ в общество, Беренис почувствовала себя в каком-то смысле самозванкой, и это ее злило, и тревожило, и беспрестанно бередило ей душу. Теперь она понимала, почему ей никогда не приходилось слышать в свете разговоров о своем богатстве, улавливать за своей спиной почтительный шепоток, столь лестный для каждой богатой наследницы. Все эти светские юнцы, эти самодовольные, разряженные манекены, конечно, предпочтут ей какую-нибудь безмозглую куклу с длинным банковским счетом. Беренис, изнеженная сибаритка, влюбленная в роскошь, в успех, желавшая повелевать, рисовала себе свое будущее свободным от всяких житейских забот, протекающим в атмосфере поклонения искусству. Но для такой жизни требовались прежде всего деньги, и притом немалые. Вместе с тем Беренис смутно лелеяла надежду, что она встретит на своем пути человека, который полюбит ее глубоко, и, если он будет достоин ее любви или хотя бы уважения, она выйдет за него замуж с радостью и охотой. Но где же этот человек? Брэксмар был очень мил, однако трезвый, холодный ум Беренис требовал другого; ей нужен был человек сильный, решительный, даже беспощадный, который бы подчинил ее своей воле. Вместе с тем она понимала, что следует быть благоразумной, следует делать ставку только наверняка, без риска проиграть. Летом в Наррагансете Каупервуду недолго пришлось тревожиться из-за присутствия лейтенанта Брэксмара, так как молодой моряк вскоре получил срочное назначение и спешно отбыл в Хэмптон-Родс. Однако осенью, когда Каупервуд, бросив все свои разнообразные и сложные дела, примчался из Чикаго в Нью-Йорк и явился в дом на южной стороне Сентрал-парка, он, к своей великой досаде, снова застал там лейтенанта Брэксмара. В полной парадной форме, оживленный, стройный молодой моряк прибыл, чтобы сопровождать Беренис на бал. Его золотые погоны сверкали, плащ на красной шелковой подкладке развевался за плечами, кортик позвякивал на боку, юное лицо, увенчанное высокой морской фуражкой, сияло красотой и свежестью. Словом, лейтенант Брэксмар казался воплощением победоносной молодости. Обстоятельства складывались явно не в пользу Каупервуда. Внезапно он остро ощутил свой возраст рядом с неотразимым обаянием юности, к тому же овеянной таким романтическим ореолом, и почувствовал себя лишним. Он жестоко страдал в эту минуту. Беренис была обворожительна в облаке газовых оборок и воланов. Сидя в соседней комнате и делая вид, что просматривает газеты, Каупервуд наблюдал в открытую дверь за нею и лейтенантом Брэксмаром и раза два даже вздохнул украдкой. Увы, удастся ли ему, даже ему, при всем его уме и хитрости, помешать естественному течению событий? Сумеет ли он привлечь к себе сердце такой юной девушки? Брэксмар был молод, красив, обладал отменными манерами… В тот вечер, собираясь на бал, Беренис была необычайно весела. Жизнь так и била в ней ключом, в ее глазах светились мечты, надежды. Каупервуд поспешил проститься, сославшись на неотложные дела, и уехал. Но не дела были у него на уме, когда, вернувшись в гостиницу, он погрузился в размышления. Человек заурядный, попав в столь щекотливое положение, скорей всего смирился бы перед силой обстоятельств и, движимый такими высокими, но старомодными побуждениями, как рыцарство, самопожертвование и тому подобное, уступил бы дорогу молодости, утешаясь сознанием исполненного долга. Каупервуд не смотрел на вещи с таких высоконравственных и альтруистических позиций. «Мои желания прежде всего» — было его девизом; он не собирался складывать оружие, пока оставалась хоть малейшая надежда на успех. Временами он чувствовал, что между ним и Беренис возникало что-то — едва уловимые намеки на возможность сближения, — и это вселяло в него уверенность, что он ей не так уж чужд. Однако новой опасностью, возникшей в лице лейтенанта Брэксмара, не следовало пренебрегать. Каупервуд убедился в этом после разговора с миссис Картер. Если Беренис и не была увлечена Брэксмаром, то сам Брэксмар был от нее без ума. — Не успел он уехать, как начал бомбардировать ее письмами, — рассказывала миссис Картер. — Мне кажется, он принадлежит к разряду тех мужчин, против которых не может устоять ни одна женщина. — Очень счастливый разряд, — процедил Каупервуд сквозь зубы. Миссис Картер горела желанием посоветоваться со своим покровителем. У Брэксмара прекрасное будущее, великолепные связи. После смерти отца он унаследует огромное состояние. А ну, как ее луисвильские грешки выплывут наружу, что тогда? Не лучше ли поскорее выдать Беренис замуж, пока не стряслось какой-нибудь беды? — Вопрос серьезный, — сказал Каупервуд спокойно. — А вы уверены, что она любит этого молодого человека? — Ну, не знаю… сказать трудно, но ведь любовь часто приходит потом. Беренис не из тех, кто легко теряет голову. Она для этого слишком благоразумна. Кроме того, она понимает, что ей нужно устроить свою судьбу, а мистер Брэксмар — отличная партия. Я знакома с его родственниками — Клиффорд-Портерами. Каупервуд сдвинул брови. Это просто несносно — столько беспокойства, столько тревог из-за какой-то девчонки! Он чувствовал, что должен во что бы то ни стало завладеть ею, хотя бы для этого пришлось ее скомпрометировать. Он скорее готов был опозорить ее, чем уступить другому. Обстоятельства, однако, избавили Каупервуда от осуществления столь мрачного замысла. Перенесемся в зал ресторана в одном из больших нью-йоркских отелей. Время — полночь. Каупервуд пригласил миссис Картер, Беренис и лейтенанта Брэксмара провести с ним вечер. Вся компания приехала сюда поужинать прямо из оперы. Каупервуд выступает в роли хлебосольного хозяина и доброго, бескорыстного наставника. Обдумывая про себя различные способы освободиться от неугодной ему особы лейтенанта Брэксмара, он тем не менее держится крайне обходительно, учтиво и с почтительным вниманием относится к Беренис. Он выжидает, как Мефистофель. В опере он внимательно наблюдал за миссис Картер и Беренис, которые сидели в первом ряду ложи в ослепительных туалетах — не для того ли и опера, чтобы щеголять нарядами? Миссис Картер была в лимонно-желтом шелку и в бриллиантах, Беренис — в пурпурном и бледно-розовом, с жемчужным гребнем в волосах. Лейтенант Брэксмар, в роскошной парадной форме, болтал, улыбался, хвалил исполнителей, шептал Беренис комплименты на ухо или, в свободную минуту, обращал внимание Каупервуда на кого-нибудь из своих знакомых. Из оперы по ненастным ветреным улицам они поехали в отель «Уолдорф», где для них был уже приготовлен столик, и Каупервуд, заказав ужин, снова мысленно вернулся к музыке, которую они только что слушали. Это была «Богема», и он заговорил о смерти Мими и скорби Родольфо, воплощенных в бессмертных мелодиях Пуччини. — Этот искусственный театральный мирок, быть может, очень далек от жизни настоящих художников и поэтов, но драма безусловно очень жизненна, — заметил Каупервуд. — Вот об этом, право, не берусь судить, — сказал Брэксмар серьезно. — Все мои познания по части богемы почерпнуты только из книг. «Трильби», например, и… — Не придумав ничего другого, он прибавил: — В Париже, вероятно, можно познакомиться с этим миром поближе. Он взглянул на Беренис, ища поддержки, и был награжден улыбкой. Беренис, непосредственная и впечатлительная, слушая музыку, забывала минутами обо всем. Захваченная красотой мелодий, то веселых, то печальных, но всегда находивших глубокий отклик в ее душе, она грезила, уронив руки на колени, устремив неподвижный взор на сцену, а Брэксмар и Каупервуд смотрели на ее тонкий профиль, на чуть приоткрывшийся, как у ребенка, рот, и оба испытывали волнение и восторг. Очнувшись от своих грез, Беренис заметила, что за ней наблюдают, и с минуту продолжала сохранять ту же позу, затем глубоко вздохнула, как бы очнувшись от сна. Сейчас ей припомнилось это, а затем воскресло и ощущение, которое пробуждала в ней музыка. — Мне очень понравилась опера, — сказала она. — Не знаю, похоже ли это на жизнь художников и поэтов, но на жизнь вообще это, конечно, похоже. Право же, эта печальная история лучше, красивей, чем унылое благополучие. Жизнь по-настоящему красива лишь тогда, когда в ней заложена трагедия. Она взглянула на Каупервуда и встретила его внимательный испытующий взгляд, потом перевела глаза на Брэксмара, и он в ту же секунду увидел себя на капитанском мостике, отдающим распоряжения команде в момент жаркого морского боя. Каупервуду тоже невольно припомнилось, как тернист был его путь. Ну, в его жизни, кажется, недостатка в трагическом не было — такая жизнь могла бы заинтересовать Беренис. — Не скажу, чтобы меня так уж привлекали трагедии, — возразила миссис Картер. — Печальные истории в книгах или на сцене нагоняют на меня тоску. В жизни и без того немало драм. Каупервуд и Брэксмар улыбнулись. Беренис задумчиво смотрела по сторонам. Переполненный людьми зал, снующие между столиками официанты, звон тарелок и бокалов, прорывающийся сквозь гром и треск оркестра, — все это отвлекало ее внимание; она кивала и улыбалась знакомым, которые приветствовали ее и Брэксмара, скользя любопытным взглядом по Каупервуду. Неожиданно неподалеку от их столика, на пороге бара, возникла пьяная фигура: смятая манишка топорщилась на груди, накидка сползала с плеч, цилиндр был лихо заломлен набок, глаза налиты кровью, нижняя губа надменно выпячена и на всем лице написано то беспечно-наглое и вызывающее «а мне море по колено», которое столь присуще пьяным гулякам. Субъект этот обвел зал мутным взглядом и нетвердой походкой устремился в сторону Каупервуда и его гостей. По всему было видно, что он хватил лишнего и не вполне отдает себе отчет в своих поступках. Подойдя ближе, он приостановился, словно узнав кого-то из сидевших за столиком, шагнул вперед — к этому времени он уже успел привлечь к себе внимание всего зала — и с небрежно-снисходительным видом положил руку на обнаженное плечо миссис Картер. — Да это ты, Хэтти! Как поживаешь? — воскликнул он, весело подмигивая и ухмыляясь. — Что ты делаешь в Нью-Йорке, моя дорогая? Неужто так-таки и бросила свое дельце в Луисвиле? Знаешь, что я тебе скажу? С тех пор как ты нас покинула, у меня не было ни одной приличной девочки — ни единой. Если ты откроешь домик здесь, извести меня. Идет? Самодовольно и покровительственно улыбаясь, он склонился над миссис Картер, роясь в кармане своего белого жилета, ища, как видно, визитную карточку. Каупервуд и Брэксмар, для которых смысл его слов был достаточно ясен, одновременно вскочили на ноги. Миссис Картер делала безуспешные попытки отделаться от назойливого пьяницы, когда Брэксмар — он стоял к нему ближе, чем Каупервуд, — схватил его за плечо. Два официанта, предводительствуемые метрдотелем, уже спешили к их столику. — Что случилось? Что сделал этот джентльмен? — спросил метрдотель. Но обидчик, кидая вокруг презрительные взгляды, громко воскликнул: — Руки прочь! Вы кто такой? Какого черта вы лезете не в свое дело? Думаете, я не понимаю, что говорю? Спросите ее, она меня знает. Верно, Хэтти? Это же Хэтти Стар из Луисвиля. У нее был самый шикарный дом свиданий в городе. Чего это вы все переполошились? Я соображаю, что делаю. Видите, она меня помнит. Он не только кричал, но и вырывался, и притом весьма решительно. Однако Каупервуд и Брэксмар с помощью официантов образовали вокруг наглеца своего рода кордон и вытеснили его из ресторана в коридор, оттуда — в вестибюль и тотчас вызвали полицию. — Немедленно арестуйте этого человека, — потребовал Каупервуд, как только появился полисмен. — Он грубо оскорбил даму — мою гостью. Он пьян и крайне нагло и непристойно ведет себя в общественном месте, я требую, чтобы его привлекли к ответственности. Вот моя карточка. Пожалуйста, известите меня, куда я должен явиться. — Он протянул карточку полисмену, а Брэксмар, с воинственным видом разглядывавший незнакомца, сказал: — Я бы с превеликим удовольствием переломал вам кости. Не будь вы пьяны, я бы так и сделал. Если вы порядочный человек и у вас есть визитная карточка, прошу дать ее мне. Я хочу поговорить с вами, когда вы протрезвитесь. — Он шагнул к незнакомцу, и мистер Билз Чэдси из Луисвиля увидел устремленный на него холодный и весьма решительный взгляд. — Ладно, ладно, капитан, — насмешливо осклабился Чэдси. — Не беспокойтесь, у меня есть карточка. Сейчас найду. Можете наведаться ко мне в любое время — отель «Букингэм», угол Пятидесятой и Пятой. Кажется, я имею право разговаривать с кем хочу, когда хочу и где хочу. Понятно? Он рылся по всем карманам, продолжая протестовать, а полисмен стоял рядом и ждал, чтобы взять его под стражу. Так как поиски не увенчались успехом, мистер Чэдси заявил: — Ладно, черт с ней. Записывайте так. Билз Чэдси из Луисвиля, штат Кентукки, отель «Букингэм». Найдете меня там в любое время. Это Хэтти Стар. Она меня знает. А уж я-то ее ни с кем не спутаю, будьте покойны. Мало, что ли, ночей провел я в ее доме. Брэксмар готов был броситься на него с кулаками, но тут вмешался полисмен. Беренис и миссис Картер все еще сидели за столиком в ресторане. Миссис Картер была бледна, ошеломлена, растеряна; все ее попытки скрыть истину выглядели жалко и неубедительно. — Нет, подумать только! — твердила она снова и снова. — Какая наглость! Какой ужас! Кто этот человек? Я впервые в жизни его вижу. Беренис тоже была смущена и расстроена; насмешливая фамильярность, с какою этот забулдыга обратился к ее матери, не шла у нее из головы. Какой стыд! Какой позор! Может ли быть, чтобы человек, даже во хмелю, мог допустить такую ошибку? И этот негодяй держался так уверенно, так вызывающе. Он ничуть не смутился, когда у него потребовали объяснений. Какие чудовищные вещи он говорил! — Успокойтесь, мама, — сказала Беренис мягко и с достоинством. — Все это вздор, не обращайте внимания. Поедемте домой. Дома вы сразу почувствуете себя лучше. Беренис подозвала официанта и попросила его передать джентльменам, которые с ними ужинали, что они уезжают. Потом встала, отодвинула стоявший на пути матери стул и подала ей руку. — Нет, подумать только, какое оскорбление! — бормотала миссис Картер. — В публичном месте, в присутствии лейтенанта Брэксмара и мистера Каупервуда! Ужасно! Неслыханно! Она продолжала стонать и причитать, Беренис вела ее под руку. Девушка держалась с большим достоинством; уходя, она окинула взором зал; лицо ее было презрительно и надменно, но сердце сжималось холодной тоской. Какая доля истины крылась в этих постыдных утверждениях? Почему из всех находившихся в ресторане дам этот пьяный скандалист избрал именно ее мать для своих отвратительных разоблачений? Почему мать ее так сражена, так пала духом, если в его словах не было ни крупицы правды? Все это было очень странно, очень печально, очень страшно. Что скажет свет? О, она знала наперед, как обрадуются все охотники до сплетен, какие начнутся толки и пересуды. Впервые в жизни Беренис ощутила, что значит попасть в разряд парий, — как это страшно! На другое утро лейтенант Брэксмар явился в полицейский участок, где пребывал злополучный мистер Чэдси, и заявил, что всадит ему пулю в живот, если с его стороны немедленно не последует удовлетворительного извинения, после чего в доме помер 36 на южной стороне Сентрал-парка было получено следующее письмо, написанное на почтовой бумаге отеля «Букингэм» и адресованное миссис Айра Джордж Картер:«Мадам! Вчера вечером, находясь в состоянии непозволительного опьянения, которому нельзя подыскать никаких оправданий, я, к своему безмерному отчаянию, позволил себе оскорбить Вас и задеть чувства Вашей дочери и Ваших гостей, в чем и приношу ныне самые униженные извинения. Невозможно выразить словами, как сожалею я о своих вчерашних поступках, которых, увы, решительно не могу теперь припомнить. Стоит мне напиться, как я начинаю буйствовать и искать ссор, и, как видно, в одну из таких минут я позволил себе сделать ни на чем не основанное заявление. В своем безумии я принял Вас — по какой причине, неизвестно — за некую даму, пользовавшуюся в Луисвиле довольно большой популярностью. Еще раз приношу Вам самые почтительные извинения и умоляю предать забвению мое постыдное и гнусное поведение. Не знаю, чем мог бы я загладить свою вину, но с радостью готов исполнить любое Ваше требование. В надежде, что письмо это будет понято Вами, как оно того заслуживает, то есть как смиренная попытка хоть отчасти искупить свой проступок, остаюсь искренне Ваш Билз Чэдси».Однако, прежде чем было написано и отправлено это письмо, лейтенанту Брэксмару пришлось удостовериться, что заявления мистера Чэдси, оскорбительные для чести миссис Картер, — увы! — не лишены оснований. Билз Чэдси в пьяном виде лишь проболтался о том, что добрых два десятка людей в трезвом уме и твердой памяти (не говоря уж о луисвильской полиции) могли подтвердить в любую минуту. Билз Чэдси постарался хорошенько растолковать это Брэксмару, прежде чем согласился написать вышеприведенное послание.
Глава 52
Скрытое от глаз
На следующий день миссис Картер, побледневшая и осунувшаяся, вручила Беренис послание Билза Чэдси, и та, внимательно его прочитав, пришла к заключению, что так приносят извинения лишь из соображений запоздалой учтивости, когда в душе остаются при своем мнении. Миссис Картер была явно смущена. Она протестовала слишком бурно. Беренис знала, что может узнать правду, если захочет. Но к чему? Самая мысль об этом приводила ее в содрогание. Да и какое право имеет она судить свою мать? Каупервуд явился очень рано и постарался придать происшествию как можно более невинный вид. Он рассказал, как отправился вместе с Брэксмаром в полицейский участок и потребовал, чтобы Чэдси притянули к ответу, и как Чэдси, сразу протрезвевший после ареста, утратил все свое нахальство и стал униженно рассыпаться в извинениях. Взглянув на письмо, которое протянула ему миссис Картер, Каупервуд воскликнул: — Да, да! Он с радостью пообещал написать вам письмо, лишь бы мы отпустили его восвояси и прекратили дело. Брэксмар настаивал на этом письме. А я считал, что будет достаточно, если судья наложит на него штраф. Чэдси был пьян, о чем тут еще толковать? В присутствии Беренис Каупервуд делал вид, что ему ничего более неизвестно, но, оставшись наедине с миссис Картер, сразу изменил тон. — Плюньте на эту историю, она яйца выеденного не стоит, — властно сказал он. — Брэксмар не верит этому типу, а письмо рассеет подозрения Беренис. Держитесь как ни в чем не бывало, все зависит только от вас. Вид у вас чересчур подавленный, моя дорогая. Так не годится, вы выдаете себя с головой. В душе же Каупервуд был рад такому счастливому для него обороту событий. Произошло как раз то, что могло, пожалуй, отпугнуть лейтенанта. Тем не менее Каупервуд потребовал от миссис Картер, чтобы она держалась уверенно, даже высокомерно, и миссис Картер и вправду повеселела, что, впрочем, не помешало ей расплакаться, как только она осталась одна. Беренис заглянула к ней в кабинет и, увидев ее распухшие от слез глаза, воскликнула: — Ах, мама, пожалуйста, перестаньте! Как вам не совестно! Если вы не можете взять себя в руки — поедемте за город, там вы отдохнете. Миссис Картер принялась уверять дочь, что все это пустяки, просто нервы расходились. Но Беренис думала иначе: дыма без огня не бывает. С Брэксмаром после этого происшествия Беренис держалась все так же любезно, но с холодком. Лейтенант приехал на следующий день, чтобы выразить свое соболезнование, и тут же пригласил Беренис на премьеру. Беренис была с ним мила, но он почувствовал ее отчужденность. Она дала ему понять, что инцидент с Билзом Чэдси считает исчерпанным, но приглашение на премьеру отклонила. — Мы с мамой хотим поехать за город на несколько дней, — заметила она. — Если вы не уедете до нашего возвращения, мы, конечно, будем рады вас видеть. — Она отвернулась, подошла к залитому утренним солнцем окну, выходившему в парк, и начала обирать засохшие листики с комнатных растений, стоявших в корзинках на подоконнике. Брэксмар, воспитанный в духе сентиментального романтизма и плененный горделивыми чарами Беренис, ее великолепным умением сохранять самообладание при столь щекотливых обстоятельствах и высокомерной готовностью отпустить его на все четыре стороны, почувствовал вдруг, как это иной раз бывает, что его охватывает странное волнение, какой-то неудержимый восторг, столь же неожиданный и необъяснимый для него самого, как и для всякого, кто стал бы наблюдать эту сцену со стороны. Шагнув вперед, он простер к Беренис руки с видом пылким, восхищенным и в то же время почтительным и, волнуясь, воскликнул: — Беренис! Мисс Флеминг! Не гоните меня прочь. Не покидайте меня. Разве я в чем-нибудь провинился перед вами? Я люблю вас безумно. Что бы ни произошло, это не должно стать между нами. Прежде у меня не хватало духу признаться вам, но теперь я не могу больше молчать. Я полюбил вас с первого взгляда. Вы — самая необыкновенная девушка на свете! Я знаю, что недостоин вас, но я люблю вас. Я люблю вас преданно и глубоко, я восхищен вами и почитаю вас. Что бы ни говорила молва — будь это правда или ложь, — мне все равно. Прошу вас, будьте моей женой. Я знаю, что недостоин развязать шнурки ваших ботинок, но у меня есть положение, а с вами я завоюю мир. О Беренис! — И с этим мелодраматическим восклицанием лейтенант вытянул руки по швам, выпрямился во весь рост, застыл на мгновение в этой позе и закончил: — Без вас мне лучше не жить на свете. Скажите, смею ли я надеяться? Великая мастерица по части жеста, мимики, позы и прочих многообразных ухищрений своего пола, Беренис секунду, не больше, раздумывала над тем, что и как ей следует сказать и сделать. Она отнюдь не испытывала к лейтенанту таких пылких чувств, как он к ней, а мысль, что темное прошлое матери словно принуждает ее искать спасения в браке, уязвила самолюбие Беренис. Она понимала, что поступок лейтенанта продиктован самыми добродетельными и похвальными побуждениями, но не могла простить ему недостаток такта. Хоть бы подождал немного со своим предложением! — Право, мистер Брэксмар, — сказала она, стоя в полуоборот к лейтенанту и поднимая на него задумчивый взор, — вы не должны сейчас требовать от меня ответа. Я верю вашей искренности. Боюсь, однако, что я чем-то дала вам повод неправильно истолковать мое поведение в отношении вас. Поверьте, я этого не хотела. Мне кажется, вам лучше не думать обо мне. Пока во всяком случае. Если вы будете настаивать, я могу сейчас дать вам только один ответ. Мне придется просить вас забыть меня навсегда. Мне больно говорить вам это. Я не умею выразить того, что сейчас чувствую, но, надеюсь, вы мне верите. Она умолкла — очаровательное создание, очень расчетливое, очень дальновидное… Самообладание ни на секунду не изменило ей, хотя в конце концов она и на самом деле почувствовала себя растроганной. Тут лейтенант Брэксмар впервые увидел, что имеет дело с совершенно непостижимым существом. Какая загадочная девушка! В эту минуту она показалась ему особенно желанной, быть может потому, что он понял, как она далека от него. Как ни странно, но этому молодому американцу внезапно пришли на ум острова древней Эллады, Цитера, погребенная под водой Атлантида, Кипр с его храмом Афродиты… В глазах Брэксмара вспыхнул огонь и со щек сбежал румянец. — Не могу поверить, что я вовсе безразличен вам, мисс Беренис, — проговорил он, с трудом сдерживая волнение. — Нет, я чувствую, что не безразличен вам. Но… — Призвав на помощь все свое мужество, как и подобало человеку военному, он прибавил: — Не стану вам больше докучать. Я знаю, что вы понимаете мои чувства. Они не изменятся никогда. Ведь мы расстаемся друзьями, не правда ли? Он протянул ей руку, и Беренис подала ему свою, чувствуя, что это рукопожатие кладет конец отношениям, которые могли бы стать идиллическим любовным союзом. — Разумеется, мы расстаемся друзьями, — сказала она. — И я надеюсь вскоре снова увидеть вас. Когда лейтенант удалился, Беренис прошла в соседнюю комнату, опустилась в плетеное кресло, уткнула локти в колени, подперла подбородок кулачком и задумалась. Какая грустная развязка дружбы, столь невинной и столь пленительной. Итак, лейтенанта Брэксмара больше нет. Она его никогда не увидит… И не пожелает увидеть… Не слишком будет этого желать во всяком случае. На свете много печального, много темного, даже отталкивающего. О да, жизнь начинала открываться Беренис с довольно неприглядной стороны. Промучившись два дня со своими думами и чувствуя, что она больше не в силах это выносить, Беренис однажды вошла к матери в комнату и сказала: — Мама, почему вы не хотите рассказать мне эту луисвильскую историю? Все как есть. Чтобы я знала правду. Я вижу — вас что-то гнетет. Почему вы не доверяете мне? Я уже не ребенок. Скажите мне правду, чтобы я могла во всем этом разобраться и знала, как мне следует поступать. Миссис Картер, привыкшая играть роль важной, снисходительно-величественной мамаши, была совершенно сражена таким смелым и решительным поступком дочери. Она почувствовала, что краснеет, и по спине у нее побежали мурашки. Все же она решила солгать. — Говорю тебе, ничего не было, — волнуясь, заявила она. — Случилось какое-то чудовищное недоразумение. Очень жаль, что этого ужасного человека не проучили как следует за то, что он осмелился так оскорбить меня, да еще в присутствии моей дочери! — Мама, — повторила Беренис, не сводя с нее холодных синих глаз, — почему вы не хотите сказать мне правду? У нас с вами не должно быть тайн друг от друга. Быть может, я сумела бы вам помочь. И миссис Картер, поняв, наконец, что дочь ее уже не дитя и не пустая светская кокетка, а вполне сложившаяся женщина, холодная, сознающая свое превосходство, рассудительно-участливая и куда более проницательная, чем она сама, бросилась в обитую пестрым кретоном качалку, вытащила из кармана крошечный кружевной платочек, прикрыла глаза рукой и разрыдалась. — Я была в таком отчаянном положении, Беви, я просто не знала, что делать. Полковник Джилис посоветовал мне снять этот дом… Я хотела дать тебе и Ролфу приличное воспитание, вывести вас на дорогу. Но то, что говорил этот гадкий человек, — неправда. Все было совсем не так. Полковник Джилис и его приятели хотели, чтобы я сняла для них холостую квартиру… ну, с этого и началось. Я не виновата, Беви. Мне просто нечем было жить. — А какое отношение имел ко всему этому мистер Каупервуд? — с любопытством спросила Беренис. Последние дни она стала все чаще и чаще думать о нем. Он так спокоен, умен, энергичен, так уверен в своих силах; чем-то сродни ей самой. — Абсолютно никакого, — заявила миссис Картер, воинственно вскинув голову. Каупервуду она отдавала значительное предпочтение перед прочими своими друзьями мужского пола. Он никогда не толкал ее на дурные поступки, никогда не пользовался ее домом в своих личных целях. — Мистер Каупервуд только помог мне выпутаться из беды. Это он посоветовал мне оставить дом в Луисвиле, уехать на Восток и посвятить себя заботам о тебе и Ролфе. Он предложил мне свою помощь на то время, пока вы не оперитесь, и я его послушалась. Ах, если б я не была так неопытна, не испытывала такого нелепого страха перед жизнью! Ведь твой отец и мистер Картер умели только сорить деньгами и промотали все. Она сокрушенно вздохнула. — Значит, у нас просто-напросто ничего нет, так, что ли, мама? Никаких средств, решительно ничего? Миссис Картер уныло покачала головой. — И мы живем на деньги мистера Каупервуда? — Да. Беренис молча глядела в окно, на раскинувшийся перед домом парк. Небольшой прудок, рощица на холме и беседка в виде китайской пагоды у его подножья казались вписанными в раму окна, как картина. На холме сквозь деревья проглядывали желтоватые стены большого отеля. Снизу, с улицы, доносились звонки трамвая. По аллее парка двигалась вереница нарядных экипажей — чикагские богачи совершали прогулку в прохладе вечереющего ноябрьского дня. Нищая, пария! — думала Беренис. Нужно выйти замуж за богача? Разумеется, если удастся, но за кого? За лейтенанта Брэксмара? Ни за что! Сильной личностью его не назовешь, и к тому же он был свидетелем ее позора. Так за кого же? О, их немало — пустоголовых повес, бездельников, прожигателей жизни! Немало и солидных, трезвых, уравновешенных, тупых, преуспевающих дельцов. И все это вместе составляет «общество». Когда-нибудь она встретит, быть может, и настоящего мужчину, но подарит ли он ее своим вниманием, если будет знать всю правду? — Ты порвала с Брэксмаром? — спросила вдруг миссис Картер, и в голосе ее прозвучали тревога, любопытство, надежда на лучшее и покорность судьбе. — Я не видела его с тех пор, — отвечала Беренис, решив из предосторожности солгать. — И еще не знаю, захочу ли увидеть. Мне нужно подумать. — Она поднялась со стула. — Ну, не расстраивайтесь, мама. Я бы хотела только устроить нашу жизнь как-нибудь так, чтобы не зависеть больше от мистера Каупервуда. Беренис прошла к себе в спальню и, стоя перед зеркалом, начала переодеваться: она была приглашена на обед. Итак, значит, последние годы они жили на деньги мистера Каупервуда. И она, не задумываясь, сорила этими деньгами и была так тщеславна, самонадеянна, горда, держала себя с ним так высокомерно… А он молчал и только смотрел на нее — пристальным, пытливым взглядом. Почему? Можно было незадавать себе этого вопроса. Она знала — почему. Так вот какую игру он вел! И какой же она была дурочкой, что не понимала этого раньше! А мать? Подозревает она, догадывается? Беренис склонна была в этом усомниться. Какой странный, нелепый, какой страшный мир! — думала Беренис. Ей вспомнились вдруг глаза Каупервуда, и она вздрогнула под этим тяжелым взглядом.Глава 53
Объяснение в любви
В этот день Беренис впервые пришлось серьезно задуматься над своим будущим. У нее снова мелькнула мысль о замужестве. Но для этого нужно было либо призвать назад Брэксмара, либо предпринять утомительную и докучливую охоту за кем-нибудь другим, быть может еще менее отвечающим ее вкусам. Так уж не лучше ли просто объявить всем друзьям и знакомым, что потеря состояния вынуждает ее взяться за дело и зарабатывать себе на хлеб. Она будет преподавать танцы или сделается профессиональной танцовщицей. И вот однажды она совершенно невозмутимо преподнесла это удивительное решение своей матери. Миссис Картер, привыкшая вести паразитический образ жизни и менее всего помышлявшая о том, что деньги можно добывать трудом, пришла в неописуемый ужас. Подумать только, что ее необыкновенная Беви и она сама, а за ними, следовательно, и ее сын, должны опуститься до самой прозаической и пошлой борьбы за существование. И это после всех ее мечтаний! Она вздыхала и плакала втихомолку, потом написала Каупервуду осторожное послание, умоляя его приехать в Нью-Йорк и повидаться с ней — но только так, чтобы не знала Беренис. — Может быть, ты все-таки повременишь с этим немножко, — робко предложила она дочери. — У меня сердце разрывается на части, когда я думаю о том, что ты, с твоими талантами, должна опуститься до преподавания танцев. Нет, нет, Беви, что угодно, только не это. Ты же можешь сделать хорошую партию, и тогда сразу все устроится. Я ведь думаю не о себе. Я-то как-нибудь проживу. Но ты… — Миссис Картер была поистине несчастна, глаза у нее стали совсем страдальческие. Беренис была тронута проявлением столь горячей материнской привязанности и не сомневалась в искренности ее чувств. Но, боже мой, каких же она натворила глупостей, ее мать! И эта вот жалкая слабая женщина призвана служить ей опорой в жизни! Каупервуд, выслушав жалобы миссис Картер, заявил, что все это сплошное донкихотство. У Беренис просто расстроены нервы. Как можно покидать общество, менять образ жизни и губить свое очарование профессиональной работой ради денег! Успокоив миссис Картер, он поспешил на дачу, зная, что застанет там Беренис одну. После истории с Билзом Чэдси Беренис тщательно избегала встречи с Каупервудом. Он приехал в полдень, морозным январским днем. Снег, пышно устилавший землю, искрился и сверкал под золотыми лучами яркого зимнего солнца. В этот год уже появились автомобили, и Каупервуд ехал в новеньком темно-коричневом лимузине с мотором в восемьдесят лошадиных сил. Лакированный кузов автомобиля сверкал на солнце. Каупервуд был в тяжелой меховой шубе и круглой барашковой шапке. Он вышел из машины и позвонил у подъезда. — Привет, Беви! Как поживаете? А мама дома? — спросил он, делая вид, что ему неизвестно об отсутствии миссис Картер. Беренис устремила на него свой холодный, открытый, проницательный взгляд и любезно, но сдержанно улыбнулась, отвечая на его приветствие. В простом темно-синем фартуке из грубой бумажной материи, какие носят живописцы, с палитрой в руках, переливавшей всеми цветами радуги, она писала пейзаж и размышляла. Раздумье стало ее излюбленным занятием последнее время. Она думала о Брэксмаре, о Каупервуде, о Килмере Дьюэлма, перебирала в уме еще с полдюжины других возможных претендентов на ее руку, потом переносилась мыслями к сцене, танцам, живописи. Она видела свою жизнь переплавленной наново; порой ей казалось, что она решает какую-то сложную, запутанную головоломку, и, как только решит ее, все станет на свое место, сольется в стройный, гармоничный узор. — Пожалуйста, присядьте, — сказала она Каупервуду. — Сегодня, кажется, очень холодно? Обогрейтесь у камина. Мамы нет дома. Она поехала в город. Вероятно, вы застанете ее сейчас на нашей городской квартире. Вы надолго в Нью-Йорк? Веселая, беззаботная, она держалась любезно, но отчужденно. Каупервуд снова почувствовал, какой глубокой пропастью отделила себя от него Беренис. И эта пропасть всегда существовала между ними. Каупервуд знал, что Беренис лучше других понимает его и даже относится к нему с симпатией, и все же в их отношениях постоянно ощущался этот холодок. Быть может, их сближению мешали условности? Или непомерное честолюбие девушки? Или какие-то недостатки в нем самом? Каупервуд терялся в догадках. Но так или иначе, что-то отдаляло от него Беренис, заставляло ее быть с ним настороже. Каупервуд окинул взглядом комнату. На картине, которую писала Беренис, был изображен запорошенный снегом склон холма. Самый холм, послуживший ей моделью, виднелся за окном. По стенам были развешаны наброски, только что сделанные Беренис, — легкие, грациозные пляшущие фигурки в коротких туниках… Каупервуд перевел взгляд на Беренис и отметил про себя, что ее необычный наряд очень ей к лицу. — А вы, как всегда, увлечены искусством? — сказал он. — Да, это — ваш мир. Вы не можете жить иначе. Эти эскизы прелестны, — легким взмахом руки, в которой он держал перчатку, Каупервуд указал на хоровод пляшущих фигур. — Должен вам сказать, что я приехал не к вашей матушке, Беренис. Я приехал к вам. Миссис Картер прислала мне довольно странное послание. Она пишет, что вы не хотите больше выезжать в свет и решили взяться за преподавание или что-то в этом роде. Я приехал потолковать с вами. Не думаете ли вы, что ваше решение принято несколько поспешно? Говоря так, Каупервуд старался создать впечатление, что его участие к судьбе Беренис совершенно бескорыстно и не преследует никаких личных целей. Беренис с кистью в руке стояла у мольберта. Она окинула Каупервуда холодным, пытливым и насмешливым взглядом. — Нет, не думаю, — последовал ответ. — Вы знаете, как обстоят наши дела, и поэтому я могу говорить с вами совершенно откровенно. Я понимаю, что мамой руководили всегда только самые добрые побуждения. Но боюсь, что сердце у нее лучший советчик, чем голова. — В углу рта Беренис пролегла чуть заметная горькая складка. — Я готова также думать, что и ваши побуждения были самыми лучшими. Я даже уверена в этом, — было бы неблагодарно с моей стороны предполагать что-либо другое. (Каупервуд пристально посмотрел на нее, и в глазах его словно промелькнуло что-то и ушло в глубину.) Но тем не менее так дальше продолжаться не может. У нас нет средств. Почему же не заняться каким-нибудь делом? Да и что, собственно, мне еще остается? Она умолкла, и Каупервуд с минуту смотрел на нее, не говоря ни слова. В простом, грубом, нескладно топорщившемся переднике, непричесанная, — спутанные рыжеватые пряди падали ей прямо на глаза, — она смотрела на него своим пронзительным синим взором, и Каупервуду казалось, что на всей земле нет существа более прекрасного. Какой целеустремленный, острый, какой гордый ум! Какая одаренная натура, и как, подобно ему самому, эта девочка умеет ни перед кем не опускать глаз! Ничто, как видно, не может вывести ее из равновесия. — Беренис, — сказал он негромко, — выслушайте меня. Вы оказали мне большую честь, признав, что я руководствовался самыми лучшими побуждениями, когда давал деньги вашей матушке. Это действительно так. Я во всяком случае убежден, что лучших побуждений быть не может. Признаться, они не были такими сначала. Если вы позволите, я буду сейчас вполне откровенен. Не знаю, известно ли это вам, но когда меня познакомили с вашей матушкой, я лишь краем уха слышал о том, что у нее есть дочь, и это чрезвычайно мало интересовало меня в ту пору. Один из моих деловых друзей, большой почитатель вашей матушки, ввел меня в ее дом, и должен сказать, что я тоже сразу проникся к ней уважением, ибо она — прирожденная аристократка и женщина весьма незаурядная. Как-то разя увидел у нее вашу фотографию, но она тут же убрала ее, прежде чем я успел расспросить о вас. Быть может, вы помните этот портрет — вы сняты в профиль, вам было тогда лет шестнадцать. — Да, помню, — ответила Беренис просто и так тихо, словно выслушивала исповедь. — Эта фотография произвела на меня очень сильное впечатление. Я стал расспрашивать о вас и постарался выяснить все, что мог. Потом я увидел еще одну вашу фотографию, большой портрет, он был выставлен в витрине луисвильского фотографа. Я купил его. Теперь он стоит у меня в кабинете на столе, в моей чикагской конторе. На этом портрете вы сняты около камина. — Да, я припоминаю и этот снимок, — промолвила Беренис; она была тронута, но еще не успела собраться с мыслями. — Позвольте мне рассказать вам вкратце о себе. Это не займет много времени. Я родом из Филадельфии. Мой отец и мать — коренные филадельфийцы. Всю жизнь я занимался банковским делом и городским железнодорожным транспортом. Моя первая жена была из пресвитерианской семьи, очень набожная, очень чопорная, старше меня лет на шесть-семь. Я был счастлив с ней сначала — первые годы. Она родила мне двоих детей. Потом я встретился с моей теперешней женой. Она была моложе меня на десять лет и очень хороша собой. В каком-то смысле она была умнее моей первой жены — не так напичкана предрассудками — и добрее, шире по натуре. Я увлекся ею и в конце концов добился развода. Мы уехали из Филадельфии и поженились. Я очень любил ее в то время и думал, что она будет мне идеальной подругой жизни. Да и сейчас я нахожу, что она обладает многими очень привлекательными качествами. Но мой идеал женщины, мои вкусы с годами постепенно менялись. В конце концов жизненный опыт убедил меня в том, что моя жена не та женщина, которая мне нужна. Она не понимает меня. Не берусь утверждать, что я сам себя вполне понимаю, но мне кажется, я могу встретить женщину, которая будет понимать меня лучше, чем я сам, которая сумеет увидеть во мне то, чего я сам не вижу, и все же будет любить меня. Не скрою, женщины всегда были моей слабостью. Для меня на свете существует только одна безусловная ценность — это женщина, которой я хочу обладать. — Боюсь, что ни одна женщина не возьмется установить, кто же является вашей подлинной избранницей, — насмешливо улыбнулась Беренис. Каупервуд и глазом не моргнул. — Да, ни одна, кроме той, единственной, о которой идет речь, — с ударением произнес он. — Ну, что ни говорите, и у нее будет нелегкая задача, — возразила Беренис шутливо, но уже более теплым тоном. — Я исповедуюсь перед вами и не ищу оправданий, — сказал Каупервуд серьезно и с некоторым усилием. — Женщины, которых я знал, могут, вероятно, быть идеальными женами для других мужчин, но не для меня. В этом убедила меня жизнь. Она изменила мои вкусы, требования, запросы. — И вы полагаете, что процесс этот каким-то образом пришел к концу? — спросила она тем высокомерно-насмешливым тоном, который всегда дразнил, привлекал и обезоруживал его. — Нет, я этого не говорю. Хотя идеал женщины для меня, по-видимому, уже определился. Я ношу его в себе много лет. Поэтому все другое потеряло цену в моих глазах. Идеалы существуют, это не выдумка. И каждый человек стремится найти свою путеводную звезду. Говоря так, Каупервуд вдруг почувствовал, что он делает совсем необычное для себя признание. Он явился сюда, чтобы подчинить Беренис своей воле и заставить ее изменить принятое ею решение. На деле происходило нечто совсем иное. Беренис одерживала над ним верх. Эта тоненькая, стройная, грациозная девочка, находчивая и уверенная в себе, спокойно стояла перед ним, заставляя его изливать ей свою душу. Но Каупервуд внезапно ощутил в ее отношении к нему что-то ласковое, почти материнское: ему казалось, что она все видит, чувствует и понимает. Он был уверен, что она поймет его. Он заставит ее понять! Каков бы он ни был, каково бы ни было его прошлое, она не будет мелочно осуждать его. Это не в ее натуре. Все в ней служило тому порукой. — Да, — сказала Беренис, — каждому нужна путеводная звезда, только мне кажется, что вы, пожалуй, не сумеете ее найти. Неужели вы надеетесь встретить свой идеал в образе живой женщины? — Я уже встретил его, — сказал Каупервуд, восхищаясь изворотливостью и гибкостью ее ума, а вместе с тем и своего собственного, уже уловившего ход ее мыслей, восхищаясь устройством человеческого мозга вообще, его темными, неисследованными глубинами, заставляющими иных становиться в тупик. — Прошу вас, отнеситесь серьезно к тому, что я сейчас скажу, это объяснит вам многое. Ваш портрет заинтересовал меня потому, что в нем я увидел воплощение моего идеала, который, как вам кажется, подвержен столь частым изменениям. А когда я впервые встретился с вами, в вашем пансионе на Риверсайд-Драйв, мне стало ясно, что я не ошибся. И вот прошло почти семь лет, а мой идеал не изменился. Я никогда не говорил с вами об этом, но ничто не изменилось во мне с тех пор. Быть может, вы сочтете, что я не имею права испытывать к вам подобные чувства. Многие согласятся с вами. Но тут уж ничего не поделаешь — я полюбил вас, я вас люблю, и этим, только этим объясняются мои взаимоотношения с вашей матушкой. Когда однажды в Луисвиле она рассказала мне о своих затруднениях, я решил помочь ей ради вас. И все, что я делал с тех пор, я делал ради вас… Впрочем, она этого не знает. В некоторых отношениях, Беренис, ваша матушка немного недогадлива. Все эти годы я был влюблен в вас, страстно влюблен. Вот я гляжу на вас и думаю, как вы божественно красивы — да, вы тот идеал, который я искал. Не тревожьтесь, я не собираюсь докучать вам своими признаниями. — Беренис сделала едва заметное движение. Она боялась не столько его, сколько самой себя. В этом человеке чувствовалась такая сила… Она не могла относиться к нему несерьезно, когда он был так серьезен. — Все, что я делал для вас и для вашей матушки, я делал только потому, что любил вас и хотел, чтобы вы стали совершенством, чтобы ничто не мешало расцвету ваших дарований. Ради вас я предпринял постройку своего нового дома на Пятой авеню. Да, вы не знаете этого, но я строил его, мечтая о вас. Я хотел создать нечто, достойное вас. Пустая греза? Конечно. Все, к чему мы стремимся, в известной мере относится к области грез. Если мой дом красив, этим я обязан вам. Думая о вас, я создавал его красивым. Каупервуд умолк, молчала и Беренис. Ее первым побуждением было оборвать его, но Каупервуд сумел задеть ее тщеславие, пробудить в ней преклонение перед своей силой, расшевелить артистические струнки ее души. К тому же, сказать по правде, ее мучило любопытство: чего, собственно, добивается Каупервуд? Хочет ли он просто сделать ее своей любовницей, или намерен ждать, пока не получит возможности сделать ее своей женой? — Вас, вероятно, интересует, мечтал ли я жениться на вас, — продолжал Каупервуд, словно прочитав ее мысли. — В этом отношении я ничем не отличаюсь от других мужчин, Беренис. Буду откровенен. Я хотел добиться вас любым путем, лишь бы добиться. Я жил надеждой, что вы когда-нибудь полюбите меня. Я возненавидел Брэксмара, как только он появился возле вас, но у меня и в мыслях не было мешать вам. Я был готов уступить ему дорогу. Я завидовал всем мужчинам, которых видел возле вас, — и старым и молодым. Я завидовал даже вашей матушке, потому что не мог быть так близок к вам, как она. Но в то же время я хотел, чтобы вы имели все, все, что вам нужно. Если бы я уверился в том, что вы по-настоящему полюбили кого-то и мне уже не на что надеяться, я не стал бы вам мешать. Вот и все, остальное вы сами знаете. Но я приехал сегодня сюда не за тем, чтобы говорить об этом. Он ждал от нее ответа, но она произнесла только: — Да? — Я приехал просить вас продолжать жить так, как вы жили до сих пор. И как бы вы ни судили обо мне, особенно теперь, после моего признания, — верьте, что я прошу вас об этом совершенно искренне и бескорыстно. Я еще не распростился навеки со своими надеждами и мечтами. Как знать, быть может, судьба еще сделает меня вашим избранником. Но как бы то ни было, я хочу, чтобы вы ничего не меняли в вашей жизни и были счастливы, не думая обо мне. Я мечтал о вас, но, как видно, это была ошибка. Вы же должны держать голову высоко — вы имеете на это право. Вы должны повелевать. Выходите замуж за того, кто вам по сердцу. Я позабочусь, чтобы вы принесли вашему будущему супругу достойное вас приданое. Я люблю вас, Беренис, но с этого дня заставлю себя относиться к вам с чисто отеческой привязанностью. Перед смертью я позабочусь о вас а своем завещании. Но прошу — живите так же беззаботно, как жили до сих пор. Ведь для меня главное — это знать, что вы довольны и счастливы. Он снова умолк, продолжая в упор глядеть на нее и искренне веря в эту минуту всему, что говорил. Когда он умрет, она найдет свое имя в его завещании. Если она будет жить по-прежнему, и выезжать в свет, и искать себе спутника жизни, то в конце концов, вероятно, найдет и полюбит кого-нибудь, но прежде чем это случится, она, быть может, станет теплее и доверчивее относиться к нему. Иначе, что ему эта опека над ней? Но завоевать ее расположение, доверие, дружбу — разве это уже не награда? Каупервуд всегда интересовал Беренис: его кипучая энергия, его решительность, жизненная сила и, как ей казалось, прямота — привлекали ее к нему. А теперь она была тронута его великодушием. Даже если он и не всегда будет так бескорыстен, если страсть в конце концов возобладает в нем над другими чувствами, то сейчас Беренис не могла сомневаться в его искренности. Так долго любить, преклоняться и молчать! Такой сильный, могущественный человек грезит о ней, как мальчишка, — это ли не победа! Для ее растревоженного самолюбия, столь сильно пострадавшего от пережитого унижения, признание Каупервуда было своего рода бальзамом. В откровенной его прямоте было какое-то своеобразное благородство, которое вызвало невольное восхищение Беренис. Вот он стоит перед ней — виски его уже посеребрила седина, а это очень к лицу некоторым мужчинам и весьма нравится некоторым женщинам. Сколько бы ни старалась Беренис, она не может не испытывать к нему симпатии, даже нежности, чувства чуть ли не материнского. О да, конечно, ему нужна настоящая женщина — женщина образованная, с высокой культурой, со вкусом, с умом, с душой. Во всяком случае как можно отнять у него право мечтать о такой женщине? В эту минуту он казался Беренис личностью необыкновенной и в то же время — просто своенравным, упрямым мальчишкой. Красивый, сильный душой и телом, исполненный уверенности и внутреннего огня, всегда стремящийся вперед, он отнюдь не был похож на старика. Правда ли, что он так сильно любит ее? Может ли он так любить? Может ли он вообще любить кого-нибудь? Однако чего он только не делал, чтобы снискать ее расположение! К чему же все это? Все эти пылкие слова? Все эти великодушные поступки? У подъезда на снегу стоял его роскошный автомобиль, отливая коричневым лаком. Да, это великий, знаменитый Фрэнк Алджернон Каупервуд из Чикаго! И он у ее ног, он молит ее, пустую девчонку, сжалиться над ним, не прогонять его прочь, оставить ему хоть какое-то место в ее жизни. Это безмерно льстило Беренис, волновало ее воображение, кружило ей голову. Она сказала: — Теперь вы нравитесь мне больше. Я верю вам. Раньше я не вполне вам верила. Это, конечно, не значит, что я разрешу вам тратить деньги на меня или на маму, — вовсе нет. Но я восхищаюсь вами. Этого вы добились. И, кажется, я понимаю вас, ваши стремления. Я всегда чувствовала, что отчасти понимаю их. Но прошу вас, пока не требуйте от меня ничего. Мне нужно подумать. Я еще не знаю, могу ли я сделать то, о чем вы просите. (Она заметила, как снова что-то промелькнуло в его глазах и ушло в глубину.) Не будем сегодня об этом говорить. — Но послушайте, Беренис, — сказал Каупервуд с подлинной мольбой в голосе. — Мне кажется, вы все-таки не понимаете меня. Я был так одинок… Я… — Нет, нет, я понимаю, — прервала она его, протягивая ему руку. — И с этого дня мы будем друзьями, что бы ни произошло, потому что я искренне расположена к вам. Но не заставляйте меня решать этот вопрос сегодня. Я не могу. Я не хочу. Это просто невозможно. — Даже несмотря на то, что я был бы счастлив отдать вам все, что у меня есть? Ведь без вас к чему мне это? — Нет, дайте мне подумать. Только, верно, я все равно не соглашусь, — сказала она вдруг, напуская на себя важность. И, высвободив свою руку из его руки, прибавила смеясь: — Так-то вот, господин опекун. Сердце у Каупервуда подпрыгнуло в груди. В это мгновение он отдал бы все свои миллионы, лишь бы заключить ее в объятия. Но ему оставалось только улыбнуться просящей улыбкой. — Поедемте со мной на машине в Нью-Йорк, Беренис. Если вашей матушки нет дома, вы можете остановиться в «Незерленде». — Нет, нет, не сегодня. Но я скоро приеду. Я или мама известим вас тогда. Еще несколько прощальных фраз… Каупервуд сбежал по лестнице, сел в машину, помахал Беренис рукой, и автомобиль рванулся вперед по розовеющему от закатных лучей снегу, чтобы к обеду доставить финансиста в Нью-Йорк. О, если бы ему удалось сохранить ее дружеское расположение, ее доверие! Если бы!Глава 54
Требуется концессия на пятьдесят лет
Итак, признание Каупервуда было благосклонно выслушано Беренис, и это на какой-то срок принесло ему удовлетворение, но, в сущности, никак его не обнадежило. Благодаря странной игре случая молодой соперник, лейтенант Брэксмар, был устранен с пути Каупервуда, а сам он получил возможность предстать перед Беренис во всеоружии своей любви, преданности, готовности служить ей. Но, видимо, Беренис расценивала эти его намерения не столь высоко, как он сам. И Каупервуд еще острее, чем прежде, почувствовал, что попал в сети существа необыкновенного, обладающего вполне самостоятельным и даже своеобразным взглядом на вещи и отнюдь не склонного подчиниться его воле. Быть может, именно это и заставило Каупервуда окончательно и безнадежно влюбиться в Беренис, красота же ее и грация лишь сильнее разжигали его страсть. Напрасно твердил он себе снова и снова: «Что ж, проживу и без нее, если так суждено». Но самая мысль эта была для него непереносима. К чему деньги, слава, почет, если он не может обладать любимой женщиной? Любовь! Загадочное, необъяснимое томление духа, которому сильные подвержены еще больше, чем слабые… Теперь Каупервуд понял — это открылось ему словно в ослепительном видении, — что конечная цель славы, богатства, могущества — только красота и что красота — это сплав хорошего вкуса, врожденной культуры, одаренности, страсти, мечтаний такой женщины, как Беренис Флеминг. Он понял это. Понял. А помимо Беренис, впереди была только надвигающаяся старость, мрак, безмолвие. Меж тем воскресные газеты, подстрекаемые агентами и приспешниками Каупервуда, соперничали друг с другом в описании чудес его новой нью-йоркской резиденции, и каждая газета считала своим долгом сообщить стоимость возведенного здания и земельного участка и перечислить по именам всех богачей — соседей Каупервудов. Портреты Эйлин и Каупервуда — каждый на полполосы — печатались в сопровождении бойких заметок, расписывавших на все лады предстоящие пышные приемы этой супружеской четы, которая благодаря своему несметному богатству несомненно будет принята в обществе. Однако все это были лишь газетные сплетни и досужие измышления репортеров. Если общегородская газетная хроника прожужжала всем уши богатством Каупервуда, то хроника великосветская, оповещавшая о жизни фешенебельных кругов, ни разу не упомянула его имени. Тут безусловно сказывались козни чикагских врагов Каупервуда, распространявших неблаговидные слухи о его прошлом и чернивших его в глазах тех общественных организаций, клубов и даже церквей, признание которых служит своего рода пропуском в рай, если не на небесах, то на земле. Агенты Каупервуда тоже, разумеется, не сидели сложа руки, но вскоре убедились, что достигнуть цели не так-то легко. Немало коренных жителей города, облаченных в такие солидные светские доспехи, какими Каупервуды вряд ли могли похвастаться, томились у райских врат, горя желанием проникнуть внутрь. После того как несколько фешенебельных клубов, один за другим, забаллотировали его кандидатуру, после того как в аристократическом приходе Сент-Томас равнодушно положили под сукно его просьбу о предоставлении ему молитвенной скамьи в соборе и после того, наконец, как его приглашения были отклонены целым рядом нью-йоркских архимиллионеров, с которыми он встречался на деловой почве, Каупервуд понял, что его великолепный дворец, помимо своего музейного назначения, едва ли на что-нибудь ему пригодится. В то же время финансовый гений Каупервуда приносил ему все новые победы, и одной из самых значительных был оборонительно-наступательный союз, заключенный им с банкирским домом «Хэкелмайер, Готлеб и К°». Убедившись в железной хватке Каупервуда, который сумел восторжествовать над своими врагами тотчас после серьезного поражения на выборах, господа Хэкелмайер и Готлеб обнаружили внезапную перемену в мыслях и заявили о своей готовности финансировать любое его предприятие. Как и все финансисты, они слышали о триумфе Каупервуда в связи с банкротством «Американской спички». — Видно, этот Каупервуд очень ловкий человек, — с улыбкой заметил мистер Готлеб своим компаньонам. — Я буду рад познакомиться с ним. И вскоре после этого Каупервуда ввели в огромный кабинет директора банка, где он был весьма приветливо встречен самим мистером Готлебом. — Мне приходится немало слышать о Чикаго, — сказал мистер Готлеб с легким немецко-еврейским акцентом, — но еще больше — о вас. Вы, кажется, собираетесь проглотить все как есть дороги в этом городе — и электрические, и надземные, и прочие? Каупервуд улыбнулся своей самой подкупающей улыбкой. — Это не исключено. Но, может быть, вы хотите, чтобы я оставил кое-что и для вас? — Нет, зачем же. Но я не прочь принять участие в ваших начинаниях. — Вы, мистер Готлеб, всегда можете вступить в любое из моих предприятий. Вы знаете, что для вас широко открыты все двери. — Я подумаю об этом, подумаю. Ваше предложение кажется мне весьма заманчивым. Очень рад был познакомиться с вами. Финансовые успехи Каупервуда, как он это и предвидел с самого начала, в немалой степени зависели от неуклонного роста и развития Чикаго. Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд впервые приехал сюда, его глазам открылась грязная болотистая равнина, наспех сколоченные лачуги, шаткие деревянные мостки и тесные лабиринты улочек в деловом квартале. Теперь великолепная столица Западных штатов, население которой уже перевалило за миллион, величественно раскинулась в округе Кук, захватив добрую его половину. Там, где было раньше какое-то жалкое подобие коммерческого центра города и лишь изредка попадалось солидное торговое здание или нарядный фасад гостиницы, протянулись глубокие, словно каньоны, улицы, застроенные высокими, пятнадцати— и даже восемнадцатиэтажными зданиями различных фирм и контор, из верхних этажей которых, точно со сторожевых башен, можно было наблюдать за повседневной суетой окружавшего их со всех четырех сторон хлопотливого человеческого муравейника. Дальше располагались районы богатых особняков, парки, увеселительные сады и огромные пространства, занятые железнодорожными депо, бойнями, заводами и фабриками. И в сердце этого города, в его деловом центре, Фрэнк Алджернон Каупервуд вырос в фигуру огромного масштаба. Не удивительно ли, что некоторые люди растут и набирают силу до тех пор, пока не превратятся в такого колосса, что мир становится для них лишь подножием? Или пока, как индийские смоковницы, не пустят корня от каждой ветви и не создадут вокруг себя целого леса, — леса сложных коммерческих предприятий, разнообразная деятельность которых отражается на самых различных областях жизни. Городские железные дороги Каупервуда, как гигантские лианы, обвились вокруг двух третей города и высасывали из него соки. В 1886 году, когда Каупервуд протянул руку к городским дорогам, их капитал не превышал шести-семи миллионов долларов (все возможности выпустить хотя бы одну лишнюю акцию, исходя из реальной стоимости предприятия, были исчерпаны). Теперь под его руководством этот капитал достиг шестидесяти-семидесяти миллионов долларов. Большинство выпущенных на рынок и реализованных акций распределялось таким образом, что двадцать процентов их давали контроль над остальными восемьюдесятью, а эти двадцать процентов находились в руках Каупервуда, который к тому же, закладывая их, получал крупные денежные ссуды. Западно-чикагская компания выпустила акций на сумму свыше тридцати миллионов долларов, и акции эти — в силу огромной пропускной способности городских железных дорог и бесконечного потока людей, которые с утра до ночи несли компании свои тяжким трудом заработанные медяки, — котировались так высоко, что теперь реальная стоимость этих дорог втрое превышала сумму, затраченную на их сооружение. Северо-чикагская компания, имущество которой в 1886 году стоило не больше миллиона долларов, теперь обладала капиталом в семь миллионов и выпустила акций почти на пятнадцать миллионов. Каждая миля пути оценивалась на сто тысяч долларов дороже, чем фактически стоила ее прокладка. Остается только пожалеть тех бедных тружеников, потребности и самый факт существования которых создают все это богатство и которые тем не менее не понимают, ни откуда оно берется, ни кто должен им управлять. Все это гигантское количество акций — причем каждая стодолларовая акция приносила от десяти до двенадцати процентов дохода — находилось если не в полном владении Каупервуда, то под его контролем. Получаемые им под залог акций миллионные ссуды не заносились на счет контролируемых им предприятий, — он просто-напросто приобретал на эти деньги земельные участки, дома, экипажи, картины и государственные обязательства, не менее надежные, чем золото. Так он накапливал капитал в устойчивых ценностях. После бесконечных трудов и хлопот со стороны его перегруженных делами поверенных и стряпчих ему удалось добиться объединения всех пригородных линий городских железных дорог в Консолидированную транспортную компанию. Каждая линия имела самостоятельную концессию и самостоятельно выпускала акции, но в результате всевозможных хитроумных контрактов и соглашений все они находились под контролем того же Каупервуда и составляли одно целое с остальными его предприятиями. Северную и Западную компании он также намеревался теперь слить воедино, создав Объединенную транспортную компанию, и вместо десяти— и двенадцатипроцентных акций Северной и Западной собирался выпустить новые шестипроцентные стодолларовые акции Объединенной транспортной и обменять каждую старую акцию на две новых, чем должен был якобы облагодетельствовать акционеров, а по существу — самого себя, ибо это давало ему возможность прикарманить учредительскую прибыль, равную восьмидесяти миллионам долларов. Продлив свои концессии на двадцать, пятьдесят или сто лет, он возложил бы на плечи Чикаго тяжкое бремя выплаты процентов на эти в какой-то мере фиктивные ценности, а сам оказался бы обладателем стомиллионного капитала. Но продление концессий и было самой трудной и сложной задачей из всех, которые он себе поставил. Для этого требовалось прежде всего победить или хотя бы перехитрить тех, кто разжигал страсти, всеми способами восстанавливая население против Каупервуда. Особенно яростное возмущение вызвала деятельность Каупервуда, связанная с расширением его надземных железных дорог. К двум построенным ранее линиям Каупервуд прибавил теперь третью — «Соединительную петлю», которую он предполагал связать не только со своими линиями, но и с чужими надземными дорогами, между прочим — с Южной дорогой, принадлежавшей мистеру Шрайхарту. После присоединения Каупервуд намеревался предложить своим противникам платить ему за право пропуска их поездов по его петле. Тем волей-неволей пришлось бы на это согласиться, так как новая петля обслуживала самые оживленные кварталы, где всегда была такая толкучка, словно все до единого жители Чикаго сговорились хотя бы раз в сутки непременно там побывать. Таким образом, Каупервуд сразу же обеспечивал себе изрядный доход со своей новой линии. Проект этот породил небывалую злобу в сердцах его врагов. Клика Арнила — Хэнда — Шрайхарта заявляла, что сам сатана не придумал бы такой штуки. Трумен Лесли Мак-Дональд, все усилия и помыслы которого со времени окончательного воцарения его — после смерти старого генерала — в газете «Инкуайэрер» были направлены на то, чтобы изгнать Каупервуда из пределов Чикаго, а за ним и господа Хейгенин, Хиссоп и Ормонд Рикетс решили прибегнуть к последнему отчаянному средству и подняли в своих газетах крик в защиту демократии. Места для сиденья — всем пассажирам! (На дорогах Каупервуда, разумеется.) Хватит цепляться за поручни в часы наплыва! Утром и вечером с рабочих брать не больше трех центов за проезд! Бесплатные пересадки (на тех же дорогах) — с западной на северную и обратно. Двадцать процентов валового дохода (с тех же дорог) — в пользу города! Пусть население узнает, наконец, о своих правах и привилегиях! Большинство противников Каупервуда поневоле одобряло эту политику, явно враждебную его интересам, но нашлись ультраконсервативные мужи, как Хосмер Хэнд например, в которых она вселила тревогу. — Ох, уж не знаю, Норман, — сказал он Шрайхарту. — Не нравится мне это. Взбудоражить-то их нетрудно, а потом, поди-ка, утихомирь. Не забывайте, что это Америка — беспокойная, бредящая социализмом страна, а Чикаго — рассадник опасных идей. Конечно, если это поможет нам разделаться с Каупервудом, так уж пускай газеты покричат еще немножко. Надеюсь, что они сумеют вовремя остановиться. И все-таки — не знаю, не знаю. Мистер Хэнд принадлежал к разряду людей, считавших социализм опаснейшей заразой, перекочевавшей в Америку из Европы, которая погибала под гнетом монархизма. Как народ может быть недоволен тем, что сильные мира сего — образованные, состоятельные, богобоязненные люди — вершат его судьбу? Чем это не демократия? Это она и есть, а он, Хосмер Хэнд, — один из состоятельных, богобоязненных… Он презрительно и недовольно фыркал, читая радикальную болтовню газет. Однако все, все, что угодно, лишь бы свалить Каупервуда. Каупервуд прекрасно понимал, что, усердствуя таким образом, газеты могли окончательно восстановить против него общественное мнение. Правда, срок его концессий истекал не ранее 1 января 1903 года, но если эта шумиха не уляжется, то уже никакие средства — ни законные, ни беззаконные — не помогут ему победить своих врагов на выборах. Корыстные и продажные олдермены и члены муниципального совета готовы были — за хорошую мзду, разумеется, — сделать для него все, чего бы он ни пожелал, но даже самые алчные, толстокожие и вконец обнаглевшие взяточники не могли не устрашиться гласности и яростного возмущения народа. А стараниями газет общественное мнение уже сейчас было возбуждено до крайности. Явиться в муниципалитет с просьбой о продлении концессий, срок которых истекал лишь через семь лет, было бы слишком рискованно. Даже подкупленные члены муниципалитета вряд ли осмелятся удовлетворить такую просьбу. Есть вещи невозможные даже для продажных политиков. Вся эта история еще усложнялась тем, что продление концессий на двадцать лет уже не могло удовлетворить Каупервуда. Для задуманного им слияния Северной и Западной компаний необходимо было получить концессию на срок куда более солидный, чем те мизерные сроки, которые допускались современным законодательством штата, — ведь в результате этой консолидации должен был произойти огромный выпуск новых акций. Взамен находившихся в обращении двенадцатипроцентных акций на сумму в семьдесят миллионов долларов Каупервуд предполагал выпустить новых, шестипроцентных акций по меньшей мере на двести миллионов. — Люди с капиталом не очень-то верят в эти краткосрочные концессии, — заметил раз мистер Готлеб Каупервуду, обсуждая с ним предполагаемое слияние компаний. Каупервуд хотел, чтобы «Хэкелмайер и К°» гарантировали ему размещение всех акций нового выпуска. — Это дело ненадежное. Вот если бы вы могли получить концессию лет, скажем, на пятьдесят или на сто — ваши акции разобрали бы вмиг, как горячие пирожки. Я бы знал тогда, где их разместить, одна только Германия поглотила бы миллионов пятьдесят. Тон мистера Готлеба был елейный и вкрадчивый. Каупервуд и сам все это прекрасно понимал. Ему отнюдь не улыбалось при его грандиозных замыслах получить какую-то жалкую концессию сроком на двадцать лет, в то время как в других городах — в Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке, Питсбурге — муниципалитеты предоставляли своим компаниям концессии на девяносто девять лет, а иной раз — и на веки вечные. Такого рода концессиям оказывали предпочтение все крупные банкирские дома Нью-Йорка и Европы, и даже Эддисон в Чикаго, так же как Готлеб в Нью-Йорке, настаивал на долгосрочной концессии. — Нам необходимо продлить концессии минимум на пятьдесят лет, — не раз говорил Эддисон Каупервуду, и, к сожалению, это была суровая и весьма неприятная истина. Каупервудовские крючкотворы не дремали: быстро уразумев серьезность положения, они направили свои усилия на изобретение какого-нибудь юридического трюка. И в одно прекрасное утро мистер Джо Эвери явился к Каупервуду с новым планом. — Обратили вы внимание, что предпринимают законодательные органы Нью-Йорка для разрешения некоторых местных транспортных проблем? — чуть ли не с порога крикнул сей почтенный законник и, войдя в кабинет Каупервуда, бесцеремонно уселся в кресло перед лицом своего великого патрона. В пальцах мистера Эвери дымилась недокуренная сигара, а лихо заломленный на затылок котелок придавал странно легкомысленное выражение его худому, желчному и выразительному лицу. — Нет, а что такое? — отвечал Каупервуд, который отлично знал, о чем идет речь, и уже немало размышлял над этим вопросом, однако не считал нужным открывать свои мысли. — Я, кажется, видел какое-то сообщение в газетах, но не обратил на него внимания. Так в чем дело? — Там решили создать комиссию из четырех-пяти человек, которая будет, кажется, заседать поочередно то в Нью-Йорке, то в Буффало и получит право предоставлять новые концессии и продлевать старые. Эта же комиссия установит размеры компенсации, выплачиваемой городу или штату, стоимость проездной платы, пересадок и прочее и будет регулировать выпуск акций. Если у нас здесь дело с продлением концессий не выгорит, почему бы не обратиться к законодательным органам штата и не прощупать их на предмет создания такой же комиссии? Многие компании будут это приветствовать. Хорошо бы, конечно, чтобы предложение исходило не от нас. Мы не должны быть зачинщиками. Мистер Эвери не мигая уставился на Каупервуда; тот с минуту молчал размышляя. — Я подумаю, — сказал он. — Ваше предложение не лишено здравого смысла. С этих пор мысль о комиссии не выходила у Каупервуда из головы. Такой оборот дела мог бы разрешить вопрос: появилась бы возможность продлить концессию на пятьдесят, даже на сто лет. Однако создание подобной комиссии шло вразрез с конституцией штата Иллинойс и было даже в какой-то мере запрещено законом. Согласно конституции никакие изъятия из общих правил, в виде особых привилегий, концессий и прочего, не могли предоставляться ни частным лицам, ни каким бы то ни было организациям или концернам. Однако, как уже было сказано кем-то: «Можно ли считаться с таким пустяком, как конституция, особенно между добрыми друзьями?» Законодательство имеет свои лазейки, пользуясь которыми некоторые статьи закона можно спрятать под сукно, где они зарастут пылью и постепенно изгладятся из памяти. Немало высоких идей, заложенных в конституции ее творцами, были впоследствии искажены до неузнаваемости или просто потеряли силу благодаря различным дополнительным постановлениям, муниципальным договорам, апелляциям к федеральному правительству, апелляциям к законодательным органам штата и так далее и тому подобное. Все это было лишь бумажной фикцией, крючкотворством, но оказалось достаточным, чтобы, подобно крепкой паутине, оплести закон и свести на нет все благие намерения. К тому же Каупервуд был весьма невысокого мнения об уме и способностях сельских избирателей и очень сомневался в том, что они сумеют отстоять свой права. Он не раз слышал от своих юристов — да и не только от них — разные забавные истории из законодательной жизни штата — юмористические сценки, происходившие в судах, на сельских избирательных собраниях, на фермах, в придорожных гостиницах и просто на дорогах. — Как-то раз еду я на поезде в Питэнки, — начинал старый генерал Ван-Сайкл, или судья Дикеншитс, или бывший судья Эвери… За сим следовало какое-нибудь удивительное повествование, живописующее безнравственность, тупость или общественно-политическое невежество сельских жителей. В Чикаго в то время было сосредоточено более половины всего населения штата, и этих избирателей Каупервуду пока что удавалось держать в руках. Остальные избиратели, населявшие двенадцать маленьких городов, фермы и поселки, не внушали ему уважения. Что они значат в конце-то концов — тупые, неотесанные парни, завсегдатаи сельских танцулек? Штат Иллинойс — территория, не уступающая по своим размерам Англии, а по своему плодородию — Египту, с границами, проходящими по огромному озеру и полноводной реке, и с населением в два миллиона американцев, почитающих себя свободными от рождения, — казалось, являлся самым неподходящим местом для законодательных махинаций и засилья монополий. Тем не менее трудно было бы сыскать во всей вселенной еще одну человеческую общину, вся жизнь которой в такой же мере подчинялась бы интересам крупных компаний. Каупервуд, несмотря на свое презрительное отношение к буколическим поселянам, не мог не чувствовать известного почтения перед этим огромным населенным пространством, которое он избрал ареной своей деятельности. Здесь подвизались Маркет и Жолье, Ла-Саль и Хеннепин, мечтавшие проложить путь к Великому океану. Здесь вели между собой борьбу противник рабства — Линкольн и поборник рабства — Дуглас. Здесь впервые прозвучал голос «Джо» Смита — проповедника страннойамериканской догмы мормонов. «Какая история у этого штата! — думал порой Каупервуд. — Какая фантастика, и как все это удивительно!» Ему приходилось из конца в конец пересекать Иллинойс во время своих поездок в Сент-Луис, в Мемфис или в Денвер, и он всякий раз бывал взволнован грубой простотой его облика. Небольшие города, застроенные новенькими бревенчатыми домиками, воплощали в себе американский дух, традиции, предрассудки, иллюзии. Белые шпили церквей, сельские улицы — тенистые, с зеленой лужайкой перед каждым домом, широкие ровные пространства полей, где летом густо золотятся хлеба, а зимой лежат пушистые сугробы снега, — все приводило ему на память его отца и мать, которые, казалось, были созданы для этого мира. Впрочем, эти лирические мысли никак не мешали ему прилагать все силы к тому, чтобы упрочить свое будущее, сделать прибыльным двухсотмиллионный выпуск акций Объединенной транспортной и обеспечить себе устойчивое положение в рядах финансовой олигархии Америки и всего мира. Законодательными органами штата заправляла в то время небольшая кучка сутяг, кляузников, политических мошенников и плутов, плясавших под дудку тех или иных компаний. Каждый из них являлся выборным представителем какого-либо города, селения или округа и каждый был связан, с одной стороны, со своими избирателями, а с другой — со своими хозяевами как в стенах законодательного собрания штата, так и вне их. Связан именно теми узами, которые обычно связуют такого рода деятелей в такого рода обстоятельствах. Мы привыкли называть подобных людей мошенниками и плутами и думать, что этим все сказано. Конечно, они и мошенники, и плуты, но ничуть не в большей мере, чем, например, крысы или хорьки, которые неустанно прорывают себе путь вперед… и — наверх. Инстинкт самосохранения, древнейший и самый властный, вдохновляет этих джентльменов и руководит их поступками. Представим себе, к примеру, случай вполне обыденный. Накануне закрытия сессии сенатор Джон Саузек беседует с глазу на глаз за дверью конференц-зала с… ну, скажем, с сенатором Джорджем Мейсоном Уэйдом. Сенатор Саузек подмигивает, берет своего уважаемого коллегу за пуговицу жилета и придвигается к нему почти вплотную. На лице сенатора Уэйда — почтенного, солидного, многоопытного джентльмена, чрезвычайно представительного и благообразного, несмотря на выдающееся вперед брюшко, — написано любопытство и доверчивое ожидание. — Ну что, Джордж, говорил я тебе или нет — если только у Куинси выгорит это дело с ремонтом набережных, нам с тобой тоже кое-что перепадет, а? Так вот, Эд Трусдейл приезжал вчера в город. (Последняя фраза сопровождается выразительным подмигиванием: только, дескать, смотри, помалкивай!) Тут пятьсот, пересчитай-ка! Пачка желто-зеленых блестящих банкнот проворно и ловко извлекается из жилетного кармана сенатора Саузека. Сенатор Уэйд привычным движением пересчитывает их. Одобрение, благодарность, восторг, понимание озаряют лицо сенатора. Взгляд его как бы говорит: «Вот это дело!». — Спасибо, Джон. А я уже об этом и позабыл совсем. Какие порядочные люди. Если увидишь Эда, кланяйся ему от меня. А когда поставят на обсуждение бельвильский вопрос, дай мне знать. Мистер Уэйд — великолепный оратор, и к его услугам нередко прибегают, дабы настроить общественное мнение за или против тех или иных законопроектов, подлежащих обсуждению. О такой именно возможности использования его таланта он, со свойственной ему любезной предупредительностью, и напомнил. О жизнь! О неутомимые деятели на ниве законодательной! О ненасытные человеческие аппетиты и неутолимые желания! Мистер Саузек — спокойный, тихий, ненавязчивый субъект, — один из тех сельских сутяг и проныр, которым в высоких коммерческих сферах частенько находят нужным оказывать покровительство. И он неплохо справляется со своей задачей — усердный, исполнительный служака. Он не стар, не старше сорока пяти лет, приятен и мягок в обхождении, одевается строго и со вкусом и обладает необходимой в его деле выдержкой и хладнокровием. Походка у него легкая, упругая, манеры энергичные, взгляд не злой и не холодный, а спокойно оценивающий. Он — директор одного из окружных банков, крупный акционер «Ж.К.И.» — Железнодорожной компании Иллинойса, негласный пайщик газеты «Гералд» и почитается весьма важной персоной в своем округе, где пользуется большим уважением всех сельских простаков. Однако другой такой продувной бестии не сыскать ни в одном из законодательных органов штата. Мысль использовать Саузека зародилась у генерала Ван-Сайкла, который свел с ним знакомство еще в начале его политической карьеры. Вести переговоры было поручено Эвери. Известно было, что во всех законодательных махинациях в Спрингфилде, столице штата, сенатор Саузек представляет интересы «Ж.К.И.», которой принадлежала одна из самых крупных железнодорожных магистралей, проходящая через весь Иллинойс и соединяющая Чикаго с Южными, Восточными и Западными штатами. Компания эта была чрезвычайно озабочена продлением своих концессий как в Чикаго, так и в других городах, и в связи с этим по уши увязла в политических интригах штата. По странному стечению обстоятельств финансировалась эта компания преимущественно нью-йоркским банкирским домом «Хэкелмайер и Готлеб»; впрочем, связь Каупервуда с этим банком в ту пору еще не получила огласки. Явившись к Саузеку, который был руководителем республиканской партии в сенате, Эвери предложил ему с помощью судьи Дикеншитса и Джилсона Бикела, официального представителя «Ж.К.И.», взять на себя обработку членов сената и палаты в пользу некоего проекта, сущность которого сводилась к тому, чтобы включить в административную машину штата Иллинойс полномочную комиссию по образцу нью-йоркской. Проект этот имел одно маленькое побочное дополнение, очень интересное и примечательное: с момента введения вышеозначенного закона в силу все компании, обладающие теми или иными концессиями, утверждались в своих правах, привилегиях и прочее и прочее — включая, разумеется, и концессии — на пятьдесят лет вперед. Основанием для этого служило соображение, что столь радикальное мероприятие, как организация комиссии, может-де обеспокоить компании, срок концессий которых еще не истек, и нарушить их мирное процветание и благополучие. Сенатор Саузек не усмотрел ничего предосудительного в таком проекте, хотя, разумеется, с первого слова понял, к чему все это клонится и в чьих интересах затеяно. — Так, так, — сказал он, не тратя слов даром. — Все ясно. Ну, а я что от этого получу? — Если дело выгорит, вы получите пятьдесят тысяч долларов и сверх того еще по две тысячи долларов получит каждый, кто найдет для себя удобным оказать вам содействие. Если все ваши хлопоты ни к чему не приведут, вы получите за свои труды десять тысяч долларов, при условии, конечно, что будете стараться не за страх, а за совесть. Удовлетворяют вас такие условия? — Вполне, — отвечал сенатор Саузек.Глава 55
Каупервуд и губернатор штата
Законопроект о создании комиссии мог бы в ту же сессию без особого труда пройти через сенат, если бы не упомянутая дополнительная статья, предусматривающая продление концессий и довольно шатко обоснованная тем, что подобное нововведение в системе государственных учреждений может-де создать для кого-то ряд трудностей. Легко догадаться, интересы какой группы преследовало это дополнение. Репортеры, словно рои мух заполнявшие залы Капитолия в Спрингфилде, были, как всегда, начеку и очень скоро докопались до сути дела. И уродится же на земле такое зловредное племя, как репортеры! Негодные эти пройдохи, находившиеся в услужении у истеричных, скандальных, падких на всякие сенсации и сплетни и резко враждебных Каупервуду газет, проникали во все щели, умело прислуживались к сенаторам и к членам палаты и выуживали у них нужные сведения. Они пользовались доверием губернатора и деньгами конкурирующих компаний, да к тому же еще снабжали информацией друг друга. Пронесся слух… быть может, чья-то выдумка, фантазия, быть может кому-то померещилось что-то, — но вот уже сенатор Смит шепчет новость на ухо сенатору Джонсу или член палаты Джонс — члену палаты Смиту, а тот спешит поделиться полученными сведениями с Чарли Уайтом из «Глоб» или с Эдди Бэрнсом из «Демократа», а Эдди в свою очередь оповещает Роберта Хэзлита из «Пресс» или Гарри Эдмондса из «Трэнскрипт»… В результате — тревожное сообщение в одной из этих газет. Неизвестно откуда оно взялось. Ни сенатор Смит, ни сенатор Джонс ничего никому не говорили. Чарли Уайт или Эдди Бэрнс никак, разумеется, не могли обмануть доверия. Однако вот оно — напечатано черным по белому, и уже поднимается целая буря запросов, комментариев, протестов. Никто не знает, как это могло случиться, никто в этом не повинен, но тем не менее это так, и теперь борьба уже должна вестись в открытую. Пост губернатора штата Иллинойс в это время занимал некий Суонсон, человек несколько необычной наружности, темноволосый, тощий, сухопарый, склонный к углубленным размышлениям и вследствие этого имевший за плечами пеструю и нелегкую жизнь. Родился он в Швеции, но еще ребенком был привезен в Америку, где ему пришлось пробивать себе дорогу в условиях крайней нищеты. Благодаря своему твердому, настойчивому и непреклонному нраву он, занимая различные судебные и общественные должности, приобрел себе довольно много почитателей среди чикагских шведов, которые его почти боготворили. Мистер Суонсон был поочередно сборщиком налогов, городским инспектором, районным прокурором, и в течение шести или семи лет — судьей выездного суда штата. На каждой из этих должностей он обнаруживал стремление быть честным и поступать так, как считал справедливым, чем чрезвычайно расположил к себе все бескорыстные умы. Он и в самом деле был честен, любил скорбно размышлять над тяжкой участью бедняков и в бытность свою районным прокурором, а потом судьей штата вынес несколько решений, которые сделали его весьма непопулярным среди сильных мира сего. Иски по обвинению крупных компаний в мошенничестве или незаконном присвоении городского имущества в виде земельных участков, занятых под железнодорожными путями, пристанями и т. п., иски о возмещении городу убытков и прочие иски такого же рода судья Суонсон всегда решал в пользу города, и население, читая в газетах сообщения о его деятельности и слушая его выступления по самым разнообразным поводам, проникалось к нему симпатией. Он был мягкосердечен, доброжелателен, вспыльчив, обладал блестящим даром речи и производил впечатление человека весьма незаурядного. А в дополнение ко всем этим особенностям своей натуры губернатор Суонсон был горячим, но робким поклонником женского пола, что, как мы знаем, так часто присуще неказистым, застенчивым интеллигентным аскетам всего мира, расплодившимся на этой планете к великому стыду нашего лицемерного века, оболгавшего в угоду ханжеской догме свою самую яркую мечту, самую нежную печаль, самую большую радость. Все это вместе взятое восстановило против губернатора ультраконсервативные элементы общества, и он прослыл человеком опасным. Тем временем путем удачного помещения имевшихся у него средств и самой суровой бережливости ему удалось сколотить довольно порядочный капитал. Совсем недавно, впрочем, губернатор попал впросак: увлекшись небоскребами, он имел неосторожность вложить почти все свое состояние в одно кое-как построенное и потому совершенно бездоходное здание, предназначавшееся для различных учреждений и контор. Этот коммерческий промах грозил ему разорением. Губернатор уже начал обивать пороги кредитных обществ. Противодействие враждебных Каупервуду финансистов вкупе с газетами и губернатором представляло тройной барьер на пути к осуществлению его замыслов, и взять этот барьер было не так-то легко. Газеты, своевременно разгадав, кому и для чего понадобилось создавать новую комиссию, поспешили довести это открытие до сведения своих читателей. В конторах Шрайхарта, Арнила, Хэнда и Мэррила, а также и других центрах финансовой жизни Чикаго недолго ломали себе головы над этими новыми происками врага и вскоре разработали коварный план противодействия. — Вы понимаете, куда он метит, Хосмер? — спросил Шрайхарт Хэнда. — Он видит, что здесь, в Чикаго, мы его прижали к стенке. При таком положении вещей, как сейчас, и при существующих законах он может просить муниципальный совет продлить ему концессии только на двадцать лет, да и то не раньше, как через три-четыре года. Срок его концессий еще не истек. Каупервуд знает, что к тому времени, как он истечет, мы уже так восстановим против него общественное мнение, что никакой муниципалитет, даже самый продажный на свете, не рискнет дать ему то, чего он просит, без солидной компенсации в пользу города. А если Каупервуд согласится на такую компенсацию, ему придется поставить крест на двухсотмиллионном выпуске шестипроцентных акций Объединенной транспортной. Они не найдут сбыта. Он не может, отчисляя двадцать процентов валового дохода городу и предоставив право бесплатных пересадок, выплачивать при этом шесть процентов на двести миллионов долларов, — каждый это понимает. А он куда как ловко все это придумал и рассчитал, ему уже казалось, что у него в кармане прибавилось миллионов сто! Но этому не бывать! Мы натравим на него газеты, и они задушат этот проект, прежде чем он успеет появиться на свет. А когда Каупервуду волей-неволей придется обратиться в муниципалитет, его заставят выплачивать двадцать-тридцать процентов валового дохода городу и предоставить бесплатные пересадки с любой из его линий на любую другую. Вот тут-то мы его и прикончим. Я тоже совсем не в восторге от всех этих заигрываний с социалистическими идеями, но ничего, как видно, не поделаешь. Приходится идти и на это. Только бы нам его выжить из города, а тогда мы уж заткнем глотку газетам, и население мало-помалу все позабудет. Я во всяком случае на это надеюсь. До ушей губернатора тем временем уже долетело бывшее в то время в ходу словечко «подмазали»… Это значило, что в законодательных органах берут взятки. Губернатор не был человеком предвзятых мнений, не принимал участия в финансовой междоусобице, и бешеные нападки на Каупервуда не могли поразить его воображения — он знал им цену. Тем не менее он задумался. Он смутно прозревал честолюбивые мечты и замыслы Каупервуда. «Развратник!», «Соблазнитель!» — трубили о нем на всех перекрестках, повергая в ужас ханжей, но губернатор был равнодушен к этим истошным воплям. Он сам в поступательной смене поколений прозревал таинственные чары богини Афродиты. Он видел, как Каупервуд быстро идет к своей цели, не брезгуя никакими средствами и сметая все препятствия со своего пути. Вместе с тем ему было известно, что городские железные дороги в Чикаго работают теперь совсем неплохо. Не использует ли он, однако, во зло доверие своих избирателей, содействуя осуществлению замыслов Каупервуда? Не должен ли он, перед лицом всех этих людей, изобличить подлинные стимулы, воодушевляющие этого дельца, — алчность, непомерное честолюбие, чудовищный эгоизм, — и противопоставить им бескорыстие христианской идеи и демократического принципа? Когда в борьбу за обладание материальными ценностями вплетается борьба идей, жизненные столкновения приобретают особый драматизм, вдохновляющий художников и поэтов. Не потому ли горят неугасимым светом сигнальные огни Трои, не смолкая стучат конские копыта под Арбелой, вечно гремят пушки Ватерлоо? В далеком, застроенном неказистыми бревенчатыми домишками штате Иллинойс, население которого состояло преимущественно из простых сельских жителей, любивших потанцевать на ярмарках под звуки скрипки, произошло решительное столкновение интересов, и с точки зрения губернатора штата это было не что иное, как столкновение идеалов отдельной личности с идеалами народа. Мечтам, стремлениям одного человека противостояли здесь мечты, стремления города, штата, нации — беспомощное барахтанье демократии, ощупью, вслепую силившейся подняться на ноги. После упорных размышлений губернатор Суонсон решил наложить свое вето на новый законопроект, но Каупервуд не пал духом; он был уверен в силе своей логики, в своем знании людей и решил не жалеть ни денег, ни трудов, чтобы добиться победы. Он должен был воссесть, наконец, на тот величественный престол, который создал для себя в мечтах. С великим трудом протащив свой проект через законодательные органы под прицельным огнем всех газет, он, не теряя ни минуты, начал засылать к губернатору своих эмиссаров — членов законодательного собрания, представителей «Ж.К.И.» и других, официально не связанных с ним агентов различных компаний. Но губернатор Суонсон был непреклонен. Нет, он не подпишет законопроекта, совесть ему этого не позволяет. Тогда в кабинете губернатора, в том самом злосчастном здании, которое угрожало рано или поздно вконец разорить его и было причиной его постоянных тревог и забот, появился сияющий самодовольством судья Наум Дикеншитс, ныне — главный поверенный Северо-чикагской транспортной. Грузный, холеный, раскормленный, он был житейски мудр, любил пофилософствовать и обращал на себя внимание тяжелым, жестким взглядом и слащаво-льстивыми манерами. Губернатор Суонсон не был знаком с мистером Дикеншитсом, но слышал о нем немало. — Как вы поживаете, господин губернатор? Счастлив видеть вас опять в Чикаго. Если верить утренним газетам, вы заняты сейчас этим саузековским законопроектом? Мне бы хотелось потолковать с вами насчет него, если вы ничего не имеете против. Я уж недели три все собирался в Спрингфилд, — хотел повидаться с вами, прежде чем вы примете какое-нибудь решение по этому вопросу. Позвольте спросить вас — вы думаете наложить вето на законопроект? Бывший судья, чисто «выбритый, отменно одетый, надушенный, улыбающийся, имел при себе объемистый кожаный портфель, который он поставил на пол, прислонив к ножке кресла. — Да, господин судья, — отвечал губернатор Суонсон. — По правде говоря, я уже решил наложить вето. Не вижу никаких оснований поддерживать этот законопроект. Как я понимаю, он преследует очень узкие, очень эгоистические цели, не вызван насущной необходимостью, и, следовательно, в нем нет сейчас никакой нужды. Губернатор говорил с легким шведским акцентом, своеобразным и даже приятным. Затем последовало мирное и несколько философское обсуждение всех «за» и «против». Губернатор был утомлен, немного рассеян, но тем не менее считал своим долгом терпеливо и беспристрастно выслушать все, уже не раз слышанные им доводы. Он знал, конечно, что судья Дикеншитс является поверенным Северо-чикагской транспортной компании. — Я очень рад, что имел возможность узнать ваше мнение, господин судья, — сказал в заключение губернатор. — Будьте уверены, что я всесторонне обдумал этот вопрос. Мне известно, как вершатся дела в Спрингфилде. Мистер Каупервуд способный человек, и я осуждаю его действия ничуть не больше, чем действия двадцати других предпринимателей, которые сейчас орудуют там. Я знаю, в чем причина его затруднений. Едва ли меня можно заподозрить в симпатии к его врагам, ибо они отнюдь не симпатизируют мне. Я даже не прислушиваюсь к тому, что кричат газеты. Но я верю в демократию, я исповедую идеалы, которые чужды некоторым людям, и в своих поступках руководствуюсь этими идеалами. Я еще не наложил вето на законопроект и не стану утверждать, что мое решение поколебать невозможно. Однако, если мне не будет представлено каких-либо более веских доводов в пользу законопроекта, чем те, которые приводились до сих пор, я останусь при своем мнении и вето наложу. — Господин губернатор, — сказал судья Дикеншитс, поднимаясь со стула, — разрешите мне поблагодарить вас за любезный прием. Меньше всего на свете хотел бы я оказывать на вас давление вразрез с вашими убеждениями, вразрез с тем, что вы считаете справедливым и честным. Я пытался только обратить ваше внимание на то, как важно, как безусловно справедливо и правильно было бы изъять этот вопрос о концессиях из сферы предубеждений, личных пристрастий, зависти, газетного ажиотажа и других посторонних влияний, которые пущены сейчас в ход, чтобы затруднить деятельность мистера Каупервуда. Все это зависть, и только зависть. Враги мистера Каупервуда готовы попрать все принципы чести и справедливости, лишь бы его уничтожить. В этом все дело. — Возможно, что и так, — отвечал Суонсон. — Но вопрос этот имеет еще одну сторону, о которой вы, по-видимому, забываете или же не считаете нужным принимать ее во внимание. Конституцией штата народу даровано право пересматривать выданные ранее концессии — в те сроки и на тех условиях, которые обусловлены контрактом. То, что вы предлагаете, — это узурпирование прав народных. Вы хотите лишить народ возможности свободно, вне всякого контроля и влияния со стороны законодательных органов, пересматривать свои взаимоотношения с предпринимателями. Заставлять законодательные органы, путем давления на них или каким-либо иным путем, вмешиваться в эти взаимоотношения — неправильно и незаконно. То, чего вы хотите добиться при помощи вашего законопроекта, вам следует предложить народу на следующих выборах, чтобы избиратели могли либо согласиться с вашими мероприятиями по доброй воле, либо, также добровольно, отклонить их. Вот как это должно быть сделано. А приходить в законодательное собрание, оказывать на него давление, покупать голоса, а потом ждать, что я поставлю под законопроектом свою подпись, — нет, это не пройдет. Суонсон не горячился, не разоблачал происки Каупервуда. Он говорил спокойно, твердо, даже доброжелательно. Дикеншитс провел рукой по широкому лысеющему лбу. Казалось, он что-то обдумывал… вероятно, какой-то новый, еще не использованный довод или способ воздействия. — Что ж, господин губернатор, — сказал он, — так или иначе, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы любезно приняли и выслушали меня. Между прочим, я вижу — у вас тут довольно вместительный сейф. — Дикеншитс поднял с пола свой портфель. — Не разрешите ли вы мне оставить этот портфель у вас на сохранение денька на два. Я еду за город, а здесь кое-какие бумаги, которые мне бы не хотелось брать с собой. Не откажите запереть его в сейф, а я потом пришлю за ним. — Охотно, — отвечал губернатор. Он взял портфель, положил его на нижнюю полку и запер сейф. Обменявшись дружеским рукопожатием, губернатор и судья расстались. Губернатор вернулся к своим размышлениям, судья поспешил на поезд. На следующее утро губернатор Суонсон снова сидел у себя в кабинете и снова с тоской думал о том, где ему раздобыть сто тысяч долларов, чтобы выплатить проценты по закладным и произвести ремонт дома. Словом, покрыть расходы по этому злополучному зданию, которое никак не оправдывало себя и поглощало все его доходы. Вдруг дверь кабинета распахнулась, и мальчик-рассыльный подал губернатору визитную карточку Фрэнка Алджернона Каупервуда. Губернатору еще никогда не приходилось с ним встречаться. Каупервуд вошел — бодрый, стремительный, энергичный. Губернатор подумал, что этот финансист похож на новый, только что отпечатанный доллар — так он был вылощен, опрятен, свеж. — Губернатор Суонсон, если не ошибаюсь? — Да, сэр! Они посмотрели друг на друга испытующе и настороженно. — Мое имя Каупервуд. Мне нужно сказать вам несколько слов. Много времени я у вас не отниму. Переливать из пустого в порожнее и заново приводить уже известные вам доводы я не стану. Мне достаточно того, что вы их знаете. — Да, я имел вчера беседу с судьей Дикеншитсом. — Вот именно. Теперь, поскольку вам все уже известно, разрешите мне затронуть еще один вопрос. Я знаю, что вы — человек сравнительно небогатый и все ваши средства вложены в этот дом. Я знаю также, что вы дважды пытались сделать заем в размере ста тысяч долларов и получили отказ, так как не могли предоставить никакого обеспечения, кроме этого дома, который уже заложен и перезаложен. Вам, я полагаю, известно, что те лица, которые борются против меня, борются и против вас. С их точки зрения — я негодяй, ибо я эгоист и честолюбец, иначе говоря — черствый материалист. Вы — хотя и не негодяй, но человек опасный, потому что вы идеалист. Подпишете вы этот законопроект или не подпишете, вам все равно не бывать больше губернатором штата Иллинойс, если людям, которые борются также и против меня, удастся, что вполне вероятно, одержать над вами победу. Темные глаза губернатора загорелись. Он утвердительно кивнул. — Господин губернатор, я пришел сюда, чтобы подкупить вас, если это мне удастся. Я не разделяю ваших идеалов. Я не верю, что в конечном счете от них может быть какой-нибудь прок. Вероятно, есть еще много такого, во что вы верите, а я нет. А жизнь, быть может, и совсем не похожа на то, как вы или я ее понимаем. Независимо от этого, вы вызываете во мне гораздо больше симпатии, чем большинство людей. Я готов одолжить вам сто тысяч долларов, так-как знаю, что вы сейчас в этом нуждаетесь, или двести, триста, четыреста тысяч — сколько потребуется. Вам нет нужды возвращать мне эти деньги, но, если хотите, можете и возвратить. Как вам будет угодно. В портфеле, который судья Дикеншитс оставил вчера в вашем сейфе, лежит триста тысяч долларов наличными деньгами. У Дикеншитса не хватило духу сказать вам об этом. Подпишите законопроект и дайте мне возможность одолеть моих врагов, которые мечтают сейчас одолеть меня. В дальнейшем я буду поддерживать вас всеми имеющимися в моем распоряжении средствами — и деньгами и влиянием — в любой политической кампании, в которой вы захотите принять участие, будь то выборы в сенат штата или в американский конгресс. Глаза Каупервуда смотрели дружески, приветливо, как глаза преданной овчарки. Они светились пониманием, сочувствием, более того — в них было философское осознание недоступного ему душевного мира! Суонсон встал. — Вы что же — открыто заявляете, что пришли меня подкупить? Так следует вас понимать? — спросил он и уже хотел было по привычке разразиться высокопарной обличительной тирадой, но вдруг почувствовал, что не может, хотя бы на минуту, не встать на точку зрения Каупервуда. Они шли разными путями, в разных направлениях, но куда приведут их эти пути? — Мистер Каупервуд, — продолжал губернатор, и глаза его заискрились, а гримаса, появившаяся на лице, сделала его похожим на выразительные лица Гойи. — Я должен был бы негодовать, но не могу. Я понимаю вашу точку зрения. Но, к сожалению, ни вам, ни себе помочь не в состоянии. Мои политические убеждения, мои идеалы вынуждают меня наложить вето на законопроект. Если я пожертвую ими, я должен поставить крест на своей общественной деятельности. Быть может, меня не изберут больше губернатором, но это не так уж важно. Я мог бы, конечно, воспользоваться вашими деньгами, но не сделаю этого. А теперь позвольте пожелать вам всего наилучшего. Он не спеша подошел к сейфу, открыл его, вынул портфель и протянул Каупервуду. — Вам придется взять это с собой, — сказал он. Они молча посмотрели друг на друга с любопытством, смешанным с сожалением; один — отягощенный денежными, общественными и моральными заботами, другой — исполненный непоколебимой решимости не сдаваться, даже в случае поражения. — Господин губернатор, — сказал в заключение Каупервуд самым любезным, веселым и безмятежным тоном, — вам еще предстоит увидеть, как другое законодательное собрание и другой губернатор подпишут интересующий меня законопроект. В нынешнюю сессию этого, по-видимому, не произойдет, но рано или поздно так будет. Я не сложу оружия, потому что считаю мое дело правым. Тем не менее, даже наложив вето, можете прийти ко мне, и я одолжу вам сто тысяч долларов, если у вас будет в них нужда. Каупервуд ушел. Губернатор наложил вето на законопроект. Достоверно известно, что вслед за этим он занял у Каупервуда сто тысяч долларов, чтобы спасти себя от разорения.Глава 56
Испытание Беренис
Когда весть о том, что губернатор Суонсон отказался подписать законопроект, а у законодательного собрания не хватило мужества провести его вопреки губернаторскому вето, достигла ушей Шрайхарта и Хэнда, они возликовали. — Ну что, Хосмер, — сказал Шрайхарт, встретившись на следующий день со своим приятелем в их излюбленном клубе «Юнион-Лиг», — похоже, что мы в конце концов делаем некоторые успехи? А, как вам кажется? На этот раз нашему милейшему Каупервуду не удался его трюк? И мистер Шрайхарт в каком-то почти исступленном восторге уставился на своего почтенного коллегу. — Да, на сей раз не выгорело. Интересно, до чего он еще додумается? — Не знаю, но, по-моему, больше ничего изобрести нельзя. Он понимает, конечно, что ему уже не возобновить своих концессий без солидной компенсации, которая неминуемо поглотит большую часть его прибылей, а тогда — прощай выпуск «Объединенных транспортных». На этот свой законопроект мистер Каупервуд потратил не меньше трехсот тысяч долларов, а чего он достиг? В следующий раз, если только я хоть что-нибудь в этом смыслю, новое законодательное собрание вообще поостережется связываться с ним. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из спрингфилдских политиков отважился еще раз привлечь на себя огонь всех газет. Шрайхарт изрекал все это важно, величественно, до крайности самодовольно, ведь, как-никак, а его идея — науськать на Каупервуда газеты — начинала приносить плоды. Хэнд был настроен не столь оптимистично. По складу своего характера он склонен был считать преходящим любой успех и всегда опасался каких-либо новых подкопов и подвохов. Поэтому он выразил удовлетворение, но не уверенность. Быть может, Шрайхарт и прав, а быть может нет.Поселившись в Нью-Йорке, Каупервуд с каждым днем ощущал все острее тщетность своих попыток добиться для Эйлин признания в свете. «Да и к чему это?» — не раз говорил он себе, оценивая ее суждения, поступки, наивные планы и мечты и невольно вспоминая вкус, грацию, такт, изысканность Беренис. Он чувствовал, что Беренис могла бы искусно и тонко победить предубеждение, которое существовало против него в свете и наносило ему такой ущерб. Это — чисто женская задача, говорил он себе, и ничего ему не добиться, пока около него нет настоящей женщины. А Эйлин, дивясь тому, что одного богатства может быть недостаточно для успеха, что нужны еще какие-то качества, которыми она, по-видимому, не обладала, тем не менее не в силах была отказаться от своей мечты. В чем же секрет? — спрашивала она себя снова и снова. Чем эти светские дамы так отличаются от прочих смертных? Самый вопрос уже содержал в себе ответ, но Эйлин этого не понимала. Она все еще была очень хороша, блистательна даже, и все еще страстно любила наряжаться и украшать себя соответственно своим вкусам и понятиям об элегантности. Газеты подняли такую шумиху вокруг прибывшего с Запада нового архимиллионера и воздвигнутого им дворца, что уже все приказчики и рассыльные отелей знали Эйлин в лицо. Всякий раз, когда ей случалось появляться в общественных местах, она чувствовала устремленные на нее любопытные взоры, слышала за своей спиной шепот, а порой и довольно громкие замечания. Это, конечно, чего-нибудь да стоило! И как вместе с тем это было ничтожно по сравнению с известностью тех избранных особ, которые с высоты своего величия даже не замечают подобных признаков популярности! Но в чем же, в чем секрет успеха? Перед отъездом из Чикаго Каупервуд сумел убедить Эйлин, что в Нью-Йорке он упорядочит свою жизнь, покончит с любовными интрижками и создаст хотя бы некое подобие прочного и дружного супружеского союза. Однако, когда переселение совершилось, Эйлин увидела, что Каупервуд всецело поглощен своими финансовыми и политическими затруднениями и своей художественной коллекцией и не интересуется тем, что происходит в их новом доме. Как и прежде, она в одиночестве проводила вечера, а он внезапно появлялся и так же внезапно исчезал. Но сколько бы ни злилась на него Эйлин — в душе или бурно, открыто, — какие бы ни принимала решения, она не могла излечиться от своего чувства к этому человеку, который, как ей казалось, превосходил всех силой ума и характера. Ни благородство, ни добродетель, ни милосердие или сострадание не принадлежали к числу его достоинств, но он покорял ее своей веселой, кипучей, непоколебимой самоуверенностью и упорным, деятельным стремлением к красоте, которая, словно солнечный луч, заставляет искриться и сверкать мутные воды житейского моря. Жизнь со всем, что в ней есть темного и мрачного, не могла, как видно, омрачить его душу. Погруженная в свои думы, Эйлин праздно бродила по созданному им чудесному дворцу и, казалось, вновь познавала Каупервуда. Серебряный фонтан во внутреннем дворике, усаженном орхидеями, мраморные стены, струившие розовое сияние, диковинные заморские птицы и ряд великолепных полотен в огромной картинной галерее — все это было частью его самого, отражением его беспокойной души. И горько было думать Эйлин, что она потеряла этого человека, потеряла после всего, что связывало их когда-то, не сумела навеки приковать его золотыми и крепкими цепями страсти к подолу своего платья! Горько думать, что он уже не побредет рабом своего желания за победной колесницею ее любви и красоты. И все же Эйлин не могла и не хотела отказаться от него. Меж тем Каупервуд, проявив ни с чем не сравнимую выдержку, такт и стоическое пренебрежение к уколам самолюбия, сумел в конце концов восстановить, хотя бы на время, прежние материальные взаимоотношения с семейством Картеров. Для миссис Картер он был, как и раньше, посланцем небес. Со слезами на глазах она молила дочь снизойти к просьбе Каупервуда, ручалась за его бескорыстие, указывала на его многолетнюю щедрость. Беренис раздирали противоречия: ее манили роскошь, власть, возможность блистать в свете… и желание как-то сообразоваться с моральными и этическими требованиями окружавшей ее среды. Каупервуд был человек женатый и вместе с тем не скрывал своего влечения к ней; тем зазорнее было брать от него деньги. Беренис нередко думала о его отношениях с Эйлин, о причинах их семейного разлада, удивлялась, почему Каупервуд не знакомит ни ее, ни ее мать со своей женой. Какова она — эта вторая жена мистера Каупервуда? Он упоминал о ней лишь вскользь, в скупых, ничего не значащих фразах. Беренис решила даже попытаться, как бы невзначай, увидеть где-нибудь Эйлин, но случилось так, что ее любопытство было удовлетворено неожиданно для нее самой. Однажды в опере кто-то из сопровождавших ее друзей и поклонников шепнул ей на ухо: — Взгляните, в девятой ложе — дама в белом атласном платье, с зеленой кружевной мантильей… — Да? — Беренис поднесла бинокль к глазам. — Это миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд, жена чикагского миллионера. Они только что выстроили себе дом на углу Шестьдесят восьмой улицы. И, как видно, абонируют девятую ложу. Беренис чуть-чуть вздрогнула, но тут же овладела собой и ограничилась небрежным, равнодушным взглядом в сторону девятой ложи. А потом украдкой снова навела бинокль и принялась изучать миссис Каупервуд. Не без любопытства отметила она, что волосы у Эйлин почти такого же оттенка, как и у нее, только еще золотистее. Она рассматривала ее чуть подведенные глаза, нежные щеки и полный рот, уже слегка огрубевший от алкоголя и беспорядочной жизни. Беренис решила, что Эйлин очень хороша, чувственно красива, но не молода, много старше ее самой. Что же отвратило от нее Каупервуда — возраст или то глубокое духовное различие, которое несомненно существует между ними? Миссис Каупервуд, конечно, было уже за сорок. Впрочем, сделав этот вывод, Беренис никакого удовлетворения не ощутила. По правде говоря, ей было все равно. Она подумала только, что эта женщина, как видно, отдала Каупервуду свои лучшие годы — светлую пору своего девичества. А теперь она ему прискучила. Под глазами и в углах рта Эйлин Беренис разглядела крошечные, тщательно запудренные морщинки… Впрочем, держалась миссис Каупервуд совсем как маленькая, избалованная девочка и была преувеличенно весела. С ней в ложе находилось двое мужчин: один — известный актер, красавец с мефистофельской внешностью и довольно темной репутацией, другой — молодой светский шалопай. Ни один из них не был знаком Беренис. Она почерпнула эти сведения от своего спутника — болтливого молодого человека, неплохо знакомого, по-видимому, с жизнью веселящегося Нью-Йорка. — Говорят, она пользуется огромным успехом среди нашей богемы, — заметил молодой человек. — Если эта дама надеется быть принятой в обществе, такое начало нельзя назвать удачным, как вы полагаете? — А вы думаете, что она к этому стремится? — Все признаки налицо — ложа в опере, дом на Пятой авеню. Эта встреча слегка взволновала Беренис, хотя она и чувствовала свое неоспоримое превосходство. Разве ее душа не парила высоко над тем пошлым, тривиальным мирком, где обитали такие, как Эйлин? Даже самый выбор спутников, с которыми эта женщина явилась в театр, уже был промахом — он указывал на отсутствие разборчивости. При том положении, какое Каупервуд сумел себе завоевать, он, конечно, должен быть недоволен такою женой. Она даже не может идти с ним в ногу, не поспевает за ним в его непрестанном продвижении, не говоря уже о том, чтобы лететь впереди, подобно крылатой Победе. Будь она женой такого человека, думала Беренис, он никогда не узнал бы ее до конца. Вечно изумляться и вечно терзаться сомнениями стало бы его уделом. Морщины тревоги и разочарования не избороздили бы ее лица. Она бы дразнила, и интриговала, и таилась бы, и ускользала от него. А ее будущему супругу, кто бы он ни был, оставалось бы только благоговеть перед ней и покоряться. А впрочем, ей уже двадцать два года, и она еще не замужем, и прошлое внушает ей постоянную тревогу, а почва под ее ногами неверна и коварна. Печальную историю ее матери знают и Брэксмар, и Билз Чэдси, и Каупервуд. И еще кое-кто из знакомых, помнится, был в ресторане «Уолдорф» в тот роковой вечер. Долго ли узнать и остальным? Беренис старалась избегать матери, Каупервуда и потому охотно принимала приглашения и подолгу гостила то у одних своих друзей, то у других. Стремясь прогнать тягостные мысли, она стала искать применения своим талантам. Сначала взялась за живопись. Написала несколько акварелей и отправилась с ними к скупщикам. Все ее работы отличались утонченностью, но были холодны и отвлеченны. Снежный пейзаж с пурпурными отблесками заката, погруженный в размышления сатир — тяжелый, словно отлитый из чугуна, на фоне утонувшей в сумраке долины. Мефистофель, подглядывающий за молящейся Маргаритой. Интерьер в голландском духе, подсказанный обликом миссис Бэтджер, и несколько пляшущих фигур. Флегматичные торговцы мрачно просматривали акварели и равнодушно изрекали, что в них что-то есть, но все равно никто их не купит. Новичков много. Путь искусства долог и тернист. Если она будет работать… Пусть принесет еще что-нибудь. Беренис от живописи обратилась к танцам. Новый вид этого искусства — танец-пантомима — недавно был завезен в Америку, и некая Алтея Бейкер наделала много шуму своими выступлениями. Беренис решила, что она может затмить эту танцовщицу или, на худой конец, разделить с нею ее успех, и с этой целью придумала и разучила несколько танцев. Один из них назывался «Испуг». Юная нимфа резвится весной в лесу и внезапно подвергается нападению фавна. Другой танец назывался «Павлин». Это была фантазия на тему спесивого самолюбования. Еще один — «Весталка» — воспроизводил древнеримские обрядовые пляски. Беренис уехала в Поконо и провела там несколько дней перед большим трюмо, изобретая позы и обдумывая костюмы, а затем, вернувшись в Нью-Йорк, обмолвилась как-то о своей затее миссис Бэтджер. — Меня уже давно тянет заняться каким-нибудь искусством, — заявила она. — А попутно это даст возможность зарабатывать деньги. — Моя дорогая, что вы говорите! — воскликнула миссис Бэтджер. — Это вы-то, с вашими возможностями! Выходите-ка сначала замуж, а потом уж пляшите себе на здоровье. Вы так скорее обратите на себя внимание. — С помощью мужа? Как смешно! А за кого же посоветуете вы мне поскорее выйти замуж? — Ну, что касается этого… — Миссис Бэтджер не замедлила вспомнить Килмера Дьюэлма, и в голосе ее прозвучал упрек. — Да разве вам так уж необходимо с этим спешить? Но если вы станете профессиональной танцовщицей, мне, вероятно, придется в конце концов отказать вам от дома, в особенности после того, как это сделают другие. И она нежно улыбнулась — воплощение доброжелательности и здравого смысла. Миссис Бэтджер почти всегда сопровождала свои намеки легким пофыркиванием и покашливанием. Беренис поняла, что даже самая возможность подобного разговора уже в известной степени повлияла на отношение к ней миссис Бэтджер. В этом кругу бедность считалась опасной темой. Одно упоминание о ней наводило ужас; в бедности было что-то непростительное — как в тягчайшем преступлении или пороке. А другие, подумала Беренис, и вовсе перепугаются насмерть. Тем не менее вскоре после этого разговора она сделала робкую попытку проникнуть в те сферы, где можно получить театральный ангажемент. Это была печальная попытка. Грязь, спертый воздух, маленькие тесные каморки, развязно-грубые антрепренеры, невообразимо вульгарные дебютантки и не менее ужасные обитательницы этого мишурного мирка! Грубость! Низменность! Чувственность! Бесстыдство! Словно ей в лицо пахнуло чьим-то зловонным дыханием, и Беренис отшатнулась. Какая судьба должна постичь здесь все изящное, утонченное? Можно ли в этих условиях достигнуть чего-либо, не утратив достоинства и веры в себя? Каупервуд тем временем придумал еще один способ покрепче опутать Беренис и явился к миссис Картер с предложением купить для нее дом на Парк авеню. — Вы с Беренис будете устраивать там приемы, — сказал он, — а я буду изредка появляться на этих приемах как ваш гость. — Миссис Картер, превыше всего на свете ценившая жизненные удобства, от души приветствовала новую затею Каупервуда. Если у нее будет такой дом — ее будущее обеспечено. — Я прекрасно понимаю вас, Фрэнк, — заявила она. — Вам нужно место, где бы вы чувствовали себя как дома. Все дело только в Беви. С тех самых пор, как этот несчастный дурень оскорбил меня тогда в ресторане, с ней просто сладу нет. Стоит мне что-нибудь предложить, онанепременно сделает наперекор. Вы имеете на нее гораздо больше влияния. Поговорите с ней, может быть она и согласится. Каупервуд мгновенно понял, какой ему представляется случай. Он был чрезвычайно обрадован, услыхав от миссис Картер это признание своей слабости, и поспешил объясниться с Беренис, как всегда пустив в ход обычную для него уловку криводушной прямоты. — Знаете, Беви, что мне пришло в голову? — сказал он ей как-то, застав ее одну. — Не купить ли мне для вас и для вашей матери большой дом здесь, в Нью-Йорке, чтобы вы могли принимать на широкую ногу? Мне все равно никогда не истратить всех моих денег на себя, — так уж не лучше ли истратить их на того, кто найдет им хорошее применение? А меня вы можете включить в число ваших гостей под видом двоюродного дядюшки или найти мне какую-нибудь другую должность, — прибавил он шутливо. Беренис тотчас поняла, что он расставляет ей силки, и на мгновение растерялась. Дом, да еще великолепно обставленный, — как это заманчиво! В обществе любят солидные, домовитые жилища — она давно это заметила. А какие приемы могли бы они устраивать, если бы не прошлое ее матери! Непреодолимым препятствием стало оно на их пути! Каупервуд явился к ней, словно халиф из «Тысячи и одной ночи», позвякивая золотом в карманах. Он уклончив, хитер и смотрит на нее с такой вкрадчивой, с такой подкупающей улыбкой. У него красивые руки. Тонкие и сильные… — Дом, о котором вы говорите, сделает наш долг уже неоплатным, насколько я понимаю, — колко сказала она, презрительно скривив губы. Каупервуд увидел, что, сколько он ни петлял, острый ум Беренис уже провел ее по его запутанному следу, и невольно поморщился. Она понимает, что ее судьба — в его руках… О, если бы она пожелала сдаться! В мгновение ока все его огромное состояние, до последнего доллара, было бы смиренно сложено к ее ногам! Сбылись бы все ее заветные желания, — все, что можно осуществить за деньги. И он был бы покорен ей, как раб. — Беренис, — сказал Каупервуд вставая. — Я знаю, о чем вы думаете. Вы предполагаете, что я хочу таким путем добиться чего-то в своих личных интересах. Это неверно. За все сокровища мира я бы не согласился скомпрометировать вас. Вы знаете о моем к вам отношении. Все мои деньги принадлежат вам, и вы можете распоряжаться ими, как вам заблагорассудится и на любых условиях, какие соблаговолите назвать. У меня нет ничего впереди, помимо вас, — вас и искусства. И я ничего не могу от вас требовать. Возьмите все, что у меня есть. Покорите свет, заставьте его лечь у ваших ног. Не думайте, что я когда-нибудь предъявлю вам счет. Я хочу только, чтобы вы занимали достойное вас положение. А теперь ответьте мне на один вопрос, и я никогда больше его не повторю. — Да? — Если бы я был свободен, а вы еще не замужем и ни в кого не влюблены — мог бы я надеяться? Еще никогда не смотрел он на нее с такой мольбой. Беренис широко раскрыла глаза, потом нахмурилась; лицо ее стало озабоченным, суровым и вдруг смягчилось. — Позвольте, — сказала она, тряхнув головой, и глаза ее блеснули. — Как вас понять? Это звучит почти как предложение. Вы не имеете права задавать мне такой вопрос. Вы не свободны, и нет никаких оснований предполагать, что положение может измениться. Да и к чему мне заглядывать в будущее? Она равнодушно посмотрела на него и вышла из комнаты. Каупервуд еще с минуту стоял в задумчивости. В каком-то смысле он несомненно одержал победу. Его предложение не оскорбило Беренис. Он не безразличен ей, и она стала бы его женой, если бы… если бы не Эйлин. И Каупервуд отчетливо и страстно, как никогда прежде, пожелал в эту минуту быть свободным от всяких уз. Если он хочет добиться руки Беренис, необходимо убедить Эйлин дать ему развод.
Глава 57
Последняя ставка Эйлин
О Беренис Флеминг Эйлин узнала случайно, уже после того как поселилась в своем новом доме. Она подозревала, что у Каупервуда и сейчас были связи с женщинами — может быть, с кем-нибудь из тех, кого она знала, — со Стефани, или с миссис Хэнд, или с Флоренс Кокрейн. А может быть, у нее появились и новые соперницы. Но, поскольку никто из них не посягал на ее права, Эйлин с грехом пополам утешала себя мыслью, что еще не так все плохо. Пока Фрэнк так жадно ищет перемен, думала она, пока он бросает одну женщину ради другой, и ни одной из этих коварных сирен не удалось еще прочно привязать его к себе, незачем приходить в отчаяние. Ведь все-таки это она, Эйлин, завлекла его в свои сети, и десять блаженных лет — так она полагала — безраздельно владела им. Это не удавалось еще ни одной женщине, — ни до, ни после нее. Рита Сольберг, пожалуй, могла бы добиться этого, подлая тварь! О, как самое воспоминание о ней было ненавистно Эйлин! Однако Фрэнк уже стареет. Придет день, когда он перестанет так стремиться к разнообразию, поймет, что игра не стоит свеч. И тогда он останется с ней на веки вечные, если только на склоне лет не встретит какую-нибудь Цирцею, которая привяжет его к себе и поработит, как поработила его она сама, когда-то, в раннюю пору его жизни. Так Эйлин жила в неизбывном страхе, со дня на день ожидая какого-нибудь нового неприятного открытия. И скоро настал день, когда она это открытие сделала. Как-то раз Эйлин собралась навестить кого-то из нью-йоркских знакомых, с которыми свел ее Риз Грайер, чикагский скульптор. Пересекая Сентрал-парк в своем новом автомобиле французской марки, который подарил ей Каупервуд, она случайно взглянула в сторону боковой аллеи и увидела стоявший там точно такой же автомобиль. Время было раннее, около полудня; эти часы Каупервуд обычно проводил на Уолл-стрит. Однако он был здесь, и с ним — две женщины, которых Эйлин не успела рассмотреть. Тогда она приказала шоферу повернуть обратно и остановить машину за густым кустарником, откуда была хорошо видна боковая аллея. Незнакомый Эйлин шофер что-то исправлял в моторе роскошного автомобиля, а у края дороги стоял Каупервуд и рядом с ним — высокая стройная девушка с каштановыми кудрями, отливавшими червонным золотом. Оттенок волос этой девушки напомнил Эйлин ее собственные волосы, а мечтательное и надменное выражение юного лица почему-то сразу врезалось ей в память. В автомобиле сидела пожилая женщина — по-видимому, мать девушки. Кто эти дамы? Что делает Каупервуд здесь, в парке, в этот час? Куда они направляются? В эту минуту Каупервуд улыбнулся, и жгучее чувство зависти пронзило сердце Эйлин — она слишком хорошо понимала значение этой улыбки! Как часто видела она ее когда-то на лице Фрэнка! Когда Каупервуд и незнакомка сели в автомобиль, Эйлин велела своему шоферу следовать за ними на некотором расстоянии. Вскоре автомобиль остановился у подъезда большого отеля, и обе дамы в сопровождении Каупервуда направились в ресторан. Эйлин пошла за ними следом. Ей удалось довольно ловко проскользнуть к столику за ширмой, откуда она, оставаясь незамеченной, могла беспрепятственно наблюдать за всеми посетителями. Она впивалась взглядом в незнакомку, словно хотела изучить каждую черточку этого холодного лица с нежно закругленным подбородком, с твердым, ясным взором синих глаз, прямым тонким носом и каштановыми кудрями, золотившимися на солнце. Эйлин подозвала метрдотеля и спросила у него — кто эти женщины. Щедрое вознаграждение немедленно развязало ему язык. — Миссис Айра Картер и с ней ее дочка — мисс Флеминг, мисс Беренис Флеминг. Миссис Картер носила раньше фамилию Флеминг. Когда обе дамы покинули ресторан, Эйлин продолжала следить за ними до самой двери их особняка, за которой они скрылись вместе с Каупервудом. На следующий день она нашла по адресу номер телефона и убедилась, что эти дамы действительно там проживают. Проведя еще несколько дней в тяжелом раздумье, Эйлин в конце концов наняла сыщика и установила с его помощью, что Каупервуд является завсегдатаем дома Картеров, что он содержит в отдельном гараже автомобиль для них и что дамы эти вне всякого сомнения принадлежат к избранному кругу. Эйлин не стала бы вести столь тщательный розыск, если бы не выражение лица Каупервуда, когда он смотрел на эту девчонку — и в парке и в ресторане, — если бы не этот жадный, влюбленный взгляд, не оставлявший сомнения в его чувствах. Не смейтесь над муками неразделенной любви. У ревности ледяные объятия, цепкие, как объятия смерти. День к ночь, день и ночь — запершись ли в своей одинокой спальне, или гуляя, катаясь в автомобиле, навещая своих немногочисленных знакомых — Эйлин думала об этой девушке. Бледное, тонкое лицо преследовало ее повсюду. Что видел этот устремленный вдаль, мечтательный взгляд? Любовь, преклонение Каупервуда? Да! Да! О да! Теперь погибло все и навеки! В одно мгновение развеялись все ее мечты! Прощай новая жизнь в новом доме! Прощай надежда на признание общества! А ведь она столько страдала, столько терпела… Каупервуд не приезжал домой уже вторую неделю. Эйлин вздыхала, тосковала, затворившись у себя в спальне, временами впадала в ярость и в конце концов принялась пить. А потом пригласила к себе знакомого актера, волочившегося за ней еще когда-то в Чикаго», она встречала его теперь в Нью-Йорке в театральных кругах. В тяжелом, мрачном состоянии опьянения Эйлин жаждала не столько любви, сколько мести. День за днем длилась оргия: пьянство, разврат… потом взаимные оскорбления, ненависть, отчаяние. Отрезвев, Эйлин задала себе вопрос: что подумал бы о ней Фрэнк, если бы узнал все? Мог ли бы он любить ее после этого? Или хотя бы терпеть? Впрочем, ему ведь наплевать. Так и поделом ему! Собака! О, она ему еще покажет! Все его мечты разлетятся в прах, она опозорит его на весь свет! Их имена будут трепать на всех перекрестках! Он никогда не получит от нее развода! Он хочет бросить ее, чтобы жениться на этой девчонке, — так не бывать этому! Нет! Нет! Никогда, никогда, никогда! Каупервуд вернулся, и она встретила его разъяренная, но не удостоила объяснений, а только злобно огрызнулась. Каупервуд мгновенно заподозрил, что она шпионила за ним. Он заметил ее пылающие щеки, запавшие глаза, нечистое дыхание. Как видно, она махнула рукой на все свои попытки стать светской дамой и ступила на новую стезю… Закутила! С тех пор как Эйлин переселилась в Нью-Йорк, она не сделала ни одного разумного шага, чтобы добиться признания в свете! — думал Каупервуд. Его частые отлучки, его равнодушие снова, как в Чикаго, толкнули Эйлин в общество людей, с которыми можно было забыться, но эта связь с богемой еще больше роняла ее в глазах света. Каупервуд решил поговорить с ней откровенно, признаться в своей страсти к Беренис, воззвать к ее доброму сердцу и здравому смыслу. Можно себе представить, какие сцены за этим последуют! Но так или иначе, она должна будет покориться. Гордость, ненависть, отчаяние, сознание безнадежности заставят ее это сделать. Кроме того, он может теперь закрепить за ней очень крупное состояние. Она уедет в Европу или останется здесь и будет жить в роскоши. Он ей по-прежнему будет другом, всегда поможет добрым советом, — если она этого пожелает, конечно. Разговор, который произошел между ними, был похож на тяжелый сон, на кошмар. Слова их звучали неправдоподобно и страшно среди великолепия нового дома. Представьте себе воскресный вечер. За ярко освещенными окнами дворца на Пятой авеню бушует непогода. Каупервуд уже несколько дней не отлучался из города и почти все время проводил в совещаниях с местными финансистами, которые отстаивали его интересы в законодательном собрании Иллинойса. И Эйлин уже опять тешила себя мыслью, что, быть может, любовь не занимает главного места в жизни Каупервуда, быть может, чувство не имеет больше власти над ним. В этот вечер Каупервуд был дома; он сидел в зимнем саду, среди своих любимых орхидей, и читал книгу, которую кто-то посоветовал ему прочесть, — дневники Бенвенуто Челлини. Временами он отрывался от чтения — мысли о его чикагских делах не давали ему покоя. За окнами хлестал дождь, ярко освещенный асфальт Пятой авеню был залит потоками воды, а сумрачный парк за решеткой казался эскизом в манере Коро. Эйлин в музыкальной комнате лениво наигрывала что-то на рояле. Ее мысли бродили в прошлом. Польк Линд… вот уже полгода, как она ничего не слышала о нем. Уотсон Скит, скульптор, — он тоже исчез с ее горизонта. Когда Каупервуд проводил вечер дома, Эйлин в силу давней привычки тоже никуда не уезжала и старалась быть поближе к нему. Такова власть уклада, созданного привязанностью, — мы продолжаем подчиняться ему даже тогда, когда он уже утратил всякий смысл и цену. — Какая страшная ночь! — сказала Эйлин, входя в зимний сад и слегка отодвигая парчовую штору. — Да-а, скверная погода, — отвечал Каупервуд, когда она отошла от окна. — Ты собиралась сегодня куда-нибудь? — Нет, — отвечала Эйлин равнодушно. Она снова вернулась было к роялю, но тотчас же встала, охваченная непонятной тревогой, и вышла в картинную галерею. Остановившись перед «Святым семейством» Рафаэля, одним из последних приобретений Каупервуда, она задумалась, глядя на безмятежное лицо средневековой итальянской мадонны. Богоматерь показалась ей хрупкой, бесцветной, бескостной — совсем безжизненной. Разве есть на свете такие женщины? И что в них находят художники? Правда, младенец Христос очень мил! Живопись нагоняла на Эйлин скуку; ей нравились лишь те картины, которые вызывали бурный восторг окружающих. Эйлин интересовала только сама жизнь и в наиболее ярких своих проявлениях, а никак не бледные ее подобия. Она вернулась в гостиную, прошла оттуда в зимний сад и хотела было подняться наверх, чтобы, приготовив себе виски с содой, взяться за чтение романа, когда услышала за своей спиной голос Каупервуда: — Ты очень скучаешь, скажи по правде? — Нет. Я уже привыкла к одиноким вечерам, — ответила Эйлин просто, без всякой колкости. Каупервуд, безжалостно подчинявший своим желаниям всех и вся, был порою не чужд сострадания — впрочем, столь же эфемерного, как мост, перекинутый радугой через пропасть. Ему вдруг захотелось сказать Эйлин: «Бедная девочка, нелегко тебе со мной!» Но мысль о том, как она истолкует эти слова, остановила его. Он задумался, держа раскрытую книгу на коленях и глядя на серебристые струи, которые с легким журчанием падали в бассейн и осыпали искристыми брызгами тритона и восседающих на рыбах мраморных наяд. — Ты несчастлива со мной, Эйлин, — произнес он. — Может быть, тебе будет лучше, если я совсем уйду из твоей жизни? Мысли его внезапно снова обратились к той единственной цели, которая никогда не давала ему теперь покоя, и он подумал, что сейчас представляется удобный случай высказать все. — Тебе будет лучше, а не мне, — отвечала Эйлин, Ее равнодушно-скучающий вид был только маской; она была глубоко несчастна, отчетливо сознавая, что ни мысли, ни чувства Каупервуда больше не принадлежат ей. — Зачем ты так говоришь? — спросил он. — Потому что знаю, что ты этого хочешь, и знаю, для чего ты спрашиваешь. Дело совсем не в том, чего я хочу, а в том, чего хочешь ты. А ты хочешь вышвырнуть меня, потому что я тебе надоела, выгнать вон, как старую клячу, которая отслужила свой век, и еще спрашиваешь, не будет ли мне от этого лучше! Какой ты лицемер, Фрэнк! Какой ты лживый человек! Не удивительно, что ты стал архимиллионером. Ты рад был бы пожрать весь мир, если бы у тебя хватило на это жизни. Ты думаешь, я не знаю, что здесь в Нью-Йорке есть некая Беренис Флеминг, перед которой ты пляшешь на задних лапках? Да, ты бегаешь за ней уже несколько месяцев — с тех самых пор, как мы переехали сюда, да и раньше, верно, бегал. Тебе кажется, что лучше ее никого нет, только потому, что она молода и принята в обществе. Я видела тебя в ресторане «Уолдорф» и в парке, видела, как ты не сводил с нее глаз, как ты слушал, разиня рот, каждое ее слово. Какой же ты дурак, несмотря на все твое величие! Любая девчонка, если у нее розовые щеки и кукольное личико, может обвести тебя вокруг пальца. Рита Сольберг! Стефани Плейто! Флоренс Кокрейн! Сесили Хейгенин! Да мало ли еще кто — разве я всех знаю. А миссис Хэнд, верно, до сих пор встречается с тобой, когда ты бываешь в Чикаго, дрянь паршивая! А теперь вот Беренис Флеминг с этим своим старым чучелом — мамашей! Я знаю, тебе еще ничего не удалось добиться — должно быть, мамаша себе на уме, ну да ты добьешься! Им ведь не ты нужен, а твои деньги. Смешно! Что говорить, счастливой меня, конечно, не назовешь, но только ты моему горю уже ничем помочь не в состоянии. Ты все силы приложил к тому, чтобы сделать меня несчастной, а теперь спрашиваешь, не лучше ли мне будет вдали от тебя? Ловко придумано, ничего не скажешь! Я ведь знаю тебя, как свои пять пальцев, Фрэнк! Больше ты меня уж не проведешь. Конечно, я не могу помешать тебе строить из себя дурака из-за каждой встречной девчонки и срамиться на всю Америку. Господи ты боже мой, да ведь ни одна порядочная женщина не может показаться в твоем обществе, без того чтобы не погубить своей репутации! Сейчас уже весь Бродвей знает, что ты волочишься за Беренис Флеминг. Скоро ты опозоришь ее, как опозорил других. Скажи ей: она может уступить тебе, все равно ей уже нечего терять. Если у нее было честное имя, ты давно втоптал его в грязь. Эти слова взбесили Каупервуда — особенно то, что Эйлин посмела задеть Беренис. Ну что ты будешь делать с такой женщиной? — подумал он. Ее язык стал совершенно непереносим. Сколько грубых, вульгарных слов! Настоящая мегера! Да, конечно, конечно, он совершил громадную ошибку, женившись на ней. Но в конце концов он сломит ее упорство. — Эйлин, — сказал он холодно, когда она умолкла. — Ты слишком много говоришь. Ты неистовствуешь. По-моему, ты становишься вульгарной. Разреши мне сказать тебе кое-что. — Взгляд его был тверд, и она сразу присмирела. — Я не собираюсь просить у тебя прощения. Оставайся при своем мнении. Но я хочу, чтобы ты поняла, отчетливо поняла то, что я скажу, если, конечно, в тебе есть хоть капля женского достоинства. Я не люблю тебя больше. Или, если хочешь, — как ты сама изволила выразиться, — ты мне надоела. Надоела уже давно. Поэтому я и изменял тебе. Если бы я любил тебя, я бы тебе не изменял. Теперь я люблю другую женщину — Беренис Флеминг, и думаю, что всегда буду ее любить. Я хочу быть свободным, хочу устроить свою жизнь так, чтобы испытать какую-то радость, прежде чем я умру. Ты, в сущности, уже не любишь меня. Не можешь меня любить. Я признаю, что поступал с тобой дурно, но ведь если бы я любил тебя, я бы этого не делал, не так ли? Ну, а виноват ли я, что любовь умерла? И ты не виновата. Я тебя и не виню. Пламя любви нельзя раздуть по желанию, как угли в камине. Если огонь угас — значит, все кончено. Я не люблю тебя больше и не могу любить — зачем же ты хочешь, чтобы я оставался с тобой? К чему тебе удерживать меня, почему не дать мне развода? Ты будешь так же счастлива или так же несчастна вдали от меня, как и со мной. Я хочу снова быть свободен. Я не могу быть счастлив с тобой, я понял это уже давно. Я сделаю все, что ты потребуешь. Оставлю тебе этот дом, эти картины — хотя, по правде говоря, не знаю, зачем они тебе. (Каупервуду очень не хотелось отдавать Эйлин свою коллекцию, если бы была хоть малейшая возможность избежать этого.) Я назначу тебе пожизненное обеспечение, в том размере, какой ты сама определишь, или выделю сразу большое состояние. Я хочу, чтобы ты дала мне свободу. Будь же благоразумна, Эйлин, и согласись. Каупервуд начал свою речь сидя, закончил — стоя. Когда он заявил, что его любовь умерла, — впервые смело и без обиняков признался в этом, — Эйлин побледнела и прикрыла глаза рукой. Тут он встал. Он говорил холодно, решительно, даже мстительно, пожалуй, вначале. Эйлин поняла, что в сердце его не осталось и следа былых чувств, не осталось даже воспоминаний — сладостных, связующих воспоминаний — о тех счастливых днях, часах, минутах, которые были так дороги, так незабываемы для нее. Боже мой, боже мой, так это правда? Его любовь умерла, он сам признал это… Но нет, Эйлин не верила его словам, не хотела им верить! Нет, нет, это неправда, этого не может быть! — Фрэнк, — проговорила она, приближаясь к нему, но он отшатнулся от нее. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, руки ее дрожали, губы судорожно подергивались. — Это же неправда, неправда, скажи? Ты не мог совсем, совсем разлюбить меня, Фрэнк? Ведь ты так любил меня! О Фрэнк, я злилась, я ненавидела тебя, я говорила ужасные, отвратительные вещи, но ведь это все только потому, что я люблю тебя. Всегда любила тебя. Ты сам знаешь. Я так страдала! Так страдала! Моя подушка часто бывала, мокрой от слез, Фрэнк! Я лежала и плакала ночи напролет. Или бродила до утра из угла в угол. Я пила виски, чистое, неразбавленное виски, потому что сердце у меня разрывалось от муки. Я сходилась с мужчинами, ты знаешь это, но, боже мой, боже мой, Фрэнк, ты же знаешь, что я этого не хотела, мне совсем это было не нужно! Потом мне всегда было тошно вспоминать! Ведь это только от одиночества, только потому, что ты был так неласков ко мне, совсем не обращал на меня внимания. Как я томилась, Фрэнк, как мечтала, чтобы ты опять любил меня, хоть одну ночь, один день, один только час! Есть женщины, которые умеют страдать молча, а я не могу. Мысли о тебе, воспоминания мучают меня, не дают мне покоя. Я не могу не думать о том, как я бегала к тебе на свидания в Филадельфии, как поджидала тебя, когда ты возвращался домой, как приходила к тебе на Девятую улицу и на Одиннадцатую… О Фрэнк, верно я причинила большое зло твоей первой жене. Я понимаю теперь, как она должна была страдать. Но ведь я была просто девчонка, глупая девчонка и совсем не знала жизни! Фрэнк, неужто ты забыл, как я изо дня в день приходила к тебе в филадельфийскую тюрьму? Ты сказал мне тогда, что никогда не забудешь этих дней, что будешь любить меня вечно. Разве ты не можешь любить меня, ну хоть немножко, совсем немножко! Ведь это неправда, что твоя любовь умерла! Разве я так уж изменилась, так постарела? О Фрэнк, не говори, что ты совсем не любишь меня, прошу тебя, прошу, не говори так, заклинаю тебя! Она снова попыталась приблизиться к нему, коснуться его руки, но он шагнул в сторону. Он смотрел на нее, и она была ему неприятна — и физически и духовно: в ней, казалось, воплотилось все, что он с трудом мог выносить в людях. От былого обаяния не осталось и следа, чары развеялись. Ему нужна была теперь женщина совсем иного типа, иного склада ума, а главное, главное — ему нужна была молодость, легкокрылая молодость, воплощенная в облике Беренис Флеминг. Ему было жаль Эйлин, но другое чувство господствовало в нем, заглушая голос сострадания, подобно тому, как рев бури и яростный грохот волн заглушают далекий жалобный сигнал гибнущего судна. — Ты не понимаешь. Эйлин, — сказал Каупервуд. — Я ничего не властен изменить. Моя любовь к тебе умерла. Я не могу возродить ее. Не могу заставить себя любить. Рад бы, да не могу. Ты должна это понять. Не все зависит от нашей воли. Он посмотрел на нее, и взгляд его не смягчился. Эйлин прочла в его глазах холодную, беспощадную решимость: перед ней был рассудочный делец, коммерсант, хищник, человек с каменной душой. Она поняла, что доступ к его сердцу закрыт для нее навеки, и страх, гнев, бешенство, отчаяние охватили ее; на мгновение она словно лишилась рассудка. — О Фрэнк, не говори так! Не говори! — крикнула она, не помня себя. — Прошу тебя, молю — не говори так! Ты можешь еще полюбить меня опять, немножко, если только… если только сам будешь в это верить. Разве ты не понимаешь, каково мне? Разве ты не видишь, как я страдаю? Она упала перед Каупервудом на колени и обхватила его руками. — Фрэнк! Фрэнк! О Фрэнк! — восклицала она, заливаясь слезами. — Я этого не переживу, нет, нет — я не могу этого вынести, Фрэнк! — Эйлин, возьми себя в руки, — сказал Каупервуд. — Все это ни к чему. Я не могу обманывать себя и не хочу лгать тебе. Жизнь слишком коротка. Что случилось — то случилось. Если бы я мог сказать тебе, что я тебя люблю, и сам поверить в это, я бы так и сделал. Но я не могу. Я не люблю тебя. Зачем же я буду тебя обманывать? Эйлин в душе все еще оставалась немного ребенком — избалованным, взбалмошным, капризным; вместе с тем она была отчасти и актрисой — любила преувеличения, позу. Но прежде всего она была женщиной, способной чувствовать глубоко, переживать страстно, действовать безрассудно, очертя голову. Услыхав слова Каупервуда, поняв, что он твердо решил бросить ее, об» речь на одиночество, она вне себя от отчаяния стала молить его не покидать ее совсем. Она готова делить его с другой. Ведь мирилась же она со Стефани Плейто, с Флоренс Кокрейн, с Сесили Хейгенин, с миссис Хэнд — со всеми, в сущности, кто был у него после Риты Сольберг… Она никогда не будет ему мешать. Она не следила за ним, вовсе нет, просто случайно встретила его с Беренис Флеминг… Конечно, Беренис красива, она это признает, но ведь она тоже еще хороша, пусть не так, как раньше, но все же… Разве он не может найти и для нее местечко в своей жизни? И для Беренис и для нее, для обеих? При виде такого унижения и малодушия Каупервуд почувствовал горечь, отвращение, доходившее до тошноты… ему было и больно за Эйлин и противно. Ну что тут скажешь? Как убедить ее? Как заставить понять? — Я бы хотел, чтобы это было возможно, Эйлин, — сказал он, наконец, с усилием, — но, к сожалению, это немыслимо. Эйлин вскочила на ноги. Она посмотрела на него в упор красными, воспаленными глазами; слезы ее высохли. — Значит, ты совсем не любишь меня? Совсем, совсем? — Нет, Эйлин, не люблю. Я не хочу сказать, что ты мне неприятна. Я не отрицаю, что ты по-своему очень привлекательна, и не думай, что я не сочувствую тебе. Но я не люблю тебя. Я не могу тебя любить. Тех чувств, какие были у меня к тебе когда-то, больше нет и быть не может. Эйлин молчала в растерянности, не зная, что делать, что сказать; лицо ее побелело, приобрело какую-то необычную одухотворенность. Боль, ярость, отчаяние раздирали ее душу, но, словно скорпион в кольце огня, она сумела обратить их только против самой себя. Будь проклята эта жизнь! Все уходит, и остаешься одна, совсем одна, стареть в одиночестве. Любовь ушла, и ничего нет! Ничего, ничего, пустота! В глазах ее вспыхнула решимость; казалось, она снова на мгновение обрела волю. — Ну что ж, — твердо произнесла она. — Я знаю, что мне делать. Я не стану так жить. Эта ночь будет для меня последней. Она не выкрикнула эти слова, а проговорила их совсем спокойно. Теперь он узнает, как велика ее любовь. Но Каупервуд счел ее слова за браваду, продиктованную бешенством, отчаянием, за попытку напугать его. Эйлин молча повернулась и направилась к лестнице — величественному сооружению из мрамора и бронзы, с мраморными нереидами вместо колонн и барельефами, изображающими античную пляску. Она неторопливо поднялась к себе в спальню, взяла нож для разрезания бумаги с бронзовой рукояткой и очень острым стальным лезвием в форме кинжала, прошла по внутренней галерее над зимним садом и отворила дверь в бело-розовую комнату, где щебетали птицы, стояли каменные скамьи, вились виноградные лозы, в тихом водоеме чуть поблескивала вода, а за прозрачно-мраморными стенами, казалось, вечно всходило солнце. Заперев за собой дверь, она присела на скамью, обнажила руку, внезапным резким движением всадила нож в вену, повернула его, стараясь расширить рану, и стала ждать. Ну вот, теперь она посмотрит, что он сделает, позволит он ей умереть или нет! Каупервуд продолжал сидеть в зимнем саду, где оставила его Эйлин, пораженный, раздосадованный, недоумевающий. Неужели Эйлин отважится на такой отчаянный шаг, неужели так сильна ее любовь? Каупервуд не слишком тревожился вначале; обычная женская уловка, ничего больше! Однако… А вдруг она и вправду покончит с собой? Да нет, это невозможно. Какая нелепость! Но жизнь выкидывает порой такие странные, такие безумные шутки. Эйлин пригрозила ему и ушла; поднялась наверх, — быть может, для того, чтобы привести в исполнение свою угрозу… Невероятно! Да нет, никогда она этого не сделает. Так он сидел, мучаясь сомнениями, а в душу его уже закрадывался страх. Он вспомнил вдруг, как она напала на Риту Сольберг. Каупервуд взбежал по лестнице и заглянул к Эйлин в спальню. Ее там не было. Он-быстро прошел по галерее, отворяя все двери одну за другой, пока не очутился перед мраморной комнатой. Дверь была заперта изнутри — вероятно, Эйлин там. Каупервуд толкнул ее — да, дверь на запоре. — Эйлин! — позвал он. — Эйлин! Ты здесь? — Ответа не последовало. Каупервуд прислушался. Все было тихо. — Эйлин! — повторил он. — Ты здесь? Что за нелепость, да отвечай же! — Черт возьми! — пробормотал он, отступая на шаг. — Она и вправду, пожалуй, может выкинуть такую штуку! А что, если она уже… — Из-за двери не доносилось ничего, кроме сердитого щебета птиц, потревоженных, как видно, зажегшимся светом. Пот выступил на лбу Каупервуда. Он повертел ручку двери, позвонил и приказал слуге принести запасные ключи, стамеску и молоток. — Эйлин! — крикнул он. — Если ты сию минуту не отопрешь дверь, я прикажу ее взломать. Это сделать нетрудно. Никакого ответа. — А, черт побери! — воскликнул Каупервуд, уже не на шутку испуганный. Слуга принес ключи. Каупервуд нашел нужный ключ, но не смог вставить его в замочную скважину — мешал другой ключ, вставленный изнутри. — Дайте мне большой молоток! Дайте стул! — крикнул Каупервуд. Но, не дожидаясь, пока ему все это принесут, он вставил между створками двери стамеску, налег на нее, и дверь с треском распахнулась. На мраморной скамье у края водоема, среди тропических птиц, мирно перепархивающих с ветки на ветку в нежно-розовых лучах искусственной зари, сидела Эйлин; лицо ее было бледно, волосы растрепаны, из левой руки, бессильно повисшей вдоль туловища, сочилась густая алая кровь и растекалась по полу у нее ног, словно роскошный бархатный ковер, уже начинавший слегка тускнеть по краям. Каупервуд на мгновение застыл на месте. Затем бросился к Эйлин, схватил ее руку, крикнул, чтобы послали за врачом, и, разорвав носовой платок, наложил жгут повыше раны. — Как ты могла это сделать, Эйлин! Чудовищно! Посягнуть на свою жизнь! Это не любовь. Это даже не безумие. Это просто глупость! — Ты вправду больше не любишь меня? — спросила она. — Как ты можешь спрашивать! Нет, как ты только могла это сделать! — Каупервуд был раздосадован, зол, рад, что она все-таки жива, пристыжен… — Ты не любишь меня? — устало повторила она. — Эйлин, замолчи! Я не стану объясняться с тобой сейчас. Надеюсь, ты больше нигде себя не поранила? — спросил он, ощупывая ее грудь и бока. — Зачем же ты помешал мне умереть? — сказала она все так же безжизненно и устало. — Все равно я умру. Я хочу умереть. — Ну, когда-нибудь ты, вероятно, умрешь, — ответил он. — Но не сегодня. И я не думаю, чтобы тебе сейчас очень этого хотелось. Нет, Эйлин, право, это все-таки слишком! Просто возмутительно! Он выпрямился и посмотрел на нее сверху вниз холодным, недоверчивым взглядом, который уже светился победой, даже торжеством. Ну, конечно, как он и подозревал, — все это просто фокусы. Она бы не покончила с собой. Она ждала, что он придет и будет снова, как прежде, утешать и уговаривать ее. Отлично. Сейчас он позаботится, чтобы ее уложили в постель, приставит к ней сиделку и будет всячески избегать ее в дальнейшем, Если ее намерение серьезно, пусть она осуществит его, но не у него на глазах. Впрочем, он не верил, что она повторит свою попытку.Глава 58
Расхититель народного достояния
Весна и лето 1897 года и, наконец, поздняя осень 1898 были свидетелями решающих схваток между Фрэнком Алджерноном Каупервудом и враждебными ему силами города Чикаго, штата Иллинойс и даже Соединенных Штатов Америки в целом. Когда в 1896 году был избран новый губернатор и новое законодательное собрание, Каупервуд решил без промедления возобновить борьбу. Почти год прошел с тех пор, как губернатор Суонсон наложил свое вето на саузековский законопроект, страсти стали остывать, шумиха, поднятая газетами, улеглась. Каупервуд с помощью различных благожелательных ему финансистов — в частности, Хэкелмайера и Готлеба и их тайных агентов — уже сделал попытку воздействовать на нового губернатора, и это ему отчасти удалось. Новый губернатор штата — некий капрал А.И.Арчер, или, как его иной раз величали, бывший член конгресса Арчер, — являл собой, не в пример суровому губернатору Суонсону, любопытную смесь банальности и напыщенности; это был один из тех прямодушно-изворотливых и изворотливо-прямодушных политиков, которые обычно пробираются вверх извилистым, но не слишком компрометирующим их путем. Невысокий, коренастый, с гривой каштановых волос и живыми карими глазами, энергичный, предприимчивый, он, как и многие его собратья-политики, считал такие понятия, как гражданская совесть и мораль, не существующими. В четырнадцать лет, во время войны Севера и Юга, он был барабанщиком, в шестнадцать и восемнадцать — рядовым, затем последовательно повышался в звании. Последние годы он стоял во главе общества ветеранов и привлек к себе внимание своими неутомимыми попытками добиться каких-то благотворительных пожертвований в пользу престарелых солдат, их вдов и сирот. Арчер был, что называется, «добрый американец» — то есть принадлежал к породе тех людей, которые жуют табак, сквернословят и вечно кричат о своем патриотизме; помимо этого он обладал еще изрядным честолюбием. Другие старые вояки выставляли свои кандидатуры на различные государственные посты — почему бы и ему не попробовать? Он великолепно произносил речи, вернее, выкрикивал их высоким фальцетом и пользовался известной популярностью благодаря своей самоуверенности и уменью со всеми держаться запанибрата. Будучи человеком сугубо деловой, практической складки, он не испытывал тяготения к более высокой умственной деятельности. Добиваясь губернаторского поста, он позволял себе обычные заигрывания и посулы и был в свою очередь заранее «прощупан» Хэкелмайером, Готлебом и другими финансовыми воротилами, союзниками Каупервуда, желавшими знать, какую позицию займет он в вопросе создания комиссии по концессиям. Сначала мистер Арчер не хотел брать на себя никаких обязательств. Но, убедившись, что в этом вопросе заинтересованы очень влиятельные железнодорожные компании — «Ж.К.И.», «Чикаго-Пасифик», а также, что другие претенденты на губернаторское кресло, того и гляди, могут его обскакать, Арчер не выдержал и в частной беседе пообещал поддержать законопроект, если таковой встретит сочувствие в законодательном собрании, а газеты прекратят свои злобные нападки на него. Прочие претенденты выказали примерно такую же готовность, но у Арчера оказалось больше сторонников, и он в конце концов был выдвинут кандидатом в губернаторы и благополучно избран на этот пост. Тем не менее, когда новые депутаты съехались на сессию, произошло следующее непредвиденное событие: некто А.С.Розерхайт, издатель чикагской газеты «Джорнел», случайно уселся в кресло одного из депутатов — некоего Кларенса Маллигена. Вдруг кто-то довольно фамильярно хлопнул Розерхайта по плечу, и он увидел сенатора Ладриго. Сенатор предложил ему пройти в ротонду, где и представил его, как депутата Маллигена, некоему мистеру Джерарду. Последний, не тратя лишних слов, приступил к делу: — Мистер Маллиген, я хочу договориться с вами по поводу саузековского законопроекта, который скоро будет поставлен на голосование. Мы уже имеем семьдесят голосов, но нам нужно девяносто. Как вы видите, законопроект получил второе чтение, — значит, мы сильны. Мне поручено прийти с вами к соглашению, если вы не возражаете. Вы отдадите нам ваш голос и получите две тысячи долларов, как только законопроект будет принят. Мистер Розерхайт, один из только что завербованных сторонников враждебной Каупервуду прессы, оказался в эту трудную минуту на высоте положения. — Простите, — пробормотал он, — я не расслышал вашего имени. — Джерард. Дже-ра-рд. Генри А.Джерард, — последовал ответ. — Благодарю вас. Я обдумаю ваше предложение, — отвечал мнимый депутат Маллиген. Как ни странно, но в эту самую минуту в ротонду вошел подлинный мистер Маллиген, громко приветствуемый своими коллегами. Попавший впросак мистер Джерард и его пособник сенатор Ладриго почли за лучшее исчезнуть. Само собой разумеется, что мистер Розерхайт тотчас поспешил к тем, кто стоял на страже закона и справедливости. Этот маленький, но весьма пикантный инцидент получил широкую огласку, и саузековский законопроект снова попал под огонь газетных разоблачений. Все чикагские газеты забили тревогу. Темные каупервудовские силы снова за работой! — кричали они и в не менее напыщенных выражениях предостерегали членов сената и палаты представителей от опрометчивых действий. Губернатору Арчеру ставилась в пример беспорочная добродетель бывшего губернатора Суонсона.«Вся эта затея, — писал в своей передовой трумен-лесли-мак-дональдовский «Инкуайэрер», — пахнет взятками, мошенничеством, низкими интригами. Населению Чикаго — более того, всего штата Иллинойс — слишком хорошо известно, кто именно наживется на этом новом законе. Мы не хотим, чтобы некая компания диктовала нам свою волю и создавала комиссию по концессиям. Неужели мы допустим, чтобы Фрэнк Алджернон Каупервуд — этот спрут во образе человека! — оплел своими щупальцами новое законодательное собрание, подобно тому, как он сделал это с предыдущим?»Такого рода статьи печатались во всех газетах, и это в конце концов обозлило Каупервуда и однажды заставило его прибегнуть к довольно энергичным выражениям. — Да ну их всех к черту! — сказал он как-то Эддисону, завтракая с ним. — Я имею право продлить свои концессии на пятьдесят лет и добьюсь этого. Вы поглядите, какие концессии даются в Нью-Йорке и в Филадельфии! Черт возьми, предприниматели Восточных штатов просто смеются нам в глаза! Они не могут понять, что тут у нас творится. Это все происки шайки Шрайхарта — Хэнда. Мне известно, кто это проделывает, кто дергает за веревочки этих марионеток. Газеты начинают тявкать, как только им крикнут: «Куси!» Стоит Арнилу шевельнуть пальцем, и Хиссоп становится на задние лапки. Мальчишка Мак-Дональд — на побегушках у Хэнда. Они уже так зарвались, что готовы теперь на все, лишь бы свалить ненавистного Каупервуда. Ну, так им это не удастся! Я своего добьюсь. Законодательное собрание примет законопроект, разрешающий продление концессий до пятидесяти лет, а губернатор его подпишет. Уж я об этом позабочусь. У меня по меньшей мере восемнадцать тысяч вкладчиков, все они хотят иметь какой-то толк от своих денег и будут его иметь. А кроме того, разве другие не получают прибылей? Можно подумать, что остальные компании не наживают от десяти до двенадцати процентов. А мне почему нельзя? Чем это повредит Чикаго? Разве я не держу на работе двадцать тысяч рабочих и служащих и не плачу им приличную заработную плату? Вся эта болтовня о правах населения, о каком-то долге перед народом яйца выеденного не стоит. А много ли, позвольте вас спросить, думает мистер Хэнд о своем долге перед народом, когда набивает себе карман? Или мистер Шрайхарт? Или мистер Арнил? К черту газеты! Я плюю на них! Я знаю свои права. Честные законодатели удовлетворят мое ходатайство о продлении срока концессии и не отдадут меня на растерзание акулам из чикагского муниципалитета. Тем временем газеты стали не менее внушительной силой, чем сами господа политики. Под высоким куполом Капитолия в Спрингфилде, в залах заседаний и кулуарах сената и палаты, в роскошных гостиницах и в сельских харчевнях — везде, где можно было подцепить хоть какой-нибудь слушок, — были их представители; они высматривали, вынюхивали, ловили каждую сплетню и наживали на этом столкновении двух сил славу и деньги. Именно они подстрекнули некоторых олдерменов из числа «благонамеренных» созвать массовые митинги в своих избирательных округах. Они призывали всех состоятельных лиц организоваться. Наконец сто наиболее видных чикагских граждан создали комитет под председательством Хэнда и Шрайхарта. И вскоре в залах и кулуарах Капитолия в Спрингфилде и в вестибюлях больших отелей чуть ли не ежедневно начали появляться воинственно настроенные делегации священников, благонамеренных олдерменов и представителей вновь созданного комитета, которые увещевали, угрожали, ораторствовали и удалялись лишь затем, чтобы уступить место новой делегации. — Ну, что вы скажете об этих паломничествах, сенатор? — спросил член палаты Гринаф у сенатора Джорджа Крисчена, наблюдая, как группа чикагских священников в сопровождении мэра города и нескольких наиболее почтенных граждан шествовала через ротонду, направляясь к залу заседаний железнодорожного комитета, где при закрытых дверях происходило обсуждение пресловутого законопроекта. — Не кажется ли вам, что они свидетельствуют о величии нашего гражданского духа и крепости моральных устоев? — Гринаф сплел пальцы на животе и с елейно-ханжеским видом возвел глаза к небу. — Как же, как же, дорогой пастор, — без тени улыбки ответствовал безбожник Крисчен — маленький, жилистый человечек, с быстрыми, как у хорька, глазами и желтоватым восковым лицом, украшенным жиденькими усиками и козлиной бородкой. — Но не забывайте, что господь бог призвал и нас выполнить свой долг. — Истинно так, — отозвался Гринаф, — мы должны творить добро не покладая рук. Жатва обильна, а жнецов мало. — Тише, тише, дорогой пастор. Не пересаливайте. Этак вы, пожалуй, заставите меня прослезиться, — отвечал Крисчен, и достойная пара разошлась в разные стороны, обменявшись сочувственными улыбками… Однако попытки всех этих миротворцев успокоить газеты ни к чему не привели. Проклятые газеты! Их репортеры были и тут, и там, и повсюду: они ловили на лету обрывки разговоров, слухи, разоблачали какие-то воображаемые заговоры. Никогда еще граждане города Чикаго не получали столь наглядных уроков по искусству политической интриги, никогда перед ними не раскрывались с такой откровенностью все тонкости этого искусства, вся его подноготная. Председатель сената и спикер палаты представителей были отмечены особым вниманием газет — каждому из них было сделано соответствующее предостережение, дабы они не забывали о своем долге. Уже входило в обычай посвящать целую газетную полосу работе законодательного собрания. Каупервуд теперь уже открыто выступил на арену — наглый, вызывающий, неумолимо логичный, с горящим уверенностью взором, —и, как всегда, сила его личности подчиняла себе людей. Он сбросил маску незаинтересованности, — если допустить, что когда-либо носил ее, — приехал в Спрингфилд и занял роскошные апартаменты в одной из лучших гостиниц. Подобно генералу перед решительной схваткой, он делал смотр своим войскам. Теплыми июньскими ночами, когда улицы Спрингфилда затихали и бескрайные равнины Иллинойса, раскинувшиеся на сотни миль вокруг, утопали в серебристом сиянии луны, а сельские жители мирно почивали в своих скромных жилищах, Каупервуд часами совещался со своими юристами и с представителями законодательного собрания. Ну, как не пожалеть этих бедняг, этих сельских простаков, попавших в законодательное собрание и теперь раздираемых непримиримыми противоречиями — алчным желанием полуузаконенной и легкой наживы, с одной стороны, и страхом, что их объявят предателями интересов народа, — с другой. Да, для многих провинциальных депутатов, еще никогда не державших в руках даже двух тысяч долларов, это была поистине душераздирающая дилемма. Они ходили друг к другу в номера, собирались в гостиных отелей и обсуждали эту мучительную задачу. А потом каждый, оставшись один, проводил бессонную ночь и думал, думал, думал… Знакомство с крупными воротилами, которые навязывали свою волю другим, в то время как народ должен был выступать как проситель, действовало на них растлевающе. Сколько романтически настроенных, преисполненных иллюзий молодых идеалистов — адвокатов, провинциальных издателей, общественных деятелей — превращалось здесь в циников, пессимистов и взяточников! Люди теряли всякую веру в идеалы, теряли даже последние остатки человечности. Волей-неволей они убеждались в том, что важно только уменье брать, а взяв, — держать. На первый взгляд все здесь как будто бы имело самый заурядный, будничный вид: заурядные люди, жители штата Иллинойс, простые фермеры и горожане, избранные сенаторами или членами палаты, совещались друг с другом, раздумывали, решали, как им следует поступить, — в действительности же это были джунгли, страшные джунгли, где развязаны все инстинкты, где властвуют алчность и страх, где у каждого спрятан нож за пазухой. Однако крик и шум, поднятые газетами, заставили некоторых, наиболее боязливых, законодателей попрятаться в кусты. Из родных городов и селений к ним уже начали поступать письма, написанные их друзьями-приятелями по наущению газет. Их политические противники начали поднимать голову. Приманка была близка, рукой подать, и тем не менее те, кто поосторожней, стали стыдливо отводить от нее глаза — слишком уж многое было поставлено на карту. Когда некто Спаркс, член палаты представителей, заносчивый и надменный, поднялся с места с законопроектом в руке и предложил включить его в повестку дня, произошел взрыв. По меньшей мере сто человек сразу потребовали слова. Другой член палаты представителей — Дисбек, на которого было возложено следить за действиями каупервудовских противников, подсчитал количество голосов и выяснил, что, несмотря на все происки врагов, на стороне законопроекта будет по меньшей мере сто два голоса, то есть те две трети, которые необходимы, чтобы сломить любое сопротивление. Тем не менее сторонники законопроекта из предосторожности вотировали его на второе и затем на третье чтение. Были внесены различные поправки — снижение проездной платы до трех центов в часы наибольшей загрузки линий, отчисление двадцати процентов валового дохода в пользу города. Законопроект со всеми поправками был послан в сенат, где они были вычеркнуты, после чего он еще раз возвратился в палату. Но тут, к великой досаде Каупервуда, стало очевидно, что на сей раз ему грозит провал. — Ничего нельзя сделать, Фрэнк, — сказал судья Дикеншитс. — Кому же охота лезть в петлю? Все местные газеты следят за каждым шагом своих депутатов. Они их со света сживут. Тогда была найдена другая лазейка — не столь возмутительная в глазах прессы, но куда менее удобная и для Каупервуда. Раскопав старинный закон — «Положение о порядке уличного транспорта от 1865 года», законодательное собрание даровало муниципальному совету города Чикаго право выдавать концессии сроком не на двадцать, а на пятьдесят лет. Это означало, что Каупервуд должен возвратиться в Чикаго и там довести борьбу до конца. Удар был тяжелый, но какая-то надежда все же оставалась. Стоило Каупервуду выиграть еще одну, последнюю битву в стенах чикагского муниципалитета, и он получил бы все, к чему стремился. Но удастся ли ему выиграть ее? Разве не затем, чтобы избежать риска, перенес он свою деятельность сюда, в законодательное собрание? Но тут его намерения подверглись самому жестокому разоблачению. И все же в конце концов, если плата за услуги будет достаточно высока, быть может чикагские муниципальные советники окажутся храбрее спрингфилдских законодателей? Быть может, они рискнут? Да, если он их заставит. И вот, в результате отчаянного нажима на членов законодательного собрания, уговоров, нашептываний, увещеваний, родился второй законопроект, который — после отклонения первого большинством ста четырех голосов против сорока девяти — был довольно сложным путем, через юридическую комиссию, внесен на рассмотрение законодательного собрания, и оно все же его приняло, а губернатор Арчер после тяжких раздумий и колебаний подписал его. Человек ограниченный и недалекий, он не в состоянии был оценить силу общественного негодования и все последствия своего поступка. Кроме того, за его плечом стоял Каупервуд; он смеялся своим врагам в глаза, его стальной взор сверкал торжеством, словно приветствуя уже одержанную победу, и вселял в губернатора уверенность, что всем этим газетным крикунам скоро придется поджать хвост. И еще одна подробность: Каупервуд пообещал губернатору сделать его — после принятия законопроекта — человеком богатым и независимым с помощью солидной мзды в пятьсот тысяч долларов.
Глава 59
Капитал и права народа
Сколько интриг, коварства, заговоров, газетных истерик наблюдал Чикаго в период между 5 июня 1897 года, когда законодательное собрание приняло законопроект Мирса, названный так по имени храбреца, отважившегося внести его на рассмотрение, и декабрем того же года, когда законопроект был представлен чикагскому муниципальному совету! Хотя общественное мнение было сильно восстановлено против Каупервуда, в местных коммерческих кругах все же нашлось немало спокойных, уравновешенных людей, которые не видели причин относиться к нему предвзято. Ведь и они были дельцами. Принадлежащие Каупервуду линии городских железных дорог проходили мимо их домов или предприятий. Чем, собственно, эти линии так уж сильно отличаются от прочих? Так думали те, кто в откровенном стяжательстве Каупервуда видел оправдание собственному практицизму и не боялся в этом признаться. Но против них сомкнутым строем стояли моралисты — бедные, неразумные подпевалы, умеющие только повторять то, о чем трубит молва, люди, подобные несомой ветром пыли. А помимо них были еще анархисты, социалисты, сторонники единого налога и поборники национализации. Наконец были просто бедняки, и для них Каупервуд с его баснословным богатством, с его коллекцией картин и сказочным нью-йоркским дворцом, о котором шли самые фантастические россказни, являл собой живой пример жестокого и бездушного эксплуататора. А время было такое, когда по Америке все шире и шире разносилась весть о том, что назревают большие политические и экономические перемены, что железной тирании капиталистических магнатов должна прийти на смену жизнь более свободная, более счастливая и обеспеченная для простого человека. Уже слышались голоса, ратовавшие за введение в Америке восьмичасового рабочего дня и национализацию предприятий общественного пользования. А тут могущественная трамвайная компания, обслуживающая полтора миллиона жителей, опутала своей сетью чуть ли не все улицы города и заставляла платить ей дань тех самых простых, небогатых горожан, без которых не было бы ни улиц, ни трамвая, и выкачивала из населения таким путем от шестнадцати до восемнадцати миллионов долларов в год. И при таких колоссальных доходах, кричали газеты, — обслуживание из рук вон плохое, вагоны, того гляди, развалятся, в часы наплыва давка, сесть негде, сделал пересадку — опять плати, а город не получает от этих неслыханных барышей ни цента! Скромные труженики, читая эти разоблачения при тусклом свете газового рожка у себя на кухне или в убогой гостиной своей маленькой квартирки, чувствовали, что их грабят, отнимают то, что по праву должно было бы принадлежать им. Это чувство только усиливалось, когда они читали в той же самой газете описания веселой, пышной, беспечальной жизни богачей. А ведь все, казалось, сводится к тому, чтобы заставить Фрэнка Алджернона Каупервуда исполнить свой долг по отношению к народу. Отнять у него возможность подкупать олдерменов. Не дать ему вырвать концессию на пятьдесят лет. Лишить его этой привилегии, которую он уже успел купить себе в законодательном собрании штата путем растления честных людей! На колени его! Пусть склонит, наконец, голову перед силами закона и порядка! Законопроект Мирса — результат наглого подкупа. Они там все подкуплены — и в законодательном собрании и в сенате — все, вплоть до губернатора штата! (Лица, утверждавшие это, даже сами не подозревали, как близки они к истине.) Каупервуд — взяткодатель, каких еще свет не родил. Прямых улик против него не было, но все знали, что это так. В газетах печатались карикатуры, изображавшие его то на капитанском мостике пиратского судна, отдающим своим матросам приказ потопить другое судно — «Ладью Народных Прав», то в виде насильника и бандита в черной полумаске, пытающегося похитить у прекрасной девственницы «Чикаго» и честь и кошелек. Слухи об этой борьбе уже разнеслись далеко по свету. В Монреале и Кейптауне, в Буэнос-Айресе и Мельбурне, в Лондоне и Париже газеты оповещали своих читателей о происходящей в Чикаго невиданной схватке. Имя Каупервуда получило широчайшую известность по всей Америке и даже за ее пределами. Мечта его сбылась, хотя и в несколько измененном силою обстоятельств виде. Меж тем местные финансовые тузы, те, что вдохновляли эти бешеные атаки на Каупервуда, сами испугались, увидав воочию плоды своих усилий. Правда, им удалось, наконец, решительно восстановить общественное мнение против Каупервуда, но разве они сами не получали таких же колоссальных прибылей, не охотились за такими же привилегиями, как он? И вот теперь они своими руками убивают курицу, которая несла им золотые яйца. Хэкелмайер, Готлеб, Фишел и другие могущественные капиталисты Восточных штатов, стоявшие во главе трансконтинентальных железнодорожных компаний, международных банкирских домов и прочих крупнейших предприятий страны, были потрясены: как могли газеты и все эти противники Каупервуда в Чикаго так зарваться? Где же уважение к капиталу? Неужели они там не знают, что долгосрочные концессии — основа основ капиталистического процветания? Если не положить этому конец, идеи, которые стали проповедовать в Чикаго, получат распространение и в других городах. Америка, того и гляди, станет страной антикапиталистической, социалистической. Чего доброго, они еще всерьез задумают все передать народу — и что тогда? — Все они там, в Чикаго, ведут себя в высшей степени глупо, — заметил однажды мистер Хэкелмайер мистеру Фишелу, представителю банкирского дома «Фишел, Стоун и Симонс». — Не вижу, чем мистер Каупервуд отличается от прочих предпринимателей. Мне кажется, он человек положительный и энергичный. Все его предприятия приносят доход. Лучшего помещения для капитала, чем Северная и Западная компании чикагских городских железных дорог, и не сыщешь. Я так полагаю, что следовало бы слить все чикагские городские железные дороги в одну компанию и во главе ее поставить мистера Каупервуда. Он сумеет удовлетворить вкладчиков. Как видно, он знает толк в городском железнодорожном транспорте. — Представьте себе, что я и сам уже об этом думал, — ответил мистер Фишел, такой же седой и важный, как Хэкелмайер; он, по-видимому, вполне разделял его точку зрения. — Надо положить конец этой грызне. Она чрезвычайно вредит деловым операциям! Чрезвычайно! Стоит этой бессмыслице распространиться — я имею в виду их трескотню насчет национализации и прочего, — и попробуйте тогда заткнуть крикунам глотку. И сейчас уже дело зашло слишком далеко. Мистер Фишел был плотный и круглый — совсем как мистер Хэкелмайер, только уменьшенный до миниатюрных размеров. Порой казалось, что это даже не человек, а ходячая математическая формула и под его черепной коробкой находят себе место лишь финансовые комбинации и уравнения второй, третьей и четвертой степени. И вот дела принимают совершенно новый оборот. Воспаление легких внезапно сводит в могилу мистера Тимоти Арнила, а все его акции Южных дорог переходят по наследству к его старшему сыну — Эдварду Арнилу. Мистер Фишел и мистер Хэкелмайер сначала через своих доверенных лиц, а затем и лично приступают к мистеру Мэррилу с целью склонить его на сторону мистера Каупервуда. Речь ведь идет прежде всего о прибылях, говорят они, о том, что чикагские городские железные дороги под благотворным руководством мистера Каупервуда приносят куда больше дохода, чем под эгидой мистера Шрайхарта. А кроме того, мистер Фишел желает обуздать социалистических смутьянов. Того же желает теперь и мистер Мэррил. Вслед за тем мистер Хэкелмайер берет в работу мистера Эдварда Арнила, который пока еще не так силен, как был его отец, но которому страстно хочется достигнуть такого же могущества. Тут выясняется, — как это ни странно, — что мистер Эдвард Арнил в какой-то мере считает себя даже поклонником мистера Каупервуда и уж во всяком случае не видит никакой пользы в той политике, которая может привести только к муниципализации городских железных дорог. Теперь мистер Мэррил, по просьбе мистера Фишела, приступает к мистеру Хэнду. — Нет, нет и нет! — заявляет мистер Хэнд. — Никогда! Тогда за мистера Хэнда берется сам мистер Хэкелмайер. — Нет, нет и нет! Никогда! К черту вашего Каупервуда! Но тут на сцену выступает мистер Морган Фрэнкхаузер — еще один агент господ Хэкелмайера и Фишела и компаньон мистера Хэнда по прокладке городских железных дорог в городах Миннеаполисе и Сент-Пауле, предприятии, оцениваемом в семь миллионов долларов. Почему мистер Хэнд упорствует? Разве не возмутительно из побуждений личной мести будоражить народ, укоренять в умах идею муниципализации и доставлять столько беспокойства всем крупным капиталистам? Почему бы мистеру Хэнду не уступить мистеру Фрэнкхаузеру своей доли в чикагских городских железных дорогах в обмен на «Питсбургские городские железнодорожные», акция за акцию, а потом воевать с Каупервудом, сколько его душе угодно? Мистер Хэнд поражен, озадачен; он почесывает шарообразную голову, ударяет увесистым кулаком по столу. — Никогда, черт побери! — восклицает он. — Никогда, пусть я лучше сдохну! И… уступает. «Странные штуки выкидывает иной раз жизнь! — думает он, недоуменно глядя в одну точку. — Кто бы только мог подумать!» — Шрайхарт никогда на это не пойдет, — говорит он Фрэнкхаузеру. — Умрет, а не согласится. А бедный, старый Тимоти! Будь он жив, он бы тоже нипочем не согласился. — Ах, оставьте вы Шрайхарта в покое, ради бога! — молит мистер Фрэнкхаузер, вылощенный господин, одетый на западноевропейский манер. — Хватит у меня хлопот и без него! Мистер Шрайхарт разъярен. Никогда, никогда, никогда! Да он скорее выбросит все акции на рынок! Но — один в поле не воин, а мистер Фрэнкхаузер с радостью приобретет все акции мистера Шрайхарта для мистера Фишела или мистера Хэкелмайера. И вот осенью 1897 года все линии чикагских железных дорог, принадлежащие соперникам мистера Каупервуда, преподносятся ему, как на блюде, — на золотом блюде. — Ну, мы все это уладили, — доверительно сообщает мистер Готлеб мистеру Каупервуду за изысканным обедом в отдельном кабинете нью-йоркского клуба «Метрополитен», доступного только для избранных. Время — 8:30 пополудни, вино — искристое бургундское. — Сегодня получена телеграмма от Фрэнкхаузера. Милейший человек этот Фрэнкхаузер. Нужно вас познакомить. Так вот — Хэнд продает свой пакет Фрэнкхаузеру. Мэррил и Эдвард Арнил будут работать с нами. Мы с ними прекрасно столковались. Друзья мистера Фишела скупят для него у местных держателей все акции, какие только возможно, и таким образом вместе с этими тремя главными акционерами мы получим контроль над всем предприятием. Шрайхарт исключается. Он заявил, что выходит из состава правления. Вы, верно, не очень будете этим удручены? Итак, все теперь зависит от вас — удастся ли вам добиться в муниципалитете концессии на пятьдесят лет? Хэкелмайер говорит, что он предпочел бы видеть вас во главе предприятия, а не кого-либо другого. Он хочет все передать в ваши руки. Фрэнкхаузер разделяет его мнение. Должен вам сказать, что Хэкелмайер — человек слова. Ну, вот и все. Теперь дело за вами. Желаю вам успеха. Задача у вас нелегкая — нужно прежде всего сладить с газетами, а господа Хэнд и Шрайхарт будут по-прежнему ставить вам палки в колеса. Мистер Хэкелмайер просил меня кланяться вам и спросить, не отобедаете ли вы у него на будущей неделе? Или, если вам угодно, он посетит вас.Пост мэра города Чикаго занимал в те дни некий честолюбивый карьерист по имени Уолден Х.Льюкас. Ему было тридцать восемь лет, и он пользовался популярностью; во всяком случае ему как-то удавалось всегда быть на виду. Он был очень самоуверен, недурен собой, обладал превосходным здоровьем, трезвым, расчетливым умом и холодно-рассудительным даром речи. Втайне он грезил высокими почестями и усиленно вербовал приверженцев, причем старался действовать осмотрительно и быть, так сказать, знаменем добродетели и справедливости, — впрочем, не слишком восстанавливая против себя порок. Словом, это был подающий большие надежды молодой Макиавелли из Западных штатов Америки — как раз такой человек, который, если бы захотел, мог бы сослужить неплохую службу в борьбе против Каупервуда. Каупервуд обеспокоен и спешит посетить мэра в его канцелярии. — Мистер Льюкас, мне хотелось бы выяснить, чем я могу быть вам полезен? Я целиком к вашим услугам. Быть может, у вас есть желание занять в дальнейшем более высокий пост? — Вы ничем не можете быть мне полезны, мистер Каупервуд. Мы с вами говорим на разных языках и никогда не поймем друг друга. Вы не можете понять меня, потому что я человек честный. — Ах ты, господи! — восклицает Каупервуд. — Вот уж поистине завидное самомнение и не менее завидная глубина ума! Счастливо оставаться! Вскоре после этого мэра посетил мистер Каркер — один из лидеров демократической партии штата Нью-Йорк — холодный, расчетливый, знающий свою силу политик. Каркер сказал: — Видите ли, мистер Льюкас, крупные банкирские дома Восточных штатов заинтересовались происходящей здесь у вас в Чикаго борьбой. Так, например, «Хэкелмайер, Готлеб и К°» считают, что все ваши городские железные дороги следует объединить, чтобы они могли стать соблазнительной приманкой для вкладчиков из самых широких слоев населения. Разумеется, интересы города должны при этом соблюдаться. Однако, по их мнению, двадцать лет — слишком короткий срок для такого объединения. Пятьдесят лет — минимальный срок, который мог бы их удовлетворить, но, конечно, они предпочли бы концессию на сто лет. Для предприятия с такими крупными издержками и этот срок не слишком велик. Политика, которая у вас здесь проводится, может привести только к муниципализации предприятий общественного пользования, что в настоящее время американская демократическая партия никак, разумеется, приветствовать не может. Это восстановило бы против нас всех богатых и влиятельных людей от берегов Атлантического до берегов Тихого океана. Всякий политический деятель, который будет так или иначе причастен к этим опасным идеям, может поставить крест на своей карьере. Он никогда не будет избран ни на один пост. Вы поняли меня, или, быть может, я выражаюсь недостаточно ясно? — Вполне ясно. — Убрать неугодное лицо с поста мэра города Чикаго не труднее, чем с поста губернатора в Спрингфилде, — продолжал мистер Каркер. — Мистер Хэкелмайер и мистер Фишел лично просили меня побывать у вас. Если вы хотите, чтоб вас избрали мэром города Чикаго еще на два года, или если желаете уже в будущем году занять пост губернатора, пока не придет время выставить вашу кандидатуру на президентских выборах, — что ж, все зависит только от вас. Однако при этом я считал бы крайне неблагоразумным связываться сейчас с теми, кто проповедует идею муниципализации предприятий общественного пользования. Газеты в борьбе с Каупервудом затронули вопрос, которого отнюдь не следовало бы касаться. Вскоре после этого к мэру явился мистер Эдуард Арнил, пользующийся весом в местном обществе, а за ним мистер Джейкоб Бутол, лидер демократов в Сан-Франциско. Оба хотели одного и того же и обещали мэру всяческую поддержку, если он последует их совету. Их сменила делегация, состоящая из влиятельных республиканцев Миннеаполиса и Филадельфии. И даже председатели «Лейк-Сити-Нейшнл» и «Прери-Нейшнл» — некогда ярые противники Каупервуда, почтили мэра своим посещением, дабы повторить то, что было уже не раз сказано до них. Все говорили одно и то же. Льюкаса взяло сомнение. Не рискует ли он своей политической карьерой? Стоит ли продолжать ставить палки в колеса Каупервуду? Выгодно ли теперь защищать интересы избирателей? Запомнятся ли его заслуги? Что, если газеты уступят, если их заставят пойти на попятный, как предрекал мистер Каркер? Какая неразбериха! В этих политических интересах сам черт ногу сломит! — Ну что, Бесси, — спросил он вечером свою русоволосую, пышную красавицу-жену, — как бы ты поступила? У Бесси были серые глаза и веселый нрав. Эта весьма практичная особа обладала колоссальным честолюбием, прекрасными связями и чрезвычайно гордилась высоким положением своего мужа. Она верила в его звезду. У мэра вошло в привычку советоваться с женой, когда на его пути возникали трудности. — Вот что я тебе скажу, Уолли, — ответила Бесси. — Нужно уж, друг мой, держаться чего-нибудь одного. Мне думается, массы должны на этот раз взять верх. По-моему, газеты, наделав столько шума, уже не могут теперь забить отбой. Тебе вовсе незачем ратовать за национализацию или еще что-нибудь в этом роде — это было бы несправедливо по отношению к людям состоятельным. Но я бы стояла на том, что концессия на пятьдесят лет — это уж слишком. Пусть выплачивают сколько полагается городу и получают свои концессии без всяких взяток… Это-то уж они могут сделать! Я бы на твоем месте держалась прежней линии. Без поддержки избирателей ты же не можешь шагу ступить, Уолли. Без них ведь никак не обойдешься. Если ты потеряешь их доверие, никакие политические заправилы, да и никто на свете тебе не поможет. Было ясно, что наступило время, когда с массами приходится считаться. Да, хочешь не хочешь, а считаться приходится!
Глава 60
Ловушка
Буря негодования, вызванная махинациями Каупервуда в Спрингфилде весной 1897 года, бушевала без устали до самой осени, и газеты Восточных штатов день за днем освещали все ее перипетии. «Фрэнк Алджернон Каупервуд — против штата Иллинойс» — так определила это единоборство одна из нью-йоркских газет. Всякая популярность обладает большой притягательной силой. На кого не произведет впечатления ореол известности, который окружает некоторых людей, придавая им особый блеск? Попалась на эту удочку и Беренис. Как-то раз чикагская газета, забытая Каупервудом на столе, привлекла ее внимание. В пространной редакционной статье перечислялись разнообразные преступления Каупервуда — в частности, его интриги в законодательных органах штата — и далее говорилось так: «Этот человек отличается врожденным, закоренелым, неистребимым презрением к массам. Люди для него лишь пигмеи, рабы, обреченные тащить на своем горбу величественный трон, на котором он восседает. Еще ни разу в жизни Фрэнк Каупервуд не снизошел до прямого и честного обращения к населению, когда ему нужно было что-либо от него получить. Так, в Филадельфии он стремился завладеть конкой мошенническим путем — через подкупленного им городского казначея. В Чикаго повторились те же попытки — с помощью взяток завладеть наиболее доходными предприятиями города, использовать их в своих корыстных целях, тогда как они должны были служить на благо общества. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в силу народа, не возлагает на него никаких надежд. Общество для него — это только нива, с которой он хочет снимать обильную жатву. Он мысленно видит перед собой ряды согбенных спин: люди повержены на колени, в грязь. Они склонились ниц, припав лицом к земле, а он шагает по этим согбенным спинам — вперед, к господству. В тайниках своей души он не признает никого и ничего, кроме себя. Он сторонится масс, боясь, как бы нужда и нищета не отбросили на него мрачной тени, не потревожили его эгоистического благополучия. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в народ!» Это грозное обличение, прогремевшее в спрингфилдских газетах в момент, когда в законодательном собрании шли решающие бои, и подхваченное чикагской прессой, а затем и другими газетами, произвело сильное впечатление на Беренис. Она думала о Каупервуде — о том, как он ведет этот отчаянный поединок, разъезжает из Нью-Йорка в Чикаго и обратно, строит свой великолепный дворец, собирает картины, воюет с Эйлин, — и мало-помалу он превращался в ее глазах в существо почти легендарное, приобретая черты не то сверхчеловека, не то полубога. Как же можно требовать от него, чтобы он шел проторенным путем, подчинялся каким-то раз навсегда установленным трафаретным правилам? Это невозможно, и этого никогда не будет! И этот-то человек добивается как милости ее расположения, благодарен ей за каждую мимолетную улыбку, готов покорно исполнять все ее прихоти и капризы. Что ни говорите, а любая женщина таит в сердце мечту о герое — своем будущем избраннике. Если одни люди создают себе идолов из камня или полена, то другим требуется какое-то подобие настоящего величия. И в том и в другом случае налицо языческое обожествление иллюзии. Беренис ни в какой мере не смотрела еще на Каупервуда, как на своего будущего возлюбленного, но его недозволенное преклонение льстило ей. Как-никак, это была дань со стороны человека, сумевшего, по-видимому, приковать к себе взоры целого света. А Каупервуд между тем, видя, что пожар грандиозной битвы, которую он вел на Среднем Западе, озарил уже столбцы нью-йоркских газет и они начинают обвинять его в подкупах, лжесвидетельствах, в попытках попрать волю народа и прочее и прочее, почел за лучшее забежать вперед и оправдать себя в глазах Беренис. Навещая ее дома или сопровождая в театр, он мало-помалу поведал ей всю историю своей чикагской борьбы. Он очертил перед ней характеры Хэнда, Шрайхарта и Арнила, описал зависть и мстительность этих людей, побуждавшие их так упорно бороться против его деятельности в Чикаго. — Не родилось еще такого человека, который мог бы добиться чего-нибудь в чикагском муниципалитете, не прибегая к взятке, — сказал Каупервуд. — Кто выложит деньги на бочку, тот и получит то, что ему нужно. — Он рассказал Беренис, как Трумен Лесли Мак-Дональд безуспешно пытался выжать из него пятьдесят тысяч долларов, а потом газеты, кстати сказать, значительно расширили круг своих подписчиков и нажили немалые деньги, избрав его своей мишенью. Он откровенно признался ей в том, как был отвергнут светскими кругами Чикаго, приписав это отчасти бездарности Эйлин, отчасти тому, что он сам, как некий Прометей, бесстрашно бросал вызов обществу. — Я справлюсь с ними и теперь, — торжественно заявил он Беренис, когда они завтракали как-то раз в полупустом зале ресторана «Плаца». Его холодные серые глаза отражали в эту минуту всю неукротимость его духа. — Губернатор не подписал еще законопроекта о предоставлении мне долгосрочных концессий (разговор этот происходил в то время, когда спрингфилдский этап борьбы еще не был закончен), но он его подпишет. Тогда мне останется только выиграть одно последнее сражение. Я должен объединить все чикагские трамвайные линии в одной системе управления. Я мог осуществить это лучше, чем кто-либо другой. А потом, если уж непременно нужно, чтобы город сам владел этим хозяйством, он может купить их у меня. — И тогда? — спросила Беренис мягко, польщенная оказанным ей доверием. — О, не знаю еще. Вероятно, поселюсь за границей. Моя судьба, мне кажется, не слишком занимает вас. Буду пополнять свою коллекцию… — Ну, а если вы потерпите поражение? — Это невозможно, — ответил он холодно. — Кроме того, при любых обстоятельствах мне хватит средств до конца жизни. Я уже устал слегка от всей этой кутерьмы. Он улыбнулся, но Беренис видела ясно, что мысль о возможности поражения омрачила его. Его душа жаждала победы, победы во что бы то ни стало. Этот разговор произвел сильное впечатление на Беренис — ведь имя Фрэнка Алджернона Каупервуда привлекало сейчас к себе всеобщее внимание. А тем временем пришли в действие и еще некие зловещие силы, и это тоже лило воду на его мельницу. Мало-помалу миссис Картер и Беренис стали замечать, что ультра-консервативные дома перестают посылать им приглашения. Беренис была слишком заметной фигурой, чтобы о ней можно было просто позабыть. Месяцев пять спустя после случая с Билзом Чэдси, на торжественном завтраке у Хэггерти, какой-то заезжий гость из Цинциннати указал миссис Хэггерти на Беренис: об этой особе, сказал он, начинают ходить странные слухи. Миссис Хэггерти написала друзьям в Луисвиль и получила требуемые сведения. А вскоре после этого состоялся званый вечер в честь первого выезда в свет Джеральдины Борджа, и Беренис — школьная подруга ее сестры — была странным образом забыта. Беренис не оставила этот случай без внимания. А затем и Хэггерти не включили ее, вопреки обыкновению, в число своих гостей на летний сезон. Их примеру последовали и Зиглеры и Деминги… Никто не позволил себе никаких оскорблений по ее адресу — ее попросту перестали приглашать. И, наконец, развернув как-то утром «Трибюн», Беренис прочла, что миссис Корскейден-Бэтджер отплыла на пароходе в Италию. Эта дама считалась ее лучшим другом, и вот она узнает об ее отъезде из газет! Беренис умела понимать без слов; она знала, откуда подуло на нее этим холодным ветром и что он ей сулит. Нашлись, правда, и такие — наиболее отчаянные из самых отчаянно-эмансипированных, — которые остались при особом мнении. Миссис Пэтрик Джилхенин, например: — Нет, нет! Не может этого быть! Срам какой! Но все равно, я люблю Беви и всегда буду ее любить. Она такая умница. Двери моего дома будут по-прежнему открыты для нее. То, что случилось, не ее вина. Она — прирожденная аристократка, этого у нее никто не отнимет. Как, однако, жестока жизнь! Или миссис Огастас Тэбриз: — Неужели это правда? Не могу поверить. Но все равно, Беви слишком очаровательна, чтобы отказаться от ее общества. Я во всяком случае намерена игнорировать эти слухи, пока только это возможно. Беви будет посещать мой дом, даже если все от нее отвернутся. Или миссис Пэннингтон Дрюри: — Как? Беви Флеминг? Кто это выдумал? Никогда не поверю! Я очень к ней расположена. Подумать только — Хэггерти перестали ее принимать! Вот тупицы! Ну, в моем доме она всегда будет желанной гостьей, дорогая малютка. Как может она отвечать за прошлое своей матери! Однако в косном мире денежных тузов, опирающихся на силу своего капитала, условностей, чванливой благонамеренности и невежества, Беви Флеминг перестала быть важной персоной. Как же она к этому отнеслась? С сознанием своего внутреннего превосходства, которое не могут поколебать никакие житейские невзгоды. Те, кто наделен яркой индивидуальностью, обычно знают себе цену уже с детских лет и, за редким исключением, никогда в себе не сомневаются. Жизнь с ее разрушительными приливами и отливами бушует вокруг, они же подобны утесу, горделивые, холодные, неколебимые. Беренис Флеминг так свято верила в то, что она неизмеримо выше своего окружения, что даже теперь ухитрялась высоко держать голову. Тем не менее положение было не из приятных, и она стала внимательнее приглядываться к возможным претендентам на ее руку — как видно, единственным выходом могло быть замужество. Брэксмар ушел из ее жизни навсегда. Он был где-то далеко на Востоке — в Китае, кажется. Его увлечение ею, как видно, прошло. Килмер Дьюэлма исчез тоже — попал в силки. Это достойное приобретение было сделано одним из тех семейств, которые закрыли сейчас свои двери перед Беренис. Но в тех светских салонах, где ее еще продолжали принимать, — а разве не были они ярмарками невест? — раза два перед ней как будто открывалась возможность устроить свое будущее: двое молодых людей, оба богатые наследники, делали попытки завоевать ее расположение. Судьбе было угодно, однако, чтобы это кончилось быстро и ничем. Один из этих юнцов — Педро Рицер Маркадо, бразилец, питомец Оксфорда, казалось, был искренне и страстно влюблен, но, увы, — только до тех пор, пока не узнал, что у Беренис нет ни гроша за душой и что она… Кто-то что-то шепнул ему на ухо. Другой претендент был некто Уильям Дрейк Баудэн — отпрыск старинного рода. Семейство Баудэн проживало в собственном особняке на Вашингтон-сквере. Беренис и Баудэн встретились как-то на балу, потом на музыкальном утреннике, потом еще где-то. После этого Баудэн представил Беренис своей, матери и сестре, и те были очарованы. — Ангел мой, божество! — в упоении вырвалось как-то раз у юного Баудэна. — Согласны ли вы стать моей женой? Беренис поглядела на него с любопытством и сомнением. — Давайте подождем немного решать этот вопрос, друг мой, — предложила она. — Я хочу, чтобы вы проверили себя — действительно ли вы меня любите. Вскоре после этого разговора Баудэн увидел в клубе одного из своих товарищей по колледжу, и тот сказал ему примерно следующее: — Послушайте, Баудэн, вы — мой друг. Я вижу — вы встречаетесь с этой особой, мисс Флеминг. Я, конечно, не знаю, как далеко у вас зашло, и не хочу быть навязчивым, но скажите — достаточно ли хорошо вы осведомлены обо всем, что касается этой дамы? — Что вы имеете в виду? — спросил Баудэн. — Будьте добры высказаться яснее. — О, прошу прощенья, дружище. Я не хочу вас обидеть, поверьте. Вы же меня знаете… Старая дружба, колледж и всякое такое прочее… Словом, послушайтесь моего совета: наведите справки, пока не поздно. Вы можете услышать кое-что. Если это правда, вам следует знать. Если нет — нужно пресечь эти сплетни. Быть может, я ошибся — тогда готов держать ответ. Но, говорю вам, я слышал толки. Словом, с самыми лучшими намерениями, старина, поверьте. Наводятся справки. Ревнивые, завистливые языки работают вовсю. Всем известно, что мистер Баудэн должен, как-никак, унаследовать три миллиона. В результате — крайне неотложный отъезд куда-то, и Беренис, сидя перед зеркалом, недоуменно спрашивает себя: что это такое? Какие толки идут за ее спиной? Как все это дико! Ну что ж, она молода и красива. Найдутся другие. Но все же… она могла бы, кажется, полюбить Баудэна. У него такой легкий, беззаботный нрав и какая-то бессознательная артистичность… Право же, она была о нем лучшего мнения. Но Беренис не пала духом. Она держалась замкнуто, надменно, чуть-чуть грустила порой, порой была безудержно весела, но даже в эти минуты веселости ее все чаще и чаще охватывало теперь странное ощущение тщеты и призрачности всего существующего. Как, однако, все неверно в этой жизни! Лишите цветок воздуха и света, и он увянет. Поступок ее матери уже не казался теперь Беренис таким непостижимым, как прежде. В конце концов разве это не дало ей средства удержаться на какой-то ступеньке социальной лестницы и сохранить для своей семьи положение в свете? Красота быстротечна, как сон, и так же иллюзорна, а человеческая личность со всеми ее достоинствами не имеет, как видно, большой цены. Ценится другое — происхождение, богатство, уменье избежать роковых случайностей и сплетен. Губы Беренис презрительно кривились. Что ж, жизнь нужно, как-никак, прожить. Нужно уметь притворяться и лгать — вот и все. Молодость оптимистична, а Беренис при своем зрелом не по летам уме была еще очень молода. Жизнь казалась ей азартной игрой, таящей в себе много возможностей. Главное в этой игре — не упустить удачу. Взгляды Каупервуда находили теперь отклик в ее душе. Человек должен сам строить свою жизнь, делать себе карьеру, иначе его удел — унылое и безрадостное существование на задворках чужого успеха. Если свет так мелочен и капризен, если люди так тупы — что ж, она знает, что нужно делать. Жизнь принадлежит ей, и она сумеет ее прожить. Деньги — вот что должно ей в этом помочь. К тому же Каупервуд день ото дня казался ей все более привлекательным. «Он и в самом деле очень мил», — думала Беренис. Он был несравненно интереснее большинства окружавших ее людей. В нем чувствовалась сила. Беренис была неестественно весела эти дни, словно хотела крикнуть всем: «Победа останется за мной!»Глава 61
Катастрофа
Теперь Чикаго грозило то, чего он больше всего страшился. Гигантская монополия, подобно осьминогу охватившая город своими щупальцами, готовилась задушить его, и грозная опасность эта воплотилась в лице Фрэнка Алджернона Каупервуда. Найдя опору в исполинской мощи банкирского дома «Хэкелмайер, Готлеб и К°», Каупервуд стал подобен монументу, воздвигнутому на вершине скалы. Для осуществления всех его мечтаний ему оставалось только получить концессию на пятьдесят лет, а даровать ему эту концессию должны были сорок восемь олдерменов, из общего числа шестидесяти восьми — в том случае, если мэр ее не подпишет. Вот когда восторжествует упорство, с которым он добивался своего, невзирая на все препятствия! Вот когда он будет вознагражден за то, что, не дрогнув, встречал все бури и шквалы на своем пути! Другие на его месте давно бы пали духом, но не он. Какая удача, что этот переполох среди денежных тузов, напуганных идеей муниципализации, заставил их добровольно преподнести ему всю гигантскую махину городских железных дорог Южной стороны в награду за его стойкое сопротивление всяким сумасбродным идеям. Влиятельные покровители Каупервуда дали ему возможность выступить перед различными местными коммерческими и финансовыми организациями: «Обществом по продаже недвижимой собственности», «Объединением крупных домовладельцев», «Лигой коммерсантов» и «Союзом банкиров», — чтобы он мог изложить им свои цели и задачи и привлечь их на свою сторону. Но впечатление от его вкрадчивых речей было сведено на нет поносившими его без устали газетами. «Можно ли ждать добра из Назарета?» — вопрошали они снова и снова. Газеты, выполнявшие волю Хэнда и Шрайхарта, выступали против него с не меньшим ожесточением, чем прежде, да и большинство других газет, ничем не связанных с капиталистами Восточных штатов, на этот раз сочли более выгодным выступать поборниками прав рядового горожанина. Они производили доскональнейшие математические выкладки, дабы наглядно показать населению, какие баснословные барыши готовилось в недалеком будущем получать объединение городских железных дорог. Они увидели в этом хищную руку финансистов Восточных штатов и разоблачали их черные намерения. «Миллионы — каждому из воротил объединения, ни одного цента — Чикаго» — так изображал эти намерения «Инкуайэрер». Нашлись и такие альтруисты, которые, в состоянии крайнего возбуждения, объявили, что в окончательном низложении Каупервуда видят свой долг перед господом богом, перед человечеством и демократией. Небеса разверзлись перед их взором, и свет господень просветил их разум. В противовес этим подвижникам, шайка политических пиратов, тех, что засели в ратуше и вершили дела (за исключением, впрочем, мэра), готова была, подобно голодным свиньям, запертым в хлеву, наброситься на все, что попадало к ней в кормушку, лишь бы нажраться до отвала. В острые моменты борьбы за наживу равно открываются и бездонные глубины низости и недосягаемые вершины идеала. Когда океан вздымает ввысь свои бушующие валы, между ними образуются зияющие бездны. Наконец лето пришло к концу, и городское самоуправление собралось в ратуше; с первым прохладным дыханием осени весь город был охвачен предчувствием решительной схватки. Каупервуд, убедившись, что все его попытки снискать к себе расположение тщетны, решил прибегнуть к своему испытанному методу — подкупу. Он установил твердую таксу: двадцать тысяч долларов за каждый голос, поданный в его пользу, — это для начала. В дальнейшем, если понадобится, он намерен был поднять цену до двадцати пяти и даже до тридцати тысяч и довести общую сумму, ассигнованную им на взятки, примерно до полутора миллионов. И все же это вознаграждение было очень невелико по сравнению с барышами, которые сулила ему вожделенная сделка. Олдермену Балленбергу — одному из самых надежных приспешников Каупервуда — было поручено внести проект на рассмотрение муниципального совета и передать секретарю совета для оглашения; после чего другой каупервудовский прихвостень должен был рекомендовать этот проект объединенному комитету по благоустройству улиц и проспектов, состоящему из тридцати четырех человек — членов других постоянных комитетов. Этому комитету предстояло в течение недели рассмотреть проект на открытом заседании в главном зале заседаний муниципалитета. Каупервуд надеялся заразить своей наглой самонадеянностью своих приспешников и влить в них отвагу, необходимую для предстоящего испытания, которое обещало быть весьма серьезным. Олдерменам уже приходилось выдерживать настоящую осаду — на митингах в избирательных округах, в клубах, даже у себя дома. Они получали целые вороха писем — оскорбительных, угрожающих. Соседи не давали им прохода, детишек их дразнили на улице. Священники писали им длинные послания — увещевали, грозили карами небесными. Газеты следили за каждым шагом олдерменов и что ни день печатали новые разоблачения. Сам мэр, закаленный в интригах политикан, взвинченный разгоравшейся борьбой и приближением ещеболее грандиозной битвы, чувствуя в своих руках могучее оружие — страх, не колеблясь, призывал к самым крутым мерам. — Ждите, пока проект не будет передан на рассмотрение, — заявил он своим сторонникам на совещании, созванном в большом концертном зале. Несколько тысяч человек собралось здесь, чтобы решить, какие меры следует принять против лихоимцев из муниципального совета. — Насколько я понимаю, мы загнали мистера Каупервуда в тупик. Когда его проект будет представлен на рассмотрение, он в течение двух недель не сможет ничего предпринять, а мы в это время должны создать комитет охраны общественных интересов, созвать митинги по всем округам, организовать боевые демонстрации протеста. В ночь с воскресенья на понедельник — то есть накануне публичного обсуждения проекта — мы созовем грандиозный массовый митинг, а помимо того митинги по всем округам. Говорю вам, джентльмены, что в муниципальном совете найдется, я уверен, достаточно честных людей, которые не позволят каупервудовской шайке протащить проект вопреки моему вето, но мы до этого дело доводить не станем. Никогда нельзя знать, на что могут отважиться те или иные негодяи, завидев перед глазами жирный куш в двадцать-тридцать тысяч долларов. Большинство из них, даже при самой неслыханной удаче, едва ли за всю свою жизнь сумеют сколотить хотя бы половину этой суммы. К тому же они ведь не надеются быть избранными вторично. С них хватит и одного раза. За их спиной уже стоят другие, тоже жаждущие сунуть свое рыло в кормушку. Ступайте в ваши округа и районы и организуйте митинги. Призовите к себе избранных вами олдерменов. Не давайте им улизнуть; не позволяйте им морочить вам голову, прикрываясь громкими фразами насчет свободы личности и всяких там прав и обязанностей должностных лиц. Не уговаривайте их — угрожайте. Добром от этих мерзавцев ничего не добьешься. Возьмите их за глотку, и когда вам удастся вырвать у них обещание не давать концессии Каупервуду, стойте наготове с крепкой веревкой в руках, чтобы ни один из них не посмел отступиться от своего слова. Я не сторонник насильственных мер, но сейчас ничего другого не остается. Наш противник вооружен до зубов и в любую минуту готов перейти в наступление. Он только и ждет, чтобы мы зазевались. Так пусть ждет и не дождется. Будьте начеку. Боритесь. Я — ваш мэр и готов помочь вам всем, чем могу, но один в поле не воин, а право вето — мое единственное, и довольно жалкое, оружие. Вы должны помочь мне, для того чтобы я мог помочь вам. Вы должны стоять за меня, а я буду стоять за вас. Теперь представьте себе отчаянное положение, в каком оказался некий олдермен по фамилии Пинский, прибыв в клуб своего избирательного округа, четырнадцатого демократического, на следующий вечер после внесения проекта в муниципалитет. Краснолицый, пухлый, шарообразный, в цилиндре и длинном черном сюртуке, мистер Пинский хоть и выглядел весьма представительно, но был явно не в своей тарелке, так как и соседи и деловые его друзья уже давно не давали ему покоя. В клуб мистера Пинского пригнали угрозами — его-де еще заставят отвечать за все злодеяния и преступления, которые он замышляет. Почти все олдермены — взяточники и преступники, — это стало уже всеобщим убеждением, и на этой почве объединились приверженцы всех партий, на время забыв вражду. Не было больше демократов и республиканцев, только «каупервудовцы» и «антикаупервудовцы», — последних подавляющее большинство. К несчастью для мистера Пинского, он попал в число жертв, намеченных «Трэнскрипт», «Инкуайэрер» и «Кроникл», и ему предстояло одним из первых дать отчет своим избирателям. Мистер Пинский — еврей по отцу и американец по матери — родился и вырос в пределах четырнадцатого избирательного округа и говорил с характерным американским акцентом. Он был рыжеволос, невысок ростом, но и не слишком мал, а пронырливый, бегающий взгляд и обходительные, льстивые манеры сразу обличали в нем пройдоху. Сейчас мистер Пинский имел какой-то воинственно-взъерошенный и вместе с тем растерянный вид, ибо был доставлен сюда против своей воли. Взор его масленистых поросячьих глаз был упрямо и неотвратимо прикован к волшебному видению: тридцать тысяч долларов!.. Но его окружала буйная, крикливая толпа, она грозила отнять у него эту кругленькую сумму, на которую он — так ему казалось — имел уже непререкаемые права. Этот искус совершался в узком длинном зале, тускло освещенном пятью двурогими газовыми рожками, свешивавшимися с низкого потолка, и пестревшим спортивными и лотерейными афишами, расклеенными на грязных, давно не беленных стенах. Особенно бросались в глаза пестрые объявления, оповещавшие о том, что общество «Веселый досуг», возглавляемое мистером Пинским, устраивает бал. Сам мистер Пинский стоял на невысокой эстраде в глубине зала, окруженный двумя-тремя десятками своих более или менее надежных соратников. Красные, разгоряченные лица их выдавали волнение; все эти джентльмены были в черных сюртуках или в своих лучших воскресных костюмах, все держались настороженно, вызывающе и все при этом изрядно трусили. Мистер Пинский даже прихватил с собой пистолет. Речь мэра, в которой упоминались ружья, веревки, барабаны, боевые демонстрации и прочее и прочее, облетела весь Чикаго, и население, как видно, не прочь было устроить себе веселый уличный праздник, который мог бы увенчаться таким приятным и захватывающим развлечением, как расправа с парочкой-другой олдерменов. — Эй, Пинский! — разносится чей-то окрик над морем чужих и явно враждебных этому олдермену лиц. (Да, нынешнее собрание отнюдь не состоит из приверженцев Пинского — это разнородное, стихийное сборище, спаянное одним стремлением — принудить, наконец, господ олдерменов к соблюдению элементарной порядочности. Здесь есть и женщины — кое-кто из местных прихожанок, две-три поборницы женского равноправия, две-три ретивые деятельницы общества трезвости. Мистер Пинский согласился предстать перед этими людьми лишь после того, как ему пригрозили: если он не придет к ним, то они придут к нему.) — Эй, Пинский! Старый взяточник! Сколько думаешь подработать на транспортных концессиях? (Этот голос звучит откуда-то из глубины зала.) Пинский (резко поворачивая голову, словно его ущипнули). Кто посмел назвать меня взяточником? Это ложь! Все мои деньги, до последнего доллара, заработаны честным путем, и каждый человек в четырнадцатом избирательном знает это. Пятьсот человек, присутствующие в зале. Ха! Ха! Ха! Пинский не взял ни одного доллара! Хо! Хо! Хо! Вот это здорово! Пинский (багровеет, приподнимается со стула). Да, это так. И я не желаю разговаривать с кучкой бездельников, которые прибежали сюда сломя голову потому, что газеты приказали им травить меня. Я уже шесть лет занимаю пост олдермена. Меня все знают. Голос. Ты еще смеешь называть нас бездельниками? Ах ты, негодяй! Другой голос (в ответ на заявление Пинского, что его все знают). Да уж как не знать, знаем! Еще один голос (говорит низенький, тощий водопроводчик в рабочей блузе). Эй ты, хапуга! Как будешь голосовать? За или против концессии? Отвечай! Еще один (страховой агент). Да, да, как будешь голосовать? Пинский (опять поднимаясь со стула. Он настолько растерян, что то и дело встает и снова садится). Я вправе поступать так, как считаю нужным! И вправе обдумывать свои действия! Для чего же вы избирали меня олдерменом? Наша конституция… Республиканец — противник Пинского (молодой судейский чиновник). К черту конституцию! Не заговаривай нам зубы, Пинский! Как будешь голосовать? За или против? Отвечай! Голос (говорит каменщик — противник Пинского). Ответит он вам, как же! У него уж наверно все карманы набиты деньгами этого проходимца, с которым он снюхался. Голос из группы позади Пинского (говорит один из его шайки — дюжий, задиристый ирландец). Не давай им запугать тебя, Сим! Стой на своем! Пусть только тронут! Мы тебя в обиду не дадим! Пинский (снова вскакивает). Это возмутительно! Позволят мне, наконец, высказаться или нет? О каждом деле можно судить и так и этак. Так вот, я считаю, что мистер Каупервуд, что бы там ни писали газеты… Столяр-ремесленник (подписчик «Инкуайэрера»). Тебя подкупили, ворюга! Нечего нас за нос водить! Ведь ты только и думаешь, как бы продаться подороже. Тощий водопроводчик. Правильно, правильно, жулик он! Положит в карман тридцать тысяч и даст тягу. Хапуга! Пинский (вызывающе — подстрекаемый своими сторонниками). Я поступаю в соответствии со своими понятиями о чести и справедливости. Конституция предоставляет каждому, в том числе, надеюсь, и мне, свободу слова. Я утверждаю, что городские железнодорожные компании должны пользоваться известными правами. Но, конечно, у населения тоже есть свои права. Голос. Какие же это права, по-твоему? Другой голо с. Да разве он знает. Наши права для него яйца выеденного не стоят. Еще один голос. Плевал он на них! Пинский (видя, что его жизни пока не угрожает опасность, и еще больше осмелев). Я повторяю, что население тоже имеет права. Надо заставить компании уплатить соответствующий налог. Однако двадцать лет — это слишком ничтожный срок для концессии. Законопроект Мирса дает теперь право выдавать концессии сроком на пятьдесят лет, и мне кажется, что, принимая во внимание… Пятьсот человек (хором). Вор! Грабитель! Взяточник! Вздернуть его! Тащите веревку! Пинский (прячется за спины своих соратников; несколько горожан, сжав кулаки, надвигаются на него: их глаза блестят, зубы стиснуты — все это не предвещает ему добра). Друзья мои, постойте! Дайте мне кончить! Голос. Сейчас мы тебя прикончим, падаль! Горожанин (поляк, с окладистой бородой, наступая на Пинского). Как будешь голосовать, а? Отвечай! Как? Ну? Другой горожанин (еврей). Дрянь ты — и больше ничего! Мошенник! Жулик! Я уж тебя не первый год знаю. Ты меня обобрал, когда еще держал бакалейную лавочку. Третий горожанин (швед; нарочито елейным голосом). Скажите, пожалуйста, мистер Пинский: если большинство граждан четырнадцатого избирательного округа не желает, чтобы вы голосовали за эту концессию, будете вы все-таки голосовать за нее или нет? Пинский колеблется. Все пятьсот. Ото! Поглядите-ка на этого негодяя! У него язык отнялся! Он еще не решил, сделает ли он то, чего хотят от него избиратели! Пристукнуть его — и все! Треснуть разок по башке, и готово! Голос из группы Пинского. Держись, Пинский! Не трусь! Пинский (видя, что толпа напирает на подмостки, и совсем уже оробев). Если избиратели не хотят, чтобы я голосовал за концессию, то я, разумеется, этого делать не стану. Зачем это мне нужно? Я всегда исполняю волю избирателей. Голос. Да, после хорошего пинка в зад! Другой голо с. Ты родную мать продашь, не то что нас, скотина ты этакая! Разве ты можешь поступать честно? Пинский. Если половина избирателей потребует, чтобы я голосовал против концессии, я так и сделаю. Голос. Ладно, ладно, потребуем, будь покоен. Девять десятых подпишутся под этим еще сегодня. Ирландец (парень лет двадцати шести, контролер газовой компании, наступая на Пинского). А не будешь голосовать как нужно, так мы тебя вздернем. Я первый помогу накинуть веревку. Один из телохранителей Пинского. А это кто такой? Надо будет подождать его на улице да стукнуть разок, чтобы заткнуть ему глотку. Ирландец. Уж не ты ли заткнешь, чума краснорожая? Выходи, погляди! (Тут в перебранку ввязываются уже все присутствующие.) Поднимается невообразимый шум. Пинский под охраной своих сторонников, которые окружают его плотным кольцом, отступает за дверь; вдогонку ему несется свист, улюлюканье, крики: «Вор! Взяточник! Грабитель!» Немало таких драматических сцен разыгралось в Чикаго после того, как проект Каупервуда был внесен на рассмотрение муниципального совета.Начиная с этого дня на улицах Чикаго стали появляться толпы людей; демонстрации, организованные клубами, проходили по всем избирательным округам — как в самых глухих уголках города, так и в центральных кварталах. Эти зловещие процессии, вызванные к жизни яростными призывами мэра, составлялись из рядовых незаметных людей — служащих, рабочих, мелких лавочников, а также всевозможных поборников религии и морали, независимо от рода их занятий. По вечерам, покончив с дневными трудами, они маршировали по улицам взад и вперед или собирались в дешевых кабаках и своих партийных клубах и готовились… К чему? К тому, чтобы вечером в роковой понедельник, когда в муниципальном совете будет решаться судьба проекта Каупервуда, явиться к ратуше и потребовать от погрязших в пороке законников исполнения воли народа. Каупервуд, направляясь как-то утром в контору, сел в вагон своей надземной железной дороги и увидел там солидных, степенных горожан; они чинно сидели на скамейках с газетами в руках, а на отворотах их пиджаков красовались странного вида значки: одни в форме виселицы с болтающейся петлей, другие в виде вопросительного знака, обвитого надписью: «Дашь ли ты себя обворовать?» Почтенные граждане даже не подозревали, что тот, кого они так страшились и ненавидели, находится сейчас рядом с ними. На заборах, тумбах для расклейки афиш и на глухих стенах домов бросались в глаза огромные плакаты:
УОЛДЕН Х. ЛЬЮКАС против ВЗЯТОЧНИКОВ! Каждый гражданин города Чикаго должен СЕГОДНЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ, прийти вечером в ратушу и приходить туда каждый понедельник до тех пор, пока не решится вопрос о городских железнодорожных концессиях. Мы должны отстоять интересы города и защитить его от ГРАБИТЕЛЕЙ. ГРАЖДАНЕ, ПРОБУДИТЕСЬ И ПОКОНЧИТЕ СО ВЗЯТОЧНИКАМИ!Крикливые газетные заголовки призывали к тому же; в церквах, клубах и других общественных местах произносились зажигательные речи. Люди, казалось, были опьянены яростным неистовством борьбы. Нет, они не подчинятся этому титану, который вознамерился посягнуть на их права, не позволят этому дракону, залетевшему к ним из Восточных штатов, пожрать город. Он либо честно заплатит городу дань, либо будет изгнан из его пределов. Пусть и не мечтает о концессии на пятьдесят лет. Закон Мирса должен быть отменен, и Каупервуд должен явиться в муниципалитет как скромный и честный проситель. Ни один олдермен, получивший от него хотя бы доллар, не может считать свою жизнь в безопасности. Нужно было обладать солидным запасом храбрости, чтобы противостоять таким угрозам. Олдермены не были героями. На заседаниях комитета Каупервуд, имевший туда свободный доступ, пускал в ход все свое красноречие, стараясь доказать справедливость своих притязаний. Он готов платить, так как знает, что голоса в муниципалитете продаются, но тем не менее олдермены ведь только выполняют свой долг. Несокрушимая наглость и хладнокровие Каупервуда вливали бодрость в его приспешников, а мысль о тридцати тысячах долларов была надежным щитом, способным выдержать самые грозные удары. Тем не менее многие олдермены меланхолически задавали себе вопрос: что же будут они делать после того, как продадут интересы своих избирателей? И вот настал понедельник, день решительной схватки. Вообразите себе высокое тяжеловесное здание из черного гранита, архитектурой своей отдаленно напоминающее постройки древнего Египта; сооружение его стоило миллионы долларов, и оно служит одновременно городской ратушей и местом заседаний окружного суда. В тот знаменательный вечер все четыре улицы, на которые выходит это здание, были запружены толпами народа. В их глазах Каупервуд стал уже личностью легендарной: это был не человек, а демон, с каменным сердцем, сказочным богатством и преступными замыслами. Именно в тот вечер «Кроникл», хорошо рассчитав день и час, заполнил целую полосу весьма детальным, хотя и несколько преувеличенным описанием нью-йоркского дворца Каупервуда. Ничего здесь не было забыто — ни чудеса зимнего сада с его орхидеями, ни бело-розовая комната с ее немеркнущей зарей, ни бассейны из розового и голубого алебастра, ни мраморные статуи и фризы. Среди всей этой роскоши и неги, среди своих книг и редчайших сокровищ, на пышном ложе, устроенном наподобие качелей, важно восседал Фрэнк Алджернон Каупервуд. Далее следовали туманные намеки, из которых можно было заключить, что в часы отдохновения одалиски услаждают его плясками и развлечениями, о которых лучше даже не упоминать. А в зале заседаний ратуши собралась в это время такая стая хищных, голодных и наглых волков, какая вряд ли когда-нибудь собиралась вместе. Зал был просторный, освещавшийся высокими окнами в южной стене и тяжелой довольно вычурной бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка; шестьдесят шесть скамей, занимаемых олдерменами, располагались полукругом в несколько рядов; отполированные до блеска черные дубовые скамьи были украшены затейливой резьбой, а на голубовато-серых стенах сверкали золотые арабески, придавая всему, что происходило в зале, оттенок пышности и величия. Над креслом председателя висел громадный, написанный масляными красками портрет бывшего мэра — прескверно исполненный, запыленный и тем не менее внушительный. В этом зале, благодаря его размерам и устройству, голоса ораторов обычно звучали отчетливо и отдавались во всех уголках, но в тот вечер их заглушали рвущиеся в затворенные окна топот марширующих ног и дробь барабанов. В вестибюль рядом с залом заседаний набилось не меньше тысячи человек — кто с палками, кто с веревками; они привели с собой даже небольшой духовой оркестр, который время от времени принимался играть «Цвети, цвети, Колумбия, счастливая земля», или «Моя страна, пою тебя», или «Дикси». Олдермен Шлумбом жаловался, что избиратели вымотали из него всю душу; он явился в ратушу в сопровождении целой толпы, человек в триста. «Телохранители» остались у дверей, предупредив свою жертву, что по окончании заседания он найдет их здесь в полном составе. Все это произвело на мистера Шлумбома чрезвычайно сильное впечатление. — Что ж это такое? — спросил он своего коллегу и соседа по скамье, олдермена Гейвегана, когда, усевшись на место, почувствовал себя, наконец, в некоторой безопасности. — И это свободная страна? — А черт его знает! — отвечал мистер Гейвеган устало. — В жизни еще не-видал такой шайки головорезов, какая орудует сейчас в нашем двадцатом избирательном. Нам теперь, черт подери, рта раскрыть не дают. Что газеты велят — то и делай, вот до чего дошло. Олдермен Пинский и олдермен Хоберкорн совещались в углу; лица обоих джентльменов были хмуры. — Вот что я вам скажу, Джо, — заявил мистер Пинский своему соратнику. — Все это натворил наш милейший Льюкас, это он взбаламутил народ. Сегодняшнюю ночь я даже не ночевал дома — боялся, как бы эти молодчики не ворвались ко мне. Мы с женой остались на ночь в конторе. А недавно прибежал сынишка и говорит, что вокруг нашего дома с шести часов — уже целая толпа, человек в пятьсот. Ну, что вы скажете? — То же самое творится и у нас. Я, конечно, не придаю значения этой болтовне насчет линчевания и прочего. Но поручиться все же ни за кого нельзя. Я даже не уверен, что от полиции будет какой-нибудь прок. Все это просто неслыханно, черт подери! Предложение Каупервуда вполне законно. Чего они взбесились в конце-то концов? Отворилась дверь и по залу с удвоенной силой разнеслось: «Мы шагаем по Джорджии…» Вошли олдермены Зайнер, Надсен, Ривир, Роджерс, Тирнен и Кэриген. Из всех вышепоименованных только господа Тирнен и Кэриген сохраняли, пожалуй, внешнее хладнокровие, хотя улицы, запруженные толпами народа, горящие факелы и эмблемы в виде виселицы с болтающейся на перекладине петлей выглядели достаточно внушительно. — Скажу тебе по совести, Пэт, — заметил «Веселый Майк», когда они в конце концов пробились к двери сквозь улюлюкающую толпу, — мне это не нравится. А? Как по-твоему? — К черту! — отвечал Кэриген решительно и зло. — Пока они еще не управляют моим округом и мне не указ. Я буду голосовать так, как пожелаю, черт их дери! — И я тоже, — явно храбрясь, заявил Тирнен. — Ты сказал слово в слово то, что я думаю. Но дело будет жаркое, а? — Ну, жаркое, — буркнул Кэриген, с подозрением вглядываясь в своего собеседника — уж не собирается ли он забить отбой? — Да меня этим не запугаешь. — И меня тоже, — поддакнул «Веселый». Под звуки духового оркестра, исполняющего марш, появляется мэр и всходит на трибуну. Снаружи доносятся восторженные клики. Галерею заполняет специально подобранная публика. Когда кто-нибудь из олдерменов поднимает глаза, он видит перед собой море недружелюбных лиц. — Станьте навытяжку перед гостями господина мэра, — язвительно шепчет один олдермен другому. Пока ведется обсуждение мелких текущих дел, на галерее перебрасываются замечаниями по адресу различных муниципальных знаменитостей, не стесняясь указывают друг другу то на одного олдермена, то на другого. — Вон, глядите — это Джонни Даулинг, вон тот жирный, белобрысый, голова как шар. А вот Пинский — видите вы эту крысу? А вон и Кэриген. Мое почтение, господин Изумруд. Эй, Пэт, ты все еще таскаешь свое сокровище? Ну, сегодня тебе не удастся получить взятку, Пэт. Сегодня твое дельце не выгорит. Олдермен Уинклер (каупервудовец). С позволения господина председателя, галерею следует призвать к порядку, дабы мы имели возможность спокойно заниматься делами. Я считаю возмутительным, что в такую минуту, когда интересы населения требуют величайшего внимания… Голос. Ишь ты — интересы населения! Другой голос. Сядь на место! Тебя подкупили! Олдермен Уинклер. С позволения господина председателя… Мэр. Я вынужден просить публику, занимающую места на галерее, соблюдать тишину, чтобы мы могли заняться обсуждением очередных вопросов. (Аплодисменты, шум на галерее стихает.) Олдермен Гуиглер (олдермену Сумулскому). Здорово он их вышколил. Олдермен Балленберг (каупервудовец — толстый, холеный, с румянцем во всю щеку — поднимается с места). Прежде чем представить на рассмотрение проект, который назван моим именем, я хотел бы, с разрешения собравшихся, сделать заявление. На прошлой неделе, предлагая этот проект, я сказал… Голос. Знаем мы, что ты сказал. Олдермен Балленберг. …я сказал, что предлагаю проект, потому что меня об этом просили. Теперь я хочу пояснить, что просьба эта исходила от ряда лиц, выступавших затем перед комитетом, на рассмотрение которого был передан проект… Голос. Ладно, Балленберг, хватит. Мы знаем, для кого ты стараешься. Нечего зря языком молоть. Олдермен Балленберг. С позволения господина председателя… Голос. Садись на место, Балленберг. Дай высказаться другим взяточникам. Мэр. Попрошу галерею не прерывать оратора. Олдермен Хвранек (вскакивает с места). Это возмутительно! Вся галерея забита субъектами, которые явились сюда, чтобы угрожать нам. Крупная, пользующаяся широкой известностью компания, которая в течение многих лет обслуживает наш город, и обслуживает, надо сказать, превосходно, вносит теперь вполне разумное предложение в муниципальный совет, а нас лишают даже возможности спокойно обсудить это предложение. Мэр заполнил галерею своими друзьями-приятелями, а газеты возбуждают население и собирают толпы крикунов, пытаясь нас запугать. Я, со своей стороны… Голос. Чего ты так распетушился, Билли? Не получил еще своих денежек? Олдермен Хвранек (у него интеллигентная, даже изысканная внешность, его говор выдает в нем поляка; он грозит кулаком кому-то на галерее). Ну-ка, спустись сюда и повтори то, что ты сказал! Что, струсил? Пятьдесят голосов хором. Хо! Хо! Билли, уноси скорее ноги! Олдермен Тирнен (встает). Послушайте-ка, господин мэр! Не пора ли положить конец этому безобразию? Голос. Глядите, это кто? Никак, сам «Веселый Майк»? Другой голос. Сколько ты рассчитываешь получить, Майк? Олдермен Тирнен (поворачиваясь к галерее). А ну, спускайся сюда вниз, давай-ка потолкуем лицом к лицу! Меня веревками и ружьями не запугаешь. Я говорю — эта компания чего-чего только не делала для города… Голос. Ого! Олдермен Тирнен. Если бы не наши городские железнодорожные компании, у нас и города-то приличного не было бы. Десять голосов хором. Ого! Олдермен Тирнен (храбро). У меня свое мнение, я чужим умом не живу. Голос. Оно и видно. Олдермен Тирнен. Я стою за то, чтобы город получил компенсацию за те привилегии, которые мы намерены даровать. Голос. А что ты за это получишь, ворюга? Олдермен Тирнен. Я плюю на этих бродяг и трусов, чего они там горланят, на галерее. Я говорю — нужно дать компании то, на что она имеет право. Она помогла создать город. Пятьдесят голосов хором. Ого! Скажи лучше — тебе нужно набить себе карман, вот что тебе нужно! Смотри, будешь сегодня голосовать за компанию — пожалеешь! Большинство олдерменов — кроме самых матерых муниципальных волков — уже явно струхнули перед лицом столь грозного натиска. Какой толк препираться с галереей? Как можно сладить с этой толпой, окружившей здание? Мэр — против них, репортеры стенографируют каждое случайно оброненное слово. — Не знаю, что тут можно поделать, — говорит олдермен Пинский олдермену Хвранеку, своему соседу. — Пожалуй, лучше и не пытаться. Поднимается олдермен Джиллеран — худощавый, бледный, похожий на ученого — антикаупервудовец. По предварительному сговору именно он должен подвергнуть проект еще одному и, как вскоре выясняется, — решающему испытанию. — С позволения председателя, — говорит Джиллеран, — я предлагаю пересмотреть вынесенное ранее решение, согласно которому проект Балленберга о выдаче концессии сроком на пятьдесят лет был передан на рассмотрение объединенного комитета по вопросам благоустройства, и передать этот проект на рассмотрение комитета городской ратуши. Следует пояснить, что означенный комитет считался среди членов муниципалитета самым захудалым и малозначительным. На его обязанности лежало выдумывать новые названия для улиц и определять часы работы служебного персонала ратуши. В этом комитете решительно нечем было поживиться — ни взяток, ни преподношений. Поэтому при распределении мест среди новых членов муниципального совета всех сторонников мэра, всех «неблагонадежных» советников самым бесцеремонным образом спровадили в этот комитет. И вот вносится предложение — вырвать проект из рук доброжелателей и передать его в комитет, где он, без сомнения, будет погребен на веки веков. Наступало последнее испытание сил. Олдермен Хоберкорн (его клика всегда выпускает этого оратора как наиболее изощренного в процедурных вопросах). Решение не может быть пересмотрено. (Следует пространное разъяснение причин, прерываемое свистом.) Голос, Сколько тебе заплатили? Другой голос. Да ты всю жизнь кормился взятками. Олдермен Хоберкорн (метнув вызывающий взгляд на галерею). Вы пришли сюда, чтобы запугать нас, но вам это не удастся. Мы вас презираем. Голос. А ты слышишь, как гремят барабаны? Другой голос. Ты только проголосуй за компанию, Хоберкорн, — тогда увидишь. Мы тебя не первый день знаем. Олдермен Тирнен (про себя). А дело-то скверно, как я погляжу… Мэр. Возражение необоснованно. Отклоняется. Олдермен Гуиглер (растерянно). Мы что же — будем сейчас голосовать джиллерановское предложение? Голос. Вот именно. И гляди — голосуй как надо. Мэр. Да, приступаем к голосованию. Секретарь произведет подсчет голосов по списку. Секретарь (выкликает имена начиная с буквы «А»). Алтваст? (Это каупервудовец.) Олдермен Алтваст. За. (Страх оказался сильнее его.) Олдермен Тирнен (олдермену Кэригену). Ну вот, одного младенца уже застращали. Олдермен Кэриген. Н-да… — Балленберг? (Это тоже каупервудовец — тот самый, что внес на рассмотрение проект.) — За. Олдермен Тирнен. Что это? И Балленберг в кусты? Олдермен Кэриген. Похоже, что так. — Кэниа? — За. — Фогарти? — За. Олдермен Тирнен (ему явно не по себе). Ну вот — теперь Фогарти. — Хвранек? — За. Олдермен Тирнен. И Хвранек! Олдермен Кэриген (о своих малодушных коллегах). Душа в пятки и хвосты поджали! Ровно через восемьдесят секунд голосование было закончено. Каупервуд потерпел поражение сорока одним голосом против двадцати пяти. Теперь уже было ясно, что проект его полностью провалился.
Глава 62
Вознаграждение
Случалось ли вам видеть человека, удрученного постигшей его тяжелой неудачей? Потухший взор, душа в изнеможении, скованная ледяным дыханием беды. В десять тридцать того памятного вечера Каупервуд, сидя один в библиотеке своего дома на Мичиган авеню, вынужден был взглянуть правде в глаза и признать, что потерпел поражение. Слишком много было поставлено на карту. И теперь уже не стоило говорить себе, что можно выждать, пока утихнет буря, и через неделю-другую явиться в муниципальный совет с новым, видоизмененным проектом концессии. Каупервуд не нуждался в самоутешениях такого рода. Он бился долго и отчаянно, пуская в ход все средства, все ухищрения своего изворотливого ума. Целую неделю, день за днем, проводил он в одной из зал ратуши, где шли заседания комитета. Невелико утешение знать, что путем бесконечных тяжб, кассаций, апелляций, пересмотров постановлений и прочих кляуз можно затянуть это дело на годы, сделать его добычей законников и проклятьем города, создать такую путаницу и неразбериху, что ее безуспешно все еще будут пытаться распутать, когда и он и его недруги давно истлеют в могилах. Последняя схватка назревала медленно и долго, он готовился к ней годами и с великим тщанием. Одержав такую победу, его враги воспрянут духом. Все его пособники из муниципалитета — напористые, алчные, закаленные борцы (ведь он подбирал их, словно римский император свою личную охрану, из наиболее оголтелых, наглых и таких же решительных, как он сам) — не выстояли в последнем бою, дрогнули и сдались. Как укрепить их ослабевший дух для новой схватки, как дать им силы выдержать гнев и ярость населения, познавшего, как достигается победа? Другим надлежит теперь вмешаться в это дело — Хэкелмайеру, Фишелу, кому-нибудь из числа могущественной шестерки восточных финансистов, — вмешаться и усмирить разбушевавшуюся стихию, ярость которой пробудил он, Каупервуд. Сам же он устал; Чикаго ему опостылел! Опостылела и эта нескончаемая борьба. Он даже дал себе слово: если его дело выгорит, никогда не пускаться впредь в столь рискованные авантюры, требующие слишком большой затраты сил. К чему? При его богатстве в этом нет никакой нужды. Кроме того, несмотря на всю свою неукротимую энергию, Каупервуд чувствовал, что начинает сдавать. После разрыва с Эйлин он был совсем одинок — из его жизни ушли все, кого связывали с ним воспоминания молодости. Прелестная Беренис — венец всех его желаний — продолжала его чуждаться. Правда, за последние дни она как будто стала выказывать ему чуть-чуть больше сердечности, но что было тому причиной? Снисходительное сочувствие, быть может? Или признательность? Едва ли другие более нежные чувства могли пробудиться в ней, с горечью думал Каупервуд. Заглядывая в будущее, он мрачно говорил себе, что должен бороться, бороться до конца, что бы ни случилось, а потом… Так он сидел в одиночестве своей огромной библиотеки, и только звонки телефона нарушали время от времени безрадостное течение его дум. Но вот кто-то позвонил у парадного входа, и слуга, подавая Каупервуду визитную карточку, доложил, что какая-то молодая особа ожидает его внизу и не сомневается, что будет немедленно принята. Каупервуд взглянул на карточку, вскочил и бросился вниз по лестнице, спеша к той, что была ему сейчас нужнее всех на свете.Трудно бывает порой проследить весь сложный и запутанный ход тончайших, едва уловимых перемен, которые постепенно совершаются в сознании человека и приводят его в конце концов к душевному компромиссу. Когда Беренис Флеминг впервые увидела Каупервуда, она сразу почувствовала исходящую от него силу и поняла, что имеет дело с личностью незаурядной. С тех пор мало-помалу ему удалось привить ей взгляды довольно рискованные и опасные с точки зрения тех условностей, в которых она была воспитана, — стремление к свободе поступков и презрение к общепринятым нормам поведения и морали. Затем, мысленно следуя за ним во всех перипетиях чикагской борьбы, Беренис невольно была захвачена грандиозностью его замысла: она видела, что Каупервуд был на пути к тому, чтобы стать одним из финансовых гигантов мира. Во время его последних наездов в Нью-Йорк он, казалось, весь был во власти своей честолюбивой мечты, но Беренис читала в его глазах, что венцом всех его стремлений является она сама. Так он уверял ее однажды. И, наконец, Каупервуд всегда был щедр, покорен ей, предан и терпелив. И вот Беренис приехала под вечер в Чикаго, остановилась у своих друзей в отеле Ришелье и теперь предстала перед Каупервудом. — Так это вы, Беренис! — воскликнул Каупервуд, широким сердечным жестом протягивая ей руку. — Когда вы приехали в город и что привело вас сюда? — Он вспомнил вдруг, как молил ее однажды — тотчас, любым путем, дать ему знать, если в ее отношении к нему произойдет перемена. И вот она здесь, перед ним — с какой целью? Ему бросился в глаза туалет Беренис — коричневый шелковый костюм, отделанный бархатом. Как он подчеркивает ее мягкую кошачью грацию! — Вы привели меня сюда, — сказала Беренис. В словах ее прозвучал и едва уловимый вызов и признание себя побежденной. — Я прочла вечерние газеты и подумала, что, быть может, я и в самом деле нужна вам сейчас. — Вы хотите сказать?.. — начал Каупервуд и умолк. Глаза его загорелись. — Да, я согласна. К тому же, рано или поздно, мне ведь придется расплачиваться с вами. — Беренис! — воскликнул он с упреком. — Нет, нет, я не то сказала, — поспешно поправилась Беренис. — Не сердитесь! Мне кажется, я теперь лучше понимаю вас. Ну, словом, — весело добавила она, словно стараясь себя подбодрить, и голос ее зазвенел, — я теперь сама так хочу. — Беренис! Это правда? — Разве вы не видите? — спросила она. — Что ж, тогда… — сказал он, улыбаясь и протягивая к ней руки, и, к его изумлению, она сделала шаг вперед. — Я сама не понимаю, что со мной, — проговорила она скороговоркой, приглушенным голосом, с трудом подавляя волнение. — Но я не могла больше оставаться вдали от вас. Мне все казалось, что вы на этот раз можете потерпеть поражение. И, если это случится, я хочу, чтобы вы уехали отсюда куда-нибудь — в Лондон или в Париж… В свете нас не поймут, конечно, но теперь я смотрю на все иначе. — Беренис! — Он нежно гладил ее щеки и волосы. — Нет, повремените еще. И вам придется теперь позабыть о других дамах, иначе я возьму свое слово обратно. — Никто, никто мне теперь не нужен, кроме вас. Вы должны разделить со мной все, что я имею… В ответ Беренис… Как странно выглядят мечты, когда они претворяются в действительность!
Оглядываясь назад
Человечество одурманено религией, тогда как жить нужно учиться у жизни, и профессиональный моралист в лучшем случае фабрикует фальшивые ценности. В конечном итоге бог или созидательная сила — не что иное, как стремление к равновесию, которое для человечества находит свое приблизительное выражение в общественном договоре. Примечательность этой силы заключается в том, что она порождает отдельные личности во всем их бесконечном и ослепительном многообразии, а также порождает массы с присущими им проблемами. Но и тут рано или поздно неизбежно наступает равновесие, когда массы подчиняют себе отдельную личность или отдельная личность — массы… на какой-то срок. Ибо океан вечно кипит, вечно движется. Тем временем рождаются на свет социальные понятия, слова, выражающие потребность в равновесии. Право, справедливость, истина, нравственность, чистота души и честность ума — все они гласят одно: равновесие должно быть достигнуто. Сильный не должен быть слишком силен, слабый — слишком слаб. Но ведь прежде чем прийти в равновесие, чаши весов должны колебаться! Нирвана! Нирвана! Конечный покой, равновесие.Подобно метеору, который, прочертив небо, оставляет за собой огненный след, Каупервуд на какой-то краткий срок явил взорам людей свое «я» — удивительное и страшное. Но и ему диктует свою волю все тот же закон вечного равновесия, и «ему суждено сделать трагическое открытие, что даже гиганты — всего лишь пигмеи, и что вечное равновесие будет достигнуто. А что сказать о растерянности, испуге, муках, о душевном смятении тех, кто, попав в орбиту его полета, был выбит из привычной колеи обыденного? Кто они? Члены законодательного собрания, числом около ста, изгнанные с арены политической деятельности, затравленные и сошедшие в могилу. Члены муниципальных советов различных созывов, числом около пятидесяти, возвращенные, невзирая на их негодующие или жалобные вопли, к унылому, безрадостному существованию и преданные забвению. Величественный губернатор, грезивший идеалами и уступивший материальной необходимости, истязая себя сомнениями и клеймя того, кто пришел ему на помощь. Еще один губернатор, более сговорчивый, которому выпало на долю быть освистанным народом, удалиться от дел и, после мрачных и недоуменных размышлений, наложить на себя руки. Шрайхарт и Хэнд, проникнутые мстительной злобой, не в силах понять, удалось ли им восторжествовать над Каупервудом, так и умерли, не разрешив вопроса. Мэр, насладившийся своим триумфом, разрушивший планы того, кто так его презирал, всю жизнь потом твердил: «Это загадка. Это удивительный человек». Огромный город, много лет подряд пытавшийся распутать то, что никому и никогда не удавалось распутать, — гордиев узел. Сам же титан, вечная жертва своих страстей, по-прежнему бросается из одной схватки в другую, преодолевает новые препятствия, новые трудности в другой стране с более древней историей, но не может обрести покоя, не может достичь истинного познания жизни. Только алчность — алчность и жадное любопытство толкают его вперед. Деньги, деньги, деньги! Снова гигантские авантюры, снова борьба за их осуществление. Снова прежняя беспокойная жажда ощущений и новизны, которую ему никогда не утолить до конца. В Дрездене — дворец для некоей дамы, в Риме — еще один, для другой. В Лондоне — третий дворец, для его возлюбленной Беренис, чья красота не перестает прельщать его. Двум женщинам непоправимо исковеркана жизнь, десятки других жертв оплакивают свою с ним встречу. Сама Беренис все еще ослепительно хороша, но сердце ее увяло; ей нечем вознаградить себя за бесплодно растраченную юность. А он и мирится с этим и нет — любя, сомневаясь, сочувствуя, — околдованный этой женщиной, первой и единственной, которой он не может противостоять. Подводя итог, что же нам сказать о жизни? «Покоя, покоя, отдохновения…»? Решим ли мы упорно бороться за то равновесие, которое, как мы знаем, должно наступить и — будем мы бороться за него, или нет — все равно наступит, чтобы сильный не мог стать слишком сильным и слабый слишком слабым? Или, быть может, пресытившись тусклой обыденщиной, скажем: «Хватит. Мы хотим достичь или умереть!» И умрем? Или будем жить? Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он не сам себя наделил и потому не всегда умеет им управлять и которым не всегда умеют за него управлять другие. Кто указывает нам путь, то вознося нас к ослепительным вершинам славы и почестей, то ломая, калеча, наделяя темной, отталкивающей, противоречивой или трагической судьбой? Душа, что внутри нас? А чье же она порождение? Бога? Во мраке неведомого зреют зародыши бесконечных горестей… и бесконечных радостей. Можешь ты обратить пламенем стены Трои? Что предопределило плач Андромахи? На каком ведьмовском шабаше решилась участь Гамлета? И почему вещие сестры предрекли гибель кровавому шотландцу? Кипи, котел! Шипи! Бурли! Огонь, гори! Вари! Вари! Во мраке неведомого зреют зародыши бесконечных горестей… и бесконечных радостей. Можешь ты обратить свой взор к восходящему солнцу? Тогда радуйся. И если в конце концов оно ослепит тебя — все равно радуйся! Ибо ты жил.
Книга III. СТОИК
Завершающий роман цикла, центральным персонажем которого является Фрэнк Каупервуд — человек, у которого три страсти: деньги, женщины и предметы искусства.
Глава 1
Фрэнк Каупервуд во время своей длительной борьбы в Чикаго за возобновление концессий, которая, несмотря на все его усилия, кончилась для него полным крахом, обнаружил на своем пути два трудно преодолимых препятствия. Первым препятствием был возраст. Каупервуду было без малого шестьдесят. И хотя он по-прежнему чувствовал себя полным сил, он понимал, что ему будет нелегко конкурировать с более молодыми и не менее ловкими финансистами и приумножить за короткое время свой капитал, который безусловно достиг бы желанной цифры, если бы ему удалось заполучить эти концессии. А цифра эта равнялась пятидесяти миллионам долларов. Второе препятствие, которое по его трезвому суждению представлялось ему более серьезным, заключалось в том, что он до сего времени не завел никаких более или менее солидных связей, иными словами не имел никакого престижа в обществе. Разумеется, тут играло роль и то, что он когда-то в молодости сидел в филадельфийской тюрьме, и его собственное непостоянство, и его неудачная женитьба на Эйлин, не сумевшей оказать ему никакой поддержки в обществе, и, наконец, просто его независимый характер, и какой-то чересчур подчеркнутый эгоизм — все это оттолкнуло от него немало полезных людей, которые, пожалуй, могли бы стать его друзьями. Ибо Каупервуд был не такой человек, чтобы вступать в дружбу с людьми менее сильными, менее деловыми и изворотливыми, чем он сам. Это казалось ему бессмысленным самоунижением или уж во всяком случае пустой тратой времени. С другой стороны, он по опыту знал, что с людьми сильными, хитрыми и действительно имеющими вес отнюдь не всегда легко завязать дружеские отношения. В особенности здесь, в Чикаго, где ему пришлось бороться со многими из них за власть и за положение. Они предпочли объединиться против него не потому, что он держался иных правил либо действовал иными методами, — они и сами были не прочь действовать так же, — но скорее потому, что он, чужак, забрался в их огород, в их собственную финансовую область и сумел приобрести значительно большее влияние икапитал, и притом в значительно более короткое время. Мало того, он совратил жен и дочерей тех самых людей, которые особенно яростно соперничали с ним, и, разумеется, они приложили все старания, чтобы изгнать его из чикагского общества, и действительно преуспели в этом. Каупервуд в своих отношениях с женщинами всегда стремился обеспечить себе полную свободу, и до сих пор ничто не могло его заставить поступиться этим. Но вместе с тем он всю жизнь мечтал встретить такую женщину, которая сумела бы привязать его к себе — конечно, не в том смысле, чтобы заставить его хранить полную верность, об этом он даже и думать не хотел, — но чтобы это была настоящая сердечная привязанность, духовная близость и взаимопонимание. И вот уже восемь лет его не покидало чувство, что он действительно нашел такой идеал в Беренис Флеминг. Она, по-видимому, ничуть не была ослеплена ни им самим, ни его славой, и его искусство очаровывать женщин отнюдь на нее не действовало. Может быть, это, а также постоянно пронизывающее его при виде нее чувство прекрасного, смешанное с любовным волнением, и привело его к мысли, что она, с ее молодостью, красотой, тактом и уверенностью в себе, могла бы создать для него необходимый общественный фон, достойный его могущества и его капитала; но для этого, разумеется, ему надо добиться свободы, чтобы иметь возможность жениться на ней. К сожалению, несмотря на всю свою непоколебимость в отношении Эйлин, он все еще был не в состоянии освободиться от нее. Она твердо решила не уступать его никому. А воевать с ней из-за развода, в то время как все силы его были поглощены жестокой борьбой за железнодорожные концессии в Чикаго, — это было бы уж слишком тяжелым бременем. Тем более что и со стороны Беренис он не видел ни малейшего поощрения. По-видимому, ее привлекали люди не только помоложе его, но и с некоторым привилегированным общественным положением, чего он при своей репутации был не в состоянии ей предложить. Итак, он впервые изведал горечь любовной неудачи; он часами сидел один у себя в кабинете, погруженный в мрачные размышления. Он был совершенно убежден, что на этот раз он потерпел полный крах и в борьбе за увеличение капитала и в попытках завоевать любовь Беренис. И вдруг однажды, когда он менее всего ожидал этого, Беренис пришла и объявила, что она принадлежит ему. И он сразу точно весь переродился, почувствовал себя молодым и бодрым, полным энергии и сил. Наконец-то он обрел то, о чем мечтал: любовь женщины, которая поистине будет ему опорой в его борьбе за могущество, славу и прочное положение в свете. Но как бы откровенно и чистосердечно ни объясняла Беренис, почему она пришла к Каупервуду («Я подумала, что теперь, может быть, я вам действительно нужна… и вот решилась!»), в ней все же чувствовался какой-то надлом — она была уязвлена жизнью, обществом, и это и толкало ее взять реванш, расквитаться так или иначе за все те жестокие обиды, которые ей пришлось испытать в ранней юности. И то, что она на самом деле думала и чего Каупервуд, восхищенный ее неожиданной близостью, не понимал, можно было формулировать так: «Ты парий — и я тоже. Мир пытался сокрушить тебя, а меня он пытался выкинуть из той сферы, к которой я по природе своей и по всем чувствам своим должна принадлежать. Ты негодуешь — и я тоже. Так давай заключим союз: союз красоты, смелости и ума, но союз равноправный, чтобы в нем не было господства ни с той, ни с другой стороны. Потому что, если мы не будем относиться друг к другу честно, наш союз распадется; между нами не должно быть обмана». Таков, в сущности, был ход ее рассуждений, которые столь неожиданно для Каупервуда привели ее к нему. Но если Каупервуд и угадывал сильную, сложную натуру Беренис, он все же не мог угадать течение ее мыслей. И в этот зимний вечер, когда она внезапно вошла к нему (цветущая и румяная с мороза), он, глядя на нее, никогда бы не сказал, что она все продумала, взвесила и отдает себе полный отчет в своем решении. Да и как можно было заподозрить в этом такое юное, веселое, улыбающееся, очаровательное существо? И, однако, это было так. Она стояла перед ним, смело откинув голову, чуточку волнуясь втайне. В ее отношении к нему не было никакого коварства, скорее уж это была любовь, если только желание принадлежать ему и быть с ним до конца его дней, — но только на таких вот определенных условиях, — можно назвать любовью. С его помощью, рука об руку с ним, она достигнет желанной победы, и оба они чистосердечно и любовно будут поддерживать друг друга. Итак, в этот самый вечер Каупервуд, глядя на нее, сказал: — Но мне все-таки хотелось бы знать, Беви, как это вы вдруг пришли к такому неожиданному решению? Как это могло случиться, что вы решились на такой шаг сейчас, когда я только что потерпел второе и действительно крупное поражение? Она спокойно смотрела на него, и сиянье ее синих глаз окутывало его словно каким-то теплым туманом, пронизанным солнечными лучами. — Я думала о вас… и читала о вас в прессе — все эти годы. Вот только прошлое воскресенье в Нью-Йорке я прочла о вас целые две страницы в «Сан». И они, кажется, помогли мне понять вас немножко лучше. — Газеты?.. Нет, правда? — И да и нет. Не руганью, конечно, которою они осыпают вас, но фактами — если то, что они собрали и выдают за вашу биографию, это действительно факты. А вы правда никогда не любили вашу первую жену? — Не знаю. Вначале мне казалось, что любил. Но, конечно, я был еще совсем мальчишкой, когда женился на ней. — А теперешнюю вашу жену, миссис Каупервуд? — Ах, Эйлин? Да! Когда-то я был очень привязан к ней… — неожиданно признался он. — Она для меня много сделала, очень много. А я не такой, чтобы забывать добро, Беви! И в то время я был влюблен в нее. Сильно влюблен. Но, конечно, я был еще очень молод. И в духовном отношении не так требователен. Виновата в этом не Эйлин: просто это была ошибка неопытного человека. — Мне становится немного легче, когда я слышу это от вас. Вы вовсе не такой уж безжалостный, каким вас изображают. Но все-таки я намного моложе Эйлин. И мне кажется, если бы я была уродом, вряд ли мои духовные качества сколько-нибудь заинтересовали бы вас. Каупервуд усмехнулся. — Верно! — сказал он. — Не стану оправдываться в том, что я таков, какой я есть. Умно уж там или глупо, но я в жизни руковожусь только эгоистическими соображениями. Потому что, как мне кажется, человеку, в сущности, больше и нечем руководствоваться. Может быть, я ошибаюсь, но мне сдается, что большинство из нас поступает именно так. Возможно, что существуют какие-то другие интересы, которые стоят выше своих, личных, но когда человек действует на пользу себе, он тем самым, как правило, приносит пользу и другим. — Я, кажется, согласна с этой точкой зрения, — отвечала Беренис. — Мне хотелось бы, чтобы вы поняли хорошенько одно, Беви, — ласково улыбнувшись, продолжал Каупервуд, — это то, что я ничуть не пытаюсь ни преуменьшать, ни скрывать ни единой обиды, которую я кому-нибудь причинил. Жизнь идет, человек меняется, и огорчения при этом неизбежны. Мне просто хочется рассказать вам, как, на мой взгляд, обстоит дело со мной, чтобы вы в самом деле поняли меня. — Благодарю, — рассмеялась Беренис, — но вам вовсе незачем чувствовать себя так, точно вы стоите перед судьей и даете свидетельские показания. — Да, вот именно, так примерно я себя и чувствую сейчас. Но позвольте мне еще немножко рассказать вам об Эйлин. Это существо любящее, эмоциональное, но в духовном отношении она никогда не была и не может быть тем, что мне нужно. Я знаю ее хорошо и понимаю ее. И я всегда буду благодарен ей за все, что она делала для меня в Филадельфии. Она не покинула меня и поддерживала меня в ущерб своей собственной репутации. И вот поэтому и я не покидаю ее, хоть и не могу любить ее так, как любил когда-то. Она носит мое имя, живет в моем доме. Она считает себя вправе владеть и тем и другим. Он выжидательно посмотрел на Беренис. — Вы, конечно, понимаете это? — спросил он. — Да, да! — воскликнула Беренис. — Конечно, понимаю. И, пожалуйста, не думайте, я не собираюсь доставлять ей никаких огорчений. Я пришла к вам совсем не за этим. — Вы очень великодушны, Беви, но вы несправедливы к себе! — сказал Каупервуд. — Я хочу, чтобы вы знали, как много вы значите для всего моего будущего. Вы, может быть, еще не понимаете этого, но я хочу сказать вам об этом вот сейчас, здесь. Не зря я мечтал о вас и не упускал вас из виду в течение восьми лет. Это значит, что я люблю вас и люблю крепко. — Я знаю… — мягко ответила она, глубоко тронутая этим признаньем. — Все эти восемь лет я видел перед собой идеал. Это были вы. Он замолчал. Ему хотелось сжать ее в своих объятьях, но что-то словно предостерегало его: сейчас этого нельзя. Он сунул руку в карман жилета и вытащил тоненький золотой медальон, величиной в серебряный доллар. Он открыл медальон и протянул ей. На внутренней стороне был маленький портрет Беренис — двенадцатилетняя девочка, тоненькая, хрупкая, высокомерная, сдержанная, серьезная — такой же она осталась и теперь. Беренис взглянула и сразу вспомнила — ведь этот снимок еще того времени, когда они жили с матерью в Луисвиле и мать ее была женщиной с положением и со средствами. Как это не похоже на то, что сталось с ними теперь! И сколько пришлось ей вынести из-за этой перемены! Она смотрела на свою карточку, и светлые воспоминания проносились перед ней. — Откуда у вас эта карточка? — спросила она наконец. — Я увидел ее на письменном столе у вашей матушки в Луисвиле и взял ее себе. Только она, конечно, была не в этой оправе. Это уж я сам сделал потом. — Он бережно закрыл крышку медальона и спрятал его в карман. — Вот я и не расстаюсь с ней с тех пор. Всегда и везде она со мной! Беренис улыбнулась. — Надеюсь, вы ее никому не показываете! Ведь я там совсем еще дитя. — И дитя это стало моим идеалом. А теперь более чем когда-либо. Конечно, я знал немало женщин на своем веку, и мои отношения с ними складывались по-разному. Но независимо от этого у меня всегда было более или менее определенное представление о том, что мне на самом деле нужно; я всегда мечтал вот о такой сильной, отзывчивой, возвышенной девушке, как вы. Думайте обо мне что угодно, но судите меня отныне по моим поступкам, а не по словам. Вы сказали: «Я пришла к вам, потому что мне кажется, что я вам нужна». И это правда. Да, вы мне нужны. Она положила руку ему на плечо. — Я решила, — спокойно промолвила она. — Самое лучшее, что я могу сделать в моей жизни, это помочь вам. Но ведь мы… я… никто из нас не имеет возможности поступать именно так, как нам хочется. Вы и сами это знаете. — Еще бы! Но я хочу, чтобы вам было хорошо со мной, и хочу, чтобы и мне было хорошо с вами. И, конечно, мне не может быть хорошо, если вы будете расстраиваться. Здесь, в Чикаго, особенно теперь, мне нужно быть крайне осторожным. И вам тоже. Поэтому нам сейчас надо будет расстаться, и вы вернетесь к себе в отель. Но завтра, так около одиннадцати, я надеюсь, вы позвоните мне. И тогда мы встретимся и сможем обо всем как следует поговорить. Но подождите минутку. Он взял ее за руку и повел в свою спальню. Закрыв дверь, он подошел к красивому кованому сундуку, который стоял в углу комнаты. Подняв крышку, он вынул оттуда три небольших подноса с коллекцией древних греческих и финикийских колец и поставил их перед Беренис. — Ну выбирайте! Каким кольцом вы обручитесь со мной? — сказал он. Снисходительно и немножко небрежно, как все, что она ни делала, — ибо она была из тех, кого нужно упрашивать, а не из тех, кто умеет просить, — Беренис стала разглядывать и перебирать кольца, восклицая невольно, когда ей попадалось какое-нибудь, особенно поразившее ее. — Цирцея, наверно, выбрала бы вот эту свернувшуюся серебряную змейку, — промолвила она. — А Елена — вот эту гирлянду цветов из зеленой бронзы. Я думаю, что Афродите, наверно, понравилась бы эта согнутая рука и пальчики, крепко сжавшие камень. Но я хочу выбрать не просто самое красивое. Я возьму себе вот эту потускневшую серебряную ленту. В ней чувствуется и сила и красота. — Всегда что-нибудь придумает, чего никак не ожидаешь! — воскликнул Каупервуд. — Ах, Беви! Вы бесподобны. Он нежно поцеловал ее и надел кольцо ей на палец.Глава 2
Как много сделала Беренис для Каупервуда, явившись к нему в момент его поражения, можно судить по тому, что она возродила в нем веру в неожиданное и, более того — веру в свою счастливую звезду. Ибо Каупервуд угадывал в ней существо эгоистическое, уравновешенное, скептическое, но, конечно, не столь грубое, а много более возвышенное, чем он сам. Если он жаждал денег ради того, что они могут дать, — то есть ради власти, дабы пользоваться ею, как ему вздумается, — Беренис жаждала получить с их помощью возможность выразить свою одаренную натуру и удовлетворить тем самым свои эстетические запросы. Ей хотелось достичь этого не столько в той или иной форме искусства, сколько в самой жизни, так, чтобы и она сама и вся жизнь ее стали как бы воплощением искусства. Она часто думала, что, будь у нее много, очень много денег и большие возможности, — чего бы она только ни сделала, дав волю своей изобретательности. Никогда бы не стала она швырять деньги на большие дома или земли, на всякую показную роскошь, нет, она постаралась бы создать для себя такую изысканную, такую вдохновляющую атмосферу! Она никому не поверяла этих своих мыслей. Это было частью ее самой, нечто свойственное ее натуре, в которой Каупервуд не всегда так уж тонко разбирался. Она представлялась ему хрупкой, впечатлительной, загадочной, и поэтому ему никогда не надоедало смотреть на нее — это было все равно что любоваться природой: новый день, занимающийся над землей, внезапный ветер, незнакомый ландшафт. А что-то будет завтра?.. Будет она такой же, эта Беренис, какой он видел ее прошлый раз, или нет? Никогда он не мог ответить на этот вопрос. И сама Беренис, сознавая в себе эту непонятную изменчивость, не могла бы объяснить ее ни ему, ни кому другому: такая уж она есть. И пусть Каупервуд и все остальные принимают ее такой, какая она есть. И при всем этом в ней чувствовался аристократизм. Невозмутимая, сдержанная, она внушала невольное уважение всем, с кем бы ни приходилось ей сталкиваться. И это выходило у нее само собой, без всяких усилий с ее стороны. И Каупервуд, сразу почувствовавший в ней это врожденное превосходство, был восхищен и изумлен, ибо это было как раз то редкое качество, которое он в глубине души больше всего ценил в женщине. Такая юная, обаятельная, умная и так держит себя — настоящая леди! Он угадал это даже тогда — по фотографии двенадцатилетней девочки в Луисвиле, восемь лет назад. Но теперь, когда Беренис, наконец, пришла к нему, его смущала одна мысль. В том восторженном состоянии, в котором он сейчас пребывал, ему неудержимо хотелось сказать ей, что он отныне принадлежит ей одной — неизменно и безраздельно. Но было ли это действительно так? После первого своего брака, особенно после того, как у них появились дети и установилась эта обыденная рутина семейной жизни, он совершенно ясно понял, что эта обычная норма спокойного супружеского существования совсем не для него. Доказательством был его роман с юной красавицей Эйлин, чья самоотверженная любовь и привязанность к нему заставили его впоследствии соединиться с ней брачными узами. Чувство порядочности в данном случае играло не меньшую роль, чем его влечение к Эйлин. Но с тех пор он считал себя свободным от всяких обязательств, решив, что он вправе распоряжаться собой и своими чувствами, как ему вздумается. Он никогда не отличался склонностью к постоянству и не стремился к нему, и, однако, на протяжении целых восьми лет он старался завоевать любовь Беренис. Теперь, раздумывая над этим, он спрашивал себя: как может он честно и откровенно рассказать ей о самом себе? Она такая умная и чуткая. Умалчивание и ложь, которыми можно успокоить, если не вполне обмануть, всякую обыкновенную женщину, только уронят его в ее глазах. Надо сказать, что как раз в это время в Дрездене у него была любовница, некая Арлет Уэйн. Он сошелся с ней год назад. Арлет жила тогда в маленьком городке в штате Айова; жажда вырваться из убогой среды, где ее талант неминуемо должен был зачахнуть, толкнула Арлет написать Каупервуду письмо, к которому она приложила фотографию, изображавшую ее очаровательное личико. Не получив ответа, она наскребла где могла немножко денег и явилась собственной персоной в Чикаго, в контору Каупервуда. И если фотографии оказалось недостаточно для достижения цели, то сама живая Арлет преуспела вполне. Ее настойчивость, уверенность в себе понравились Каупервуду; она показалась ему занятной и привлекательной. Кроме того, ею руководил не только грубый расчет: она серьезно увлекалась музыкой, и у нее был хороший голос. Убедившись в этом, он решил помочь ей. Арлет привезла с собой достаточно наглядные доказательства тех жалких условий, в которых ей приходилось существовать: фотографию крохотного домика, где она жила с матерью-вдовой, занимавшейся мелкой торговлей, и трогательный рассказ о том, как мать выбивалась из сил, чтобы заработать на жизнь и вывести ее в люди. Разумеется, те несколько сот долларов, которые были нужны ей для того, чтобы пробиться, ровно ничего не значили для Каупервуда. Честолюбие в людях всегда находило в нем сочувствие: Арлет растрогала его, и он решил устроить ее будущее. Для начала он предоставил ей возможность брать уроки у профессоров в Чикаго. Затем, если выяснится, что игра стоит свеч, он пошлет ее за границу. Однако, чтобы ни в коей мере не компрометировать и не связывать себя, он назначил ей определенное содержание, которым она распоряжалась сама. Это содержание выплачивалось ей и по сие время. Он посоветовал ей привезти в Чикаго мать и поселиться с ней вместе. Арлет сняла маленький домик, выписала мать, они прочно обосновались здесь, и Каупервуд стал у них частым гостем. Арлет была неглупа, искренне предана своему искусству, и у них постепенно сложились хорошие, дружеские отношения. У нее не было никаких поползновений как-нибудь скомпрометировать его. Не так давно, незадолго до появления Беренис, Каупервуд, предвидя, что ему, может быть, скоро придется распроститься с Чикаго, уговорил Арлет отправиться в Дрезден. И если бы не Беренис, возможно, что он сейчас гостил бы у Арлет в Германии. Но теперь, сравнивая ее с Беренис, он уже не чувствовал к ней никакого влечения. Беренис овладела всем его существом. Однако музыкальные способности Арлет все-таки интересовали его, ему хотелось, чтобы она добилась успеха, поэтому он решил помогать ей и впредь. Но он чувствовал, что с ней уже все кончено, он должен вычеркнуть ее из своей личной жизни раз и навсегда. Для него это небольшая жертва. Ее день миновал. Теперь надо начать жить сызнова. Если Беренис потребует от него полной верности под угрозой разрыва — он готов подчиниться ее желаниям, каких бы это ему ни стоило усилий. Она достойна того, чтобы ради нее пойти на любую жертву. И мысленно видя ее перед собой, он погружался в мечты и строил планы на будущее, как когда-то в далекие дни ранней юности.Глава 3
На следующее утро чуть попозже десяти Беренис позвонила Каупервуду, и они условились встретиться в его клубе. Поднимаясь по особой лестнице в его апартаменты, она увидала, что он уже ждет ее на площадке. Дверь была открыта, и везде в холле и в комнатах были цветы. Но он до такой степени был не уверен в своей победе, что, когда она не спеша поднималась по ступенькам, глядя на него с улыбкой, он впился в ее лицо тревожным взглядом, боясь прочесть на нем, что она вдруг передумала. И только после того как она, переступив порог, позволила ему обнять себя и он крепко прижал ее к груди, у него отлегло от сердца. — Пришла! — вскричал он радостно и заглянул ей в лицо, все еще не веря своему счастью. — А вы думали, не приду? — спросила она, смеясь над выражением его лица. — Но разве я мог быть уверен? — сказал он. — Ведь до сих пор вы никогда не были со мной такой, как мне хотелось. — Это правда. Но вы ведь понимаете почему. Зато теперь все будет по-другому. И губы ее слились с его губами. — Если бы ты только знала, — сказал он, задыхаясь от волнения, — что это значит для меня, твой приход. Всю ночь я глаз не сомкнул. И у меня такое чувство, что мне больше никогда спать не захочется… Милые жемчужные зубки, а глаза, синие-синие! — шептал он, осыпая ее поцелуями. — А волосы — горят, как золото! — и он восхищенно потрогал их. — Мальчик получил новую игрушку! У него перехватило дыхание, когда он увидел ее чуть-чуть насмешливую, но ласковую улыбку; он крепко обнял ее и поднял на руки. — Фрэнк! Пусти! Прическа! Да ты меня всю растреплешь! Она, смеясь, отбивалась, когда он нес ее в спальню, озаренную дрожащим и пляшущим пламенем камина. Было уже далеко за полдень, когда он, как шутливо заметила Беренис, настолько образумился, что с ним можно было спокойно разговаривать. Они уселись за чайным столиком перед камином. Она говорила, что ей хотелось бы остаться в Чикаго, чтобы быть поближе к нему, но, конечно, им надо устроиться так, чтобы не привлекать внимания. Он был совершенно согласен с ней. В связи с этой газетной шумихой он сейчас у всех на виду — достаточно ему только показаться с такой хорошенькой женщиной, пресса мигом подхватит это и раздует невесть что; всем, разумеется, известно, что Эйлин живет отдельно от него в Нью-Йорке. Ему ни в коем случае нельзя появляться вместе с Беренис. — Ведь для меня сейчас эта история с продлением концессии, — говорил он, — или, вернее, с провалом концессии, вовсе не значит, что работа моя кончена и что я брошу на произвол судьбы всю выстроенную мною сеть городского транспорта. Я столько лет занимался этим делом, акции моих предприятий раскуплены, тысячи пайщиков заинтересованы в них. И отнять эти акции ни у меня, ни у пайщиков без суда никак невозможно. — И вот сейчас, Беви, — продолжал он, понизив голос, — самое время было бы подыскать какого-нибудь крупного финансиста или группу людей с капиталом, нечто вроде синдиката, который купил бы все это имущество по сходной цене, чтобы не обидно было ни им, ни нам. Но это, конечно, такое дело, которое сразу не делается. На него могут потребоваться годы. И я, в сущности, уверен, что, пока я сам не предприму каких-нибудь шагов и не постараюсь добиться этого как личного одолжения, вряд ли можно рассчитывать, что кто-нибудь явится сюда и сделает мне сколько-нибудь дельное предложение. Все знают, что это трудная штука — возиться с городским транспортом и заставить его давать прибыль. А потом эта судебная волокита, ее все равно не минуешь, кто бы ни польстился на это предприятие, будь то мои враги или какая-нибудь акционерная компания, которая решится взять дело в свои руки. Он сидел с ней рядом и разговаривал с ней так, как если бы это был какой-нибудь пайщик или солидный финансист, такой же делец, как он сам. И хотя ее вовсе уж не так интересовали всякие подробности его финансовых дел, она чувствовала, что это действительно его сфера, что он живет в ней деятельной, напряженной и по-своему увлекательной жизнью. — Я знаю только одно, — перебила она его, — это то, что, по-моему, тебя ничто сокрушить не может. Ты для этого слишком умен и слишком хитер. — Допустим, — сказал он, явно польщенный. — Но так или иначе, на все это требуется время. Может быть, немало лет пройдет, прежде чем мне удастся сбыть с рук все эти транспортные предприятия. А между тем такая затяжка может принести мне немалый ущерб. Предположим, я задумал какое-нибудь новое дело, — я буду чувствовать себя связанным по рукам и по ногам, пока окончательно не распутаюсь со всей этой историей. Он замолчал и, задумавшись, уставился в одну точку своими большими серыми глазами. — Чего бы мне больше всего хотелось вот теперь, когда у меня есть ты, — медленно промолвил он, — это позабыть обо всех делах и отправиться с тобой куда-нибудь путешествовать. Довольно я потрудился. Ты для меня дороже всяких денег, несравненно дороже! Знаешь, как странно! Я только сейчас вдруг почувствовал, что я слишком много жизни ухлопал на все эти дела. Он улыбнулся и обнял ее. А Беренис, слушая его и с гордостью сознавая свою власть над ним, проникалась к нему чувством глубокой нежности. — Вот это ты правду сказал, милый! — ответила она. — Ты точно какой-то громадный паровоз: летишь на всех парах, а куда — и сам не знаешь. И она взъерошила ему волосы и ласково скользнула ладонью по его щеке. — Я часто думала о твоей жизни и о том, чего тебе удалось достигнуть. Мне кажется, для тебя было бы очень хорошо уехать на несколько месяцев за границу, поглядеть кое-что в Европе. Я не представляю себе, что ты сейчас можешь здесь сделать? Разве только еще увеличить капитал? И ведь Чикаго, по правде сказать, совсем неинтересный город. По-моему, он просто отвратителен! — Ну, этого я бы не сказал, — возразил Каупервуд, заступаясь за Чикаго, — у него есть и свои недурные стороны. Ведь я сюда, в сущности, приехал затем, чтобы сколотить капитал. И я прямо скажу, мне жаловаться не приходится. — Да это я знаю! — сказала Беренис, немножко удивленная тем, что он так пылко заступается за Чикаго, несмотря на все обиды и неприятности, которых ему пришлось здесь натерпеться. — Только вот что, Фрэнк… — она помолчала, обдумывая, как бы получше выразить то, что ей хотелось сказать. — Я считаю, что ты настолько крупнее, больше всего этого. Я, знаешь, всегда так думала! Неужели тебе не кажется, что тебе сейчас надо отдохнуть, оглядеться, поехать куда-нибудь, так просто, без всякого дела? Тебе может дорогой прийти какая-нибудь счастливая мысль, может во время путешествия представиться случай — ну, скажем, возможность взяться за какую-нибудь крупную общественную постройку, которая принесет тебе не столько прибыль, сколько положение и славу. А может, тебя заинтересует какое-нибудь предприятие в Англии или во Франции? Мне бы так хотелось пожить с тобой во Франции… Ну, почему, правда, не поехать туда и не построить для них что-нибудь новенькое? А как насчет того, чтобы заняться городским транспортом в Лондоне? Или еще чем-нибудь в этом роде? Во всяком случае, что бы ни было, давай уедем из Америки. Он одобрительно улыбнулся. — Знаешь, Беви! — сказал он. — Хоть это и несколько противоестественно — обсуждать такие серьезные деловые вопросы, когда видишь перед собой эти синие глаза и копну золотых волос, — однако должен сказать, что ты рассуждаешь правильно. Примерно в середине того месяца, а может быть и раньше, мы с тобой уедем за границу — ты и я. И там уж я кое-что придумаю, что тебе будет по душе; год назад или около того мне делали предложение насчет подземной дороги в Лондоне. Я тогда так был занят своими делами тут, мне просто не до того было. Но теперь… — он похлопал ее по руке. Уже смеркалось, когда Беренис, спокойная, улыбающаяся, сдержанная, простилась с Каупервудом и села в экипаж, который он для нее нанял. Спустя несколько минут после ее ухода Каупервуд вышел на улицу, чувствуя себя совсем другим человеком, чем вчера. Радость жизни окрыляла его, и он уже строил планы: завтра с утра он поговорит со своим поверенным и поручит ему устроить совещание с мэром города и еще с несколькими влиятельными лицами, чтобы обсудить — на каких условиях и каким способом разделаться со всеми своими многочисленными предприятиями и обязательствами. А затем… затем будет Беренис. Мечта всей его жизни, которая наконец-то сбылась! Ну пусть он потерпел крах! Да никакого краха и не было! Жизнь — это любовь, а не только деньги и деньги!Глава 4
Предложение насчет лондонской подземной дороги, о котором Каупервуд рассказывал Беренис, было сделано ему год назад двумя английскими предпринимателями, мистером Филиппом Хэншоу и мистером Монтегью Гривсом. Они привезли ему письма от нескольких хорошо известных лондонских и нью-йоркских банкиров и маклеров, рекомендовавших их как солидных подрядчиков по постройке железных дорог, городской транспортной сети и крупных заводов в Англии и других странах. Несколько времени тому назад они вошли пайщиками в Электро-транспортную компанию (английская компания, учрежденная в целях расширения городского транспорта), вложив десять тысяч фунтов стерлингов для реализации проекта постройки подземной железной дороги, протяжением четыре-пять миль от станции Чэринг-Кросс — в центре Лондона — до Хэмпстеда, который с недавних пор начал превращаться в крупный жилой район. Одно из обязательных условий этого проекта заключалось в том, что новая линия подземки должна была связать прямым сообщением Чэринг-Кросс (конечную станцию Юго-Восточной железной дороги, которая обслуживала южные и юго-восточные районы Англии и являлась основной артерией, связывающей Англию с континентом) с Юстон стэйшен, конечной станцией Северо-Западной железной дороги, которая обслуживала северо-западные районы и соединяла Англию с Шотландией. По словам мистера Гривса и мистера Хэншоу, Электро-транспортная компания располагала капиталом в тридцать тысяч фунтов стерлингов. Ей удалось провести в парламенте через обе палаты акт, предоставляющий ей право на постройку и эксплуатацию новой линии, которая отныне поступала в полную собственность компании. Однако для того чтобы добиться этого, Электро-транспортной компании пришлось, вопреки распространенному среди англичан мнению о своем парламенте, затратить изрядную сумму — не то чтобы подкупить ту или иную группу, но, как осторожно выразились мистер Гривс и мистер Хэншоу (которых Каупервуд, разумеется, понял с первого слова, ибо уж кто-кто, а он-то отлично разбирался в этом), дабы заручиться протекцией того или иного полезного лица, способного повлиять должным образом на членов комитета, от коих зависит решение дела; уж, конечно, такая протекция скорей обеспечит успех, чем если вы просто так, со стороны, обратитесь с ходатайством о предоставлении вам льготного подряда на крупную общественную постройку, тем более если она, как это бывает в Англии, поступает в ваше вечное владение. И вот, учитывая все это, и пришлось обратиться к юридической конторе «Райдер, Бэллок, Джонсон и Чэнс» — солидной, широко известной фирме, которую возглавляют талантливые и хорошо осведомленные в технических вопросах представители юридической профессии, пользующиеся заслуженной славой в столице Великобритании. Эта превосходная фирма обладала бесчисленными связями с крупными пайщиками и председателями самых различных компаний. Она действительно разыскала таких людей, которые сумели не только повлиять на членов комитета и провести акт в парламенте, но уже после того как акт был в руках у компании, а от первоначальной суммы в тридцать тысяч фунтов почти ничего не осталось, сумели вовлечь в это предприятие Гривса и Хэншоу, — и они, взяв подряд на постройку в течение двух лет линии Чэринг-Кросс — Хэмпстед, заплатили год тому назад десять тысяч фунтов наличными. Условия акта были довольно жесткие. Они предусматривали, что Электро-транспортная компания должна внести шестьдесят тысяч фунтов стерлингов в государственных ценных бумагах как залог в обеспечение того, что предполагаемые работы будут закончены к указанному сроку. Но, как эти лондонские предприниматели объясняли Каупервуду, не трудно будет найти такую группу финансистов, которые согласились бы за обычный ссудный процент внести требуемое количество ценных бумаг в предусмотренный условиями акта банк. А в парламентском комитете, если, разумеется, там будет заручка, безусловно можно добиться продления сроков окончания работ. Однако после полутора лет усилий с их стороны и несмотря на то, что на это дело было ухлопано сорок тысяч фунтов стерлингов наличными и вложено на шестьдесят тысяч залоговых ценных бумаг, денег на прокладку туннеля (а требовалось на это миллион шестьсот тысяч фунтов) по сие время достать не удалось. Причина этого крылась в том, что хотя в Лондоне и функционировала успешно одна линия подземной дороги, Сити — Южный Лондон, оборудованная по всем правилам современной техники, — тем не менее это не могло убедить английских капиталистов в том, что вновь проектируемая подземная дорога, значительно большей протяженности и соответственно требующая значительно больших затрат, будет приносить доход. Две другие действующие линии городской железной дороги представляли собой полуподземку — по ней ходили паровички, которые то шли по открытому месту, то ныряли в туннель; одна из них, так называемая Районная железная дорога, проложена была на пять с половиной миль, другая — Метрополитен — всего на две мили. Между дорогами действовало соглашение о сквозном движении по обеим линиям. Но так как эти линии обслуживались паровой тягой, то туннели и платформы были закопченные, грязные — ни та, ни другая дорога почти не приносила дохода; и так как на деле пока еще никто не показал, что дорога, постройка которой обойдется в несколько миллионов фунтов, может приносить прибыль, английские капиталисты не склонны были заинтересоваться подобным предприятием. Отсюда возникла необходимость искать капитал в других частях света, и это в конце концов привело мистера Хэншоу и мистера Гривса — через Берлин, Париж, Вену, Нью-Йорк — к мистеру Каупервуду. Каупервуд же, как он и говорил Беренис, был в то время до такой степени поглощен своими чикагскими неприятностями, что слушал рассказы мистера Хэншоу и мистера Гривса без всякого интереса. Но теперь, после того как его борьба за получение концессии кончилась полным провалом, и в особенности после того как Беренис выразила желание уехать из Америки, он вспомнил об их предложениях и планах. Конечно, ему тогда показалось, что они просто засыпались с этим своим проектом, на него уже ухлопано столько денег, что ни один опытный делец никогда не рискнет на такую авантюру; а все-таки, может быть, стоит посмотреть поближе — как там у них обстоит дело с подземной дорогой в Лондоне, и если окажется возможным развернуть строительство в широком масштабе и обойтись без того мошенничества, к которому он вынужден был прибегать в Чикаго, он даже готов отказаться от сверхприбылей. Он уже и сейчас архимиллионер, довольно ему загребать деньги, не заниматься же этим до конца своих дней. А с таким прошлым, как у него, и после всей этой грязной газетной шумихи, поднятой его врагами, заслужить добрую славу — и особенно в Лондоне, который в своих коммерческих сделках до сих пор как будто слывет образцом непогрешимой честности, — вот было бы замечательно! Это даст ему возможность занять такое общественное положение, какого ему никогда не достигнуть у себя в Америке. Он очень воодушевился этой идеей. А ведь ее подсказала ему Беренис, эта девочка, еще не видавшая жизни. Уж такой у нее природный дар, догадка, — вот она и почувствовала такую замечательную возможность. И подумать только, что все это — и лондонские перспективы, и все, что ни сулит ему в будущем жизнь с Беренис, — все выросло из какого-то легкомысленного приключения девять лет назад, когда он с полковником Натаниэлем Джилисом из Кентукки отправился в домик этого погибшего созданья, Хэтти Стар, матери его Беренис! И кто это выдумал, будто зло никогда не приводит к добру?Глава 5
По мере того как Беренис постепенно привыкала к новым взаимоотношениям с Каупервудом, ее все больше и больше беспокоила мысль о том, как отвратить от себя опасные случайности, которые подстерегали ее со всех сторон. Она не обманывала себя на этот счет, решив соединить свою судьбу с Каупервудом, но сейчас она чувствовала, что ей уже надо быть наготове, нельзя терять ни минуты, чтобы не дать себя застигнуть врасплох. Первая и главная опасность — Эйлин, эта ревнивая, неистово преданная жена, которая, едва только узнает, что Каупервуд любит Беренис, конечно не остановится ни перед чем, чтобы погубить ее. Затем — газеты. Они, конечно, с радостью предадут скандальной огласке ее связь с Каупервудом, если их будут часто видеть вдвоем. И наконец — мать: ведь надо же ей будет как-то объяснить, почему Беренис вдруг решилась на такой шаг; и потом еще брат, Ролфи, которого она теперь надеялась куда-нибудь пристроить с помощью Каупервуда. Все это налагало на нее какую-то ответственность, обязывало ее быть постоянно настороже, взвешивать каждое свое слово, хитрить, вывертываться, никогда не терять самообладания и вместе с тем быть готовой на всякие жертвы и уступки. И Каупервуд также частенько задумывался надо всем этим. Ведь Беренис теперь занимала главное место в его жизни, — как уберечь ее от неприятностей, сделать ее счастливой, устранить препятствия, которые не позволяют ему быть постоянной ней. Он начал всерьез подумывать о лондонском предложении. В следующее свиданье с Беренис, едва только она вошла, он сразу заговорил с ней обо всех этих делах. — Знаешь, Беви, — сказал он, — а эта твоя идея насчет Лондона кажется мне очень заманчивой. Тут, несомненно, заложены кое-какие возможности. И он рассказал ей все, что он за это время передумал, и припомнил разные подробности из своего разговора с лондонскими подрядчиками. — И вот я сейчас думаю: пожалуй, в первую очередь мне надо будет послать кого-нибудь в Лондон, узнать, остается ли это предложение в силе? Если окажется, что да, тогда путь открыт и эта твоя замечательная идея может осуществиться. Он посмотрел на нее с улыбкой, словно поздравляя ее с тем, что она так хорошо придумала. — Однако мы с тобой должны действовать осторожно, нам надо опасаться, во-первых, газетной огласки, а во-вторых — какого-нибудь неожиданного сюрприза, который нам в любую минуту может преподнести Эйлин. Это существо сумасбродное, неуравновешенное; ее поступками управляют только чувства, а не рассудок. Я много лет пытался объяснить ей насчет самого себя: как человек помимо своей воли может измениться в течение жизни. Но она этого никак понять не может. Она считает, что человек меняется только потому, что он сам этого хочет. Он замолчал и невольно усмехнулся. — Она из той породы женщин, которые хранят вечную привязанность: полюбит — и всю жизнь будет любить одного человека. — А тебе это не нравится? — спросила Беренис. — Напротив! По-моему, это замечательно, но только беда в том, что я-то сам до сих пор никогда еще таким не был… — И не будешь! — поддразнила его Беренис. — Не говори так, — жалобно взмолился он. — Зачем ты меня дразнишь? Ведь я только хочу сказать тебе, что для нее просто непонятно, как это так может быть: вот я когда-то был в нее влюблен, а теперь почему-то этого больше нет. И у нее это так наболело, что любовь ее сейчас обратилась в ненависть, или, может быть, она просто старается убедить себя в этом. Но хуже всего то, что все это у нее смешано с чувством гордости, — она носит мое имя, она моя жена. Когда-то она мечтала блистать в обществе, да и мне тоже очень хотелось предоставить ей такую возможность; мне казалось, что мы оба от этого выиграем. Но я скоро убедился, что для этого у нее не хватает уменья, такта, и просто она недостаточно умна. А потом уж я и сам отказался от мысли обосноваться в Чикаго. Меня больше привлекал Нью-Йорк. Великолепный город, деловая столица, настоящее место для человека с деньгами. Дай-ка, думаю, попробую там. И тут-то мне пришло на ум, что, быть может, я не всегда буду жить с Эйлин, но, хочешь верь, хочешь нет, впервые эта мысль промелькнула у меня, когда я увидел твой портрет в Луисвиле — тот самый, который я теперь всегда ношу с собой. И вот после этого я и решил выстроить дом в Нью-Йорке и сделал из него настоящий музей, надеясь обосноваться в нем раз навсегда. Я думал, что если ты когда-нибудь обратишь на меня внимание… — Так, значит, этот роскошный особняк, в котором я никогда не буду жить, — задумчиво сказала Беренис, — был выстроен для меня!.. Как странно! — Такова жизнь! — вздохнул Каупервуд. — Но ведь мы с тобой и так будем счастливы. — Конечно, — отвечала она. — Мне просто показалось это удивительным. Я не хочу доставлять никаких огорчений Эйлин, ни за что на свете! — Да, я знаю, что у тебя нет никаких предрассудков. Ты умная, Беви, и, может быть, ты даже лучше меня придумаешь, как нам из всего этого выпутаться. — Наверно что-нибудь придумаю, — спокойно промолвила она. — Но, кроме Эйлин, надо еще иметь в виду и газеты. Ведь они мне просто жить не дают. Стоит им только пронюхать про этот лондонский проект, — предположим, что я действительно надумаю за это взяться, — тут такой поднимется звон! А если еще кто-нибудь догадается твое имя к моему приплести — ну, тогда тебя совсем заклюют, налетят, точно коршуны! Я пока что вижу только один выход — либо мне удочерить тебя, стать твоим приемным отцом, либо, если мы поедем в Лондон, выступить там в роли твоего опекуна. Это даст мне право находиться около тебя под тем предлогом, что я распоряжаюсь твоим состоянием. Что ты об этом скажешь? — Ну что ж, — помолчав, ответила она, — других возможностей я пока не вижу; а насчет поездки в Лондон нужно будет еще хорошенько подумать. Ведь я забочусь не только о себе одной. — Конечно, ты совершенно права, — сказал Каупервуд. — Но если нам хоть чуточку повезет, то все это мы с тобой преодолеем. Сейчас надо помнить об одном — чтобы нас как можно меньше видели вместе. Но прежде всего — надо придумать какой-нибудь способ отвлечь внимание Эйлин. Потому что она-то, конечно, знает о тебе решительно все. Ведь я тогда в Нью-Йорке часто бывал у вас, ну и ясно, она подозревала, что мы с тобой в связи. Конечно, я тебе не мог этого рассказать. Кажется, ты меня тогда недолюбливала. — Вернее, не совсем понимала, — поправила Беренис. — Ты тогда был для меня слишком большой загадкой. — А теперь? — Боюсь, что и теперь тоже. — Ну уж этому я не поверю! Однако насчет Эйлин мне что-то ничего в голову не приходит. Она до того подозрительна! Пока я живу здесь и только изредка наезжаю в Нью-Йорк, она как будто ничего, терпит. Но если я уеду надолго и поселюсь в Лондоне, а газеты будут изощряться в догадках… — он не договорил и задумался. — Ты боишься, что она будет болтать? Или что она приедет к тебе и устроит сцену? — Трудно сказать, что она может сделать или что ей придет в голову. Будь у нее какое-нибудь занятие или развлечение, может быть, она и ничего бы не стала делать. Но, принимая вовнимание, что она за эти последние годы пристрастилась к вину, от нее можно ожидать всего. Несколько лет назад она как-то раз вот так с горя напилась и пыталась покончить с собой… (У Беренис невольно сдвинулись брови.) Хорошо, я подоспел вовремя, высадил дверь и ворвался к ней. Потом уже я как-то сумел на нее повлиять. И он описал Беренис всю эту сцену, но постарался оставить себя в тени, боясь, что она упрекнет его в безжалостности. Беренис слушала и только теперь убеждалась, что Эйлин действительно любит его без памяти, а она, Беренис, обрекает ее на новые неизбежные страданья! Но ведь что бы ни делала Эйлин, Каупервуд все равно не изменится! «А я, — думала Беренис, — для меня самое важное отомстить этому светскому обществу… И, конечно, я люблю Фрэнка». И, конечно, она по-своему любила его. Он действовал на нее словно какое-то сильно возбуждающее средство. Ее восхищала его мощь, его неукротимая энергия — в нем было какое-то неотразимое обаяние. Их союз может быть прочным, они могут положиться друг на друга, но только надо постараться не огорчать и без того несчастную Эйлин. Она сидела молча, задумавшись. — Да, в самом деле трудная задача, — наконец промолвила она. — Но у нас еще будет время подумать. Давай отложим ее пока: у меня это все равно в голове, не бойся, я не забуду.
Она окинула Каупервуда теплым, задумчивым взглядом. И мягкая, словно ободряющая улыбка скользнула по ее губам. — Вдвоем-то мы с тобой что-нибудь да придумаем, — сказала она. И, встав со своего кресла у камина, подошла к нему, ласково провела ладонью по его волосам и села к нему на колени. — Оказывается, на свете бывают не только финансовые проблемы, — целуя его в лоб, шутливо промолвила она. — Да, бывают иной раз и другие, — так же шутливо отвечал он, растроганный ее сочувственным пониманием. Накануне была метель, выпало много снега. — Не поехать ли нам с тобой прогуляться, чтобы отвлечься от всех этих проблем? — предложил он. — Сейчас самое время прокатиться в санях. Вот мы с тобой и проведем вечер — поедем на Норс-Шор, там есть такая уютная гостиница на самом берегу; поужинаем, полюбуемся озером — оно очень красиво при луне. Прогулка их затянулась, и Беренис приехала домой далеко за полночь. Сидя у себя в спальне перед камином, она снова и снова возвращалась мыслью все к той же неотвязной проблеме. Она уже послала телеграмму матери, чтобы та не откладывая ехала в Чикаго. Она проводит ее с вокзала в гостиницу на Северной стороне, и они там устроятся вместе… Когда мать будет здесь, тогда можно будет спокойно поговорить с ней и посвятить ее во все их планы. Но, раздумывая об этом, Беренис неотступно видела перед собой Эйлин: Эйлин одна, совсем одна в своем громадном дворце в Нью-Йорке, Эйлин — все еще красивая, но уже отцветшая, обрюзгшая, ибо ей все так немило, что не хочется и следить за собой, и одета она как-то безвкусно — роскошно, а без всякого толку. Возраст, внешность, узкий умственный кругозор — все это, конечно, не оставляло Эйлин ни малейшей возможности соперничать с Беренис. И Беренис обещала себе, что она никогда, никогда не будет жестокой к Эйлин, как бы мстительно и враждебно ни поступала Эйлин по отношению к ней. Нет, она все равно будет относиться к ней сочувственно, великодушно и со стороны Каупервуда не потерпит никакой жестокости, никакого небрежения к Эйлин. У нее сжималось сердце от жалости, когда она представляла себе, сколько горя выпало на долю этой несчастной женщины. Ибо как ни молода была Беренис, она уже перенесла немало, она видела, как страдает мать, и достаточно выстрадала сама. И эти раны еще не совсем затянулись. Итак, она решила, что ее роль в жизни Каупервуда должна быть как можно более незаметной со стороны. Она поедет с ним, куда бы он ни захотел; она знает, что она для него сейчас все, но они должны держать себя так, чтобы их отношения для всех оставались тайной. Вот если бы найти какое-нибудь средство отвлечь Эйлин от ее горьких мыслей, тогда бы она не питала такой бурной ненависти к Каупервуду и даже, если бы узнала все, не так бы уж ненавидела и Беренис. У нее мелькнула было мысль о религии, вернее, не столько о религии, сколько о каком-нибудь пасторе или духовнике, который своими душеспасительными беседами мог бы повлиять на Эйлин. Всегда можно найти такого благорасположенного, хотя на самом деле весьма расчетливого наставника душ, который в надежде на щедрую награду или на то, что его не забудут в завещании, охотно возьмется утешать и наставлять ее. Беренис даже припомнила, что в Нью-Йорке она знала одного такого священника — преподобный Виллис Стил, настоятель церковного прихода Сен-Суизина. Она не раз бывала в этой церкви, ее тянула туда не столько потребность молиться, сколько желание побыть в тишине, помечтать под этими высокими сводами, слушая величественные звуки органа. Преподобный Виллис, человек средних лет, приятной внешности, отличался необыкновенной вкрадчивостью и мягкостью манер; однако, при всем его светском лоске, денег у него, по-видимому, было не много. Беренис вспомнила, как он однажды попробовал наставлять ее, но это воспоминание только рассмешило ее и она оставила мысль о духовном наставнике. А все-таки нужно, чтобы кто-то развлек и занял Эйлин. И тут ей пришло на ум, что для этой цели можно просто кого-нибудь нанять. В светских кругах в Нью-Йорке ей нередко приходилось встречать таких беспутных молодых людей с прекрасными манерами, но без всяких средств. Так вот, если заплатить такому молодому человеку хорошие деньги или предложить солидное содержание, он безусловно мог бы создать для Эйлин если и не совсем светское, то во всяком случае вполне приличное и интересное окружение, занять и развеселить ее. Но как разыскать такого молодого человека и как обратиться к нему с таким предложением? Беренис сознавала, что эта ее идея может показаться несколько циничной, особенно если она сама преподнесет ее Каупервуду; но вместе с тем она считала, что это блестящая мысль и пренебрегать ею отнюдь не следует. Ведь Каупервуду достаточно только намекнуть, — это может сделать ее мать, — а уж он сам сообразит, как это можно устроить.
Глава 6
Генри де Сото Сиппенс — вот на кого пал выбор Каупервуда, когда он решил послать агента в Лондон, чтобы хорошенько обследовать и выяснить реальное положение вещей, финансовые и прочие возможности постройки лондонского метрополитена. Он откопал Сиппенса много лет тому назад, и тот оказал ему поистине неоценимые услуги во время его первой кампании, когда он добивался концессии на проведение газа в Чикаго. Деньги, которые Каупервуд заработал на этой концессии, дали ему возможность скупить нужные ему участки и забрать в свои руки постройку городского транспорта. Он привлек к этому делу Сиппенса, обнаружив в нем истинный талант по части выуживания всяких необходимых сведений в любой отрасли городского хозяйства и организации различных общественно полезных предприятий. Сиппенс, человек нервный, раздражительный, легко выходил из себя и, нередко случалось, допускал некоторую бестактность. Но при всем своем неистребимом обывательском американизме, весьма ценном, но иной раз совершенно невыносимом, это был исключительно преданный человек, на которого можно было безусловно положиться. Сиппенс был убежден, что Каупервуду на этот раз нанесен роковой удар, что он потерпел полный крах, лишившись своих долгосрочных концессий. Он не представлял себе, как сможет его патрон возместить убытки и рассчитаться с местными воротилами, которые вложили в его предприятия немало денег и вряд ли склонны были потерять на этом хотя бы один процент. С того самого вечера, когда Каупервуд потерпел поражение, Сиппенс не находил себе места и с ужасом думал, как он теперь встретится с патроном. Что ему сказать? Как можно решиться выразить свое сочувствие этому человеку, который всего какую-нибудь неделю назад казался несокрушимым гигантом в этом мире воротил и дельцов? И вот на третий день после катастрофы Сиппенс неожиданно получил телеграмму от одного из секретарей Каупервуда с предложением немедленно явиться к прежнему патрону. Когда Сиппенс вошел в кабинет и увидел веселого, оживленного и прямо-таки сияющего Каупервуда, он просто остолбенел от удивления, не веря собственным глазам. — С добрым утром, патрон! Приятно видеть вас в таком отменном настроении. — Да, давно уж я себя так хорошо не чувствовал. Ну, а вы как поживаете, де Сото? Могу ли я по-прежнему рассчитывать на вас? — Уж вам ли меня не знать, патрон! Я никогда от вас не отступался. Что бы ни случилось, я для вас готов на все. — Знаю, де Сото, знаю! — улыбнулся Каупервуд. Любовь Беренис, вознаградившая его за все неудачи, внушила ему уверенность, что для него теперь открывается новая, самая значительная страница жизни. Поэтому он был полон самых радужных надежд и расположен относиться добродушно ко всем на свете. — Я тут задумал одно дело, де Сото, и хочу поручить его вам, потому что дело это совершенно секретное, а на вас, я знаю, можно положиться. Губы его плотно сжались и в глазах появился тот холодный, непроницаемый металлический блеск, который невольно бросал в дрожь всякого, кто относился к Каупервуду враждебно или имел основания побаиваться его. Сиппенс, выпрямившись, выпятив грудь колесом, стоял не шелохнувшись; он весь обратился в слух. Это был маленький человечек, ростом не выше пяти футов, но он носил обувь на больших каблуках, высоченный цилиндр, который снимал только перед Каупервудом, и широкое длинное пальто, подбитое ватой на груди; все это, по его мнению, должно было придавать ему внушительную осанку и увеличивать рост. — Спасибо, патрон, — пробормотал он, — для вас я хоть к дьяволу в преисподнюю. Сами знаете. Голос у него прерывался, губы дрожали, — до такой степени он был взвинчен похвалой патрона, этим свидетельством доверия, и всем тем, что ему пришлось вынести за последние месяцы, да и за всю свою многолетнюю службу у Каупервуда. — На этот раз обойдется без преисподней, — сказал Каупервуд, улыбаясь и откидываясь в кресле. — Довольно мы в ней жарились. Второй раз не полезем, баста. Вы сейчас сами увидите, де Сото, какие перед нами открываются райские перспективы: речь идет о Лондоне, о лондонском метрополитене. Нам с вами надо выяснить, какие там для меня есть возможности. Он дружески поманил Сиппенса и указал ему на стул рядом с собой. А Сиппенс, совершенно ошеломленный, стоял не двигаясь и смотрел на него, разинув рот. — Лондон? — наконец выговорил он. — Нет, в самом деле, патрон! Вот это замечательно! Сказать по совести, я знал, что вы что-нибудь да придумаете, клянусь вам, патрон, я чувствовал это с самого начала. Голос его дрожал, руки тряслись, а лицо так и сияло, словно его вдруг осветили изнутри. Он опустился на стул, вскочил, потом снова сел — это всегда было у него признаком сильного волненья. Наконец, дернув свой длинный лихо закрученный ус, он замер на месте и уставился на Каупервуда восхищенным и вместе с тем внимательно настороженным взглядом. — Спасибо, де Сото! — прервал молчание Каупервуд. — Я так и думал, что это может вас немножко встряхнуть. — Меня встряхнуть! — вскричал Сиппенс. — Да ведь на вас, патрон, можно диву даваться! Подумать только! Едва вы отбились от всех этих чикагских стервятников — глядишь, у вас все снова на ходу, кипит, бурлит, ворочается! Ну разве не чудо это! Конечно, я всегда знал, что свалить вас никто не свалит. Но, признаться, после этой истории с концессиями, я думал, вы скоро не вывернетесь. А глядишь, вы уж вон что задумали. Да разве вас что может согнуть? Нет, вы, патрон, вроде как дуб среди кустарника. Да я бы от такой штуки просто ко дну пошел, и следов бы от меня не осталось. А вы — вам все нипочем! Приказывайте, патрон, все выполню в точности. И ни одна душа ничего знать не будет, на этот счет можете быть… — Да, это как раз одно из главных условий, де Сото, — перебил его Каупервуд, — строжайшая тайна; а затем, конечно, ваше замечательное чутье. Вот две вещи, с помощью которых мне, быть может, удастся осуществить то, что я задумал. И никто из нас, надеюсь, от этого в убытке не останется. — Да что об этом говорить, что вы, патрон! — с искренним возмущением и весь передергиваясь запротестовал де Сото. — Подсчитать, сколько я получил благодаря вам — хватит мне до самой могилы, даже если я больше ни цента не заработаю. Вы только объясните мне, что вам требуется, а уж я сам обмозгую, постараюсь, как могу, а не удастся — так прямо вам и скажу — не вышло. — Ну, этого я еще от вас никогда не слыхал, де Сото, да надеюсь, что и не услышу. Так вот, в двух словах: примерно с год назад, когда у нас здесь вся эта канитель заварилась из-за участков, ко мне приезжали два англичанина из Лондона, агенты какого-то там синдиката, что ли. Потом я вам все расскажу подробно, а сейчас только самую суть дела… И он кратко пересказал Сиппенсу разговор с Гривсом и Хэншоу и кой-какие собственные соображения на этот счет. — На мой взгляд, они засыпались с этим контрактом, де Сото. Они ухлопали в него что-то около полмиллиона долларов. А показать нечего — кроме этого самого контракта или подряда, ну, попросту сказать — разрешенья построить линию на участке в четыре-пять миль. И все! А ведь эту линию предстоит еще как-то связать с двумя другими, уже действующими линиями. Они это сами подчеркнули. Так вот что меня в этом деле интересует, де Сото: прежде всего не только вся ныне действующая система лондонского подземного транспорта, но и значительное ее расширение, если это осуществимо. Вы меня, конечно, понимаете: новые подземные линии, на большие расстояния, в районах, которых пока еще никто не догадался копнуть, ну, словом, что-то такое, что могло бы давать доход. Понятно вам? — Понятно, патрон! — Затем, — продолжал Каупервуд, — надо раздобыть карты — общий план с подробным описанием города, план уличного движения, наземной сети и подземной, — чтобы видно было начало и конец каждой отдельной линии; желательно еще и геологические карты и кой-какие сведения насчет почвы. Затем нужно обследовать соседние районы, куда можно будет подвести подземку, выяснить, кто населяет их, а если это еще нежилой район, кто может там поселиться в будущем. Вам ясно? — Все ясно, патрон. — Далее — в чьих руках находятся концессии на ныне действующие подземные дороги — контракты, как это у них там называется. Сроки их, протяженность линий, имена владельцев. Имена самых крупных пайщиков. Как идет эксплуатация, какой доход от нее. Словом, все, что можно разузнать, не привлекая к себе лишнего внимания и ни в коем случае не заикаясь обо мне. Ну, это-то вы, конечно, понимаете почему? — Все понимаю, патрон. — Затем, де Сото, меня интересует жалованье служащих и эксплуатационные расходы. — Да, да, ясно, — поддакивал Сиппенс, уже соображая про себя, как ему приступить к делу. — Потом стоимость подземных работ, расходы на оборудование. И какие могут быть убытки и издержки при переводе линий с паровой тяги — у них это, видите, до сих пор по старинке — на электричество. И нельзя ли там будет оборудовать тягу с «третьим рельсом», — говорят, на новом метрополитене в Нью-Йорке его уже вводят. Вы знаете, англичане — ведь это совсем другой народ, у них все не так, как у нас, и я бы хотел, чтобы вы мне и об этом все, что можно, разузнали. И, наконец, надо поинтересоваться, в какой у них там цене земельные участки, — ведь цены могут вскочить, чуть только начни строить, и, может быть, есть смысл скупить кое-какие участки заранее, как, помните, мы с вами делали в Лейк-Вью и в прочих местах? — Еще бы мне не помнить! — сказал Сиппенс. — Я уже понимаю, что вам надо, патрон. Поеду, разузнаю и привезу все, что требуется, а может еще и побольше. Ну, это просто великолепно! И я так счастлив, я прямо горжусь тем, что вы меня вспомнили. А как вы считаете, когда я примерно должен выехать? — Немедленное — отвечал Каупервуд. — Вам надо сейчас же подыскать кого-нибудь, чтобы передать ваши дела в пригороде. Он говорил об управлении пригородной железнодорожной сети, где Сиппенс был директором. — Я думаю, вам всего лучше сдать дела Китереджу; скажите, что вы собираетесь провести зиму в Европе или в Англии. И хорошо бы избежать всяких заметок о вашем отъезде в прессе; ну, а уж если не удастся, — придумайте какой-нибудь предлог, сделайте вид, что интересуетесь чем угодно, только не транспортом. И как только разузнаете, кто там из английских капиталистов подумывает заняться постройкой метрополитена или в какой-то мере связан с этим делом и с ним стоило бы столковаться, немедленно поставьте меня в известность. Потому что, разумеется, это будет отнюдь не американское предприятие, а английское с начала до конца. И вы должны это хорошенько усвоить, де Сото. Англичане, вы знаете, недолюбливают нашего брата американца, и я вовсе не желаю давать никаких поводов для разжигания вражды к американцам. — Все ясно, патрон! У меня к вам только одна просьба: если окажется, что я смогу быть для вас как-то полезен в дальнейшем, вы уж меня там не забудьте; столько лет я с вами работаю, под вашим началом, не могу даже себе и представить, как я без вас стал бы… Он замолчал, глядя на Каупервуда умоляющими глазами. И Каупервуд ответил ему дружески покровительственным, но вместе с тем ничего не обещающим взглядом. — Хорошо, хорошо, де Сото! Все это я знаю и понимаю. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Я для вас всегда сделаю, что смогу, и, разумеется, я о вас помню.Глава 7
Покончив со всеми наставлениями Сиппенсу и выяснив, что для ликвидации чикагских дел ему необходимо будет съездить в Нью-Йорк, чтобы обсудить кой с кем из крупных финансистов, каким образом реализовать хотя бы некоторую часть своих вложений, Каупервуд решил дать себе временную передышку, и мысли его сами собой устремились к Беренис. Как бы устроить так, чтобы поехать с ней путешествовать вдвоем и жить с ней, не опасаясь огласки? Разумеется, он представлял себе гораздо яснее, чем Беренис, какие прочные узы долгой совместной жизни, вместе пережитых событий, издавна установившихся привычек связывали его так тесно, так неразрывно с Эйлин. Это было нечто такое, чего Беренис была не в состоянии себе представить, тем более что она уже давно догадывалась о его пылких чувствах к ней. Для Каупервуда было совершенно очевидно, что, во избежание скандала, с Эйлин надо держаться только одной тактики — тактики умиротворения и обмана. Всякий другой способ действий будет чрезвычайно рискованным, в особенности, если у него выйдет что-нибудь с этим предприятием в Лондоне, и тем более сейчас, после всей этой скандальной шумихи в связи с созданными им компаниями и чересчур смелыми приемами, к которым он прибегал в Чикаго. Ведь его обвиняли во взяточничестве и чуть ли не в подрыве общественных устоев. И навлечь на себя сейчас обвинение в безнравственности или угрозу какой-нибудь публичной выходки со стороны Эйлин, — от нее можно всего ожидать, она способна в газеты сообщить о его отношениях с Беренис, — это будет уж совсем из рук вон плохо. Кроме того, Каупервуда беспокоило еще одно обстоятельство, которое также могло повести к неприятностям с Беренис: это были его отношения с другими женщинами. Кое-какие из его прежних связей еще не совсем оборвались. С Арлет Уэйн, можно было считать, дело покончено. Но оставалась еще Керолайн Хэнд, жена Хосмера Хэнда, крупного чикагского акционера железнодорожной и мясо-консервной компаний. Керолайн в то время, когда Каупервуд только что познакомился с ней, была совсем юной и мало походила на замужнюю даму. Хэнд развелся с ней из-за Каупервуда, но закрепил за Керолайн недурной капитал. Она и сейчас еще была очень привязана к Каупервуду. Он купил ей дом в Чикаго. В годы своей ожесточенной борьбы за место среди чикагских дельцов он часто бывал у нее; ведь он в то время был совершенно убежден, что Беренис никогда его не полюбит. Теперь Керолайн собиралась переехать в Нью-Йорк, она хотела быть поближе к нему, когда он окончательно развяжется с Чикаго. Керолайн была неглупая женщина, не ревновала его — во всяком случае никогда не показывала своей ревности. Она была очень хороша собой, только одевалась немного чересчур вызывающе. Веселая, остроумная, она всегда умела привести его в хорошее настроение. Ей минуло тридцать, но на вид ей можно было дать двадцать пять, а по живости характера она, пожалуй, могла бы поспорить с двадцатилетней. Вплоть до самого последнего времени, когда неожиданно появилась Беренис, и даже и теперь, хотя Беренис этого и не знала, Керолайн устраивала у себя приемы и рассылала приглашения всем, кого Каупервуду нужно было повидать. Вот об этом-то особнячке на Северной стороне и упоминалось в чикагских газетах, когда в прессе поднялась кампания против Каупервуда. Керолайн всегда говорила ему, что если он когда-нибудь ее разлюбит, он должен честно сказать ей об этом, и она не станет его удерживать. Раздумывая теперь о своих взаимоотношениях с ней, Каупервуд спрашивал себя, а что если поймать ее на слове, поговорить с ней откровенно, начистоту и расстаться. Но даже при всей его любви к Беренис такой шаг казался ему чересчур крайним. Не лучше ли пока повременить, а потом, может быть, ему как-нибудь удастся объясниться и с той и с другой? Но во всяком случае его отношения с Беренис надо оградить от всего этого. Он поклялся принадлежать ей одной и, насколько в его силах, должен сдержать свою клятву. Но главным источником беспокойства все-таки оставалась Эйлин. Ему невольно вспоминались первые встречи с ней и все те события и случайности, которые привели их к такому длительному, прочному союзу. Какая это была бурная, неистовая любовь, когда она явилась к нему в Филадельфии, и как это потом печально обернулось для него, ибо эта история сыграла тогда немалую роль в его первом финансовом крахе. Веселая, безрассудная, влюбленная Эйлин, как пылко она отдавала ему всю себя! И жаждала получить взамен — вечную привязанность, гарантию верности, которой любовь на всем пути своего сокрушительного шествия еще никому не давала. И даже теперь, после стольких лет и всяких любовных историй в его, да и в ее жизни, она все такая же, не изменилась. И все так же любит его. — Знаешь, дорогая, — сказал он Беренис, — я эти дни все думаю об Эйлин. Мне все-таки очень жаль ее. Подумай только, одна, в этом огромном доме в Нью-Йорке, никаких сколько-нибудь интересных знакомых, так, какие-то лоботрясы вертятся около нее; тащат ее в рестораны, устраивают кутежи да попойки, выманивают у нее деньги, потому что, разумеется, платит за все она. Я это знаю от слуг, они мне и сейчас преданы. — Да. Конечно, это очень грустно, — отозвалась Беренис. — Но я понимаю ее. — Мне вовсе не хочется быть жестоким по отношению к ней. Ведь, в сущности, кругом виноват я. Знаешь, мне пришло в голову — а что если подыскать какого-нибудь такого приятного молодого человека из нью-йоркского общества, ну, разумеется, не из высших кругов, но вполне приличного молодого человека, который за известное вознаграждение взялся бы познакомить ее с интересными людьми, ходил бы с ней в театры, словом, развлекал ее. Разумеется, я говорю это не в таком смысле… Он посмотрел на Беренис, и губы его искривились невеселой улыбкой. Беренис слушала его с самым невозмутимым видом, и по ее лицу нельзя было догадаться, что слова Каупервуда очень обрадовали ее, ибо она сама не раз об этом думала. У нее только чуть-чуть дрогнули уголки губ и в глазах мелькнуло удивленное выражение. — Не знаю, — осторожно протянула она, — может, на свете и бывают такие молодые люди… — Да ими хоть пруд пруди, — деловито продолжал Каупервуд. — Но, конечно, это должен быть американец. Эйлин терпеть не может иностранцев, ухаживателей иностранцев, я хочу сказать. Я только одно знаю: если мы хотим, чтобы у нас все шло мирно и нам с тобой можно было спокойно отправиться путешествовать, надо что-то придумать и как можно скорей. — Мне как будто припоминается один такой человек, и, пожалуй, он мог бы подойти, — задумчиво промолвила Беренис. — Его зовут Брюс Толлифер. Он из виргинских и южно-каролинских Толлиферов. Ты, может быть, даже его знаешь. — Нет, — отвечал он. — Но это действительно такой тип, какого я имею в виду? — Очень красивый молодой человек, если ты это имеешь в виду, — продолжала Беренис. — Я с ним не знакома, видела его раз в Нью-Джерси у Денни Мур на теннисном корте. Эдгар Бонсиль тогда же и рассказал мне, что это жалкий паразит, что он всегда живет на содержании у какой-нибудь богатой женщины, ну вот, например, у Дении Мур. Беренис рассмеялась и добавила: — Мне кажется, Эдгар побаивался, как бы я не влюбилась в этого Толлифера. Он, правда, мне очень понравился, такой красивый! И она посмотрела на Каупервуда и улыбнулась с таким видом, как если бы она только что вспомнила о существовании этого молодого человека. — Стоит подумать! — заметил Каупервуд. — Его, наверно, прекрасно все знают в Нью-Йорке. — Да, мне помнится, Эдгар говорил, что он часто встречает его на Уолл-стрите. Вряд ли он занимается какими-нибудь финансовыми делами, просто делает вид, что принадлежит к этим кругам. Наверно, чтобы произвести впечатление. — Вот как! — воскликнул Каупервуд, очень довольный ее рассказом. — В таком случае я разыщу его без труда, хотя таких молодчиков много везде толчется. Да мне самому не раз приходилось с ними встречаться. — По-моему, в этом есть что-то очень гадкое, — сказала Беренис. — Ужасно, что нам с тобой приходится говорить о таких вещах. И потом, если ты свяжешься с таким типом, какая у тебя может быть уверенность в том, что он не впутает Эйлин в какую-нибудь неприятность?.. — Но ведь я для нее же стараюсь, Беви, для ее пользы. Пойми это. Я просто хочу найти такого человека, который мог бы для нее сделать то, что ни она сама, ни я, ни даже мы с ней вместе не можем и не сумеем сделать. Он замолчал и вопросительно посмотрел на Беренис. А она ответила ему грустным и несколько недоумевающим взглядом. — Мне нужен человек, который взял бы на себя труд развлекать и занимать ее. И я готов заплатить за это. И щедро заплатить. — Ну, хорошо, хорошо, посмотрим, — сказала Беренис и, как бы желая прекратить этот неприятный разговор, стала рассказывать о своих делах: — Я жду завтра маму; поезд приходит в час. Я уже сняла номер в гостинице в Брендингхэме. Да, я хотела еще поговорить с тобой относительно Ролфи. — А что такое? — Да он ни к чему не пригоден. Его никогда ничему не учили. Я думала, хорошо бы найти для него какое-нибудь дело. — Ну, насчет этого ты можешь не беспокоиться. Я мигом пристрою его к кому-нибудь из моих компаньонов. Пусть приезжает сюда, и я направлю его к кому-нибудь в качестве секретаря. Скажу Китереджу, он ему напишет. Беренис посмотрела на него долгим взглядом, растроганная его готовностью прийти ей на помощь и той легкостью, с какою он все разрешал. — Пожалуйста, не считай меня неблагодарной, Фрэнк! Ты так добр ко мне.Глава 8
В то самое время, когда Беренис рассказывала Каупервуду о Брюсе Толлифере, объект этого щекотливого разговора, красивый шалопай без гроша за душой, нежил свою уже несколько потрепанную плоть — вместилище весьма изменчивого и изобретательного духа — в одной из самых крошечных комнатушек меблированного пансиона миссис Сельмы Холл на Восточной пятьдесят третьей улице. Некогда это был весьма фешенебельный квартал в Нью-Йорке, но, зажатый со всех сторон тесными рядами мрачных коричневых зданий, он теперь обратился в один из самых захудалых. Во рту у Толлифера был отвратительный вкус после попойки и бессонной ночи, но под рукой у него, на расшатанном табурете, стояла бутылка виски, сифон с содовой водой и валялась растрепанная пачка папирос. Бок о бок с ним на откидной половине дивана лежала хорошенькая молодая актриса, которая делила с Толлифером свои доходы, свой кров и стол и все, чем она располагала на белом свете. Оба они дремали, хотя время уже приближалось к одиннадцати. Но прошло несколько минут, и Розали Харриген открыла глаза. Окинув взглядом убогую комнатку с потемневшими обоями, на которых кое-где проступал их первоначальный палевый цвет, и стоявший в углу низенький туалетный столик с трехстворчатым зеркалом, и старый облупленный комод, она решила, что пора вставать и немедленно приниматься за уборку. На стульях, на полу, всюду были разбросаны разные интимные принадлежности дамского и мужского туалета. Тут же в комнате был отведен уголок для кухни и умывальника. Направо от табурета стоял письменный столик, — сюда Розали подавала еду, если им случалось перекусить у себя дома. Розали даже и в своем затрепанном халатике была несомненно обольстительна. Черные вьющиеся, пышно рассыпающиеся по плечам волосы, маленькое беленькое личико с небольшими, но пытливыми темными глазками, яркие губы, чуть-чуть вздернутый носик, грациозная, с округлыми формами соблазнительная фигурка — все это вместе пока еще удерживало в плену непостоянного, беспутного красавца Толлифера. «Пожалуй, сейчас приготовить ему стакан виски с содой и дать закурить? — поспешно прибирая комнату, рассуждала сама с собой Розали. — А потом, если он захочет, сварить кофе и пару яиц, что ли… Но если он вот так будет притворяться спящим и не замечать ее, может быть ей лучше поскорей одеться и уйти на репетицию; как раз к двенадцати можно поспеть. А потом уж, вернувшись домой, можно спокойно сидеть и ждать, когда он соизволит глаза открыть». Розали была без памяти влюблена. Дамский угодник по природе, Толлифер в высшей степени прохладно принимал эти нежные заботы о своей персоне. Ну что это ему, Толлиферу — отпрыску тех самых знаменитых виргинских и южно-каролинских Толлиферов! Ведь он мог бы вращаться в самых изысканных, в самых великосветских кругах! Да только беда была в том, что если бы не Розали или еще какая-нибудь такая же взбалмошная девчонка, он бы совсем пропал, спился, увяз в долгах. Но так или иначе, несмотря на все свои недостатки, Толлифер в глазах женщин обладал несомненным притягательным свойством, это был сущий магнит для женских сердец. Тем не менее после двадцати с лишним лет бесчисленных романтических приключений ему так и не удалось сделать то, что называется выгодной партией. И вот поэтому-то, когда ему теперь попадалась влюбленная жертва, он обращался с нею резко, насмешливо, пренебрежительно и повелевал ею как хотел. Толлифер был южанин; предки его, крупные землевладельцы, занимали когда-то видное общественное положение. В Чарльстоне поныне сохранилась чудесная старинная усадьба, в которой жили последние уцелевшие после Гражданской войны потомки этого некогда знатного рода. Они до сих пор берегли тысячные закладные и облигации займов, оставшиеся от времен Конфедерации и ныне не стоившие ни гроша. Брат Толлифера, Вэксфорд Толлифер, служил капитаном в армии. Брюса он считал бездельником и шалопаем. Другой брат перебрался с Юга на Запад и обосновался в Сан-Антонио, в Техасе. Он купил себе ферму, женился, обзавелся семьей и мало-помалу сколотил недурное состояние. Надежды Брюса пробиться в нью-йоркский свет казались ему сущим бредом. Ведь если бы Брюс в самом деле мог чего-нибудь добиться, — ну, скажем, заполучить в жены какую-нибудь богатую наследницу, — так почему же он не сделал этого много лет назад? Правда, имя его иной раз попадалось в газетах. И одно время даже пронесся слух, что он вот-вот женится на одной только что вылетевшей в свет богатенькой девице, но ведь это было десять лет назад, когда ему было всего двадцать восемь лет! И ведь из этого так ровно ничего и не получилось! С тех пор оба его брата, да и все другие родственники махнули на Брюса рукой. Пропащий человек! И большинство его знакомых и приятелей из нью-йоркского общества постепенно склонялись к тому же мнению. Уж слишком он падок на удовольствия, не умеет себя обуздать, не дорожит ни своим именем, ни репутацией. И теперь ему не на кого было рассчитывать, ни один из его бывших друзей не дал бы ему ни цента взаймы. И однако многие из его бывших знакомых, и мужчины и женщины, и молодые и старые, встретив его где-нибудь случайно, когда он был в трезвом виде и прилично одет, смотрели на него с невольным участием и искренне жалели, что ему не удалось подцепить какую-нибудь богатую наследницу. Как приятно было бы встретиться с ним в порядочном обществе — такой обаятельный человек! У него был мягкий, певучий южный акцент и удивительно подкупающая улыбка. С Розали Харриген он сошелся всего каких-нибудь два месяца тому назад и отнюдь не собирался тянуть эту канитель. Простая хористка, Розали зарабатывала едва тридцать пять долларов в неделю. Это была веселая, покладистая, добрая девушка, но Толлифер чувствовал, что ей не хватает настойчивости и поэтому она никогда не сделает карьеры. Только ее прельстительная фигурка, ее любовный пыл и страстная привязанность к нему и удерживали его до поры до времени. И вот сейчас, поглядывая на его всклокоченную черную голову, на его небритый подбородок и такие красивые, тонко очерченные губы, Розали чувствовала, как сердце ее замирает от блаженства, — и вместе с тем ее охватывал мучительный, непреодолимый страх: его отнимут у нее, им завладеет другая, она не сумеет его удержать. Она знала: вот он сейчас проснется злой, будет кричать, командовать ею, посыплются ругательства, проклятия, а все-таки нет для нее большего счастья на свете, как сидеть вот здесь, возле него часами и хоть изредка провести рукой по его волосам. А между тем сознание Толлифера с трудом выходило из сонного оцепенения и нехотя возвращалось к мрачной действительности повседневного бытия. Кроме тех денег, которые он может взять у Розали, у него больше нет ничего. А она ему, в сущности, уже порядком надоела. Вот если бы найти какую-нибудь богатую женщину, зажить на широкую ногу (пусть даже для этого пришлось бы жениться), он показал бы всем этим нью-йоркским выскочкам, которые глядят на него теперь сверху вниз, что значит быть Толлифером, Толлифером с деньгами! Несколько лет тому назад, вскоре после своего приезда в Нью-Йорк, он сделал одну неудачную попытку похитить влюбленную в него без памяти девчонку, дочку богатых родителей. Родители успели помешать ему, спровадили ее за границу. История наделала много шума, имя его трепали в газетах, его называли «охотником за приданым» и предостерегали против него всех добропорядочных отцов и матерей, которые хотят видеть своих дочек в благополучном супружестве. И вот этот-то его промах, или неудача, а потом пьянство, карты, беспутная жизнь постепенно закрыли для него двери всех домов, в которые он так стремился проникнуть. Проснувшись окончательно, Толлифер начал одеваться и сразу накинулся на Розали за то, что она вчера затащила его на эту вечеринку. Они были у ее друзей, где Толлифер, напившись, задирал и поносил всех присутствующих, так что те были рады от него отделаться. — Этакое хамье, сброд какой-то! — кричал он. — Почему ты мне не сказала, что там будут эти газетные писаки? Актеришки твои хороши, а уж эта гнусная порода, ищейки подлые, которых притащила с собой твоя приятельница! Ничего гаже и вообразить себе нельзя! — Да разве я знала, что они придут, Брюс! — оправдывалась бледная, расстроенная Розали, поджаривая на сковородке хлеб для кофе. — Я думала, на этой вечеринке будут только наши звезды. — Звезды! Нашла тоже кого назвать звездами! Уж если это звезды, тогда я, значит, целое созвездие! (Это замечательное сравнение не дошло до Розали, бедняжка понятия не имела, о чем он говорит.) Потаскушки, вот они кто! Да ты-то, конечно, и керосиновую коптилку от звезды не отличишь. Тут он, потянувшись, зевнул и снова подумал с досадой: когда же он наконец решится покончить со всем этим? Так опуститься! Жить на содержании у девчонок, которые еле-еле на хлеб себе зарабатывают, пьянствовать, играть в карты с их приятелями, не имея ни гроша в кармане… — Нет, я больше не в состоянии это выносить! — вырвалось у него. — Хватит! Сил моих больше нет жить в этой дыре. Нет, это чересчур унизительно! Он шагал взад и вперед по комнате, засунув руки в карманы, а Розали молча смотрела на него; у нее точно язык отнялся от страха. — Ты слышишь, что я говорю! — злобно крикнул он. — Что ты стоишь, как кукла? Экие дуры бабы! То дерутся, как кошки, то слова от них не добьешься. Боже мой! Если бы мне только посчастливилось найти женщину, у которой была бы хоть капля здравого смысла! Я бы… я бы… Розали подняла на него глаза. Губы ее задрожали в жалкой улыбке. — Ну и что бы ты тогда сделал? — тихо спросила она. — Я бы от нее не ушел… Может быть, даже и полюбил бы ее. Ах, черт! Ну что говорить! Вот я торчу здесь, в этой дыре… Спрашивается, чего ради? Мне здесь совсем не место. Да, я хочу вернуться на свое место. И вернусь. Пора нам с тобой расстаться. Ничего не поделаешь. Не могу я так больше жить! Не могу! И с этими словами он подошел к вешалке, схватил шляпу, пальто и ринулся к двери. Но Розали успела перехватить его и, бросившись к нему на грудь, прижалась щекой к его лицу. — Не уходи, Брюс! Прошу тебя! — всхлипывала она. — Ну что я такого сделала? Неужели ты меня совсем разлюбил? Ведь я для тебя на все, на все готова. Я ничего от тебя не прошу. Не уходи, Брюс, милый, ну пожалуйста! Скажи мне — ведь правда, ты не уйдешь? Но Толлифер грубо отпихнул ее и вырвался из ее объятий. — Перестань реветь, Розали, перестань сейчас же! — прикрикнул он на нее. — Ты знаешь, я этого терпеть не могу! Меня этим не удержишь. Я ухожу, потому что мне надо уйти. Он толкнул дверь, но Розали опять бросилась к нему и стала перед ним на пороге. — Ты не можешь так уйти! — вскричала она. — Останься, ради бога, умоляю тебя! Послушай меня, Брюс, вернись! Я все, все для тебя сделаю, обещаю тебе. Достану еще денег; наймусь на другую работу. Я знаю, меня возьмут. Мы переедем на другую квартиру. Я все устрою, Брюс! Ну, пойдем, пожалуйста, прошу тебя!. Не гляди на меня так сердито. Если ты меня бросишь, я сейчас же покончу с собой. Но Толлифер на этот раз был неумолим. — Перестань, Рози. Не будь дурой. Ничего ты не покончишь с собой. И сама это отлично знаешь. Возьми себя в руки. Успокойся, я приду к тебе попозже, вечером, или, может быть, завтра. Но я должен найти себе какое-то дело, вот и все. Понятно тебе? Розали вдруг как-то сразу обессилела. Она почувствовала, что ничего сделать нельзя; все равно уйдет, этого не миновать. Его теперь ничем не удержишь. — Не уходи, Брюс! — в отчаянии твердила она, прижимаясь к нему всем телом. — Я тебя не пущу! не пущу! не пущу! Ты не можешь вот так: взять и уйти! — Не могу? — засмеялся он. — А ну посмотрим! Он оттолкнул ее и, переступив порог, быстро пошел вниз по лестнице. Розали, глядя перед собой невидящими глазами, стояла не двигаясь и с ужасом дожидалась, как хлопнет внизу, закрывшись за ним, тяжелая входная дверь. Потом она, как-то вся съежившись, повернулась, вошла в комнату и, затворив за собой дверь, уткнулась в нее, закрыла лицо руками и зарыдала. Ей пора было уже отправляться на репетицию. Но она даже не могла и подумать об этом. Все равно теперь, жить не для чего: все кончено… Вот разве только что он, может быть, еще вернется?.. Ведь должен же он прийти за своими вещами…Глава 9
Толлифер уже давно подумывал пристроиться агентом в какой-нибудь крупной маклерской фирме или в нотариальной конторе, ведающей опекой и делами богатых вдов и наследниц. Однако осуществить это было не так-то легко, ибо он совершенно оторвался от этого круга пронырливых молодых людей, которые не только соприкасались с лучшим нью-йоркским обществом, но и процветали в нем, пользуясь всеми его благами. Такие люди были мало того что полезны, но иной раз просто необходимы богатым дамам, мечтающим занять положение в обществе, однако не имеющим для этого никаких связей, а также перезрелым девицам, которые, несмотря на солидный возраст, все еще мечтали блистать в свете. Для такого рода деятельности требовалось немало: хорошее американское происхождение, приятная внешность, светский лоск, обширная эрудиция по части всякого спорта — гонок на яхтах, скачек, тенниса, поло, верховой езды и езды в экипаже, а также по части таких развлечений, как опера, театры и всякого рода зрелища. Эти люди ездили с богачами в Париж, Биарриц, Монте-Карло, Ниццу, Швейцарию, Ньюпорт, на Палм-Бич, для них были открыты все двери — и тайных притонов на юге и разных аристократических клубов. В Нью-Йорке они подвизались главным образом в шикарных ресторанах, в опере, где неизменно красовались в ложах бенуара, и в других театрах. Разумеется, они должны были безупречно одеваться, соблюдать все правила этикета, обладать ловкостью и уменьем доставать лучшие места на скачки, на теннисные и футбольные матчи и на все модные премьеры. Желательно было, чтобы они могли составить партию в карты и посвятить в правила и тонкости игры неопытного партнера, а при случае дать полезный совет и по части дамских нарядов, ювелирных изделий и убранства комнат. Но самое главное, они должны были заботиться о том, чтобы имена их патронесс как можно чаще появлялись на страницах газет в отделе светской хроники. Такого рода многосторонняя деятельность обычно вознаграждалась, и в этом, собственно, не было ничего предосудительного, ибо полезным молодым людям приходилось делать немалые усилия, а иной раз даже и жертвовать собой: они должны были противостоять всяческим искушениям и соблазнам юности, поскольку услуги их требовались главным образом стареющим дамам, таким, которые, подобно Эйлин, страшились остаться в одиночестве и изнывали от скуки, не зная куда себя девать. Толлифер потрудился на этом поприще немало лет, но на тридцать втором году своей жизни почувствовал, что ему это начинает надоедать. И он стал отлынивать понемножку. Скука, отвращение все чаще толкали его в объятья какой-нибудь юной эстрадной красотки, которая бескорыстно дарила его настоящей пылкой любовью, или заставляли искать забвенья в пьянстве. Но сейчас он опять подумывал вернуться в эти рестораны, бары, роскошные отели и прочие злачные места, где толкутся богатые люди, на которых у него только и оставалась надежда. Он возьмет себя в руки на этот раз, бросит пить; раздобудет немножко денег, можетбыть даже у Розали, приведет себя в надлежащий вид — и, конечно, ему подвернется случай проявить себя на светском поприще. И вот тогда… тогда пусть посмотрят!Глава 10
Эйлин томилась в Нью-йорке и тщетно ломала себе голову, стараясь придумать, как бы устроить свою жизнь так, чтобы не пропадать от скуки. Хотя особняк Каупервуда — дворец, как его теперь называли, — был одним из самых красивых и роскошных домов во всем Нью-Йорке, для Эйлин он был все равно что пустая скорлупа, вернее могила — могила ее любви и ее светских успехов. Теперь-то она хорошо понимала, сколько зла причинила она первой жене Каупервуда и его детям. В то время она, конечно, не представляла себе, каково приходилось бедной миссис Каупервуд. А вот теперь ей пришлось и самой этого отведать. Несмотря на то, что она пожертвовала ради Каупервуда и своими родными, и друзьями, и положением в обществе, и репутацией, — жизнь ее с ним разбита, и ничем этого не поправишь. Другие женщины, жестокие, безжалостные, отняли у нее Фрэнка и держатся за него не потому, что они его любят, а просто из-за его богатства, из-за его славы. А его, конечно, прельщает их молодость, красота, хотя всего каких-нибудь два-три года тому назад разве они могли бы сравниться с ней, с Эйлин! Но все равно — она не отпустит его! Никогда! Ни одна из этих женщин не будет называться миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд! Она связана с ним нерасторжимыми узами любви, брака — и этого у нее никто никогда не отнимет. Он никогда не осмелится открыто порвать с ней или возбудить дело о разводе. Слишком много она о нем знает, да и другие тоже, и уж во всяком случае она позаботится, чтобы все узнали, если только он когда-нибудь сделает попытку разойтись с ней. Она не забыла, как он тогда откровенно заявил ей, что любит эту хорошенькую девчонку Беренис Флеминг. Где-то она теперь, интересно? Может быть, с ним! Но она никогда не будет его женой. Никогда! Но какое ужасное одиночество! Этот роскошный дом, эти громадные комнаты с мраморными полами, лепные потолки, увешанные картинами стены, двери, украшенные резьбой! И эти слуги, — как знать, может быть, они только для того и наняты, чтобы шпионить за ней. И так день за днем, не знаешь, как убить время, не к кому пойти и к себе некого позвать. Обитатели всех этих пышных особняков, красующихся по соседству, не изволят даже и замечать ни ее, ни Каупервуда, невзирая на все их богатство! Около нее вертелось несколько поклонников, которых она еле-еле терпела, да изредка появлялся кто-нибудь из родственников, в том числе два ее брата, жившие в Филадельфии. Это были люди старинного склада, очень религиозные; оба они были хорошо обеспечены и занимали видное общественное положение; их жены и дети не одобряли поведения Эйлин, поэтому и братья редко навещали ее. Обычно они приезжали к обеду или к завтраку и даже случалось иной раз оставались переночевать, когда дела задерживали их в Нью-Йорке, но никогда никто из домашних не бывал с ними. А затем они снова исчезали надолго. Эйлин отлично понимала, как они к ней относятся, и они также хорошо знали, что ей это известно. Никаких сколько-нибудь интересных знакомых у нее не было. От времени до времени собиралась какая-нибудь шумная компания — актеры и с ними какие-то распущенные молодые люди; они приходили, конечно, главным образом для того, чтобы покутить на ее счет, а ухаживать предпочитали за молоденькими девчонками. Да разве могла бы она после Каупервуда влюбиться в кого-нибудь из этих ничтожеств, жалких искателей приключений? Поддаться минутному влечению — да. После долгих часов одиночества и мучительных мыслей, стоит ей выпить несколько бокалов вина, она способна броситься в объятья кому угодно, лишь бы забыться, чувствуя себя желанной, слушая нежную любовную болтовню. Ах, это одиночество! Старость! Пустая жизнь, из которой безвозвратно ушло все, что когда-то ее наполняло и красило! Какая насмешка — этот великолепный дворец, со всеми этими картинными галереями, скульптурами, гобеленами. А Каупервуд, ее муж, так редко заглядывает теперь. А когда он здесь, как он осторожен и холоден, хотя и разыгрывает перед слугами заботливого супруга. А они пресмыкаются перед ним, потому что ведь он здесь хозяин, он распоряжается всем и все подчиняются ему. Когда же она, не выдержав, пыталась высказать ему свое негодование, он сразу становился таким предупредительным, вкрадчивым, так ласково гладил ее по руке и говорил: «Послушай, Эйлин! Ты не должна забывать: ты всегда была и будешь миссис Фрэнк Каупервуд. А следовательно, ты должна помнить наш уговор». И если она в негодовании начинала кричать или выбегала из комнаты, вся в слезах, с трясущимися губами, он шел следом за ней и уговаривал так мягко и убедительно, что она в конце концов соглашалась на все. А когда ему этого не удавалось добиться, он присылал ей цветы, предлагал ей пойти с ним вечером в оперу — и против этого она никак не могла устоять, а он пользовался ее слабостью и тщеславием. Потому что появляться с ним на людях — это все-таки означало, что она, как-никак, его жена, хозяйка его дома.Глава 11
Де Сото Сиппенс отправился в Лондон, прихватив с собой нескольких расторопных помощников. Он снял дом в Найтсбридже и, оглядевшись, начал осторожно собирать разные сведения и данные, которые, по его мнению, могли пригодиться для Каупервуда. Он сразу же сделал одно весьма ценное открытие, касающееся двух старых подземных лондонских линий — Метрополитен и Районной: эти линии образовывали собою большую петлю — обстоятельство, которым так выгодно для себя воспользовался Каупервуд при постройке городской уличной сети в Чикаго и которое нанесло такой ущерб его конкурентам и заставило их ополчиться против него. Эти лондонские линии первой подземной железной дороги в мире, очень скверно оборудованные и до сих пор пользующиеся паровой тягой, фактически охватывали и включали в свою сеть все главные деловые центры. Таким образом, они представляли собой ключ ко всей сети подземных железных дорог в Лондоне. Они шли параллельно друг другу примерно на расстоянии мили, смыкаясь концами, чтобы поезда той и другой линии могли совершать сквозные рейсы, и обслуживали весь район, начиная с Кэнсингтона и Пэдингтонского вокзала на западе, вплоть до Олдгэйта близ Английского банка на востоке. Таким образом, все главные улицы, деловой центр, кварталы, где находились магазины, театры, самые крупные и роскошные отели, вокзалы и здания парламента — все было охвачено этими линиями. Сиппенс очень быстро выяснил, что эти линии при существующем ныне скверном оборудовании и неумелой эксплуатации едва окупают расходы на их содержание, но что их безусловно можно сделать гораздо более доходными, ибо, если не считать омнибусов, никакого иного удобного сообщения между всеми этими районами не было. Устаревшая система паровой тяги на подземных железных дорогах вызывала все больше и больше неудовольствия у публики; мало того, в среде молодых финансистов, интересующихся строительством подземки, явно наблюдалось стремление переоборудовать линии, пустить электрические поезда, словом, поставить дело на современную ногу. Одним из наиболее влиятельных лиц в этом небольшом меньшинстве был некий лорд Стэйн, крупный акционер Районной подземной дороги и весьма видная фигура в высшем лондонском свете. Сиппенс слышал о нем еще от Каупервуда. Получив от Сиппенса длинное письмо с подробным изложением всех интересующих его обстоятельств и ясно представив себе положение вещей, Каупервуд воодушевился. Эта возможность использовать центральную петлю, если взяться за дело сейчас же и получить концессию или акты на постройку веток, даст ему как раз то, о чем он мечтал, — сосредоточит в его руках управление сетью и тем самым обеспечит ему руководство всей будущей системой подземных дорог. Однако, если не вывернуть собственные карманы, откуда он достанет такую сумму наличными? Ведь в это дело надо вогнать не меньше ста миллионов долларов. Вряд ли он может сейчас кого-нибудь увлечь своей идеей и получить таким образом финансовую поддержку, тем более что ныне действующие лондонские линии едва окупают себя. Отважиться на такое предприятие в настоящий момент, конечно, дело крайне рискованное. Тут надо все предусмотреть и прежде всего пустить в ход очень умелую, ловко состряпанную и широко поставленную рекламу, которая представила бы его в самом выгодном свете. Каупервуд мысленно перебирал в памяти всех крупных американских капиталистов, все их учреждения и банки — в особенности на Востоке, — где он, опираясь на свои прежние сделки, мог бы пощупать почву. Им надо внушить, что он на этом деле стремится получить отнюдь не какие-то чрезмерные прибыли, а доверие и признание. Потому что Беренис, конечно, права: это последнее и самое крупное из всех его финансовых предприятий, — если, разумеется, из этого что-нибудь выйдет! — несомненно должно носить более благопристойный характер, чем все его прежние авантюры, оно должно помочь ему загладить все его старые грехи и мошенничества. В глубине души он, признаться, не собирался совсем отказываться от тех трюков, к которым он прибегал при организации и захвате городской железнодорожной сети. А так как его приемы были, конечно, не так широко известны в Англии, как у него на родине, он более чем когда-либо рассчитывал на возможность учредить несколько акционерных компаний — для каждого отдельного участка, для каждой ветки вновь проектируемой или требующей переоборудования подземной сети; доверчивая публика все равно бросится покупать эти «разводненные» акции. Так только и можно делать дела! Публике всегда можно всучить что угодно, если только внушить ей, что дело сулит верный и постоянный доход. Все, конечно, зависит от репутации, солидности и рентабельности предприятия, — качества, которые достигаются при помощи надлежащих связей. Решив теперь же предпринять кой-какие шаги, Каупервуд послал телеграмму Сиппенсу с изъявлением благодарности и приказом оставаться в Лондоне впредь до дальнейших его распоряжений. Между тем к Беренис приехала мать, и они временно обосновались в Чикаго по-семейному. Беренис и Каупервуд, каждый по-своему, посвятили ее в последнее знаменательное событие, которое должно было сблизить всех троих и произвести переворот в их жизни. Хотя миссис Картер, разумеется, и всплакнула немножко после объяснения с Беренис, сокрушаясь, как всегда, о своем прошлом, которое, как она не без основания полагала, было главной причиной, толкнувшей ее дочь на такой рискованный шаг, — однако она была вовсе не так уж убита этим, как ей казалось в минуты угрызений совести. Ведь Каупервуд все-таки видный, влиятельный человек, а кроме того, он сам сказал ей, что Беренис не только получит по завещанию значительную часть его капитала, но, если Эйлин умрет или если она когда-нибудь согласится дать ему развод, он безусловно женится на Беренис. А пока пусть все остается по-прежнему: он друг миссис Картер и опекун ее дочери. И что бы там ни случилось, какие бы сплетни ни возникали на их счет, это всегда будет их единственным оправданием. Конечно, не следует слишком часто появляться вместе на людях и вообще надо стараться держать себя так, чтобы не вызывать никаких подозрений. Что бы они с Беренис ни задумали, это будет их частным делом, но они никогда не будут путешествовать в одном поезде или на одном пароходе, ни останавливаться в одном отеле. В Лондоне все, конечно, будет значительно проще; а если к тому же все сложится хорошо и удастся связаться кой с кем из высоких финансовых кругов, тогда можно будет с помощью Беренис и ее матери принимать этих финансовых магнатов и расположенных к нему дельцов у себя дома, ибо Каупервуд считал, что миссис Картер сумеет создать такую домашнюю обстановку, которая будет вполне соответствовать положению почтенной богатой вдовы путешествующей со своей дочерью. Беренис — а ведь она, в сущности, и придумала все — очень увлеклась этой затеей. И даже миссис Картер, забыв о том, что Каупервуд только что казался ей безжалостным эгоистом, который никогда не поступится ничем и думает только о своих личных удобствах, слушая его, почти готова была поверить, что все устраивается как нельзя лучше. Беренис очень деловито сообщила ей о своих новых взаимоотношениях с Каупервудом. — Я очень люблю Фрэнка, мама, — сказала она. — И я хочу жить с ним, насколько это, конечно, возможно. Он никогда не пытался склонить меня к этому — ты знаешь. Я пришла к нему сама, и сама предложила. Мне, видишь ли, уже давно казалось, что это как-то нечестно — с тех самых пор, как ты мне призналась, что мы живем на его деньги. Ну, как же так — все брать и ничего не давать взамен? А потом я оказалась такой же трусихой, как когда-то была ты, слишком избалованной и неприспособленной, чтобы решиться жить, не имея никаких средств к существованию, — а ведь так бы оно и было, если бы он нас оставил. — Ах, я знаю, ты права, Беви! — жалобным тоном перебила ее мать. — Пожалуйста, не обвиняй меня, я и без того мучусь этим беспрестанно. Прошу тебя, не упрекай! Ведь я всегда думала только об одном — о твоем будущем. — Ну, полно, мама. Успокойся! — смягчившись, утешала ее Беренис, которая все-таки любила свою мать и прощала ей все ее заблуждения и безрассудства. Правда, когда Беренис была еще девчонкой, школьницей, она несколько свысока относилась к своей матери, к ее рассуждениям и вкусам; но, узнав все, она стала смотреть на нее совсем другими глазами; не то чтобы она совсем оправдывала мать, нет, но она прощала и жалела ее. Теперь она уже не разговаривала с ней пренебрежительно-снисходительным тоном, а, наоборот, старалась быть ласковой, внимательной, словно желая утешить ее, заставить забыть все обиды, которые выпали на ее долю. Поэтому и сейчас, стараясь успокоить мать, Беренис говорила с ней ласково и мягко. — Ты вспомни, мама, — продолжала она, — ведь я все-таки пыталась пробиться собственными силами и очень быстро поняла, что я просто не гожусь для этого, что мне не преодолеть тех препятствий, с которыми я неизбежно должна столкнуться. Меня чересчур холили, берегли. И я в этом не виню ни тебя, ни Фрэнка. Но какая у меня может быть будущность, особенно здесь, в нашей стране? Поэтому я и решилась, и, по-моему, это лучшее, что я могла сделать, — соединить свою жизнь с жизнью Фрэнка, потому что это единственный человек, который может мне помочь по-настоящему. Миссис Картер, соглашаясь, кивала головой и смотрела на Беренис с грустной улыбкой. Она знала, что ей ничего другого не остается, как подчиняться всему, что ни вздумает Беренис. У нее нет собственной жизни, нет и не может быть никаких средств к существованию — она целиком зависит от своей дочери и Каупервуда.Глава 12
Спустя некоторое время после того как все было переговорено и достигнуто полное взаимопонимание и согласие, Каупервуд и Беренис с матерью отправились в Нью-Йорк. Дамы поехали вперед, а следом за ними дня через два выехал и Каупервуд. В Нью-Йорке он намеревался пощупать почву и выяснить, кто среди американских предпринимателей мог бы заинтересоваться крупным капиталовложением, а кроме того, предполагал связаться с какой-нибудь международной маклерской фирмой, которая позаботилась бы о том, чтобы эти лондонские дельцы с их предложением насчет линии Чэринг-Кросс снова обратились к нему; для него важно было, чтобы никто не был осведомлен, что он интересуется этим. Конечно, у него были и свои нью-йоркские и лондонские маклеры и комиссионеры: Джеркинс, Клурфейн и Рэндолф, но в таком важном и многообещающем деле он не мог на них вполне положиться. Джеркинс, главная фигура в американском отделении фирмы, хоть и очень ловкий и весьма полезный субъект, слишком уж заботился о собственных интересах, а кроме того, не всегда умел держать язык за зубами. Однако обращаться в незнакомую маклерскую контору тоже было небезопасно. Могло, пожалуй, выйти еще хуже. В конце концов он решил, что самое разумное — подослать какого-нибудь верного человека к Джеркинсу и намекнуть ему, что недурно было бы, если бы Гривс и Хэншоу попытались еще раз обратиться к Каупервуду. И тут он вспомнил, что среди рекомендательных писем, которые Гривс и Хэншоу вручили ему при первом свидании, было письмо от некоего Рафаэля Коула, когда-то довольно крупного нью-йоркского банкира, который теперь отошел от дел. Несколько лет тому назад Коул пытался заинтересовать его нью-йоркским транспортом, но Каупервуд в то время был так поглощен своими делами, что не имел возможности подумать об этом предложении. Тем не менее у него сохранились дружеские отношения с Коулом, и тот впоследствии вошел пайщиком в кое-какие из его чикагских предприятий. Хорошо бы привлечь Коула с его капиталом к этому лондонскому предприятию, да, пожалуй, через него можно будет подтолкнуть и Джеркинса и заставить тем самым Гривса и Хэншоу повторить свое предложение. Он решил пригласить Коула пообедать к себе на Пятую авеню, кстати и Эйлин представится случай выступить в роли хозяйки. Таким образом, он и Эйлин доставит удовольствие и на Коула произведет впечатление примерного супруга. — Коул человек респектабельный, строгих правил. Ведь для того чтобы преуспеть в этой лондонской затее, нужно непременно заранее создать такой респектабельный фон, чтобы предупредить всяческие нападки. Вот и Беренис тоже перед самым отъездом в Нью-Йорк сказала ему: «Не забудь, Фрэнк, чем больше ты будешь проявлять внимания и предупредительности к Эйлин на людях, тем лучше будет для всех нас!..» И она так посмотрела на него своими невозмутимыми синими глазами, что ему показалось, словно в этом взоре скрывается вся извечная женская мудрость. Поэтому по дороге в Нью-Йорк Каупервуд, помня наставления Беренис, послал Эйлин телеграмму, извещая ее о приезде. И тут же в связи с Эйлин он вспомнило некоем Эдварде Бингхэме, агенте по распространению акций, который когда-то часто к нему наведывался, — у него обширный круг знакомых, и, наверно, через него можно будет раздобыть кой-какие сведения об этом субъекте Толлифере. Таким образом, составив себе дорогой полную программу действий и приехав в Нью-Йорк, Каупервуд прежде всего позвонил Беренис, на Парк авеню, в тот самый особняк, который он когда-то подарил для нее ее матери. Условившись, что он приедет попозже, он позвонил Коулу, а затем к себе в контору, в отель «Нэзерлэндс», где, справившись о разных делах, узнал между прочим, что Бингхэм уже интересовался, когда ему можно будет повидать Каупервуда. Вслед за этим он отправился к себе домой в весьма приподнятом настроении. Теперь это был совсем не тот человек, которого видела Эйлин несколько месяцев тому назад. Когда он вошел к ней в спальню, она сразу по его походке, по его глазам почувствовала, что он чем-то очень доволен и готовит ей приятный сюрприз. — Ну, как ты тут поживаешь, моя дорогая? — приветствовал он ее таким дружелюбным тоном, какого она уж давно от него не слышала. — Надеюсь, ты получила мою телеграмму? — Да… — спокойно, но в то же время несколько насторожившись, отвечала Эйлин. И тут же украдкой поглядела на него с любопытством, ибо в ее чувстве к Каупервуду было столько же любви, сколько и ненависти. — А! Детективные романы почитываешь! — шутливо заметил он, заглядывая в книжку на столике у ее кровати и мысленно сравнивая ее ограниченные интересы с кругозором Беренис. — Да! — с раздражением отрезала Эйлин. — А по-твоему, мне что читать? Библию? Или, может, твои балансовые отчеты? Или каталоги музейные? Она была возмущена и оскорблена до глубины души: за все время своих чикагских передряг он не удосужился написать ей ни слова. — Сказать тебе по правде, дорогая, — продолжал он все так же мягко и невозмутимо, — я столько раз собирался написать тебе, но просто руки не поднимались, до такой степени я был всем этим замучен. Я правду тебе говорю. А потом я думал, ты ведь читаешь газеты. Ну а там все это со всеми подробностями было расписано. Да! Я получил твою телеграмму. И очень был тронут. Чрезвычайно. Мне казалось, что я ответил. Я хорошо помню, что собирался ответить. Он говорил о сочувственной и ободряющей телеграмме Эйлин, телеграмме, которую она послала ему на другой день после его скандального провала с концессией. — Очень хорошо, — сухо перебила Эйлин. — Допустим, ты собирался, ну что еще ты можешь сказать? — Было одиннадцать утра, а она только принималась за свой туалет. Он обратил внимание на ее белоснежный кружевной капот — это был ее излюбленный цвет, он так хорошо оттенял ее пышные рыжие волосы, которыми Каупервуд когда-то восхищался. Он заметил, что она густо напудрена. И с грустью подумал, что ей без этого теперь уж нельзя обойтись и что ей, наверно, это еще более грустно. Время! время! Это его безостановочная разрушительная работа. Она стареет, стареет, стареет! И она ничего не может сделать, только огорчаться, потому что она прекрасно знает, как он ненавидит эти страшные признаки старости у женщин, хотя он никогда не говорил ей об этом и даже делал вид, что не замечает их. Ему было ужасно жаль ее, и он старался говорить с ней поласковей. Глядя на нее, он думал, что ведь Беренис, в сущности, относится к ней без всяких предрассудков, так почему бы ему не поддержать видимость примирения с Эйлин и не повезти ее за границу. Конечно, не обязательно, чтобы она ехала с ним, но примерно в это же время, так, чтобы создалось впечатление, что его супружеская жизнь течет вполне благополучно. Ну, пусть даже она и поедет с ним, на одном пароходе, — может быть, к тому времени удастся заполучить этого Толлифера или еще кого-нибудь и в какой-то мере сбыть ее с рук. И, пожалуй, было бы даже желательно, чтобы этот человек, который возьмется развлекать ее, был бы при ней не только здесь, но и последовал за ней за границу, чтобы она там не мешала ему с Беренис. — А что ты сегодня думаешь делать вечером? — любезно осведомился он. — Ничего особенного, — холодно ответила она, чувствуя по его вкрадчивому тону, что он чего-то от нее домогается, но чего именно, она не могла догадаться. — А ты что, думаешь здесь пожить некоторое время? — Да, поживу немножко. Во всяком случае буду наезжать. У меня тут кое-какие планы. Может быть, мне придется съездить за границу ненадолго; я вот и хотел с тобой об этом поговорить. Он замолчал, не зная, как продолжать этот разговор. Все это было так сложно и трудно. — И потом, мне, может быть, придется кой-кого пригласить к себе, пока я здесь, и я бы хотел, чтобы ты мне помогла принять гостей. Ты ничего не имеешь против? — Нет, — коротко отвечала она, чувствуя, что все это не имеет никакого отношения к ней лично. Мысли его где-то далеко, он вовсе не думает о ней, — даже и сейчас, после того как они столько времени не виделись. И вдруг ее охватила страшная, усталость, — что толку говорить с ним, упрекать его. — Может быть, мы бы пошли сегодня вечером в оперу? — спросил он. — Ну что ж. Если ты хочешь… — Как бы то ни было, а все-таки это утешение, что вот он, хоть и ненадолго, здесь, с нею. — Конечно, хочу… И именно с тобой! — отвечал он. — В конце концов, ведь ты моя жена. И ты здесь хозяйка. И как бы ты ко мне ни относилась, мы все-таки должны держать себя так, чтобы люди думали, что у нас все благополучно. Повредить это никому из нас не повредит. А помочь может обоим. Видишь ли. Эйлин, — дружески продолжал он, — после всех этих историй в Чикаго мне теперь остается одно из двух: либо я должен бросить все дела в наших краях и удалиться на покой, что мне, по правде сказать, вовсе не улыбается, либо мне надо попробовать заняться чем-то совсем в другом роде и где-нибудь подальше отсюда. Мне, знаешь, что-то совсем не хочется умирать заживо. — Это ты-то — умирать заживо? — глядя на него с изумлением, воскликнула Эйлин. — Действительно, похоже на тебя! По-моему, ты любого мертвеца на ноги поставишь! Вот тоже выдумал! Каупервуд улыбнулся. — Ну, так или иначе, — продолжал он, — пока что я не вижу перед собой никаких возможностей. Единственное, о чем, может быть, стоило бы подумать, это предполагаемая постройка метрополитена в Париже, но это меня что-то не очень привлекает, — и затем… Тут он замолчал и задумался. А Эйлин смотрела на него не сводя глаз, стараясь по его лицу догадаться, правду он говорит или… — …и нечто в этом же роде в Лондоне… Так вот я и думаю: хорошо бы туда поехать да посмотреть на месте, как у них там обстоит дело с подземкой. Не успел он еще договорить, как Эйлин, сама не зная почему, — может быть, тут было нечто вроде внушения или гипноза, — внезапно оживилась и просияла, словно почувствовав что-то неожиданно интересное для себя. — Ну что ж! — сказала она. — Мне кажется, это довольно заманчивая перспектива. Но если ты действительно собираешься заняться новым делом, надеюсь, на этот раз ты постараешься оградить себя заранее от всяких неприятностей и скандалов. А то ведь, за что бы ты ни взялся, сейчас же впутываешься в какую-нибудь ужасную историю, — то ли ты сам их заводишь, то ли они возникают сами собой. — Н-да, — продолжал Каупервуд, не обращая внимания на ее последние слова, — так вот я думаю, если мне ничего более заманчивого не подвернется, я, пожалуй, попробую пощупать почву в Лондоне. Одно только неприятно: я слышал, что англичане очень недоброжелательно относятся ко всяким американским предприятиям. А если это так, то вряд ли мне удастся там зацепиться, особенно после этого дурацкого скандала в Чикаго. — Ну! Чикаго! — пренебрежительно воскликнула Эйлин, сразу готовая встать на защиту Каупервуда. — Стоит на это обращать внимание! Да всякий здравомыслящий человек прекрасно знает, что эти чикагские дельцы сущие шакалы, готовые разорвать кого угодно. По-моему, Лондон — самое подходящее место, если ты действительно думаешь взяться за что-то новое. Только ты непременно должен обо всем договориться заранее, чтобы не было потом таких неожиданностей, как с этой концессией в Чикаго. Мне всегда казалось, Фрэнк, — продолжала Эйлин, решившись высказаться откровенно (не для того, чтобы подольститься к нему, а потому что ее долголетняя жизнь с ним давала ей на это право), — что ты чересчур пренебрегаешь мнением других людей. Кто бы они ни были — неважно, — для тебя они просто не существуют! И вот отсюда-то и возникают все ссоры. И они у тебя всегда будут, если ты не пересилишь себя и не будешь повнимательнее к людям. Конечно, я не знаю, какие у тебя там планы, но я уверена, что если ты сейчас предпримешь какое-то новое дело и будешь хоть немного считаться с людьми, тебе с твоей изобретательностью, твоим уменьем убедить всякого, когда ты захочешь, нечего бояться никаких препятствий, ты можешь горы свернуть, вот что я тебе скажу. И она замолчала, выжидая, что он ей на это ответит. — Очень признателен тебе, — промолвил он. — Может быть, ты и права. Не знаю. Во всяком случае я всерьез подумываю об этой лондонской подземке. Эйлин, чувствуя, что он уже несомненно что-то решил, заговорила снова: — Конечно, что касается наших с тобой отношений, я прекрасно вижу, что я тебе совершенно не нужна, и не буду нужна, это дело конченное. И я это отлично знаю. Но я также хорошо знаю и чувствую, что я все-таки что-то значила в твоей жизни, и хотя бы из-за одного этого — вспомнить только, что мне пришлось перенести с тобой в Филадельфии и в Чикаго! — ты не можешь так просто выкинуть меня вон, выбросить, как какую-то ненужную рухлядь. Это было бы слишком несправедливо! И вряд ли ты от этого что-нибудь выиграл бы. Я всегда считала и считаю, что хотя бы для виду ты должен относиться ко мне прилично. Разве ты не мог бы оказывать мне хоть немножко внимания и не оставлять меня здесь в полном одиночестве? Подумать только, день за днем совершенно одна, а от тебя целые недели, месяцы ни слова, ни одного письма… И тут он опять — в который раз — увидел, как глаза ее наливаются слезами и она, задыхаясь, стискивает губы, стараясь подавить рыданья. Она отвернулась, не в силах больше говорить. И в ту же минуту Каупервуд понял: Эйлин готова пойти на уступки, — ведь это то, о чем он мечтал с тех самых пор, как к нему пришла Беренис. Да, несомненно. Эйлин сдается, но на каких условиях с ней можно будет сговориться, это он еще не совсем ясно себе представлял. — Мне сейчас надо подыскать для себя не только новое поле деятельности, — сказал он, — но и найти для этого капитал… Поэтому я и думаю пожить здесь некоторое время, возобновить кой-какие связи; и для меня важно, чтобы люди видели, что у нас с тобой все идет мирно, как полагается. Это произведет хорошее впечатление. Ты знаешь, было время, когда я серьезно подумывал о разводе. Но если ты в самом деле способна поставить крест на наших с тобой прежних отношениях, которые все равно не вернешь, и удовлетвориться тем, что я тебе предлагаю, и не пререкаться со мной из-за моей личной жизни, мае кажется, мы отлично могли бы с тобой поладить. Уверен, что могли бы. Я теперь уже не так молод, и если я даже и хочу сохранить за собой право распоряжаться своей личной жизнью, я, признаться, не вижу, чем, собственно, это мешает нам с тобой жить мирно; мы могли бы даже постараться сделать наши отношения лучше, чем они были до сих пор. Разве ты не согласна со мной? И поскольку Эйлин ни о чем другом уж и мечтать не могла, как остаться до конца жизни его женой, и так как, несмотря на все его жестокосердие и бесчисленные измены, она всегда от всего сердца желала ему успеха в делах, — она не задумываясь ответила: — А что же мне остается, как не согласиться? У тебя все карты в руках. А у меня что? Скажи, что у меня есть? И тут Каупервуд решился заговорить о путешествии. Он сказал, что если Эйлин хочется прокатиться с ним, он охотно возьмет ее с собой и даже ничего не будет иметь против заметок в прессе — пусть раззвонят повсюду о поездке супругов Каупервуд, но только, разумеется, Эйлин не должна настаивать на своих супружеских правах и вмешиваться в его личную жизнь. — Ну что ж, если ты так на этом настаиваешь… Во всяком случае я ничего от этого не теряю, — холодно ответила Эйлин, а про себя подумала: а что, если он ее обманывает и за всем этим опять скрывается какая-то женщина, и скорей всего, эта девчонка Беренис Флеминг? Ах, если так… ну нет, тогда она ни на какие уступки не пойдет! Ни за что! Чтобы он с этой Беренис!.. Нет, нет, она никогда не допустит такого позора, чтобы он открыто связался с этой нахальной и хитрой выскочкой. И в то время как Каупервуд поздравлял себя с таким быстрым успехом и радовался, что все так хорошо вышло, Эйлин тоже не без торжества думала о том, что она все-таки кое-что выиграла: как ни тяжело ей подавлять свои чувства, но чем больше будет Каупервуд оказывать ей публично внимания, тем очевиднее будет для всех, что он принадлежит ей, и тем больше она может гордиться этим, если не про себя, так на людях.Глава 13
Заинтересовать Коула лондонским предприятием не стоило Каупервуду никакого труда. Посидели за обедом, выпили, поговорили — и Коул сам вызвался подтолкнуть это дело и надоумить Гривса и Хэншоу еще раз обратиться к Каупервуду. Лондон, по мнению Коула, для человека с широким размахом, такого, как Каупервуд, несомненно может предоставить гораздо больше возможностей, чем Чикаго. И он, конечно, не прочь вложить деньги в настоящее дело, если Каупервуду удастся отхватить концессию в Англии. Каупервуд остался очень доволен и своим разговором с Эдвардом Бингхэмом; он узнал от него все, что ему было нужно, о Брюсе Толлифере. — Толлиферу сейчас приходится очень туго, — рассказывал Бингхэм. — Когда-то это был человек с хорошими связями и деньги у него водились, а потом все растерял. Красивый был малый, и сейчас недурен собой, ну, конечно, уж не то, опустился. Попал в дурную компанию, спутался с какими-то темными личностями; карты, пьянство, — все прежние его знакомые и приятели давно отвернулись от него, махнули рукой. Однако последнее время он, кажется, взялся за ум и как-то пытается выправиться. Живет сейчас один, в недорогом холостяцком пансионе «Альков» на Пятьдесят третьей улице. Появляется иногда в самых шикарных ресторанах. Наверно ищет случая как-то пристроиться — подцепить дамочку с деньгами, которая рада будет оплатить его услуги, — или поступить агентом в какую-нибудь маклерскую фирму, которая, принимая во внимание его прежние связи, может предложить ему приличное жалованье. Это ироническое заключение Бингхэма заставило Каупервуда улыбнуться. Толлифер хочет пристроиться — а ему это как раз и на руку. Каупервуд поблагодарил Бингхэма и после его ухода тотчас позвонил Толлиферу в «Альков». Сей джентльмен лежал полуодетый у себя в номере, в мрачном унынье, не зная, как убить время до пяти часов, когда можно будет снова пуститься в поход. Так называл он свои хожденья по ресторанам, клубам, театрам и барам, где он толкался теперь изо дня в день, изредка раскланиваясь с кем-нибудь из старых знакомых и всячески пытаясь возобновить прежние связи, а при случае завязать новые. В окно глядел хмурый, серый февральский день. Часы только что пробили три. Толлифера позвали к телефону. Он лениво поднялся и, шаркая стоптанными ночными туфлями, всклокоченный, с папироской в зубах, нехотя сошел в вестибюль. «Говорит Фрэнк Каупервуд…» — Толлифер весь как-то сразу подтянулся. Это имя так часто мелькало жирным шрифтом на страницах газет. — Да, да! К вашим услугам, мистер Каупервуд! Чем я могу быть вам полезен? — с величайшей предупредительностью отвечал он, и в голосе его слышалась стремительная готовность сделать все, о чем бы его ни попросили. — У меня к вам есть деловое предложение, которое, я думаю, вас заинтересует, мистер Толлифер. Я буду рад вас видеть, если вы заглянете ко мне в контору завтра в половине одиннадцатого. Могу я ждать вас к этому часу? В голосе Каупервуда, как тотчас же отметил про себя Толлифер, не было того покровительственно-пренебрежительного оттенка, который неизменно проскальзывает у сильных мира сего в их отношениях с низшими, но в нем было что-то необыкновенно внушительное, властное. Толлифер, при всем своем исключительном самомнении, не мог не разволноваться, до такой степени он был заинтригован. — Разумеется, мистер Каупервуд. Я буду совершенно точен, — ни секунды не раздумывая, отвечал он. Что бы это такое могло быть?.. Наверно, срочное распространенье каких-нибудь акций? Да он с восторгом ухватится за такое дело. Сидя у себя в номере, Толлифер раздумывал об этом неожиданном телефонном звонке и старался припомнить, что он такое недавно читал про Каупервуда. Много о нем писали в газетах, целые столбцы; да, что-то насчет того, как чета Каупервудов пыталась втереться в высшее нью-йоркское общество и как у них это не вышло… в чем-то его там изобличили. Но мысли Толлифера сами собой возвращались к загадочному звонку, к тем необыкновенным возможностям и новым знакомствам, которые могут за ним воспоследовать, и его охватывало чувство радостного волнения и подъема. Он подходил к зеркалу и внимательно разглядывал свою физиономию и всего себя; затем открыл шкап и так же внимательно осмотрел свои костюмы. Побриться надо будет в парикмахерской, да кстати уж и костюм надо будет отдать почистить и отутюжить. Пожалуй, сегодня вечером уж не стоит выходить. Лучше отдохнуть хорошенько, чтобы завтра утром выглядеть посвежее. В половине одиннадцатого он явился к Каупервуду в контору выбритый, выглаженный, освеженный, словом, такой, каким он уже давно не бывал. Ведь, может статься, это — поворот в жизни! Так по крайней мере он надеялся и именно с таким чувством вошел в кабинет и увидел перед собой великого человека, восседавшего за необъятным письменным столом из палисандрового дерева. И тут Толлифер сразу съежился и почувствовал себя весьма неуверенно, потому что человек, сидевший перед ним, хотя его никак нельзя было упрекнуть в недостатке учтивости и даже некоторой дружелюбной приветливости, был до такой степени недосягаем, что невольно удерживал вас на расстоянии. «Да, — подумал Толлифер, — сразу видно, сильный человек; какое красивое властное лицо, и эти большие пронизывающие и в то же время совершенно непроницаемые светлые глаза, и руки какие сильные, красивые, а на правой руке, на мизинце, простое золотое кольцо…» Это кольцо много лет назад подарила Каупервуду Эйлин. Он тогда сидел в филадельфийской тюрьме, докатившись до самой последней, самой крайней ступени своего падения (потом он уже снова пошел в гору), и Эйлин подарила ему это кольцо в знак своей неугасимой, неизменной любви. С тех пор Каупервуд никогда его не снимал. И вот теперь он собирается нанять этого подозрительного молодчика со светскими замашками и поручить ему заботиться о своей жене, развлекать ее, чтобы она не мешала ему, Каупервуду, спокойно наслаждаться обществом другой женщины. Ну как это можно назвать — действительно разложение. Он и сам это понимает — но что ему остается делать? Ведь он идет на это, потому что иначе поступить нельзя, потому что его вынуждает к этому сама жизнь, условия, созданные ею, которые подчиняют себе и его и других людей, и изменить тут ничего нельзя. Слишком поздно. А раз другого выхода нет — нечего церемониться. Надо действовать решительно, беспощадно, так, чтобы никто не смел пикнуть, и тогда все признают твой способ действий как нечто совершенно неизбежное. Каупервуд смерил Толлифера спокойным холодным взглядом и, указывая ему на стул, сказал: — Садитесь, пожалуйста, мистер Толлифер. Я позвонил вам потому, что хочу поручить вам одно дело, для которого требуется человек с большим тактом и со светскими навыками. Подробней я остановлюсь на этом потом. Признаюсь, что прежде чем позвонить вам, я навел о вас кое-какие справки, чтобы познакомиться с вашей биографией и с вашим теперешним положением; я сделал это, разумеется, не с целью повредить вам, уверяю вас. Напротив. Я полагаю, что могу быть вам полезен, если вы, со своей стороны, сумеете оказаться полезным мне. И тут он поглядел на Толлифера с такой располагающей улыбкой, что Толлифер, хоть и несколько неуверенно, тоже улыбнулся в ответ. — Надеюсь, что в этих справках, которые вы навели обо мне, не нашлось ничего столь предосудительного, чтобы вы сочли наш разговор излишним, — робко сказал он. — Я готов признать, что я не всегда вел что называется строго благопристойный образ жизни. Боюсь, что я для этого не создан. — По-видимому, не созданы, — чрезвычайно любезно и сочувственно отозвался Каупервуд. — Однако, прежде чем судить об этом, мне бы хотелось, чтобы вы совершенно чистосердечно и откровенно рассказали мне все о себе. Дело, которое я имею в виду, требует безусловно, чтобы я знал о вас решительно все. И он очень приветливо посмотрел на Толлифера, как бы ободряя его. Толлифер честно, ничего не прикрашивая, рассказал ему в немногих словах историю своей жизни с самого детства. Каупервуд слушал его с интересом и пришел к заключению, что этот тип, пожалуй, даже несколько лучше, чем можно было предположить, что он вовсе не такой уж расчетливый, а скорее — славный малый, бесшабашная голова, кутила, но отнюдь не хитрый и не своекорыстный человек. Поэтому Каупервуд решил, что может говорить с ним гораздо более откровенно, чем собирался вначале. — Итак, значит, говоря о финансах, вы сейчас очутились на мели? — Д-да, в этом роде, — криво усмехнувшись, отвечал Толлифер. — Сказать вам по правде, я по-настоящему никогда с этой мели и не съезжал. — Да, там всегда тесновато, много на ней народу толчется, — философически заметил Каупервуд. — Но скажите мне, а вот последнее время вы действительно пытались выкарабкаться и снова войти в те круги, в которых вы когда-то бывали раньше? Горькая гримаса, словно тень, промелькнула по лицу Толлифера. — Да. Пытался, — с усилием выговорил он. И снова на губах у него появилась та же кривая и немножко саркастическая усмешка. — Ну и как? Идет дело на лад? — Д-да, поскольку я сейчас в таком положении, похвастаться, в сущности, нечем. В том кругу, в котором я раньше вращался, надо иметь не такие деньги, как у меня сейчас, а много больше. Я рассчитывал устроиться агентом в какую-нибудь комиссионную контору или маклерскую фирму через кого-нибудь из моих прежних нью-йоркских знакомых. И тогда я бы мог кой-что заработать — заключить какую-нибудь выгодную сделку для фирмы и при этом получить возможность завязать связи с людьми, которые могли бы мне быть полезны. — Понятно, — сказал Каупервуд. — Но поскольку вы растеряли ваши связи, восстановить все это не так-то просто. А вы думаете, если бы вы пристроились на такое местечко, вы сумели бы занять прежнее положение? — Как я могу сказать?.. Не знаю. Может быть, и сумел бы. Легкая нотка сомнения, прозвучавшая в тоне Каупервуда, сильно поколебала уверенность Толлифера. Но он сделал над собой усилие и продолжал: — Не старик же я и уж не настолько опустился; мало ли на свете людей, которые попадали в такое положение, а потом как-то выкарабкивались. Вся беда в том, что у меня мало денег. Будь у меня достаточно денег, никогда бы я не сбился с дороги. Всему виной бедность. Это-то меня и погубило. Но во всяком случае я себя не считаю конченным человеком. Нет. Я еще попытаюсь, и я не теряю надежды выбиться — мое время не ушло. — Мне нравится ваша бодрость, — сказал Каупервуд. — Надо думать, что она вас вывезет. А устроить вас в маклерскую контору — дело нетрудное. Толлифер сразу оживился. — Хорошо бы, если бы это вышло, — глядя на Каупервуда с надеждой, робко промолвил он. — Для меня это в самом деле было бы толчком к новой жизни. Каупервуд усмехнулся. — Ну что ж, — сказал он, — я думаю, что это можно устроить безо всяких хлопот. Но только при одном условии: не впутываться ни в какие истории и не водить компанию с подозрительными личностями. Это очень важно, принимая во внимание характер дела, которое я намерен вам поручить. Дело это отнюдь не налагает на вас никаких обязательств в отношении вашей личной, холостяцкой свободы, но оно все же потребует от вас, чтобы вы в течение некоторого времени оказывали усиленное внимание одной даме, то есть вернулись бы к тому самому занятию, которое, как вы мне только что рассказывали, обеспечивало вам недурной доход. Скажу попросту: возьметесь вы поухаживать за одной очаровательной женщиной, несколько постарше вас? У Толлифера сразу мелькнула мысль, что это, вероятно, какая-нибудьбогатая пожилая дама, знакомая Каупервуда, на которую у него имеются какие-то серьезные финансовые виды. Вот он и думает использовать его, Толлифера, в качестве приманки. — Конечно, — отвечал он, — если я могу быть вам этим полезен, к вашим услугам, мистер Каупервуд. Каупервуд, откинувшись на спинку кресла и задумчиво постукивая кончиками пальцев, смотрел на Толлифера холодным, оценивающим взглядом. — Женщина, о которой я говорю, мистер Толлифер, это моя жена, — коротко, с циничной невозмутимостью сказал он. — Уже много лет мы с миссис Каупервуд находимся… не то, чтобы в дурных отношениях — это не совсем верно, — но в некотором… отдалении друг от друга. Толлифер сочувственно кивнул, как бы уверяя, что он вполне понимает, но Каупервуд, не обращая на него внимания, продолжал: — Это отнюдь не значит, что мы избегаем друг друга. Или что мне желательно получить против нее какую-нибудь законную улику. Нет. Она может распоряжаться своей личной жизнью, жить, как ей хочется, — но, конечно, в известных пределах. Ясно, что я не потерпел бы никакого публичного скандала и не позволил бы никому впутать ее в какую-нибудь грязную историю. — Я понимаю, — вставил Толлифер, сообразив, что тут надо быть чрезвычайно осторожным и ни в коем случае не переступать границ и что ему, можно сказать, прямо счастье привалило, зубами надо держаться за такое предложенье. — Полагаю, что не совсем понимаете, — сухо поправил Каупервуд, — но постараюсь объяснить так, чтобы вы поняли. Миссис Каупервуд когда-то была писаной красавицей, одной из самых красивых женщин, которых я видел на своем веку. И сейчас она еще очень хороша собой, хотя уж и не первой молодости. А могла бы быть и еще лучше, если бы так не расстраивалась и не предавалась всяким мрачным мыслям. Причиной этому — наш разрыв, и виноват в этом один я, ее я ни в чем не виню, — надеюсь, вы это хорошо усвоили… — Да-да, — почтительно отвечал Толлифер, слушавший с напряженным интересом. — Миссис Каупервуд несколько опустилась, не следит за своей внешностью, нигде не бывает — оправдание этому, может быть, и есть, но оснований для этого, на мой взгляд, решительно никаких нет. Она еще достаточно молода и впереди у нее еще много хорошего, ради чего стоит жить, что бы она там себе ни внушала. — Мне кажется, я понимаю ее состоянье, — опять перебил Толлифер, словно пытаясь показать, что он не согласен с Каупервудом. И Каупервуду это даже понравилось — как-никак, это свидетельствовало о некоторой отзывчивости. Толлифер, по-видимому, сочувствовал Эйлин. — Возможно! — отрезал Каупервуд и внушительно продолжал: — Дело, которое я намерен вам поручить, обеспечив вас, разумеется, для этого нужными средствами, будет заключаться в следующем: вы должны постараться сделать ее жизнь более интересной и яркой, — я при этом, разумеется, остаюсь в тени; жена моя ни в коем случае не должна ничего знать о нашем с вами разговоре. На нее плохо действует одиночество. Знакомых у нее мало, да и к тому же это люди мало подходящие для нее. Так вот я вас спрашиваю: если я предоставлю вам нужные средства, можете ли вы, не выходя из рамок житейских условностей и светских приличий, расширить как-то круг ее интересов, познакомить ее с людьми, которые подходили бы ей и по положению и по складу характера? Я отнюдь не имею в виду высшие круги общества, — ни ей, ни мне это не нужно. Но есть разные промежуточные слои, где можно завязать интересные знакомства, приятные для нее, да и для меня. Так вот, если вы меня поняли, может быть вы подумаете и скажете, что, собственно, вы могли бы в этом смысле сделать. И Толлифер очень живо показал Каупервуду, какое приятное разнообразие можно внести в жизнь Эйлин и какими он для этого располагает возможностями. Каупервуд слушал его внимательно и убеждался, что Толлифер в самом деле хорошо понял, что именно от него требуется. — Отлично, мистер Толлифер, — сказал он. — Так вот, ставлю вас в известность, что вашей работой в маклерской фирме, в которую я вас устрою, руководить буду я сам. Надеюсь, мы понимаем друг друга? И с этими словами он приподнялся в кресле, давая понять, что аудиенция окончена. — Да, мистер Каупервуд! — поспешно вставая, с улыбкой отвечал Толлифер. — Отлично. Возможно, мы теперь с вами не так скоро увидимся. Но вы получите от меня указания. И я позабочусь о том, чтобы на ваше имя был открыт счет. Итак, полагаю, все. До свиданья. Учтивый кивок и спокойный непроницаемый взгляд, которым Каупервуд проводил его до двери, заставили Толлифера еще раз остро почувствовать, какая глубокая пропасть отделяет его от этого человека.Глава 14
Окрыленный этим необыкновенным свиданьем, Толлифер, выйдя из конторы Каупервуда, тотчас же отправился на Пятую авеню посмотреть на его роскошный дворец. Полюбовавшись со всех сторон внушительной архитектурой и лепными украшениями этого итальянского палаццо и почувствовав себя героем какого-то удивительного приключения, он окликнул кэб и направился в ресторан «Дельмонико», на углу Пятой авеню и Двадцать седьмой улицы. Днем, в часы завтрака, в этот ресторан стекались всякие театральные знаменитости и иные светила, и праздная светская публика, и видные адвокаты, и журналисты — словом, все те, кого прельщает блестящая сутолока, где можно и на людей поглядеть и себя показать. Толлифер пробыл там недолго, но успел раскланяться и перекинуться словцом по меньшей мере с пятью или шестью заметными представителями этого мира и своим оживленным и самоуверенным видом обратил на себя внимание и многих других. Каупервуд тем временем отдал распоряжение в Центральное акционерное кредитное общество, где он был пайщиком и одним из директоров, сообщить некоему Брюсу Толлиферу, проживающему в пансионе «Альков» на Пятьдесят третьей улице близ Парк авеню, чтобы он немедленно явился в отдел специальных расчетов, где ему будут даны инструкции в связи с возложенным на него поручением. Явившись в тот же день по этому вызову и получив аванс в размере месячного жалованья из расчета двести долларов в неделю, Толлифер почувствовал себя на седьмом небе. Он решил, что ему необходимо ознакомиться с биографией Каупервуда и в особенности с его жизнью в Нью-Йорке, и стал осторожно наводить справки не только среди журналистов и репортеров, но и среди всеведущих завсегдатаев шикарных ресторанов и кабачков на Бродвее и на Сорок второй улице — в «Джилси-Хаус», в «Мартинике», в «Морлборо», в «Метрополитене» — этой Мекке всяких светских бездельников и фланеров. Узнав, что Эйлин появляется иной раз в актерской компании в таком-то ресторане, на скачках или в других общественных местах, он решил, что для первого шага ему надо свести знакомство с кем-нибудь из ее приятелей: быть представленным ей по всем правилам — это будет самое успешное начало. Каупервуд, подыскав себе такого удачного агента для развлечения Эйлин, почувствовал, что у него развязаны руки. Теперь он мог спокойно заняться ликвидацией своих чикагских предприятий и постараться сбыть хотя бы некоторые из них. В то же время он ждал, чем кончатся переговоры Коула с представителями линии Чэринг-Кросс. Каупервуд считал, что ему незачем торопиться с этими лондонскими подрядчиками. Чем больше он с ними будет тянуть и водить их за нос, тем скорее он может рассчитывать на выгодные для себя условия. Поэтому, когда к нему явился Джеркинс и сообщил, что Гривс и Хэншоу очень хотели бы еще раз повидаться с ним, Каупервуд сделал вид, что это его мало интересует. Если бы это действительно было дельное предложение, а не просто болтовня, как в тот раз, тогда еще можно было бы подумать… Но если уж они так добиваются, пусть приезжают недельки через полторы, он будет посвободней… Джеркинс после этого разговора тут же телеграфировал своему лондонскому партнеру Клурфейну, что действовать надо немедленно. Через двадцать четыре часа мистер Гривс и мистер Хэншоу уже сидели в каюте на океанском пароходе, направлявшемся в Нью-Йорк. После своего приезда они провели несколько дней, запершись в кабинете с Джеркинсом и Рэндолфом, обсуждая условия предложения, с которым они могут явиться к Каупервуду. Договорившись о дне приема и нимало не подозревая, что все это подстроено самим Каупервудом, они предстали перед ним в сопровождении Джеркинса и Рэндолфа, которые, конечно, тоже не могли предположить, что Каупервуд заранее распределил все роли. Каупервуд был осведомлен, что Гривс и Хэншоу — крупные подрядчики по строительному делу, пользуются солидной репутацией у себя на родине. Это были довольно состоятельные люди, как сообщил ему Сиппенс. Сверх того контракта, который был заключен у них с Электротранспортной компанией на прокладку туннелей и постройку станций новой подземки, они недавно откупили у нее за тридцать тысяч фунтов стерлингов право на приобретение парламентской лицензии на все предприятие. По всей видимости, Электро-транспортная компания находилась сейчас в весьма затруднительном положении. В число ее акционеров входили Райдер, лорд Стэйн, Джонсон и еще кое-кто из их друзей. Все это были люди весьма солидные, сведущие во всяких юридических и финансовых тонкостях, однако никто из них не имел ни малейшего представления о том, как финансировать и каким образом поставить на ноги подобное предприятие; а своих средств для финансирования этого дела у них не было. Лорд Стэйн в свое время вложил крупные деньги в две центральные линии — Районную и Метрополитен, но они не приносили ему никаких доходов. Поэтому он и постарался отделаться от линии Чэринг-Кросс и уговорил компанию переуступить право собственности на нее Гривсу и Хэншоу за тридцать тысяч фунтов стерлингов сверх тех десяти тысяч, которые они внесли ранее за подряд на прокладку и оборудование туннелей. Естественно, что Каупервуд, имея в виду проект новой кольцевой линии, был совсем не прочь прибрать к рукам линию Чэринг-Кросс, которую можно было бы эксплуатировать самостоятельно, а в случае, если бы ему удалось захватить контроль над старыми линиями, — создать единую сеть, присоединив новую линию к старым. Словом, то была для него отличная зацепка. Но когда Гривс и Хэншоу, в сопровождении Джеркинса и Рэндолфа, которые положили немало труда, чтобы устроить это дело, явились к Каупервуду, в его контору, он встретил их довольно прохладно. Гривс, видный мужчина, рослый, цветущий, представлял собой типичный образец самоуверенного, самодовольного обывателя. Хэншоу — тоже высокий, но бледный, худой, производил впечатление человека более светского. Просмотрев планы и документы, которые они разложили перед ним на столе, и еще раз внимательно выслушав всю историю, как если бы он слышал ее впервые, Каупервуд задал им всего лишь несколько вопросов. — Допустим, джентльмены, я заинтересуюсь этим делом настолько, что мне желательно будет познакомиться с ним вплотную, — сказал он, — какой срок могли бы вы предоставить мне на ознакомление с ним? Ибо, если я вас правильно понял, вы предлагаете мне ваш контрольный пакет акций вместе с контрактом на постройку дороги, так или нет? Услышав это, Гривс и Хэншоу явно оторопели — ибо ничего подобного они и не думали предлагать. Они поспешили объяснить, что они предлагают ему купить за тридцать тысяч фунтов стерлингов половину акций. Остальные пятьдесят процентов и контракт на постройку они хотят удержать за собой. Но зато — как они наивно разъяснили ему — они готовы использовать свое влияние для сбыта акций достоинством по сто долларов, на общую сумму в восемь миллионов; акции эти были выпущены Электро-транспортной компанией, но она не имела возможности их распродать и уступила свою половину им. Они тут же добавили, что такой человек, как Каупервуд, несомненно сумеет поставить дело финансирования и эксплуатации дороги так, что она будет давать доход, на что Каупервуд только усмехнулся: его интересовала не постройка или эксплуатация новой линии, а контроль над всей сетью подземных железных дорог. — Насколько я понял из нашей беседы, вы должны получить изрядный доход от постройки дороги для вашей компании, не менее десяти процентов? — спросил Каупервуд. — Так или нет? — Мы рассчитываем на обычную при строительных подрядах прибыль, не более того, — ответил Гривс. — Допустим, — любезно заметил Каупервуд. — Но если я вас понял правильно, вы, джентльмены, рассчитываете выручить по меньшей мере пятьсот тысяч долларов на постройке дороги, не считая доходов, которые вы получите как пайщики той самой компании, для которой вы строите? — Но ведь за наши пятьдесят процентов мы обязуемся привлечь к делу кой-какие английские капиталы, — пояснил Хэншоу. — А сколько же именно? — осторожно спросил Каупервуд, тут же прикидывая мысленно, что если бы ему удалось заполучить пятьдесят один процент акций Чэринг-Кросс, так оно, пожалуй, стоило бы и подумать. Но, как он сейчас же выяснил из их ответа, они и сами еще не знали, какую сумму составит этот капитал. Если Каупервуд войдет в дело, возьмет на себя обязательство внести требуемый залог в государственных ценных бумагах и придать всему предприятию, так сказать, характер реальности, возможно, что двадцать пять процентов всех расходов покроется от продажи акций — публика будет покупать. — А можете вы гарантировать это? — поинтересовался Каупервуд. — Иначе говоря, согласны вы обусловить ваше участие в деле обязательством мобилизовать этот капитал, прежде чем получите акции? Нет, на это они не могут рискнуть… Но если окажется, что они не соберут требуемую сумму, тогда, может быть, им придется уступить, и они оставят за собой меньше пятидесяти процентов акций, ну, скажем, тридцать или тридцать пять процентов, но при условии, что подряд на постройку останется за ними. Каупервуд снова усмехнулся. — Меня вот что удивляет, джентльмены, — сказал он, — вы так хорошо осведомлены во всем, что касается инженерной, технической стороны дела, а финансовую сторону вы почему-то считаете пустяками. А на самом деле это совсем не так. Как вам пришлось много лет учиться, а потом долго работать, прежде чем вы достигли того положения и той репутации, которые дают вам возможность получать такие подряды, какие вы получаете теперь, — точно так же и мне, финансисту, пришлось проделать тот же путь. И напрасно вы думаете, что какой-либо предприниматель, каким бы капиталом он ни располагал, согласится выложить из своего кармана деньги на постройку и эксплуатацию такой крупной дороги. Нет такого человека, который пошел бы на это. Слишком велик риск. Любой финансист вынужден будет действовать совершенно так же, как собираетесь действовать вы: заставит других людей вложить свои капиталы. И ни один финансист не станет вам доставать денег ни на какое предприятие, прежде чем он не обеспечит в первую очередь прибыли для себя, а во вторую уже — для тех, чьи капиталы он вложит в это дело. А для того чтобы иметь такую возможность, он должен обеспечить себе значительно больше, чем пятьдесят процентов акций. Гривс и Хэншоу не нашлись, что ответить, и он продолжал: — А вы хотите не только, чтобы я вложил капитал, или во всяком случае большую часть требуемой суммы, что даст вам возможность собрать остальное, — вы хотите, чтобы я заплатил вам еще за постройку, а после всего этого эксплуатировал выстроенную на мои деньги дорогу совместно с вами. Если вы на это всерьез рассчитываете, разумеется, нам больше говорить не о чем, меня это не может заинтересовать. Я мог бы купить у вас ваш опцион,[31] за который вы заплатили тридцать тысяч фунтов стерлингов, если это передаст в мои руки контрольный пакет акций, и тогда, пожалуй, можно было бы оставить за вами ваш пай в десять тысяч фунтов стерлингов и контракт на постройку, — но никак не более. Ведь помимо всего этого, насколько я знаю, там еще гарантийных бумаг на шестьдесят тысяч фунтов, по ним тоже надо выплачивать четыре процента. Джеркинс и Рэндолф уныло молчали, чувствуя, что они чего-то не додумали в этом деле. А Гривс и Хэншоу растерянно смотрели друг на друга. Надо же было так промахнуться! Теперь они ничего не выгадали, только испортили все. — Хорошо, — вымолвил, наконец, Гривс, — вам, конечно, самому видней, как вам лучше поступить, мистер Каупервуд. Но нам желательно, чтобы вы знали, что более разумного предложения, чем наше, и представить себе нельзя. Для строительства подземной железной дороги лучше Лондона места не придумаешь. У нас нет единой подземной сети, и такие линии, как эта, безусловно, необходимы; их так или иначе будут строить, и деньги на это найдутся. — Возможно, — ответил Каупервуд, — но что касается меня, я предпочитаю подождать; если вы через некоторое время, взвесив и обсудив ваши возможности, убедитесь, что вам с этим делом не справиться, и пожелаете прибегнуть к моей поддержке, вы можете сообщить мне об этом письменно — и тогда посмотрим. Но я должен заранее сказать: вы можете рассчитывать на мое участие в этом деле только в том случае, если условия буду диктовать я. Разумеется, это не значит, что я собираюсь вмешиваться в ваши строительные работы или переписывать ваш контракт. Это, я думаю, может остаться так, как оно есть, при условии, конечно, что ваши сметы на оборудование окажутся удовлетворительными. Он замолчал и забарабанил пальцами по столу, словно желая показать, что разговор кончен; но когда англичане поднялись и стали прощаться, он прибавил: — Поскольку мы здесь ни до чего серьезного не договорились, я был бы вам весьма признателен, джентльмены, если бы этот наш сегодняшний разговор остался между нами. Затем он сделал знак Джеркинсу подождать и, когда все вышли, обратился к нему, резко повысив голос: — Вечная с вами история, Джеркинс, никогда вы не можете толком взяться за дело, которое само идет вам в руки. Ну вы только подумайте, что у нас здесь сегодня вышло! Вы приводите ко мне этих людей, которые, по вашим словам, и, как они сами говорят, имеют на руках такой крупный подряд на постройку метрополитена в Лондоне. Ведь если за это взяться с умом, то для каждого из нас такое предприятие могло бы принести неисчислимые выгоды. А эти люди являются ко мне, не имея ни малейшего представления о том, как я веду дела. Но ведь вы-то это прекрасно знаете: контроль, полный контроль должен быть безусловно в моих руках. Я не уверен, что они даже и сейчас поняли, какой у меня в этом смысле огромный опыт и как бы я мог развернуться, заполучив такой великолепный подряд. А они воображают, что я могу польститься на половину прибыли, а контролировать дело будут они со своими друзьями. Предупреждаю вас, Джеркинс, — тут Каупервуд метнул на него такой грозный взгляд, что у Джеркинса мороз пошел по коже, — если вы хотите быть мне полезным, бросьте канителиться без толку с этим дурацким предложением и потрудитесь представить мне подробные и исчерпывающие сведения о лондонской подземной сети и о том, какие там имеются возможности. А всякие ваши личные соображения по поводу меня и моих дел можете держать при себе. Если бы вы, прежде чем приводить этих людей ко мне, потрудились прокатиться в Лондон и выяснили на месте все, что о них требуется знать, вы бы не заставили ни меня, ни их терять даром время. — Да, сэр! — пробормотал Джеркинс. Это был толстенький рыхлый человечек лет сорока, одетый с щеголеватой изысканностью, словно модель с витрины, но сейчас от сильного волнения он весь обливался потом. У него были черные бегающие глазки, маленький острый носик и мягкие пухлые губы. Он вечно мечтал о какой-нибудь крупной и удачной афере, которая сразу сделает его архимиллионером и выдвинет в ряды знаменитостей, привлекающих взоры избранных посетителей премьер, спортивных матчей, собачьих выставок и прочих великосветских зрелищ. В Нью-Йорке и в Лондоне у него были весьма обширные знакомства. Каупервуд знал это и понимал, что Джеркинс ему еще может пригодиться; однако сейчас он не находил нужным раскрывать перед ним карты и ограничивался только намеками, полагая, что этого вполне достаточно, чтобы побудить Джеркинса броситься вдогонку за Гривсом и Хэншоу и постараться прийти с ними к соглашению. Пожалуй, он даже способен отправиться в Лондон, а если так… то в смысле рекламы лучшего агента и желать нечего.Глава 15
И действительно, не прошло и недели со дня отъезда мистера Гривса и мистера Хэншоу, как Джеркинс уже покатил вслед за ними в Лондон: его била лихорадка, до такой степени ему не терпелось стать непосредственным участником этой грандиозной авантюры, которая наконец-то принесет ему желанные миллионы. Хотя первый шаг, сделанный Каупервудом на пути к приобретению линии Чэринг-Кросс, иначе говоря его разговор с Гривсом и Хэншоу, не принес тех результатов, на которые он, казалось бы, рассчитывал, это отнюдь не поколебало его намерений; Сиппенс прислал ему достаточное количество весьма интересных сведений, и Каупервуд твердо решил добиться концессии на постройку подземной линии в Лондоне, даже в том случае, если у него ничего не выйдет с линией Чэринг-Кросс. В связи с этим у него дома происходили совещания, устраивались званые обеды, и у Эйлин создавалось впечатление, что супруг ее понемножку возвращается к прежнему образу жизни, к той прежней жизни в Чикаго, о которой у нее сохранились самые счастливые, самые яркие воспоминания. Она иногда спрашивала себя: а не могло ли так случиться, — мало ли чудес на свете! — что эта чикагская катастрофа подействовала на него отрезвляюще и ему захотелось вернуть, хотя бы внешне, прежние отношения с ней; и даже если она для него уже ровно ничего не значит, для нее это все-таки утешение. В действительности же Каупервуд с каждым днем все больше увлекался Беренис. Он с удивлением открывал в ней новые, неожиданные черты. На нее иногда находила какая-то шаловливость, когда она становилась способной на всякие озорные выдумки, а ее здравомыслие не мешало внезапным удивительным сменам ее прихотливых настроений, и это всякий раз восхищало Каупервуда. Однажды, еще в Чикаго, они поехали обедать в гостиницу, где они уже обедали несколько дней тому назад. Когда они вышли из саней, Беренис предложила ему пройтись в рощу, и там на опушке, среди усыпанных снегом сосенок и молодых дубков, он вдруг увидел вылепленную из снега фигуру, которая, когда они подошли ближе, оказалась чуть-чуть карикатурной, но совершенно точной копией его самого. Беренис нарочно приехала сюда рано утром и слепила этого снежного человека. Вместо глаз она вставила два блестящих голубовато-серых камешка, а нос и рот сделала из сосновых шишек, очень ловко подобрав их по форме и по величине. Еще накануне она стащила у Каупервуда одну из его шляп, и шляпа эта, лихо сдвинутая на затылок снежной фигуры, как-то особенно подчеркивала сходство с Каупервудом. Когда этот двойник внезапно вырос перед ним, среди деревьев, освещенный закатными лучами огненно красного солнца, Каупервуд даже вздрогнул от неожиданности. — Что это, Беви? Как это тебе пришло в голову? Да когда же ты успела это сделать, плутовка? — И он расхохотался. Снежный Каупервуд смотрел на него совсем как живой, прищурив глаз, и нос торчал у него необыкновенно внушительно. — Сегодня утром, — сказала Беренис. — Приехала сюда одна и вылепила моего милого человечка. — А здорово похоже на меня! — с удивлением заметил Каупервуд. — И долго ты возилась с этим чучелом? — Час наверно. Не больше. Она отступила на шаг и с гордостью посмотрела на свое творение. Затем, выхватив у Каупервуда трость, приставила ее сбоку к снежной фигуре, набалдашником к карману, который был изображен при помощи мелких камешков. — Посмотри, какой красавчик! Весь из снега, шишек и каменных пуговок. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала снежное чучело в губы. — Беви! Если ты хочешь целоваться… — Каупервуд схватил ее в объятья, и ему казалось, что он держит в руках какого-то лесного эльфа. — Беренис! Ты меня с ума сводишь! Признайся, ты дух лесной, колдунья или волшебница? — А ты не знал? И она откинулась и потянулась к его лицу обеими руками, раздвинув пальцы. — Я колдунья, да, да. И я могу обратить тебя в снег и лед. И, пристально глядя на него, она тянулась к его лицу тонкими пальцами. — Беренис!.. Что с тобой, брось дурить! А знаешь, мне кажется, ты сама заколдована. Но ты можешь колдовать надо мной, сколько угодно. Только… не покидай меня! И, крепко прижав ее к груди, он поцеловал ее. Но Беренис вырвалась из его объятий и снова подбежала к снежной фигуре. — Ну вот! — воскликнула она. — Ты все испортил. Оказывается, он — не настоящий. А я-то старалась сделать его совсем живым. Он был такой большой, холодный. И стоял здесь и ждал меня. А теперь надо его уничтожить, бедняжку, чтобы никто не видел его и не знал, кроме меня. И, схватив трость Каупервуда, она ударила ею со всего размаха и развалила фигуру. — Вот видишь: я тебя сотворила, и я же тебя и уничтожаю. И она, смеясь, разбрасывала снег своими затянутыми в перчатки ручками. А Каупервуд смотрел на нее с восхищением. — Ну, идем, Беви, радость моя! Как ты сказала? Ты меня сотворила, ты и уничтожаешь? Хорошо, я согласен, только не покидай меня. Ты знаешь, с тобой я словно переношусь в какие-то неведомые края, точно ты передо мной новый мир открываешь — чудесный, непонятный, твой собственный! И для меня это такое счастье — окунуться в него! Ты мне веришь, Беви? — Конечно, милый, конечно, — отвечала Беренис таким спокойным и рассудительным тоном, как будто она и не разыгрывала только сейчас этого представления со снежным чучелом. — Так ведь оно и должно быть. И так будет. Она взяла его под руку, и они пошли. У Каупервуда было впечатление, словно она только сейчас очнулась или вернулась на землю из какого-то своего, странного мира видений, и ему хотелось расспросить ее об этом мире, но его как будто что-то удерживало, — он чувствовал, что этого нельзя делать. И это чувство, а вместе с тем радостная уверенность, что вот она здесь, с ним, что он может осязать, видеть, слышать ее, что он в любую минуту может пойти к ней, вызывали у него чувство какого-то небывалого восторга, словно ему только теперь наконец-то открылось то, ради чего стоило жить. Да разве это может быть, чтобы он когда-нибудь захотел расстаться с ней? Никогда в жизни ему еще не приходилось сталкиваться с таким удивительно многообразным, таким необычайно изменчивым и вместе с тем рассудительным и трезвым, словом с таким необыкновенным существом! Несомненно, это артистическая натура. Мало ли всяких женщин перевидал он на своем веку, а все-таки ему еще никогда не попадалось такой блестящей, умной и обаятельной женщины. И даже в минуты самой интимной близости она неизменно вызывала у него чувство восхищенного удивления. Она не отдавалась ему безвольно, слабея и замирая в его объятьях, не подчинялась ему, пассивно уступая неистовству его мужской страсти, нет, она трепетала и загоралась в ответ и словно сама держала его в плену, властно завораживая его своими чарами — разметавшимся золотом огненных волос, влекущим взором синих потемневших глаз, сладостью поцелуя. И когда он потом, после бурных свиданий оставшись один, вспоминал эти чудесные минуты, у него было чувство, что это совсем не похоже на то, что он когда-либо переживал раньше. Это было не просто удовлетворение некоей физической потребности и не исступление страсти, а опять какой-то неведомый мир новых, головокружительных ощущений, который открывала ему волшебница Беренис.Глава 16
Предвидя, что ему придется как-то согласовать с Толлифером дальнейший план действий в отношении Эйлин, Каупервуд решил объявить ей, что он недели через две предполагает отправиться в Лондон и что если ей хочется, она может поехать с ним. А затем он сообщит об этом Толлиферу и пусть тот уж сам придумывает, как лучше занять и развлечь Эйлин, чтобы она не изводила себя, как это было до сих пор, не огорчалась, непрестанно думая о том, что муж ее не любит. Каупервуд был сейчас в самом радужном настроении. Наконец, после стольких лет тягостного разрыва, он нашел способ облегчить ее жизнь, успокоить ее и создать какую-то видимость мирных отношений. Когда он вошел к ней, помахивая тростью, такой цветущий, сияющий, уверенный, с гарденией в петличке, в серой шляпе, в серых перчатках. Эйлин пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить невольную радостную улыбку, которой он, по ее мнению, не заслуживал. Он сразу стал рассказывать ей о своих делах. А читала она сегодня газеты? Обратила внимание, что один из его самых заклятых чикагских врагов только что отдал богу душу? Туда ему и дорога — одной занозой меньше! А что у них сегодня на обед? Хорошо бы заказать Адриану морской язык под соусом маргери, если, конечно, не поздно. Да, он ужасно занят, никак не развяжется с делами. Ездил в Бостон, в Балтимор, а на днях придется ехать в Чикаго. А насчет этого лондонского дела… он уже кое-что нащупал, и, вероятно, в ближайшем будущем придется ему плыть в Англию. Не хочет ли она с ним прокатиться? Конечно, он там будет очень занят, но она может поехать в Париж или в Биарриц, а под воскресенье он к ней будет приезжать на отдых. У Эйлин от радости глаза загорелись. Она даже рванулась к нему со стула, но тут же вспомнила, какие у нее отношения с мужем, и, сдержавшись, откинулась назад. Она столько натерпелась от него, столько видела всяких предательств и обмана, что теперь не решалась ему поверить. Но не лучше ли все-таки сделать вид, что она верит? — Ну что ж, — сказала она. — А ты правда хочешь, чтобы я поехала с тобой? — Зачем бы я стал тебе предлагать, если бы не хотел? Разумеется, хочу. Мне сейчас, видишь ли, предстоит сделать очень серьезный шаг. И он может для меня обернуться очень удачно, а может и нет. Но как бы то ни было, — тут Каупервуд, следуя своему излюбленному правилу, прибегнул к спасительной лжи, не постыдившись сыграть на самых заветных, самых сокровенных чувствах Эйлин, — ведь ты была со мной оба раза, когда я начинал первое и второе свое предприятие, мне кажется, ты должна быть со мной и на этот раз, когда я задумал третье. Разве не правда? — О да, Фрэнк! Если это так, как ты говоришь, я хочу быть с тобой. Это будет просто замечательно. Я буду готова, как только ты скажешь. Когда мы поедем? Каким пароходом? — Я скажу Джемисону, он все узнает, что надо, и тогда я дам тебе знать. Эйлин подошла к двери и позвонила Карру, чтобы распорядиться насчет обеда. Она точно ожила. На нее вдруг пахнуло прежней жизнью, когда она делила с Каупервудом его могущество, его успех. Она тут же приказала Карру достать чемоданы и осмотреть их. А Каупервуд выразил желание навестить тропических птиц, которых он привез для оранжереи. И он предложил Эйлин пойти вместе. Эйлин, вся сияя, направилась с ним в оранжерею и смотрела на него не сводя глаз, пока он возился с двумя резвыми попугаями с Ориноко и подсвистывал им, стараясь раззадорить самца, чтобы услышать его пронзительный крик. Внезапно он обернулся к Эйлин и сказал: — Видишь ли, Эйлин, я всегда мечтал сделать из этого дома настоящий музей. Я и сейчас покупаю кое-что и уверен, что когда-нибудь это будет одна из самых замечательных частных коллекций. Последнее время я много думал, как бы это мне с тобой уладить, чтобы после моей смерти, — ведь рано или поздно, а придется все же помереть, — дом этот сохранился не просто как память обо мне, а доставлял бы какую-то радость людям, которые любят такие редкости. Я собираюсь составить новое завещание — и вот надо подумать, как бы это внести туда. На лице Эйлин выразилось удивление. С чего это ему пришло в голову? — Мне вот-вот исполнится шестьдесят, — спокойно продолжал он, — и хотя я еще пока не собираюсь умирать, все-таки нужно как-то привести дела в порядок. В число моих душеприказчиков — их всего будет пять — я хочу включить Долэна из Филадельфии, мистера Коула и затем Центральное акционерное кредитное общество. Долэн и Коул превосходно разбираются в финансовой и формально-юридической стороне дела, и они сумеют выполнить все мои распоряжения. Но так как я собираюсь оставить тебе этот дом в пожизненное пользование, я думаю, не назвать ли мне и тебя вместе с Долэном и Коулом, и тогда ты сможешь либо сама открыть дом для посещений публики, либо позаботиться о том, чтобы это было сделано со временем. Мне приятно сознавать, что он радует своей красотой, и мне хочется, чтобы он остался таким же и после моей смерти. Эйлин слушала его, взволнованная, гордая. Чем объяснить такое серьезное отношение к ней, да еще в таком важном деле? Она была польщена и обрадована. Может быть, он и правда несколько образумился и стал ко всему относиться серьезней? — Ты знаешь, Фрэнк, — сказала она, пытаясь как-то совладать со своими чувствами, — я всегда очень близко принимаю к сердцу все, что тебя касается, даже всякую мелочь. У меня, в сущности, никогда не было никакой жизни помимо тебя — да мне и сейчас без тебя ничего не надо, хотя ты-то, конечно, теперь чувствуешь совсем по-другому. Так вот, то, что ты говорил насчет дома, — оставишь ли ты его мне, или сделаешь меня одним из твоих душеприказчиков, — ты можешь быть совершенно спокоен, я ничего не изменю, все будет сделано так, как ты хочешь. Я никогда не старалась показать, что я разбираюсь в таких вещах, что у меня такой вкус, как у тебя, твое понимание, но ты можешь быть уверен, что твое желание для меня свято. Каупервуд, слушая это признание Эйлин, тыкал пальцем в зеленовато-оранжевого попугая макао, который своим пронзительным криком и яркой пестрой окраской, казалось, потешался над этой глубоко прочувствованной сценой. Но Каупервуд в самом деле был растроган словами Эйлин, он повернулся к ней и потрепал ее по плечу. — Я знаю это, Эйлин. Ведь мне всегда только одного и хотелось, чтобы мы с тобой могли смотреть на жизнь одинаково, одними глазами. Но так как это у нас не получается, я, сколько могу, готов пойти тебе навстречу, потому что я знаю: что бы там ни было, ты все-таки привязана ко мне и будешь привязана до конца жизни. И мне, веришь ты этому или нет, всегда хочется отплатить тебе за это всем, чем я могу. И вот отсюда и этот наш сегодняшний разговор о завещании; есть и еще кое-что, о чем я хотел бы с тобой поговорить. За обедом он рассказал Эйлин об одном своем проекте — ему хочется построить хорошую больницу и оборудовать ее всякими исследовательскими лабораториями, и вообще он давно подумывает вложить деньги в кое-какие благотворительные учреждения. Поэтому ему придется частенько наведываться в Нью-Йорк, и ему было бы удобно, если бы она жила здесь, чтобы он всегда мог приехать к себе домой. Ну, разумеется, от времени до времени и она тоже может прокатиться за границу. И видя Эйлин такой довольной и веселой, Каупервуд мысленно поздравлял себя со столь благополучным разрешением своих семейных дел. Как ловко ему удалось уговорить ее. Ну, если у них и дальше так пойдет, тогда, можно сказать, все превосходно.Глава 17
Мистер Джеркинс, приехав в Лондон, немедленно отправился к своему партнеру Клурфейну сообщить ему сногсшибательную новость, что великий Каупервуд, по-видимому, серьезно интересуется лондонской подземкой — и в самом широком масштабе. Он подробно пересказал ему все, что говорил Каупервуд, и сокрушенно покачивал головой, удивляясь, как это они с ним попали впросак и не сообразили, что для такого крупного воротилы, конечно, не может быть никакого интереса возиться с какой-то одной маленькой веткой. И смешно даже и подумать, что Гривс и Хэншоу вообразили, будто его можно прельстить половинным паем в их предприятии. Да лучше бы они и не заикались об этом, меньше пятидесяти одного процента пая даже и предлагать нечего. Ну, а как все-таки полагает Клурфейн, удастся Гривсу и Хэншоу раздобыть денег в Англии на эту их линию? Клурфейн, тучный, жирный голландец, весьма пронырливый во всяких мелких делишках, был абсолютно лишен какого бы то ни было чутья и догадки в делах, требующих широкого размаха и смелости. — Да нет! Где им! — отвечал он не задумываясь. — У нас здесь уйма этих контрактов. Столько всяких компаний грызутся между собой из-за одной какой-нибудь ничтожной линии. И ни одна не хочет объединиться с другой и обеспечить публику удобным сквозным транспортом, чтобы люди могли ездить куда им надо за доступную плату. Я ведь это все на себе испытал. Сколько уж лет приходится колесить по Лондону из конца в конец. Да вы сами подумайте, — у нас на весь Лондон всего-навсего две линии — Метрополитен и Районная. Обе они охватывают только деловой центр… — и он очень подробно начал объяснять Джеркинсу всю непрактичность и нецелесообразность подобной системы и все проистекающие отсюда неудобства и убытки. — И ведь вот до сих пор не могут раскачаться — ни проложить новые линии, ни хотя бы переоборудовать и электрифицировать старые. Так и ходят эти паровички, где в туннелях, а где прямо по насыпи. Единственная компания, которая строила хоть с каким-то соображением, это акционерная компания Сити — Южный Лондон, — она выстроила линию от центра до Клэфем-Коммон и пустила по ней электрические поезда с третьим рельсом; светло, чисто, поезда ходят бесперебойно; но это единственная хорошо обслуживаемая ветка. И опять-таки она слишком коротка; людям приходится пересаживаться и еще раз платить за проезд по кольцу. Да, Лондону, конечно, нужен именно такой человек, как Каупервуд; ну, разумеется, и свои английские капиталисты тоже могли бы кое-что сделать, если бы они только сговорились между собой, вложили бы сообща деньги и как следует переоборудовали и расширили сеть. Ну, а что касается новых линий, на которые Каупервуд мог бы получить концессию, — вот, к примеру сказать, был такой проект у одного лондонца, некоего Эбингтона Скэрра. Он получил подряд на постройку подземной линии от Бейкер-стрит до Ватерлоо, но вот уж прошло что-то около полутора лет, и ничего до сих пор так и не сделано. Ходят слухи, что Районная тоже собирается строить новые ветки. Да, как видно, ни там, ни здесь нет капитала. — И я так полагаю, — заключил Клурфейн, — что если Каупервуд действительно захочет получить Чэринг-Кросс, он сможет этого добиться без особого труда. Электротранспортная компания уже два года назад отказалась финансировать это дело. Подряд перешел в руки к этим инженерам, но, насколько мне известно, у них, кроме вот этих переговоров с Каупервудом, никаких других видов или возможностей нет и не было. Да ведь они, в сущности говоря, даже и не специалисты по транспорту, и если им не посчастливится найти подходящего человека, да с таким капиталом, как у Каупервуда, сомневаюсь, что они когда-нибудь вообще смогут осилить это дело. — Так что на этот счет можно пока не беспокоиться? — заметил Джеркинс. — Да, я полагаю, что так, — важно подтвердил Клурфейн. — Но, пожалуй, нам следовало бы связаться кой с кем из акционеров, которые владеют двумя главными кольцевыми линиями — Районной и Метрополитен, — или потолковать со здешними банкирами на Трэднидл-стрит, может у них что-нибудь и удастся выведать. Вы знаете Кроушоу, фирму «Кроушоу и Воукс»? Они пытались раздобыть денег для Гривса и Хэншоу с тех самых пор, как те получили подряд. Но так, разумеется, ничего из этого и не вышло, так же как и у Электро-транспортной компании ничего не вышло еще до них. Слишком им много требуется. — Электро-транспортная? — переспросил Джеркинс. — Это та самая компания, которая первой получила концессию на эту линию? А что там за публика? Клурфейн, сразу оживившись, стал припоминать все, что он слышал и знал об этой компании. Это было далеко не все, что уже успел разнюхать Сиппенс, но тем не менее оказалось весьма интересным для обоих. Клурфейн называл имена — Стэйна, Райдера, Бэллока и Джонсона. Главную роль играли Джонсон и Стэйн. Они первые выдвинули проект линии Чэринг-Кросс — Хэмпстед. Стэйн, крупный акционер в компаниях Районной и Сити — Южный Лондон, принадлежал к самой верхушке английского аристократического общества. Джонсон, поверенный Стэйна и вместе с тем юрисконсульт Районной и Метрополитен, входил пайщиком в ту и в другую компании. — А почему бы нам не попытаться потолковать с этим Джонсоном? — спросил Джеркинс, который после жестокой взбучки от Каупервуда старался теперь вытянуть из Клурфейна все, что можно. — Такой человек должен быть хорошо осведомлен. Клурфейн стоял у окна и поглядывал на улицу, но тут он сразу повернулся и уставился на Джеркинса. — Блестящая идея! — воскликнул он. — В самом деле? Почему нет? Только вот… — он запнулся и опасливо покачал головой. — А удобно это будет? Ведь мы с вами, сколько я понимаю, не имеем полномочий действовать от имени Каупервуда? Вы же, кажется, сами сказали, что он только потому согласился выслушать Гривса и Хэншоу, когда они приезжали в Нью-Йорк, что мы с вами его об этом просили? Ведь он, собственно, нам никаких поручений в связи с ними не давал? — А мне думается, все-таки недурно было бы пощупать этого Джонсона, — возразил Джеркинс. — Мы можем ему от себя сказать, что вот, например, Каупервуд или там какой-нибудь другой известный американский миллионер интересуется подземными дорогами и в частности проектом расширения лондонской подземной сети, и тут можно будет ввернуть и насчет Чэринг-Кросс — мол если бы их компания взяла эту линию снова полностью в свои руки, ее можно было бы выгодно перепродать американцу. А мы с вами, если бы нам удалось их свести, здорово заработали бы, — подумайте-ка, комиссионные на этаком деле! А если нам еще посчастливится скупить акции, да перепродать их той же Электро-транспортной компании или Каупервуду, тогда уж мы совсем закрепимся в этом предприятии в качестве агентов по покупке и перепродаже. Ну как же упускать такую возможность? — Н-да, это, конечно, неплохая идея, — заметно оживляясь, подхватил Клурфейн. — А что, если я сейчас попробую позвонить ему? Он пошел в смежную комнату и уже совсем было взялся за трубку, но остановился и вопросительно взглянул на Джеркинса: — Я думаю, всего проще попросить его принять нас для консультации. Скажем, что у нас тут такой сложный финансовый вопрос, который нельзя изложить по телефону. Он подумает, что это платный совет, ну и пусть думает, пока мы ему не объясним, в чем дело. — Очень хорошо, — сказал Джеркинс. — Ну, звоните же. После весьма неопределенного и в высшей степени осторожногоразговора Клурфейн положил трубку и объявил: — Может принять нас завтра, в одиннадцать. — Великолепно! — воскликнул Джеркинс. — Полагаю, мы теперь с вами на верном пути. Во всяком случае это какое-то движение. И даже если он сам не заинтересуется, он может нам указать, к кому обратиться. — Правильно. Совершенно правильно, — поддакнул Клурфейн, который в эту минуту думал только о том, как бы сорвать побольше, ибо ему по заслугам несомненно причитается львиная доля в этой заманчивой афере. — Я очень рад, что мне это пришло в голову. Тут может такое дело развернуться, каких нам с вами до сих пор еще не перепадало. — Верно, верно! — подхватил ему в тон Джеркинс, вполне разделяя воодушевление своего партнера, но втайне сожалея, что не обошелся без его участия. Ибо Джеркинс воображал себя не только мозгом, но и движущей силой этой замечательной комбинации.Глава 18
Контора фирмы «Райдер, Бэллок, Джонсон и Чэнс», так же как и контора лорда Стэйна, помещалась в одном из самых темных закоулков Стори-стрит, примыкавшей к зданиям адвокатских корпораций. Сказать по правде, весь этот квартал, если не считать зданий адвокатских корпораций, показался бы всякому американцу весьма неподходящим местом для конторы столь солидных и прославленных юристов Англии. Маленькие, неоднократно перестраивавшиеся трех — или четырехэтажные домики, где прежде ютились какие-то склады и мелкие торговые заведения, преобразились теперь в служебные и приемные кабинеты, в архивы и библиотеки. Здесь помещалось около дюжины юристов со всеми своими стенографистками, клерками, посыльными и прочими служащими. Стори-стрит была до того узка, что по тротуару вряд ли можно было пройтись по-приятельски под руку, а на мостовой, пожалуй, могли разъехаться две ручные тележки, но уж никак не два более солидных экипажа. И однако в этот тесный проход с утра устремлялся поток рабочих и всякого иного люда, потому что здесь вы срезали наискосок и попадали прямо на Стрэнд и в другие близлежащие кварталы. Фирма «Райдер, Бэллок, Джонсон и Чэнс» занимала все четыре этажа дома N33 по Стори-стрит. Фасад дома был шириной не более двадцати трех футов, но корпус его, длиной в пятьдесят футов, скрывался в глубине двора. В нижнем этаже, некогда приемной и гостиной жившего здесь в полном уединении весьма необщительного старого судьи, помещались теперь общая приемная и архив. Лорд Стэйн занимал небольшой кабинет в глубине бельэтажа. Во втором этаже находились кабинеты трех главных представителей фирмы — Райдера, Джонсона и Бэллока. Чэнс со своими многочисленными помощниками занимал весь третий этаж. Контора Элверсона Джонсона, в самой глубине второго этажа, выходила окнами на крохотный мощеный дворик, который некогда был частью старинного римского двора, но величие этой древности стало чересчур привычным и утратило свой блеск для тех, кому приходилось созерцать его изо дня в день. Никакой подъемной машины — или лифта, как говорят англичане, — в доме не было. Большая вытяжная труба поднималась из середины второго этажа и выходила на крышу. В каждом кабинете в стене были по-старинному проделаны отдушники, которые, как предполагалось, способствовали очищению воздуха. Кроме того, в каждом кабинете был камин, который в туманные, ненастные зимние дни топили сырым каменным углем, отчего необыкновенно уютная атмосфера этого удобного помещения становилось еще более уютной. В кабинете у каждого поверенного стояли большие добротные письменные столы и стулья, а над камином красовалась мраморная полка, уставленная книгами и статуэтками. На стенах висели потускневшие изображения давно закатившихся светил английской юриспруденции или какие-нибудь бледные английские пейзажи. Джонсон, весьма влиятельный компаньон фирмы, успешно продвигающийся на финансовом поприще, был прежде всего человек практический; он вел дела независимо от своих компаньонов и в большинстве случаев действовал вполне самостоятельно, руководствуясь главным образом своими собственными интересами. Однако в каком-то маленьком уголке его сознания оставалось место и для отвлеченных размышлений — он интересовался вопросами религии и даже сочувствовал распространению нонконформистских догматов. Он любил рассуждать о лицемерии и духовном убожестве англиканской церкви, а также не только о земном, но и о небесном величии таких знаменитых сектантов, как Джон Нокс, Уильям Пенн, Джордж Фокс и Джон Уэсли. В его чрезвычайно запутанном и странном представлении о мире уживались самые противоречивые и даже, казалось бы, совершенно несовместимые понятия. Он считал, что в мире должен существовать правящий класс, которому надлежит господствовать и преуспевать при помощи необходимой и желательной, если даже и не всегда заслуживающей оправданья, тонкой хитрости. Поскольку в Англии этот класс уже опирается на законы о собственности, о наследовании, о первородстве, следовательно это и надлежит считать самым существенным, правильным и непреложным. Поэтому нищим духом, а равно и достоянием, не остается ничего другого, как смирение, послушание, труд и вера в отца небесного, который, надо полагать, в свое время как-то позаботится о них. С другой стороны, огромная пропасть между не всегда бесталанной бедностью и незаслуженным богатством казалась Джонсону чем-то жестоким и даже греховным. Это мировоззрение поддерживало в нем самые нетерпимые религиозные настроения, которые иной раз доходили до ханжества. Выходец из низов, из среды обездоленных и униженных, Джонсон всю жизнь стремился пробраться поближе к верхушке, где если не он, так его дети — два сына и дочь — обретут незыблемое благополучие, как и те люди, которыми он так восхищался, но которых в то же время и порицал. Для себя он мечтал не более и не менее как о титуле: для начала получить скромного «сэра», а если судьба будет благоприятствовать, это впоследствии поможет ему снискать и более существенные знаки королевского внимания. Но чтобы достичь этого, как он хорошо понимал, требовалось располагать не только гораздо более значительным капиталом, чем был у него сейчас, но и благоволением тех, кто уже обладает и деньгами и титулами. Поэтому, желая угодить им, он инстинктивно направлял свою деятельность на благо и процветание этой привилегированной верхушки. Он был маленький, но очень выносливый, держался важно и внушительно. Отец его, плотник из Саутворка, пропивал свой заработок и приносил домой гроши, на которые едва можно было прокормить семью в восемь человек. Джонсон совсем мальчишкой нанялся в услужение к пекарю, развозить хлеб по домам. Один из клиентов, типографщик, оценив старательность подростка, взял его к себе на посылки, обучил грамоте и посоветовал ему подыскать себе какое-нибудь выгодное занятие, которое даст ему возможность выбиться из нищеты и стать на ноги. Джонсон показал себя способным учеником. Развозя прейскуранты и объявления разным коммерсантам и предпринимателям, он познакомился с неким молодым поверенным, Лютером Флетчером, который, баллотируясь в члены совета Лондонского графства, проводил выборную кампанию в Саутворке и неожиданно обнаружил в юном Джонсоне задатки будущего юриста. Любознательный и смышленый юноша так заинтересовал Флетчера, что тот отправил его в вечернюю юридическую школу. С той поры дела Джонсона пошли в гору. Фирма, в которую он впоследствии поступил клерком, не замедлила убедиться в его исключительном юридическом чутье; вскоре ему стали поручать всякую подготовительную работу по разным правовым вопросам, с которыми фирме приходилось сталкиваться: контракты, документы на право владения, завещания, учреждение компаний. Двадцати двух лет он сдал все полагающиеся экзамены и получил звание поверенного. Год спустя он познакомился с мистером Чэнсом из адвокатской конторы «Бэллок и Чэнс» и через некоторое время получил от них предложение — вступить компаньоном в их фирму. Бэллок, у которого были обширные знакомства среди адвокатов, практикующих в суде, дружил с неким Велингтоном Райдером. У Райдера были, пожалуй, еще более влиятельные связи, чем у Бэллока. Он вел дела многих крупных землевладельцев, в том числе и лорда Стэйна, а кроме того, состоял юрисконсультом в акционерной компании Районной подземной дороги. Райдер тоже оценил Джонсона по достоинству и подумывал даже переманить его от Бэллока. Однако кой-какие личные соображения, а также и дружба с Бэллоком побудили его прибегнуть к другому способу, который давал ему возможность пользоваться услугами Джонсона. Потолковав с Бэллоком, он вошел компаньоном в их фирму, и с тех пор это содружество юристов существовало уже десять лет. Вместе с Райдером в фирму вступил лорд Гордон Родерик Стэйн, старший сын пэра Англии графа Стэйна. Стэйн к этому времени только что окончил Кембридж, и отец его полагал, что этого вполне достаточно для старшего отпрыска, чтобы стать достойным преемником отцовского титула, главой знатного рода и наследником родовых поместий. Но молодой человек был не без странностей, он отличался несколько беспокойным характером и интересовался далеко не столь историческими, а гораздо более практическими жизненными вопросами. Он вступил в жизнь в ту пору, когда блеск финансовых светил стал не только состязаться с блеском и величием титула, но сплошь и рядом совершенно затмевать его. В Кембридже Стэйн увлекался политической экономией, социологией и прочими политическими науками и даже не прочь был послушать и социалистов фабианской школы, отнюдь не утрачивая при этом прочной уверенности в своих неоспоримых наследственных правах. Познакомившись с Райдером, чьи интересы были целиком поглощены деятельностью крупных акционерных компаний, дела которых он вел, Стэйн очень быстро усвоил его трезвый практический взгляд на вещи, — Райдер не сомневался, что будущее принадлежит финансистам. Мир нуждается в увеличении материальных и технических средств — и финансист, который посвятит себя этому делу и удовлетворит этот спрос, будет, несомненно, главной движущей силой в развитии общества. Проникнувшись этими убеждениями, Стэйн засел за изучение английского права в применении к практике крупных акционерных компаний. Фирма «Райдер, Бэллок, Джонсон и Чэнс» оказалась как нельзя более подходящей для практического освоения этой науки. Ближе всего Стэйн сошелся с Элверсоном Джонсоном. Он ценил в нем проницательного дельца, который, выбившись из самых низов, твердо и решительно поднимается по общественной лестнице, поставив себе целью достигнуть высших ступеней. Джонсон, в свою очередь, почитал в лице Стэйна обладателя и наследника всяких общественных и материальных благ, который, однако, считает нелишним для себя приобрести кой-какие полезные знания и найти им практическое применение в жизни. Оба они — и Джонсон и Стэйн — с самого начала угадали, какие широкие перспективы и богатые возможности сулит развитие подземного железнодорожного транспорта в Лондоне. Их интерес к этому делу выразился не только в учреждении Электро-транспортной компании, в которой они составляли основное ядро; они горячо поддерживали проект постройки линии Сити — Южный Лондон, привлекли к этому делу кой-кого из своих друзей и сами вложили в него немало денег в расчете на то, что новую линию можно будет присоединить к двум старым линиям — Метрополитен и Районной, — обслуживающим деловой центр Лондона. Подобно Демосфену, взывавшему к афинянам, Джонсон взывал к английским капиталистам и старался убедить их, что человек, который найдет капитал на то, чтобы скупить акции этих двух линий, и обеспечит себе контрольный пакет, может считать себя полным хозяином всей подземной сети и распоряжаться лондонским метро как ему вздумается. После смерти отца Стэйн кое с кем из своих друзей и Джонсоном пытался скупить акции Районной подземной дороги, надеясь таким образом заполучить в свои руки контроль над обеими линиями; но эта затея оказалась им не под силу. Слишком много акций разошлось по рукам, и скупить все у них не хватило капитала. Атак как эксплуатация дороги была поставлена скверно и акции не приносили дохода, они постарались сбыть их с рук и перепродали большую часть того, что купили. Что же касается линии Чэринг-Кросс, с целью постройки которой они и организовали Электро-транспортную компанию, то и здесь им не удалось собрать требуемую сумму или распродать выпущенные ими акции, чтобы получить в руки необходимый для постройки капитал, а именно миллион шестьсот шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. В конце концов они привлекли к этому делу Гривса и Хэншоу, рассчитывая найти сих помощью какого-нибудь капиталиста или группу предпринимателей, которые перекупили бы у них линию Чэринг-Кросс или, объединившись с ними, помогли им осуществить их давнишнюю мечту: захватить в свои руки всю центральную сеть, то есть линии Метрополитен и Районную. Однако до сих пор ничего из этого не получилось. Джонсону тем временем стукнуло уже сорок семь лет, а лорду Стэйну — сорок. Оба они успели значительно охладеть к этому делу, ибо у них уже не было никакой уверенности в том, что им удастся осуществить эту грандиозную затею.Глава 19
Таково было положение вещей, когда мистер Джеркинс и мистер Клурфейн явились в контору Элверсона Джонсона, дабы получить у него консультацию по весьма важному вопросу. Они начали с того, что дело их якобы непосредственно касается мистера Гривса и мистера Хэншоу, которые — как, вероятно, хорошо известно мистеру Джонсону — только что ездили в Нью-Йорк, где вели переговоры с клиентом их фирмы мистером Фрэнком Каупервудом, — имя, разумеется, хорошо известное мистеру Джонсону. Джонсон подтвердил, что он кое-что о нем слышал. А чем, в сущности, он может быть полезен джентльменам? День был солнечный, чудесный весенний день, какие не часто выпадают в Лондоне. Солнце ярко светило на выщербленный древнеримский дворик. Джонсон, когда они вошли, перебирал пачки документов, относившихся к тяжбе с компанией дороги Сити — Южный Лондон. Он был в отличном расположении духа — хороший солнечный денек, акции Районной немножко поднялись, а его речь, с которой он выступил накануне в методистской лиге Эпворта, весьма одобрительно упоминалась сегодня в двух или трех утренних газетах. — Я постараюсь быть как можно более кратким, — начал Джеркинс. На нем был серый костюм, серая шелковая сорочка, яркий, белый с синим, галстук, котелок «дерби» и в руках трость. Он уже успел очень внимательно оглядеть Джонсона и решил про себя, что разговор с этим типом — дело нелегкое. Хитрая бестия этот Джонсон, сразу видно. — Вы, разумеется, понимаете, мистер Джонсон, — продолжал Джеркинс с вкрадчивой и многозначительной улыбочкой, — что мы явились к вам без каких бы то ни было полномочий от мистера Каупервуда, но я смею думать, что, невзирая на это, вы сумеете оценить всю важность нашего визита. Как вы, конечно, хорошо знаете, Гривс и Хэншоу связаны с Электро-транспортной компанией, где вы, насколько мне известно, состоите поверенным. — Одним из поверенных, — осторожно вставил мистер Джонсон. — Но компания уже давно не прибегала к моим советам. — Так, так! — продолжал, не смутясь, Джеркинс. — Тем не менее, полагаю, вас это должно интересовать. Дело, видите ли, в том, что именно наша фирма явилась посредником при переговорах, состоявшихся между Гривсом и Хэншоу и мистером Каупервудом! Как вам известно, мистер Каупервуд располагает весьма солидным капиталом. Он финансировал в Америке всевозможные виды транспорта. Говорят, он реализовал свои чикагские предприятия по меньшей мере на сумму в двадцать миллионов долларов. Услышав эту приятную цифру, мистер Джонсон насторожился. Транспорт — это транспорт, будь то в Чикаго, Лондоне или еще где-либо. И человек, который сумел выжать из него двадцать миллионов долларов, надо полагать, хорошо разбирается в этом деле! Джеркинс сразу заметил, что попал в точку. Но мистер Джонсон постарался сделать вид, что его это мало интересует. — Возможно, — сухо отвечал он, — но я не понимаю, какое это может иметь отношение ко мне? Не забывайте, что я всего лишь один из поверенных Электро-транспортной компании и не имею ни малейшего касательства ни к мистеру Гривсу, ни к мистеру Хэншоу. — Но вы имеете касательство к лондонской подземной сети, так я, по крайней мере, слышал от мистера Клурфейна, — настойчиво продолжал Джеркинс. — Иначе говоря, — дипломатично добавил он, — вы являетесь представителем людей, заинтересованных в развитии подземного транспорта. — Действительно, мистер Джонсон, — вмешался молчавший до сего времени Клурфейн, — я взял на себя смелость сообщить мистеру Джеркинсу, что ваше имя нередко упоминается в газетах и что на вас обычно ссылаются как на представителя акционерных компаний Метрополитен, Районной, Сити — Южный Лондон и Центральной Лондонской. — Правильно, — холодно и невозмутимо отвечал Джонсон. — Как юрист я действительно являюсь представителем этих компаний. Но я что-то не совсем ясно понимаю, что, собственно, вы от меня хотите. Если речь идет о покупке или продаже чего-либо, связанного с линией Чэринг-Кросс — Хэмпстед, вам, конечно, надо было обратиться не ко мне. — Я попрошу вас уделить мне еще минутку внимания, — не унимался Джеркинс, наклоняясь всем корпусом к Джонсону. — Дело, видите ли, вот в чем. Мистер Каупервуд в настоящее время ликвидирует все свои чикагские транспортные предприятия, и, как только он с этим покончит, у него не будет никаких дел. Но не такой это человек, чтобы сидеть сложа руки. Он поставил транспортное дело в Чикаго и проработал в этой области больше двадцати пяти лет. Я отнюдь не хочу сказать, что он ищет, куда бы ему вложить капитал. Мистер Гривс и Хэншоу убедились, что это не так. А свели их с Каупервудом мы, наша фирма, «Джеркинс, Клурфейн и Рэндолф». Мистер Клурфейн является главой нашего отделения в Лондоне. Джонсон кивнул; теперь он уже слушал внимательно. — Разумеется, — продолжал Джеркинс, — ни мистер Клурфейн, ни я ни в какой мере не уполномочены говорить от лица мистера Каупервуда. Однако мы считаем, что существующее сейчас положение с лондонским транспортом таково, что если надлежащее лицо осведомит о нем должным образом мистера Каупервуда, это может повести к весьма и весьма ценным результатам для всех, кто заинтересован в деле. Ибо мне совершенно точно известно: мистер Каупервуд отклонил предложение насчет линии Чэринг-Кросс отнюдь не из тех соображений, что она не окупит себя, а только потому, что ему не предложили пятьдесят один процент акций, — то, с чего он привык начинать. Кроме того, ему, разумеется, показалось, что это очень небольшая ветка, которая в целой системе никакого серьезного значения иметь не может, ее можно эксплуатировать как небольшое обособленное предприятие, и только. А мистера Каупервуда можно заинтересовать не иначе как всей сетью городского транспорта в целом. — И тогда я попросил мистера Клурфейна, — в голосе Джеркинса появился льстивый оттенок, — познакомить меня с таким человеком, который, будучи более других осведомлен в данном вопросе, мог бы оценить, сколь исключительно важно заинтересовать в этом деле мистера Каупервуда. Ибо если мы правильно разбираемся в положении вещей, — тут он вперил в Джонсона многозначительный взгляд, — вашу подземную сеть давно пора объединить и поставить на уровень современной техники, а мистер Каупервуд, как это все знают, истинный гений по части всякого транспорта. Он скоро должен быть в Лондоне. И мы считаем своим долгом подготовить почву для того, чтобы он мог встретиться и потолковать с таким человеком, который мог бы его убедить, что он в Лондоне просто необходим, что здесь действительно нуждаются в нем. — И если вы, мистер Джонсон, сами не интересуетесь и не собираетесь принять участие в этом деле, — тут Джеркинс вспомнил о Стэйне и о его влиятельных друзьях, — вы, вероятно, могли бы нам посоветовать, к кому именно нам обратиться. Мы, как вы понимаете, маклеры, и нам важно заинтересовать мистера Каупервуда, с тем чтобы наша доля комиссионных не прошла мимо нас; в таком деле, вы сами знаете, без посредничества не обойдешься. Джонсон сидел за своим письменным столом не глядя ни на Джеркинса, ни на Клурфейна, а уставившись в пол. — Та-ак… — начал он, — мистер Каупервуд — американский архимиллионер… У него великий опыт по части городского транспорта и надземных железных дорог как в Чикаго, так и в других городах. Предполагается, что я должен заинтересовать его в разрешении проблемы нашего подземного транспорта. И если я это сделаю, я, по-видимому, должен буду заплатить вам — или во всяком случае позаботиться о том, чтобы вам заплатили — за то, что мистер Каупервуд поможет кое-кому из наших лондонцев, интересующихся транспортом, нажиться на этом деле. Он поднял брови и поглядел на Джеркинса. Джеркинс ответил ему понимающим взглядом, но не сказал ни слова. — Весьма практический подход к делу, нельзя не признаться, — продолжал Джонсон, — и я не сомневаюсь, что кое-кто может на этом нажиться, а может и нет. Проблема лондонского подземного транспорта — это в высшей степени сложная проблема. У нас столько всяких проектов, столько разных компаний, которые нужно еще суметь привести к соглашению! Столько подрядов роздано разным спекулянтам и прожектерам без единого шиллинга за душой. Он мрачно поглядел на своих посетителей. — Денег надо убить уйму. Миллионы фунтов. Я так полагаю, не меньше двадцати пяти миллионов фунтов. Он с унылым видом стиснул руки: так велик был этот груз неизбежных издержек. — Разумеется, мистер Каупервуд здесь небезызвестен, мы о нем кое-что слышали. Если не ошибаюсь, в Чикаго против него были выдвинуты самые разнообразные обвинения. Я готов согласиться, что все эти обвинения не должны создавать препятствий и тормозить такое крупное общественное дело, какое вы, джентльмены, имеете в виду, — однако, принимая во внимание консерватизм нашей английской публики… — Ах, вы говорите об этих политических выпадах в Чикаго против его финансовых методов? — возмущенно воскликнул Джеркинс. — Но это же обычные уловки, все это подстроено его соперниками, которые завидовали его успеху. — Знаю, знаю! — с тем же мрачным видом перебил Джонсон. — Люди из финансовых кругов, конечно, понимают все эти приемы конкурирующих противников. Но ведь и здесь тоже у него найдется немало противников. У нас здесь на острове свой очень сплоченный и очень консервативный мирок. И мы вовсе не так уж любим пришельцев, которые являются к нам устраивать наши дела. Возможно, как вы изволили заметить, что мистер Каупервуд действительно очень опытный и изобретательный человек. Но захочет ли наша публика работать с ним — этого я не могу сказать. Однако я могу сказать, что вряд ли у нас найдутся люди, которые согласились бы предоставить ему полный контроль в таком предприятии, какое вы имеете в виду. Тут он поднялся и тщательно отряхнул с пиджака и брюк воображаемые соринки. — Вы говорите, он отклонил предложение Гривса и Хэншоу? — спросил он. — Да, отклонил, — ответили в один голос Джеркинс и Клурфейн. — А что же они, собственно, хотели? Джеркинс разъяснил. — Понятно, понятно! Оставить за собой контракт и пятьдесят процентов акций. Так вот, пока у меня не будет возможности подумать и посоветоваться с моими компаньонами, я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Но так или иначе, — помолчав, добавил он, — возможно, кой-кому из наших крупных пайщиков и будет желательно потолковать с мистером Каупервудом, когда он приедет. В сущности, Джонсон уже решил про себя, что эти люди подосланы самим Каупервудом, чтобы разузнать заранее истинное положение вещей. Однако ему и в самом деле казалось весьма сомнительным, чтобы этому американцу Каупервуду, будь он хоть архимиллионер, удалось урвать у здешних владельцев транспорта хотя бы половину акций. Даже и подступиться-то к этому делу ему будет исключительно трудно. А с другой стороны, если подумать, сколько они со Стэйном убили денег на это дело, и вот теперь, похоже, эта проклятая Чэринг-Кросс опять свалится им на шею, вернувшись в Электротранспортную компанию, и это грозит новыми убытками всем, кто вложил в нее деньги. Н-да… Он вышел из-за стола и, словно давая понять, что разговор окончен, сказал сухо: — Мне надо будет хорошенько подумать об этом, джентльмены. Зайдите ко мне еще раз во вторник или в среду. И тогда я уже смогу твердо сказать, сумею ли я быть вам чем-нибудь полезен. Он сделал с ними несколько шагов и позвонил у двери конторскому мальчику, чтобы тот проводил их к выходу. Оставшись один, он подошел к окну, выходившему на старинный римский дворик, все еще залитый лучами яркого апрельского солнца. У Джонсона была привычка, когда он задумывался, закладывать язык за щеку и прижимать ладонь к ладони, словно на молитве. Так он стоял довольно долго, не двигаясь и все глядя в окно. А Джеркинс и Клурфейн шагали в это время по Стори-стрит и обменивались на ходу глубокомысленными восклицаниями: — Замечательно! Да, да! Хитер, каналья! Да, явно заинтересовался! Но ведь это же для них выход, если они только хоть что-нибудь соображают. — А эта чикагская история! Я так и знал, что она выплывет! Вечно ему припоминают эту его отсидку в Филадельфии и его слабость к женскому полу. Точно это имеет какое-то отношение к делу. — Нелепо! Ужасно нелепо! — возмущался Клурфейн. — А придется что-то предпринять в этом направлении! Придется нам с вами как-то обработать здешнюю прессу! — заявил Джеркинс. — Вот что я вам скажу, послушайте меня, — возразил Клурфейн. — Если кто-нибудь из здешних богачей войдет в дело с Каупервудом, они сами мигом прекратят всю эту газетную болтовню. У нас ведь здесь несколько другие законы, не такие, как у вас. Здесь, если хотят завести скандал, не стесняются ничем, пускают в ход любую клевету, но если кому-нибудь из крупных воротил нежелательна огласка — тогда молчок, никто не осмелится и слова сказать. А у вас, как видно, все по-другому. Но я знаю многих здешних газетчиков и редакторов, если понадобится, можно будет намекнуть им, они живо все это притушат.Глава 20
Результаты, которых достигли Джеркинс и Клурфейн своим визитом к Джонсону, выяснились достаточно определенно в разговоре, имевшем место в тот же день между Джонсоном и лордом Стэйном в кабинете Стэйна на втором этаже дома на Стори-стрит. Надо сказать, что лорд Стэйн ценил Джонсона главным образом за его коммерческую честность и за его поистине исключительное здравомыслие. Джонсон в глазах Стэйна был олицетворением глубокой религиозности и нравственной прямоты, которая не позволяла ему преступать известного предела в своих хитроумных, но вполне легальных махинациях, сколь бы это ни казалось соблазнительным с точки зрения его личных интересов. Ярый блюститель закона, он всегда умел отыскать в нем лазейку, которая давала ему возможность обернуть дело в свою пользу или отнять козырь у противника. «Джонсон любит сводить баланс, но исключает из него крупные долговые обязательства», — сказал о нем однажды кто-то из знакомых Стэйна. И лорд Стэйн вполне согласился с этой характеристикой. Он привык к Джонсону; ему нравились даже его чудачества, и он от души потешался над его пылкой привязанностью к лиге Эпворта, со всей ее прописной моралью воскресной школы, и над его необыкновенной стойкостью и упорным воздержанием от каких бы то ни было спиртных напитков. Джонсон не проявлял никакой мелочности в денежных делах. Он щедро жертвовал на церкви, воскресные школы, больницы и деятельно опекал дом призрения для слепых в Саутворке, где он был одним из директоров и бесплатным юрисконсультом. За очень скромное вознаграждение Джонсон заботился о делах Стэйна, о его вкладах, страховках и помогал ему разбираться во всяких сложных юридических вопросах. Они часто беседовали о политике, о международных делах, и Джонсон, как замечал Стэйн, всегда очень трезво оценивал события. Но в искусстве, архитектуре, поэзии, беллетристике, в женщинах и иных благах земных, не сулящих ему никаких выгод, Джонсон ровно ничего не понимал. Он когда-то откровенно признался Стэйну, еще в те годы, когда оба они были намного моложе, что он ничего не смыслит в такого рода вещах. «Я рос, видите ли, в таких условиях, которые не позволяли мне интересоваться подобными предметами, — сказал он. — Мне, конечно, приятно, что сыновья мои в Итоне, а дочка в Бэдфорде, и я лично ничего не имею против того, чтобы у них привились те вкусы, которые полагаются в обществе. Ну, а я что, я стряпчий, с меня довольно и того, чего я достиг». И Стэйн улыбался, слушая Джонсона: ему нравилась грубоватая прямота этого признания. И в то же время он считал совершенно в порядке вещей, что они стоят с Джонсоном на разных ступенях общественной лестницы, — что он только изредка приглашает Джонсона к себе в усадьбу в Трегесол или в свой прекрасный старинный дом на Беркли сквере. И не иначе как по делу.
В этот день Джонсон, войдя к Стэйну, застал его в весьма непринужденной позе. Откинувшись на высокую спинку удобного чиппенделевского кресла с круглыми ручками, Стэйн лежал, вытянувшись во весь свой длинный рост и закинув ноги на громадный письменный стол красного дерева. На нем был превосходно сшитый шерстяной костюм песочного цвета, кремовая сорочка и темно-оранжевый галстук; от времени до времени он лениво стряхивал пепел с папиросы, дымившейся у него в руке. Он просматривал отчет акционерной компании «Южноафриканские алмазные копи Де-Бирс» — компании, в делах которой он был непосредственно заинтересован. Двадцать акций, своевременно приобретенных им, давали ему ежегодно около двухсот фунтов чистого дохода. У Стэйна было длинное желтоватое лицо, нос крупный, с едва заметной горбинкой, пронзительные темные глаза под низким лбом, большой рот с припрятанной в уголках лукавой улыбкой и слегка выдающийся подбородок. — А, это вы! — воскликнул он, когда Джонсон, тихонько постучавшись, вошел в кабинет. — Ну что у вас нового, господин благочестивый методист? Я кстати что-то читал сегодня утром по поводу вашего выступления, в Стикни, что ли? — А-а, вы про это, — пробормотал Джонсон, в волнении застегивая пуговицы своего рабочего сюртука из черной шуршащей материи. Он был очень польщен тем, что Стэйн все же обратил внимание на заметку. — У нас, знаете, вышел спор между священниками двух церквей в нашем приходе, так вот мне пришлось их мирить. А потом меня попросили сказать речь. Ну, я и воспользовался случаем, прочел им маленькое нравоученье. — И он, вспомнив об этом, гордо выпрямился и принял весьма внушительный вид. Стэйн, конечно, сразу заметил это. — Вам бы, Джонсон, в парламенте выступать или в суде, — шутливо сказал он. — Но только я, знаете, посоветовал бы вам начать с парламента. Мы здесь без вас пока еще никак не управимся, жалко вас отдавать в суд. И он, добродушно посмеиваясь, посмотрел на Джонсона, а Джонсон весь просиял, довольный и растроганный. — Да я, признаться, давно уже подумываю о парламенте. И наши дела здесь много бы от того выиграли. Райдер и Бэллок только и толкуют об этом. И Райдер, по правде сказать, прямо-таки требует, чтобы я выставил свою кандидатуру в его округе на сентябрьских выборах. Он считает, что я непременно пройду, надо только разок-другой выступить с речью. — Ну, а почему бы и нет? Лучше вас кандидата и не сыщешь. И у Райдера, знаете, там большое влияние. Я вам серьезно советую. И если я или кто-нибудь из моих друзей сможем вам быть чем-нибудь полезны, вам надо только сказать. Я с удовольствием все сделаю. — Вы очень добры, и, поверьте, я очень признателен вам. Да вот, кстати сказать, у меня сегодня в конторе… — тут Джонсон сразу понизил голос и перешел на конфиденциальный тон, — произошло кое-что для вас весьма небезынтересное. Он замолчал, вытащил носовой платок, высморкался. Стэйн смотрел на него с любопытством. — Что это у вас за секреты? Ну-ка, выкладывайте! — Ко мне сегодня явились два субъекта: Виллард Джеркинс, американец, и Биллем Клурфейн, голландец. Агенты, маклеры: Клурфейн — в Лондоне, а Джеркинс — в Нью-Йорке. Рассказали мне кое-что весьма любопытное. Вы помните опцион на акции Чэринг-Кросс, который мы продали за тридцать тысяч Гривсу и Хэншоу? Стэйн, которого несколько забавлял таинственный тон Джонсона, сразу заинтересовался. Он швырнул отчет, который держал в руках, снял ноги со стола и пристально посмотрел на своего компаньона. — Опять эта проклятая Электро-транспортная! Ну что там еще такое? — По-видимому, они только что ездили в Нью-Йорк, — продолжал Джонсон, — и вели там переговоры с этим архимиллионером Каупервудом. Похоже, они предложили ему половину своего тридцатитысячного опциона за то, чтобы он достал деньги на постройку дороги. — Джонсон презрительно усмехнулся. — Ну а сверх того он потом должен был бы уплатить им еще сто тысяч фунтов за их строительные работы. Тут они переглянулись и многозначительно хмыкнули. — Разумеется, он отказался, — продолжал Джонсон. — Однако он, по-видимому, не прочь приобрести Чэринг-Кросс, при условии, что он получит полный контроль, то есть все или ничего. Судя по тому, что рассказывают эти двое, он как будто интересуется такой реорганизацией транспорта, о которой мы с вами здесь думаем вот уже десять лет. Из Чикаго его, как вы знаете, выставили. — Да, это я знаю, — сказал Стэйн. — Между прочим, я тут прочел о нем статью, которую эти господа оставили мне. Вот она, — и, вытащив из кармана, Джонсон развернул страницу «Нью-Йорк сан», всю середину которой занимал громадный, сделанный пером и очень похожий портрет Каупервуда. Стэйн расправил страницу и стал внимательно вглядываться в портрет. — Очень занятная физиономия, — сказал он, переводя взгляд на Джонсона. — Как по-вашему? Энергичная, волевая… И снова уткнувшись в газету, он стал пробегать глазами таблички и схемы, изображающие чикагские предприятия Каупервуда. — Двести пятьдесят миль… и все это в течение двадцати лет. — Затем он прочитал столбец с описанием его нью-йоркского дома. — Знаток как будто… интересуется искусством. — Вы там посмотрите дальше насчет этой его истории в Чикаго, — сказал Джонсон. — У них все это с такой политико-общественной окраской подано… — Он замолчал, дожидаясь, когда Стэйн кончит читать. — Ну и грызня у них там идет! — воскликнул Стэйн, откладывая газету. — Подумайте, его капиталовложения оцениваются в двадцать миллионов! — Да, да, так и эти маклеры говорили. Но вот что самое интересное: они говорят, что он сам пожалует сюда недели через две. И для этого-то они ко мне и явились — чтобы я с ним встретился и потолковал, и не только насчет линии Чэринг-Кросс, — между прочим, они, по-видимому, как-то разнюхали, что нам придется ее обратно взять, — но и насчет объединения системы подземного транспорта — словом, насчет того, о чем мы с вами думаем. — А что это за господа, Джеркинс и Клурфейн? — поинтересовался Стэйн. — Кто они, собственно, такие? Друзья Каупервуда? — Нет, нет, отнюдь! — поспешил объяснить Джонсон. — Они сами говорят, что они просто агенты по банковским делам. И рассчитывают на комиссионные — либо от Гривса и Хэншоу, либо от Каупервуда, либо от нас с вами, словом, от того, кого они могут в этом деле заинтересовать. А еще лучше, если от всех сразу. И никем они вовсе не уполномочены. Стэйн иронически пожал плечами. — По-видимому, они как-то пронюхали, — продолжал Джонсон, — что мы с вами интересуемся проектом объединения линий, и вот им хочется, чтобы я собрал акционеров и рекомендовал им Каупервуда на роль, так сказать, главного директора, хозяина всего дела, а ему постарался бы преподнести эту нашу с вами идею так, чтобы он ею заинтересовался. И, разумеется, они хотят получить за это комиссионные. Стэйн смотрел на него с изумлением. — Здорово это они придумали! — усмехнулся он. — Разумеется, я эту комбинацию отклонил, — осторожно продолжал Джонсон, — но мне вот что пришло на ум: а не кроются ли тут и в самом деле кой-какие серьезные возможности, которых так сразу не разглядишь. Может статься, что у Каупервуда действительно есть интерес к этому делу, и мы с вами могли бы этим воспользоваться. Ведь этот жернов — Чэринг-Кросс — так до сих пор и висит у нас на шее. Конечно, я прекрасно понимаю, никто у нас здесь не допустит, чтобы американские миллионеры вмешивались в наши дела и распоряжались нашей подземкой. Но, может быть, мы сумели бы организовать какую-то единую компанию — ну, скажем, вы, лорд Эттиндж, Хэддонфилд — и выработать сообща удобную форму совместного контроля. — Он замолчал и выжидательно поглядел на Стэйна. — Правильно, Элверсон, совершенно правильно, — сказал Стэйн. — Если среди наших акционеров есть люди, которые все еще интересуются этой проблемой, как несколько лет тому назад, их безусловно можно будет привлечь к делу. А без их помощи Каупервуд зацепиться никак не сможет. Он встал и подошел к окну, а Джонсон продолжал говорить. Джеркинс и Клурфейн должны прийти к нему через несколько дней, он обещал дать им тот или иной ответ. Пожалуй, всего лучше припугнуть их немножко, сказать им, что если они рассчитывают иметь дело с ним или с кем бы то ни было, кто может заинтересовать Каупервуда, пусть помалкивают, чтобы это никуда не просочилось, и предоставят пока что действовать ему, Джонсону. — Верно! — согласился Стэйн. Ведь тут речь идет не только о Чэринг-Кросс, продолжал Джонсон, но и об Электро-транспортной компании, поскольку она-то, в сущности, и является хозяином этой линии, или ответственной за нее фирмой. И вот когда они со Стэйном прощупают хорошенько Хэддонфилда, Эттинджа и других, тогда только и можно будет решить, стоит ли заводить все это. И если они между собой сговорятся, разумеется, Каупервуд предпочтет иметь дело со Стэйном, Джонсоном и их друзьями, чем со всеми этими Джеркинсами, Клурфейнами, Гривсами и Хэншоу! Тоже предприниматели, торгуют вразнос, а вздумали куда соваться! Стэйн слушал рассуждения Джонсона и во всем соглашался с ним. Так они беседовали до темноты. За окном сгустился серый лондонский туман. Стэйн вспомнил, что его ждут к вечернему чаю, а Джонсон — что ему пора идти на заседание. Они расстались — оба в несколько приподнятом настроении и с вновь оживившимися надеждами.
Выждав дня три, что, по мнению Джонсона, было необходимо для поддержания престижа, дабы произвести впечатление на этих маклеров, он пригласил к себе Джеркинса и Клурфейна и сообщил им, что он беседовал на интересующую их тему кой с кем из своих друзей и что они не прочь познакомиться с проектами и предложениями Каупервуда. В связи с этим он по получении личного приглашения от Каупервуда — не иначе — готов встретиться и потолковать с ним. Однако он ставит условием, чтобы Каупервуд до встречи с ним ни в коем случае не вступал ни в какие переговоры или какие бы то ни было деловые отношения ни с кем другим, потому что люди, которых он, Джонсон, пытается заинтересовать, — это крупные пайщики, которые, разумеется, никаких шуток над собой не потерпят! На этом они и расстались, после чего Джеркинс и Клурфейн бросились сломя голову в ближайшее телеграфное отделение. Они вместе сочинили телеграмму, в которой уведомляли Каупервуда о блестящих результатах, которых им удалось добиться, торопили его как можно скорее ехать в Лондон и в весьма почтительных выражениях просили его отложить всякие другие переговоры до приезда сюда, ибо предстоящее здесь совещание будет, несомненно, носить всеобъемлющий характер. Каупервуд прочитал эту телеграмму и невольно усмехнулся, вспомнив, как он тогда напугал Джеркинса, Он телеграфировал в ответ, что он сейчас очень занят, рассчитывает выехать в середине апреля и тогда охотно повидается с ними и поговорит об их предложении. Одновременно он послал шифрованную телеграмму Сиппенсу о том, что он скоро будет в Лондоне, что он отклонил предложение Гривса и Хэншоу, но пусть Сиппенс постарается сделать так, чтобы они стороной услышали о том, что он едет в Лондон в связи с крупным предложением насчет подземного транспорта, не имеющим никакого отношения к линии Чэринг-Кросс. Каупервуд полагал, что это известие подействует на Гривса и Хэншоу отрезвляюще и заставит их прийти к нему с таким предложением, которое он сможет принять, прежде чем ему предложат что-либо другое. Таким образом, у него будет в руках оружие, с помощью которого он сможет так или иначе управлять своими новыми партнерами. Между тем Каупервуд спешно готовился к отъезду, устраивал дела Беренис и Эйлин и обдумывал в своих планах на будущее роль Толлифера.
Глава 21
Эйлин при всей своей подозрительности и мрачных сомнениях, одолевавших ее, не могла не поразиться внезапной перемене, происшедшей с ее супругом. Воодушевленный своими лондонскими проектами, близостью Беренис и предстоящим путешествием, Каупервуд и в самом деле стал гораздо мягче относиться к Эйлин. Его желание, чтобы она поехала с ним в Лондон, его завещание, в котором он поручал ей заботиться о его доме и назначал ее одним из своих душеприказчиков, — все это, как-то по-своему преломляясь в сознании Эйлин, казалось ей несомненным следствием чикагской катастрофы. Жизнь, рассуждала Эйлин, нанесла ему жестокий, но отрезвляющий удар, и в такой момент, когда он лучше всего мог почувствовать силу этого удара. И он вернулся к ней или во всяком случае на пути к тому, чтобы вернуться. Этого уже было почти достаточно, чтобы воскресить в ней веру в любовь и в прочность человеческих привязанностей. Она с увлечением занялась своими туалетами, готовясь к предстоящему путешествию. Накупила великолепных чемоданов; целыми днями разъезжала по магазинам, ателье, модным мастерским, обнаруживая, как и прежде, поистине ненасытную страсть к бьющей на эффект роскоши и чрезмерному блеску. Но Каупервуд уже не удивлялся и смотрел на это с привычным ужасом. За ними были оставлены особые каюты люкс на океанском пароходе «Кайзер Вильгельм», отходившем в ближайшую пятницу. Эйлин с лихорадочной поспешностью готовила себе гарнитуры белья, подобающие разве что невесте, хотя она прекрасно знала, что ни о каких нежных супружескихотношениях между нею и Каупервудом и речи быть не может. Между тем Толлифер, все попытки которого познакомиться с Эйлин пока что не увенчались успехом, неожиданно с чувством величайшего удовлетворения обнаружил в своем почтовом ящике ценный пакет: в нем оказался план пассажирского парохода «Кайзер Вильгельм», билет и, что больше всего потрясло и обрадовало его, — три тысячи долларов новенькими банкнотами. Это сильно повысило рвение и энтузиазм Толлифера к предстоящей ему ответственной миссии. Он решил приложить все усилия, чтобы произвести самое благоприятное впечатление на великого Каупервуда, — вот человек, который, по-видимому, хорошо знает, как пользоваться жизнью и брать от нее то, что хочешь! Поспешно пробежав несколько последних газет, Толлифер убедился, что чета Каупервудов отправляется в Европу на том же пароходе «Кайзер Вильгельм», отходящем в пятницу. Беренис, которая, разумеется, была в курсе всех дел Каупервуда, решила выехать с матерью двумя днями раньше на пароходе «Саксония». Они условились с Каупервудом, что будут ждать его в Лондоне в отеле «Кларидж», где они уже останавливались в прежнюю свою поездку. Каупервуд, преследуемый репортерами, сообщил, что он с женой отправляется в Европу на все лето, что с Чикаго его теперь ничто не связывает и что он на ближайшее время не строит никаких планов и не интересуется никакими предприятиями. Это заявление вызвало весьма оживленный отклик; в газетах снова появились заметки о его поразительной карьере, его называли гением и удивлялись, что такой исключительный финансист и с таким капиталом бросает дела и удаляется на покой. Каупервуд ничего не имел против этой газетной шумихи, во-первых, потому, что она на этот раз неожиданно обернулась ему на пользу, а во-вторых, потому, что она служила отличной ширмой для его истинных планов и таким образом давала ему возможность действовать не торопясь. Итак, они отплыли. Эйлин прогуливалась на палубе с таким видом, как если бы занимать первенствующее положение в обществе рядом с Каупервудом было для нее вполне привычным делом. Что же касается Толлифера, для которого теперь настало время приступить к исполнению своих новых обязанностей, он весь внутренне подобрался и чувствовал себя в полной боевой готовности. Каупервуд, когда они попадались друг другу на глаза, не обращал на него ни малейшего внимания и, разумеется, и вида не подавал, что знает его. Понимая, что так оно и должно быть Толлифер старался держать себя как можно более непринужденно: встречаясь на палубе с Эйлин, он украдкой поглядывал на нее и замечал, что и она тоже поглядывает на него — и не без интереса. Ему не нравились ее кричащие туалеты, отсутствие сдержанности, вкуса, она казалась ему несколько вульгарной. Его каюта находилась на палубе Б, но обедал он за капитанским табльдотом. Чете Каупервуд обед подавали в их собственные апартаменты. Однако капитан, которому весьма льстило присутствие на его корабле таких пассажиров, как супруги Каупервуд, жаждал создать из этого рекламу для себя и своего парохода. Оценив общительность и веселый нрав Толлифера, он постарался внушить ему интерес к знаменитому миллионеру и предложил познакомить его с супругами Каупервуд. Итак, на второй день плавания капитан Генрих Шрейбер послал осведомиться о самочувствии мистера и миссис Каупервуд, прося их оказать ему честь воспользоваться его услугами. Не желает ли мистер Каупервуд осмотреть корабль? Среди пассажиров имеются его пылкие поклонники, в том числе и сам капитан, которые, если мистер Каупервуд не возражает, жаждут быть ему представленными. Каупервуд, догадываясь, что тут не обошлось без Толлифера, передал это предложение Эйлин и ответил, что они очень рады и просят пожаловать к себе капитана и пассажиров, желающих познакомиться с ними. Капитан, отрекомендовавшись Каупервудам, представил им мистера Уилсона Стайлса, драматурга, мистера Куртрайта, губернатора штата Арканзас, и представителей светского нью-йоркского общества: мистера Брюса Толлифера и мисс Алассандру Гивенс, направляющуюся в Лондон к сестре. Толлифер, заметив в числе пассажиров хорошенькую Алассандру и припомнив, что отец ее видный человек в обществе, представился ей в качестве друга кого-то из ее знакомых, и Алассандра, плененная неотразимым Толлифером, без труда попалась на эту удочку. Эйлин очень понравился этот неожиданный прием гостей. Когда они вошли, она поднялась с кресла и, отложив журнал, который она перед этим рассматривала, встала рядом с супругом приветствовать посетителей. Каупервуд сразу отметил Толлифера и его спутницу, изящную мисс Гивенс, в которой он с первого взгляда угадал девушку из хорошего общества. Толлифер представился Каупервуду с таким видом, как если бы он его до сих пор никогда в глаза не видал. Эйлин явно заинтересовалась им. — Счастлив познакомиться с супругой такого замечательного человека, как мистер Каупервуд, — сказал он, глядя ей в глаза. — Вы, я полагаю, направляетесь на континент? — Мы сначала остановимся в Лондоне, — отвечала Эйлин. — А потом уже поедем в Париж и дальше. У моего мужа всюду оказывается масса всяких финансовых дел, куда бы он ни поехал. — Судя по тому, что пишут о мистере Каупервуде, иначе и быть не может, — обворожительно улыбнувшись, подхватил Толлифер. — Быть подругой такого многогранного человека — это поистине великое дело, миссис Каупервуд. Честное слово, я бы сказал, что это ответственная задача. — Вы совершенно правы, — подтвердила Эйлин. — Это и в самом деле трудная задача. — И польщенная этим признанием ее великой роли, она благодарно улыбнулась ему в ответ. — А вы не думаете пробыть некоторое время в Париже? — поинтересовался он. — Да, конечно. Я еще не могу сказать, какие планы будут у моего мужа, когда мы приедем в Лондон, но сама я думаю поехать в Париж, — может быть, на несколько дней. — А я предполагаю быть в Париже на скачках. Может быть, мы с вами еще увидимся. Если вы будете там в это же время и у вас не будет никаких дел, мы могли бы как-нибудь встретиться и провести вечер. — Ах, это было бы замечательно! — У Эйлин даже заблестели глаза: так приятно было, что к ней проявляют интерес. Ведь внимание такого обаятельного человека, несомненно, возвысит ее и в глазах Каупервуда. — Но вы, кажется, еще не поговорили с моим мужем… Пойдемте к нему. И она в сопровождении Толлифера направилась к Каупервуду, который стоял в другом конце салона, беседуя с капитаном и мистером Куртрайтом. — Послушай, Фрэнк, — весело сказала она, — вот еще один из твоих поклонников, — и, обратившись к Толлиферу, прибавила: — Как мне ни лестно, я не могу считать себя главным объектом вашего внимания, мистер Толлифер. Каупервуд повернулся к Толлиферу с самой любезной улыбкой и сказал шутливо: — Поклонники народ приятный, мы всегда рады их приветствовать. А вас, мистер Толлифер, по-видимому, тоже можно считать одним из участников нашего весеннего нашествия на континент? Каупервуд держал себя с такой непринужденностью, что Толлифер, невольно следуя его примеру, улыбнулся и так же шутливо ответил: — Да, похоже, что так. У меня много друзей в Лондоне и в Париже, а потом я думаю отправиться куда-нибудь поближе к морю. Один из моих приятелей живет в Бретани. — И, повернувшись к Эйлин, он добавил: — Вот на что бы вам действительно следовало посмотреть, миссис Каупервуд! Такие чудесные места! — Ну что ж, я не прочь, — сказала Эйлин, глядя на Каупервуда. — Ты как думаешь, Фрэнк, мы не могли бы включить Бретань в план нашего летнего путешествия? — Пожалуй… За себя, конечно, я не могу поручиться, дела… Ну, а может и удастся выкроить несколько дней, — любезно прибавил он. — Вы надолго в Лондон, мистер Толлифер? — Да я пока еще и сам не знаю, — невозмутимо отвечал Толлифер. — Может быть, поживу с неделю или около того. В эту минуту Алассандра, которой надоело слушать мистера Стайлса, безуспешно пытавшегося произвести на нее впечатление, подошла проститься с Каупервудами, решив положить конец визиту. — А вы не забыли наши планы на сегодня, Брюс? — спросила она Толлифера. — Ах, да, да! Пожалуйста, извините нас, нам в самом деле уже пора. — И, обратившись к Эйлин, он добавил: — Надеюсь, миссис Каупервуд, мы с вами еще не раз будем иметь удовольствие встречаться? Эйлин, уязвленная холодным, самоуверенным тоном чересчур миловидной юной Алассандры, откликнулась с преувеличенной любезностью: — О да, конечно, мистер Толлифер, я буду очень рада, — и тут же, перехватив пренебрежительную усмешку на губах мисс Гивенс, прибавила: — Как жаль, что вам пора уходить мисс… — Мисс Гивенс, — поспешил подсказать Толлифер. — Ах, да… — улыбкой поблагодарила его Эйлин. — Я не разобрала имени. Но Алассандра только чуть-чуть приподняла свои тонкие брови, взяла Толлифера под руку и, улыбнувшись на прощанье Каупервуду, направилась к двери. Эйлин, оставшись наедине с Каупервудом, перестала сдерживаться. — Ах, как я ненавижу этих светских выскочек, — с возмущением воскликнула она, — ведь у них нет ничего за душой, кроме их семейных связей, а почему-то они всюду лезут вперед и воображают, что все должны уступать им дорогу! — Будет тебе, Эйлин, — успокаивал ее Каупервуд. — Сколько раз я тебе говорил — всякий старается блеснуть тем, что у него есть. Ее главный козырь — происхожденье, вот она им и кичится. Ведь сама-то она ровно ничего собой не представляет, просто глупенькая девчонка. Стоит ли тебе так из-за нее расстраиваться. Успокойся, пожалуйста. А в то же время он мысленно сравнивал Эйлин с Беренис. С каким достоинством сумела бы Беренис поставить на место эту Алассандру! — Ну, как бы там ни было, — запальчиво сказала Эйлин, — а мистер Толлифер очень мил и внимателен. И, насколько я могу судить, он принадлежит к тому же обществу и во всяком случае ничем не хуже ее. Разве но правда? — У меня, разумеется, нет никаких оснований сомневаться в этом, — отвечал Каупервуд, невольно усмехаясь про себя над простотой и наивностью Эйлин — не столько иронически, сколько грустно. — Во всяком случае мисс Гивенс, кажется, в восторге от мистера Толлифера, и если ты считаешь, что она что-то представляет собой в обществе, значит ты и его должна отнести к тому же кругу. — Однако у него хватает такта, чтобы держать себя учтиво, а у нее нет, и так оно всегда бывает, когда женщина сталкивается с женщиной. — Беда женщин в том. Эйлин, что они все, в сущности, заняты одним. А у мужчин, видишь ли, интересы довольно разнообразные. — Ну, не знаю, но я тебе только одно могу ответить: мистер Толлифер мне очень нравится, а девчонка эта противная вовсе не нравится. — Да ты можешь просто не замечать ее. А что касается Толлифера, ничто не мешает нам быть с ним любезными, если тебе этого хочется. Не забудь, что я хотел доставить тебе удовольствие этой поездкой. — И он вкрадчиво улыбнулся Эйлин. Наблюдая за ней исподтишка час спустя, когда она переодевалась перед зеркалом для предобеденной прогулки по палубе, Каупервуд невольно поразился — она казалась такой оживленной и довольной. Просто удивительно, подумал он, как много можно сделать с человеком, если отнестись с должным вниманием к его вкусам, слабостям, к его желаниям. А что если и Беренис проделывает с ним, в сущности, то же самое? Она вполне способна на это. Ну что ж, он все равно готов превозносить ее, как он только что, посмеиваясь, превозносил самого себя.Глава 22
Плавание подходило к концу. Толлифер все эти дни проявлял массу изобретательности, всячески стараясь завоевать расположение Эйлин. В последние два вечера он очень удачно затеял игру в карты, предусмотрительно не включив в партию мисс Гивенс; он пригласил партнерами одну довольно известную актрису, молодого банкира с Запада, который был очень не прочь познакомиться с женой Каупервуда, и молоденькую вдовушку из Буффало, до такой степени плененную светскими манерами и приятной внешностью Толлифера, что, получив от него приглашение принять участие в партии, она с гордостью почувствовала себя приобщенной к самому избранному кругу. Новое интересное общество, веселое времяпровождение и в особенности явное внимание к ней Толлифера — все это не только развлекало Эйлин, но и воскрешало в ней какие-то надежды, возвращало ей чувство уверенности в себе. И хотя Каупервуд и не принимал участия в этих развлечениях, он, по-видимому, относился вполне одобрительно к ее новым знакомым. Он уже сказал ей, что когда они приедут в Лондон и устроятся в отеле «Сесиль», она может, если ей хочется, пригласить Толлифера и его друзей на чашку чая или даже к обеду; а если у него будет время, он, может быть, и сам заглянет к ним ненадолго. Эйлин с радостью ухватилась за его предложение, и не столько потому, что ей нравился Толлифер и она дорожила его обществом, а потому что ей хотелось показать Каупервуду, что она способна поддерживать знакомство с полезными и приятными ему людьми. Каупервуд к этому времени убедился, что Толлифера вполне можно предоставить его собственной изобретательности. Он, по-видимому, очень неглуп, думал Каупервуд, не лишен такта и, несомненно, умеет держать себя в обществе. А что, если он вздумает всерьез ухаживать за Эйлин, с тем чтобы вскружить ей голову, завладеть ею и подцепить положенный на ее имя недурной капиталец? Вряд ли ему это удастся. Эйлин такая преданная жена, она неспособна влюбиться в кого-нибудь по-настоящему. А Толлиферу иной раз делалось как-то не по себе оттого, что он участвует в такой гнусной интриге, но вместе с тем он сознавал, что это самый счастливый случай во всей его неудачной жизни и упускать его никак нельзя. Уж если он дошел до того, что не стыдился жить на скудный заработок каких-то жалких хористок, как это было еще совсем недавно, то теперь ему нечего стесняться — он получает деньги за то, что взял на себя нелегкую обязанность выступать в роли светского ментора, спутника и приятеля этой женщины! Разумеется, она не очень-то умеет себя держать, всегда от нее можно ждать какого-нибудь промаха, и, кроме того, она чересчур явно показывает свое желание нравиться. Ее надо бы приодеть со вкусом, натренировать как следует, чтобы она чувствовала себя уверенней. Но во всяком случае она относится к нему дружески, признательна ему, и вполне возможно, что он в самом деле сможет для нее кое-что сделать. Прежде чем отправиться в это путешествие, Толлифер навел кой-какие справки и узнал, что Эйлин в отсутствие Каупервуда свела знакомство с какими-то ничтожными людишками; ее видели в очень сомнительной компании, и хотя она не занимала никакого положения в обществе, все же это компрометировало и ее самое и Каупервуда. Как же Каупервуд мог допустить это? — спрашивал себя Толлифер. Но, познакомившись с Эйлин и припомнив все, что он слышал и знал о Каупервуде, он решил, что в конце концов Каупервуду не оставалось ничего другого, для него это был единственный разумный выход. Потому что там, где дело касается чувств, Эйлин, по-видимому, способна на все, и если бы Каупервуд попытался вступить с ней в борьбу, чтобы отвоевать себе свободу, она не остановилась бы ни перед чем, камня на камне не оставила бы, только бы удержать его или отомстить ему, и это, конечно, могло бы весьма повредить его репутации. А с другой стороны, может случиться, что в один прекрасный день Каупервуд, придравшись к какому-нибудь поводу или нарочно подстроив какую-нибудь штуку, обвинит его в интимной связи с Эйлин и таким образом получит возможность избавиться от нее. Однако если Толлифер сумеет доказать, что Каупервуд сам нанял его для этого, подобное разоблачение будет для него, наверно, столь же мало приятно, сколь и для Толлифера. Так чем же он, в сущности, рискует? Надо только постараться наладить такие отношения с Эйлин, чтобы не давать ее супругу никакого повода для придирок. И, несомненно, он может быть ей очень и очень полезен. Вот, например, даже здесь, на пароходе, он заметил, что она не прочь выпить лишнее. Надо отучить ее от этого. Потом эта ее ужасная манера одеваться. В Париже найдутся первоклассные портные, которые рады будут отблагодарить его, если он предоставит им возможность одеть ее прилично. И, наконец, с ее-то деньгами сколько можно устроить разных увеселительных поездок — в Экс-ле-Бен, в Биарриц, в Дьеп, в Канны, Ниццу, Монте-Карло, надо только приручить ее, завоевать ее доверие. Можно будет пригласить старых друзей, расплатиться с долгами, завести новые знакомства! Лежа у себя в каюте, покуривая папиросу и время от времени потягивая из высокого стакана виски с содой, Толлифер предавался самым радужным мечтам. Эта шикарная каюта! И двести долларов в неделю! А сверх того — три тысячи новенькими банкнотами!Глава 23
«Кайзер Вильгельм» подошел к пристани Саутгэмптона в туманное апрельское утро; солнечные лучи едва пробивались сквозь плотный английский туман. Каупервуд в элегантном сером костюме стоял на верхней палубе и смотрел на пустынную пристань и на невзрачные домики, ютившиеся на берегу. Эйлин в своем самом роскошном весеннем туалете стояла рядом с ним. Около них суетились ее горничная Уильяме, лакей Каупервуда и личный секретарь Каупервуда мистер Джемисон. Внизу на пристани стояли Джеркинс с Клурфейном и несколько репортеров, жаждущих услышать из уст Каупервуда подтверждение слухов, распущенных Джеркинсом, о том, что американский миллионер приехал в Англию, чтобы купить знаменитую коллекцию картин, принадлежащих некоему английскому пэру, о существовании которого Каупервуд даже и не подозревал. Толлифер в последнюю минуту заявил, — и Каупервуд про себя оценил это как весьма тактичный маневр, — что он не сойдет с парохода, а проедет дальше в Шербург и оттуда в Париж. Однако он тут же ввернул в разговоре для сведения Эйлин, что он предполагает быть в Лондоне в начале следующей недели, в понедельник или во вторник, и надеется, что еще будет иметь удовольствие повидаться с супругами Каупервуд до их отъезда на континент. Эйлин вопросительно взглянула на мужа и, прочтя поощрение в его взгляде, сказала Толлиферу, что они будут рады видеть его у себя в отеле «Сесиль». Каупервуд сейчас с необыкновенной остротой ощущал, что жизнь его отныне становится на редкость значительной и полноценной. Как только они сойдут на берег и он устроит Эйлин, он сразу же отправится к Беренис; она с матерью ждет его в отеле «Кларидж». Он чувствовал себя молодым, бодрым — Улисс, отправляющийся в новое, неведомое плавание! Это радостное ощущение усилилось, когда к нему неожиданно подошел посыльный и подал ему телеграмму на испанском языке:«Солнце всходит над Англией в миг, когда ты причалил. Серебряные врата открываются перед тобой на пути к великим деяниям и к великой славе. Море было серым без тебя, Orо del Oro[32]».Ну, конечно, это Беренис, и он улыбнулся, подумав, что он вот-вот увидит ее. Тут его со всех сторон обступили репортеры. Куда мистер Каупервуд думает направиться отсюда? Правда ли, что он ликвидировал все свои чикагские предприятия? В Лондоне прошел слух, что он приехал сюда с целью купить знаменитую картинную галерею. Так ли это? На все эти вопросы он отвечал сдержанно, осторожно, но весьма приветливо и с любезной улыбкой. Если от него хотят точного ответа, — он предпринял это путешествие с целью хорошенько отдохнуть, у него давно не было настоящего отдыха. Нет, он не ликвидировал своих чикагских предприятий, он только реорганизует их. Нет, он приехал в Лондон не затем, чтобы купить коллекцию лорда Фэрбенкса. Он когда-то видел ее и чрезвычайно восхищался ею, но ему никогда и в голову не приходило, что ее можно купить. В течение всей этой церемонии Эйлин стояла рядом с Каупервудом, упиваясь сознанием своего вновь обретенного величия. Художник, присланный «Иллюстрейтед ньюс», тут же сделал с нее набросок. Когда репортеры несколько поутихли, Джеркинс с Клурфейном протиснулись вперед и, засвидетельствовав Каупервуду свое нижайшее почтение, попросили его не оглашать своих намерений до тех пор, пока он не предоставит им возможности поговорить с ним. И Каупервуд благосклонно ответил: — Хорошо, если вам так угодно. После этого, уже в отеле, Джемисон пришел к нему доложить о телеграммах, которые поступили на его имя, и о том, что мистер Сиппенс дожидается в номере 741, когда ему можно будет явиться к мистеру Каупервуду, и что лорд Хэддонфилд, с которым мистер Каупервуд встречался еще много лет тому назад в Чикаго, просит супругов Каупервуд пожаловать к нему в усадьбу на субботу и воскресенье, а некий известный южноафриканский банкир — барон из евреев, — находящийся сейчас проездом в Лондоне, просит мистера Каупервуда позавтракать с ним: у него к мистеру Каупервуду важное дело, касающееся Южной Африки. Германский посол приветствует мистера Каупервуда в Лондоне и просит пожаловать на обед в посольство. Из Парижа телеграмма от филадельфийского банкира Долэна:
«Если вы по приезде в этот городишко не кутнете со мной, клянусь задержать вас на границе. Не забудьте, я знаю о вас не меньше, чем вы обо мне».Казалось, крылья богини судьбы рассекали воздух над самой его головой. Заглянув к Эйлин и убедившись, что она прекрасно устроилась в отведенных ей апартаментах, Каупервуд послал за Сиппенсом. Сиппенс, в новом весеннем пальто, суетливый, похожий на птицу, сразу принялся выкладывать все, что, по его мнению, важно было знать Каупервуду: Гривс и Хэншоу запутались окончательно, они сейчас в совершенном тупике. Лучшей зацепки, чем эта концессия на линию Чэринг-Кросс, которую они держат в своих руках, для Каупервуда и быть не может. Мистер Каупервуд завтра же может поехать с ним осмотреть эту запроектированную ветку. Конечно, заполучить контроль над центральной кольцевой линией было бы куда важнее, — тогда можно было бы планировать любое объединение сети. Но Чэринг-Кросс очень удобно присоединить к кольцу, и, если она уже будет у него в руках, это даст ему несомненное преимущество, какие бы шаги он ни вздумал предпринять относительно центральной или какой-либо другой линии. Кроме того, тут много всяких концессий, или контрактов, скуплено спекулянтами в расчете на то, чтобы перепродать их потом за большие деньги каким-нибудь строителям или пайщикам; все это можно будет разузнать подробнее. — Весь вопрос в том, как нам сейчас за это взяться! — задумчиво сказал Каупервуд. — Вы говорите, Гривс и Хэншоу в тупике? Но ко мне они больше не обращаются. А между тем Джеркинс успел, по-видимому, поговорить с этим Джонсоном из Электро-транспортной компании, и тот, при условии, что я пока ничего предпринимать не буду, обещал созвать группу пайщиков, заинтересованных в центральной линии, — туда как будто входит и этот ваш Стэйн, о котором вы мне писали. Так вот, Джонсон предполагает свести меня с ними, по-видимому для того, чтобы мы вместе могли обсудить эту проблему соединения с центральной линией или со всем подземным транспортом. И это значит, что я пока должен воздержаться от каких бы то ни было переговоров с Гривсом и Хэншоу и примириться с тем, что эта линия Чэринг-Кросс, за неимением средств, опять вернется к ним, в Электро-транспортную. А это мне совсем не улыбается, потому что они, конечно, воспользуются этим как дубинкой, которой они будут махать у меня над головой. Тут Сиппенс вскочил, как ужаленный. — Не допускайте этого, патрон! — срывающимся голосом вскричал он. — Ни в коем случае не допускайте! Послушайте, вы потом пожалеете. Эта здешняя публика так друг за дружку и держится! Между собой они и грызутся и ссорятся, но как только дело доходит до иностранца, они все скопом готовы на него наброситься. Тяжкое это будет для вас дело, если вы с ними голыми руками драться полезете. Вы лучше подождите до завтра или до послезавтра, может быть Гривс и Хэншоу еще дадут о себе знать. Они ведь сегодня в газетах прочтут о вашем приезде, и вот вы посмотрите, я хоть сейчас готов об заклад биться, — они непременно появятся, им нет никакого расчета тянуть с этим делом, никакого расчета. Скажите Джеркинсу, чтобы он погодил встречаться с Джонсоном, а сами пока займитесь другими делами, но только прежде давайте посмотрим со мной эту линию Чэринг-Кросс. В эту самую минуту Джемисон, занимавший номер рядом с апартаментами Каупервуда, вошел с письмом, которое ему только что вручил рассыльный. Прочтя имя отправителя на конверте, Каупервуд улыбнулся, потом быстро пробежал письмо и передал его Сиппенсу. — Вы угадали, де Сото, — смеясь сказал он. — Ну, и что ж нам теперь с этим делать? Письмо было от Гривса и Хэншоу: «Дорогой мистер Каупервуд! Мы узнали из сегодняшних газет о Вашем приезде в Лондон. Если Вы считаете это удобным и желательным, мы хотели бы встретиться с Вами в понедельник или во вторник на следующей неделе для обсуждения вопроса, о котором мы беседовали с Вами 15 марта в Нью-Йорке. Поздравляем Вас с благополучным прибытием и желаем приятного времяпровождения. Искренне преданные Вам Гривс и Хэншоу». Сиппенс торжествующе щелкнул пальцами. — Что! Говорил я вам! — радостно воскликнул он. — Значит, они идут на ваши условия. Это самый важный участок в Лондоне. А когда он у вас будет в руках, вы сможете спокойно выжидать, в особенности если вам удастся подцепить еще кое-какие концессии, потому что, стоит только этим спекулянтам пронюхать про вас, они сами к вам явятся. А этот субъект Джонсон! Этакое нахальство — требовать от вас, чтобы вы и не шевелились, пока с ним не увидитесь! В этом восклицании Сиппенса слышалось искреннее негодование, ибо он уже слышал, что Джонсон — властный и самоуверенный человек, и заочно невзлюбил его. — Конечно, у него есть кое-какие связи, — продолжал он. — И у этого Стэйна — тоже. Но без вашего капитала и опыта, без вашей изобретательности что они могут сделать? Даже эту Чэринг-Кросс не могли пустить в ход, не говоря уж о других линиях. Ничего у них без вас не получится. — Очень может быть, что вы и правы, де Сото, — сказал Каупервуд, весело улыбаясь своему преданному помощнику. — Я повидаюсь с Гривсом и Хэншоу, вероятно, во вторник. И можете быть уверены, я ничего не упущу. Ну а насчет Чэринг-Кросс — поедем завтра? По-моему, следовало бы сразу осмотреть не только эту, но и обе главные линии. — Отлично, патрон! В час дня вам будет удобно? Я вам все покажу, и к пяти вы уже будете здесь. — Идет! Да, вот еще что: вы помните Хэддонфилда? Лорда Хэддонфилда, который несколько лет назад приезжал в Чикаго и такой шум там поднял? Палмеры, Филды, Лестеры — как они тогда все вокруг него увивались, помните? Он как-то раз был у меня в моем загородном доме. Такой молодцеватый, самоуверенный тип. — Как же! Конечно, помню, — сказал Сиппенс, — он, кажется, тогда хотел стать пайщиком этого мясоконсервного предприятия? — Да, и к моим предприятиям он тоже хотел примазаться. Я вам об этом никогда не рассказывал? — Нет, не рассказывали, — поспешно сказал Сиппенс, сгорая от любопытства. — Так вот, сегодня утром от него пришла телеграмма: приглашает к себе в поместье, в Шропшир, кажется. На субботу и воскресенье. Каупервуд взял телеграмму со стола. — Бэритон-Мэнор, Шропшир. — Любопытно! Ведь он из той публики, что входит в компанию Сити — Южный Лондон. Пайщик, не то директор, — словом, что-то в этом роде! Я вам к завтрашнему дню все о нем разузнаю. Может быть, он тоже заинтересован в расширении лондонской подземки и хочет потолковать с вами об этом? Ну, если так и если он к вам расположен — так это находка! Для иностранца в чужой стране, сами понимаете… — Да, да, ясно, — отвечал Каупервуд. — Может быть, это в самом деле удача. Надо поехать. Так вы попробуйте выяснить все, что можно, а завтра в час приезжайте за мной. Выходя, Сиппенс столкнулся в дверях с Джемисоном, который нес еще целую пачку писем и телеграмм, но Каупервуд замахал на него руками. — Нет, нет, Джемисон. Ничего больше слушать не буду до понедельника. Напишите Гривсу и Хэншоу, что я рад буду видеть их у себя во вторник утром, в одиннадцать; И еще свяжитесь с Джеркинсом и скажите ему, чтобы он ждал от меня распоряжений и пока ничего не предпринимал. Телеграфируйте лорду Хэддонфилду, что мистер и миссис Каупервуд с удовольствием принимают его приглашение, узнайте, как туда добраться, и закажите билеты. Если еще что-нибудь без меня придет, положите ко мне на стол. Я завтра посмотрю. Он спустился в лифте и, выйдя на улицу, окликнул экипаж, сказав кучеру ехать на Оксфорд-стрит, но, проехав два квартала, приподнял окошечко и крикнул: — Сверните на Юбери-стрит, за угол налево. Кучер повернул и остановился; Каупервуд вышел, сделал несколько шагов, свернул в переулок и, выйдя на ту же улицу с другой стороны, подошел к отелю «Кларидж».
Глава 24
В чувстве Каупервуда к Беренис пылкость любовника сочеталась с отеческой нежностью. Молодость Беренис, ее одаренность и красота неизменно вызывали у него чувство восхищения, желание защитить ее, предоставить возможность развиться этой богатой натуре. Вместе с тем он Со свойственным ему пылом упивался ее любовью, хотя эта сторона их отношений иной раз невольно смущала его — так удивительно казалось ему сочетание его шестидесяти лет с ее непостижимой юностью. С другой стороны, ее трезвая предусмотрительность, ее здравомыслие — а в этом она иной раз не уступала ему самому — наполняли его гордостью, внушали ему уверенность в своей силе, ибо Беренис в этом смысле была ему поистине опорой. Ее самостоятельность, ее энергия, ее даровитость пробуждали в нем желание не просто растить капитал, а предоставить ей все возможности проявить себя, обеспечить ей положение в обществе. Вот почему он и решил поехать в Лондон, и это-то и придавало такое важное значение всему путешествию. Когда она встретила его, цветущая, сияющая, и он схватил ее в свои объятья, он словно вдохнул в себя ее радостную уверенность, ее юность. — Добро пожаловать в Лондон! Итак, Цезарь перешел Рубикон! — приветствовала она его. — Спасибо, Беви, — сказал он, выпуская ее. — Я получил твою телеграмму и берегу ее. Ну-ка, дай мне посмотреть на тебя! Пройдись по комнате. Он смотрел на нее с нескрываемым восхищением, когда она с задорной улыбкой побежала в другой конец комнаты, а потом медленно пошла к нему, слегка поворачиваясь на ходу, наподобие живой модели из модного магазина, и, наконец, остановившись перед ним, сделала реверанс и сказала: — Прямехонько от мадам Сари! И стоит всего — ах, это тайна! — и надула губки. На ней было темно-синее бархатное платье, отделанное мелким жемчугом у ворота и на поясе. Каупервуд взял ее за руку и подвел к маленькому диванчику, на котором только и можно было уместиться двоим. — Чудесно! — сказал он. — Слов не нахожу, как я рад, что опять с тобой. Он справился о здоровье ее матери, а затем продолжал: — Ты знаешь, Беви, для меня это какое-то совершенно небывалое ощущение. Никогда мне, по правде сказать, не нравился этот Лондон, но в этот раз, зная, что ты здесь, я прямо одурел от восторга, когда увидел его! — Ах, когда увидел его? — Ну, и, разумеется — тебя! — и он стал целовать ее глаза, волосы и губы, пока она не отстранила его, сказав, что любовь надо пока отложить, пусть он сначала расскажет все. Вынужденный подчиниться, он начал рассказывать, как они доехали и все, что за это время произошло. — Эйлин со мной в отеле «Сесиль». Ее только что рисовали для газеты. А твой приятель Толлифер, надо сказать, действительно старался вовсю развлекать ее в дороге. — Мой приятель! Да я с ним даже незнакома! — Ну, разумеется, еще бы тебе быть с ним знакомой! Но во всяком случае он малый неглупый. Вот бы ты посмотрела на него, каким он пришел ко мне в первый раз в Нью-Йорке и какой это был блистательный кавалер на пароходе! Превращение Аладдина! А волшебная лампа-это пачка банкнотов. Кстати сказать, он поехал в Париж, вероятно с целью замести следы. Я, конечно, позаботился, чтобы денег у него было достаточно. — А ты с ним встречался на пароходе? — полюбопытствовала Беренис. — Да, он нам был представлен капитаном. Ну, это такой человек, который и сам сумеет все устроить. У него положительно дар нравиться женщинам. Он прямо-таки завладел всеми самыми хорошенькими. — Так я и поверила! А где же в это время был ты? — Ну, знаешь, бывают иной раз чудеса! Но это в самом деле чародей. У него на это какое-то особенное чутье. Я-то, признаться, мало его видел, но Эйлин он сумел так пленить, что она жаждет пригласить его к нам на обед. Он многозначительно поглядел на Беренис, и она ответила ему довольной улыбкой. — Я рада за Эйлин, — сказала она помолчав. — Искренне рада. Ей просто необходима была такая перемена. И давно уже. — Верно, Беви, — отвечал Каупервуд. — Раз я не могу быть для нее тем, чем ей хочется, почему не найти для этой роли кого-нибудь другого. Во всяком случае, я надеюсь, что он не перейдет границ, он для этого достаточно благоразумен. Эйлин уже мечтает поехать в Париж, покупать себе наряды. Так что с этой стороны у нас все обстоит как нельзя лучше. — Чудесно! — сказала Беренис улыбаясь. — Значит, пока что наши планы понемножку осуществляются. А кто всему виновник? — По-моему, ни ты, ни я. Просто так оно должно было случиться, вот как и то, что ты ко мне пришла тогда на рождество, когда я меньше всего ожидал этого. Он обнял ее и хотел поцеловать, но она, поглощенная своими мыслями, отстранила его. — Нет, нет, подожди, сначала расскажи мне о Лондоне, а потом я тебе тоже кое-что расскажу. — Ну что ж, Лондон! Перспективы пока самые блестящие. Я тебе, кажется, говорил в Нью-Йорке об этих англичанах, Гривсе и Хэншоу? О том, как я их выпроводил, отклонив их предложение? Так вот только сейчас, когда я уходил из гостиницы, мне подали от них письмо. Они просят принять их, и я уже условился, когда и как. Ну, а насчет более широких проектов, есть тут группа акционеров, с которыми я предполагаю встретиться. Как только у меня выяснится что-нибудь более или менее определенное, я сейчас же тебе расскажу. А пока что мне хотелось бы укатить с тобой куда-нибудь. Может быть, мы могли бы дать себе маленькую передышку, прежде чем я заверчусь со всеми этими делами. Вот только Эйлин… Пока она не уедет, видишь ли… — он помолчал. — Конечно, я постараюсь уговорить ее поехать в Париж, а мы с тобой могли бы тогда прокатиться к Нордкапу или на Средиземное море. Мне тут один агент говорил, что сейчас есть возможность раздобыть яхту на лето. — О, яхта, яхта! — воскликнула Беренис, но тотчас же, спохватившись, прижала палец к губам. — Нет, нет, ты уже забираешься в мою область. Это буду устраивать я, а не ты. Вот видишь… Но он не дал ей договорить и зажал ей рот поцелуем. — Какой же ты нетерпеливый! — упрекнула его Беренис. — Ну подожди же… И она повела его в соседнюю комнату, где около распахнутого настежь окна был сервирован стол. — Смотри, повелитель! Мы с тобой сегодня пируем вдвоем; тебя приглашает твоя рабыня. Если ты сейчас сядешь и будешь сидеть смирно, мы выпьем с тобой по бокалу вина, и я тебе все расскажу. Веришь ты мне или нет — но у меня уже все готово, я все решила. — Все? Вот как! — засмеялся Каупервуд. — И так быстро? Хорошо бы мне так уметь. — Да-а. Все или… почти все! — сказала она и, взяв со стола графин с его любимым вином, налила два бокала. — Дело в том, что, как это ни странно, я тут в одиночестве размышляла. А когда я размышляю… Она торжественно подняла глаза к небу. Он вырвал бокал у нее из рук и бросился целовать ее, — она только этого и ждала. — Смирно, Цезарь! — смеясь, прикрикнула она. — Подожди, мы еще не пьем. Сядь на место. А я сяду вот здесь. И сейчас я тебе расскажу все. Буду каяться, как на исповеди. — Вот бесенок! Серьезно, Беви, перестань дурить… — Да я в жизни своей не была серьезней. Ну хорошо, слушай. Дело было так. На пароходе с нами ехало с полдюжины англичан, старых и молодых, всяких, один красивее другого; по крайней мере те, с которыми я флиртовала, были очень недурны. — Не сомневаюсь, — добродушно проронил Каупервуд с легкой ноткой сомнения в голосе. — Ну и что же дальше? — А дальше, если ты проявишь некоторое великодушие, я признаюсь тебе, что флиртовала я исключительно ради тебя. Кстати сказать, флирт был совершенно невинный — впрочем, этому ты, конечно, можешь и не верить. Например, я разузнала об одном прелестном загородном местечке, Бовени, — это на Темзе, всего в каких-нибудь тридцати милях от Лондона. Рассказал мне об этом очаровательный молодой человек — разумеется, холостяк — Артур Тэвисток. Он там живет с мамашей, леди Тэвисток. Он уверен, что мне она очень понравится. А сам он очень понравился моей матушке! Так что видишь, как обстоят дела… — Гм… вижу, что нам предстоит жить в Бовени: мне и матушке, — язвительно усмехнулся Каупервуд. — Вот именно! — в тон ему отвечала Беренис. — И это чрезвычайно важный вопрос — ты и мама. С этих пор ты должен будешь уделять свое внимание главным образом ей. И как можно меньше мне. Но, конечно, ты сохраняешь за собой все обязанности опекуна. Вот. И она ущипнула его за ухо. — Иными словами, мистер Каупервуд — опекун и друг семьи! — произнес он с довольно кислой улыбкой. — Совершенно верно! — подтвердила Беренис. — Так вот дальше. Предполагается, что я в скором времени отправляюсь с Артуром путешествовать на лодке. А кроме того… — тут она не удержалась и фыркнула, — он обещает достать очаровательный плавучий домик, как раз то, что нужно для нас с мамой. Нет, ты только представь себе: лунная ночь… или жаркий летний день — когда моя мама и его мама будут сидеть себе и вязать или прогуливаться по саду, а ты будешь читать да покуривать, — мы с Артуром… — Да! Представляю себе, чудесная жизнь — плавучий домик, возлюбленный, весна, мамаша, опекун! Поистине рай земной! — А что же может быть лучше? — с жаром воскликнула Беренис. — Он даже расписал, какие у нас там будут тенты — красные и зеленые! И кто из его друзей приедет, и какие они! — Тоже красные и зеленые, я полагаю? — Вот именно, ведь это же цвета спортивных и гребных костюмов! Словом, все, как полагается. Так он рассказывал маме; А друзей у него масса! И он их всех собирается представить маме и мне. — А когда же приглашение на свадьбу? — В июне, не позже. Могу обещать тебе совершенно точно! — И я буду посаженным отцом? — Да, это мысль! — серьезно сказала она. — Черт возьми! — преувеличенно громко захохотал Каупервуд. — Я вижу, у тебя было на редкость удачное путешествие! — Да ты еще и сотой доли не знаешь! — вскричала Беренис. — Сотой доли! Вот еще Мейденхед — мне даже неловко признаваться. — Вот как? Запомним! — И я еще тебе не рассказала о полковнике Хоксбери. Из королевской гвардии или чего-то там еще, не помню! — дурачась, продолжала она. — Ну, один из таких блестящих военных красавцев — а у него есть приятель офицер, у которого есть кузен… Так вот у этого кузена есть коттедж где-то там в парке на Темзе… — Ах, уж теперь два коттеджа и два плавучих домика! Или у тебя, может быть, в глазах двоится? — Во всяком случае коттедж, о котором я сейчас говорю, почти никогда не сдается. Этой весной чуть ли не в первый раз. И это настоящая мечта! Если его когда-нибудь и сдавали, то только близким друзьям. Но, конечно, маме и мне… — Мы, кажется, намереваемся стать дочерью полка? — Ну, хорошо. Оставим полковника. Еще есть некий Уилтон Брайтуэйн Райотсли — произносится: Ротислай. У него замечательные маленькие усики, а рост ровно шесть футов и… — Послушай, Беви! Что за подробности! Я, знаешь, начинаю подозревать! — Только не с Уилтоном! Нет, нет, клянусь тебе! С полковником — куда ни шло, но с Уилтоном — нет! — и она расхохоталась. — Ну, чтобы не перечислять всех подряд, скажу тебе коротко, что я узнала не только о четырех плавучих домиках на Темзе, но и о четырех прекрасно меблированных, комфортабельных особняках в самых замечательных кварталах Лондона, — и все их можно снять на сезон, на год или навсегда, если мы решим с тобой остаться тут навеки. — Что ж, тебе надо только захотеть, милочка, — отвечал он. — Но какая же ты, однако, актриса! — И все эти особняки, — продолжала Беренис, пропуская мимо ушей его восхищенное восклицание, — будут немедленно показаны мне любым моим поклонником на выбор — или всеми сразу, стоит мне только дать свой лондонский адрес, чего я еще пока не сделала. — Браво, браво! — воскликнул Каупервуд. — Так вот, пока еще никаких обещаний никому не дано, ни с кем ничего не условлено, но мы с мамой думаем поехать посмотреть один домик на Гроссвенор сквере, а другой — на Беркли сквере. И тогда уж будет видно, что делать. — А тебе не кажется, что лучше было бы все же посоветоваться с твоим престарелым опекуном насчет, скажем, аренды и всего прочего? — Что касается аренды — конечно. Ну а насчет всего прочего… — Ну, хорошо. Насчет всего прочего — отступаю охотно. Довольно я распоряжался на своем веку, посмотрим-ка теперь, как это у тебя получится! — Так вот, — продолжала она, все еще дурачась, — допустим, для начала, я сяду вот сюда… И, усевшись к нему на колени, она взяла со стола бокал с вином и прикоснулась к нему губами. — Смотри — я загадала желанье! — сказала она и отпила половину. — Вот и ты тоже загадай! — И она протянула ему бокал и смотрела, пока он не допил до дна. — А теперь ты должен бросить его об стену — через мое правое плечо — чтобы уже никто больше никогда из него не пил. Так поступали в старину датчане и норманны. Ну… Каупервуд швырнул бокал. — А теперь поцелуй меня — и все сбудется, как мы с тобой загадали. Потому что, ты ведь знаешь, я колдунья и могу сделать так, чтобы все сбылось. — Я готов этому поверить! — с чувством сказал Каупервуд и торжественно поцеловал ее. После обеда они принялись обсуждать, куда им поехать и что предпринять в ближайшее время. Беренис пока не хотелось никуда уезжать из Англии. Сейчас весна, а она всегда мечтала осмотреть все эти города с кафедральными соборами — Кентербери, Йорк, съездить в Уэльс, взглянуть на развалины римских бань в Бате, посетить Оксфорд, Кембридж и разные старинные замки. Хорошо бы отправиться в такое путешествие вдвоем!Разумеется, он сначала разузнает все что нужно относительно своего лондонского проекта. А она тем временем посмотрит эти коттеджи, о которых ей говорили. И как только все это устроится, они тотчас же могут и уехать. А сейчас надо пойти повидаться с мамой; она немножко расстроена последнее время. Все чего-то опасается, а чего — и сама не знает. Ну, а потом он вернется сюда — и тогда… Каупервуд обнял ее и прижал к груди. — Хорошо, Минерва моя! — сказал он. — Может быть, и действительно удастся все устроить так, как тебе хочется. Пока еще я ровно ни в чем не уверен. Одно могу сказать наверняка — если здесь все это затянется надолго, мы с тобой не будем выжидать, а отправимся путешествовать. С Эйлин я как-нибудь да улажу. И если она будет даже недовольна — мы все равно уедем. Она мне всегда грозит оглаской, но это можно будет как-нибудь предотвратить. На этот счет я спокоен. Во всяком случае до сих пор мне это всегда удавалось. Он ласково поцеловал ее и, смягченный, растроганный, прошел к миссис Картер. Он застал ее с романом Марии Корелли в руках. Принаряженная, напудренная, миссис Картер сидела у открытого окна, по-видимому поджидая его. Она встретила его радостной улыбкой. Но он сразу почувствовал в ней какое-то напряжение, беспокойство — она, видимо, опасалась, что это добром не кончится, что они зря все это затеяли — он и Беренис. Он даже уловил в ее глазах какой-то тоскливый страх, жалкое, безнадежное выражение. Обменявшись несколькими ничего не значащими фразами о том, как приятно будет провести весну в Англии, он сказал ей как бы между прочим, но довольно откровенно: — На вашем месте, Хэтти, я бы не стал ни о чем беспокоиться. Мы с Беви отлично понимаем друг друга. И я думаю, что и себя она хорошо знает. Она умница, красавица, и я люблю ее. Если даже с нами и случится какая-нибудь неприятность, мы сумеем выпутаться. Приободритесь, Хэтти, все будет хорошо. Я, вероятно, буду очень занят и, пожалуй, не сумею приезжать к вам так часто, как мне этого бы хотелось. Но помните, что я всегда начеку. И она тоже. И вам нечего беспокоиться. — Да я вовсе и не беспокоюсь, Фрэнк! — сказала миссис Картер почти извиняющимся тоном. — Конечно, я знаю, Беви — девушка решительная, находчивая, и я знаю, как вы заботитесь о ней. И я надеюсь, что все сложится так, как вам хочется. Она, правда, очень подходит вам, Фрэнк. Такая талантливая, обаятельная. Жаль, вы не видели, как она прекрасно держала себя на пароходе!. Как она всех умеет обворожить и в то же время держит себя с таким достоинством, с таким тактом. Вы у нас еще побудете? Я очень рада. Мне что-то нездоровится, но мы еще с вами увидимся попозже. Она проводила его до дверей с видом хозяйки, которая провожает важного гостя — таким он, в сущности, и был в ее глазах. Когда он вышел и закрыл за собой дверь, она подошла к зеркалу и, грустно поглядев на себя, чуть-чуть подрумянила щеки — на случай, если заглянет Беренис, — потом открыла чемодан, достала бутылку с бренди и налила себе стаканчик.Глава 25
В конце недели, в субботу, супруги Каупервуд приехали в гости к лорду Хэддонфилду, в его замок в Бэритон-Мэнор. Это было внушительное, массивное здание английской архитектуры XVI века, высившееся посреди обширного, прекрасно сохранившегося наследственного поместья, на юго-востоке Хардаун-Хис. С северо-запада к нему примыкала открытая, похожая на безбрежное море равнина, густо поросшая вереском. Эти простирающиеся на много миль, волнующиеся на ветру зеленые заросли пережили немало столетий, с ними не мог справиться ни плуг, ни сеятель, ни строитель. Их главная ценность как для богача, так и для бедняка заключалась в изобилии зайцев, оленей и прочей дичи. Это было излюбленное место охоты; сюда приезжали шумные компании с доезжачими в красных фраках, с гончими и борзыми. На юго-западе, куда глядел главный фасад замка, раскинулись пашни, покрытые лесами склоны, а посреди них виднелись камышовые крыши небольшого ярмарочного села — Литлбэритон; все вместе производило впечатление радушного сельского приюта. Хэддонфилд встретил супругов Каупервуд на станции Бэритон. Это был все такой же веселый, несколько циничный джентльмен, каким Каупервуд знал его пять лет тому назад. У него сохранились приятные воспоминания об Америке, и он был очень рад видеть своих заокеанских друзей. По дороге к замку, показывая Эйлин великолепные газоны и тенистые аллеи, он сказал: — Я опасался, миссис Каупервуд, что наша вересковая равнина покажется вам и вашему супругу унылым зрелищем. Поэтому я распорядился приготовить для вас комнаты с окнами в сад. В гостиной сейчас пьют чай, может быть вы хотите подкрепиться с дороги? Хотя великолепный нью-йоркский особняк Каупервуда с множеством слуг был намного роскошнее этого замка, а владелец его Хэддонфилд был далеко не так богат, как Каупервуд, Эйлин — по крайней мере в первую минуту — оглядывалась по сторонам с восхищением и завистью. Ах, если бы иметь вот такое поместье и такое солидное положение, и блестящие связи, как у этого человека! Избавиться от необходимости отвоевывать себе место в обществе, жить в полном покое. Но Каупервуд, посматривая кругом с явным удовольствием, не испытывал никакой зависти. Блеск титула, богатство, доставшееся без всяких усилий, нимало не трогали его. Он, Каупервуд, сам создал себе имя и состояние. Гости лорда Хэддонфилда, съехавшиеся к нему на субботу и воскресенье, представляли собой смешанное, но весьма изысканное общество. Накануне из Лондона приехал сэр Чарльз Стонледж, знаменитый лондонский артист, светило театрального мира, в высшей степени претенциозный и напыщенный субъект, пользующийся всяким случаем поддержать связь со своими аристократическими знакомыми. Он привез с собой артистку мисс Констанс Хэсэуей, которая с успехом выступала в это время в модной пьесе «Чувство». Резкий контраст этой паре являли собой лорд и леди Эттиндж. Он — крупный акционер в железнодорожных и судоходных компаниях — рослый, цветущий, властного вида мужчина, любитель выпить и, будучи навеселе, склонный грубовато пошутить, тогда как в трезвом состоянии он говорил резко, отрывисто и скорее обрывал, чем поддерживал разговор. Леди Эттиндж, напротив, была особой в высшей степени дипломатичной, и лорд Хэддонфилд, посылая ей приглашение, просил ее на этот раз взять на себя роль хозяйки в его замке. Хорошо изучив привычки и настроения своего супруга, леди Эттиндж относилась к ним весьма терпимо, но при этом отнюдь не поступалась собственной персоной. Это была высокая, могучего сложения дама с румяными щеками, испещренными синими жилками, и с холодными голубыми глазами. Когда-то она была очень привлекательна и недурна собой, как всякая свеженькая девушка в шестнадцать лет, — по-видимому, она и по сию пору не забыла об этом, так же как и лорд Эттиндж. Он в свое время очень усиленно добивался ее руки. У леди Эттиндж было несомненно больше практического понимания жизни, чем у ее супруга. Старший отпрыск старинного богатого рода, лорд Эттиндж ценил титул и наследственные права выше каких бы то ни было личных достижений. Это не мешало ему участвовать весьма успешно в разных коммерческих операциях. Его супруга, не уступая ему знатностью происхождения, отличалась большей проницательностью — она следила за совершающимися на ее глазах переменами и появлением новой денежной знати и искренне восхищалась такими нетитулованными гигантами, как Каупервуд. Затем здесь были лорд и леди Босвайк, оба молодые, веселые, пользующиеся всеобщей симпатией. Они увлекались всеми видами спорта, посещали бега, скачки, могли составить партию в карты и благодаря своей заразительной веселости и живости были желанными гостями в любом обществе. Они украдкой посмеивались над четой Эттиндж, но, отдавая должное их высокому положению, держали себя с ними как нельзя более любезно. Весьма важным гостем в глазах Хэддонфилда, а также и супругов Эттиндж, был мистер Эбингтон Скэрр, личность довольно темного происхождения, — ни титула, ни родства, — однако сумевшая создать себе громкое имя в финансовом мире. За четыре года мистер Скэрр нажил изрядный капитал, организовав крупную скотоводческую компанию в Бразилии. Пайщики этой компании уже получали весьма недурные прибыли. Сейчас у него было не менее доходное овцеводческое предприятие в Африке, где благодаря каким-то неслыханным привилегиям, полученным от правительства, и удивительному умению сбивать цены и захватывать рынки, он уже считался без пяти минут миллионером. Ядовитые слухи, ходившие о его рискованных авантюрах, пока что не приобрели сколько-нибудь опасной гласности. Хэддонфилд и даже Эттиндж открыто восхищались его успехами, но благоразумно воздерживались от участия в его делах. Им не раз случалось делать выгодные обороты с акциями компаний Скэрра. Но они всегда старались как можно скорее сбыть их с рук. Сейчас Скэрр затеял совершенно новое предприятие, однако на этот раз ему почему-то не так повезло, как в прежних его авантюрах: он задумал построить новую линию подземной железной дороги на участке Бейкер-стрит — Ватерлоо и сумел получить на это парламентскую лицензию. Поэтому он весьма заинтересовался, когда неожиданно для себя услышал о приезде Каупервуда. Так как Эйлин очень долго возилась со своим туалетом, стараясь одеться как можно изысканнее, супруги Каупервуд сошли к обеду несколько позже положенного часа. Все гости уже собрались в гостиной, чтобы оттуда проследовать в столовую, и у многих на лицах выражалось явное неудовольствие, что их заставляют ждать. Эттиндж уже решил про себя, что он просто не будет обращать внимания на этих Каупервудов. Но когда они вошли и Хэддонфилд встретил их радостным приветствием, все повернулись в их сторону, все заулыбались, и американские гости сразу завладели вниманием всего общества. Эттиндж, когда их знакомили, медленно поднялся со стула и чопорно поклонился, но при этом не преминул внимательно осмотреть Каупервуда. А леди Эттиндж, которая читала все заметки об американском миллионере, появлявшиеся в английских газетах, тут же решила про себя, что, за исключением ее супруга, Каупервуд несомненно самый выдающийся человек в этом обществе. Она даже простила ему Эйлин — наверно, он женился очень молодым и потом уж ему волей-неволей пришлось примириться с этим неудачным браком. Что касается Скэрра, он был достаточно проницателен, чтобы почувствовать несомненное превосходство этого выдающегося дельца, крупнейшего воротилы в финансовом мире. Эйлин, после долгого вынужденного уединения в Нью-Йорке, попав в такое блестящее общество, чувствовала себя несколько неловко; она изо всех сил старалась казаться естественной, но это только производило впечатление какой-то преувеличенной любезности, почти восторженности, потому что она улыбалась всем без разбора. В каждом ее слове чувствовалась неуверенность в себе. Каупервуд заметил это, но решил, что в конце концов он как-нибудь управится за двоих, и с присущей ему дипломатичностью обратился к леди Эттиндж как к самой почтенной и, по-видимому, самой влиятельной из присутствующих дам. — Я, знаете, впервые в английской усадьбе, — сказал он просто. — Но, должен признаться, даже то немногое, что я успел видеть сегодня днем, вполне оправдывает восхищение, с каким о ней отзываются. — В самом деле? — сказала леди Эттиндж, которой было небезынтересно узнать его вкусы и склонности. — Вам правда кажется привлекательной наша сельская жизнь? — Да, и, пожалуй, я даже могу объяснять почему. Это, так сказать, первоисточник всего, что есть лучшего в настоящее время в моей стране. — Она заметила, что он сделал ударение на словах «в настоящее время». — Ну, взять, например, итальянскую культуру, — продолжал он. — Мы ценим ее, как культуру нации, совершенно отличной от нас. И то же самое, я полагаю, можно сказать о культуре Франции и Германии. Но здесь мы, и даже те из нас, кто не может себя считать вполне английского происхождения, совершенно естественно, как нечто свое, узнаем источники нашей собственной культуры и развития. — Вы что-то уж чересчур добры к Англии, — сказала леди Эттиндж. — А вы сами из англичан? — Да. Мои родители были квакеры. Меня воспитывали строго, в суровой простоте, как водится у английских квакеров. — Боюсь, что не все американцы относятся к нам так дружелюбно. — Мистер Каупервуд может с полной осведомленностью говорить о любой стране, — сказал, подвигаясь поближе, лорд Хэддонфилд. — Он потратил немало лет и немалый капитал, собирая образцы искусства всех стран. — У меня очень скромная коллекция, — улыбнулся Каупервуд, — я считаю, что я только-только сделал почин. — И эта замечательная коллекция находится в самом великолепном музее, какой я когда-либо видел, — продолжал лорд Хэддонфилд, обращаясь к леди Эттиндж, — в доме мистера Каупервуда в Нью-Йорке. — Я случайно имел удовольствие слышать разговор о вашей коллекции, когда я в последний раз был в Нью-Йорке, мистер Каупервуд, — вмешался Стонледж. — Правда ли, что вы приехали сюда, чтобы пополнить ее? Я, кажется, что-то читал недавно об этом в газетах. — Нет, это пустые слухи, — отвечал Каупервуд. — Я сейчас не собираю ничего, кроме впечатлений. И в Англии я ведь только проездом на континент. Эйлин, вне себя от восторга, что супруг ее пользуется таким успехом, чрезвычайно оживилась за обедом, так что Каупервуд несколько раз кидал в ее сторону выразительно вопрошающий взгляд — ему очень важно было произвести благоприятное впечатление. Он, конечно, уже заранее разузнал, какого рода финансовыми операциями занимаются Хэддонфилд и Эттиндж, а теперь тут еще оказался этот Скэрр, который, как он слышал, интересуется постройкой подземной линии. Несомненно, лорд Эттиндж мог бы быть весьма полезным человеком, думал Каупервуд, беседуя с леди Эттиндж, — не мешало бы узнать, какие у него связи в парламенте, какие возможности. И тут леди Эттиндж сама пришла ему на помощь, заговорив о политической деятельности своего супруга. Он был тори и довольно тесно связан с лидерами этой партии. В ближайшее время ему предстояло получить крупное назначение в Индию. Это зависело от некоторых перемен в политической обстановке, связанных с бурской войной, которая в то время потрясала Англию. — До сих пор англичане несли большие потери, — говорила леди Эттиндж, — но предпринятая сейчас кампания должна повернуть успех в нашу сторону. Каупервуд из дипломатических соображений согласился с нею. Непринужденно поддерживая разговор, любезно перекидываясь фразами то с тем, то с другим из гостей. Каупервуд спрашивал себя, кто из них может пригодиться ему и Беренис. Леди Босвайк пригласила его к себе, в свой домик в Шотландии; Скэрр, после того как дамы вышли из-за стола, сам подошел к нему и спросил, долго ли он намеревается пробыть в Англии и не окажет ли он ему честь пожаловать к нему в гости, в Кэлс. Даже Эттиндж к концу обеда настолько оттаял, что завел с ним беседу об американской политике и международных делах. За два дня эти добрые отношения укрепились, а в понедельник, когда компания отправилась на охоту, Каупервуд вызвал всеобщее одобрение, неожиданно показав себя недурным стрелком. Короче говоря, к тому времени, когда супруги собрались уезжать, Каупервуд успел обворожить все общество Бэритон-Мэнор, чего, пожалуй, нельзя было сказать об Эйлин.Глава 26
Вернувшись из Бэритон-Мэнор, Каупервуд тотчас же отправился к Беренис. Он застал ее уже совсем одетой, — она собиралась ехать за город смотреть коттедж, который полковник Хоксбери советовал ей снять на лето, уверяя, что это как раз то, что нужно для нее и ее матушки. — Это на Темзе, между Мейденхед и Марлоу… И знаешь, кто владелец? — с таинственным видом спросила она. — Понятия не имею, пока я еще не научился читать твои мысли. — А ты попробуй! — Нет, где мне! Слишком трудно! Но кто же это? — Не кто иной, как тот английский лорд, о котором писал тебе мистер Сиппенс, если только не существует еще один с таким же именем. Лорд Стэйн. — Нет, ты не шутишь? — удивленно спросил Каупервуд. — Ну, расскажи мне все. Ты что, познакомилась с ним? — Нет. Но полковник Хоксбери страшно расхваливает этот коттедж, он говорит, что это совсем близко от Лондона, и потом такое соседство: «Рядом я и моя сестра», — важно добавила она, передразнивая полковника. — Ну, если так, пожалуй действительно стоит посмотреть, — задумчиво протянул Каупервуд, окидывая восхищенным взглядом изящный костюм Беренис — длинную юбку, плотно облегающий жакет темно-зеленого цвета, отделанный золотым шнуром, и маленькую зеленую шапочку с красным перышком, кокетливо сдвинутую набок. — Мне бы хотелось познакомиться со Стэйном, и, может быть, тут-то как раз и представится случай, — продолжал он. — Но нам надо быть крайне осторожными, Беви. Я слышал, что это очень влиятельный и очень богатый человек. Если бы нам удалось привлечь его, да так, чтобы он согласился войти в дело на наших условиях… — Так ведь я как раз это и имею в виду, — сказала Беренис. — Отчего бы тебе сейчас не поехать со мной? Маме сегодня что-то нездоровится, и она хочет посидеть дома. Беренис, как всегда, говорила шутливо, насмешливо, словно немножко поддразнивая, и Каупервуду очень нравилась эта ее манера — в ней проявлялась свойственная Беренис сила, находчивость и никогда не покидающий ее оптимизм. — Неужели ты думаешь, что я могу отказаться от удовольствия сопровождать прелестную молодую девицу в таком очаровательном костюме? — смеясь, сказал он. — Вот именно, — в тон ему отвечала Беренис, — я так и говорю всем, что я ничего не могу решить окончательно без согласия моего опекуна. Готовы вы приступить к своим обязанностям? — спросила она, окидывая его лукавым, насмешливым взглядом. Каупервуд подошел к ней и тихонько обнял ее за плечи. — Непривычно, признаться, но попробую, — сказал он, целуя ее. — А я со своей стороны сделаю все, чтобы тебе это облегчить. Я уже сговорилась с агентом по найму, он встретит нас в Виндзоре. А потом мы можем отправиться в какую-нибудь уютную старинную гостиницу и позавтракать там. — Отлично, но только сначала я должен поздороваться с твоей матушкой. — И он поспешно направился к миссис Картер. — Добрый день, Хэтти, — приветствовал он ее. — Ну как вы тут поживаете? Как вам нравится славная старушка Англия? По сравнению с веселой, цветущей Беренис мать ее показалась ему подавленной и даже какой-то измученной. Миссис Картер до сих пор никак не могла прийти в себя. Пребывать столько времени в счастливой уверенности, что Беренис вот-вот выйдет замуж и будет жить спокойной семейной жизнью — и вдруг неожиданно попасть в этот ослепительный, бурный круговорот, в эту авантюру, которая сейчас пьянит роскошью и богатством, но в любую минуту грозит кончиться неизвестно чем… Какая сложная штука жизнь! Правда, дочка у нее умница и самостоятельная, но такая же упрямая и своевольная, какой она сама была в ее годы. И поэтому-то никак не предугадаешь, как повернется ее судьба. И хотя Каупервуд давно уже, а не только теперь, поддерживал и выручал их и советами и деньгами, миссис Картер последнее время одолевали страхи. Ей казалось странным, зачем он привез их в Англию, — ведь он приехал сюда завоевать расположение английских дельцов, добиться общественного признанья, и приехал с женой? Беренис уверяет, будто это так и надо, даже если и не совсем удобно. Однако такое объяснение далеко не удовлетворяло миссис Картер. Она в своей жизни когда-то попробовала рискнуть — и проиграла. И мысль об этом неотступно преследовала ее, и сердце ее сжималось от страха — ведь и Беренис тоже может проиграть. Причиной этому может быть и Эйлин, и непостоянство Каупервуда, и этот бездушный свет, который никого не щадит и никого не оправдывает. Потихоньку от Беренис она опять начала пить и только за несколько минут до прихода Каупервуда осушила до дна полный бокал бренди, чтобы подкрепиться для встречи с ним. — Мне очень нравится в Англии, — сказала она, поздоровавшись с Каупервудом. — А Беви так просто очарована всем. Вы, наверно, поедете с ней посмотреть эти коттеджи? Ведь тут надо главным образом иметь в виду, много ли народу вы собираетесь принимать у себя или, вернее, кого вам надо остерегаться и не принимать, чтобы вас не видели вдвоем? — Это уж относится к Беви, а не ко мне, — засмеялся Каупервуд. — Она у вас сущий магнит. Но вы что-то неважно выглядите, Хэтти. Что с вами? — Он заглянул ей в глаза пытливым, но вместе с тем сочувственным взглядом. — Встряхнитесь, Хэтти, ведь вам надо только немного взять себя в руки первое время. Я понимаю, что все это не так просто. Вам трудно далось это путешествие, вы устали. — Он наклонился и дружески положил руку ей на плечо и тут же почувствовал запах бренди. — Послушайте, Хэтти, — сказал он, — ведь мы с вами давно знаем друг друга и вам должно быть хорошо известно, что хотя я много лет был влюблен в Беви, я ни разу за все это время, до тех пор пока она сама не пришла ко мне в Чикаго, не позволял себе ни единого жеста, ни единого слова, ничего, что могло бы как-то скомпрометировать ее. Разве это не правда? — Правда, Фрэнк. — Вы ведь знаете, пока мне казалось, что она не любит и никогда не полюбит меня, единственным моим желанием было обеспечить ей положение в обществе, выдать ее замуж, помочь вам благополучно сбыть ее с рук. — Да, знаю. — Конечно, вы можете винить меня в том, что случилось в Чикаго, но и тут я уж не так виноват, потому что она пришла ко мне в то время, когда я действительно нуждался в ней. Если бы не это, может быть, я сумел бы устоять даже и тогда. Но, как бы там ни было, все мы теперь на одном плоту — вместе выплывем или вместе потонем. Вы считаете эту авантюру безнадежной, я это прекрасно вижу, а я думаю иначе. Не забывайте, что Беви исключительно одаренная, умная девушка, и мы в Англии, а не в Соединенных Штатах. Здесь люди умеют ценить ум и красоту, не то что у нас в Америке. Если вы только возьмете себя в руки, Хэтти, и войдете хорошенько в свою роль, все у нас пойдет как по маслу. Он опять потрепал ее по плечу и заглянул ей в глаза, словно желая убедиться, подействовали ли его слова. — Вы же знаете, я постараюсь сделать все, что могу, Фрэнк, — сказала она. — Так вот, есть одна вещь, которой вы не должны делать, Хэтти, — это пить. Вы знаете эту вашу слабость. Подумайте, что будет, если об этом узнает Беви! Она может совсем пасть духом, и это испортит все, что мы с ней стараемся наладить. — Хорошо, Фрэнк, я не буду. Я сделаю все, что в моих силах… если бы только этим можно было искупить прошлое! — Крепитесь, Хэтти, и все будет хорошо, — сказал Каупервуд и, ласково улыбнувшись ей на прощанье, пошел к Беренис.Глава 27
Когда они сели в поезд, Каупервуд заговорил с Беренис о страхах ее матери. Беренис уверяла, что все это пустяки, просто на нее подействовала внезапная перемена. Как только они здесь устроятся, у нее все это пройдет. — Уж если откуда-нибудь и можно ждать неприятностей, то скорее от американцев, а никак не от англичан, — прибавила она задумчиво, глядя в окно на мелькавшие мимо живописные виды и не замечая их. — А я, конечно, не собираюсь ни заводить знакомство с американцами, ни встречаться с ними здесь, в Лондоне, если этого можно будет избежать, ни принимать их у себя. — Правильно, Беви. Это, конечно, самое разумное. — Вот эта-то публика и пугает маму. Американцы, знаешь, народ невоспитанный, у них нет ни такта, ни той терпимости, которая есть у англичан. Я по крайней мере здесь чувствую себя как дома. — Тебе нравится их культурность, их уменье держать себя, — сказал Каупервуд. — У них нет этой нашей грубоватой откровенности, они так сразу не скажут, что у них на уме. Мы, американцы, захватили дикую страну и стараемся развивать ее, и приступили мы к этому, в сущности, совсем недавно, тогда как англичане культивируют свой маленький островок вот уже тысячу лет. В Виндзоре их встретил мистер Уорбертон, агент по найму; он сообщил им подробно все интересующие их сведения и очень расхваливал дом, который они приехали смотреть. — Великолепная вилла, в исключительно живописной местности, на самом берегу реки! Лорд Стэйн долго жил здесь, но после смерти отца стал уезжать на лето в свое родовое поместье Трегесол. Прошлое лето он сдавал эту виллу известной артистке, мисс Констанс Хэсэуей, но в этом году она едет в Бретань, и вот только месяца два назад лорд Стэйн сказал мне, что он согласен сдать коттедж, если найдутся подходящие люди. — А большое у него поместье в Трегесоле? — спросил Каупервуд. — Одно из самых больших в Англия, сэр, — отвечал агент. — Около пяти тысяч акров. Замечательная усадьба! Но он там подолгу не живет. Каупервуд внезапно поймал себя на довольно-таки неприятной мысли. Хотя он постоянно внушал себе, что он никогда не будет ревновать, ему теперь приходилось сознаться, что с тех пор как в его жизнь вошла Беренис, он уже не раз испытывал муки ревности. Никогда еще ни одна женщина не была для него тем, чем была для него Беренис. И вот они теперь снимут эту виллу; а не приведет ли это к тому, что Беренис в конце концов предпочтет ему лорда Стэйна, — ведь он много моложе его, Каупервуда, и, говорят, тоже незаурядный и интересный человек! Может ли он надеяться сохранить ее привязанность, если она познакомится с таким человеком, как Стэйн? Эта мысль вносила в его чувство к Беренис что-то новое, чего он до сих пор за собой не замечал. Вилла Прайорс-Ков оказалась в самом деле прелестной. Дом, стоявший в глубине тенистого парка, выстроен был больше ста лет назад, но внутри он представлял собой вполне благоустроенный особняк со всеми современными удобствами. Красивое строгое здание под купой вековых деревьев величественно возвышалось среди пышных газонов, цветников, усыпанных песком дорожек и цветущих изгородей. К задней его стороне, выходившей на юг, примыкали служебные постройки, птичий двор, конюшни и большая беговая площадка с искусственными препятствиями, изгородями и воротами, спускавшаяся прямо к реке. Мистер Уорбертон сказал им, что лошади, и экипажи, и все хозяйство — огороды, птичник и овцы со сторожевыми собаками поступают в распоряжение того, кто здесь поселится, и что все это находится на попечении конюхов, садовника и фермера, которые будут обслуживать своих временных хозяев. Каупервуд не меньше Беренис был очарован этим идиллическим приютом: зеркальная гладь медленно струившейся Темзы, зеленые склоны, спускающиеся к реке, плавучий домик с ярким пестрым тентом и развевающимися на ветру занавесками, за которыми были видны плетеные кресла, столики. Он загляделся на солнечные часы, стоявшие посреди дорожки, ведущей к пристани. Как время летит! Уж он, в сущности, почти старик. И вот Беренис познакомится здесь с этим человеком, ведь он много моложе его и может понравиться ей. Когда она несколько месяцев тому назад пришла к нему, в Чикаго, она сказала ему, что она сама за себя отвечает, сама распоряжается своей судьбой и что она пришла к нему по своей воле, а когда ей захочется уйти, она уйдет. Конечно, ему не следует снимать эту виллу и не следует вести никаких дел со Стэйном. Найдутся другие люди, другие возможности, хотя бы этот Эбингтон Скэрр и лорд Эттиндж. Но как можно поддаваться этому страху пораженья? Ведь до сих пор он никогда не робел, не пасовал перед жизнью, — будем же поступать так и впредь, что бы ни случилось. Беренис, по-видимому, была в полном восторге. Ей так нравился этот живописный уголок! Не подозревая о мыслях Каупервуда, она с любопытством думала о владельце этой виллы. Должно быть, лорд Стэйн еще не стар, ведь он только что вступил во владение своим родовым поместьем после смерти отца. Но еще больше она интересовалась владельцами соседних вилл, о которых ей не преминул сообщить мистер Уорбертон. Ближайшими их соседями будут Артур Герфилд Ротислай Гоул, судья Королевской скамьи, сэр Гэбермен Кайпс из акционерной компании «Бритиш тайлс энд паттернс», достопочтенный Ренсимен Мэйнс из министерства колоний и многие другие более или менее высокопоставленные персоны из высшего лондонского света и деловых кругов. Каупервуд, внимательно слушая словоохотливого Уорбертона, невольно задавал себе вопрос, как будут чувствовать себя в этом окружении Беренис и ее мать. — Весной и летом здесь, наверно, очень весело, — заметила Беренис, — устраиваются пикники, из Лондона приезжают разные государственные деятели, министры, съезжается всякая светская публика, артисты, художники, так что, если иметь достаточно широкий круг знакомств, все двадцать четыре часа в сутки будут заполнены. — Да, — отозвался Каупервуд, — обстановка как нельзя более благоприятная — тут можно с одинаковым успехом пойти в гору либо очутиться на дне, и то и другое может произойти очень быстро. — Вот именно, — сказала Беренис, — но я-то как раз собираюсь пойти в гору. И он опять невольно поддался ее невозмутимому оптимизму. Тут агент, который отошел осмотреть, в порядке ли ограда, вернулся, и Каупервуд, так и не посоветовавшись с Беренис, заявил ему: — Я только что говорил мисс Флеминг, что я охотно даю свое согласие на то, чтобы она с матерью сняли эту виллу, если она им нравится. Вы можете прислать все необходимые документы моему поверенному. Это, конечно, пустая формальность, но, вы понимаете, она входит в мои обязанности как опекуна мисс Флеминг. — Понятно, мистер Каупервуд, — сказал агент, — но документы могут быть оформлены не раньше, чем через несколько дней, возможно в понедельник или во вторник, потому что агент лорда Стэйна, мистер Бейли, вернется только к этому времени. Каупервуд почувствовал некоторое удовлетворение, услышав, что лорд Стэйн не изволит лично беспокоиться такого рода делами, — значит, пока что и его участие в этом деле не будет известно Стэйну. Ну а что будет дальше — об этом он предпочитал не думать.Глава 28
После поездки с Сиппенсом и тщательного осмотра всех участков вновь проектируемых подземных линий Каупервуд окончательно убедился в необходимости заполучить концессию на Чэринг-Кросс — это безусловно даст ему в руки весьма важное преимущество. Он с нетерпением ожидал у себя в конторе Гривса и Хэншоу. Начало разговору положил Гривс: — Мы желали бы знать, мистер Каупервуд, согласитесь ли вы взять пятьдесят один процент акций линии Чэринг-Кросс, при условии, что мы внесем соответственный нашей доле капитал для постройки линии. — Соответственный? — переспросил Каупервуд. — Это зависит от того, что вы подразумеваете под этим. Если постройка обойдется в миллион фунтов стерлингов, можете ли вы гарантировать, что вы внесете примерно четыреста пятьдесят тысяч? — Ну, конечно, не из нашего собственного кармана, — несколько нерешительно отвечал Гривс. — Но у нас найдутся люди, которые войдут с нами в пай и предоставят капитал. — Насколько мне помнится, у вас не было таких людей, когда мы с вами виделись в Нью-Йорке, — сказал Каупервуд. — Поэтому я считаю, что тридцать тысяч фунтов стерлингов за пятьдесят один процент акций компании, которая не имеет на руках ничего, кроме концессии и долгов, — это предельная сумма, которую я могу предложить; Как я за это время выяснил, у вас здесь чересчур много всяких компаний с одними только правами и без шиллинга за душой. Если бы вы дали мне определенную гарантию внести четыреста пятьдесят тысяч, иначе говоря, примерно сорок девять процентов стоимости всей постройки, я бы, пожалуй, еще подумал о вашем предложении. Но поскольку вы просто хотите, чтобы я взял пятьдесят один процент, положившись на то, что вы потом соберете недостающий капитал и довнесете ваши сорок девять процентов, это меня отнюдь не устраивает. Ведь вы, в сущности, ничего не можете мне предложить, кроме ваших прав. А при таком положении вещей речь может идти только о передаче полного контроля. Потому что только контрольный пакет акций и даст мне возможность достать тот громадный капитал, который требуется на это дело. И вы, джентльмены, разумеется, должны понимать это лучше кого-либо другого. Поэтому, если вы еще не решили, подходят ли вам мои условия — тридцать тысяч фунтов за ваш опцион с сохранением за вами контракта на постройку дороги, а это мое последнее слово, — я полагаю, что нам с вами больше незачем продолжать разговор. И он, достав из кармана часы, взглянул на циферблат, — этот красноречивый жест ясно дал понять Гривсу и Хэншоу, что если они сейчас же не дадут ему окончательного ответа, им придется уйти ни с чем. Они переглянулись, и после некоторой паузы Хэншоу сказал: — Допустим, что мы согласимся уступить вам контроль, мистер Каупервуд, — но какая у нас будет гарантия, что вы немедленно приступите к постройке линии? Ведь если нам не будет предоставлена возможность развернуть строительные работы в пределах срока, указанного в контракте, я, признаться, не вижу, какая нам может быть от этого выгода? — Я совершенно согласен с моим компаньоном, — вставил Гривс. — На этот счет вы можете быть совершенно спокойны, джентльмены, — сказал Каупервуд. — Я готов дать вам письменное обязательство или подписать любой выработанный сообща договор, что если в течение шести месяцев со дня его подписания вам не будут предоставлены средства на постройку первого участка линии, наше соглашение с вами надлежит считать недействительным, и я сверх того обязуюсь уплатить вам десять тысяч фунтов неустойки. Вас это удовлетворяет? Подрядчики, явно оживившись, снова многозначительно переглянулись. Они слышали, что Каупервуд в денежных делах хитер и прижимист, но что он в то же время аккуратно выполняет свои письменные обязательства. — Тогда все в порядке! На такие условия можно согласиться, — сказал Гривс. — Ну, а как относительно дальнейшей работы на других участках? Каупервуд захохотал. — Вы плохо меня знаете, джентльмены. У меня в руках находятся две трети всего городского транспорта Чикаго. За двадцать лет я построил в этом городе тридцать пять миль наземных дорог, сорок шесть миль трамвайных путей и провел, кроме того, семьдесят пять миль загородных трамвайных линий, приносящих сейчас немалый доход. Я, так сказать, являюсь основным владельцем и хозяином этих предприятий. И ни один из моих пайщиков до сих пор не потерял на этом ни одного цента. Акции этих предприятий дают и сейчас свыше шести процентов прибыли. И если я расстаюсь с ними — не без выгоды для себя, — так это не потому, что предприятия эти недостаточно доходны, а исключительно из-за конкуренции и политических нападок, которыми меня донимали. Так вот, учтите, что ваша лондонская подземка интересует меня отнюдь не с денежной стороны. Вы сами затеяли это, не забывайте, что вы пришли ко мне, а не я к вам. Но не в этом дело. Я не имею привычки хвастаться и не собираюсь хвастаться. Что касается других участков — сроки и сумму издержек мы оговорим в контракте, но только вы, разумеется, по собственному опыту знаете, что тут надо будет учесть всякие непредвиденные задержки и случайности, которые неизбежно возникают в такого рода делах. Главное же, я полагаю, это то, что я готов заплатить вам сейчас наличными за ваш опцион и взять на себя все обязательства, вытекающие из контракта. — Что вы скажете? — спросил Гривс, обращаясь к Хэншоу. — Я со своей стороны считаю, что мы сможем поладить с мистером Каупервудом не хуже чем с кем-нибудь другим. — Отлично, — сказал Хэншоу. — Я готов. — А как вы предполагаете оформить передачу мне вашего опциона? — осведомился Каупервуд. — Насколько я понимаю, вы должны сначала оформить ваши права на него в Электро-транспортной компании, прежде чем получить полномочия передать его мне. — Совершенно верно, — ответил Хэншоу, мысленно прикидывая, как им в этом случае лучше поступить. Если они сначала будут оформлять дела с Электро-транспортной компанией, а потом с Каупервудом, это значит, что им придется не только выложить сейчас же наличными тридцать тысяч в уплату компании за опцион, но и раздобыть сверх того хотя бы на короткое время еще шестьдесят тысяч, чтобы осуществить передачу внесенного компанией гарантийного залога в государственных ценных бумагах. А так как достать наличными такую громадную сумму — девяносто тысяч — дело нелегкое, Хэншоу решил, что куда проще было бы пойти к Джонсону и в правление Электро-транспортной компании и рассказать им все начистоту. Джонсон может созвать директоров, пригласить Каупервуда и его с Гривсом и оформить передачу прав за денежки Каупервуда. Эта идея показалась ему как нельзя более заманчивой. — Я полагаю, что для обеих сторон всего целесообразнее было бы оформить передачу из рук в руки за один раз, — сказал он и тут же объяснил Каупервуду, каким образом это можно сделать, умолчав, разумеется, почему ему кажется это удобным. Но Каупервуд отлично понял и то, о чем Хэншоу предпочел умолчать. — Хорошо, — сказал он, — если вы беретесь уладить это с вашими директорами, я не возражаю. Все это займет буквально несколько минут. Вы передаете мне ваш опцион и ценные бумаги государственного банка на шестьдесят тысяч или соответствующую расписку на эти бумаги, и я тут же передаю вам чеки на тридцать и на шестьдесят тысяч. А сейчас, я думаю, нам остается только набросать текст временного соглашения и вы подпишете его. И он тут же позвонил секретарю и продиктовал основные пункты. — Итак, джентльмены, — сказал Каупервуд, когда все они подписали документ, — я бы хотел, чтобы мы с вами теперь чувствовали себя не как продавцы и покупатели, но как союзники, взявшиеся сообща делать весьма важное дело, которое всем нам принесет хорошие плоды. Я даю вам слово отплатить за ваше ревностное сотрудничество не менее ревностным сотрудничеством со своей стороны. — И он крепко пожал руки обоим. — Быстро мы с вами это провернули! — сказал Гривс. Каупервуд улыбнулся. — Надо полагать, это вот и называется у вас в Америке «ускоренный темп»? — прибавил Хэншоу. — Просто трезвый подход к делу со стороны всех участвующих, — сказал Каупервуд. — Если это по-американски — хорошо, если по-английски — тоже хорошо. По не забудьте, что в данном случае это достигнуто при участии одного американца и двух англичан. Как только они ушли, Каупервуд послал за Сиппенсом. — Уж не знаю, де Сото, поверите ли вы мне, — сказал он вошедшему Сиппенсу. — Я только что купил эту самую вашу Чэринг-Кросс. — Купили! — воскликнул Сиппенс. — Вот это здорово! Он уже видел себя главным управляющим и организатором этой линии. А Каупервуд в это время как раз думал, можно ли поручить такое дело Сиппенсу. Разве что на первое время, сдвинуть все это с места, а потом — вряд ли. Сиппенс такой непримиримый, заядлый американец, он, пожалуй, будет раздражать англичан, не сумеет ладить с воротилами лондонского финансового мира. — Вот взгляните-ка, — сказал Каупервуд, протягивая ему лист бумаги, — предварительное, но тем не менее обязательное для обеих сторон соглашение Каупервуда с Гривсом и Хэншоу. Сиппенс выбрал из пододвинутого ему Каупервудом ящика длинную в золотой обертке сигару и начал читать. — Здорово! — воскликнул он, вынимая сигару изо рта и держа ее в вытянутой руке. — Ну и шум поднимется, когда об этом прочтут в Чикаго, в Нью-Йорке, да и здесь тоже! Да, черт возьми! Это прогремит на весь мир, стоит вам только сообщить в здешнюю прессу! — Вот об этом-то я и хотел поговорить с вами, де Сото. Такая сенсация здесь, да еще сразу после моего приезда… Не знаю, какое это произведет впечатление… Боюсь, как бы это не отразилось… да нет, не у нас в Америке, — пусть они там себе удивляются и негодуют, — а вот на ценах здешних концессий… Они могут подскочить, и, по всей вероятности, так оно и будет, едва только это просочится в печать. — Он задумался. — В особенности, когда они прочтут, какая сумма будет выложена на стол сразу за одну эту крошечную линию. Подумайте, сто тысяч фунтов… И мне ведь и в самом деле придется тут же приступить к постройке или потерять на этом около семидесяти тысяч. — Верно, патрон, — поддакнул Сиппенс. — И сказать по правде, до чего все это бессмысленно, — задумчиво продолжал Каупервуд. — Лет нам с вами уже не мало, и вот мы зачем-то ввязываемся в эту новую авантюру, которая — удастся она или нет — ничего, в сущности, для нас с вами особенно интересного не представляет. Мы же не собираемся оставаться здесь навеки, де Сото, и ведь ни вы, ни я не нуждаемся в деньгах. — Но вы же хотите построить дорогу, патрон? — Да, я знаю, — сказал Каупервуд, — ну а что, собственно, нам это даст? Что человеку надо: поесть, выпить, развлечься, кто как умеет, вот, в сущности, и все. Я просто удивляюсь, с чего мы вдруг так взбудоражились. А вам это не кажется удивительным? — Ну, что вы, патрон! Как я могу за вас говорить? Вы большой человек, и все, что вы делаете или не делаете, имеет значение. Ну а я — я смотрю на это как на своего рода игру, в которой я тоже участвую. Конечно, когда-то все это казалось мне гораздо более значительным, чем теперь. Может быть, так оно и было, потому что, если бы я не работал, не пробивался, жизнь прошла бы мимо меня; я не сделал бы многого того, что мне удалось сделать. И вот в этом-то, по-моему, вся суть: все время что-нибудь да делать. Жизнь — это игра, и хотим мы этого или нет, а приходится в ней участвовать. — Так, так, — сказал Каупервуд, — ну, скоро вам придется напрячь все силы для этой игры, если мы возьмемся выстроить линию в срок. И он дружески похлопал по спине своего маленького неутомимого помощника. Беренис, когда он объявил ей о приобретении Чэринг-Кросс, решила отпраздновать событие: разве не она затеяла поездку в Лондон и новое начинание Каупервуда? И вот теперь, наконец, свершилось то, о чем она когда-то мечтала; она в самом деле приобщилась к настоящему деловому миру! Радуясь приподнятому настроению Каупервуда, она налила два бокала вина и предложила ему выпить за успех дела и пожелать друг другу удачи. Когда они чокнулись, она не удержалась и спросила его с лукавым видом: — А ты уже познакомился с этим твоим, или, вернее, нашим лордом Стэйном? — Нашим? — расхохотался он. — Ты что, действительно считаешь его своим лордом? — Своим и твоим, — ответила Беренис. — Ведь он может помочь нам обоим,разве не правда? «Вот бесенок, — подумал Каупервуд, — сколько дерзости и самоуверенности у этой девчонки!» — Правда, — спокойно ответил он. — Нет, я пока еще не познакомился с ним, но безусловно это весьма значительная фигура. Я убежден, что от него очень многое зависит. Но со Стэйном или без Стэйна, я уж теперь всерьез взялся за это дело. — И со Стэйном или без Стэйна ты своего добьешься, — сказала Беренис. — Ты сам это знаешь, и я знаю. И тебе для этого решительно никто не нужен, даже и я! — И она тихонько погладила его по руке.Глава 29
Весьма довольный состоявшейся сделкой, которая открывала ему перспективы для дальнейшей деятельности в Лондоне, Каупервуд решил нанести визит Эйлин. Он уже давно не имел никаких сведений о Толлифере, и это несколько беспокоило его, ибо он не видел возможности снестись с ним, не выдавая себя. Входя в апартаменты Эйлин, расположенные рядом с его собственными, он услышал ее смех. Он прошел к ней в будуар и застал ее перед большим зеркалом, окруженную мастерицами и модистками из лондонского модного магазина. Она с озабоченным видом рассматривала свое отражение, в то время как горничная суетилась вокруг нее, оправляя складки нового платья. Кругом были разбросаны бумаги, картонки, кружева, образцы материй. Каупервуд с первого взгляда заметил, что элегантный наряд Эйлин отличается несомненно большим вкусом и изяществом, чем ее прежние кричащие туалеты. Две мастерицы, с булавками во рту, ползали вокруг нее на коленях, закалывая подол, под наблюдением весьма видной и прекрасно одетой дамы. — Я, кажется, попал не вовремя, — сказал Каупервуд, останавливаясь в дверях, — но, если дамы не возражают, я не прочь изобразить собой публику. — Иди сюда, Фрэнк, — позвала Эйлин, — я примеряю вечернее платье. Мы сейчас кончим. Это — мой муж, — сказала она, обращаясь к окружавшим ее женщинам. Они почтительно поклонились. — Тебе очень идет этот светло-серый цвет, — сказал Каупервуд. — Он хорошо оттеняет твои волосы. Очень немногим женщинам к лицу такой цвет. Но я, собственно, зашел сказать тебе, что мы, по-видимому, задержимся в Лондоне. — Вот как? — спросила Эйлин, слегка повернув голову в его сторону. — Я только что заключил соглашение, о котором я тебе говорил. Остается еще оформить кое-какие подробности. Я думал, тебе интересно будет это узнать. — Ах, Фрэнк, как замечательно! — радостно воскликнула Эйлин. — Ну, я не хочу тебе мешать, у меня еще столько дела. Эйлин сразу почувствовала его желание уйти, и ей захотелось показать ему, что она не собирается его удерживать. — Да, кстати, — небрежно сказала она, — мне только что звонил мистер Толлифер, Он вернулся, и я пригласила его к обеду. Я сказала ему, что ты, может быть, не будешь обедать с нами, так как тебя могут задержать дела. Я думаю, он не обидится. — Не знаю, удастся ли мне вырваться, во всяком случае я постараюсь, — сказал Каупервуд, но Эйлин прекрасно поняла, что эта фраза ровно ничего не значит. — Хорошо, Фрэнк, — сказала она. Каупервуд помахал ей рукой и вышел. Она знала, что не увидит его теперь до утра, а то и дольше, но это его обычное равнодушие на сей раз не так огорчило ее. Толлифер, разговаривая с нею по телефону, извинился, что он так долго не давал о себе знать, и очень интересовался, не собирается ли она приехать во Францию. Эйлин несколько недоумевала, чем, собственно, она могла пленить такого блестящего молодого человека. Что может его привлекать в ней? Деньги, конечно! А все же он такой обаятельный! Приятно, когда такой человек интересуется тобой, и стоит ли задумываться о причинах. Однако главная причина, почему Толлифер добивался приезда Эйлин во Францию — хотя это и вполне совпадало с желанием Каупервуда спровадить ее куда-нибудь из Лондона, — заключалась в том, что он сам чувствовал себя в плену головокружительного Парижа. В те времена, когда автомобили были еще редкостью, Париж представлял собой город, куда стекались для развлечения богачи со всего света — американцы, англичане, русские, итальянцы, греки, бразильцы, съезжавшиеся сюда швырять деньгами, которые позволяли существовать всем этим роскошным магазинам, великолепным цветочным павильонам, бесчисленным кафе с маленькими столиками, плетеными креслами и стульями под открытым небом, катаньям в Булонском лесу, скачкам в Отейле, опере, театрам, веселым кабаре, игорным заведениям и всяческим притонам. Тогда-то и появился международный отель «Ритц», изысканные рестораны для ценителей тонкой кухни — «Кафе де ля Пэ», «Вуазен», «Маргери», «Жиру» и полдюжины других. А для поэтов, мечтателей, литераторов без сантима за душой был и оставался Латинский квартал. Для натуры артистической, для художника Париж был просто родной стихией, которая влекла и вдохновляла в любое время года — в дождливые и снежные дни, солнечной весной и жарким летом и туманной осенью. Париж пел. Пела молодежь, песни ее подхватывали старики, и честолюбцы, и богачи, и даже неудачники и отчаявшиеся. Не следует забывать, что в этом городе Толлифер впервые в своей жизни оказался с деньгами. Какое это было наслажденье — иметь возможность прекрасно одеться, остановиться в шикарном отеле, — вот как сейчас в «Ритце», — зайти, когда хочешь, в первоклассный ресторан, заглянуть в кулуары театров, в бары, раскланяться с друзьями, знакомыми! Как-то раз в воскресенье в Булонском лесу Толлифер неожиданно встретился со своей бывшей пассией Мэриголд Шумэкер из Филадельфии, ныне миссис Сидни Брэйнерд. Когда-то девчонкой она была страстно влюблена в него, но он был беден, и она предпочла ему лонг-айлендского миллиардера Брэйнерда, к которому золото само текло рекой. Теперь у нее была своя яхта, стоявшая на якоре в Ницце. Увидя Толлифера, безупречно одетого, шествующего с видом победителя, она сразу вспомнила волнующее и романтическое увлечение своей юности. Она дружески окликнула его, познакомила со всей своей свитой и дала ему свой парижский адрес. Эта встреча с Мэриголд и ее друзьями распахнула перед Толлифером многие двери, которые столько времени были для него закрыты. Но как же теперь быть с Эйлин? Не так-то все это просто. Ему придется пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы, занимая Эйлин, не упускать из вида в то же время и собственных интересов. Придется поискать для нее какую-нибудь приманку, которая поможет ему создать для нее видимость светской жизни. Он сразу же бросился наводить справки в разных отелях о знакомых актрисах, музыкантах, танцовщицах, певцах. Ему без труда удалось сговориться с ними, так как он обещал им возможность попировать на чужой счет. Обеспечив, таким образом, средства для развлечения Эйлин, если она приедет в Париж, он перенес свое внимание на модных портных — туалеты Эйлин казались ему далеко не удовлетворительными, но Толлифер полагал, что если осторожно натолкнуть ее, дать несколько тактичных советов, это дело легко поправить, а тогда уж ему можно будет, не стесняясь, ввести ее в круг своих друзей. Один из его чикагских приятелей представил его некоему аргентинцу, Виктору Леону Сабиналю, и это оказалось весьма полезным знакомством. Сабиналь, молодой человек из хорошей состоятельной семьи, приехал в Париж несколько лет назад с деньгами и рекомендательными письмами, которые сразу открыли ему доступ в самые разнообразные круги этой космополитической столицы. Но, очутившись в Париже, молодой аргентинец дал волю своей необузданной натуре и пустился во все тяжкие; он промотал все, что у него было, и в конце концов истощил терпение своих великодушных родителей. Они наотрез отказались давать ему деньги на его разгульную жизнь, и Сабиналю, так же как и Толлиферу, пришлось изворачиваться самому. Попытки поживиться на счет друзей мало-помалу привели к тому, что все приличные, солидные люди захлопнули перед ним двери. Однако кое-кто из его друзей не забывал, что Сабиналь — сын весьма состоятельных родителей, которые, наверно, когда-нибудь сменят гнев на милость и простят своего сына. А это значит, что со временем у него будут деньги, и тогда кое-что перепадет и его друзьям. Поэтому около него остался кружок легкомысленных и более или менее способных на все руки приятелей: актеры, военные, прожигатели жизни всех национальностей, интересные молодые люди и дамы, искатели приключений и легкой наживы. В то время, когда Толлифер познакомился с ним, аргентинцу, благодаря его связям с французской полицией и политиканами, удалось открыть некое веселое, приятное и вполне приличное заведенье, куда допускались только его знакомые, которые в то же время являлись и попечителями этого предприятия. Сабиналь был высокий стройный брюнет. В его длинном, узком, смуглом лице было что-то почти зловещее. Под необыкновенно высоким лбом один глаз, наполовину закрытый опущенным веком, казался узенькой черной щелкой, другой, блестящий, широко раскрытый и совершенно круглый, производил впечатление стеклянного. Верхняя губа у него была тонкая, а нижняя, не лишенная приятности, забавно выдавалась вперед; ровные крепкие зубы сверкали ослепительной белизной. Его длинные узкие руки и ноги, как и все его длинное, тонкое тело, отличались необыкновенной гибкостью и силой. В нем как-то странно сочетались неуловимая грация, хитрость и своеобразное, но весьма опасное обаяние. Чувствовалось, что этот человек не остановится ни перед чем, и плохо придется тому, кто перейдет ему дорогу. Заведение Сабиналя на улице Пигаль было открыто и днем и ночью. Приходили днем выпить чаю и оставались до утра. Обширное помещение на третьем этаже, куда поднимались в маленьком лифте, было отведено для азартных игр. Во втором этаже помещался небольшой бар с весьма расторопным барменом, соотечественником Сабиналя; в случае надобности он брал себе одного-двух, а иногда даже и трех помощников. В нижнем этаже находились прихожая, гостиная, кухня, а кроме того, картинная галерея с очень недурными картинами и довольно занятная библиотека. При доме имелся прекрасный винный погреб. Шеф-повар, тоже аргентинец, отпускал закуски, чай, обыкновенные и экстренные обеды и даже утренние завтраки; за все это платы с гостей он не брал, а получал только чаевые. Познакомившись с Сабиналем, Толлифер сразу почувствовал в нем родственную натуру, однако с гораздо более широкими возможностями. Он с удовольствием принял приглашение посетить его особняк; Он познакомился там с весьма интересными личностями: банкирами и законодателями Франции, русскими великими князьями, южноамериканскими миллионерами, греческими банкометами и тому подобной публикой и сразу решил, что здесь-то и можно будет найти для Эйлин компанию, которая покажется ей избранным великосветским кружком. Воодушевленный этим знакомством, Толлифер приехал в Лондон в самом радужном настроении. Позвонив по телефону Эйлин и условившись с ней о свидании, он посвятил остаток дня заботам о своем гардеробе. Он побывал во всех модных магазинах на Бонд-стрит и полностью экипировался для летнего сезона. Вечером он отправился в отель к Эйлин, решив предусмотрительно, что на сей раз он не будет разыгрывать влюбленного. Он будет просто бескорыстным другом — она нравится ему как человек, и ему, безо всяких задних мыслей, по-дружески хочется предоставить ей возможность повеселиться, поскольку у него здесь широкий круг светских знакомых, а она тут одна и очень скучает. Едва только Толлифер вошел и они поздоровались, Эйлин сразу начала рассказывать ему о своей поездке с Каупервудом в усадьбу лорда Хэддонфилда. — Хэддонфилд?.. — перебил ее Толлифер. — Ах, да, припоминаю. Несколько лет тому назад он приезжал в Америку. Мы с ним познакомились, кажется, в Ньюпорте или в Саутгэмптоне. Забавная фигура. Он, знаете, очень любит умных людей. Сказать правду, Толлифер никогда не встречался с Хэддонфилдом и знал о нем только понаслышке. Но он тут же заговорил о Париже, заметив вскользь, что, приехав сегодня в Лондон, он уж успел позавтракать с леди Лессинг, — Эйлин, наверно, читала о ней в утренней газете, в отделе светской хроники. Эйлин слушала его с восхищением и все больше недоумевала — а почему, собственно, этот Толлифер так сильно интересуется ею. Ясно, что никакой поддержки в обществе ему от нее не требуется. Может быть, он рассчитывает добиться чего-нибудь от Фрэнка? Возможно, но только вряд ли у него из этого что-нибудь выйдет, не такой человек Каупервуд, чтобы к нему можно было подъехать и добиться чего-то, ухаживая за его женой. Эйлин терялась в догадках, но в конце концов, несмотря на всю свою подозрительность, решила остановиться на том, что, может быть, и впрямь этот Толлифер просто находит удовольствие в ее обществе… Они пообедали в ресторане «Принц», и Толлифер в течение всего вечера занимал ее рассказами о том, как весело можно сейчас провести время в Париже, и уговаривал ее поехать туда. Он прямо-таки бредил Парижем! — Ну, а почему бы — если ваш супруг так уж занят — вам не отправиться со мной? — спросил он. — В Париже так интересно! Вы сможете везде побывать, все посмотреть, накупить всяких вещей. В этом году в Париже так весело, как еще никогда не бывало. — Мне, правда, ужасно хотелось бы поехать! — призналась Эйлин. — И в самом деле, мне надо кое-что купить. Но я не знаю, сможет ли муж поехать со мной. Толлифер выслушал ее с улыбкой и очень мягко выразил свое удивление. — Мне думается, — сказал он, — всякий занятой супруг может отпустить свою жену хотя бы на две недели за покупками в Париж. И Эйлин, прельщенная возможностью развлечься в обществе своего новообретенного друга, воскликнула: — Знаете что? Я завтра же спрошу Фрэнка и скажу вам!.. После обеда Толлифер предложил ей пойти на журфикс к Сесили Грант — актрисе из сатирического обозрения и, как он заметил вскользь, возлюбленной графа Этьена Лебара, очень милого француза, которого знает весь Лондон. По вторникам у Сесили собирался запросто интимный кружок. Толлифер сказал, что Сесили будет очень рада и ему и Эйлин. Среди гостей, собравшихся у Сесили Грант, блистала некая эксцентрическая графиня, муж которой был пэром Англии. Эйлин, почувствовав себя приобщенной к высшему свету, теперь окончательно убедилась, что Толлифер безусловно принадлежит к самому избранному обществу и обладает такими связями, каким может позавидовать даже и Каупервуд. И тут же она решила, что непременно поедет в Париж.Глава 30
Разумеется, Гривс и Хэншоу не замедлили посвятить Джонсона во все подробности своих переговоров и состоявшейся сделки с Каупервудом. Ибо Джонсон и лорд Стэйн, как и большинство пайщиков Электро-транспортной компании, были так или иначе заинтересованы во вновь проектируемых подземных линиях, и Гривсу и Хэншоу, как инженерам, важно было заручиться их расположением. Они считали, что как техническая сторона дела, так и соображения добропорядочности дают им право переуступить свой опцион кому угодно и поэтому не собирались делать из этого секрета. Прежде всего опцион принадлежал им, и, следовательно, они могли распоряжаться своим опционом как угодно, а кроме того, если даже у них когда-то и был разговор с Джонсоном о том, чтобы поставить его в известность, если они найдут покупателя, — они ничего ему не обещали, а ответили просто, что подумают. О беседе Джонсона с Джеркинсом и Клурфейном им ничего не было известно. Джонсон, со своей стороны, когда ему доложили о Гривсе и Хэншоу, чрезвычайно заинтересовался и ждал с нетерпением, что они ему скажут. В первую минуту, когда они сообщили ему о своей сделке, он с досадой подумал, что все козыри, с помощью которых он рассчитывал с самого начала осадить Каупервуда, ушли у него из рук. Но мало-помалу перспектива войти в дело с американцем стала казаться ему менее неприятной и даже вполне осуществимой. Особенно подкупило его в пользу Каупервуда то, что этот заокеанский воротила готов был разом выложить на стол тридцать тысяч фунтов стерлингов плюс еще шестьдесят тысяч за перечисление на его имя ценных бумаг и сверх того десять тысяч гарантийных, которых он не получит обратно, если не приступит к постройке в течение года. По всей видимости, покупка линии Чэринг-Кросс была для него только зацепкой, а на самом деле, как утверждал Джеркинс, у Каупервуда значительно более широкие планы: он несомненно имеет в виду объединение в дальнейшем всей лондонской подземной сети. А если так, то почему бы им в конце концов не взяться сообща за это дело и не войти со Стэйном в предприятие Каупервуда, прежде чем он успеет привлечь кого-либо другого? Во всяком случае ему и Стэйну необходимо побеседовать с Каупервудом, и об этом можно будет сговориться на заседании в конторе Каупервуда, где он, Джонсон, будет присутствовать в качестве официального лица при передаче линии Чэринг-Кросс. В половине двенадцатого, в день заседания, Каупервуд сидел у себя в конторе, рассеянно слушая Сиппенса, который, расхаживая взад и вперед, излагал ему свои соображения. Каупервуд был как-то необыкновенно задумчив. Не поступил ли он несколько опрометчиво? Ведь это — чужая страна, и он не имеет ни малейшего представления о здешних порядках, обычаях. Разумеется, если он приобретет опцион, из этого еще не следует, что он потом не сможет сбыть его с рук, — но, с другой стороны, как ни верти, во всей этой истории есть что-то поистине неотвратимое. Потому что если теперь, после того как он заполучил этот опцион, он сам выпустит его из рук, это будет иметь такой вид, будто он, Каупервуд, попробовал взяться за дело, на которое у него не хватает ни мужества, ни средств. Тут в кабинет вошли Джеркинс с Клурфейном. На лицах их было написано сознание важности порученной им роли — ведь сам Каупервуд обещал вознаградить их за проявленное ими необыкновенное рвение. Следом за ними появился секретарь Сиппенса мистер Дентон и агент Сиппенса — мистер Остэд. Затем явился мистер Китередж, преемник Сиппенса по управлению чикагскими пригородными дорогами Каупервуда, приехавший в Лондон, чтобы обсудить с патроном кое-какие чикагские дела. Последним пришел Оливер Бристол, молодой, но весьма пронырливый и дошлый юрисконсульт Каупервуда, командированный в Англию, дабы ознакомиться на месте с замысловатой системой ведения финансовых дел в Англии. Сегодня он впервые должен был выступить в роли юриста и законоведа. Каупервуд умышленно окружил себя на этот раз столь многочисленной свитой не только для того, чтобы иметь достаточное количество свидетелей при оформлении сделки, но и для того, чтобы создать возможно более торжественную обстановку и произвести впечатление на англичан. Наконец ровно в двенадцать в дверях появились мистер Гривс и мистер Хэншоу в сопровождении группы полномочных представителей Электро-транспортной компании — Джонсона, Райдера, Келторпа и Делафилда. Мистер Келторп был не кто иной, как председатель компании, мистер Райдер — вице-председатель, мистер Джонсон — юрисконсульт. Когда они вошли в кабинет и очутились лицом к лицу с знаменитым миллионером, окруженным своими приближенными и поверенными, это внушительное зрелище явно возымело свое действие. Каупервуд поднялся им навстречу и очень тепло и дружески поздоровался с Гривсом и Хэншоу, после чего те с помощью Джеркинса и Сиппенса познакомили друг с другом всех многочисленных участников этого знаменательного заседания. Больше всех других внимание Каупервуда, а также и Сиппенса привлек Джонсон. Каупервуд заинтересовался им, потому что был осведомлен о его связях, а Сиппенс — тот с первого взгляда почувствовал в нем соперника. Властная самоуверенность этого человека и что-то почти величественное в его фигуре, когда он, откашлявшись, внимательно оглядел всех собравшихся, словно ученый энтомолог, осматривающий свои коллекции насекомых, — все это ужасно возмущало Сиппенса. И не кто иной как этот Джонсон и открыл заседание. — Итак, мистер Каупервуд, и вы, уважаемые джентльмены, — начал он, — я полагаю, что все мы достаточно осведомлены о существе дела, которое привело нас сюда. И потому осмелюсь заметить — чем скорей мы приступим, тем скорей мы и покончим с этим делом. «Скажите на милость!» — презрительно фыркнул про себя Сиппенс. — Дельное замечание, присоединяюсь… — сказал Каупервуд и, нажав кнопку звонка, приказал Джемисону принести чековую книжку и папку с договорами. Джонсон вынул из большого кожаного портфеля, который подал ему стоявший позади него конторский мальчик, инвентарные и бухгалтерские книги Электро-транспортной компании, затем печать, опцион и положил все это на письменный стол Каупервуда. Каупервуд вместе с Бристолем и Китереджем тщательно ознакомился со всем этим. После того как они внимательно проверили все документы, расходные ордера и платежные обязательства, Гривс вручил Каупервуду опцион, который они с Хэншоу уступали ему, а Электро-транспортная компания, в лице своих полномочных представителей, засвидетельствовала полную его законность. Мистер Делафилд, секретарь и казначей Электро-транспортной компании, предъявил копию акта, удостоверяющего право компании на постройку линии Чэринг-Кросс. После этого мистер Блэндиш из банка Лондонского графства предъявил документ, удостоверяющий, что Фрэнк Алджернон Каупервуд передал на хранение в этот банк государственные ценные бумаги на сумму в шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. Бумаги эти перейдут в собственность мистера Каупервуда тотчас же по представлении чека на указанную сумму. Затем Каупервуд подписал и вручил мистеру Гривсу и мистеру Хэншоу чек на тридцать тысяч фунтов стерлингов, который тут же был заприходован Электро-транспортной компанией. Уполномоченный компании передал Гривсу и Хэншоу парламентскую лицензию на Чэринг-Кросс, а те, в свою очередь, сделав на ней передаточную надпись, тут же вручили ее Каупервуду. Засим Каупервуд выписал чек на шестьдесят тысяч фунтов стерлингов и получил в обмен на него от уполномоченного банка Лондонского графства документ, подтверждающий его право на владение ценными бумагами. Вслед за этим он вручил Гривсу заверенное должным образом непереуступаемое гарантийное обязательство на сумму в десять тысяч фунтов сроком на год. На этом заседание закрылось при всеобщем воодушевлении, которое едва ли могло быть отнесено на счет подобной деловой процедуры. Несомненно, оно относилось к Каупервуду и свидетельствовало о том впечатлении, какое он произвел на всех присутствующих. Наглядным доказательством тому был Келторп, председатель Электро-транспортной компании, тучный блондин лет пятидесяти, который явился сюда отнюдь не расположенный потакать этим американцам, протягивающим лапы к лондонской подземной сети. Однако столь молниеносный образ действий Каупервуда явно покорил его. Райдер внимательно разглядывал костюм Каупервуда, его превосходно сшитую песочного цвета пару, агатовые запонки в изящной золотой оправе, светло-коричневые ботинки. Да, Америка, как видно, вырастила новый, совершенно особый тип дельца. Такой человек, стоит ему только захотеть, может стать большой силой в лондонских деловых кругах. Джонсон заключил про себя, что Каупервуд в данном случае проявил несомненную проницательность и даже некоторую вполне допустимую хитрость. Разумеется, это беспощадный делец, но при столкновении различных интересов и при всяких жизненных препятствиях таким, в сущности, и следует быть. Он уже совсем было собрался уходить, когда к нему подошел Каупервуд. — Я слышал, мистер Джонсон, — сказал он, приветливо улыбаясь, — что вы сами интересуетесь вашим подземным транспортом. — Да, до некоторой степени, — учтиво и вместе с тем осторожно отвечал Джонсон. — Если я правильно осведомлен через моих поверенных, вы являетесь более или менее экспертом по вопросам, связанным с железнодорожными концессиями? Я прошел школу за океаном и, сказать вам по правде, чувствую себя здесь совсем новичком. Если вы ничего не имеете против, я был бы очень рад побеседовать с вами как нибудь на днях. Что, если бы мы с вами позавтракали или пообедали — хотя бы у меня в отеле или в каком-нибудь другом месте, где нам не помешают? Они условились встретиться во вторник на следующей неделе в отеле «Браун». Когда все вышли и в кабинете остался только Сиппенс, Каупервуд повернулся к нему и сказал: — Ну вот, де Сото. Приобрели еще кучу хлопот. А что вы скажете про этих англичан? — Да между собой-то они, может, и ничего, умеют поладить, — угрюмо отвечал Сиппенс, который все еще никак не мог подавить своего раздражения, так обозлил его этот Джонсон. — Но вам, патрон, надо быть с ними настороже. Вам надо около себя верных людей иметь, своих людей, патрон, чтобы было на кого опереться. — Так-то оно так, де Сото, — протянул Каупервуд, прекрасно понимая, что, собственно, имеет в виду Сиппенс. — Но, с другой стороны, боюсь, что мне придется взять в дело кое-кого из здешней публики, без этого не обойдется. Нельзя же рассчитывать на то, что они так сразу и согласятся, чтобы в таком крупном предприятии орудовали одни американцы. Вы это и сами понимаете. — Совершенно верно, патрон. Но только все-таки вам надо собрать побольше своих американцев, чтобы здешние дельцы вас не обморочили. Но Каупервуд уже решил про себя, что разумней будет привлечь к делу группу вот таких добропорядочных и энергичных англичан, как Джонсон, Гривс, Хэншоу и даже этот невозмутимый тип Райдер, который рта не раскрыл на заседании, но так внимательно разглядывал его. Здесь, где ему придется сразу развернуть дело и действовать решительно, кое-кто из его давних американских сотрудников окажется ему неподходящим. Он хорошо знал, что в деловом мире в критическую минуту на одном чувстве далеко не уедешь. Если жизнь чему-нибудь научила его, так именно этому. И он был отнюдь не склонен пренебрегать жестокими уроками своего беспощадного, но в высшей степени полезного, учителя.Глава 31
Несмотря на то, что обе стороны условились не давать до поры до времени в прессу никаких сведений о продаже или покупке линии Чэринг-Кросс, тем не менее новость эта как-то просочилась, — возможно, в результате разговоров Райдера, Келторпа и Делафилда. Все трое — пайщики и члены правления Электро-транспортной компании, которая теперь выпустила из рук свое имущество, — будучи озабочены неопределенностью положения, частенько обсуждали этот вопрос. Короче говоря, не прошло и нескольких дней, как Каупервуда со всех сторон начали осаждать репортеры, жаждущие услышать из его уст подтверждение распространившихся слухов. Каупервуд, не считая нужным молчать об этом, сообщил им, что передача Чэринг-Кросс уже оформляется и в ближайшее время будет должным образом зарегистрирована. Между прочим, он тут же добавил, что приехал в Лондон отнюдь не с целью что-либо покупать, ибо его предприятия в Америке требуют от него массу времени и сил, но что здесь, в Лондоне, кое-кто из предпринимателей, связанных с прокладкой подземной дороги, обратился за советом к нему как к специалисту в области финансирования и эксплуатации городского транспорта. В результате подобного рода совершенно частных разговоров он и приобрел линию Чэринг-Кросс и обещал посмотреть и обсудить кое-какие другие проекты. Выльется ли это в дальнейшем в объединение лондонского подземного транспорта и возьмется ли он за постройку сети, этого он сейчас сказать не может, ему прежде нужно основательно познакомиться с местными условиями и возможностями. В чикагской прессе это заявление вызвало бешеную, остервенелую ругань. Этот прожженный плут, только что вышвырнутый из нашего города, осмеливается явиться в Лондон и с помощью своих капиталов и присущей ему хитрости и нахальства втирается в доверие к властям английской столицы, которые предоставляют ему разрешить проблему лондонского подземного транспорта! Нет, это что-то неслыханное! По-видимому, англичанам просто не пришло в голову поинтересоваться прошлым этого уголовника! Но как только они познакомятся с его биографией, — и, конечно, они с этим медлить не станут, — его там не потерпят ни минуты. Можно с уверенностью сказать, что в Лондоне его постигнет та же участь, что и в Чикаго, где он за время своего пребывания восстановил против себя всех и до сих пор вызывает всеобщую ненависть. Не менее лестные заметки появились вслед за тем во многих других городах, в целом ряде американских газет, чьи редакторы и репортеры следовали примеру Чикаго. С другой стороны, в лондонской прессе отклик был как нельзя более благожелательный, — да оно, впрочем, и неудивительно, ибо ее общественные, финансовые и политические высказывания отличаются крайней деловитостью и отнюдь не руководствуются молвой. «Дейли мейл» выразила мнение, что такой финансист и организатор, как мистер Каупервуд, может блестяще разрешить проблему лондонского подземного транспорта, который с его устаревшим оборудованием давно уже не удовлетворяет потребностям населения столицы. «Кроникл» сетовала на отсутствие инициативы у английских финансистов и благочестиво уповала на то, что если американец по ту сторону океана, где-то в Чикаго, сумел понять, что им нужно, так, может быть, теперь лондонские предприниматели проснутся и начнут действовать сами. Примерно такого же рода заметки появились в «Таймс», «Экспресс» и других газетах. На взгляд Каупервуда эти заметки с чисто финансовой точки зрения не предвещали ничего доброго. Они привлекут к его затее внимание не только английских, но и американских дельцов, и против него подымется травля. И он оказался прав. Как только слухи о продаже линии Чэринг-Кросс получили официальное подтверждение и в газетах появились новые заметки о том, что к Каупервуду обращаются с разными предложениями и что он, по-видимому, склонен уделять внимание вопросам лондонского подземного транспорта, — все крупные пайщики Районной и Метрополитен — двух линий, которые давно уже подвергались вполне справедливым упрекам, — пришли в яростное негодованье и единодушно решили противостоять его махинациям. — Каупервуд! Каупервуд! — фыркал лорд Колвей, крупный акционер и один из двенадцати директоров компании Метрополитен и компании Сити — Южный Лондон; Колвей имел обыкновение читать газету за утренним завтраком; справа от него на столе — по соображениям чисто принципиальным — лежала «Таймс», но он сидел, уткнувшись в свою любимую «Дейли мейл». — Что эта за птица такая, этот Каупервуд? Не иначе как один из этих американских выскочек, которые таскаются по всему свету и суются не в свои дела. И какие-то у него уже советчики завелись! Любопытно, кто это? Уж не Скэрр ли с этим его дурацким проектом Бейкер-стрит — Ватерлоо? Или, может быть, Уиндэм Виллетс с его затеей Дептфорд — Бромлей? Ну и, разумеется, еще эти инженеришки, Гривс и Хэншоу! Им явно не терпится заполучить какой ни на есть подряд. А уж эта Электро-транспортная компания, ей только бы руки себе развязать — как ни как, лишь бы разделаться. Не меньше Колвея возмущался сэр Гудспет Дайтон, директор Районной и пайщик Метрополитен. Ему уже перевалило за семьдесят пять, человек он был в высшей степени консервативный и отнюдь не склонен был поощрять какие бы то ни было нововведения в лондонском подземном транспорте, в особенности если это грозило серьезными расходами. Никогда ведь нельзя сказать — окупятся они впоследствии или нет. Он встал в половине шестого и, прочитав газету за утренним чаем, теперь потихоньку прохаживался среди цветочных грядок и клумб в своем поместье в Бренфорде. Что за народ эти американцы, откуда это у них такая страсть ко всяким новшествам? Конечно, лондонская подземка не дает того дохода, который она могла бы давать, это так. И, разумеется, оборудование в известной мере можно было бы обновить, и даже с выгодой. Но с какой же стати «Таймс» и «Мейл» вздумали трезвонить об этом? И именно в связи с приездом этого американца, который безусловно смыслит в этом деле ничуть не больше, чем любой предприниматель из англичан. Ведь это не что иное, как дискредитация своих собственных британских возможностей. Просто нелепо. Англия всегда правила и будет править миром. Никакой посторонней помощи ей не требуется. Итак, сэр Гудспет Дайтон объявил себя решительным противником всякого вмешательства иностранцев в разрешение проблемы лондонского подземного транспорта. Точно такую же позицию занял и сэр Уилминггон Джимс, живший в своем загородном доме в Уимбли-Парке. Он был тоже одним из директоров Районной и отнюдь не возражал против переоборудования и расширения подземной сети. Но при чем тут американец? Будет возможность, — и англичане отлично управятся с этим сами. И примерно такого же мнения, как эти три почтенных джентльмена, придерживалось большинство директоров и крупных пайщиков акционерных компаний Метрополитен, Районной и некоторых других. Больше всех энергии и решительности проявил Колвей. Он сразу перешел в наступление. С раннего утра в тот же день он отправился в обход директоров и прежде всего явился к Стэйну — выяснить его точку зрения и обсудить, какие следует принять меры. Но Стэйн, у которого по рассказам Джонсона и по газетным заметкам сложилось скорей благоприятное мнение о Каупервуде, отвечал Колвею в высшей степени осторожно. Проект Каупервуда, на его взгляд, вещь вполне естественная, то, что напрашивается само собой. И все, за исключением разве уж самых неисправимых ретроградов, прекрасно понимают, что так именно давно и следовало подойти к делу. А сейчас, в связи с этим американским проектом новой конкурирующей сети, разумеется, надо созвать совещание директоров обеих компаний и вместе найти какой-то выход. От Стэйна Колвей отправился к сэру Уилмингтону Джимсу. Он застал его в полном расстройстве чувств. — Сто шансов против одного, вы понимаете, Колвей, — сказал он, — сто против одного: если мы не объединимся с Метрополитен, этот субъект сумеет набрать себе достаточно пайщиков в обеих компаниях, и тогда, будьте покойны, он нас проглотит, как удав. Ну, разумеется, я готов примкнуть к вам, мы должны дать отпор этому американцу; можете на меня положиться, мы будем бороться до тех пор, пока наши дивиденды находятся под охраной закона. Заручившись этой поддержкой, Колвей отправился дальше и обошел всех директоров, которых ему посчастливилось застать. Семеро из двенадцати оценили в должной мере важность его предупреждений. В результате та и другая компания созвали в ближайшую пятницу экстренные заседания директоров, и на этих заседаниях большинством голосов было решено провести на следующей неделе в четверг совместное совещание директоров обеих компаний, дабы обсудить создавшееся положение. Стэйн и Джонсон, не ожидавшие такой прыти от своих компаньонов, встретились потолковать об этом событии. В связи с предстоящим свиданием Джонсона с Каупервудом это совместное совещание директоров обеих компаний представлялось Стэйну как нельзя более своевременным и в высшей степени любопытным. — Будьте покойны, — заметил Джонсон, — ему все решительно о нас известно через этого Джеркинса, и теперь он хочет нас пощупать. — Ну что ж, — сказал Стэйн, — пора поддать пару в котел! До тех пор, пока этот Каупервуд чего-нибудь не предпримет, ни Районная, ни Метрополитен с места не сдвинутся. Сейчас они как будто зашевелились, но вряд ли это приведет к каким-нибудь серьезным результатам. Ну, можно ли ожидать, что они решатся на полное переоборудование подземки, если они до сих пор не могут столковаться и объединить обе свои ветки кольцевой линии, не говоря уже о том, чтобы электрифицировать их общими силами и пустить сквозные поезда? Пока Каупервуд не сдвинет все это с мертвой точки, они и пальцем не шевельнут. По-моему, нам надо держаться за него до тех пор, пока мы не выясним, какие у него, собственно, планы и какие шансы на то, чтобы их осуществить. А тогда уж мы сможем решить, представляет ли это реальный интерес для нас с вами. Пока у нас нет полной уверенности, что наша публика из Метрополитен и Районной раскачается предпринять нечто в этом же роде и сделает нужные шаги, я полагаю, нам надо держаться Каупервуда, ну а потом — потом будет видно; тогда, если понадобится, можно будет и с нашими столковаться. — Совершенно правильно! — вставил Джонсон. — Вполне разделяю вашу точку зрения, во всяком случае теоретически. Но не забудьте, что мое положение в этом деле несколько отличается от вашего. В качестве пайщика той и другой компании я безусловно присоединяюсь к вашему мнению, что от теперешних наших заправил многого не дождешься. Но в качестве юрисконсульта обеих компаний я должен быть весьма и весьма осторожен, ибо в моем двойственном положении необходимо взвешивать каждый шаг, и неизвестно, как это все может для меня обернуться. Вы сами понимаете, я не могу быть советником и той и другой стороны. Я считаю своим долгом и от души желаю, не становясь ни на ту, ни на другую сторону, тщательно разобраться в этом деле и постараться как-нибудь объединить английские и американские интересы. Полагаю, что меня, как юрисконсульта, не может скомпрометировать то, что мистер Каупервуд обратился ко мне, желая выяснить отношение к нему здешних кругов. Ну а в качестве пайщика компаний, я думаю, мне не возбраняется решать самому, какой проект лучше, и на правах частного лица поступить соответственно. Надеюсь, у вас нет никаких этических возражений по этому поводу? — Решительно никаких! — засмеялся Стэйн. — На мой взгляд, это вполне честная и правильная позиция для нас обоих. А если они будут возражать, — их дело. Нас это не должно беспокоить. Ну а мистер Каупервуд, конечно, сам может позаботиться о себе. — Очень рад, что вы так думаете, — сказал Джонсон. — Меня, признаться, это несколько смущало, но теперь, я полагаю, все устроится. И во всяком случае от этой моей беседы с Каупервудом никому вреда не будет. А потом, если это покажется вам интересным, мы можем с вами предпринять в этом направлении кое-какие шаги — уже втроем, — осторожно добавил он. — Ну да, разумеется втроем, — подтвердил Стэйн. — И как только у вас будет что-нибудь конкретное, вы сейчас же дайте мне знать. Во всяком случае, — прибавил он, потягиваясь и снимая со стола свои длинные ноги, — кое-чего мы с вами добились — подняли медведей от спячки. Вернее, Каупервуд сделал это за нас. Теперь нам надо притаиться и выждать, посмотрим, куда они ринуться. — Вот и я так думаю! — сказал Джонсон. — А после разговора с Каупервудом во вторник я тотчас же к вам наведаюсь.Глава 32
Обед в отеле «Браун» оказался чреват серьезнейшими последствиями не только для Джонсона и тех лиц, чьи интересы он представлял, но также и для Каупервуда и всего, чего он стремился достигнуть, хотя ни Джонсон, ни Каупервуд в то время отнюдь не сознавали этого. Каупервуду, разумеется, очень скоро стало известно, что Джонсон сильно озабочен недовольством директоров и пайщиков акционерных компаний лондонского подземного транспорта и что если он сначала воодушевился широкими замыслами американского финансиста, то сейчас он предпочитает выждать и не становиться ни на чью сторону до тех пор, пока не будет знать определенно, что, собственно, намеревается предложить им Каупервуд. Однако Каупервуд с удовлетворением обнаружил, что Джонсона чрезвычайно прельщает перспектива крупных доходов от будущей переоборудованной и усовершенствованной подземной сети, и он, в сущности, очень не прочь стать его компаньоном, если это окажется возможным. А так как Каупервуд стремился восстановить свою репутацию в глазах общества и реабилитировать себя в финансовых кругах, он склонен был предоставить Джонсону эту возможность. Он начал разговор с того, что попросил Джонсона сказать ему прямо, не скрывая, какие затруднения и препятствия неизбежно возникают перед иностранцем, задумавшим взяться за подобного рода предприятие. Такая откровенная постановка вопроса сразу обезоружила Джонсона, и он честно, без обиняков рассказал Каупервуду, как обстоит дело. Он, в сущности, повторил примерно то же, что говорил Стэйну о своем двойственном положении, и не счел нужным скрывать, что нежеланье его хозяев считаться с крупными социальными и экономическими переменами, которые как ни медленно, но с полной очевидностью совершаются в Англии, — это ничем не оправданное упрямство, даже, прямо сказать, тупоумие. Он сказал, что у них и до сего времени нет сколько-нибудь реального, трезвого представления о том, как подойти к этой задаче. А интерес, который у них теперь появился к подземке, вызван не серьезным намерением разрешить наболевший вопрос, а просто завистью и страхом, как бы чужеземец не выхватил это дело из их рук. Печально признаваться в этом, но это факт. И как бы ни хотелось ему примкнуть к Каупервуду и поддержать его безусловно разумное начинание — у него связаны руки, ибо если его, юрисконсульта Метрополитен и Районной, заподозрят в содействии иностранцу, задумавшему захватить лондонскую подземную сеть, — никому в голову не придет, что он руководствуется своими частными интересами пайщика, — он вызовет всеобщее негодование, лишится всех своих связей и возможности что-либо делать; так что его положение в высшей степени затруднительно. Тем не менее Джонсон считал, что со стороны Каупервуда попытка прибрать дело к рукам вполне законна и что с чисто практической точки зрения так и следовало поступить. По этой причине он готов помогать ему, сколь это окажется возможно. Но для этого он должен ознакомиться с планом Каупервуда во всех подробностях, чтобы иметь представление, в какой мере он сможет участвовать в этом деле. Но план Каупервуда, в который не была посвящена ни одна душа, отличался таким беззастенчивым цинизмом и коварством, что вряд ли Джонсон мог даже предположить нечто подобное. Учитывая преимущества и права, которые давало ему приобретенье в собственность одной только линии Чэринг-Кросс, и имея в виду еще кое-какие контракты, утвержденные парламентом и оказавшиеся в руках людей, заведомо не имевших денег для их осуществления, Каупервуд думал скупить их исподволь и, собрав все, что можно, попридержать до поры до времени, не говоря никому ни слова. А потом, если уж ему придется преодолевать слишком упорное сопротивление, он может прижать их всеми этими контрактами и предложить лондонцам свою собственную, новую подземную сеть, — такой ход безусловно заставит его врагов пойти на мировую.Однако, имея в руках Чэринг-Кросс — преемницу прежней Электро-транспортной компании, — он готов, если это окажется необходимым, уступить значительную долю ее акций каким-нибудь пайщикам-англичанам, с тем чтобы они помогли ему захватить в свои руки контроль над Районной подземной дорогой. И хотя Каупервуд и говорил Беренис, что он думает поставить лондонское предприятие на гораздо более бескорыстных началах, чем все его прежние предприятия, он по опыту знал: прежде всего необходимо обеспечить себе львиную долю дохода, по крайней мере до тех пор, пока у него не будет уверенности, что его на этом не околпачат, что излишняя честность с его стороны не поставит его в дурацкое положение и не приведет к краху. Он положил за правило: обеспечивать себе в любой акционерной компании, которую он возглавлял, по меньшей мере пятьдесят один процент акций и вдобавок пятьдесят один процент акций разных дочерних предприятий, которые он всегда учреждал и которыми управлял через подставных лиц. Так, например, для электрификации задуманной линии он решил учредить особую компанию по оборудованию и постройке подземных станций, которая получила бы контракт специально на электрификацию линии Чэринг-Кросс. Подобным же образом он думал организовать дочерние компании по поставке вагонов, рельсов, стальных деталей, оборудования для станций и т. п. Разумеется, все это должно было давать громадные прибыли. Но, в то время как в Чикаго прибыль шла исключительно в его собственный карман, здесь, в Лондоне, где ему предстояло вести очень тяжелую борьбу, он был готов уступить некоторую долю этих солидных доходов тем, кто будет ему наиболее полезен. Он был не прочь, если это окажется необходимым, посвятить Джонсона и Стэйна в план организации задуманной им компании по поставке оборудования; и если они действительно поддержат его и ему или, быть может, им втроем удастся получить в свои руки Метрополитен и Районную — он им откроет секрет, как с самого начала обеспечить себе верные и обильные прибыли при помощи вот такого рода вспомогательных компаний. А затем он им покажет на деле, что в процессе постройки и оборудования каждого отдельного участка сети доходы этих вспомогательных компаний будут неизменно расти; это-то и есть тот основной рычаг, при помощи которого можно выкачивать из дела колоссальную прибыль. В этом дружественном разговоре с Джонсоном Каупервуд держал себя так подкупающе просто, как если бы он и впрямь решил ничего не скрывать от своего собеседника. Однако про себя он подумывал, что перехитрить такого дельца дело нелегкое! А как раз такой человек был бы ему очень кстати, вместо старика Сиппенса — как вот только это устроить? Осторожно прощупав Джонсона со всех сторон и убедившись, что, при всей своей сдержанности и уклончивости, англичанин явно готов пойти ему навстречу, Каупервуд спросил его прямо — не согласится ли мистер Джонсон стать его главным поверенным и советником в финансовых делах, связанных с важнейшими предварительными процедурами, которые помогут им добиться объединения всех линий и участков для постройки окружной лондонской сети? Он чистосердечно признался Джонсону, что покупка линии Чэринг-Кросс сама по себе не представляла для него ни малейшего интереса, если он не сможет воспользоваться ею как отмычкой, которая откроет ему доступ к другим линиям. — Признаться вам откровенно, мистер Джонсон, — сказал он самым искренним, самым подкупающим тоном, — я, прежде чем приехать сюда, довольно подробно ознакомился с положением на вашей подземке. И не хуже вас понимаю, что ваша центральная кольцевая линия — это, в сущности, ключ ко всей сети в целом. Кроме того, мне известно также, что вы, как и лорд Стэйн, принадлежите к основному ядру крупных пайщиков в компании Районной линии. Так вот я желал бы знать, есть ли какая-нибудь возможность с вашей помощью добиться объединения Чэринг-Кросс с Метрополитен, Районной и прочими линиями? — Это отнюдь не легкое дело, — с глубокомысленным видом протянул Джонсон. — У нас большую роль играют традиции, и англичане очень держатся за них. Если я вас правильно понял, вы имеете в виду такую систему, которая объединила бы вашу линию с другими и в частности с центральной кольцевой линией, и вы, разумеется, возглавили бы все это. — Правильно, — отвечал Каупервуд, — и, смею вас заверить, вы об этом не пожалели бы. — Вам нет надобности говорить мне это, мистер Каупервуд, но над этим надо основательно подумать, выяснить разные обстоятельства, навести кой-какие справки. И вот когда я все это досконально изучу, тогда мы с вами сможем еще вернуться к этому вопросу. — Конечно, — отвечал Каупервуд. — Это я понимаю. Да я и сам думаю уехать куда-нибудь ненадолго. Давайте встретимся недели через полторы, через две? На этом они расстались, крепко пожав друг другу руки. Джонсон возвращался к себе в сильно приподнятом настроении, воодушевленный мечтами о широкой деятельности и не менее широких доходах. Пожалуй, ему уж несколько поздновато праздновать победу в этом деле, которому он посвятил всю свою жизнь. Но сейчас, по-видимому, успех обеспечен. А Каупервуд, оставшись один, погрузился в практические размышления о предстоящих ему финансовых операциях. В конце концов волшебное заклинание «Сезам, откройся» на сей раз оказывалось проще простого: выложить достаточное количество фунтов стерлингов. Потрясти полной мошной перед глазами ссорящихся между собой пайщиков, и, какие бы у них там ни были разногласия, можно наверняка поручиться — все они ухватятся за эту мошну и забудут, о чем спорили. Предложить этим несговорчивым директорам и акционерам, скажем, два, три или даже четыре фунта стерлингов за каждый фунт акций, имеющихся у них на руках. Учредительская прибыль, которая в избытке потечет к нему от его дочерних компаний, и самый рост движения на подземке в таком громадном и быстро растущем городе, как Лондон, безусловно не только покроют эту баснословную цену, которую он готов им предложить, но со временем принесут ему такие проценты, какие этой публике и не снились. Итак, прежде всего — заполучить в руки контроль. А затем объединить все линии, каких бы денег это ни стоило. Время и все возрастающие мировые финансовые обороты постепенно окупят все это с лихвой. Но, конечно, ему отнюдь не улыбается финансировать все эти предварительные расходы из собственного кармана, и придется, пожалуй, в ближайшее время поехать в Соединенные Штаты. Там уж он постарается изобразить это предприятие в самых заманчивых красках: нелегкое дело выцарапать из банков, синдикатов и у отдельных капиталистов, чьи алчные повадки он хорошо изучил, солидные займы для будущей контролирующей акционерной компании; но это даст ему возможность совершить оборот — завладеть лондонской подземкой, а потом, со временем, и вернуть долг своим заимодавцам-акционерам из расчета по меньшей мере два-три доллара за доллар. Но сейчас ему прежде всего надо отдохнуть и съездить куда-нибудь с Беренис. А когда он вернется, тогда можно будет еще раз побеседовать с Джонсоном и встретиться с этим лордом Стэйном, потому что несомненно от этих двоих многое зависит.Глава 33
Поглощенный всеми этими делами и хлопотами, Каупервуд едва урывал время, чтобы повидаться с своей возлюбленной. Эйлин между тем уехала в Париж, а Беренис с матерью перебрались в Прайорс-Ков. Беренис, по-видимому, была тоже очень занята — ездила по магазинам, что-то устраивала. Она с увлечением покупала всякие изящные пустячки, и это в глазах Каупервуда придавало ей еще больше очарования. «Сколько в ней жизни! — часто думал он. — Какая способность радоваться, какая жажда ко всему, она и меня заражает ею. Ее все решительно интересует и поэтому вполне естественно, что и с ней всем интересно». Приехав к ней впервые в Прайорс-Ков, Каупервуд обнаружил, что у них уже все налажено и устроено как нельзя лучше. В доме целый штат прислуги: повар, горничные, экономка, дворецкий, не говоря уже о садовниках и пастухах, которых держал лорд Стэйн. И Беренис радовалась и от души наслаждалась прелестями сельской жизни; но искренне ли это было, или, может быть, только поза, Каупервуд наверное не мог сказать. Казалось, она не только любит природу, но как-то особенно чувствует ее. Какая-нибудь птичка, цветок, дерево, бабочка могли иной раз растрогать и потрясти ее. Если и это было игрой, пожалуй сама Мария-Антуанетта могла бы позавидовать такому мастерству. Когда Каупервуд приехал, Беренис стояла во дворе с пастухом, который пригнал стадо овец, чтобы показать ей ягнят. Увидев коляску Каупервуда, подкатившую по главной аллее, Беренис схватила на руки самого маленького, самого курчавого ягненка. Эта прелестная картинка восхитила, но нимало не обманула Каупервуда. «Позерство, — подумал он, — впрочем, ведь это для меня». — Пастушка со своими овечками! — шутливо приветствовал он ее и, наклонившись, погладил ягненка у нее на руках. — Прелестные созданья — появятся на свет и тут же исчезают, как весенние цветочки. Он сразу заметил ее изящное летнее платье и подумал, что она способна изобрести для себя и ввести в моду нечто совершенно необычайное, и самый фантастический наряд на ней будет казаться вполне естественным. У нее был какой-то особый дар входить в любую принятую ею на себя роль с такой непринужденностью, что трудно было сказать, поза это или просто у нее так выходит само собой. — Если бы вы приехали чуть-чуть пораньше, — сказала Беренис, — вы бы застали нашего соседа, Артура Тэвистока. Он помогал мне устраиваться. Ему пришлось поехать в Лондон, но завтра он опять приедет мне помогать. — Вот как, — засмеялся Каупервуд, — скажите, какая деловитая хозяйка! Заставляет работать гостей! Или здесь уж так принято, что работа считается главным развлечением? А меня что заставят делать? — Бегать по поручениям. У меня столько их накопилось! — Да ведь я с этого начал свою карьеру! — Берегитесь, как бы вам не пришлось этим и кончить… Идем, милый, — тихонько шепнула она и тут же, подозвав пастуха, передала ему ягненка и взяла Каупервуда под руку. Они пошли по зеленой лужайке к плавучему домику. Там на веранде под тентом был сервирован стол. В глубине у открытого окна сидела миссис Картер с книгой в руках. Каупервуд весело поздоровался с ней, и Беренис повела его к столу. — Ну вот, садись и наслаждайся природой! — скомандовала она. — Отдыхай и выкинь из головы Лондон и все свои дела. И она поставила перед ним графин с мятной настойкой — любимый его напиток. — А теперь хочешь послушать, что я для нас с тобой придумала, если ты будешь свободен? Ты как думаешь, будет у тебя время? — Сколько хочешь, милочка! — отвечал он. — Я все устроил. Мы с тобой вольные птицы; Эйлин в Париже, — прибавил он, понизив голос, — и, как она говорила, пробудет там по меньшей мере дней десять. Так что же ты такое придумала? — Мы едем осматривать английские соборы — мама, дочка и ее почтенный опекун, — объявила Беренис. — Мне так всегда хотелось побывать в Кентербери, Йорке и в Уэльсе! Нет, правда, ты должен выкроить на это время, раз уж мы не можем поехать на континент. — Прекрасная идея! Я, признаться, очень мало знаю Англию и для меня это будет большое удовольствие. И мы будем совсем одни, — он сжал ее руку, и Беренис поцеловала его в голову. — Ты не думай, что я здесь сижу и ничего не знаю; о тебе так трезвонят в газетах, что и здесь слышно. У нас тут уже известно, что мой достопочтенный опекун и есть тот самый знаменитый Каупервуд; Мой агент по доставке мебели так прямо и спросил меня: правда ли, что мой опекун и американский миллионер, о котором напечатано в «Кроникл», это одно и то же лицо? Мне, разумеется, пришлось подтвердить. Но Артур Тэвисток, по-видимому, считает вполне естественным, что мой попечитель — такая выдающаяся личность. Каупервуд усмехнулся. — А что думает по этому поводу прислуга, этим ты, надеюсь, тоже поинтересовалась? — Разумеется, милый. Это очень неприятно, но ничего не поделаешь. Поэтому мне и хочется уехать с тобой куда-нибудь. А теперь, если ты отдохнул, идем-ка, я покажу тебе что-то очень интересное. Она поднялась и с улыбкой поманила Каупервуда за собой. Они прошли через открытый холл в спальню, и Беренис, подойдя к столу, выдвинула ящик и вытащила оттуда две головных щетки с гербами графа Стэйна, выгравированными на серебряных спинках, запонку и несколько шпилек. — Вот если бы по этим шпилькам можно было так же легко узнать, кому они принадлежат, как по этим графским щеткам, — перед нами открылся бы целый роман! — сказала она лукаво. — Но я, конечно, не выдам тайну благородного лорда. В это время из-за деревьев, окружавших виллу, раздался звук овечьих бубенцов. — Вот! — воскликнула она. — Когда услышишь эти колокольчики, где бы ты ни находился, не забудь, пожалуйста, это значит — пора идти обедать. Так у нас здесь заведено вместо почтительных приглашений дворецкого. Маршрут экскурсии, задуманной Беренис, проходил к югу от Лондона. Первая остановка была намечена в Рочестере, потом в Кентербери. Почтив эту божественную поэму, запечатленную в камне, они отправятся в какое-нибудь тихое убежище на берегу реки Стур; не в какую-нибудь шумную гостиницу или отель, где сразу нарушится скромная, уединенная простота их поэтического паломничества, а в маленькую деревенскую харчевню, где им отведут комнатку с камельком и будут кормить самой простой английской пищей. Ибо Беренис читала Чосера и много других книг про эти английские соборы, и ей хотелось теперь погрузиться в тот мир, который их создал. Из Кентербери они отправятся в Винчестер, потом в Солсбери и в Стонхэндж; оттуда в Уэльс, в Гладстонбери, Бат, Оксфорд, Питерборо, Йорк, Кембридж — и домой. Но всюду — она это ставила условием — они будут избегать всяких специально построенных для туристов заведений, будут выбирать самые уединенные харчевни, самые глухие деревушки. — Это будет очень полезно всем нам, — говорила Беренис, — мы слишком избаловались. И может быть, если ты поглядишь хорошенько на все эти прекрасные старинные здания, ты и сам станешь покрасивее строить подземные станции. — Тогда и тебе уже придется довольствоваться простенькими холщовыми платьицами, — усмехнулся Каупервуд.Для Каупервуда прелесть этой поездки заключалась отнюдь не в соборах, деревушках и харчевнях, а в необычайной восприимчивости Беренис, ее способности чувствовать красоту и жадно впитывать новые впечатления. Ну какая из его знакомых женщин, будь у нее возможность поехать весной в Париж и в Европу, предпочла бы такой поездке осмотр каких-то английских соборов? Но Беренис была не такая, как все. Казалось, она умела находить в самой себе источники радости, в которых она черпала то, что ей было нужно. В Рочестере их водил гид, который рассказывал им о короле Иоанне, Вильяме Руфусе, Симоне де Монфоре, Уоте Тайлере; Каупервуд, зевая, отмахивался от этих призраков. Они отжили свое, эти люди или какие-то непостижимые существа; по-своему насладились жизнью, потворствуя своим прихотям и желаниям, и давно уже обратились в ничто, как случится и со всеми нами, кто живет на земле. Куда приятнее смотреть на солнечные блики, сверкающие на реке, дышать свежим весенним воздухом. Даже и Беренис как будто была несколько разочарована будничным видом этого мертвого великолепия. Но в Кентербери настроение у всех сразу изменилось, даже у миссис Картер, которая, признаться, отнюдь не интересовалась тонкостями церковной архитектуры. — Ах, вот здесь мне очень нравится! — неожиданно заявила она, когда они вышли на узкую извилистую кентерберийскую уличку. — Как бы мне хотелось знать, какой из этих дорог шли пилигримы! — сказала Беренис. — Может быть, как раз этой? Смотрите-ка, вот он, собор! И она показала на башню и стрельчатые арки, выступавшие вдалеке за крышей какого-то каменного здания. — Недурно, — заметил Каупервуд. — И денек сегодня выдался подходящий… Ну как, сначала позавтракаем или будем наслаждаться собором? — Сначала собор, — заявила Беренис. — А потом довольствоваться холодной закуской, — язвительно заметила миссис Картер. — Мама! — негодующе воскликнула Беренис; — И тебе не стыдно, в Кентербери! — Ну, я достаточно хорошо знаю эти английские гостиницы. Лучше совсем не ходить к столу, чем прийти последней; всегда надо стараться прийти первой. — Вот вам религия в тысяча девятисотом году, — усмехнулся Каупервуд. — Пасует перед какой-то деревенской гостиницей! — Я ни одного слова не говорила против религии! — возмутилась миссис Картер. — Церкви — это совсем другое, ничего они общего с верой не имеют. Кентербери. Монастырская ограда Х века. Извилистые горбатые улички. А за стенами — тишина, величественные, потемневшие от времени шпили, башни, массивные контрфорсы собора. Галки взлетают с криком, ссорясь друг с дружкой из-за места повыше. А какое множество могил, склепов, надгробных памятников — Генрих IV, Фома Бекет, архиепископ Лод, гугеноты и Эдуард — Черный Принц. Беренис никак нельзя было оторвать от всего этого. Кучки туристов с проводниками медленно бродили среди могил, переходя от памятника к памятнику. В склепе под маленькой часовней, где когда-то скрывались гугеноты, где они совершали богослужения и сами пряли себе одежду, Беренис долго стояла задумавшись, с путеводителем в руке. И так же долго она стояла у могилы Фомы Бекета, погребенного на том самом месте, где он был убит. Каупервуд, которому казалось вполне достаточным иметь общее представление о соборе, с трудом сдерживал зевоту. Что ему до этих давно истлевших мужчин и женщин, когда он так полно живет настоящим. Походив немного, он незаметно выбрался за ограду. Ему доставляло больше удовольствия смотреть на тенистую зелень парка, бродить по дорожкам, обсаженным цветами, и отсюда поглядывать на собор. Эти тяжелые арки и башни, цветные стекла, вся эта старательно украшенная церковная обитель несомненно являла величественное зрелище, но ведь все это создано трудами, упорством, усилиями и стремлениями таких же себялюбцев, ожесточенно отстаивавших свои интересы, как и он сам. А сколько кровопролитных войн вели они между собой из-за этого самого собора! И вот теперь они мирно покоятся в его ограде, осененные благодатью, глубоко чтимые — благородные мертвецы. Но разве человек может быть по-настоящему благороден? Была ли на свете хоть одна бесспорно благородная душа? Трудно поверить. Люди живут убийством, все без исключения. И предаются похоти, чтобы воспроизводить себе подобных. Подлинная история человечества — это, в сущности, войны, корыстолюбие, тщеславие, жестокость, алчность, пороки, и только слабые придумывают себе какого-то бога, спасителя, к которому они взывают о помощи. А сильные пользуются этой верой в бога, чтобы порабощать слабых, и с помощью как раз вот таких храмов и святынь, как эта… Так размышлял Каупервуд, прогуливаясь по дорожкам, чувствую себя даже как-то подавленным этой бесплодной красотой возвышавшейся перед ним старинной обители. Но достаточно ему было взглянуть на Беренис, внимательно разглядывавшую по ту сторону ограды какую-нибудь надпись на кресте или могильную плиту, чтобы обрести привычное равновесие духа; Бывали минуты, вот как сейчас, когда в Беренис появлялось что-то почти отрешенное, какая-то внутренняя сосредоточенная духовная красота, которая затмевала в ней блеск языческой современности, придающей ей ослепительную яркость огненно-красного цветка. Возможно, думал Каупервуд, ее увлечение этими истертыми памятниками и призраками прошлого и при этом такая любовь к роскоши сродни его собственному увлечению живописью и той радости, какую он испытывает от сознания своей силы. Если так, он готов отнестись с уважением к ее чувствам. Ему тут же пришлось проявить это на деле, потому что, когда их паломничество окончилось и они уже собирались идти обедать, Беренис неожиданно заявила: — Мы вернемся сюда после обеда. Вечером будет молодой месяц. — Вот как! — удивленно протянул Каупервуд. Миссис Картер зевнула и сказала, что она ни за что больше не пойдет. Она после обеда приляжет отдохнуть у себя в комнате. — Хорошо, мама, — уступила Беренис, — но Фрэнк ради спасения своей души должен непременно пойти. — Вот до чего дошло, — оказывается, у меня есть душа! — снисходительно пошутил Каупервуд. — Итак, вечером, после непритязательного обеда в гостинице, они пошли вдвоем по сумеречным улицам. Когда они вошли в черные резные ворота монастырской ограды, тоненький белый серпик молодого месяца в темно-синем куполе неба казался каким-то резным орнаментом на верхушке шпиля, венчавшим высокий стройный силуэт собора. Сначала, повинуясь прихоти Беренис, Каупервуд покорно смотрел на все, что она ему показывала, но внезапно его захватило ее волнение. Какое же счастье быть молодым, так волноваться, так остро чувствовать каждый оттенок краски, звук, форму и всю непостижимую бессмысленность человеческой деятельности. Но мысли Беренис были поглощены не только забытыми образами далекого прошлого, мечтами, надеждами, страхами, которые созидали все это, но и загадочной беспредельностью вечно безгласного времени и пространства. Ах, если бы все это можно было объять! Вооружиться знанием, проникнуть пытливой мыслью, найти какой-то смысл, оправдание жизни! Неужели и ее собственная жизнь сведется всего-навсего к трезвой, расчетливой, бездушной решимости занять какое-то общественное положение или заставить признать себя как личность? Что пользы от этого ей или кому-то другому? Разве это принесет красоту, вдохновенье? Вот здесь… сейчас… в этом месте, пронизанном воспоминаниями прошлого и лунным светом, что-то говорит ее сердцу… словно предлагая ей мир… покой… одиночество… стремление создать нечто невыразимо прекрасное, что наполнит ее жизнь, сделает ее осмысленной и значительной. Боже, какие нелепые мечты… Этот лунный свет заворожил ее. Чего ей еще желать! У нее есть все, что только может желать женщина. — Пойдем, Фрэнк! — сказала она, чувствуя, как что-то оборвалось в ее душе, как это пронзившее ее ощущение красоты вдруг исчезло. — Пойдем в гостиницу.
Глава 34
В то время как Каупервуд и Беренис осматривали старинные английские соборы, Эйлин с Толлифером наслаждались сутолокой парижских кафе, модных магазинов и разных увеселительных заведений. Как только Толлиферу стало известно, что Эйлин едет в Париж, он тотчас же выехал из Лондона и, опередив ее на сутки, подготовил к ее приезду целую программу самых разнообразных развлечений, с помощью которых он надеялся задержать ее здесь как можно дольше. Он знал, что Эйлин не первый раз в столице Франции, что в прежние годы, когда Каупервуду самому было приятно доставить ей удовольствие, он возил ее по всяким модным курортам, она побывала с ним во многих городах Европы. Эйлин часто вспоминала об этой счастливой поре своей жизни. И здесь эти воспоминания вставали перед ней на каждом шагу. Однако в обществе Толлифера ей не приходилось скучать. Вечером в день приезда он зашел к ней в отель «Ритц», где она остановилась со своей горничной. Эйлин была несколько растеряна и втайне недоумевала — зачем она, собственно, сюда приехала? Конечно, ей хотелось съездить в Париж, но ведь она мечтала поехать с Каупервудом. Правда, на этот раз у нее не было никаких оснований сомневаться в том, что супруг ее действительно занят по горло — он так много рассказывал ей о своих лондонских делах и о них столько шумели в прессе. Как-то раз она встретила Сиппенса в вестибюле отеля «Сесиль», и он, захлебываясь от восторга, стал рассказывать ей обо всех этих запутанных делах, которыми сейчас поглощен Каупервуд. — Да если он это дело доведет до конца, он, миссис Каупервуд, прямо весь город перевернет! — сказал Сиппенс. — Боюсь только, как бы он не слишком заработался, — добавил он, хотя, сказать по правде, если он чего-нибудь и боялся, так отнюдь не этого. — Ведь он уж не так молод… Но знаете, по-моему, с годами он сделался еще энергичнее и проворней. — Да, я знаю, знаю! — отвечала ему Эйлин. — Что бы вы мне ни сказали о Фрэнке, это для меня не новость. Такой уж это человек, у него всегда будут дела, пока в могилу не ляжет. Этот разговор с Сиппенсом несколько успокоил Эйлин. Разумеется, он говорил правду, — а все-таки в душе у нее шевелилось подозрение: как ни занят Каупервуд, а наверно у него есть какая-нибудь женщина… может быть, эта Беренис Флеминг. Но кто бы там ни был, она. Эйлин, — миссис Фрэнк Каупервуд. Она утешалась сознанием, что где бы и когда бы ни произнесли ее имя, все оборачивались и с интересом смотрели на нее: в магазинах, отелях, ресторанах. А потом еще этот Брюс Толлифер… Едва только она приехала, и уж он тут как тут. И какой красивый, обаятельный. — А вы все-таки послушались моего совета, — весело сказал он, входя в комнату. — Ну, теперь, раз уж вы здесь, я беру на себя полную ответственность за вас. Если вы в настроении, извольте немедленно одеваться к обеду. Я пригласил кое-кого из моих друзей, и мы хотим отпраздновать ваш приезд. Вы знаете Сидни Брэйнерда из Нью-Йорка? — Да, — отвечала Эйлин в полном смятении чувств. Она знала понаслышке, что Брэйнерды — люди очень богатые и с видным общественным положением Миссис Брейнерд, сколько она могла припомнить, это Мэриголд Шумэкер из Филадельфии. — Миссис Брэйнерд сейчас здесь, в Париже, — продолжал Толлифер. — Она и еще кое-кто из ее друзей обедают с нами сегодня у «Максима». А потом мы поедем к одному презабавному аргентинцу. Он вам очень понравится, я уверен. Вы как думаете, через час вы будете готовы? — и он повернулся на каблуках с видом человека, который предвкушает очень весело провести вечер. — Я думаю! — смеясь, отвечала Эйлин. — Но если вы хотите, чтобы я успела, вы должны сию же минуту уйти. — Превосходно! — отвечал Толлифер. — Удаляюсь! Мне бы хотелось видеть вас во всем белом, если у вас есть, и, знаете, темно-красные розы. Вы будете просто ослепительны! Эйлин даже вспыхнула от такой фамильярности. Какой, однако, самоуверенный этот кабальеро!.. — Хорошо, надену, — задорно улыбнувшись, отвечала она. — Если только мне удастся найти это платье. — Великолепно! Итак, я возвращаюсь за вами ровно через час. А пока — до свиданья! Он поклонился и исчез. Одеваясь, Эйлин снова и снова задавала себе вопрос — как объяснить это внезапное, настойчивое и самоуверенное ухаживанье Толлифера? По всему видно, что он не без денег. Но с такими прекрасными связями и знакомствами… чего он, собственно, добивается от нее? И почему эта миссис Брэйнерд принимает участие в вечеринке, которая устраивается, по-видимому, не ради нее? Но, как ни смущали ее все эти противоречивые мысли, все-таки дружба с Толлифером — какие бы у него там ни были виды — прельщала и радовала ее. Если даже это просто расчетливый авантюрист, домогающийся денег, как и многие другие, — во всяком случае он очень умен, прекрасно держит себя, и потом у него столько изобретательности по части всяких развлечений и такие возможности, каких ни у кого из тех, с кем она встречалась последние годы, и в помине не было. Все это были такие неинтересные люди, и их манеры иной раз страшно раздражали ее. — Готовы? — весело воскликнул Толлифер, входя к ней ровно через час и окидывая взглядом ее белое платье и темные розы у пояса. — Если мы сейчас выедем, мы будем как раз во-время. Миссис Брэйнерд приедет со своим приятелем — греком, молодым банкиром. А ее подруга миссис Джюди Торн — я, правда, ее не знаю — приведет с собой настоящего арабского шейха Ибрагима Аббасбея, который бог ведает зачем приехал сюда в Париж. Но хорошо, что он хоть говорит по-английски. И грек тоже. Толлифер был несколько возбужден и держал себя в высшей степени непринужденно. Он важно разгуливал по комнате, опьяненный сознанием, что вот наконец-то он снова чувствует себя по-настоящему в форме. Он очень насмешил Эйлин, когда вдруг ни с того ни с сего начал возмущаться меблировкой ее номера. — Вы только посмотрите на эти портьеры! Вот на всем этом они здесь и наживаются! А сейчас, когда я подымался в лифте, он весь скрипел. Представить себе что-нибудь подобное в Нью-Йорке! И ведь это именно такие люди, как вы, и дают им возможность грабить. — Разве уж здесь так плохо? — чувствуя себя польщенной, улыбнулась Эйлин. — А я, признаться, даже не обратила внимания. Да и где, собственно, можно было бы еще остановиться? Он ткнул пальцем в шелковый абажур высокой алебастровой лампы. — Смотрите, винное пятно! А вот кто-то тушил папироски об этот так называемый гобелен. И я, знаете, не удивляюсь! Эйлин очень забавляла эта истинно мужская придирчивость. — Да полно вам, — смеясь, сказала она. — Мы могли бы попасть в какую-нибудь гостиницу, где во сто раз хуже. И, знаете, мы заставляем ждать ваших гостей. — Да, верно. Интересно, пробовал ли когда-нибудь этот шейх наше американское виски? Вот мы сейчас это узнаем!Ресторан «Максим» в 1900 году. Навощенные до зеркального блеска черные полы отражают красные, в помпейском стиле, стены, вызолоченный потолок и переливающиеся огни трех огромных хрустальных люстр с бесчисленными подвесками. Массивные входные двери и еще дверь в глубине; все остальное пространство вдоль стен уставлено красновато-коричневыми диванчиками, и перед каждым маленький уютный столик, сервированный для ужина. Интимная, типично французская атмосфера, — она словно завладевает вашими чувствами, рассудком и погружает вас в сладостное забытье, которого все жаждут, все ищут в наши дни и обретают только в одном единственном месте — в Париже. Едва только вы входите — вы сразу переноситесь в какой-то блаженный мир видений: лица, типы, костюмы, пестрая сутолока, смешение всех национальностей, пышный парад богатства, славы, титулов, могущества, власти — и все это туго затянуто в привычную, традиционную форму светских условностей, кичится ими и вместе с тем жаждет освободиться от них. Потому-то и стекается сюда эта роскошная публика, ибо здесь, не нарушая светской благопристойности, она может вдосталь насладиться непристойным зрелищем — главной приманкой программы светских увеселений. Эйлин, замирая от восторга, с любопытством смотрела на всю эту публику, чувствуя, что и на нее тоже смотрят. Как, собственно, и предвидел Толлифер, друзья его несколько запоздали. — Наверно, этот шейх плутает где-нибудь, он первый раз в Париже, — сказал он. Но через несколько минут появились две пары — миссис Брэйнерд со своим греком и миссис Торн со своим арабом. Шейх привлек всеобщее внимание, по столикам пронесся шепот, послышались возгласы, — ему смотрели вслед, оборачивались. Толлифер с важным видом принялся командовать полудюжиной официантов, которые, как мухи, кружили вокруг стола. Шейх, к великому удовольствию Толлифера, сразу устремился к Эйлин. Ее округлые формы, золотистые волосы и белая кожа пленили его сильней, чем тонкая и менее пышная грация миссис Брэйнерд или миссис Торн. Он никого не замечал, кроме Эйлин, и, усевшись около нее, стал атаковать ее учтивейшими расспросами. Откуда она приехала? А ее супруг — он, наверное, тоже миллионер, как и все американцы? Не подарит ли она ему на память одну из своих роз? Ему так нравится этот темно-красный цвет! Была ли она когда-нибудь в Аравии? Ей бы наверное понравилась кочевая жизнь бедуинов. Аравия необычайно красивая страна! Эйлин, чувствуя на себе пристальный взгляд его пылающих черных глаз, поглядывала на его смуглое лицо с длинным горбатым носом, красиво подстриженной холеной бородкой — и сладко робела. Представить себя возлюбленной такого человека… Что сталось бы с ней, если бы она действительно поехала в Аравию и попала в лапы такого чудовища? И хотя она улыбалась и отвечала на все его вопросы, ей было приятно чувствовать, что Толлифер и его друзья — здесь рядом, несмотря на то, что их насмешливые взгляды немножко задевали ее. Шейх Ибрагим, выяснив, что она пробудет в Париже несколько дней, просил разрешения нанести визит… Он привез свою лошадь на парижские скачки, на Большой приз. Миссис Каупервуд должна непременно пойти с ним, поглядеть на его лошадку. А потом, может быть, они где-нибудь пообедают вместе. Она, конечно, остановилась в отеле «Ритц»? А-а… а он… у него особняк на улице Сайд, около Булонского леса.

Во время этой сцены Толлифер всеми силами старался очаровать Мэриголд, а та, кокетничая, подшучивала над его романтической привязанностью к Эйлин, хотя характер этой привязанности был для нее совершенно очевиден. — Скажите, Брюс, — поддразнивала она его, — что же нам теперь, бедняжкам, останется делать, раз вы завели себе такую необъятно пышную пассию? — Если речь идет о вас, вам стоит только шепнуть мне, и я к вашим услугам. Не могу похвастаться, чтобы меня так уж сильно осаждали. — Вот как! Неужели бедняжка так одинок? — Да, одинок. И больше, чем вы можете предположить, — грустно отвечал он. — А как же насчет вашего супруга? Он ничего не будет иметь против постороннего вмешательства? — Ну, об этом можно не беспокоиться, — отвечала она, улыбаясь и подзадоривая его. — Просто он подвернулся мне прежде, чем я встретилась с вами. А кстати, ну-ка, напомните, сколько лет прошло с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз? — Да немало. А кто виноват? Но скажите мне, что это за разговоры о вашей яхте? — Ах, это о моем капитане? Клянусь вам, просто шкипер на жалованье. Не хотите ли отправиться со мной в кругосветное плаванье? Толлифер почувствовал себя в затруднительном положении. В кои-то веки ему подвернулся такой замечательный случай, то, о чем он мечтал всю жизнь, но сейчас он никак не может этим воспользоваться — потому что, если он откажется от взятого им на себя обязательства, все его благополучие сразу кончится, все полетит к черту. — Охотно, — сказал он посмеиваясь, — надеюсь, вы не завтра отплываете? — О нет! — Но, если это серьезно, то, смотрите, берегитесь! — Уверяю вас, никогда в жизни я не была более серьезна! — отвечала она. — Посмотрим. Во всяком случае обещайте позавтракать со мной как-нибудь на этой неделе. Хорошо? А потом мы с вами прокатимся в Тюильри. Подали счет, Толлифер расплатился, и они уехали. Полночь. У Сабиналя. Как всегда полным-полно народу. Рулетка. Карты. Танцы. Оживленные группы и томно уединяющиеся парочки. Сабиналь сам вышел приветствовать Толлифера и его друзей и предложил расположиться в его собственных апартаментах до часу ночи, пока не приедет труппа русских танцовщиц и певцов. У Сабиналя была недурная коллекция драгоценных камней, средневекового итальянского стекла и серебра, редких восточных тканей самой необычной расцветки. Но гораздо более сильное впечатление, чем все его коллекции, которые он показывал как бы между прочим, с очаровательной небрежностью, производил он сам: вкрадчивая, похожая на Мефистофеля, загадочная личность, от которой словно исходил какой-то магнетический ток, странная неуловимая сила, действующая, как наркотик. Он перевидал за свою жизнь столько интересных людей, бывал в таких любопытнейших местах. Осенью он намерен отправиться в путешествие. Закроет на время свой особняк и уедет на Восток собирать всякие редкости, которые потом перепродаст частным коллекционерам. Такие поездки приносят ему недурной доход! Сабиналь прямо обворожил Эйлин, да и всех остальных. Ей ужасно понравился этот особнячок. Тем более что Толлифер никому из них не обмолвился ни словом о коммерческих началах этого интимного заведения. Разумеется, он потом пошлет чек Сабиналю, но они-то все ушли в полной уверенности, что Сабиналь просто его близкий друг!
Глава 35
Толлифер еще раз почувствовал всю важность возложенного на него поручения, получив на третий день после приезда Эйлин две тысячи долларов из парижского отделения Центрального нью-йоркского кредитного общества, которое еще в Нью-Йорке рекомендовало ему держать связь сих лондонским и парижским отделениями. С Эйлин все обстояло как нельзя лучше. Она явно была расположена к нему. Когда он часов через пять после их визита к Сабиналю позвонил ей по телефону и предложил пойти куда-нибудь позавтракать, он безошибочно мог заключить по ее тону, что она рада его звонку. Ее и в самом деле радовала эта дружеская близость с человеком, который по всей видимости действительно интересовался ею. В некоторых отношениях он даже чем-то напоминал ей прежнего Каупервуда: такой энергичный, заботливый и такой веселый. Толлифер, посвистывая, отошел от телефона. Он и сам теперь относился к Эйлин несколько теплее и сердечнее, чем в то время, когда он еще только вступал в свои обязанности. Узнав ее ближе, он понял, что любовь Каупервуда была для нее всем в жизни и что ей нелегко примириться с такой утратой. Он и сам нередко бывал в удрученном состоянии — ведь ему тоже приходилось мириться со своим положением, и он искренне сочувствовал ей. Накануне, у Сабиналя, когда Мэриголд и миссис Тори как будто ненароком не замечали ее и болтали друг с дружкой, он ловил на ее лице беспомощное и растерянное выражение. Он даже ненадолго увел ее из-за этого к рулеточному колесу. Безусловно, опекать ее нелегкое дело, но это его обязанность и от успеха в этом деле зависит вся его будущность. Но, боже, рассуждал он сам с собой: ведь ей надо похудеть по меньшей мере фунтов на двадцать. И одеться как следует. И научиться держать себя с людьми. Она слишком робка. Ей надо внушить уважение к самой себе, тогда и другие будут ее уважать. «Если я не сумею этого сделать, мне от нее будет больше вреда, чем пользы, сколько бы мне ни платили». Толлифер, если ему чего-нибудь хотелось, умел добиваться своего. Он решил не откладывать дела в долгий ящик. Задавшись целью воздействовать на Эйлин и полагая, что успех этого дела в значительной степени зависит от собственной его изящной внешности, он надел свой лучший костюм и постарался придать себе как нельзя более элегантный вид. Когда он последний раз поглядел на себя в зеркало, он невольно усмехнулся, сравнив себя с тем жалким субъектом, каким он был всего полгода назад в Нью-Йорке. Розали Харриген! Эта убогая комнатенка, и его отчаянные усилия найти заработок… Его квартира в Булонском лесу была всего в нескольких минутах ходьбы от отеля «Ритц». Когда он вышел из подъезда и зашагал по залитой утренним солнцем улице, всякий, глядя на него, сказал бы, что это беспечный парижанин, баловень судьбы. Он перебирал в уме разные модные ателье, парикмахерские и белошвейные мастерские, которым он рекомендует заняться Эйлин. Вот как раз здесь рядом, за углом — Клодель Ришар. Надо отвести ее к Ришару! Пусть он внушит ей, что она должна сбросить ну хотя бы фунтов двадцать лишнего жиру. И тогда он придумает для нее такие туалеты, что все будут смотреть на нее с завистью — она первая введет в моду новую модель Ришара! А вон там, на бульваре Осман, ателье Краусмейера. Его модельная обувь вне всякой конкуренции. Толлифер позаботился разузнать обо всем этом заранее. А на улице Мира — какие безделушки, духи, какие драгоценности! А на улице Дюпон — знаменитые салоны красоты. И самый привилегированный из них — салон Сары Шиммель. Эйлин необходимо познакомиться с ней… В летнем ресторане Наташи Любовской, откуда открывался вид на парк и на собор Парижской богоматери, за стаканчиком замороженного кофе и гоголь-моголем а ля Суданов Толлифер посвящал Эйлин в тайны парижских вкусов и в новинки мод. Слышала ли она, что Тереза Бьянка, знаменитая испанская танцовщица, танцует в туфельках Краусмейера? А Франческа, младшая дочь герцога Толле, тоже покровительствует ему, она носит только его обувь. А знает Эйлин, какие чудеса по части восстановления женской красоты проделывает эта Сара Шиммель? И он приводил примеры, называл имена. Они вместе отправились к Ришару, потом к Краусмейеру, потом к знаменитому парфюмеру Люти и оттуда зашли выпить чаю в кафе «Жермей». В девять вечера он заехал за ней и повез ее обедать в кафе де Пари; на обед были приглашены известная американская опереточная дива Рода Тэйер и ее сезонный покровитель бразилец Мелло Барриос, один из секретарей бразильского посольства, затем некая Мария Резштадт, родом не то из Венгрии, не то из Чехии. Толлифер познакомился с ней в одну из своих прежних поездок в Париж. Она была тогда женой представителя австрийской секретной военной миссии во Франции. Как-то на днях Толлифер зашел в кафе «Маргери» и там неожиданно столкнулся с ней; она была с знаменитым Сантосом Кастро, баритоном французской оперы, который выступал сейчас с новой оперной звездой, американкой Мэри Гарден. Тут Толлифер узнал, что Мария Резштадт давно овдовела, и по всему видно было, что и Кастро ей порядком надоел. Если Толлифер свободен, она рада будет встретиться с ним. И так как она была неглупая женщина и по складу своего характера и по летам больше подходила Эйлин, чем его молодые приятельницы, Толлифер решил познакомить их. Мария Резштадт сразу обворожила Эйлин. Внешность ее невольно приковывала к себе внимание. Высокая стройная фигура, гладко причесанные черные волосы, насмешливые серые глаза и ослепительный вечерний туалет, похожий на тунику из красного бархата, ниспадающую живописными складками. Полная противоположность Эйлин — никаких украшений, гладкие волосы, стянутые узлом на затылке, открытый лоб. В ее обращении с Кастро сквозило полнейшее равнодушие; казалось, она держит его около себя только потому, что он пользуется громкой известностью и все оборачиваются на них, где бы они ни появлялись. Она сразу начала рассказывать Эйлин и Толлиферу, что они с Кастро только что вернулись из путешествия по Балканам, и Эйлин была даже несколько потрясена такой откровенностью, — Толлифер говорил ей, что Мария Резштадт и Кастро просто давнишние знакомые. Конечно, и за Эйлин водились грешки, но это было ее личное дело, это не мешало ей относится с благоговением к прописным правилам светской морали. А вот эта женщина, такая спокойная, самоуверенная, по-видимому вовсе не считается с этими правилами. Эйлин смотрела на нее зачарованная. — Вы знаете, — рассказывала мадам Резштадт, — на Востоке женщины настоящие рабыни. Правда, правда! У них там только цыганки свободны, но у цыганок,конечно, нет никакого положения в обществе. А вот жены всяких сановников и титулованных людей настоящие рабыни, живут в страхе и трепете перед своими мужьями. Эйлин грустно улыбнулась. — Пожалуй, это не только на Востоке… — сказала она. Мария Резштадт внимательно посмотрела на Эйлин, и губы ее дрогнули в улыбке. — О нет, — отвечала она, — не только! У нас и здесь есть рабыни. А в Америке тоже? И она блеснула своими ослепительно-белыми зубами. Эйлин, не зная, что ответить, расхохоталась. Она подумала о своей рабской привязанности к Каупервуду. Но как же так? Почему эта женщина чувствует себя так независимо, живет как хочет, ни к кому не привязана, а если даже у нее и есть какая-нибудь привязанность, это не доставляет ей никаких мучений… А она, Эйлин… И ей очень захотелось познакомиться поближе с этой Марией Резштадт, чтобы научиться у нее этому спокойствию, равнодушию и пренебрежению ко всяким условностям. Мадам Резштадт со своей стороны тоже, по-видимому, заинтересовалась Эйлин. Она расспрашивала ее о жизни в Америке, осведомилась, долго ли она пробудет в Париже, где она остановилась, и предложила встретиться на другой день и пойти куда-нибудь вместе позавтракать. Эйлин с радостью ухватилась за это предложение. Однако мысли ее беспрестанно возвращались к утренней прогулке с Толлифером, ко всем их бесчисленным походам по разным ателье и магазинам. Советы и рекомендации, которых она наслушалась во всех этих модных заведениях, открыли ей глаза: оказывается, она недостаточно следит за своей внешностью, она выглядит совсем не так, как ей подобает. Разумеется, ей постарались внушить, что это отнюдь не поздно исправить, и тут же рекомендовали доктора и массажистку. И теперь ей прописана диета и какой-то совершенно чудодейственный массаж. Говорят, она сделается неузнаваемой, преобразится. И все это придумал Толлифер. А с какой целью? Зачем ему это нужно? Она до сих пор не замечала, чтобы он позволял себе с нею какие-нибудь вольности. У них просто очень хорошие дружеские отношения. Эйлин никак не могла объяснить себе, что это значит? Ах, не все ли равно! Каупервуд живет своей жизнью и не обращает на нее ни малейшего внимания. Надо же и ей как-нибудь заполнить свою жизнь. Вернувшись к себе в отель, Эйлин внезапно почувствовала приступ тоски — ах, если бы у нее был хоть один близкий человек на свете, с которым она могла бы поделиться всеми своими горестями, друг, которому она могла бы довериться, не опасаясь насмешек. Эта Мария Резштадт, как крепко она пожала ей руку, когда они прощались, — может быть, она могла бы стать ее другом…Десять дней, которые Эйлин предполагала пробыть в Париже, промелькнули так быстро, что она не успела и опомниться. И, сказать по правде, все складывалось так, что она сейчас никак не могла вернуться в Лондон. Поддавшись настояниям Толлифера, Эйлин отдала себя в руки целой армии специалистов-косметиков и модных мастеров, которые должны были не только восстановить ее красоту во всем блеске, но и создать для нее подобающую оправу. Разумеется, на это требовалось время, но зато какие перспективы, — как знать, быть может это даже приведет к полной перемене ее отношений с Каупервудом? Молодость еще не ушла, говорила себе Эйлин, и сейчас, когда Каупервуду приходится вести такую трудную борьбу в лондонском деловом мире, может быть, ему приятно будет иметь около себя близкого человека, даже если он и не питает к ней никаких пылких чувств. Здесь, в Англии, где ему нужно создать себе устойчивое общественное положение, для него важно иметь возможность устроиться по-домашнему, жить в добром согласии с женой, и, так как это в его же интересах, он даже будет доволен этим. Окрыленная надеждами, Эйлин подолгу просиживала перед зеркалом, мужественно переносила голод, строго соблюдая диету, и тщательно выполняла все косметические предписания под бдительным руководством Сары Шиммель. Она теперь поняла, какое неоценимое преимущество носить платья, сшитые по специальной модели, созданной художником. С каждым днем крепла ее уверенность в себе, она стала как-то спокойнее, сдержаннее; все мысли ее были устремлены к Каупервуду, она жила радостным предвкушением встречи с ним. Как он удивится, увидев ее такой, и, кто знает, может быть это будет для него приятный сюрприз. Она решила остаться в Париже до тех пор, пока не убавит в весе по крайней мере двадцать фунтов, — тогда только сможет она облечься в те восхитительные новинки, которые создала для нее изобретательная фантазия мосье Ришара. Тогда же она попробует сделать новую прическу, которую придумал для нее ее парикмахер. Ах, если бы только все это не оказалось напрасным! Эйлин написала Каупервуду, что она так хорошо проводит время в Париже благодаря мистеру Толлиферу, что останется здесь еще недели на три, на месяц. Она закончила свое письмо в шутливом тоне: «Первый раз в жизни я прекрасно обхожусь без тебя, — обо мне очень заботятся». Когда Каупервуд прочел эту фразу, его охватило какое-то странное щемящее чувство — ведь он сам все это так ловко устроил. Но помогала ему Беренис. В сущности, это была ее идея, за которую он с радостью ухватился, потому что это была единственная возможность оградить свои отношения с ней. Но какой же все-таки надо обладать особенной натурой, чтобы проявить такую дальновидность, такой беспощадный цинизм. А что, если это в один прекрасный день обернется против него? Ведь он так привязан к Беренис… Ему стало не по себе, и он тут же отмахнулся от этой мысли. Мало ли всяких неприятностей видел он на своем веку, переживет и это, что волноваться заранее.
Глава 36
В результате своего разговора с Каупервудом в отеле «Браун» мистер Джонсон решил, что вопрос относительно участия его и лорда Стэйна в предприятии Каупервуда можно будет обсудить всесторонне только после того как лорд Стэйн сам побеседует с американским миллионером. — Вы ничем не рискуете, если поговорите с ним, — сказал он Стэйну. — Разумеется, мы дадим ему понять, что если мы согласимся войти в его предприятие и поможем ему приобрести контроль над центральной кольцевой линией, наша поддержка обойдется ему в пятьдесят процентов общей суммы контрольного пакета, какова бы ни была эта сумма. А потом нам, может быть, удастся сговориться с кое-какими нашими пайщиками из компаний Метрополитен и Районной, чтобы они помогли нам как-нибудь дотянуть до пятидесяти одного процента — и таким образом контроль в конце концов все-таки останется за нами. Лорд Стэйн одобрительно кивнул. — Этим мы закрепим свою позицию, — продолжал Джонсон, — и тогда, что бы ни случилось, мы с вами, объединившись, скажем, с Колвеем, Джимсом и, может быть, с Дайтоном, будем хозяевами. А Каупервуду уже придется иметь с нами дело на паритетных началах как с совладельцами центральной линии. — Да… это пожалуй, самое разумное, — с невозмутимым видом протянул Стэйн. — Ну что ж, я не прочь потолковать с этим американцем. Можете пригласить его ко мне, когда найдете это удобным. Только предупредите меня заранее. Во всяком случае после разговора с ним картина для нас с вами будет яснее. Итак, в один погожий июньский день Каупервуд с Джонсоном сели в коляску и покатили по ровным лондонским улицам к особняку лорда Стэйна. Каупервуд еще не решил, может ли он доверять этим людям настолько, чтобы познакомить их — конечно, в известных пределах — со своими тайными хитроумными планами. Признаться, он все же подумывал о том, что, как бы удачно ни обернулся разговор с Джонсоном и Стэйном, все же неплохо было бы пощупать и Эбингтона Скэрра, попытаться войти с ним в соглашение и заполучить его контракт на постройку линии Бейкер-стрит — Ватерлоо. А если с помощью Хэддонфилда и лорда Эттинджа удастся выудить еще кое-какие контракты, тогда у него будет полная возможность диктовать свои условия всем этим хозяевам кольцевой линии. Когда они подъехали к дому лорда Стэйна на Беркли сквере, строгая благородная красота этого внушительного здания невольно поразила Каупервуда. Оно казалось таким надменным в своем незыблемом благополучии, которое, разумеется, не имело ничего общего с коммерцией. Ливрейный слуга распахнул перед ними дверь; чинная тишина огромной гостиной первого этажа дохнула на Каупервуда отрадным спокойствием, что, впрочем, отнюдь не поколебало его критического отношения ко всему окружающему. Что ж, он правильно поступает, этот человек, бережет свое благополучие, как умеет. Но и он, Каупервуд, со своей стороны тоже правильно поступает, стараясь втянуть его в свое дело, ну а там уж как повернется: может быть, благодаря ему лорд Стэйн приумножит свое богатство, а может быть, если он не проявит достаточной ловкости, Каупервуд проглотит его, и тогда все это благополучие рассыплется в прах. Джонсон предложил Каупервуду посмотреть картинную галерею, так как дворецкий пришел доложить, что лорд Стэйн звонил по телефону и передал, что немного задержится. Бедняга стряпчий, вынужденный взять на себя роль хозяина, старался быть как нельзя более предупредительным. Каупервуд сказал, что он с удовольствием посмотрит картины, и Джонсон повел его в огромный зал, примыкавший к вестибюлю. Они медленно прохаживались по галерее, останавливаясь перед изумительными портретами кисти Ромнея и Генсборо, и Джонсон посвящал Каупервуда в родословную Стэйнов. Покойный лорд был серьезный человек, вечно, бывало, над книгами сидит; интересовался хеттскими раскопками и хеттской письменностью, сколько денег на это ухлопал, — ну, конечно, ему ученые историки всякие благодарственные адреса подносили. Молодой Стэйн к этим антикварным интересам родителя никакой склонности не обнаружил. Он смолоду вел рассеянный образ жизни и сейчас любит общество, всякие светские развлечения; ну а что касается серьезных умственных интересов — и тут он нашел себе занятие по душе: взялся изучать финансы. Теперь лорд Стэйн видная фигура в свете, влиятельный человек и в финансовых кругах тоже солидной репутацией пользуется. А здесь, в этом доме, когда наступит сезон, какие балы, вечера, какие приемы задаются! Родовое поместье Стэйнов Трегесол — это одна из достопримечательностей Англии. Кроме того, у лорда Стэйна есть еще прелестный загородный дом в Прайорс-Кове, около Марлоу на Темзе, я винодельческая ферма во Франции. Каупервуд, услышав название приюта Беренис, подавил невольную улыбку и только хотел было о чем-то спросить Джонсона, как позади них раздался чей-то веселый голос, и они, обернувшись, увидели лорда Стэйна. — А! Вот вы где, Джонсон! А с вами, смею думать, не кто иной, как сам мистер Каупервуд? Он протянул руку, и Каупервуд, окинув его быстрым проницательным взглядом, энергично пожал ее. — Очень рад, поверьте! Считаю за честь познакомиться, — промолвил он. — Что вы! Что вы! — отвечал Стэйн. — Элверсон мне столько рассказывал о вас. Я думаю, нам всего удобнее будет расположиться в библиотеке… Идемте. Он позвонил и приказал лакею принести вино. Они вошли в просторную комнату с высокими стеклянными дверями, выходившими в сад. Пока лорд Стэйн любезно усаживал своих гостей и отдавал распоряжения лакею, Каупервуд внимательно приглядывался к нему. Безусловно, этот человек располагал к себе. В его непринужденной учтивости была какая-то подкупающая простота и вместе с тем осмотрительность, на которую человек, завоевавший его доверие, мог вполне положиться. Но завоевать это доверие, по-видимому, не так просто. С ним надо действовать напрямик, честно, учитывая его интересы не менее, чем свои собственные. Однако Каупервуд все-таки решил на этот раз не открывать Стэйну своих махинаций. У него невольно мелькнула мысль о Беренис; ведь у них был уговор, что она будет помогать ему поддерживать отношения вот именно с такими людьми, как лорд Стэйн. Но теперь, после того как Каупервуд на себе испытал бесспорное обаяние Стэйна, ему вовсе не улыбалось знакомить его с Беренис. Он заставил себя не думать об этом и стал слушать Джонсона, — тот говорил о положении, в котором находился в настоящее время лондонский подземный транспорт. Когда Джонсон закончил свой обзор, Каупервуд спокойно и обстоятельно изложил свой план объединения подземных линий. Он распространялся главным образом насчет электрификации, освещения, новой системы электротяги, воздушных тормозов и автоматической сигнализации и блокировки. Лорд Стэйн только один раз позволил себе перебить его: — Вы, простите, имеете в виду личный контроль над всей этой единой сетью или контроль директората? — Безусловно, контроль директората, — не задумываясь, отвечал Каупервуд, который на самом деле отнюдь не имел этого в виду. — Я полагал, если мне удастся осуществить это Объединение подземных дорог, — продолжал он, между тем как Джонсон и Стэйн молча наблюдали за ним, — учредить новую компанию, включив в нее Чэринг-Кросс, которая теперь является моей собственностью. Чтобы привлечь пайщиков центральной кольцевой линии, я готов предложить им за каждую их акцию, которой они сейчас владеют в своих карликовых компаниях, по три акции в этой вновь учрежденной объединенной компании. А поскольку постройка линии Чэринг-Кросс обойдется по меньшей мере в два миллиона фунтов стерлингов, вы сами можете судить, насколько возрастет стоимость акций. Он сделал паузу, чтобы проверить, какое это произвело впечатление, и, убедившись, что оно в его пользу, продолжал: — Вы не находите, что это весьма выгодная перспектива во всех отношениях, в особенности, если мы оговорим заранее, что все линии этой новой компании будут оборудованы по последнему слову техники и будут эксплуатироваться как единая система? И при этом — учтите, безо всяких дополнительных затрат со стороны учредителей, а просто за счет распродажи новых акций. — Да, это безусловно выгодно, — отозвался лорд Стэйн. Джонсон молча кивнул, соглашаясь с ним. — Так вот, в общих чертах, — сказал Каупервуд, — в этом и заключается мой план. Разумеется, эту сеть можно впоследствии расширить, присоединить новые ветки, но это уже будет решать директорат. Каупервуд не упускал из виду возможность перекупить контракты у Скэрра, Хэддонфилда и еще кое у кого — и тогда, если он соберет все это в своих руках, директора объединенной компании волей-неволей вынуждены будут выкупить у него эти контракты. Но тут лорд Стэйн задумчиво почесал за ухом. — Мне представляется, — сказал он, — что ваше предложение обменять акции из расчета три за одну может показаться заманчивым кой-кому из пайщиков, которые пожелают войти в ваше предприятие на столь выгодных условиях. Но я должен сказать, что вы упускаете из виду одно очень важное обстоятельство, а именно: отношение к вам, которое уже и сейчас заставило очень многих объединиться против вас. Так вот, если вы это учтете, можете быть уверены, что ваше предложение — три акции за одну — не привлечет к вам достаточного количества пайщиков, готовых принять все ваши условия и позволить вам распоряжаться по своему усмотрению, иными словами, предоставить вам полный контроль. Насколько я понимаю, вы это именно и имели в виду. А у нас, видите ли, на этот счет держатся вполне определенного мнения — управлять предприятием должны англичане. Оба мы, и я и Джонсон, имели возможность убедиться в этой тенденции, с тех пор как о приобретении вами Чэринг-Кросс стало официально известно. Более того, пайщики Метрополитен и Районной обнаруживают явное стремление сплотиться против вас. Признаться, до сих пор директора этих компаний отнюдь не проявляли друг к другу каких-либо дружеских чувств. Джонсон язвительно хмыкнул. — Так что, если вы не сумеете проявить в этом деле необходимую осторожность и такт, — продолжал Стэйн, — не будете знать, как подойти к тем или иным нужным людям, как убедить их, действуя при этом скорее через английских, а не американских посредников, — вы очень скоро почувствуете себя припертым к стене, вам не дадут сделать ни шагу. — Совершенно верно, — отвечал Каупервуд, который отлично понимал, куда клонит Стэйн: если они возьмут на себя труд вытащить для него из огня этот английский каштан, они потребуют не добавочной компенсации, нет, — больше того, что он уже предлагает, вряд ли можно требовать, — но, видимо, какой-то новой формы совместного с ним контроля на паритетных началах. А если это не выйдет, они будут добиваться прочных гарантий для своих капиталовложений и, по всей вероятности, равномерного распределения барышей в соответствии со вложенным капиталом и с учетом постепенного расширения проектируемой сети. Ну а как это можно оформить? Каупервуд не мог на это ответить и, чтобы уяснить себе и свою и их точку зрения, осторожно прибавил: — Вот именно в связи с этим я и думал: чем, собственно, я мог бы заинтересовать вас обоих? Я отлично понимаю, что для вас все это ясно как на ладони, и если вы согласитесь участвовать со мной в этом деле, я безусловно могу рассчитывать на более благожелательное отношение к себе. Итак, кроме этого обмена, — три акции за одну, — скажите, что именно я мог бы вам предложить? Какого рода частное соглашение между нами тремя было бы для вас желательным? Но тут началось обсуждение таких тонких и сложных вопросов, что передавать эту беседу было бы слишком долго и затруднительно. Речь шла главным образом о той предварительной работе, которая предстояла сейчас Стэйну и Джонсону. А это, как они объясняли Каупервуду, заключалось прежде всего в том, чтобы ввести его в известные круги лондонского общества. Без этого финансовые его дела не сдвинутся с места. — У нас в Англии, — говорил Стэйн, — успеха можно добиться главным образом благодаря покровительству и поддержке финансовых и общественных кругов, а отнюдь не собственными усилиями отдельных личностей, как бы они ни были одарены. Если вы не приняты в известных кругах, не пользуетесь их расположением, у вас на каждом шагу будут возникать затруднения. Вы понимаете меня? — Вполне, — отвечал Каупервуд. — И затем, что бы вы ни предпринимали, у нас это никогда не носит характера просто голого, расчетливого делячества. Нет, в любом деле у нас стараются достигнуть взаимопонимания, внушить уважение к себе. А этого ведь нельзя добиться за полчаса. И зависит это не только от рекомендаций, но и от личных отношений как частного, так и светского характера. Вам это ясно? — Вполне, — отвечал Каупервуд. — Так вот, прежде чем заняться всем этим, нужно совершенно точно установить, на какого рода компенсацию, не считая обмена акций, могут рассчитывать лица, взявшие на себя труд обеспечить такую общественную поддержку и благожелательный прием вам и вашему делу? Каупервуд сидел, небрежно откинувшись в кресле и слушая лорда Стэйна, и, казалось, вполне соглашался со своим собеседником. Однако зоркий наблюдатель, внимательно приглядевшись к нему, заметил бы, что в глазах его появился жесткий металлический блеск, а плотно сжатые губы превратились в твердую линию. Он отлично понимал, что, читая ему эти наставления, Стэйн милостиво снисходит к нему. Ибо благородный лорд, несомненно, осведомлен обо всех скандалах, связанных с деятельностью Каупервуда, а также и о том, что Каупервуд не принят в порядочном обществе ни в Чикаго, ни в Нью-Йорке. И как бы дипломатично и учтиво ни держал себя лорд Стэйн, Каупервуд не строил себе на этот счет никаких иллюзий и принимал его наставления за то, чем они и были на самом деле: это были наставления человека, занимающего видное положение в высшем обществе, человеку, отвергнутому этим обществом. Но Каупервуд не испытывал ни досады, ни возмущения. По правде сказать, его это даже забавляло, ибо он чувствовал себя хозяином положения. Он делает возможным для Стэйна и его друзей то, чего никто Другой не мог для них сделать. Когда Стэйн кончил говорить, Каупервуд задал ему несколько вопросов относительно условий предполагаемого соглашения. Но лорд Стэйн в высшей степени учтиво уклонился от ответа, сказав, что, по его мнению, эти подробности лучше предоставить Джонсону. Однако он уже достаточно ясно представлял себе, каким образом не только гарантировать этот обмен принадлежащих ему акций Метрополитен и Районной из расчета три на одну, но и достичь не подлежащего огласке соглашения между ними тремя, в котором их права, его и Джонсона, будут четко обусловлены, ограждены и закрепят за ними на будущее постоянный прочный доход во всех оборотах и эксплуатации этого несомненно прибыльного предприятия. Вскинув монокль, лорд Стэйн привычным жестом вдел его в правый глаз и невозмутимо уставился на своего собеседника. Каупервуд, изобразив на своем лице искреннюю признательность, поблагодарил Стэйна за проявленные им участие и доброту; его благожелательное отношение и личный интерес к делу помогли осветить всю эту крайне запутанную, сложную обстановку, в которой постороннему человеку было бы чрезвычайно трудно разобраться. Он убежден, что их взаимное соглашение приведет к полному удовлетворению обеих сторон. Однако перед ним стоит сейчас задача финансировать предприятие и ему надо как-то позаботиться об этом. По-видимому, прежде чем вступить в переговоры с пайщиками англичанами, ему придется съездить в Америку, чтобы собрать необходимый капитал; Стэйн вполне согласился с этим. У Каупервуда уже давно созрел проект — организовать новую держательскую компанию, в которой он будет владеть пятьдесят одним процентом акций; а она уже будет кредитовать эту английскую акционерную компанию, обеспечив себе полный контроль и гарантировав захват ее на случай вполне возможного краха. Ну, об этом он еще успеет подумать. Что же касается Беренис и Стэйна, с этим пока тоже лучше повременить; там видно будет. Ведь ему уже стукнуло шестьдесят, — еще несколько лет, и, пожалуй, кроме славы и общественного признания, ему ничего уж не будет нужно. В этом беспощадном круговороте неотложных дел, совершенно поглотившем его, он уже и сейчас чувствует что-то похожее на усталость. Иногда, после напряженного делового дня эта лондонская авантюра, в его возрасте, представлялась ему совершенно нелепой затеей. Ведь всего два года назад, в Чикаго, он думал, что если ему удастся продлить свои концессии, он откажется от управления, выйдет из дела и отправится путешествовать. Одно время он даже подумывал — если Беренис отвергнет его, он примирится с Эйлин и будет жить в своем доме в Нью-Йорке; придумает себе какое-нибудь интересное занятие, какое-нибудь дело, которое можно приятно сочетать с заслуженным отдыхом. А теперь — что он затеял? И ради чего? Что это даст ему, если не считать удовольствия быть с Беренис? Но ведь если бы она только захотела, они могли бы просто поехать куда-нибудь вдвоем и жить гораздо спокойнее. Нет, она почему-то настаивала на этом, да и он тоже внушал себе, что это его долг перед самим собой, перед своей собственной жизнью и репутацией — они оба считали, что он представляет собой не только выдающегося финансиста, но и незаурядного предпринимателя с широким размахом, и поэтому он должен идти вперед и завершить свою карьеру таким вот головокружительным взлетом. А удастся ли это сделать, не рискуя всей своей репутацией и состоянием? Как можно поручиться, что при установившемся о нем сейчас мнении в Америке он сможет, приехав туда, собрать в сравнительно короткий срок необходимый капитал? Короче говоря, его положение сейчас, с какой стороны ни подойти, в высшей степени затруднительно и шатко. Он чувствовал себя усталым и подавленным. Быть может, это было первое дуновение приближающейся старости. Вечером после обеда он поделился своими планами с Беренис. Он полагал, что ему, вероятно, придется взять с собой в Нью-Йорк Эйлин. Ему предстоит принимать у себя массу народа, и, пожалуй, во всех отношениях будет удобнее, если жена будет с ним. Ведь у него сейчас, можно сказать, все висит на волоске, и поэтому особенно важно сохранить добрые отношения с Эйлин.Глава 37
Эйлин за месяц пребывания в Париже так изменилась, что, по единодушному мнению своих новых друзей, стала «совсем другим человеком». Она сбавила двадцать фунтов в весе; румянец и блеск ее глаз стали ярче, а настроение бодрее; причесана она была а ля шантеклер, как выражалась Сара Шиммель; платья шила по моделям мосье Ришара, туфли у мосье Краусмейера, — словом, все шло так, как было задумано Толлифером. У нее завязалась настоящая дружба с мадам Резштадт, а шейх немало забавлял ее, хотя его внимание было иногда уж слишком назойливым и утомительным. Ему явно нравилась она сама, а не ее богатство и положение. Право, он, как видно, не прочь был завязать с нею роман. Но этот его костюм — белый, из тончайшей шерсти, отделанный шелком и подпоясанный белым шелковым шнуром! А маслянистые черные волосы, которые делали его столь похожим на дикаря! А маленькие серебряные кольца в ушах! А длинные и отнюдь не маленькие узкие туфли из красной кожи с загнутыми кверху острыми носами! А этот ястребиный нос и темные глаза, которые словно видят вас насквозь! Стоило появиться с ним рядом, все тотчас начинали глазеть на вас, словно и вы были каким-то седьмым чудом света. Когда же Эйлин оставалась с ним вдвоем, она только и делала, что всячески старалась уклониться от его нежностей. — Послушайте, Ибрагим, — говорила она, — не забывайте, что я замужем и люблю мужа. Вы мне нравитесь, право нравитесь. Но вы не должны просить меня о том, чего я не хочу и не стану делать, и если вы будете и дальше так себя вести, я вообще перестану с вами встречаться. — Но, помилуйте, — настойчиво сказал он на вполне сносном английском языке, — у нас столько много общего. Вы любите игру — я тоже. Мы оба любим поговорить, покататься, поиграть в карты, ставить понемножку на скачках. И все-таки вы, как и я, человек рассудительный, не… не… — Ветреница? — подсказала Эйлин. — Что это значит «ветреница»? — спросил он. — М-м… не знаю, как вам сказать, — у нее было такое чувство, словно она говорит с ребенком. — Непоседа, непостоянный… — она сделала неопределенный жест рукой, как бы желая изобразить нечто неустойчивое, непрочное, легковесное. — Ах, вот что! Гм! Ветреница! Вот как! Понимаю! Нет, вы не ветреница! Ни-ни! И вы мне нравитесь, очень. Гм… гм… Очень, очень. А я вам? Вам нравлюсь я — шейх Ибрагим? Это рассмешило Эйлин. — Да, нравитесь, — сказала она. — Только, по-моему, вы слишком много пьете. И, конечно, вы вовсе не хороший человек — жестокий, эгоист и все такое… Но тем не менее вы мне нравитесь и… — Тц… тц… тц, — зачмокал шейх. — Это совсем немного для такого мужчины, как я. Без любви я заснуть не могу. — Ах, перестаньте говорить глупости! — воскликнула Эйлин. — Лучше налейте себе чего-нибудь выпить, а потом уходите и возвращайтесь вечером: поедем вместе обедать. Мне хотелось бы съездить еще раз к этому мистеру Сабиналю. Так протекали дни Эйлин — в общем весело и приятно. Владевшая ею ранее склонность к меланхолии прошла, и ей даже стало казаться, что ее положение не так уж безнадежно. Каупервуд написал ей, что приедет в Париж, и, готовясь к встрече с ним, Эйлин решила удивить его самым потрясающим из творений мосье Ришара. А Толлифер посоветовал, когда приедет Каупервуд, устроить ему обед у Орсинья, в премилом ресторанчике, который он недавно обнаружил. Уютное местечко, и совсем рядом с собором Парижской богоматери. Сабиналь снабдит для этого случая Орсинья винами, бренди, ликерами, аперитивами и сигарами. А Орсинья под руководством Толлифера приготовит такой стол, на который не посетует даже самый привередливый гурман. На сей раз Толлифер решил превзойти самого себя. Они пригласят мадам Резштадт, верного шейха и Мэриголд, которая, увлекшись Толлифером, решила остаться в Париже и, по его настоянию, примирилась с существованием Эйлин. — Вы с вашим супругом бывали во всех знаменитых ресторанах, — сказал Толлифер Эйлин, — и этим вас не удивишь. Поэтому, мне кажется, оригинальнее было бы устроить что-нибудь совсем простенькое для разнообразия. И он принялся объяснять ей свой план. Чтобы заручиться согласием Каупервуда, Толлифер заставил Эйлин послать ему телеграмму с настоятельной просьбой прибыть на обед, который они устраивают в его честь. Каупервуд, получив это приглашение, улыбнулся и в ответ телеграфировал, что согласен. А когда он приехал, то к своему искреннему удивлению обнаружил, что Эйлин на редкость похорошела, — он даже и не предполагал, что она может так выглядеть, в ее-то годы, а главное — после всего, что ей пришлось пережить. Ее прическа была поэмой из локонов, оттенявшей все, что было лучшего в ее лице. А мастерски сшитое платье выгодно подчеркивало линии ее значительно похудевшей фигуры. — Ты просто восхитительна, Эйлин! — воскликнул Каупервуд, увидев ее. — Ты никогда еще так не выглядела! Как тебе удалось этого достичь? Это платье удивительно эффектно. И мне нравится твоя прическа. А чем ты питалась? Одним воздухом? — Почти что, — отвечала, улыбаясь, Эйлин. — Я уже целый месяц ем так, что это даже нельзя назвать едой! Но можешь быть уверен: больше полнеть я не намерена — хватит. Ну, а как переезд через Ла-Манш? Легко перенес? Болтая с ним, она наблюдала за Уильяме, которая в ожидании гостей расставляла на столе бокалы и графинчики с ликерами. — Переезд через Ла-Манш был сущим пустяком, прокатились как по пруду, — рассказывал Каупервуд, — если не считать какой-нибудь четверти часа, когда казалось, что все мы пойдем ко дну. Но когда сходили на берег, все чувствовали себя великолепно. — Ох, этот ужасный Ла-Манш! — сказала Эйлин, не переставая ощущать на себе взгляд мужа и невольно волнуясь от его комплиментов. — А что это за банкет ты задумала сегодня? — Просто мы с мистером Толлифером решили устроить небольшой вечер. Знаешь, этому Толлиферу просто цены нет. Мне он ужасно нравится. И, мне кажется, тебе интересно будет познакомиться кое с кем из приглашенных, особенно с моей приятельницей мадам Резштадт. Мы с ней много бываем вместе. Она очаровательна — я еще ни разу не встречала такой женщины. Проведя месяц в обществе Толлифера и его пестрого окружения, Эйлин научилась владеть собой и сейчас могла со спокойным сердцем обратить внимание Каупервуда на такую красивую женщину, как мадам Резштадт, тогда как раньше из побуждений ревности она приняла бы все меры к тому, чтобы скрыть от мужа свою интересную приятельницу. Каупервуд мысленно отметил происшедшую в ней перемену, эту уверенность в себе, доверие к нему, добродушие и вновь пробудившийся интерес к жизни. Если и дальше так пойдет, всякие поводы к взаимному ожесточению могут исчезнуть. Но у него тут же мелькнула мысль, что эта перемена в ней — дело его рук, — она здесь ни при чем, она даже и не подозревает об этом. Однако, не успел он об этом подумать, как тут же вспомнил, что всем происшедшим он обязан, собственно, Беренис. Он чувствовал, что приподнятое настроение Эйлин объясняется не столько его присутствием, сколько присутствием человека, которого он специально нанял для этой цели. Но где же сам виновник этой чудесной перемены? Каупервуд сознавал, что не имеет права спрашивать об этом. Он был в положении человека, который затеял спектакль, маскарад, но не имеет права назвать себя режиссером. Его вывел из раздумья голос Эйлин. — Фрэнк, ты, наверно, хочешь переодеться, — услышал он. — А мне нужно еще кое-что сделать до прихода гостей. — Совершенно верно, — ответил Каупервуд. — Но у меня есть для тебя новость. Ты могла бы расстаться сейчас с Парижем и вернуться со мной в Нью-Йорк? — Что ты хочешь этим сказать? В ее голосе было безграничное удивление. А она-то надеялась, что этим летом они побывают хотя бы на нескольких модных курортах Европы! И вдруг он говорит о возвращении в Нью-Йорк. Может быть, он решил совсем отказаться от своих лондонских планов и навсегда вернуться в Америку? Она немного растерялась, — это не только осложняло, но даже ставило под угрозу все то, чего ей за последнее время удалось достичь. — Ничего особенного, — сказал с улыбкой Каупервуд. — В Лондоне все по-прежнему благополучно. Никто меня оттуда не изгонял. Больше того: они, пожалуй, даже хотели бы, чтобы я остался. Но только при условии, что я съезжу домой и вернусь с мешком денег. Он иронически усмехнулся, и Эйлин, облегченно вздохнув, улыбнулась ему в ответ. Зная по опыту прошлого, как он ведет свои дела, она не могла не разделять его цинизма. — Меня это ничуть не удивляет, — сказала она. — Но давай поговорим об этом завтра. А теперь пойди-ка переоденься. — Прекрасно! Я буду готов через полчаса. Эйлин проводила его внимательным взглядом, пока он не скрылся в соседней комнате. Какой он довольный, преуспевающий и все такой же веселый, ловкий и энергичный! Он все-таки нашел, что она похорошела, и ему, несомненно, понравилось, что она стала держать себя так непринужденно. В этом она была уверена, хотя ни га минуту не забывала о том, что он не любит ее, и по-прежнему побаивалась его. Какое счастье, что жизнь столкнула ее с этим веселым красавцем Толлифером! Но если ей придется вернуться сейчас в Нью-Йорк, что же станет с этой необъяснимой дружбой, которая теперь так прочно установилась между нею и этим молодым повесой?Глава 38
Каупервуд не успел еще вернуться, когда Толлифер впорхнул в апартаменты Эйлин. Отдав цилиндр и палку Уильяме, он быстро подошел к двери, ведущей в спальню Эйлин, и постучал. — Хелло! — послышался ее голос. — Мистер Каупервуд приехал. Он переодевается. Подождите меня секунду — я сейчас. — Отлично! Все остальные должны вот-вот прийти. В эту минуту дверь позади него слегка скрипнула, и, обернувшись, Толлифер увидел входившего в гостиную Каупервуда. Они бросили друг на друга быстрый понимающий взгляд. Толлифер, отлично помня, как должно себя держать, поспешил навстречу Каупервуду, намереваясь любезно приветствовать всесильного магната. Но Каупервуд опередил его. — Ну вот, мы опять и встретились, — сказал он. — Как вам нравится в Париже? — Очень! — ответил Толлифер. — Нынешний сезон на редкость веселый. Такая интересная публика съехалась. А погода — просто великолепная. Вы же знаете, каков Париж весной. По-моему, это самое веселое и приятное время года. — Я слышал, мы сегодня в гостях у моей жены. — Да, и еще кое-кто соберется. Боюсь, я пришел слишком рано. — Не выпить ли нам пока чего-нибудь? Итак, весело болтая о всяких пустяках, о Лондоне, о Париже, оба старались не думать о связывавших их отношениях, и обоим это вполне удавалось. Вошла Эйлин и поздоровалась с Толлифером. Затем появился Ибрагим и, не обращая на Каупервуда ни малейшего внимания, словно это был пастух с его пастбищ, стал усиленно ухаживать за Эйлин. Каупервуд сначала несколько удивился, а потом даже заинтересовался. Сверкающие глаза араба забавляли его. «Любопытно! — сказал он себе. — Толлифер в самом деле кое-чего добился. А этот разряженный бедуин увивается за моей женой! Занятный будет вечерок!» В комнату вошла Мэриголд Брэйнерд. Она понравилась ему, и он ей, по-видимому, тоже. Но это обоюдное тяготение было вскоре нарушено появлением холодно-спокойной и экзотической мадам Резштадт, — она была закутана в кремовую шаль, перекинутую через плечо, длинные шелковые кисти ее спускались почти до полу. Каупервуд одобрительно оглядел ее оливково-смуглое лицо, красиво обрамленное гладко причесанными черными волосами; тяжелые серьги из черного янтаря свисали у нее чуть не до плеч. Мадам Резштадт, на которую он произвел сильное впечатление, как, впрочем, почти на всех женщин, приглядевшись к нему, сразу поняла, в чем несчастье Эйлин. Этот человек не способен принадлежать одной женщине. От этой чаши можно только пригубить и удовольствоваться уже такой малостью. Эйлин следовало бы это понять. Меж тем Толлифер, которому не сиделось на месте, не переставал твердить, что пора ехать, и, повинуясь его настояниям, вся компания отправилась к Орсинья. Их ввели в отдельный кабинет с фонарем, — из его огромных распахнутых настежь окон открывался великолепный вид на собор Парижской богоматери и зеленый сквер перед собором. Но едва только они вошли, у всех невольно вырвались возгласы удивления: в кабинете не было заметно и следов приготовлений к обеду — посредине стоял лишь простой деревянный стол, и притом даже не накрытый. — Что за черт? — воскликнул Толлифер, который вошел последним. — Ничего не понимаю. Что-то тут не то. Они ведь знали, что мы приедем! Подождите, пожалуйста, я сейчас все выясню, — и, быстро повернувшись, он исчез. — Право, ничего не понимаю, — сказала Эйлин. — Мне казалось, что мы обо всем договорились. Она нахмурилась, надув губы, и от этого стала еще привлекательней. — Нас, очевидно, провели не в тот кабинет, — сказал Каупервуд. — Они не ждут нас, а? — спросил шейх, обращаясь к Мэриголд, но тут дверь в соседнюю буфетную вдруг распахнулась и в кабинет ворвался клоун с чрезвычайно озабоченным лицом. Это был настоящий Панталоне, длинный, нелепый, в традиционном одеянии, расшитом звездами и луной, с пышными рюшами вокруг шеи и запястий; на голове у него красовался остроконечный колпак, из-под которого во все стороны торчали всклокоченные волосы, на руках были огромные белые перчатки, на ногах — несуразные башмаки с острыми носами; уши его были вымазаны желтой краской, глаза подведены зеленым, щеки — багрово-красные. Оглядевшись по сторонам с видом безумца, ввергнутого в пучину отчаяния, он воскликнул: — Ах ты, боже мой! Что за чертовщина! Ах, леди и джентльмены! Это же… право, это… Не нахожу слов!.. Ни скатерти! Ни серебра! Ни стульев! Пардон! Пардон! Что же теперь делать? Пардон, медам, месье, здесь какое-то недоразумение. Сейчас что-нибудь придумаем… Эй! Он хлопнул в ладоши и впился глазами в дверь, словно ожидая, что полчища слуг тотчас откликнутся на его зов, но напрасно — никто не показывался. Он снова хлопнул в ладоши, склонил голову набок, прислушался. Но из-за двери не доносилось ни звука, — тогда клоун повернулся к гостям, которые, наконец, поняли все и отступили к стенам, чтобы дать ему место. Приложив палец к губам, клоун подошел на цыпочках к двери. По-прежнему — ни звука. Он быстро нагнулся, припал к замочной скважине — сначала одним глазом, потом другим, обернулся к гостям, скорчил невероятнейшую гримасу, снова приложил палец к губам и опять приник к замочной скважине. Наконец, отпрянув от двери, он шлепнулся на живот, но мигом вскочил и попятился, уступая дорогу чинной и деловитой процессии официантов, которые появились из распахнувшихся дверей, неся скатерти, блюда, подносы с серебром и бокалами; они быстро принялись накрывать на стол, не обращая внимания на прыгающего вокруг и без умолку болтающего клоуна. — Так, так! — восклицал он. — Явились наконец? Свиньи вы этакие! Бездельники! Расставляй тарелки! Расставляй же тарелки, говорят тебе! — Эти слова относились к официанту, который и так уже быстро и ловко расставлял их. — Раскладывай серебро, слышишь! — кричал он другому официанту, раскладывавшему серебро. — Да смотри, чтоб не громыхать у меня! Вот свинья! Тут он схватил нож и с важным видом положил его на то же самое место. — Нет, нет, не так! — закричал он, обращаясь к официанту, расставлявшему бокалы. — Тупица! И когда только ты научишься делать как надо? Гляди! И, подняв бокалы, он поставил их точно так, как они стояли. Потом отступил немного, окинул стол критическим взглядом, опустился на колени, посмотрел, прищурясь — и передвинул маленькую ликерную рюмочку на какую-нибудь сотую дюйма. Эта пантомима необычайно развеселила всех присутствующих (всех, кроме Ибрагима, который, вытаращив глаза, в изумлении взирал на происходящее), одни улыбались, другие смеялись от души; когда же клоун принялся подражать метрдотелю и ходить за ним следом, чуть не наступая ему на пятки, а тот делал вид, что ничего не замечает, — все так и покатились со смеху. Наконец метрдотель направился к выходу, — клоун за ним. — Вот так-так! — крикнул он на ходу. — Заговор! Ай-яй-яй! — Неплохо разыграно! — заметил Каупервуд, обращаясь к мадам Резштадт. — Ведь это Грелизан из «Трокадеро», самый остроумный клоун во всей Европе, — проронила она. — Неужели! — воскликнула Мэриголд, чье мнение об искусстве комедианта сразу повысилось, стоило ей узнать, что он знаменит. Эйлин, сначала опасавшаяся за успех своей затеи, теперь так и сияла от удовольствия — она была в восторге от того, что все сошло удачно. Каупервуд соблаговолил похвалить ее изобретательность, а заодно и Толлифера, и теперь все, что бы Грелизан ни вытворял, казалось ей забавным, хотя компания и замерла в испуге, когда клоун, войдя с большой серебряной миской, наполненной чем-то ярко-красным, похожим на суп с томатом, вдруг споткнулся и упал. В воздух взвился, осыпая гостей, рой блестящих оранжевых конфетти, искусно подброшенных рукою клоуна, — раздались возгласы удивления, визг и смех. Клоун снова бросился в буфетную и вскоре вынырнул оттуда, неся в сахарных щипчиках крошечный гренок; весь обед он то исчезал, то появлялся, с озабоченным видом следуя за официантами и передразнивая каждое их движение. На третье было подано нечто, похожее на суфле в раковинах. Под верхней створкой раковины каждый обнаружил крохотный воздушный шарик с сюрпризом внутри; проколов его вилкой, Каупервуд нашел ключи Лондона; Эйлин — кланяющегося и улыбающегося мосье Ришара с ножницами в руках; мадам Резштадт — маленький земной шар, где пунктиром была нанесена линия, отмечавшая все города, которые она посетила; Ибрагим — шейха верхом на крошечном коне; Толлифер — колесо миниатюрной рулетки с указателем на нуле; Мэриголд — горсть игрушечных человечков: воина, короля, денди, художника и музыканта. Все до упаду смеялись над этой выдумкой; после кофе Грелизан откланялся; все захлопали, а Каупервуд и мадам Резштадт даже кричали: «Браво! Браво!» — Восхитительно! — воскликнула мадам Резштадт. — Я непременно напишу ему и поблагодарю. Потом, в полночь, в театре «Гран-Гиньоль» они смотрели, как прославленный Лялут изображает по очереди всех знаменитостей дня. После этого Толлифер предложил отправиться к Сабиналю. А на рассвете они разошлись, единодушно решив, что изумительно провели эту ночь.Глава 39
Из всего этого Каупервуд заключил, что вТоллифере он нашел человека даже более изобретательного, чем можно было надеяться. Он просто талант, этот Толлифер. Стоит только слегка намекнуть ему — ну и, конечно, снабдить его деньгами, и он окружит Эйлин таким занимательным обществом, что она не станет слишком уж горевать, если ей придется расстаться со своим невнимательным супругом. Но об этом нужно еще подумать. В самом деле, если Эйлин узнает о существовании Беренис, она, по всей вероятности, обратится к Толлиферу за советом. И тогда хлопот не оберешься. Ну и заварил же он кашу! К тому же у Эйлин свой собственный круг знакомых, она постоянно бывает на людях и почти всегда без мужа: постепенно пойдут разговоры о том, где же он проводит все это время, и в конце концов неминуемо выплывет имя Беренис. Пожалуй, лучше всего уговорить Эйлин вернуться с ним в Нью-Йорк, а Толлифера оставить в Европе. Это, разумеется, положит предел дальнейшему сближению Эйлин с Толлифером, а то их отношения уж слишком стали бросаться в глаза и могут послужить поводом для всяких сплетен. Оказалось, что Эйлин ничего не имела против этой поездки. На то было много причин. Она опасалась, что если она откажется ехать, Каупервуд возьмет с собой другую женщину или заведет какую-нибудь интрижку в Нью-Йорке. К тому же — какое сильное впечатление произведет такая поездка на Толлифера и его друзей! Ведь имя Каупервуда никогда еще так не гремело, и какая завидная роль — быть его общепризнанной женой! Но больше всего ее интересовало, последует ли за нею Толлифер, — ведь эта поездка может продлиться с полгода, а то и больше. Поэтому Эйлин не замедлила сообщить Толлиферу о своем предстоящем отъезде. Новость пробудила в нем самые противоречивые чувства: как же быть с Мэриголд, которая предлагала ему отправиться на яхте к мысу Нордкап? Часто встречаясь с нею в последнее время, он понял, что если и впредь оказывать ей внимание, она, пожалуй, решится на развод и выйдет за него замуж, а у нее есть собственные средства, и не маленькие. Правда, он не любил ее и все еще мечтал о романе с какой-нибудь молоденькой девушкой. И к тому же вставал вопрос о том, на что жить сейчас и в ближайшем будущем. Стоит источнику его нынешних поступлений иссякнуть — и конец беззаботному существованию. Он считал почему-то, хотя ни малейшего намека на это сделано не было, что Каупервуд предпочтет иметь его под рукой в Нью-Йорке. Но Толлифер понимал, что, поедет он или останется, его отношения с Эйлин дальше так продолжаться не могут: он должен что-то сказать ей о своих чувствах, иначе его поведение может показаться ей странным. Он не сомневался, что Эйлин не поддастся на его пылкие речи, но это польстит ей, а значит, игра стоит свеч. — Вот как? — воскликнул он, услышав от нее эту новость. — А я как же? Остался за бортом? И он принялся шагать из угла в угол, всем своим видом изображая величайшее огорчение и разочарование. — Что с вами? — участливо спросила Эйлин. — Чем вы недовольны? Она заметила, что Толлифер подвыпил (действительно, он зашел к Эйлин после завтрака с Мэриголд в баре мадам Жеми), — хмель, конечно, мог омрачить его настроение, но не настолько, чтобы он совсем уж потерял самообладание. — Ужасно! — сказал он. — И надо же этому случиться именно сейчас, когда мне только что начало казаться, что наши отношения могут стать какими-то иными. Эйлин, изумленная этой тирадой, широко раскрыла глаза. Конечно, ее отношения с Толлифером были не совсем обычными, и она все сильнее привязывалась к нему. Она и сама не сознавала, как глубоко было это увлечение. Однако, присмотревшись, как он ведет себя в обществе Мэриголд и других, она пришла к заключению — и даже не раз высказывала это вслух, — что он и пяти минут не может быть верен женщине. — Не знаю, чувствуете ли вы это, — продолжал меж тем Толлифер, взвешивая каждое слово, — но нас с вами связывает не только светское знакомство. Признаюсь, когда я впервые встретил вас, я не предполагал, что так будет. Вы заинтересовали меня как миссис Каупервуд — женщина, с именем которой связывалось у меня представление о тех кругах общества, куда я не имел доступа. Но после нескольких бесед с вами у меня возникло иное чувство. Я прожил очень трудную жизнь. У меня были свои взлеты и падения, и, наверное, они всегда будут. Но в те первые дни нашего знакомства на пароходе что-то заставило меня подумать, что и вы, пожалуй, знавали их. Вот поэтому я и стал искать вашего общества, хотя, вы сами знаете, там было много других женщин, которые могли бы составить мне компанию. Он лгал с видом человека, который никогда не говорил ничего, кроме правды. И эта умелая актерская игра произвела впечатление на Эйлин. Она подозревала, что Толлифер из тех, кто гоняется за богатым приданым. Пожалуй, так оно и есть. Но если она ему на самом деле не нравится, с чего бы ему так заботиться о ее внешности, о том, чтобы вернуть ей прежнее обаяние? Яркое, сильное чувство внезапно вспыхнуло в Эйлин — в нем были и материнская нежность и воскресший пыл молодости. Этот бездельник просто не мог не нравиться: он был такой приветливый, веселый, такой милый и внимательный. — Но что же изменится от того, что я вернусь в Нью-Йорк? — с удивлением спросила она. — Разве это помешает нам остаться друзьями? Толлифер задумался. Он сказал о своих чувствах, — ну, а дальше что? Мысль о Каупервуде не давала ему покоя. Чего, собственно, хотел бы от него сейчас Каупервуд? — Но вы только подумайте, — начал он, — вы исчезаете в самое чудесное время — июнь и июль здесь лучшие месяцы. И как раз самый разгар веселья! Он закурил папиросу и налил себе вина. Почему Каупервуд не дал ему понять, хочет ли он, чтобы Эйлин оставалась в Париже, или нет? Может быть, он еще и сообщит что-нибудь на этот счет, но не мешало бы ему поторопиться. — Фрэнк просил меня поехать с ним, и я не могу поступить иначе, — спокойно сказала Эйлин. — Ну а вы… не думаю, что вы тут будете страдать от одиночества. — Вы не понимаете, — сказал он. — Без вас Париж потеряет для меня всю свою прелесть. Вот уже много лет жизнь не давала мне столько радости и счастья, как сейчас. А если вы уедете, все рухнет. — Какие глупости! Пожалуйста, не болтайте вздора! Откровенно говоря, я с удовольствием осталась бы. Но не представляю, как это можно устроить. Вот я приеду в Нью-Йорк, немного осмотрюсь и напишу вам. Впрочем, я уверена, что мы скоро вернемся, а если нет и если ваши чувства останутся неизменными, возвращайтесь домой, мы ведь и в Нью-Йорке сможем встречаться. — Эйлин! — с нежностью воскликнул Толлифер, решив воспользоваться представившимся случаем. Он подошел к ней и взял ее за руку. — Какое чудо! Вот этих слов я и ждал от вас, мне так хотелось их услышать. Вы в самом деле так думаете? — спросил он, вкрадчиво заглядывая ей в глаза. И, прежде чем она успела воспротивиться, он обвил руками ее талию и поцеловал — не слишком пылко, но как будто вполне искренне. Эйлин ничего так не хотелось, как удержать его при себе, и все же она мягко, но решительно высвободилась из его объятий, хорошо понимая, что не следует давать Каупервуду серьезного повода к неудовольствию. — Нет, нет, нет, — сказала она. — Вспомните, что вы мне только что говорили. Мы должны быть друзьями и только друзьями, если вы, конечно, хотите, чтобы наши отношения продолжались. Кстати, почему это мы сидим тут? Я сегодня еще не выходила, а мне хотелось бы надеть свое новое платье. Толлифер, отнюдь не стремившийся ускорять события, был очень доволен таким оборотом дела и предложил прокатиться в окрестности Фонтенебло, где Эйлин еще ни разу не была. Она с радостью согласилась, и они тотчас уехали.Глава 40
Нью-Йорк. Каупервуд и Эйлин сходят на пристань с парохода «Саксония». Обычная толпа репортеров. Газеты, проведав о намерении Каупервуда прибрать к рукам лондонскую подземку, спешат разузнать, кто будут основные вкладчики, кого он намечает в качестве директоров компаний, кого в управляющие, и не его ли это люди вдруг начали усиленно скупать акции Районной и Метрополитен — как обыкновенные, так и привилегированные. Каупервуд ловко опроверг эти слухи, и, когда его заявление было опубликовано, иные лондонцы, а также и американцы не могли сдержать улыбки. В газетах и журналах — портреты Эйлин, описание ее новых туалетов; вскользь упоминается, что в Европе она была принята в кругах, близких к высшему свету. А в это время Брюс Толлифер с Мэриголд плывут на яхте к мысу Нордкап. Но об этом, естественно, в газетах ни слова. А в Прайорс-Кове Беренис одерживала успех за успехом. Она так умело скрывала свою изворотливость под покровом простоты, невинности и благопристойности, чти все были убеждены: в недалеком будущем она сделает блестящую партию. У нее положительно было какое-то внутреннее чутье, которое помогало ей избегать людей неинтересных, заурядных и непорядочных, — она окружает себя только самыми респектабельными мужчинами и женщинами. Больше того: ее новые знакомые заметили, что она особенно симпатизирует непривлекательным женщинам — покинутым женам, закоренелым синим чулкам и старым девам, хотя и принадлежащим по рождению к сливкам общества, но не избалованным чьим-либо благосклонным вниманием. Не опасаясь соперничества более молодых и привлекательных женщин, Беренис полагала, что если ей удастся завоевать расположение этих скучающих добропорядочных дам, она сможет проложить себе путь в самые влиятельные круги общества. Не менее удачна была и пришедшая ей в голову мысль открыто восхищаться неким отпрыском титулованной и всеми уважаемой семьи — молодым человеком безупречного поведения и совершенно безобидным. Вот почему-то юная гостья Прайорс-Кова и приводила в умиление своей разборчивостью и рассудительностью всех молодых пасторов и приходских священников на многие мили вокруг. Самый ее вид, когда она скромно появлялась в воскресное утро в одном из ближайших приходов англиканской церкви, всегда в сопровождении матери или какой-нибудь пожилой женщины, известной строгостью своих взглядов, уже достаточно красноречиво подтверждал все самые лестные отзывы о ней. В это время Каупервуд в связи со своими лондонскими планами побывал в Чикаго, Балтиморе, Бостоне, Филадельфии; заходя в святая святых самых почитаемых в Америке учреждений — в банки и кредитные общества, он беседовал с теми, кто мог быть ему наиболее полезным, располагал наибольшим влиянием и в то же время легче всего поддавался бы на уговоры. А как вкрадчиво уверял он собеседника в доходности своего будущего предприятия, — ни одна подземная дорога никогда еще не давала такой постоянной и все возрастающей прибыли. И несмотря на совсем недавние разоблачения его махинаций, Каупервуду внимали с почтительным интересом и даже искренним уважением. Правда, в Чикаго были и такие, кто презрительно отзывался о нем, но в этих злобных перешептываниях по углам чувствовалась явная зависть. Каупервуд — это была сила, а сила всегда притягивает; газетная молва окружала его настоящим ореолом славы. Не прошло и месяца, как Каупервуд убедился, что его основные проблемы решены. Он заключил во многих местах предварительные соглашения на приобретение акций держательской компании, которую он намерен был организовать с целью слияния компаний, владеющих отдельными линиями лондонской подземки. За каждую акцию такой компании его держательская компания будет отдавать три своих акции. Вообще говоря, если не считать нескольких небольших совещаний, которые ему предстояло провести в связи со своими чикагскими капиталовложениями, Каупервуд покончил с делами и смело мог вернуться в Англию. Он бы так и поступил, если бы не одна неожиданная встреча, которая, как всегда, привела к обычному концу. В прежние времена, когда имя его превозносили во всех газетах, честолюбивые красавицы, привлеченные его богатством, известностью и личным обаянием, не раз искали знакомства с ним. А теперь такая волнующая встреча произошла у него в Балтиморе, куда ему пришлось поехать по делам. Это случилось в отеле, где он остановился. И Каупервуду даже на первых порах показалось, что это никак не повлияет на его чувство к Беренис. В полночь, вернувшись от президента Мерилендского кредитного общества, Каупервуд сел к своему письменному столу, чтобы сделать кое-какие заметки в связи с происшедшим между ними разговором; в это время в дверь постучали. На его вопрос женский голос ответил, что с ним хочет поговорить родственница. Каупервуд улыбнулся: за всю его жизнь еще никто не знакомился с ним под таким предлогом. Он отворил дверь и увидел девушку, которая с первого взгляда возбудила его любопытство, — он тут же решил, что таким знакомством не следует пренебрегать. Девушка была очень молода и необычайно привлекательна; тоненькая, среднего роста, она держалась свободно и уверенно. Она была хороша собой и изящно одета. — Так, значит, вы моя родственница? — с улыбкой спросил Каупервуд, впуская ее в комнату. — Да, — спокойно ответила она. — Я ваша родственница, хотя, быть может, вы этому сразу и не поверите. Я внучка вашего дяди, брата вашего отца. Только фамилия моя Мэрис. А фамилия моей мамы была Каупервуд. Он предложил ей кресло и сам сел напротив. Она в упор разглядывала его — глаза у нее были серо-голубые, с металлическим блеском. — Откуда вы родом? — поинтересовался он. — Из Цинциннати, — последовал ответ. — Но моя мама родом из Северной Каролины, а ее отец родился в Пенсильвании — недалеко от того места, где родились и вы, мистер Каупервуд. Он из Дойлстауна. — Правильно, — сказал Каупервуд. — У моего отца в самом деле был брат, который когда-то жил в Дойлстауне. К тому же, разрешите вам сказать, глаза у вас — каупервудовские. — Благодарю, — проронила она, отвечая на его пристальный взгляд не менее пристальным взглядом. Наступило недолгое молчание; потом она сказала, нимало не смущаясь тем, что он так бесцеремонно разглядывает ее: — Вам может показаться странным, что я зашла к вам в такой поздний час, но, видите ли, я тоже живу в этом отеле. Я балерина, и труппа, с которой я выступаю, гастролирует здесь эту неделю. — Да неужели? Как видно, мы, квакеры, стали проникать в самые чуждые для нас области. — Да, — согласилась она и улыбнулась теплой, сдержанной и вместе с тем такой многообещающей улыбкой; в этой улыбке угадывалось и богатое воображение, и впечатлительность, и сильная воля, и чувственность. И Каупервуд тотчас поддался ее обаянию. — Я только сейчас из театра, — продолжала девушка. — Я много читала о вас и видела ваши портреты в здешних газетах. Мне давно хотелось с вами познакомиться, вот я и решила зайти к вам не откладывая. — Вы хорошо танцуете? — поинтересовался Каупервуд. — А вы приходите к нам и посмотрите — тогда сможете сами судить. — Я собирался утром уехать в Нью-Йорк, но если вы согласитесь позавтракать со мной, я, пожалуй, останусь. — О, конечно соглашусь, — сказала она. — А знаете, я уже много лет представляла себе, как я буду когда-нибудь разговаривать с вами, — вот так, как сейчас. Однажды, года два назад, когда я нигде не могла получить работу, я написала вам письмо, но потом разорвала его. Видите ли, я из бедных Каупервудов. — И очень плохо, что вы его не отправили, — заметил Каупервуд. — О чем же вы мне писали? — Ну, что я очень талантливая и что я ваша двоюродная племянница. И что если мне дадут возможность проявить себя, из меня наверняка выйдет незаурядная танцовщица. Но сейчас я даже рада, что не отправила того письма: теперь мы встретились, и вы сами увидите, как я танцую. Кстати, — продолжала она, не спуская с него своих лучистых серо-голубых глаз, — наша труппа будет выступать этим летом в Нью-Йорке, и, я надеюсь, там вы тоже придете посмотреть на меня. — Если вы пленяете вашими танцами так же, как и вашей внешностью, вы должны пользоваться огромным успехом. — Посмотрим, что вы скажете завтра вечером. — Она сделала движение, словно собираясь встать и уйти, но потом передумала. — Как, вы сказали, вас зовут? — наконец спросил он. — Лорна. — Лорна Мэрис, — повторил он. — Вы и на сцене выступаете под этим именем? — Да. Одно время подумывала, не изменить ли мне его на Каупервуд, чтоб вы услышали обо мне. А потом решила, что такая фамилия подходит больше для финансиста, чем для танцовщицы. Они продолжали внимательно разглядывать друг друга. — Сколько вам лет, Лорна? — Двадцать! — просто ответила она. — Вернее, будет двадцать в ноябре. Наступившее вслед за тем молчание было полно значения. Их глаза говорили друг другу все, что только может сказать взгляд. Секунда, другая — и Каупервуд, не сводя с нее глаз, просто поманил ее пальцем. Она поднялась, гибкая, как змея, и, быстро подойдя к нему легкой, скользящей походкой, бросилась в его объятия. — Какая ты красавица! — сказал он. — И подумать только, что ты пришла ко мне вот так… чудесно…Глава 41
В голове у Каупервуда была полная сумятица, когда на следующее утро, часов в двенадцать, он расстался с Лорной. Угар, который накануне одурманил его и до сих пор владел всем его существом и всеми чувствами, не мог вытеснить из его памяти мысль о Беренис. Но как описать его состояние? Смешно было бы утверждать, что огонь, которому ничто не препятствует, не может сжечь дом. А сил, которые препятствовали или хотя бы могли воспрепятствовать Каупервуду или Лорне поддаться влечению чувства, не было. Но когда она ушла в театр, мысли Каупервуда потекли по своему обычному руслу, и он задумался над тем, как странно и неестественно, что в его жизни, до сих пор всецело заполненной Беренис, появилась еще и Лорна. Целых восемь лет он жаждал Беренис и терзался мыслью, что она для него недосягаема, а последнее время был весь во власти ее физической и духовной красоты. И однако он позволил менее утонченным, но все же властным чарам другой женщины не только затмить, но на какое-то время даже вытеснить из его сердца и мыслей Беренис. Оставшись один в своей комнате, Каупервуд спросил себя, заслуживает ли он порицания. Он ведь не искал этого искушения, оно само пришло к нему, и притом так внезапно. Он всегда стремился разнообразить свои впечатления, разнообразить источники и почву, питающие их, — такова уж была его натура, иначе он не мог. Правда, он говорил Беренис в дни своего наивысшего увлечения ею, да и не раз потом, что в ней он обрел все, о чем мечтал годами, — всю свою долгую жизнь. В сущности, так он думал и сейчас. Но только теперь появилась еще и Лорна, которая с необоримой, всепобеждающей силой влекла к себе таинственным, неотразимым очарованием нового и неизведанного, всем, что сулит женская молодость и красота. Ее предательскую власть, говорил себе Каупервуд, пожалуй, нетрудно объяснить — эта власть сильнее человека, он не в состоянии бороться с ней, каковы бы ни были его намерения. Она приходит, неся с собою лихорадку, зажигает пожаром кровь и делает свое дело. Так было у него с Беренис, а теперь так же получилось с Лорной Мэрис. Но одно Каупервуд отчетливо понимал даже сейчас: увлечение Лорной никогда не сможет вытеснить из его сердца любовь к Беренис. Он по-разному относился к этим женщинам, — он это сознавал и чувствовал, — потому что они сами были очень разные как по характеру, так и по складу ума. Почти ровесница Беренис, Лорна прошла суровую школу жизни, больше испытала и довольствовалась тем немногим, что могла принести ей ее физическая и чисто чувственная красота: славой, подношениями и аплодисментами, какими награждает публика соблазнительную и воспламеняющую танцовщицу. У Беренис был совсем другой склад характера и соответственно с этим совсем иные запросы: это была гораздо более яркая и многообразная натура, с широким кругозором, обогащенным культурой и тонким пониманием прекрасного. Как и Каупервуд, она прежде всего руководствовалась разумом и художественным чутьем. Поэтому-то она и сумела так непринужденно и с таким изяществом держать себя в Англии, примениться к ее атмосфере, ее обычаям и традициям. Несмотря на всю живость Лорны и ее волнующую чувственную прелесть, обаяние Беренис, ее власть над Каупервудом были, несомненно, глубже, прочнее. Иными словами, ее переживания, ее стремления воспринимались им как нечто несравненно более значительное. И когда Лорна уйдет из его жизни, — хотя Каупервуду не хотелось сейчас думать об этом, — Беренис по-прежнему будет занимать в ней большое место. Но как же ему все-таки быть дальше? Сумеет ли он скрыть эту связь, которую ему вовсе не хочется сейчас же обрывать? И если Беренис узнает об этом, что он ей скажет? Бреясь перед зеркалом, принимая ванну и одеваясь, он так и не сумел решить эту задачу. Придя на спектакль, Каупервуд понял, что Лорна Мэрис не столько талантливая, сколько модная танцовщица — из тех, что несколько лет блистают на сцене, а потом, при случае, выходят замуж за богатого человека. Но сейчас, глядя, как она исполняет танец клоуна, в широчайших шелковых шароварах и перчатках с длинными пальцами, он находил ее очень соблазнительной. При свете прожекторов, отбрасывающих гигантские тени, под аккомпанемент причудливой музыки, она пела и танцевала, изображая злого духа, — берегись, того и гляди сцапает! Затем следовал танец языческий жрицы. В короткой тунике из белого шифона, так выгодно подчеркивавшей красоту ее обнаженных рук и ног, в вихре обсыпанных золотою пудрой волос, перед ним была исступленная вакханка. А в следующем танце Лорна предстала невинной девушкой, которая в ужасе пытается скрыться от преследователей, покушающихся на ее честь. Танцовщицу вызывали столько раз, что дирекция принуждена была прекратить ее выступления на бис. И в Нью-Йорке все только и говорили о ней, несомненно она была самой яркой звездою летнего сезона, эмблемой для всех влюбленных этого огромного города. В самом деле, к немалому удивлению и удовольствию Каупервуда, о Лорне говорили ничуть не меньше, чем о нем самом. Оркестры повсюду играли ее песенки, актрисы в модных водевилях подражали ей. Достаточно было появиться с нею, чтобы пошли разговоры, — это было главным затруднением, с которым приходилось считаться Каупервуду, ибо те самые газеты, которые ежедневно прославляли Лорну, прославляли и его. Это побуждало его действовать с величайшей осторожностью и в то же время приводило в полное отчаяние: ведь Беренис может прочесть об этом или услышать, или кто-нибудь шепнет ей, что его видели с Лорной, а роман их был в самом разгаре, и они естественно стремились как можно больше бывать вместе. Зато Эйлин Каупервуд решил откровенно признаться, что встретил в Балтиморе внучку своего дяди, очень способную девушку, выступающую в труппе, которая гастролирует в Нью-Йорке. Не возражает ли Эйлин, если он пригласит ее к ним? Эйлин, которая уже читала о Лорне и видела ее фотографии в газетах и журналах, разумеется, любопытствовала посмотреть на нее и потому охотно согласилась послать приглашение. Но танцовщица показалась ей слишком красивой, слишком самоуверенной, — скажите, пожалуйста, сама разыскала Каупервуда, сама познакомилась с ним! Этого было уже достаточно, чтобы озлобить Эйлин и пробудить в ней старые подозрения. А что, собственно, интересует Каупервуда в этой девушке? Молодость — нет такой силы, которая могла бы ее вернуть! Красота — призрачная тень совершенства, неверная и так быстро от нас ускользающая! А какую бурю они могут вызвать, какой пожар страстей! Эйлин без особого удовольствия водила Лорну по галереям и садам каупервудовского дворца. Она завидовала Лорне, понимая, что та обладает таким богатством, которое не нуждается в оправе, тогда как сама Эйлин… что ей в этих вещах, когда ей не хватает главного. Жизнь — там, где красота и желание; где их нет, там нет ничего… Каупервуд жаждет красоты и умеет находить ее — он живет полной, яркой жизнью, у него есть и слава и любовь. А у нее… Вынужденный изображать занятого человека, придумывать несуществующие совещания и дела, чтобы сохранить в тайне и безопасности свой новый рай, Каупервуд вспомнил о Толлифере, — неплохо бы иметь его под рукой, — и тут же отдал распоряжение Центральному кредитному обществу о вызове его в Нью-Йорк. Он, пожалуй, сумеет отвлечь Эйлин от мыслей о Лорне. И вот Толлифер, крайне разочарованный тем, что его отзывают в Америку в самый разгар веселого путешествия у мыса Нордкап в компании Мэриголд и ее друзей, должен был объявить, что неотложные финансовые дела требуют его немедленного возвращения в Нью-Йорк. Вернувшись, он сразу окунулся в веселую, рассеянную жизнь, стараясь развлечь себя, а заодно и Эйлин, и тут до него дошли слухи о Лорне и Каупервуде, которые, естественно, не могли не заинтересовать его. Впрочем, хотя Толлифер и завидовал неизменному везению Каупервуда, он всякий раз старался преуменьшить, а то и вовсе свести на нет доходившие до него сплетни, а главное — оградить своего патрона от каких-либо подозрений со стороны Эйлин. К несчастью, он прибыл слишком поздно, чтобы предупредить неизбежное — в светской хронике появилась статейка, которая не замедлила попасть в руки Эйлин. Эта статейка вызвала в ней обычную реакцию, подняла со дна души старую горечь, накопившуюся за долгие годы жизни с человеком, который так и не избавился от своего возмутительного порока. Подумать только — человек с таким положением, прославившийся своей предприимчивостью и достижениями, дает повод всякой мелкой сошке, которая и в подметки-то ему не годится, порочить и пятнать свою репутацию, — а ведь она могла бы быть столь блистательной и незапятнанной! Одно утешало Эйлин: если ей суждено еще раз пережить подобное унижение, так и Беренис Флеминг не избежать его. Эйлин давно уже раздражала эта Беренис, вечно стоявшая незримой тенью между нею и Фрэнком. Узнав, что нью-йоркский дом Беренис пустует, Эйлин сделала вывод, что Каупервуд, должно быть, забыл и о ней: он явно не собирался уезжать из города. Каупервуд объяснил свое пребывание в Нью-Йорке, между прочим, тем обстоятельством, что на пост президента намечался Уильям Дженнингс Брайан, который на предстоящих выборах мог одержать победу; этот политический смутьян с помощью своих экономических и социальных теорий, шедших несколько вразрез с господствующими в капиталистическом мире взглядами на то, как следует обращаться с деньгами и как их распределять, думал преодолеть непреодолимую пропасть между богачами и бедняками. Поистине панический страх охватил торгово-промышленные и финансовые круги Соединенных Штатов: что, если такой человек в самом деле станет президентом? Это дало повод Каупервуду сказать Эйлин, что он не решается покинуть в такое время страну, поскольку от поражения Брайана, которое поставит все на свое место, зависит и его финансовая деятельность. Так он писал и Беренис. Однако Беренис очень скоро усомнилась в правдивости Каупервуда. Виной тому была Эйлин: она вырезала статейку из светской хроники и послала ее на нью-йоркский адрес Беренис, и спустя некоторое время статейка была получена в Прайорс-Кове.Глава 42
Из всех мужчин, которых до сих пор встречала на своем пути Беренис, Каупервуд был самым сильным, самым ярким, самым преуспевающим. Но сейчас она не думала о мужчинах, не думала даже и о Каупервуде с окружающей его атмосферой довольства и успеха, — такой необычной, такой красочной оказалась жизнь в Прайорс-Кове. Здесь она впервые почувствовала, что проблемы, связанные с ее двусмысленным положением в обществе, если и не решены, то во всяком случае могут быть на время забыты, и она может предаться влечениям своей до крайности эгоистичной и самовлюбленной натуры и сколько угодно играть и позировать. Жизнь в Прайорс-Кове протекала в приятном уединении и безделье. Утром, после долгих часов, проведенных в ванне, а потом у зеркала, Беренис любила разглядывать свои наряды и выбирать себе костюм подстать настроению: вот эта шляпа придает ей томный вид, а эта лента — игривый, и тогда нужны вот эти серьги, этот пояс, эти туфли. Порой она усаживалась перед своим туалетным столиком и, опершись локтем о его мраморную в золотистых прожилках доску, склоняла голову на руку и подолгу разглядывала в зеркале свои волосы, губы, глаза, грудь, плечи. С величайшей тщательностью подбирала она серебро, фарфор, скатерти, цветы, неизменно заботясь о том, чтобы и стол выглядел как можно эффектнее. И хотя обычно никто, кроме ее матери, экономки миссис Эванс и горничной Розы, не любовался плодами ее трудов, она наслаждалась ими прежде всего сама. Беренис любила пройтись при луне по маленькому, обнесенному стеною садику, куда выходила ее спальня, и помечтать; она вспоминала Каупервуда, и нередко ей страстно хотелось поскорее быть с ним. Впрочем, ее утешала мысль, что за недолгой разлукой последует тем более радостная и счастливая встреча. Миссис Картер нередко поражалась столь замкнутому образу жизни, не понимая, почему дочь стремится к одиночеству, тогда как светское общество все шире и шире распахивает перед нею свои двери. Но вскоре их уединение нарушил лорд Стэйн. Это произошло через три недели после отъезда Каупервуда; Стэйн ехал на автомобиле из Трегесола в Лондон и по дороге заехал в Прайорс-Ков — будто бы за тем, чтобы взглянуть на лошадей, а заодно и познакомиться с новыми обитателями поместья. Они вызвали в нем тем больший интерес, когда он узнал, что опекуном девушки, жившей в Прайорс-Кове, был сам Фрэнк Каупервуд. Беренис, которая столько слышала о Стэйне от Каупервуда, узнав о приезде этого англичанина, сразу загорелась любопытством; не без усмешки вспомнила она при этом про головные щетки с графскими гербами и про весьма таинственные шпильки. Она вышла к нему оживленная и уверенная в себе. Ее эффектный туалет — белое платье с голубой лентой вокруг талии, голубая бархатка, перехватывающая пышные рыжие волосы, и голубые туфельки — произвел должное впечатление на Стэйна. Склоняясь над ее тонкой рукой, он подумал о том, что перед ним женщина, для которой каждая минута в жизни полна глубокого смысла, и что честолюбивый и могущественный Каупервуд выбрал вполне подходящий объект для опеки. И взгляд его, в котором он постарался скрыть любопытство, выдавал восхищение. — Надеюсь, вы извините своему хозяину столь бесцеремонное вторжение, — начал он. — У меня здесь несколько лошадей, которых я собираюсь отослать во Францию, и мне нужно было взглянуть на них. — Мы с мамой все время ожидали случая познакомиться с владельцем этого очаровательного уголка, — сказала Беренис. — Здесь так хорошо — просто нет слов. А о вас я много слышала от своего опекуна, мистера Каупервуда. — Я ему весьма обязан за это, — сказал Стэйн, очарованный ее манерой держаться. — Что же до Прайорс-Кова, то я никак не могу принять ваши похвалы на свой счет: это, видите ли, наследственное владение, одно из сокровищ нашей семьи. Его пригласили на чай, и он остался. Он спросил, как долго они намерены пробыть в Англии. Беренис, сразу же решив быть с ним поосторожнее, ответила, что не знает: это будет зависеть от того, насколько им с мамой здесь понравится. Стэйн не сводил с нее глаз, и ее невозмутимый взор снова и снова сталкивался с его пристальным взглядом. Он держался так просто, что и она позволила себе некоторые, впрочем вполне невинные, вольности, которых никогда не допустила бы, веди он себя иначе. Он намерен посмотреть своих лошадок? Так, может быть, и ей можно взглянуть на них? Стэйн был в восторге, и они вместе направились к выгону позади конюшен. Он спросил, довольна ли она прислугой и порядком в Прайорс-Кове. Быть может, она и ее матушка пожелают воспользоваться лошадьми, чтобы покататься в коляске или верхом? Или, может быть, ей хочется, чтобы садовник или управляющий фермой что-нибудь изменили или переделали? На ферме, пожалуй, слишком много овец. Он уже подумывал распродать часть. Беренис тут же заявила, что она обожает овец и вообще ей все очень нравится и она не желает никаких перемен. Недели через две-три, сказал Стэйн, он вернется из Франции и по дороге в Трегесол, если они все еще будут здесь, опять навестит их. Быть может, и мистер Каупервуд приедет к этому времени. Если да, он будет очень рад снова встретиться с ним. Стэйн явно предлагал ей свою дружбу, и Беренис решила извлечь из этого все, что можно. Не исключено, что это начало флирта, — мысль о такой возможности еще и раньше мелькала у Беренис, с тех самых пор, как она узнала, что Стэйн — хозяин поместья, где им предстоит жить, и, возможно, будущий партнер Каупервуда. Когда он ушел, она замечталась, вызывая в памяти его высокую стройную фигуру, безукоризненный летний шерстяной костюм, красивое лицо, руки, глаза. Все в нем — внешний вид, походка, манера держаться — было полно своеобразного обаяния. Но он связан деловыми отношениями с Каупервудом! Об этом следовало подумать, как и о том ложном положении, в каком находятся она и ее мать. Ведь он может догадаться! Он не полковник Хоксбери и не Артур Тэвисток, которых нетрудно провести, как и всех этих сельских священников и старых дев. Это так же несомненно, как и то, что ни ее, ни Каупервуда не удалось бы в подобном случае обмануть. Если сейчас дать Стэйну хоть малейший повод к флирту, он, пожалуй, поведет себя с нею, как с женщиной определенного типа, какою она, собственно, и была, — одной из тех, кем можно пополнить перечень своих побед, вовсе и не помышляя о браке. Нет, она слишком привязана к Каупервуду и слишком заманчиво участвовать в осуществлении его грандиозных планов, — она и думать не хочет о таком предательстве. Ее измена была бы для него слишком тяжелым ударом. Притом он, пожалуй, жестоко отплатил бы ей. Она даже задумалась, разумно ли вообще встречаться со Стэйном. Но однажды, ранним августовским утром, когда она, словно Нарцисс, любовалась собою в зеркале, ей принесли письмо от Стэйна. Его грум с двумя лошадьми уже находится на пути в Прайорс-Ков, сам он тоже выезжает из Парижа и хотел бы, если она позволит, прибыть следом. Беренис ответила короткой запиской: разумеется, ее матушка и она сама будут рады видеть его. Волнение, которое Беренис при этом почувствовала, заставило ее призадуматься и невольно вспомнить о Каупервуде, который, кстати сказать, в это самое время упивался чарами Лорны Мэрис. Стэйн, финансист менее проницательный и ловкий, чем Каупервуд, в области чувств был ему достойным соперником. Стоило этому англичанину всерьез увлечься, как он становился на редкость изобретательным и напористым. Он любил красивых женщин и, какими бы делами ни были заняты его мысли, вечно искал все новых и новых приключений. Беренис пленила его с первого взгляда. В этом чудесном уголке, одна с матерью, она казалась ему вполне подходящим объектом для его пылких чувств, однако Стэйн понимал, что придется считаться с Каупервудом и действовать осторожно. Но, поскольку Каупервуд ни разу не обмолвился, что является опекуном Беренис, а она живет сейчас здесь, в его доме, — так почему бы ему, владельцу поместья, не наведываться к ней и впредь, по крайней мере до тех пор, пока он не узнает чего-либо нового? Итак, когда настало время уезжать из Парижа, Стэйн с истинным удовольствием собрался в путь, решив извлечь как можно больше из представившегося случая побыть подле Беренис. Со своей стороны Беренис тоже приготовилась к встрече. Она надела свое любимое бледно-зеленое платье, была оживлена и держалась куда менее официально, чем в прошлый раз. Хорошо ли он провел время во Франции? Какая лошадь победила — гнедая с белым пятном у глаза или большая вороная с белыми ногами? Оказалось — большая вороная; она принесла Стэйну приз в двенадцать тысяч франков, а заодно и выигрыш нескольких пари, — в общем и целом тридцать пять тысяч франков. — Достаточно, по-моему, чтоб превратить в аристократов целую семью французских бедняков, — весело заметила Беренис. — Что ж, французы, знаете ли, народ бережливый, — сказал Стэйн. — С такой суммой какой-нибудь французский крестьянин вполне мог бы стать барином, да и наш тоже. В Шотландии, откуда родом предки моего отца, с такими деньгами, говорят, выходили в графы. — Он задумчиво улыбнулся. — Первый граф Стэйн, — добавил он, — начинал с меньшими капиталами. — А вот нынешний выигрывает такие деньги за одни скачки! — М-м, на этот раз — да, но ведь не всегда так бывает. В прошлый раз скачки обошлись мне вдвое дороже. Они сидели на палубе плавучего домика и ждали, пока им подадут чай. Мимо проплыла плоскодонка с кадкой-то веселой компанией, и Стэйн спросил Беренис, каталась ли она в его отсутствие на байдарках или на лодках, — ведь их сколько угодно на его лодочной станции. — О да, — сказала она. — Мы с мистером Тэвистоком и с полковником Хоксбери — знаете, с тем, что живет близ Уимблдона, — обследовали всю реку, доплывали до Виндзора, а в обратном направлении — далеко за Марлоу. Думали добраться даже до Оксфорда. — На плоскодонке? — поинтересовался Стэйн. — Да, даже на двух или на трех. Полковник Хоксбери хотел подобрать компанию. — Милейший человек этот полковник! Так вы знакомы с ним? Мы дружили мальчишками. Но я давно не видел его. Он, кажется, был в Индии? — Да, он мне рассказывал. — А знаете, окрестности Трегесола много живописнее, — сказал вдруг Стэйн, отмахиваясь от Хоксбери и Тэвистока. — Кругом море, скалы — самое скалистое место на побережье Англии — суровое, величественное, а подальше — вересковые заросли и болота, оловянные и медные рудники и старинные церкви. Вы этим не интересуетесь? И погода — чудесная, особенно сейчас. Я бы очень хотел, чтобы вы с матушкой приехали в Трегесол. Там у нас есть недурная бухточка, где я держу свою яхту. Мы могли бы съездить на острова Силли, — они всего милях в тридцати оттуда. — Как мило! Вы очень любезны! — сказала Беренис, думая, однако, о Каупервуде и о том, как он отнесся бы к такому приглашению. — Мама, у тебя нет желания прокатиться на яхте к островам Силли? — спросила она, заглянув в открытое окно. — У лорда Стэйна есть яхта и своя пристань в Трегесоле, и он уверен, что нам понравится такая прогулка. Она продолжала весело болтать, впрочем не без легкой снисходительности в голосе. Стэйн слегка удивился, что она так небрежно отнеслась к его приглашению, которого многие добивались бы как величайшей милости. В окне появилась миссис Картер. — Вы должны извинить мою дочь, лорд Стэйн, — сказала она. — Она очень своенравная девица. Она никогда меня не слушалась, да и не только меня, а вообще никого. Ну, а что касается меня, — тут миссис Картер посмотрела на Беренис, словно спрашивая у нее позволения, — по-моему, ваше предложение очень заманчиво! И я уверена, что и Беви думает так же. — Давайте-ка пить чай, — не обращая внимания на мать, продолжала Беренис. — А потом можете покатать меня на лодке, хотя я, пожалуй, предпочитаю кататься сама — и на байдарке. А то, хотите, пройдемся немного или сыграем до обеда в теннис. Я много упражнялась и теперь, наверно, сыграю неплохо. — Не слишком ли жарко для тенниса? — возразил Стэйн. — Лентяй! А я-то думала, англичане способны пожертвовать чем угодно, лишь бы вволю побегать по корту да помахать ракеткой. Нет, Британская империя, как видно, приходит в упадок! И тем не менее в теннис этим вечером не играли; зато Стэйн с Беренис катались на байдарке по Темзе, а потом — не спеша обедали при свечах. Стэйн описывал красоты Трегесола — правда, поместье несколько старомодно и не так нарядно, как многие английские усадьбы, зато из окон открывается вид на море и скалистый берег — странный и даже жуткий в своей величавой, дикой красоте. Но Беренис все еще побаивалась принять приглашение, хотя ей и хотелось посмотреть на поместье, — уж очень красочно описал его Стэйн.Глава 43
В характере Стэйна было много общего с Беренис. Он был более податливый, не такой напористый, как Каупервуд, и безусловно менее практичный. Букашка по сравнению с Каупервудом в мире крупных афер, где тот блистал, Стэйн, однако, представал в чрезвычайно выигрышном свете в той атмосфере, которая так прельщала Беренис, — в обстановке изысканной роскоши, подчиненной требованиям самого утонченного вкуса. Она сразу разгадала его — ей достаточно было десять минут походить с ним вечером по парку и послушать, как он рассказывает о себе, чтобы понять, каковы его склонности и взгляды. Как и Каупервуд, он считал свою судьбу вполне сносной и даже не желал ничего иного. Что ж, он богат. Знатен. И не бездарен. — Но сам я не сделал ровно ничего, чтобы добыть или заслужить хоть что-то из того, что у меня есть, — признался он. — Этому нетрудно поверить, — рассмеялась Беренис. — Но тут уж ничего не поделаешь, — продолжал он, словно не заметив ее реплики. — Таков мир — все в нем несправедливо: одни одарены сверх меры, а у других нет ничего. — Как это верно! — сказала Беренис, став вдруг серьезной. — В жизни столько рокового и столько нелепого: бывают судьбы прекрасные, а бывают страшные, позорные, отвратительные… Стэйн принялся рассказывать ей о себе. Его отец хотел, чтобы он женился на дочери их соседа, тоже графа. Но их не слишком влекло друг к Другу, деликатно заметил он. А позже, в Кембридже, Стэйн решил во что бы то ни стало отложить женитьбу и сначала поездить по свету, чтобы лучше узнать жизнь. — Но беда в том, — продолжал Стэйн, — что я слишком привык переезжать с места на место. А в промежутках между большими путешествиями хочется еще побывать и в моем лондонском доме, и в парижском, и в Трегесоле, и в Прайорс-Кове, когда он никем не занят. — А вот, по-моему, беда в другом: непонятно, что может делать одинокий холостяк со столькими резиденциями, — сказала Беренис. — Они мне служат для развлечения; я люблю в них устраивать званые вечера и балы, — ответил он. — У нас это очень принято, как вы сами, должно быть, заметили. И избежать этого невозможно. А кроме того, я, знаете ли, работаю, и порой очень усердно. — Ради удовольствия? — Да, пожалуй. Во всяком случае это придает мне бодрости, создает какое-то внутреннее равновесие, которое, по-моему, идет мне на пользу. И Стэйн начал излагать свою излюбленную теорию о том, что сам по себе титул очень мало значит, если он не подкреплен личными достижениями. Сейчас всеобщее внимание привлекают прежде всего те, кто работает в области науки и экономики, а как раз экономика его особенно интересует. — Но я совсем не о том хотел с вами говорить, — взаключение сказал он. — Давайте лучше поговорим о Трегесоле. Это место, к счастью, слишком удаленное и слишком пустынное для обычного званого вечера или бала, поэтому, когда я хочу собрать много народу, мне приходится поломать себе голову. Трегесол ничем не напоминает окрестности Лондона, ничего подобного вы там не увидите, — я часто пользуюсь им, как убежищем, куда можно скрыться от всех и вся. Беренис сразу почувствовала, что он хочет установить с ней более близкие, дружеские отношения. Быть может, самое лучшее — сразу же положить всему конец, вот сейчас, не сходя с места, отрезать пути ко всякому дальнейшему сближению. Но как обидно, что она должна оттолкнуть от себя человека, который по-видимому, так широко смотрит на жизнь, — почти так же, как она сама. И, глядя на шедшего рядом Стэйна, Беренис подумала, что он, пожалуй, способен дать волю чувству и побороть свои предрассудки, даже если она расскажет ему о своих отношениях с Каупервудом. Ведь теперь он связан с Каупервудом делами и, пожалуй, относится к нему с достаточным уважением, чтобы уважать и ее. Но к тому же Стэйн очень нравился ей. Поэтому, чтобы избежать искушения, Беренис решила перевести разговор на другую тему и больше в этот вечер не возвращаться к Трегесолу. Но на следующий день, когда они встретились рано утром за завтраком, — они собирались поехать кататься верхом, — этот разговор возобновился. Стэйн сказал, что намерен сбежать в Трегесол — ему хочется отдохнуть несколько дней, а главное, спокойно обдумать некоторые серьезные финансовые проблемы, требующие его внимания. — Видите ли, я взял на себя немалый труд, связавшись со строительством метрополитена, которое затеял ваш опекун, — признался он. — Быть может, вам известно, что мистер Каупервуд разработал очень сложную программу и считает нужным заручиться моей помощью. А я пытаюсь решить, смогу ли я быть ему в самом деле полезен. Он умолк, словно выжидая, что она на это скажет. Их лошади спокойно шли бок о бок. Беренис молчала, покачиваясь в седле: она твердо решила не высказывать собственных мыслей. — Хоть мистер Каупервуд и мой опекун, — прервала она, наконец, молчание, — но его финансовая деятельность для меня тайна. Меня куда больше интересуют чудесные вещи, которые можно приобрести за деньги, чем то, как эти деньги добываются. И по лицу ее скользнула улыбка. Стэйн на мгновение придержал лошадь и, повернувшись, внимательно посмотрел на Беренис. — Честное слово, мы с вами совершенно одинаково думаем! — воскликнул он. — Я часто спрашиваю себя, зачем обременять себя всякими делами, когда так любишь красоту. Подчас я даже злюсь на себя за это. И Беренис мысленно снова сравнила Стэйна со своим энергичным и безжалостным возлюбленным. В Каупервуде — финансисте и стяжателе — любовь к искусству и красоте существовала лишь в той мере, в какой она не мешала его стремлению к власти и богатству. У Стэйна же чувство прекрасного преобладало над всем остальным, и в то же время он, как и Каупервуд, был человек незаурядный, к тому же богатый. Но при этом у него было и еще одно: титул, знатность, а стало быть, такое положение в обществе, какого Каупервуду никогда не добиться. Беренис было тем интереснее сравнивать этих людей, что она видела, какое сильное впечатление произвела она на Стэйна. Английский аристократ — и Фрэнк Каупервуд, американский финансист, магнат городского железнодорожного транспорта!
Проезжая под нависшими ветвями деревьев на своей серой в яблоках лошади, Беренис пыталась представить себя в роли леди Стэйн. Возможно, у них даже будет сын, и он унаследует графский титул. Но тут — увы! — Беренис вспомнила о своей матери — небезызвестной Хэтти Стар из Луисвиля, и о собственных не слишком благовидных отношениях с Каупервудом, которые того и гляди могут стать известны, и тогда — скандал… Ведь от Эйлин можно ожидать всего, а если еще рассердить Каупервуда, бог весть, чем это может кончиться: он так неистощимо изобретателен, так мстителен. И ее недавнее волнение рассеялось, как туман при беспощадном свете дня. На миг она похолодела, осознав всю сложность своего положения. Но тут она услышала слова Стэйна: — Разрешите сказать вам, что ваш блестящий ум и душевная чуткость не уступают вашей красоте. Это звучало утешительно — и Беренис, несмотря на грустное настроение, весело махнула рукой. — Отчего же? Вы думаете, я неспособна принять то, чего не заслуживаю? Она интересовала Стэйна все больше и больше, и потому он склонен был думать, что отношения между Беренис и ее опекуном — самые обычные. Ведь Каупервуду, должно быть, стукнуло все пятьдесят пять, а то и шестьдесят. А Беренис выглядит не старше восемнадцати-девятнадцати. Может быть, она его незаконная дочь. С другой стороны, вполне возможно, что ее молодость и красота пленили Каупервуда, и, осыпая мать и дочь подарками и всевозможными знаками внимания, он попросту добивается благосклонности Беренис. Наблюдая за миссис Картер, Стэйн почувствовал какое-то смутное сомнение. Безусловно, она действительно родная мать Беренис, они так похожи друг на друга. И все же Стэйн недоумевал. Но сейчас ему больше всего на свете хотелось увезти Беренис в Трегесол. Как бы это сделать? — Одно скажу вам, мисс Флеминг: вас можно поздравить с таким опекуном. На мой взгляд, он — выдающийся, замечательный человек. — Да, это верно, — ответила Беренис. — Как интересно, что вы теперь его компаньон или, кажется, собираетесь стать компаньоном. — Кстати, — спросил Стэйн, — вы не знаете, когда мистер Каупервуд возвращается из Америки? — Последнее письмо мы получили от него из Бостона, — ответила она. — И ему предстояла еще уйма дел в Чикаго и в других местах. Право, не знаю, когда он может вернуться. — Когда он приедет, я, надеюсь, буду иметь счастье видеть вас всех у себя, — сказал Стэйн. — Но мы так и не договорились относительно Трегесола. Неужели уж так обязательно ждать возвращения мистера Каупервуда? — Думаю, что да, во всяком случае недели три-четыре придется подождать. Мама неважно себя чувствует, и ей хочется посидеть здесь в тишине и отдохнуть. Она ободряюще улыбнулась Стэйну и тут же подумала, что если Каупервуд вернется или даже просто если написать или телеграфировать ему, все устроится. Ей очень хотелось принять приглашение. К тому же ее дружба со Стэйном, которую Каупервуд заранее одобрил, хотя она и завязалась в его отсутствие, пожалуй, даже поможет ему вести дела с этим англичанином. Надо сейчас же написать Каупервуду. — Но недели через три вы сможете приехать? — спросил Стэйн. — Наверно. И я не сомневаюсь, что это будет очень приятная поездка. Волей-неволей Стэйну пришлось сделать вид, что он в восторге от ее обещания. Эта юная красавица-американка явно не нуждается ни в нем, ни в Трегесоле, ни в его высокопоставленных знакомствах. Такая уж это независимая натура, привыкла поступать по-своему, с этим надо считаться.
Глава 44
Хотя Беренис была далеко не уверена, разумно ли продолжать дружбу со Стэйном, укреплению этой дружбы отчасти способствовал сам Каупервуд, который отнюдь не спешил возвращаться. Он уже сообщил — причиной этому была Лорна, — что до исхода президентских выборов не сможет вернуться в Лондон. Если же, предусмотрительно добавил он, ему придется задержаться надолго, он вызовет Беренис к себе в Нью-Йорк или в Чикаго. Письмо это наводило на размышления, но подозрений не вызывало. И, может быть, все так бы и обошлось, если б не газетная заметка, вырезанная Эйлин и дошедшая до Беренис примерно через неделю после ее разговора со Стэйном. Как-то утром, разбирая почту в своей спальне, выходившей окнами на восток, Беренис увидела простой конверт, адресованный на ее нью-йоркскую квартиру и пересланный в Прайорс-Ков. В нем оказалось несколько фотографий Лорны Мэрис и газетная вырезка — заметка из светской хроники. Эта заметка гласила:«Во всем городе только и говорят, что о всемирно известном архимиллионере и его последнем увлечении — популярной танцовщице, звезде сезона. Если верить слухам, эта история носит крайне романтичный характер. Говорят, что сей джентльмен, прославившийся своими успехами на финансовом поприще в некоем городе на Среднем Западе, а также своей слабостью к молодым и красивым девушкам, встретил в одном из отдаленных городов нашей страны очаровательнейшую представительницу балетного искусства, ныне звезду сезона, и будто бы одержал над ней мгновенную победу. Хотя сей меценат и очень богат и, как всем известно, не жалеет денег и осыпает дорогими подарками тех, кому посчастливилось привлечь его внимание, — он все же не потребовал, чтобы балерина ушла со сцены и последовала за ним в Европу, откуда сам он недавно возвратился в поисках капиталов для задуманного им предприятия. Пожалуй, наоборот: он настолько увлечен, что, по всей видимости, позволил уговорить себя остаться здесь. Европа зовет его, но он отложил завершение крупнейшего в своей жизни финансового начинания, чтобы всласть понежиться в лучах недавно открытого им светила. Напрасно франты в шелковых цилиндрах толпятся у артистических подъездов, — частный автомобиль уносит предмет их поклонения к таким радостям и восторгам, о которых мы можем только догадываться. Во всех клубах, ресторанах, барах только и разговоров, что об этом романе. Чем он может кончиться — предугадать, разумеется, невозможно. Несомненно одно: Европу нельзя заставлять ждать до бесконечности. Пришел, увидел, победил!»
В первую минуту Беренис была не столько шокирована, сколько удивлена. Восторженное преклонение Каупервуда, то огромное удовлетворение, которое он как будто находил в ее обществе и в своей деятельности, — все это давно усыпило ее сомнения: казалось, в ближайшем будущем ей ничто не угрожает. Но, изучая фотографию Лорны, она сразу заметила, сколько чувственного огня в этой новой фаворитке Каупервуда. Неужели это правда? Неужели он нашел другую — и так скоро? Нет, этого она ему ни за что не простит. Каких-нибудь два месяца назад он называл ее самой прелестной женщиной на свете и говорил, что ей-то уж меньше чем кому-либо следует опасаться мужского непостоянства или соперничества женщины. И вот, однако, он все еще в Нью-Йорке, где ничто не удерживает его, кроме Лорны. И еще хочет провести ее болтовней о президентских выборах! Мало-помалу холодная ярость овладела Беренис. Ее голубые глаза стали как льдинки. Но в конце концов здравый смысл снова пришел ей на помощь. Разве не в ее власти пустить в ход самое острое свое оружие? К ее услугам Тэвисток — он хоть и хлыщ, но занимает столь видное положение в свете, что его вместе с матерью часто приглашают даже ко двору. Да не только он, есть и другие, — откровенно восторженные взгляды многих и многих видных и интересных мужчин в этом новом для нее обществе красноречиво говорили: «Выбери меня — я того стою!» И, наконец, есть еще Стэйн. Впрочем, сколько бы Беренис ни злилась на Каупервуда в эти первые минуты, какие бы планы ни строила, ей и в голову не приходило предпринять какой-либо отчаянный шаг. В конце концов он дорог ей. Они оба успели почувствовать и понять, как необходимы они друг другу. Она не знала, как отнестись к этой измене, она была поражена, уязвлена, злость так и кипела в ней, но пойти на разрыв она не решилась бы. Разве сомнение в том, удастся ли ей удержать его, заставить его забыть прежние привычки и влечения, не волновало ее частенько и раньше? В глубине души она допускала, была почти уверена, что это ей не удастся. В лучшем случае сходство характеров и общность интересов, надеялась она, помогут им сохранять если не нежные, то хотя бы выгодные обоим отношения. А теперь… Неужели ей придется сознаться себе — и так скоро, — что все рухнуло? Нет, не может быть! Не так она представляла себе свое будущее и будущее Каупервуда. Ведь до сих пор все было так чудесно… Она уже написала Каупервуду о приглашении Стэйна и намеревалась дождаться его ответа, а пока что не говорить насчет поездки в Трегесол ни «да», ни «нет». Но теперь, когда перед ней такое доказательство неверности Каупервуда, — решено: как бы она ни сочла нужным вести себя с ним дальше, она примет приглашение его светлости и будет всячески поощрять его ухаживания. А там видно будет, как поступить. Любопытно, что-то скажет Каупервуд, когда увидит, как увлекся ею Стэйн. Итак, Беренис написала Стэйну, что матушка чувствует себя лучше и ей полезно было бы сейчас переменить обстановку, а потому она с радостью принимает его вторичное приглашение, полученное всего несколько дней назад. Что до Каупервуда, она пока не станет больше писать ему. Она отнюдь не собирается держать себя со Стэйном так, чтобы вызвать нежелательные разговоры, и поездка эта не должна привести к разрыву с Каупервудом. Надо выждать и посмотреть, как подействует на него ее молчание.
Глава 45
Тем временем в Нью-Йорке Каупервуд все еще предавался своей новой страсти, но в глубине его сознания — ни на минуту не давая ему покоя — неотступно маячила мысль о Беренис. Как это почти всегда с ним бывало, его чувственные восторги длились недолго. В самой его крови было нечто такое, отчего он со временем — неизбежно и неожиданно для себя — почему-то терял всякий интерес к предмету недавнего увлечения. Однако после знакомства с Беренис он впервые в жизни почувствовал, что здесь он будет не победителем, а побежденным, — уверенность, от которой он не мог отделаться и которая не на шутку встревожила его, ибо его отношения с ней не ограничивались просто физической близостью, а отнимали немало душевных сил. В противоположность всем женщинам, каких он знал прежде, Беренис вносила в его жизнь не только страсть и радость обладания, но и какую-то частицу красоты и творческой мысли. Еще два обстоятельства заставили Каупервуда призадуматься. Первым и наиболее важным было письмо от Беренис — она сообщала, что в Прайорс-Ков приезжал Стэйн и что он приглашал ее с матерью к себе в Трегесол. Это известие крайне взволновало Каупервуда, — он знал, что Стэйн несомненно обаятельный, отнюдь не заурядный человек, и при этом — очень недурен собой. Безусловно, Беренис может увлечься таким человеком. Как же ему поступить: покончить немедленно с Лорной и вернуться в Англию, чтобы помешать Стэйну завоевать симпатии Беренис? Или подождать еще немного и уж вполне насладиться близостью с Лорной, а заодно показать Беренис, что он вовсе не ревнует ее к Стэйну и нимало не опасается этого блестящего высокопоставленного соперника? Это заставит ее подумать, может ли Стэйн быть для нее такой надежной опорой, как он, Каупервуд. Наряду с этим настроение Каупервуда омрачало еще одно обстоятельство. Совсем неожиданно и очень серьезно заболела Керолайн Хэнд. Из всех предшественниц Беренис ни одна так не понимала его, как Керолайн, не была ему так близка. Керолайн до сих пор писала ему дружеские, остроумные письма, уверяла его в своей неизменной преданности и желала ему успеха в его лондонском предприятии. А теперь он получил от нее коротенькую записку: Керолайн сообщала, что ей предстоит операция аппендицита. Пусть он приедет — хотя бы на час, на два. Ей так много нужно сказать ему. Раз уж он в Америке, он, наверно, может приехать. И Каупервуд счел своим долгом съездить в Чикаго и повидаться с ней. Каупервуду еще никогда в жизни не приходилось сидеть у постели какой-либо из своих возлюбленных не только во время серьезной болезни, но даже при пустячном недомогании. Его в таких случаях не приглашали: все его мимолетные романы были всегда пронизаны ощущением молодости, веселья, красоты. И теперь, приехав в Чикаго и увидев Керри (так он называл Керолайн), страдающую от нестерпимых болей, — ее должны были вот-вот отправить в больницу, — он невольно задумался над бренностью человеческого существования. Керолайн, оказывается, попросила его приехать еще и потому, что хотела с ним посоветоваться. — Кто знает, чем это кончится? — сказала она, стараясь казаться бодрой. — На всякий случай прошу тебя исполнить одно мое желание. У меня в Колорадо есть сестра с двумя детьми, я к ней очень привязана, и мне бы хотелось перевести на ее имя кое-какие облигации. Приобрести эти облигации ей посоветовал в свое время сам Каупервуд, и теперь они лежали на хранении в его нью-йоркском банке. Он поспешил превратить все в шутку: она что-то рановато начинает помышлять о смерти, что же тогда делать ему — ведь он старше ее на двадцать пять лет! А про себя он подумал, что все возможно. Что говорить — конечно, она может умереть, все могут — и Лорна, и Беренис, и кто угодно. И как же тщетна, как кратковременна борьба, которую ведет человек! Вот он, в шестьдесят лет, снова чуть ли не с юношеским задором вступает в эту борьбу, — а Керолайн, в тридцать пять, с ужасом думает о том, что очень скоро, быть может, для нее все кончится. Как нелепо. И как грустно. Опасения Керолайн сбылись — она умерла через двое суток после того, как ее привезли в больницу. Услышав о ее смерти, Каупервуд счел благоразумным тотчас уехать из Чикаго, поскольку весь город знал, что она была его любовницей. Однако перед отъездом он послал за одним из своих чикагских адвокатов и подробно объяснил ему, что и как нужно сделать. И все же смерть Керолайн не выходила у него из головы. В этой женщине было столько жизни, блеска, задора, даже когда она уезжала в больницу! Он пожалел тогда, что не может проводить ее, и она сказала — это были последние слова, которые он от нее услышал: — Ты же знаешь меня, Фрэнк. В этом случае я могу обойтись и соло, без всякого сопровождения. Только не уезжай, пока я не вернусь. Меня еще хватит на несколько дуэтов. Но она не вернулась. А с ней ушло навсегда и то, что напоминало ему о лучшей поре его жизни в Чикаго, — о днях, когда он с таким воодушевлением вел свою яростную борьбу и урывал свободную минутку, чтобы повидаться с ней. И вот Керолайн не стало. Ушла, в сущности, из его жизни и Эйлин, хотя она как будто и рядом. Ушла и Хейгенин, и Стефани Плейто, и другие. А он живет. Сколько же ему еще осталось? И его вдруг охватило неудержимое желание вернуться к Беренис.Глава 46
Однако отделаться от Лорны оказалось не так-то легко. Как и Беренис, и Арлет Уэйн, и Керолайн Хэнд, и любая из многих прелестниц, скрашивавших в прошлом жизнь Каупервуда, Лорна была не лишена хитрости. И она искусно прибегала ко всякого рода уловкам, чтобы удержать при себе знаменитого Каупервуда: слишком уж было лестно иметь такого поклонника, чтобы отпустить его без борьбы. — Долго ты думаешь пробыть в Лондоне? Ты будешь часто писать мне? Разве ты не вернешься к рождеству? Или хотя бы к началу февраля? Знаешь, уже решено: мы остаемся в Нью-Йорке на всю зиму. Говорят даже, будто мы потом поедем в Лондон. А ты будешь рад, если я приеду? Она сидела у него на коленях и тихонько шептала ему всякие нежные словечки. Он может быть спокоен: когда она приедет в Лондон, она не будет надоедать ему — она понимает: ведь там Эйлин, и к тому же у него столько дел. Умела же она вести себя в Нью-Йорке. Но Каупервуд, у которого из головы не выходили Беренис и Стэйн, был другого мнения. Правда, Лорна способна была пробудить в нем бурю страсти, но по своему духовному облику, уму и умению держаться в обществе она не шла ни в какое сравнение с Беренис, и вот эту-то разницу между ними Каупервуд и начал теперь ощущать. Надо положить конец этой связи, оборвать ее резко и решительно. От Беренис не было ни строчки, хотя после ее письма, в котором она сообщала о визите Стэйна и намекала на то, что ей хотелось бы съездить в Трегесол. Каупервуд несколько раз писал и телеграфировал ей. Мало-помалу он начал думать, что ее молчание может быть связано с заметкой в светской хронике. Чутье подсказывало ему не писать ей больше, а ехать в Лондон — и немедленно. И вот однажды утром, после ночи, проведенной с Лорной, когда она одевалась, чтобы идти куда-то на званый завтрак, Каупервуд сделал первый шаг к отступлению. — Лорна, — начал он, — давай поговорим. Ты знаешь, нам предстоит расстаться: я уезжаю в Англию… И он рассказал ей все начистоту, не упоминая, конечно, имени Беренис; время от времени Лорна пыталась прервать его, но он пропускал мимо ушей все ее вопросы и возражения. Да, существует другая женщина. Он был счастлив с нею, и для него сейчас самое главное, самое необходимое — сохранить их отношения. Кроме того, нельзя забывать и об Эйлин и об особых условиях его деятельности в Лондоне. Лорна не должна и думать, что их связь может длиться вечно. В их отношениях было много хорошего. И сейчас есть. Но… Невзирая на мольбы и даже горькие слезы Лорны, Каупервуд говорил с ней, как король с некогда любимой, но теперь уже надоевшей фавориткой. Она сидела словно в каком-то оцепенении, глубоко уязвленная, подавленная, пристыженная. Неужели все так быстро кончилось? И однако, глядя на Каупервуда, она понимала, что это так. Ведь ни разу за все время, что они были вместе, он не сказал ей, что любит ее, что не уйдет от нее. Он не из тех, кто говорит такие вещи. Да, но ведь она так хороша, такая блестящая актриса, — может ли это быть, чтобы мужчина, пусть даже такой, как Каупервуд, однажды испытав блаженство ее любви, был в силах расстаться с нею? Как только может он предлагать ей это? Он — Фрэнк Каупервуд, ее двоюродный дядя, человек, родной ей по плоти и крови, и притом ее любовник! Но вот он стоит перед ней, властный, решительный, хладнокровный — возлюбленный и палач! Да, конечно, говорит он, их связывают узы кровного родства, он к ней искренне расположен, так что они вовсе не станут чужими друг другу. Но ни о каких других отношениях не может быть и речи. И он поставил на своем. Правда, в последние дни перед его отъездом у них еще было немало долгих разговоров: Лорна доказывала, что Каупервуд все же должен встречаться с ней, — ведь она его родственница, и она никак не будет вмешиваться в его жизнь. Там видно будет, отвечал он. В мыслях же он был все время с Беренис. Он достаточно хорошо знал ее и понимал, что она вряд ли уйдет от него, даже узнав про Лорну. Но она может почувствовать себя свободной от всяких обязательств, и тогда он лишится ее дружеской поддержки и сердечной привязанности. А тут еще этот Стэйн… Надо поторопиться с отъездом — ведь Беренис не зависит от своего «опекуна» и вольна распоряжаться своей судьбой по собственному усмотрению. Надо как можно скорее помириться с нею. Только покончив со всеми приготовлениями, Каупервуд нашел нужным сказать Эйлин, что они возвращаются в Лондон. Как-то вечером, придя домой, чтобы сообщить ей об этом, он столкнулся на пороге с Толлифером. Каупервуд любезно раскланялся с ним и, задав два-три вопроса о том, как тот проводит время в Нью-Йорке, как бы невзначай заметил, что они с Эйлин через день-два возвращаются в Лондон. Этого было вполне достаточно, чтобы Толлифер понял, что и он должен ехать. Он был в восторге: теперь он может вернуться в Париж и, по всей вероятности, в объятия Мэриголд Брэйнерд. Но до чего же ловко обделывает этот Каупервуд свои дела! Развлекается с Лорной в Нью-Йорке, черт его знает с кем за границей, и тут же отдает распоряжение Эйлин и ему, Толлиферу, — и они следуют за ним в Лондон или на континент! И при этом у него такой невозмутимый вид, который поразил Толлифера с первой же встречи. А вот он, Толлифер, выслушав это неожиданное приказание, обязан ломать и перестраивать все свои планы, лишь бы тот, другой, мог наслаждаться жизнью, уверенно и быстро добиваться своего!Глава 47
На исходе сентября Беренис провела четыре дня в Трегесоле, наслаждаясь красотами природы и седой древностью, которой дышало все в этом поместье. Стэйн пригласил к себе на это время мистера и миссис Уэйлер, веселую и приятную пару, живущую по соседству, а также Уоррена Шарплеса, богатого рыбопромышленника, давно уже перешедшего из разряда дельцов в джентльмены. Все трое должны были помогать хозяину развлекать миссис Картер. Беренис при ближайшем знакомстве со Стэйном убедилась, что он действительно, как он и говорил ей, уделяет развлечениям не меньше внимания, чем делам. Иными словами, он умеет брать от жизни все, что можно. Стэйн любил и свое поместье и его окрестности — бескрайную, поросшую вереском равнину, с одной стороны окаймленную лесами, а с другой — спускающуюся к отмелям и утесам изрезанного бухтами западного побережья Англии. Он старался возможно больше бывать вдвоем с Беренис, водил ее в поля смотреть гигантские камни, которые высились рядами или образовывали круги: должно быть, им поклонялись в древности друиды или иные жрецы — от них веяло чем-то таинственным и первобытно суровым. Он рассказал Беренис о медных и оловянных рудниках, существовавших здесь еще до римского владычества, о больших рыболовных флотилиях, выходивших в открытое море из залива Сент-Айвз и из Пензанса, что в заливе Маунтс, и о древнем племени, все еще живущем в окрестных деревнях, — у него самого в поместье есть несколько человек из этого племени, они говорят на почти забытом теперь языке и до сих пор верны обычаям прадедов. В заливе Маунтс стояла на приколе яхта Стэйна, — на ней, как убедилась Беренис, могла бы разместиться компания человек в двенадцать. А с самого высокого холма в окрестностях Трегесола видны были Ла-Манш и пролив св. Георга. Беренис вскоре заметила, что Стэйн гордится этим диким краем не меньше, чем своими владениями в нем. Именно здесь он чувствовал себя настоящим лордом — всеми признанным и почитаемым. Возможно, когда он совсем остепенится, думала Беренис, его потянет в родное гнездо и он решит навсегда осесть здесь. Ее, однако, такая перспектива не соблазняла. Уж слишком здесь голо и дико, хоть Беренис и восхищалась этой первобытной красотой. Трегесол-холл — длинное, серое, мрачное здание — спасала в глазах Беренис лишь пышность внутреннего убранства: пестрые занавеси и ковры, старинная французская мебель, картины старых французских и английских мастеров и вполне современное электрическое освещение и водопровод. Больше всего поразила Беренис библиотека, она оглядывала ее с чувством благоговения, — графы Стэйны собирали книги из поколения в поколение свыше полутора веков, и теперь это было настоящее сокровище. Время в Трегесоле проходило в непрерывных развлечениях: катались на яхте, купались, устраивали пикники на берегу моря, среди скал, — и Беренис все больше удивлялась Стэйну: в нем чувствовалась какая-то грубоватая простота, которая как-то не вязалась с его любовью к роскоши и удобствам. Он был ловок и силен — с легкостью мог подтянуться на руках шесть раз кряду, ухватившись за сук какого-нибудь дерева, Он оказался и отличным пловцом: даже когда по морю ходили высокие волны, Стэйн отваживался заплывать так далеко, что Беренис могла лишь со страхом и изумлением следить за ним глазами. Он без конца допытывался, как она относится ко всему, что ему нравится, и очень радовался, если их мнения совпадали. И он строил планы на будущее, придумывая для Беренис все новые развлечения, если они будут встречаться и впредь. Но как ни обаятелен был Стэйн, как ни интересно было знакомство с ним — да еще в пику изменнику Каупервуду, — пораздумав, Беренис решила, что ему все же не хватает кипучей энергии Фрэнка. Стэйна не окружал ореол власти и больших начинаний. Ему довольно было солидного положения, без этого оглушительного рева фанфар и кликов толпы, что сопровождают деятельность великих мира сего, их стремительное продвижение по пути славы. А ведь именно за это она преклонялась и всегда будет преклоняться перед Каупервудом. Сейчас он не с нею, он увлечен другой женщиной, и в разлуке образ его словно потускнел, — и все же она непрестанно думает о нем даже теперь, когда так сильно обаяние Стэйна — человека более мягкого и менее напористого. Но, может быть, ей придется побороть в себе влечение к Каупервуду и направить все усилия на то, чтобы женить на себе Стэйна или еще кого-нибудь и таким путем завоевать прочное положение в обществе? К чему отрицать, — да, ей хотелось бы иметь хоть какую-то точку опоры. Кто знает, на что отважится Эйлин, если узнает, что Беренис в Англии и с Каупервудом? А может быть, она уже знает? Почти наверняка это Эйлин послала ей заметку из светской хроники… А прошлое матери — разве удастся вечно скрывать его? Однако ведь Стэйн в самом деле увлечен ею. Быть может, он женится на ней, если только некоторые истины не обнаружатся. Но, может быть, даже если ему и все станет известно, он постарается помочь ей скрыть то, что способно помешать их счастью. Как-то рано утром они возвращались со Стэйном в Трегесол после прогулки верхом по его голым, пустынным владениям, и Беренис поймала себя на мысли: а способен ли он пожертвовать всем ради того, чтобы удержать подле себя любимую женщину? Или он слишком крепко связан традициями и обычаями своего класса?Глава 48
Лондон. Обычная шумиха по поводу возвращения мистера и миссис Каупервуд. Беренис из полученных ранее телеграмм уже знала о его приезде, а Каупервуда в это время интересовало только одно — примирение с Беренис и ее любовь. Стэйн пребывал в самом радужном настроении: пока Каупервуд отсутствовал, он значительно преуспел не только в делах, связанных со строительством метрополитена, но и в завоевании симпатий подопечной этого американца. По правде говоря, Стэйн был чуть что не влюблен. Уже после того как Беренис гостила у него в Трегесоле, он несколько раз побывал в Прайорс-Кове. Надежда на успех подстегивала его, прибавляла упорства. Может быть, он и добьется своего. Беренис полюбит его и согласится стать его женой. Каупервуд вряд ли будет против. Это только упрочит их деловые отношения. Конечно, надо будет побольше разузнать о Беренис и о том, каковы на самом деле ее отношения с Каупервудом. Пока что Стэйн не потрудился осведомиться на этот счет. Но даже если прошлое Беренис и не безупречно, это не мешает ей быть самой очаровательной женщиной, какую он когда-либо знал. Во всяком случае она не пыталась увлечь его — это ясно; он ведь сам неотступно преследовал ее. Беренис тем временем и радовали и тревожили два обстоятельства: одно — что Стэйн, как видно, сильно увлечен ею, и другое — что после ее визита в Трегесол он, среди прочих развлечений, предложил ей увеселительную прогулку на его яхте «Айола»; он пригласит ее с матерью и чету Каупервудов. Они покатаются, пока стоит хорошая осенняя погода. Можно будет заехать в Каус — там в это время, по всей вероятности, будут король Эдуард и королева Александра, и Стэйн будет счастлив представить своих гостей их величествам, — ведь король с королевой старинные друзья его отца. Услышав имя Эйлин, Беренис похолодела. Если Эйлин выразит согласие, то уже ни сама Беренис, ни ее мать не смогут поехать. А если Эйлин откажется, придется как-то правдоподобно объяснить Стэйну ее отсутствие. Притом, если они с Каупервудом примут приглашение и поедут вместе, им прежде надо прийти к какому-то соглашению, пусть не полюбовному, но все же соглашению. А этого-то Беренис сейчас и не хотела. Не поехать же с Каупервудом или, наоборот, поехать без него, значит навсегда его оттолкнуть. А это опять-таки повлечет за собой объяснения и перемену в отношениях, которая может оказаться роковой для обоих. Но как ни досадовала Беренис на Каупервуда, не такое у нее было положение, чтобы решать что-либо сгоряча. Сколько бы она ни мечтала о браке со Стэйном, ей было совершенно ясно, что без доброжелательного отношения Каупервуда ей не выпутаться из бесчисленных затруднений и осложнений, грозящих ей со всех сторон. Если Каупервуд выйдет из себя, он попросту уничтожит ее. Если же она станет ему безразлична и он на все махнет рукой — ее уничтожат Эйлин и прочие. Снова и снова обдумывая все это, Беренис поняла, что и по своему характеру и по взглядам на жизнь Каупервуд ей неизмеримо ближе Стэйна. С ним она сама становится сильнее. И хотя очень многое говорит в пользу Стэйна, ясно одно — в главном он не может сравниться с Каупервудом: тот гораздо энергичнее, умнее, изобретательнее, гораздо проще и прямее смотрит на жизнь. Именно это, а не что другое, заставило Беренис осознать, что она хочет быть только с Каупервудом и ни с кем больше, хочет слышать его голос, видеть его, чувствовать его неиссякаемую энергию, его бесстрашие перед жизнью. Когда он рядом, ее силы утраиваются, а каково ей придется, если она лишится возможности в любую минуту опереться на его твердую руку? Вот почему Беренис не давала окончательного ответа Стэйну, ссылаясь на то, что ее опекун бывает иной раз упрям и несговорчив, — нельзя сказать заранее, как он отнесется к такой поездке. Она вынуждена повременить с ответом до его возвращения в Англию. Но ей самой, с улыбкой сказала она Стэйну, прогулка на яхте кажется очень заманчивой. Пусть он предоставит все ей, она, пожалуй, сумеет это уладить. Беренис встретила Каупервуда весело, хотя, быть может, чуть официально, и ничем не показала, что у нее неспокойно на душе. Однако Каупервуд не только умел сразу почуять опасность, но и безошибочно угадывал, как к нему относятся окружающие, а потому тотчас ощутил враждебную настороженность Беренис. Недаром задолго до прибытия в Англию он уже был уверен, что Беренис известен его роман с Лорной. Он просто физически чувствовал это и теперь, готовый к любой неожиданности, был начеку. Он ничего не станет скрывать, не попытается избежать разговора на опасную тему, — надо только посмотреть сначала, как настроена Беренис и как она будет держать себя. И вот он в Прайорс-Кове — кругом осенние краски, багряные и золотые пятна листвы. Над рекой, даже в полдень, когда он приехал, белели клочья тумана. Подъезжая к дому, Каупервуд с сожалением подумал о солнечных летних днях, которые он мог бы провести здесь с Беренис. Главное сейчас — быть с ней откровенным, пусть она снова почувствует, какой он есть на самом деле. Этот прием уже столько раз сослужил ему добрую службу и помог разрешить столько трудностей, что, наверно, выручит и сейчас. Ну да, у него была Лорна, но разве Беренис не увлекалась тут без него Стэйном? Виновата ли она перед ним, нет ли, но он сумеет заставить ее призадуматься над своим поведением. За оградой Каупервуд увидел садовника Пиггота, подрезающего кусты, — тот почтительно ему поклонился. В загоне, прилегающем к конюшням Стэйна, грелись в лучах осеннего солнца лошади, а у дверей конюшни два грума чистили сбрую. По лужайке навстречу Каупервуду спешила миссис Картер, сияя радушной улыбкой, — по-видимому, она и не подозревала о тех проблемах, которые волновали ее дочь и его. По любезному приему миссис Картер Каупервуд догадался, что Беренис, очевидно, не склонна была откровенничать с матерью: — Ну-с, как поживаете? — спросил он, выходя из экипажа и протягивая миссис Картер руку. Беренис, по словам матери, чувствовала себя, как всегда, отлично. — Сейчас она у себя — занимается музыкой, — добавила миссис Картер. В самом деле, сквозь открытые окна слышались звуки рояля: Римский-Корсаков, «Сценки с ярмарки».[33] Каупервуд подумал, что вот теперь, как бывало с Эйлин, надо идти объясняться, заискивать, пожалуй, вспыхнет ссора… Но тут музыка смолкла, и в дверях показалась Беренис, как всегда спокойная и улыбающаяся. О, он вернулся! Вот хорошо! Ну, как он себя там чувствовал? Доволен ли путешествием? Она так рада, что он вернулся! Каупервуд заметил, что Беренис хоть и выбежала к нему навстречу, однако не поцеловала его; по ее виду никак нельзя было сказать, что она чем-то недовольна. Больше того, она, казалось, была в восторге от его возвращения, — он вернулся как раз вовремя, чтобы полюбоваться чудесными осенними пейзажами; здесь с каждым днем становится все красивее. И, глядя на нее, Каупервуд тоже стал играть, спрашивая себя, однако, долго ли осталось до настоящей бури. Но когда Беренис все так же непринужденно предложила пойти в их плавучий домик и выпить по коктейлю, он не выдержал: — Пройдемся к реке, хорошо, Беви? — и, взяв Беренис под руку, он повел ее по тенистой аллее. — Послушай, Беви, — начал он, — прежде всего я хочу кое-что рассказать тебе. Он пристально посмотрел на нее холодным, жестким взглядом, и ее сразу точно подменили. — Одну минуту, Фрэнк, я только скажу два слова миссис Эванс… — Нет, — решительно сказал он, — не уходи, Беви. Наш разговор куда важнее и миссис Эванс и всего прочего. Я хочу рассказать тебе о Лорне Мэрис. Ты, очевидно, уже слышала о ней, но я все же хочу рассказать тебе сам. Она молча спокойно шла рядом с ним. — Ты знаешь о Лорне Мэрис? — спросил он. — Да, знаю. Мне кто-то прислал из Нью-Йорка газетную вырезку и несколько ее фотографий. Она очень красивая. Каупервуд отметил про себя сдержанный тон Беренис. Никаких упреков. Ни единого вопроса. Тем важнее выяснить, что же она на самом деле думает. — Несколько неожиданный поворот после всего, что я говорил тебе, Беви, правда? — Да, пожалуй. Но, надеюсь, ты не станешь оправдываться. — Уголки ее губ тронула едва заметная ироническая усмешка. — Нет, Беви, я только хочу рассказать тебе все, как было. А дальше — суди сама. Ты хочешь выслушать меня? — Не очень. Но если тебе так уж хочется поговорить об этом — пожалуйста. Мне кажется, я понимаю, как все случилось. — Беви! — воскликнул он, останавливаясь и глядя на нее с восхищением и искренней любовью. — Мы не можем, во всяком случае я не могу так разговаривать. Знаешь, для чего я рассказываю тебе об этой истории? Чтобы ты поняла: думай обо мне, что хочешь, но знай — я по-прежнему люблю тебя. Может быть, это звучит нелепо и фальшиво после всего, что случилось за то время, пока мы не виделись, но, по-моему, ты и сама знаешь, что я говорю правду. Мы оба понимаем, что человеческие достоинства не ограничиваются физической красотой или чувственным обаянием. Если, к примеру, взять двух хорошеньких женщин и послушать, что скажут о них двое мужчин, то мнения будут очень разные — тут играет роль и характер, и наличие взаимопонимания, и единство целей и стремлений, и… — В самом деле? — ледяным тоном прервала Беренис. — Это так важно, что можно пойти на измену, на вероломство, забыть свое слово? Глаза ее на миг вспыхнули негодованием, и Каупервуд понял, что надо бросить увертки. — Это очень важно, Беви. Как видишь, я здесь с тобой, правда? А десять дней назад, в Нью-Йорке… — Да, знаю, — прервала его Беренис. — Ты чудно провел с нею лето, а потом бросил ее. Теперь она тебе надоела — вот ты и вспомнил о Лондоне, о своих планах, о том, как восстановить свою репутацию… — Презрительная усмешка искривила ее красивый рот. — Право, Фрэнк, незачем мне это разъяснять. Я сама во многом похожа на тебя, — ты же знаешь. Я могу объяснить что угодно не хуже тебя, — разница лишь в том, что я тебе многим обязана и готова, пожалуй, идти на кое-какие жертвы, чтобы сохранить то, что у меня есть, а значит, мне нужно быть более осмотрительной, чем ты, куда более осмотрительной. Или… — она остановилась и посмотрела на Каупервуда; у него было такое ощущение, словно он получил пощечину. — Но, Беренис, это же правда. Я в самом деле расстался с ней. Я вернулся к тебе. Я готов все объяснить, а могу и не объяснять — как хочешь. Но одного я непременно хочу — помириться с тобой, получить твое прощение и больше никогда не расставаться с тобой. Ты можешь этому не верить, но я обещаю: подобные вещи больше не повторятся. Разве ты этого не чувствуешь? Неужели ты не поможешь мне хоть отчасти восстановить наши прежние честные и открытые отношения? Подумай, чем мы были друг для друга! Я могу помогать тебе, хочу и буду помогать, все равно — решишь ли ты порвать со мной или нет! Неужели ты не веришь этому, Беви? Они стояли под старыми деревьями на маленькой зеленой лужайке, спускавшейся к самой Темзе, — впереди виднелись низкие тростниковые кровли далекой деревушки, из труб подымался голубоватый дымок. Все кругом дышало миром и тишиной. Но не это занимало сейчас Каупервуда — он думал о том, что Беренис, хоть и сохраняет внешнее спокойствие и явно не намерена учинять скандал, ничего не простила ему. В то же время он невольно сравнивал ее с другими женщинами — как вели бы они себя на ее месте, — Эйлин, например? Беренис не дулась, не проливала слез, не устраивала сцен. И однако — эта мысль впервые пришла ему в голову, — когда женщина глубоко, по-настоящему любит, она дуется, проливает слезы, устраивает сцены, как бы пагубно ни действовали они на любимого — и в конце концов ее прощаешь! С другой стороны, в его отношениях с Беренис было бесспорно много такого, что нельзя ни зачеркнуть, ни преуменьшить. Конечно, он сам виноват, что все это потускнело в ее памяти… И он мгновенно стал тем хитрым, проницательным, изворотливым и напористым Каупервудом, каким его привыкли видеть финансисты на заседаниях и во время деловых переговоров. — Выслушай меня, Беви! — твердо сказал он. — Примерно двадцатого июня я отправился по делам в Балтимору… И он рассказал ей все, что произошло потом. Как он вернулся к себе в номер поздно ночью. Как постучала Лорна. Все. Он рассказал, как она захватила его своей красотой, где он бывал с нею и как ее развлекал, как комментировала это пресса. Он упорно оправдывал себя тем, что Лорна прямо околдовала его — совсем как в свое время Беренис. Он вовсе не собирался изменять Беренис. Это налетело на него как ураган, и для полной ясности он принялся излагать ей теорию, до которой додумался на опыте и этого и прежних своих романов: чувственное влечение обладает такою силой, что способно восторжествовать и над разумом и над волей. Так вышло и на этот раз — оно спутало все планы, уничтожило все расчеты. — Говоря начистоту, — добавил тут Каупервуд, — пожалуй, есть только один способ избежать подобного рода срывов: не встречаться с интересными женщинами. А это, конечно, не всегда возможно. — Да, конечно, — сказала Беренис. — Сама понимаешь, — продолжал он, решив довести разговор до конца, — уж если столкнешься с такой Лорной Мэрис, надо быть настоящим святошей, чтоб не поддаться соблазну. Ну, а я, ты знаешь, далеко не святой. — О да! — сказала Беренис. — Но я согласна: она действительно очень хороша. Ну, а как ты смотришь на мои отношения с другими мужчинами? Ты согласен предоставить мне такую же свободу? — Она пытливо посмотрела на него, ион ответил ей спокойным, твердым взглядом. — Теоретически — да, — ответил он. — Я люблю тебя, и потому должен буду примириться с этим и терпеть, пока выдержу, пока будет смысл терпеть. А потом, очевидно, отпущу тебя, как и ты отпустила бы меня, если бы почувствовала, что я не так уж тебе дорог. Но сейчас я хочу знать, — после всего, что случилось, любишь ли ты меня, дорогая? Для меня это очень важно, ведь я-то люблю тебя по-прежнему. — Ну, Фрэнк, ты задал мне такой вопрос, на который я сейчас ничего не могу ответить, — я и сама не знаю. — Но ты же видишь, это было просто мимолетное увлечение, — настаивал Каупервуд, — иначе меня бы не было здесь. И я говорю это тебе не для того, чтоб оправдаться, это на самом деле так. — Другими словами, — сказала Беренис, — она не приехала с тобой на одном пароходе. — Она всю зиму танцует в Нью-Йорке. Ты можешь прочесть об этом в любой американской газете. Пойми, Беви, мое чувство к тебе не только сильнее, но и серьезнее, глубже. Ты мне нужна, Беви. Мы одинаково думаем, одинаково чувствуем. Вот почему я сейчас снова здесь и хочу здесь остаться. То, другое, было неизмеримо мельче, я все время чувствовал это. Когда ты перестала писать, я понял, что ты мне неизмеримо дороже Лорны. Ну вот, теперь, кажется, все. Так что же ты мне скажешь, Беви? Сгущались сумерки. Он подошел к ней совсем близко, крепко обнял и поцеловал в губы. И она почувствовала, что сдается, слабеет и душой и телом. Но нет, она должна сказать ему все, что думает! — Я люблю тебя, Фрэнк, да, люблю. Но для тебя ведь это только прихоть. И когда это у тебя пройдет… когда пройдет… И они забылись в объятиях друг друга, дав чувству и желанию на время угасить слабый огонек, именуемый человеческим разумом, и одолеть вышедшую из повиновения, не управляемую рассудком человеческую волю.Глава 49
Позже, ночью, в спальне у Беренис, Каупервуд продолжал доказывать, что самое разумное — оставаться на прежних ролях опекуна и подопечной. — Понимаешь, Беви, — говорил он, — ведь именно так привыкли смотреть на нас и Стэйн и все прочие. — Ты что же, пытаешься выяснить, не уйду ли я от тебя? — спросила она. — Не скрою, мне приходило в голову, что ты, возможно, подумываешь об этом. Ведь этот Стэйн в состоянии дать тебе все, чего бы ты ни пожелала. Он сидел у нее на постели. Лунный свет, пробивавшийся сквозь щели в ставнях, не мог разогнать царивший в комнате сумрак. Беренис полулежала, облокотясь на подушки, и курила. — И все же он не может дать мне то, что мог бы дать ты, если бы ты действительно хотел, — сказала она. — Но если уж тебе так нужно знать, то изволь: я сейчас ни о чем другом не думаю, кроме той задачи, которую ты сам же мне навязал. Между нами был уговор, и ты его нарушил. Чего же ты от меня ждешь после этого? Чтобы я предоставила тебе свободу, не требуя ничего взамен? — Я не жду от тебя ничего, что могло бы быть тебе неприятно или невыгодно, — твердо сказал Каупервуд. — Я просто предлагаю — в случае, если ты заинтересуешься Стэйном — подумать, как нам остаться для всех опекуном и опекаемой до тех пор, пока ты не утвердишься в своем новом положении. С одной стороны, — он говорил это вполне искренне, — я был бы рад видеть тебя женой такого человека, как Стэйн. С другой стороны, если говорить о планах, которые мы с тобой строили, то без тебя, Беви, откровенно говоря, они меня не слишком привлекают. Возможно, я доведу это дело до конца, а возможно и брошу. Все зависит от настроения. Я знаю, после этой истории с Лорной Мэрис ты думаешь, что я в любую минуту могу создать себе приятную жизнь. Но я-то думаю иначе. Я ведь тебе уже говорил: это просто случайный эпизод, чувственное увлечение — и только. Будь ты со мной в Нью-Йорке, этого никогда бы не случилось. Но уж раз так вышло, остается одно — прийти к какому-то наиболее приемлемому соглашению. Говори, чего ты хочешь, ставь любые условия. — Он встал и начал шарить на столе, отыскивая сигары. Беренис слушала в смятении. Что ответить на такой прямой вопрос? Каупервуд очень дорог ей — его дела, его успех для нее чуть ли не важнее, чем ее собственные. А все же надо подумать и о своей жизни, о своем будущем. Вряд ли он будет с ней, когда ей стукнет тридцать пять или сорок. Она лежала молча и думала, а Каупервуд ждал. И вот она ответила, подавив смутные предчувствия, шевельнувшиеся в душе. Да, все будет, как было; да, конечно — в их отношениях ничто не изменится, во всяком случае сейчас. А там кто знает? Ни он, ни она не могут предвидеть, какие еще планы и намерения у него возникнут. — Для меня ты — единственный, Фрэнк, — сказала она, — другого такого нет на свете. Лорд Стэйн мне, конечно, нравится, но я еще очень мало знаю его. Сейчас об этом смешно и думать. Вообще же он человек интересный, даже обаятельный. И если ты и впредь намерен держать меня на задворках своей жизни, с моей стороны было бы очень непрактично пренебрегать Стэйном, ведь он в самом деле может жениться на мне. А полагаться на тебя — об этом и думать нечего. Я могу, конечно, остаться с тобой и постараюсь помочь тебе осуществить все, что мы задумали. Но ведь и в этом случае мне приходится рассчитывать на себя — только на себя. Я дарю тебе свою молодость, любовь, все силы ума и сердца и ничего не прошу взамен. — Беви! — воскликнул Каупервуд, пораженный справедливостью ее слов. — Это неправда! — Тогда докажи мне, что я ошибаюсь. Допустим, все остается по-прежнему, — так, очевидно, и будет. Ну, и что дальше? — Да, признаюсь, это серьезный вопрос, — сказал Каупервуд, усаживаясь в кресло напротив кровати. — Я не так молод, как ты, и, оставаясь со мной, ты, бесспорно, многим рискуешь: о нашей связи могут узнать, и тогда все от тебя отвернутся. Этого отрицать не приходится. А чем я могу обеспечить тебя? Только деньгами. Но ты можешь не сомневаться: на чем бы мы сегодня ни порешили, я готов немедленно позаботиться об этом. Я оставлю тебе столько денег, что, если ты будешь разумно распоряжаться ими, тебе вполне хватит, чтобы жить припеваючи до конца своих дней. — Да, я знаю, — ответила Беренис. — Что и говорить, когда ты кем-нибудь увлечен, ты сама щедрость. В этом я и не сомневалась. Меня тревожит другое — я боюсь, что ты не любишь меня по-настоящему. И мне, по-видимому, не только предстоит жить без любви, но и дорого заплатить за мою любовь к тебе. — Я понимаю тебя, Беви, поверь, отлично понимаю. И я не вправе просить тебя о чем-либо — довольно и того, что ты сама пожелаешь мне подарить. Поступай так, как для тебя будет лучше. Но обещаю тебе, дорогая: если ты останешься со мной, я постараюсь быть верным тебе. И если ты когда-нибудь решишь расстаться со мной и выйти замуж, я обещаю не мешать тебе. Вот все, что я хотел тебе сказать. Я ведь уже говорил — я люблю тебя, Беви. Ты это знаешь. Ты для меня не просто возлюбленная, а точно родное дитя. — Фрэнк! — она подозвала его к себе. — Ты же знаешь, я не могу уйти от тебя. Это выше моих сил. Это все равно, что душу разорвать пополам. — Беви, любимая моя девочка! — И он, как ребенка, взял ее на руки. — Как чудесно, что ты опять со мной! — Но один вопрос, Фрэнк, мы должны непременно решить, — спокойно сказала она, приглаживая растрепавшиеся волосы, — я имею в виду это приглашение покататься на яхте. Что ты на это скажешь? — Пока еще не знаю, дорогая, но, думаю, раз Стэйн так увлечен тобой, он вряд ли будет с особой неприязнью относиться ко мне. — Ах ты, негодник! — рассмеялась Беренис. — Был ли когда-нибудь на свете другой такой отъявленный плут? — Ничего подобного. Перед вами просто молодой честолюбивый американский бизнесмен, который пытается проложить себе путь в английских финансовых джунглях! Но мы поговорим об этом завтра. А сейчас меня интересуешь только ты — ты и никто больше…Глава 50
Словно искусный шахматист, Каупервуд обдумывал ходы, с помощью которых можно было бы перехитрить всех, кто из желания поддержать национальный престиж или из чисто эгоистических побуждений противодействовал его планам прибрать к рукам лондонскую подземку. Он разработал обширную и исчерпывающую программу действий, которую предполагал провести в жизнь следующим образом. Прежде всего к существующей линии Чэринг-Кросс нужно будет присоединить центральную петлю — линии Районной и Метрополитен, где пока хозяйничает такая непрактичная и склочная публика. Если дела пойдут хорошо, то все это скоро окажется в руках у него, Стэйна и Джонсона — в сущности, у него. Затем, если ему удастся захватить контроль над компаниями Районной и Метрополитен, он, очевидно, сольет с ними свою компанию по строительству железнодорожного оборудования и прокладке железных дорог и тогда создаст объединенную компанию подземных дорог, подчинив ей все остальные компании. Кроме того, Каупервуд решил втайне от своих компаньонов перекупить у Эбингтона Скэрра его концессию на линию Бейкер-стрит — Ватерлоо, а также приобрести линию Бромптон — Пикадилли (он знал, что она примерно в таком же состоянии, как линия Чэринг-Кросс), а заодно и некоторые другие, уже существующие и еще только проектируемые линии, право на владение которыми он скупит через подставных лиц. Вот тогда-то он сможет создать новую компанию — Всеобщую лондонскую подземную, куда вольются все предприятия Объединенной компании подземных дорог, а также все концессии и линии, которые он сумеет приобрести; он опояшет весь Лондон подземными железными дорогами и, захватив в свои руки контрольный пакет акций, станет подлинным хозяином всей системы. И если даже ему не удастся занять пост председателя правления этого гигантского предприятия, роль закулисного заправилы ему уж во всяком случае обеспечена. Он постарается поставить в качестве директоров компании своих людей, а если ему это не удастся, во всяком случае, он сумеет устроить так, чтобы те, кто будет руководить делами, не могли нанести ни малейшего ущерба его интересам. Со временем, если все пойдет хорошо, он спокойно продаст свои акции и предприятия с огромной выгодой, и пусть компания существует дальше как хочет. Он создаст себе имя — не только как организатор, но и как строитель, давший столице Англии разветвленную сеть подземных дорог, построенных по последнему слову техники, — на системе лондонского метрополитена, как и на чикагской трамвайной сети, будет лежать отпечаток его личности. И тогда он употребит свое богатство на содержание и пополнение своей картинной галереи, займется благотворительной деятельностью, построит больницу, — он так давно уже собирается это сделать. Кроме того, он оставит солидные суммы всем, кому он чем-либо обязан. Увлекательные мечты! Каких-нибудь пять, ну — шесть лет энергично поработать, и он осуществит все, что задумал! Но проследить за всеми поступками Каупервуда и описать, что он делал для выполнения своих широких замыслов, было бы не легче, чем уследить за всеми трюками и быстрыми, неуловимыми движениями фокусника. Во-первых, Каупервуд, конечно, вел переговоры с Джонсоном и Стэйном. Встреча с Джонсоном, последовавшая сразу за примирением с Беренис, показала, что англичане идут на соглашение гораздо охотнее, чем это было раньше. За время отсутствия Каупервуда, заявил Джонсон, они со Стэйном все как следует обдумали, но выводы, к которым они пришли, он предпочел бы сообщить мистеру Каупервуду в присутствии Стэйна. Очень скоро после этого состоялось совещание на Беркли сквере, где царила не столько деловая, сколько светская атмосфера. Джонсон где-то задерживался, и, когда Каупервуд приехал, его еще не было. Стэйн встретил гостя радушно и весело и засыпал вопросами. Что происходит в Соединенных Штатах? Что предвещают выборы? Нравится ли мистеру Каупервуду Лондон? Как поживает его подопечная — мисс Флеминг? А ее матушка? Он довольно часто наведывался к ним в Прайорс-Ков, — впрочем, мистеру Каупервуду это, наверно, известно. А какие они обе обаятельные — и мать и дочь! Тут Стэйн выжидательно замолчал, не спуская глаз с Каупервуда. Но тот принял вызов. — Вас, несомненно, интересует, в каких они со мной отношениях, — сказал он самым любезным тоном. — Видите ли, я уже много лет знаю миссис Картер. Она была замужем за одним моим дальним родственником, который назначил меня исполнителем своей последней воли и опекуном in loco parentis.[34] Естественно, я очень привязался к Беренис. Она большая умница. — Признаться, я тоже так думаю, — подтвердил Стэйн. — Я очень рад, что Прайорс-Ков пришелся по душе миссис Картер и ее дочери. — Да, они от него в восторге. Там и в самом деле очень красиво. Тут, как нельзя более кстати, появился Джонсон и прервал этот щекотливый разговор. Он шумно и торопливо вошел в комнату и, извинившись за опоздание, — задержали срочные дела, — прежде всего спросил, как поживает мистер Каупервуд; потом, приняв угодливую мину человека, готового к любым услугам, стал отчитываться в том, что было за это время проделано. Сжато и точно он обрисовал положение. — В Лондоне только и разговору, что о вас, мистер Каупервуд, и о том, что вы намерены захватить всю нашу систему подземных железных дорог в свои руки, — заявил он. — За редким исключением, почти все директора и акционеры обеих старых компаний настроены очень враждебно. По-моему, они решили сами воспользоваться вашей идеей. Останавливает их сущий пустяк, — тут Джонсон хитро подмигнул, — никак не могут договориться между собой, и, конечно, их немножко беспокоит, что эта затея будет стоить таких денег. Они понятия не имеют, как собрать такую сумму, не залезая слишком глубоко в собственный карман. — То-то и оно, — заметил Каупервуд. — Именно поэтому всякая проволочка и обойдется нам очень дорого. Если мы энергично примемся за выполнение плана, который я наметил, мы сумеем уложиться в сумму, не слишком для нас обременительную. А всякие споры и проволочки будут лишь на руку спекулянтам и ловкачам, которые постараются скупить все концессии и акции, какие только можно, чтобы играть на повышение их курса. Вот почему нам и необходимо договориться поскорее. — Итак, насколько я понимаю, — вежливо вмешался Стэйн, — ваше предложение сводится к тому, чтобы мы с Джонсоном действовали заодно в правлениях Районной и Метрополитен и, кроме того, скупили бы контрольный пакет акций одной из этих компаний, а то и обеих вместе. Если же это не удастся, то предложили бы акционерам, в руках у которых находится не меньше чем пятьдесят один процент акций, объединиться на определенных условиях под вашим руководством. — Правильно! — сказал Каупервуд. — А взамен вы гарантируете нам пять процентов дохода в течение ста лет или навечно. — Правильно! — И, сверх того, вы уступаете нам не менее десяти процентов привилегированных акций линии Чэринг-Кросс, а также десять процентов акций любого дочернего предприятия, которое вы сами или ваша держательская компания пожелаете создать под своей эгидой, по цене, составляющей восемь процентов их номинальной стоимости. — Правильно! — Проценты по этим акциям компания обязана будет выплатить в первую очередь, после того как она будет окончательно учреждена. — Да, именно это я и предлагал, — подтвердил Каупервуд. — По-моему, все это разумно и вполне приемлемо, — сказал Стэйн, переглянувшись с Джонсоном. — Короче говоря, мистер Каупервуд, — заговорил Джонсон, — как только мы выполним свои обязательства, вы должны будете реконструировать и переоборудовать на современный лад обе старые линии и те новые, которые нам удастся прибрать к рукам. Кроме того, вы заложите всю недвижимость новой компании с тем, чтобы гарантировать выплату процентов по уже выпущенным акциям Районной и Метрополитен, а также по любым акциям новых компаний или их дочерних предприятий, которые мы пожелаем приобрести в счет договорных десяти процентов, по цене, составляющей восемь процентов их номинальной стоимости. — Совершенно верно, — сказал Каупервуд. И снова Джонсон и Стэйн переглянулись. — Ну что ж, — произнес Стэйн, — нас, безусловно, ожидают большие трудности, но я постараюсь выполнить свои обязательства как можно быстрее и как можно лучше. — А я, — добавил Джонсон, — буду счастлив работать рука об руку с лордом Стэйном и приложу все силы к тому, чтобы довести дело до успешного конца. — Что ж, джентльмены, — сказал, вставая, Каупервуд, — я не только очень рад, но и польщен тем, что мы с вами договорились. Чтобы доказать вам, что у меня слово не расходится с делом, я попрошу мистера Джонсона, — конечно, если вы оба согласны, — быть моим юрисконсультом и подготовить все необходимые бумаги, чтобы мы могли официально оформить наше соглашение. А в свое время, — с улыбкой добавил он, — я буду счастлив видеть вас обоих на директорских постах. — Будем надеяться, — сказал Стэйн. — Впрочем, время и обстоятельства покажут, что из этого выйдет. — Я почту величайшим счастьем служить вам обоим в меру своих скромных сил, — заявил Джонсон. Все трое отлично сознавали всю преувеличенную пышность этих взаимных славословий. Торжественность атмосферы разрядил Стэйн, предложив на прощание выпить по рюмке старого коньяка, — ящик этого драгоценного напитка он уже отправил, не обмолвившись о том ни словом, в апартаменты Каупервуда в отеле «Сесиль».Глава 51
Переговоры продолжались, и едва ли не тяжелее всего была для Каупервуда необходимость — быть может, не столь уж настоятельная, как ему казалось — брать себе в помощники англичан, а не американцев. Первой жертвой этой необходимости пал де Сото Сиппенс. Он был в отчаянии, ибо успел привыкнуть к Лондону, ему здесь даже нравилось, и он рассчитывал, прославиться в этих краях заодно со своим удачливым патроном. Больше того: он надеялся понатореть в делах, состязаясь в предприимчивости и сметке с этими самоуверенными и высокомерными англичанами, которые, по его глубокому убеждению, ровно ничего не смыслят в железнодорожном деле. Каупервуд, желая по возможности смягчить удар, поручил ему вести свои финансовые дела в Чикаго. Одним из методов привлечения капитала, к которым обычно прибегал Каупервуд, было создание держательских компаний. Это давало ему необходимые средства для приобретения контрольных пакетов акций тех компаний, которые он хотел прибрать к рукам и таким образом иметь реальные возможности для подчинения деятельности этих компаний своему контролю. Именно с такой целью он создал Компанию по строительству железнодорожного оборудования и прокладке железных дорог. Ее возглавляли подставные директора, а всем, кто входил в дело, предполагалось обеспечить право на владение учредительскими акциями. Джонсон состоял поверенным этой компании с годовым окладом в три тысячи фунтов стерлингов. И вот Джонсон составил частное соглашение, — кстати, тщательно просмотренное поверенными Каупервуда, — которое подписали он сам, Стэйн и Каупервуд и где говорилось, что принадлежащие им акции Районной и Метрополитен, — как те, которыми они уже владеют, так и те, которые будут приобретены впоследствии, — должны фигурировать в качестве единого пакета при официальном решении вопроса о реорганизации и продаже Метрополитен и Районной с целью последующего учреждения новой, более крупной компании. После того как будет создана эта новая компания, Стэйн и Джонсон получат по три акции новой компании за каждую принадлежавшую им старую акцию. Теперь для Джонсона наступили горячие дни: нелегкая задача — выискивать поодиночке сговорчивых обладателей значительных пакетов акций Районной и Метрополитен и, действуя, как приказал Каупервуд, под разными именами, скупить у них эти акции на сумму до полумиллиона фунтов стерлингов. Кроме того, Джонсон должен был растолковать директорам обеих компаний, что мистер Каупервуд великий человек, и внушить им желание участвовать в осуществлении его замыслов. Что же до Стэйна, то ему предстояло скупать — и как можно больше — акции обеих старых компаний и голосовать заодно с Каупервудом по всем вопросам, касающимся нового предприятия. Разумеется, и он тоже должен был употребить все свое влияние и оказать давление на всех, кого только знал. И вот на Каупервуда лавиной ринулись люди, жаждавшие вложить свой капитал в его предприятие. Многие американские и английские финансисты, поняв, какое выгодное дело затевает Каупервуд, теперь стали лезть из кожи вон, чтобы самим получить концессии, но добиться этого было уже почти невозможно. Одним из серьезных соперников Каупервуда был не кто иной, как Стэнфорд Дрейк, крупный американский финансист. Он обратился в английский парламент с просьбой предоставить ему концессии на прокладку новых подземных линий, которые — в случае, если бы его просьба была удовлетворена — проходили бы на большом протяжении параллельно линиям Каупервуда, и значит, Дрейк фактически отнял бы у Каупервуда половину дохода. Каупервуд встревожился: надо было обезвредить Дрейка и притом не обозлить англичан, которые и так всячески противились вторжению в эту область американцев, все равно — будь то Дрейк или Каупервуд. И вот между противниками завязалась обычная в таких случаях борьба, где были пущены в ход всевозможные юридические уловки и всяческая казуистика. Каждая сторона старательно выискивала и подчеркивала слабые стороны соперника, пыталась раскритиковать и опорочить его планы. Каупервуд, например, указывал, что хотя линия, намеченная Дрейком, частично и захватит густо населенные кварталы, где она сможет окупаться, но ведь она целые десять миль будет проходить под пустырями. Он указывал также на то, что Дрейк намечает прокладку одноколейных линий, тогда как система его, Каупервуда, вся двухколейная. Ходатаи Дрейка в ответ на это заявляли, что дорога Каупервуда проходит под набережной Темзы, их же подземка — под Стрэндом и деловыми кварталами; подземка мистера Каупервуда не задевает торговых районов, тогда как линия Дрейка будет способствовать оживлению торговли. Каупервуд понимал, что две параллельные линии убьют друг друга — они не окупят даже самих себя, не говоря уже о прибылях; если Дрейк и его приспешники заполучат концессию и проложат свою линию, то, как бы ни шли в дальнейшем дела их компании, его собственные дела, несомненно, пострадают. Все это он, конечно, держал про себя, — вслух же он заявил, что не понимает, зачем банкирскому дому Дрейка понадобилось пускаться в такую авантюру. И, чтобы подсластить пилюлю, Каупервуд высказал предположение, что во всем виновато лондонское отделение банка, а не сам мистер Дрейк, который не мог совершить такую ошибку. Мистер Дрейк — человек большого ума, и, несомненно, разобравшись в положении дел, он откажется вкладывать деньги в столь сомнительное предприятие. Однако все эти сладкие речи ни к чему не привели: адвокаты Дрейка вошли в парламент с ходатайством о предоставлении ему концессии на прокладку метрополитена, а адвокаты Каупервуда — с встречным ходатайством о предоставлении такой концессии их доверителю. Дело кончилось тем, что парламент отложил рассмотрение обоих ходатайств до ноября месяца, не отдав предпочтения ни тому, ни другому, но уже сама по себе эта отсрочка означала победу Каупервуда; ведь он проделал огромную подготовительную работу и стоял неизмеримо ближе, чем его противник, к осуществлению своих планов. Ходили даже слухи, будто он сказал, что ему неинтересно браться за дело, в котором не с кем помериться силами, а коль скоро в любви и на войне допустимы любые ухищрения, он решил сражаться с Дрейком до конца. Любопытно, что необходимость вступить с Каупервудом в борьбу не на жизнь, а на смерть только подхлестнула интерес Дрейка к делу. Располагая крупными капиталами, Дрейк предложил Каупервуду пять миллионов долларов за право пользования станцией на Пикадилли-серкс, которая принадлежала Каупервуду, ко была совершенно необходима Дрейку для его подземки. Кроме того, он предложил Каупервуду два с половиной миллиона долларов за то, чтобы тот отозвал свою армию юристов, которые готовились дать Дрейку бой в парламенте, куда он обратился за концессией. Каупервуд, разумеется, отклонил оба эти предложения. Надо сказать, что существовала еще некая Объединенная лондонская компания, намечавшая проложить подземку от Хайд-парк-корнер к Шеперд-Буш, — предварительные переговоры относительно прокладки этой линии были уже закончены. Теперь представители этой компании предложили Дрейку объединиться и сообща просить муниципалитет о разрешении на прокладку линии. Они предлагали Дрейку взять на себя эксплуатацию новой линии, как только она будет проложена. Дрейк ответил отказом. Тогда они попросили его не мешать им довести дело до конца. Дрейк снова ответил отказом. После этого они предложили Каупервуду взять на себя прокладку их линии, хотя еще и не имели на нее разрешения. Каупервуд посоветовал им обратиться к банкирскому дому Спайер и К°, имевшему свои отделения не только в Англии и Америке, но и по всей Европе. Разобравшись в этом деле, Спайер и К° поняли, что это предложение выгодно не только Каупервуду, но в конечном счете и им самим, и решили купить у компании имевшиеся у нее права. Вслед за тем банкирский дом приступил к синдицированию контрольного пакета акций этой компании. Его адвокат, выступая перед парламентской комиссией по делам подземных дорог в связи с другими вопросами, попросил снять с обсуждения заявку Объединенной лондонской о предоставлении ей концессии, что наносило серьезный удар планам Дрейка, лишая его возможности обеспечить через год сквозное движение по городу. Тогда Дрейк обратился в парламент с новым ходатайством о предоставлении концессии и на тот участок, на который в свое время подавала заявку Объединенная лондонская. Но, коль скоро этого пункта не было в первоначальном ходатайстве и на рассмотрение комиссии такой законопроект не вносился, адвокат Каупервуда опротестовал этот ход Дрейка и потребовал, чтобы ходатайство было отклонено. Так были погребены планы Дрейка. Драматический эпилог этой борьбы двух столь выдающихся соперников был подробно описан как английской, так и американской прессой, а совет Лондонского графства, склонявшийся в пользу системы сквозного сообщения, удобной для жителей любой части Лондона, в восторженных тонах приветствовал победу Каупервуда: это, несомненно, человек большого ума и неоценимых качеств, он заслуживает самого благожелательного отношения. Каупервуд, воспользовавшись такими настроениями, принялся усиленно рекламировать свое предприятие, которое, конечно же, принесет огромную пользу обществу. Его подземные дороги будут перевозить до двухсот миллионов пассажиров в год, все вагоны будут одного класса, и, следовательно, будет установлена единая цена за проезд — пять центов. Все линии будут связаны между собой, — вы сможете проехать в любую часть города, не выходя из-под земли! В руках Каупервуда метрополитен станет самым быстрым, дешевым и массовым средством сообщения! Дела Каупервуда шли настолько блестяще, что он мог теперь уделять внимание не только приобретению новых акций и заботам о прибылях. Так, например, он купил за семьдесят восемь тысяч долларов картину Тернера «Огни на Темзе» и повесил ее у себя в кабинете — ради вящей рекламы.Глава 52
Итак, Каупервуд преуспевал, и не подозревая о новой беде, готовой обрушиться на него. Гроза надвигалась со стороны Эйлин. Вернувшись в Париж, Эйлин вновь закружилась в вихре развлечений, которые устраивали для нее Толлифер и его друзья. Но вскоре Мэриголд Брэйнерд заметила, что Эйлин слишком благосклонна к Толлиферу, — пожалуй, она в конце концов захочет женить его на себе! Нет, пора вмешаться и положить этому конец! Зная о зависимости Толлифера от Каупервуда, Мэриголд считала, что ей будет вовсе не трудно убрать с пути соперницу. Дело в том, что как-то вечером, во время поездки на яхте, Толлифер, выпив лишнее, рассказал ей обо всем. И вот при первом же удобном случае она начала действовать. Это произошло на вечере, который Толлифер устроил в студии одного из своих друзей по случаю возвращения в Париж; Мэриголд, выпив больше, чем следовало, и заметив, как весело Эйлин флиртует с Толлифером, внезапно перешла в наступление. — Если бы вы знали о вашем приятеле столько, сколько знаю я, вы, пожалуй, не стали бы таскать его повсюду за собой, — сказала она с язвительной усмешкой. — Вам хочется сказать мне что-то неприятное, — спросила Эйлин, — так почему же не сказать этого прямо? К чему намеки и недомолвки? Или это в вас говорит ревность? — Ревность?! Мне ревновать Толлифера к вам?! Нет, я просто знаю, почему он к вам так внимателен, вот и все! — К чему это вы клоните? — гневно воскликнула Эйлин, пораженная этим неожиданным заявлением. — Говорите прямо, в чем дело! Или поищите для своей ревности какой-нибудь другой объект. — Ревность?! Вот глупости! Вам, конечно, и в голову не приходило, что этот ваш усердный поклонник ходит за вами по пятам вовсе не ради ваших прекрасных глаз. Да и откуда, по-вашему, у него столько денег, чтобы тратить на ваши развлечения? Я знакома с ним много лет, и у него, как вам должно быть известно, никогда не было ни гроша. — Нет, мне это неизвестно. А дальше что? — Спросите мистера Толлифера, а еще лучше — вашего супруга. Он уж наверно может просветить вас на этот счет, — заключила Мэриголд и поспешно отошла от Эйлин. Не на шутку взволнованная этим разговором, Эйлин тотчас вышла из комнаты, взяла накидку и вернулась к себе в номер. Разговор с Мэриголд не выходил у нее из головы. Толлифер! Как внезапно, как решительно ворвался он в ее жизнь! Ни гроша в кармане, а тратит так много! И с чего бы это Каупервуду так поощрять дружбу между ними? Он ведь даже приезжал в Париж на званый вечер, который они устраивали с Толлифером… И вдруг то самое страшное, что таилось в намеках Мэриголд, как ножом резнуло Эйлин: муж пользовался услугами этого человека, чтобы убрать ее с дороги! Она должна докопаться до истины, она должна знать. Не прошло и часа, как Толлифер, заметив исчезновение Эйлин, позвонил ей по телефону, и она потребовала, чтобы он сейчас же к ней пришел: ей нужно немедленно с ним поговорить. Едва он вошел, грянула буря. Чья это была затея, чтобы он пригласил ее в Париж, оказывал ей столько внимания, тратил на нее столько денег? Кто это придумал — ее муж или он сам? — Что за вздор! — запротестовал Толлифер. — Чего ради я стал бы тратить на вас деньги, если бы вы мне не нравились? — Но я слышала, что у вас нет собственных средств и никогда их не было, — возразила Эйлин. — Да и вообще, чем вы, собственно, зарабатываете деньги? Служите на побегушках у тех, кто может тратить все свое время на развлечения и не желает заботиться о всяких обременительных мелочах? Это оскорбление поразило Толлифера в самое сердце: Эйлин ставит его на одну доску с прислугой! — Это неправда, — еле слышно сказал он. Но что-то в его тоне заставило Эйлин усомниться в искренности этих слов, и гнев ее вспыхнул с новой силой. Подумать только, чтобы человек мог так низко пасть! И она, жена Фрэнка Алджернона Каупервуда, по воле своего коварного мужа стала жертвой таких интриг! Теперь все знают, что она — нелюбимая жена, до того постылая и ненавистная, что муж вынужден нанимать кого-то, лишь бы отделаться от нее. Но подождите! Вот сейчас, не сходя с места, или уж в крайнем случае завтра, она отплатит этому паразиту и обманщику, а заодно и своему супругу! Она не позволит, чтобы с нею так обращались! Какой позор! Нет, она этого не потерпит. Сейчас же, сию минуту она выставит этого Толлифера за дверь. А Каупервуду телеграфирует, что ей известны его интриги и что она больше знать его не желает! Она возвращается в Нью-Йорк и будет жить в своем доме, а если он попытается последовать за нею, она подаст на него в суд и разоблачит в газетах. Наконец-то она раз и навсегда избавится от этого негодяя, от этого лжеца и изменника! — Уходите! — крикнула она Толлиферу. — Довольно с меня ваших услуг. Я сейчас же возвращаюсь в Нью-Йорк, и попробуйте только еще когда-нибудь попасться мне на глаза или надоедать мне. Уж я позабочусь, чтобы все узнали, что вы собой представляете! Отправляйтесь к мистеру Каупервуду — может быть, он найдет для вас более пристойное занятие! Она подошла к двери и настежь распахнула ее перед Толлифером.Глава 53
В то время как в Париже происходили описанные выше события, Беренис, продолжавшая по-прежнему жить в Прайорс-Кове, внезапно оказалась в центре внимания местного общества, — ее то и дело знакомили с новыми людьми, со всех сторон сыпались приглашения на званые обеды и вечера, — словом, успех превзошел все ее ожидания. Беренис сознавала, что немалой долей этого успеха она обязана Каупервуду, но, конечно, еще больше обязана Стэйну: он был влюблен и жаждал ввести ее в круг своих высокопоставленных знакомых. Поскольку Эйлин была в Париже, Каупервуд полагал, что он и Беренис могут безбоязненно принять приглашение лорда Стэйна покататься на его яхте «Айола». Кроме них, были приглашены: леди Клиффорд из Чадлея — ее муж принадлежал к одному из древнейших родов Англии; герцогиня Мальборо — большая приятельница Стэйна и к тому же любимица королевы, и сэр Уиндхэм Уитли — дипломат, с большими связями при дворе. Когда «Айола» бросила якорь в Каус, Стэйн сообщил гостям, что королева, которая пребывает сейчас здесь, приглашает его вместе с друзьями на чашку чая. Это известие чрезвычайно взволновало всех, а в особенности Беренис: ведь об этом приеме, наверно, станут кричать газеты! Королева была очень любезна, и, казалось, эта неофициальная встреча доставляет ей большое удовольствие. Она особенно заинтересовалась Беренис, о многом ее расспрашивала, и если бы та откровенно отвечала на вопросы королевы, это могло бы печально окончиться для Беренис. Но поскольку Беренис сочла за благо не откровенничать, королева выразила желание видеть ее у себя в Лондоне. В самом деле, она надеется, что Беренис не будет ничем занята и сможет присутствовать на ближайшем приеме при дворе. Любезность королевы безмерно поразила Беренис и вместе с тем укрепила ее веру в свои силы: да, конечно, она может достичь многого, стоит ей только пожелать! После этого приема Стэйн с удвоенным пылом стал добиваться взаимности Беренис, а Каупервуд теперь еще больше опасался того, что Беренис может не устоять против лорда. Однако, вернувшись в Лондон, Каупервуд нашел там новую, более серьезную причину для тревог и опасений. У него в номере лежало письмо от Эйлин, которое она послала ему перед своим отъездом в Нью-Йорк. «Наконец-то я узнала правду! Ты поставил меня в унизительное положение. Ты нанял этого лакея, Толлифера, чтобы избавиться от меня и на свободе предаваться распутству. Какой позор! Нечего сказать, хороша награда за мою многолетнюю верность! Но можешь не беспокоиться — теперь ты свободен. Заведи себе хоть сотню девок, мне все равно. Я сегодня же уезжаю из Парижа в Нью-Йорк. Я не желаю больше терпеть твои измены и твое распутство. Не смей показываться мне на глаза, иначе я выведу тебя на чистую воду. Посмотрим, что ты скажешь, когда тебе придется предстать со своими нынешними любовницами перед судом и я ославлю тебя во всех лондонских и нью-йоркских газетах. Эйлин». Это послание заставило Каупервуда призадуматься. Да, Эйлин в ярости. И кто знает, к чему это приведет. Пожалуй, самое разумное — немедленно вернуться в Нью-Йорк и сделать все возможное, чтобы как-нибудь предотвратить публичный скандал. Ведь это чревато серьезными неприятностями для Беренис. Если Эйлин приведет в исполнение свои угрозы, будущее Беренис испорчено! Нет, что угодно, только не это! И Каупервуд прежде всего направился к Беренис. Она встретила его веселая, полная честолюбивых планов и надежд. Но как только он рассказал о последнем выпаде Эйлин и о ее угрозах, улыбка исчезла с лица Беренис. Она тотчас поняла, что дело нешуточное. — Непонятно, что заставило Толлифера признаться Эйлин, какую роль он в этом играет. Ведь в его же интересах было молчать, — с беспокойством сказала она. — Ты не знаешь почтенной леди Эйлин, дорогая, — усмехнулся Каупервуд. — Она не из тех, кто способен до конца все обдумать и предусмотреть. Нет, она сразу приходит в ярость — и, конечно, только вредит себе и другим. Она может так обрушиться на человека, — поневоле выложишь все, что есть на душе, хотя бы и на погибель себе и ей. Сейчас остается одно — отправиться в Нью-Йорк самым быстроходным пароходом: может быть, мне удастся опередить ее. Я уже телеграфировал Толлиферу, чтобы он немедленно явился в Лондон, — если он по-прежнему будет у меня на жаловании, я без труда заставлю его придержать язык. Но может быть, ты посоветуешь еще что-нибудь, Беви? — По-моему, ты прав, Фрэнк. Возвращайся как можно скорее в Нью-Йорк и постарайся утихомирить ее. После того как ты поговоришь с ней, она, вероятно, поймет, что скандалами ей ничего не добиться. Ведь она, конечно, и раньше знала о моем существовании… и не только о моем, — с лукавой улыбкой добавила Беренис. — Напомни ей об этом. В конце концов ты не сделал ей ничего дурного. Да и Толлифер тоже, если на то пошло. Ведь ты ей дал такого гида для экскурсий по увеселительным местам Парижа, что лучше не сыскать. Кроме того, скажи ей, что дела не оставляли тебе ни одной свободной минуты. Мне кажется, все это хоть немного смягчит ее. Сошлись на газеты — они полны сообщений о твоей деятельности, о твоих успехах… Все эти мудрые совета Каупервуд со вниманием выслушал. Вся беда только в том, заметил он, что не Стэйн, а он должен расстаться с ней. — Не тревожься, мой дорогой, — успокоила его Беренис, — ты слишком большой человек, чтобы эта история могла испортить тебе жизнь. Я убеждена, что ты и на этот раз одержишь победу. И знай: я всегда, все время буду с тобой. И она обвила его шею руками и с улыбкой заглянула ему в глаза. — Ну, если так, все будет хорошо, — уверенно сказал Каупервуд.Глава 54
Перед тем как отплыть в Нью-Йорк, Каупервуд вызвал к себе Толлифера, и тот сумел доказать свою полную невиновность в случившемся; мистер Каупервуд может быть спокоен: впредь он и рта не раскроет, будет говорить лишь то, что желательно мистеру Каупервуду. Пять дней спустя Каупервуд сошел на берег в Нью-Йорке и был встречен целой армией репортеров, налетевших на него с таким множеством вопросов, что ответов хватило бы для издания небольшого справочника. Какова цель его приезда: мобилизовать капитал, чтобы скупить новые линии лондонского метрополитена или сбыть с рук то, что у него осталось от американской трамвайной сети? Какие картины он приобрел в Лондоне? Правда ли, что он на днях заплатил семьдесят восемь тысяч долларов за «Огни на Темзе» Тернера? Кстати, о картинах — верно ли, что он должен был заплатить одному художнику двадцать тысяч долларов за свой портрет, а когда портрет был закончен, послал ему не двадцать, а тридцать тысяч? Ну, а что он теперь думает об умении англичан вести дела? Эта встреча показала Каупервуду, что он более чем когда-либо привлекает к себе всеобщее внимание и что пока скандалом не пахнет. Вот почему на этот раз он охотнее обычного отвечал на вопросы, по крайней мере на те из них, на которые он мог дипломатически ответить без ущерба для себя. Да, дела в Лондоне идут гладко. Больше того: он, Каупервуд, смело может гордиться своими достижениями, поскольку к январю 1905 года он рассчитывает электрифицировать и сдать в эксплуатацию лондонский метрополитен. Будет проложено сто сорок миль железнодорожных путей, а капитал компании составит восемьдесят пять миллионов долларов. Да, он действительно строит крупнейшую в мире электростанцию, а когда она будет готова, лондонский метрополитен станет лучшим в мире. Что же касается деловых качеств англичан, то в Англии к таким крупным начинаниям, как, скажем, его проект, относятся с большим интересом, нежели в Америке: англичане, очевидно, понимают, какое значение во всяком деле имеет размах, и если уж они предоставляют концессию, то не на какой-то ограниченный срок, а навечно, — это позволяет осуществлять более широкие замыслы и строить монументальные сооружения. Картины? Да, с тех пор как он в последний раз был в Нью-Йорке, он приобрел несколько новых полотен; сейчас он везет с собою Ватто, Джошуа Рейнольдса (портрет леди О'Брайен) и Франса Гальса. Да, он действительно заплатил художнику, о котором идет речь, тридцать тысяч долларов за свой портрет, хотя уговор был о двадцати тысячах. Но художник вернул ему лишние десять тысяч с просьбой пожертвовать деньги на бедных, — услышав это, репортеры ахнули от удивления. Интервью было расписано в газетах на все лады и не могло не поразить воображения Эйлин, которая всего за два дня до приезда Каупервуда вернулась в Нью-Йорк под чужим именем. Несмотря на всю свою ярость, она подумала, что, пожалуй, стоит пересмотреть свои намерения. Так ли уж они разумны? Что Фрэнк будет делать с этими картинами, которые он сейчас покупает? Еще совсем недавно он говорил, что надо бы сделать пристройку к нью-йоркскому дворцу, чтобы было где разместить новые произведения искусства. Но если она разоблачит его в печати и ему будет угрожать бракоразводный процесс, он, пожалуй, изменит свои планы в пользу другой женщины. Эйлин оказалась в том же безвыходном положении, что и несколько лет назад, когда ей не оставалось ничего другого, как только отступить и сдаться. Однако Каупервуд, встревоженный угрозами жены, счел наиболее благоразумным на время своего пребывания в Нью-Йорке остановиться в «Уолдорф-Астории», а не в своем доме на Пятой авеню. Обосновавшись в отеле, он стал ловить Эйлин по телефону, но безуспешно: она решила не встречаться с ним, не дать ему возможности оправдаться в том, что, с ее точки зрения, было непростительным преступлением. На всякий случай она даже вызвала к себе одного нью-йоркского адвоката. Но в то же время она не пропускала в газетах ни одного сообщения о Каупервуде, — и гнев ее час от часу утихал. Она, естественно, гордилась его успехами и в то же время терзалась ревностью: уж конечно за всем этим скрывается какая-нибудь любовница — скорее всего Беренис, — которая, несомненно, и разделяет с ним этот наиболее радужный период его жизни. А ведь Эйлин сама любила блистать и быть предметом всеобщего внимания. Порой она совсемпо-детски радовалась какому-нибудь сенсационному сообщению о Каупервуде — хвалебному, ругательному или беспристрастному. Увидев в одной газете фотографию громадной электростанции, которую Каупервуд строил в Лондоне, она пришла в такой восторг, что почти забыла о всех прегрешениях своего неверного супруга. А когда он подвергся яростным нападкам в другой газете, Эйлин не могла не оскорбиться, хотя и сама только что собиралась напасть на него. Эйлин просмотрела великое множество самых разнообразных высказываний и поздравлений по поводу возвращения Каупервуда на родину и к ее ярости и досаде стало уже примешиваться восхищение. В таком настроении застал ее Каупервуд. Он преспокойно вошел в гостиную, где Эйлин лежала в шезлонге среди вороха разбросанных на полу, очевидно только что прочитанных ею газет. При виде его Эйлин вскочила, стараясь пробудить в себе столь тщательно взлелеянный гнев; Каупервуд быстро пересек комнату и остановился перед ней. — Ну-с, я вижу, ты не отстаешь от жизни, дорогая, — заметил он и весело и непринужденно улыбнулся. — Газеты недурно встречают меня, правда? — Ты! — выкрикнула она. — Какая наглость! Знали бы они тебя, как знаю я! Твое лицемерие! Твою жестокость! — Послушай, Эйлин, — продолжал он, стараясь говорить как можно спокойнее. — Подумав, ты сама признаешь, что я не сделал тебе ничего плохого. Если ты читала хоть одну из этих газет, тебе должно быть известно, что в Лондоне я работал по двадцать четыре часа в сутки над своим проектом. А этот Толлифер — да можно ли было подыскать тебе лучшего гида по Парижу? Вспомни, в былые времена, всякий раз, как мы с тобой попадали в Париж, ты жаловалась и упрекала меня за то, что я уделял тебе мало внимания и не ездил с тобой всюду, куда тебе хотелось? Тогда у меня попросту не было на это времени. А тут появился Толлифер, который тоже собирался в Париж и, как видно, понравился тебе, — вот я и решил, что если он поедет туда в одно время с тобой, твое давнишнее желание исполнится: ты сможешь посмотреть город безо всяких помех с моей стороны. Только поэтому около тебя и появился Толлифер, и ты это знаешь! — Ложь, ложь, ложь! — бешено крикнула Эйлин. — Всегда ложь! Но на этот раз ты меня не обманешь. Нет уж, теперь все узнают, что ты такое и как ты обращаешься со мной. Будь уверен, тогда в газетах начнут писать о тебе по-другому. — Послушай, Эйлин, — прервал ее Каупервуд, — будь благоразумна. Ты же знаешь, я никогда тебе не отказывал ни в деньгах, ни в чем другом — у тебя было все, что только ты могла пожелать. И ведь я собирался включить тебя в число моих душеприказчиков. Возьмем хотя бы этот дом, которым ты, конечно, гордишься. Ты ведь знаешь, я думал достроить его и сделать еще красивее. Недавно мне пришла в голову мысль приобрести соседний дом, чтобы расширить твой зимний сад и устроить еще одну галерею для картин и скульптур. Я собирался оставить все это тебе в полную твою собственность. Однако он и тут не изменил своей скрытности и не прибавил, что уже купил этот дом, когда был в Лондоне. — Давай вызовем Пайна, — продолжал он. — Пусть представит нам несколько проектов. — Д-да, это было бы интересно, — задумчиво сказала Эйлин. Но Каупервуд не терял времени зря. — А эта твоя идея жить порознь — право, Эйлин, это смешно! Прежде всего, мы слишком давно женаты, и хотя у нас не все шло гладко, как видишь, мы по-прежнему вместе. Своей личной жизни у меня нет никакой — одни дела, на них уходят все мои силы. И не забудь, я уже не молод. Если ты хочешь снова стать мне другом, — дай только сбросить с плеч заботы о лондонской подземке — и, право, я с удовольствием вернусь в Нью-Йорк и поселюсь здесь с тобой. — Ты хочешь сказать, со мной и еще с полудюжиной других? — ядовито заметила Эйлин. — Нет, я хотел сказать только то, что сказал. Ты, я думаю, сама понимаешь, что рано или поздно мне придется уйти от дел. Я избавлюсь от хлопот, и мы с тобой будем вести тихое и мирное существование. Эйлин собралась было сделать еще какое-то ироническое замечание, но, взглянув на Каупервуда, уловила в его лице такую усталость, даже подавленность, какой она никогда еще у него не видела. И ее желание уязвить Фрэнка вдруг сменилось жалостью. Наверно, он переутомился и нуждается в отдыхе, — ведь годы его не маленькие и вечно у него дела, дела… С такою теплотой она уже давно не думала о нем. Но в эту минуту вошла горничная и сообщила, что мистер Робертсон — адвокат Эйлин — просит ее к телефону; Эйлин в замешательстве поднялась было с шезлонга, но, передумав, вызывающе бросила: — Скажите ему, что меня нет дома! Каупервуд сразу все понял. — Ты кому-нибудь говорила о нашей размолвке? — спросил он Эйлин. — Нет, пока не говорила, — ответила она. — Отлично! — сказал Каупервуд, сразу повеселев. Объяснив, что ему придется на несколько дней съездить по делам в Чикаго, Каупервуд сумел выудить у Эйлин обещание ничего не предпринимать, пока он не вернется. И тогда, доказывал он, они уж наверно смогут все уладить к взаимному удовлетворению. Видя, что Эйлин как будто не прочь оставить все, как есть, Каупервуд взглянул на часы: времени до поезда остается в обрез, сказал он. Они увидятся, когда он приедет. И Эйлин, успокоенная, проводила его до двери, а потом вернулась к своим газетам.Глава 55
Поездка в Чикаго имела для Каупервуда большое значение: предстояло склонить местных дельцов либо предоставить ему заем, либо вложить в его предприятие пять миллионов долларов. Кроме того, надо было повидать Сиппенса и выслушать его отчет о том, как идет распродажа принадлежащих Каупервуду земельных участков. Еще одно дело требовало его внимания: против одной крупной чикагской транспортной компании, в чье ведение несколько лет назад перешли две надземные дороги, построенные и сданные в эксплуатацию Каупервудом, недавно было возбуждено судебное преследование. Надо сказать, что с тех пор как он уехал из Чикаго и занялся лондонским метрополитеном, эти две линии, попав в плохие руки, не только перестали приносить прибыль, которая раньше текла рекой, поскольку публика широко пользовалась ими, но работали с огромными убытками, и это окончательно подорвало всякий интерес к их акциям. В местных кругах даже утверждали, что история корпораций, объединяющих предприятия городского хозяйства, еще не знала такого полного краха, какой потерпела эта компания. Поскольку во всем обвиняли Каупервуда, ему необходимо было разъяснить вкладчикам, что он тут ни при чем, — виноваты те, кто перекупил у него дороги, они неумело и нерасторопно повели дело. После того как все это выяснилось, Каупервуда стали называть уже не жуликом, а финансовым чародеем: ведь когда дороги находились в его ведении, он выплачивал акционерам своей компании от восьми до двенадцати процентов дивидендов. Итак, он не только раздобыл пять миллионов долларов, ради которых ездил в Чикаго, но и значительно улучшил свою репутацию. Однако поездка в Чикаго не обошлась без неожиданностей; Лорна Мэрис, узнав из газет о приезде Каупервуда, разыскала его в надежде возродить в нем прежнее чувство. Но ее попытка была обречена на неудачу, так как настроение у Каупервуда было теперь совсем другое: он рвался назад, в Нью-Йорк, а потом к Беренис. Заметив, однако, по одежде Лорны, что дела ее идут много хуже, чем в ту пору, когда они виделись в последний раз, Каупервуд решил расспросить девушку, как она живет; выяснилось, что ее успех у публики стал неизмеримо меньше, а с ним уменьшились и доходы. Тогда Каупервуд сделал вид, будто он озабочен ее благополучием и обещал открыть в банке постоянный счет на ее имя; более того: он постарается заинтересовать ею какого-нибудь театрального режиссера, — словом, он посулил ей уйму всяких благодеяний и этим сразу воскресил ее былой оптимизм. Но когда он оказался в вагоне и поезд тронулся, а Лорна, стоя на платформе, в последний раз печально махнула ему на прощанье рукой, Каупервуд невольно задумался над изменчивым переплетением человеческих судеб и страстей. Взять хотя бы его: на него нападают чикагские акционеры, за ним неусыпно следят газеты, Эйлин шпионит — из Нью-Йорка, да и прелестная Беренис — из Лондона; Беренис доверяет ему не больше, чем Эйлин, — и не без оснований. А все из-за чего? Из-за его влюбчивости, его темперамента, из-за того, что его влечет к человеческим существам другого пола, но ведь эти чувства не им созданы и не им придуманы. Мерно постукивали колеса. Протяжно гудел паровоз. А за окном мимо Каупервуда проносились поля и равнины, как проносится неудержимым потоком время, — и он сквозь дремоту думал о жизни и о тех переменах, которые несет с собою бег времени.Глава 56
Вернувшись в Нью-Йорк, Каупервуд решил навестить Эйлин, и тут его ждал приятный сюрприз. За это время она много думала о его предложении расширить и перестроить дом, сообразуясь с ее вкусом. Он не мог бы предложить ей ничего приятнее. И теперь Эйлин показала ему на выбор несколько вариантов проекта, подготовленных по ее заказу архитектором, — все это были эскизы в цвете. Каупервуд остался очень доволен эскизами: Раймонд Пайн, американский архитектор, проектировавший в свое время его дворец, теперь представил проекты слияния двух домов в единый ансамбль. Эйлин оживленно сообщила, что ей нравится и этот эскиз, и вон тот, и еще третий, совсем по-иному трактующий задачу. Решив повидаться с Пайном и посоветовать ему не спешить, Каупервуд, наконец, простился с Эйлин; это очень хорошо, думал он — занять ее таким делом, которое не только воплотит художественные вкусы их обоих, но и будет в глазах общества доказательством их примирения. Однако на сей раз Каупервуду было нелегко привыкать к жизни в Нью-Йорке, да и в Америке вообще. Со времени поездки в Лондон его взгляды изменились. Не то, чтобы англичане оказались менее изворотливы или напористы, когда они отстаивают свои интересы, — нет, но, познакомившись со Стэйном, Джонсоном и их компаньонами, Каупервуд убедился, что они как-то даже бессознательно умеют сочетать отдых и удовольствия с делами, будь то торговля или финансы, а вот здесь, в Америке, как говорится, бизнес превыше всего. Вот и он, с тех пор как приехал в Нью-Йорк, не занимался ничем, кроме дел. Здесь его больше ничто не интересовало и потому его мысли непрестанно возвращались к Беренис и Прайорс-Кову. Тем не менее он решил объехать все города, где рассчитывал добыть капитал, — это была бешеная гонка по Восточным штатам, и Каупервуд отчаянно устал. Впервые в жизни он не то, чтобы почувствовал, а подумал, что стареет. К счастью, этой изнурительной поездке положила конец телеграмма от Джонсона: некоторые группы пытаются оказать давление на парламент и потому присутствие мистера Каупервуда в Лондоне совершенно необходимо. Каупервуд показал телеграмму Эйлин. Прочитав ее, Эйлин подняла глаза на Каупервуда и сказала, что у него усталый вид: должен же он позаботиться о себе! Здоровье — прежде всего, об этом нельзя забывать. Пора бы ему свернуть дела в Европе и уйти на покой. Он ответил, что и сам подумывает об этом; кстати, он не хочет обременять ее заботами о своей галерее: пока он будет в отъезде, за картинами присмотрит мистер Касберт — человек, суждению которого вполне можно доверять. А тем временем Беренис уже стало беспокоить длительное отсутствие Каупервуда. С каждым днем, проведенным без него, она чувствовала себя все более одинокой. Лорд Стэйн не раз возил ее на различные приемы и званые вечера, где знакомил со своими друзьями, а однажды они были даже при дворе, — и все же Беренис недоставало Каупервуда, ею владела странная, необъяснимая тоска по нем. Он был в ее жизни всем, — сила его личности затмевала для нее блеск высшего света, которым пленял ее воображение лорд Стэйн. Да, конечно, Стэйн приятный и интересный спутник… но, вернувшись в Прайорс-Ков, она снова всеми помыслами, всем сердцем была с Каупервудом. Что-то он сейчас делает, с кем проводит время? Неужели он снова увлекся Лорной Мэрис? Или кем-нибудь еще? А быть может, он вернется к ней таким же страстно влюбленным, как и уехал? И приедет ли с ним Эйлин, или ему удалось задобрить ее и она хоть на время оставит его в покое? Ох уж эта женская ревность! А сама она как ревнует его! Он столько для нее сделал! И не только для нее, но и для ее матери! Ведь это он платил за ее образование, а потом подарил ей чудесный особняк в Нью-Йорке, на шикарной Парк авеню. По складу своего ума и взглядам на жизнь Беренис была холодной, расчетливой натурой: как раз перед тем как угрозы Эйлин заставили Каупервуда вернуться в Нью-Йорк, она почти решила, что если эта новая выходка ревнивой жены не кончится для нее плачевно, ей следует быть впредь полюбезнее с лордом Стэйном. Он серьезно увлекся ею — это ясно. Похоже, что он подумывает даже о женитьбе на ней. «Если б только я была по-настоящему влюблена в него, — думала она. — Если б только он не цеплялся так за условности, не был англичанином до мозга костей». Она слышала, что по английским законам можно развестись с женщиной, которая, выходя замуж, обманула мужа, скрыв свое прошлое, — а ведь именно так поступила бы она, выйдя замуж за Стэйна. Вот почему в отсутствие Каупервуда Беренис отмалчивалась и держалась подальше от Стэйна, — ведь Эйлин, если захочет, может нанести непоправимый удар ее положению в обществе! Но лондонская пресса молчала, и Беренис постепенно успокоилась; к тому же она получила письмо от Каупервуда, — он делился с нею своими бедами: вот и здоровье что-то вдруг сдало, и силы пошатнулись, скорее бы вернуться в Англию, отдохнуть, побыть подле нее! Прочитав о его недомогании, Беренис подумала, не отправиться ли им вместе в какой-нибудь тихий красивый уголок, подальше от спешки и суеты делового мира. Но есть ли на земле такие края? И если есть, то, возможно, Фрэнк уже бывал там и они успели наскучить ему, — ведь он так много путешествовал: был в Италии, Греции, Швейцарии, во Франции, Австро-Венгрии, Германии, Турции, в Святой Земле. А что, если съездить в Норвегию? Насколько помнится, Каупервуд никогда не рассказывал о ней. Она непременно убедит его поехать вместе в эту незнакомую, непонятную страну! Беренис даже купила книжку о Норвегии, чтобы подробно ознакомиться с ее красотами и достопримечательностями. С увлечением перелистывала она страницы, рассматривая фотографии сумрачных высоких скал; горы поднимались круто вверх на тысячи футов, между ними зияли пропасти, прорубленные, словно взмахом меча, рукой суровой, неумолимой природы; с вершин низвергались водопады, шипя и пенясь неслись горные потоки, а в долинах дремали живописные мирные озера. То тут, то там к каменным склонам, словно моряки к плоту после кораблекрушения, лепились крошечные фермы. Беренис читала о древних богах норвежцев: об Одине — боге войны, о Торе — боге грома, и о Валгалле — своеобразном рае, уготованном для душ тех, кто погиб сражаясь. Читая книгу и разглядывая иллюстрации, Беренис пришла к убеждению, что в стране этой нет никаких следов промышленности. Вот такое место и нужно Каупервуду для отдыха!Глава 57
Каупервуд вернулся в Англию осунувшийся, усталый; Беренис быстро сумела заразить и его желанием побывать в Норвегии, где, как ни странно, он еще ни разу не был. Вскоре он уже поручил Джемисону отыскать и зафрахтовать для него яхту. Но прежде чем Джемисону удалось что-либо найти, некий лорд Тилтон, узнав от Стэйна о намерениях Каупервуда, любезно предложил ему для поездки свою яхту «Пеликан». И вот, в разгаре лета, Каупервуд и Беренис оказались на борту яхты, плавно скользившей вдоль западного побережья Норвегии по направлению к фиорду Ставангер. Яхта оказалась очень красивой, а Эрик Хансен, шкипер-норвежец, искусным мореходом. Он был могучего сложения, хотя и невысок ростом, румяный, с целой копной желтых волос, падавших ему на лоб. Его голубые, холодные, как сталь, глаза словно бросали вызов всем морям и непогодам. Его движения наводили на мысль об извечной борьбе с бурями: он ходил враскачку даже по земле, будто хотел всегда жить в одном ритме с морем. Всю жизнь он был моряком и всей душой любил эти прибрежные воды, изрезанные лабиринтом таинственных гор, что выступают на тысячи футов из морских глубин и уходят на тысячи футов под воду. Иные говорят, что горы эти образовались от сдвигов или трещин в земной коре; другие — что это застывшая лава вулканов. Но Эрик знал: эти берега и эту землю в незапамятные времена изрубили мечами грозные викинги — они могли проложить себе путь сквозь любые преграды, хоть на край света. Беренис, глядя на крутые склоны, где далеко в вышине прилепились домики, не могла даже представить себе, как это их обитатели умудряются спускаться к проходящим судам, а потом взбираться к себе наверх. Да и зачем это им нужно? Все здесь казалось таким необыкновенным. Беренис была незнакома с искусством лазания по горам, которое норвежцу, по-видимому, пришлось изучить волей-неволей, беря пример с коз, перепрыгивающих со скалы на скалу. — Странный край, — говорил Каупервуд. — Я рад, что ты привезла меня сюда, Беви. Но мне кажется, природа, создав эту страну такой прекрасной, обидела ее климатом. Днем в летнюю пору здесь чересчур много света, а зимой — чересчур мало. Слишком уж много тут романтических заливов и фиордов, слишком много голых скал. А все же, должен признаться, мне здесь очень нравится. Беренис уже заметила, какой живой интерес пробудила в нем поездка. Каупервуд то и дело звонил и, вызвав к себе учтивого шкипера, засыпал его вопросами. — Чем, кроме рыбы, промышляют здешние жители? — спрашивал он Эрика. — Видите ли, мистер Диксон (под этим именем путешествовал Каупервуд), у них немало всякой всячины. Есть козы, и они продают козье молоко. Есть куры, а значит, и яйца. Есть коровы. Здесь часто судят о богатстве человека по тому, сколько у него коров. Есть, понятно, масло. Тут у нас упорный, выносливый народ: они добиваются с пяти акров такого урожая, что вы и не поверите. Хоть я и немного в этом смыслю и ничего особенного не могу вам рассказать, но они, право, живут лучше, чем вы думаете. И потом, — продолжал он, — большинство молодых людей в здешних краях учится мореходному делу. С годами они становятся капитанами, матросами или коками: ведь в норвежские гавани заходят сотни судов — и откуда и куда только не идут эти суда — во все порты и гавани мира. Тут в разговор вмешалась Беренис. — Вот что, по-моему, любопытно, — сказала она, — у них здесь всего немного, зато все — отличного качества. — Вы правы, сударыня, — отозвался шкипер, — я и хотел это сказать. Видите ли, мы, норвежцы, научились довольствоваться тем, что у нас есть, — продолжал он с воодушевлением. — И мы знаем мир не по книгам, а как он есть на самом деле, хотя мы и любим книги и ценим ученость. У нас почти нет неграмотных, и хотите верьте, хотите нет, но в Норвегии больше телефонов, чем в Испании или Польше. Есть у нас и знаменитые литераторы, и музыканты — Григ, Гамсун, Ибсен, Бьернсон. Каупервуд молча выслушал эти имена. Если подумать — как мало места занимала в его жизни литература! Надо бы взять у Беренис кое-что из книг, которые она читала. А Беренис, заметив его задумчивость и полагая, что он, должно быть, мысленно сравнивает этот удивительный мир со своим собственным, шумным и беспокойным, решила перевести разговор на что-нибудь более веселое. — Скажите, капитан, — спросила она Хансена, — а мы увидим лопарей, когда заберемся немного севернее? — Конечно, сударыня, — ответил капитан. — Их сколько угодно севернее Тронхейма. Нам уже недалеко до этого места. От Тронхейма яхта направилась на север, в сторону Гаммерфеста — солнце тут уже не заходило. По пути сделали несколько остановок — один раз у маленького скалистого выступа под названием Гротто, отрога большой горы. Здесь расположилась китобойная станция — крошечный поселок домов в десять. Это были, как и всюду на побережье, просто каменные хижины с крышами, обложенными дерном. Рыбаки Гротто имели обыкновение покупать уголь и дрова на судах, проходящих мимо в северном или южном направлении. И вот небольшая группа рыбаков окружила яхту. И хотя угля на яхте было в обрез, Каупервуд велел шкиперу выдать им несколько тонн, ибо почувствовал, что жизнь далеко не щедра к этим людям. После завтрака капитан Хансен сошел на берег; вернувшись, он рассказал Каупервуду, что с далекого севера сюда прибыло племя лопарей, — они разбили стоянку примерно в полумиле от Гротто. Там около сотни лопарей с детьми и собаками, сказал он, и стадо оленей, тысячи в полторы голов. Беренис тотчас изъявила желание посмотреть на них. Тогда капитан Хансен спустил шлюпку и, прихватив с собой одного из матросов, повез Беренис и Каупервуда к стоянке лопарей. Высадившись на берег, они увидели оленей, которые бродили вокруг разбросанных по всей долине чумов. Капитан, умевший кое-как изъясняться на языке лопарей, заговорил с ними; несколько лопарей подошли к прибывшим и, обменявшись с ними рукопожатиями, пригласили к себе в чумы. В одном чуме над огнем висел большой котел; матрос, заглянув в котел, заявил, что это «собачья бурда», но это оказалась похлебка из отличной жирной и сочной медвежатины, которой и угостили всех присутствующих. В другом чуме теснились рыбаки и жители окрестных ферм: каждый год с приездом лопарей на их стоянках открывалось нечто вроде ярмарки, где они продавали продукты оленеводства и закупали припасы на зиму. Вдруг толпа зашевелилась, и какая-то лопарка протиснулась к гостям. Она поздоровалась с капитаном Хансеном как со старым знакомым, а он тут же сообщил Каупервуду, что эта женщина едва ли не богаче всех в этом племени. Потом лопари начали петь хором и плясать. Пили, ели, смеялись. Наконец Каупервуд и его спутники распростились с лопарями и вернулись на «Пеликан». При свете незаходящего солнца яхта повернула обратно на юг. Тут, на виду у яхты, показалось-с десяток гренландских китов, и шкипер распорядился так поставить паруса, чтобы судну легче было лавировать среди них. И пассажиры и команда в волнении не сводили глаз с огромных животных. Но Каупервуда это необычайное зрелище интересовало куда меньше, чем то необыкновенное искусство, с каким капитан управлял своей яхтой. — Вот видишь! — сказал он Беренис. — Каждая профессия, каждое ремесло, любой вид труда требуют умения и сноровки. Посмотри на шкипера — как он ловко подчинил яхту своей воле, а одно это — уже — победа. Беренис улыбнулась, но ничего не ответила, а он глубоко задумался, размышляя о поразительном крае, который лежал перед ним. Как непохожи эти северные места на весь остальной мир, как чуждо им все, что связано с крупной промышленностью, с банками, — такой характер, такие устремления, как у него, Каупервуда, здесь вовсе ни к чему. Необозримый океан — вот кормилец здешних жителей, он дает им рыбу — основной источник их существования; поистине рыба их кормит, поит и одевает, дает средства возделать клочок земли и безбедно прожить остаток дней, вернувшись из морских странствий. И Каупервуд вдруг почувствовал, что эти люди получают от жизни больше, чем он, — столько здесь чистой, безыскусственной красоты, нехитрого уюта, столько простоты и прелести в нравах и обычаях; а у него этого нет, ни у него, ни у тысячи ему подобных, тех, кто посвятил себя погоне за деньгами, ненасытному стяжательству. Вот он уже стареет и лучшая пора его жизни миновала. А что впереди? Подземные дороги? Картинные галереи? Скандалы и ехидные заметки в газетах? Правда, за время этой поездки он отдохнул. Но она подходит к концу, и теперь каждый час приближает его к тому, что никак нельзя назвать спокойным существованием: если все пойдет по-старому, ему ждать нечего, кроме новых конфликтов, новых совещаний с адвокатами, новых газетных нападок, новых домашних неурядиц. Каупервуд иронически усмехнулся собственным мыслям. Не стоит задумываться. Надо принимать вещи такими, как они есть, и пользоваться ими с наибольшей для себя выгодой. В конце концов жизнь была к нему гораздо щедрее, чем ко многим другим, не следует быть неблагодарным! И он благодарен. Через несколько дней, когда яхта была уже недалеко от Осло, Каупервуд, опасаясь огласки, предложил Беренис сойти на берег и вернуться пароходом в Ливерпуль, — оттуда до Прайорс-Кова рукой подать. Он обрадовался, когда она спокойно и деловито согласилась, — и все же по выражению ее лица видно было, как досадна ей необходимость вечно жить с оглядкой, как тяжело, что все мешает им, все стремится их разлучить.Глава 58
После поездки в Норвегию Каупервуд почувствовал себя много бодрее, ему не терпелось приступить к делам, чтобы к январю 1905 года достичь намеченной цели — довести капитал своей компании до восьмидесяти пяти миллионов долларов, проложить сто сорок миль подземной дороги и электрифицировать всю сеть. Честолюбие, желание побыстрее довести задуманное до конца и доказать всему свету его значение не давали Каупервуду покоя, он с головой ушел в дела и почти не позволял себе отдыхать ни в Прайорс-Кове, ни где-либо еще. Так прошло несколько месяцев — он совещался с директорами компаний, обсуждал всевозможные вопросы с заинтересованными и влиятельными акционерами, разрешал технические проблемы и вел неофициальные переговоры, чаще всего по вечерам, с лордом Стэйном и Элверсоном Джонсоном. Потом пришлось поехать в Вену, чтобы осмотреть модель нового электромотора, изобретенного неким Ганцем и сулившего значительную экономию владельцам метрополитена. Понаблюдав за работой мотора, Каупервуд убедился, что это дело выгодное и тотчас телеграммой вызвал в Вену своих инженеров, чтобы они проверили его заключение. На обратном пути в Лондон Каупервуд остановился в Париже, в отеле «Ритц». В первый же вечер он встретил в вестибюле старого знакомого, некоего Майкла Шенли, который когда-то служил у него в Чикаго. Тот предложил Каупервуду пойти в парижскую Оперу, на концерт: там будут играть сочинения какого-то поляка по фамилии Шопен, о котором сейчас много говорят. Эту фамилию Каупервуд лишь мельком где-то слышал, а Шенли она и вовсе ничего не говорила. Тем не менее они отправились на концерт, и музыка так захватила Каупервуда, что, узнав из концертной программы, где похоронен Шопен, он предложил своему спутнику посетить кладбище Пер-Лашез — это знаменитое место упокоения великих людей. И вот на следующее утро Каупервуд и Шенли отправились на Пер-Лашез: там они взяли гида, и он по-английски рассказал им немало интересного, водя их по обсаженным кипарисами дорожкам кладбища. Вон под тем обелиском лежит Сара Бернар, чей дивный голос когда-то в Чикаго так глубоко взволновал Каупервуда. Немного дальше — могила Бальзака, о произведениях которого Каупервуд знал лишь то, что их считают гениальными. Он останавливался то перед одним надгробием, то перед другим, рассматривал их — и вдруг снова почувствовал, что дела до сих пор занимали слишком большое место в его жизни: они помешали ему узнать творения многих и многих великих мыслителей и художников. Они миновали могилы Визе, Мюссе, Мольера и наконец подошли к месту упокоения Шопена; на могильной плите лежали букеты роз и лилий, перевязанные лентами. — Подумать только! — воскликнул Шенли. — Он, конечно, великий музыкант, но ведь умер-то он больше пятидесяти лет назад, а посмотрите — какая уйма цветов! Э, черт возьми, вот для меня этого наверняка никто не сделает! А Каупервуд подумал, что даже спустя год после его смерти вряд ли его могила будет усыпана цветами. Эта мысль не столько раздосадовала, сколько позабавила его: он прекрасно знал, что, как бы человек ни трудился при жизни — хорошо или плохо, — не много на свете таких людей, чьи могилы осыпают цветами через десятки лет после их смерти. Однако на кладбище Каупервуда ждал сюрприз. Когда они уже направились было к выходу, их взорам предстало чудесное двойное надгробие на могиле Абеляра и Элоизы, и гид рассказал всем известную трагедию этой злосчастной пары. Элоиза и Абеляр! Одиннадцатый век: юная девушка, влюбленная в ученого монаха, и неумолимый, жестокосердый отец ее, член соборного капитула! Каупервуд никогда в жизни не слыхал об этих несчастных влюбленных. Пока гид рассказывал, подошла молодая, изящная и очень красивая женщина с корзиночкой цветов в руках и стала пригоршнями бросать на могилу алые, голубые, белые цветы. Это зрелище так поразило Каупервуда и Шенли, что оба сняли шляпы и, выждав, пока она обратит на них внимание, почтительно поклонились. — Merci beaucoup, messieurs,[35] — прошептала она уходя. Этот яркий и трогательный эпизод навел Каупервуда на размышления о тех чувствах, что связывали его когда-то с Эйлин. Ведь в то время, когда он сидел в филадельфийской тюрьме, именно она наперекор всем его врагам, в том числе и своему отцу, словно верная жена, приходила к нему на свидание, уверяла его в своей неизменной любви и всеми силами старалась облегчить его участь. Подобно Элоизе, любившей Абеляра, она стремилась, да и сейчас стремится только к нему, и никто другой ей не нужен. Внезапно у Каупервуда возникла мысль построить красивый склеп, который простоит века и где они с Эйлин будут покоиться вдвоем. Да, он наймет архитектора, сам выберет проект, — он воздвигнет прекрасную гробницу, которая увековечит память о том, что и он когда-то любил Эйлин так же, как она любит его до сих пор.Глава 59
Наконец Каупервуд вернулся в Лондон, и Беренис, увидев его, не на шутку испугалась: он заметно похудел и казался совсем измученным. Она посетовала, что он плохо следит за своим здоровьем и что она теперь редко видит его. — Фрэнк, милый, — ласково говорила она, — зачем ты отдаешь этим своим делам так много времени и сил? Ты слишком переутомился и стал таким нервным. По-моему, тебе надо посоветоваться с врачом, пусть тебя внимательно исследуют. — Беви, дорогая моя, — ответил он, обнимая ее за талию, — ты не беспокойся. Правда, я чересчур много работаю, но это скоро уже кончится, и мне не придется больше ломать голову над всем этим — по крайней мере в ближайшем будущем. — Но ты в самом деле здоров? — Да, дорогая, по-моему, все в порядке. Видишь ли, сейчас очень важно, чтобы я сам следил за ходом дел. Но еще не договорив, он вдруг весь как-то скрючился, согнулся вдвое, словно от приступа острой боли. — Фрэнк, что с тобой? Что случилось? Так уже бывало когда-нибудь? — бросилась к нему Беренис. — Нет, дорогая, никогда, — сказал он. — Но это ничего, я уверен, ничего страшного нет. Он с трудом превозмог боль. — Конечно, — продолжал он, — надо бы выяснить в чем дело. Такая острая боль не возникнет без причины. Знаешь что: позвони-ка доктору Уэйну и попроси его зайти. Беренис тотчас кинулась к телефону. Когда приехал Уэйн, он был поражен измученным видом больного; бегло осмотрев его и прописав успокаивающее лекарство, которое следовало начать принимать немедленно, врач попросил Каупервуда на следующее утро приехать к нему для основательного исследования. Каупервуд сразу согласился. А через неделю, после консультации с двумя лучшими лондонскими специалистами, которые, осмотрев больного, сообщили Уэйну свое заключение, врач убедился, что у Каупервуда серьезная болезнь почек и что она довольно скоро может привести к трагическому концу. Он велел Каупервуду лежать и принимать лекарства, которые должны были приостановить развитие болезни. Однако через несколько дней, придя показаться доктору Уэйну, Каупервуд объявил, что чувствует себя лучше, и аппетит у него, кажется, совсем восстановился. — Вся беда в том, мистер Каупервуд, — спокойно отвечал доктор Уэйн, — что эти болезни очень капризны; боль, которую они вызывают, может на некоторое время вдруг прекратиться. Но это вовсе не значит, что больной выздоровел или что дело идет на поправку. Боли могут возобновиться, и тогда наши специалисты выносят категорический и печальный приговор, который, впрочем, далеко не всегда бывает правилен. Нередко состояние больного улучшается, и он живет еще долгие годы. Но ему может стать и хуже, — и вот из-за таких-то неожиданностей эту болезнь и трудно лечить. Теперь вы понимаете, мистер Каупервуд, отчего при всем своем желании я не могу вам сказать ничего определенного. — А по-моему, вы все-таки хотите мне что-то сказать, доктор Уэйн, — прервал Каупервуд. — И я желаю знать, какой именно диагноз поставили специалисты — все равно, хороший или плохой — я хочу его знать. У меня что-нибудь серьезное с почками? Что, это заболевание — органическое и может быстро доконать меня? Доктор Уэйн посмотрел ему прямо в глаза. — Что ж, специалисты говорят так: если вы будете достаточно отдыхать и избегать переутомления, то проживете еще год или около того. А если будете очень беречь себя, соблюдать полный покой, то проживете и дольше. У вас хронический нефрит, или Брайтова болезнь, мистер Каупервуд. Но, как я уже говорил вам, специалисты не всегда бывают правы. Этот осторожный, тщательно обдуманный ответ был выслушан Каупервудом спокойно, в полном молчании, хотя впервые за всю свою жизнь он, человек с цветущим здоровьем, оказался во власти недуга, быть может рокового. Смерть! Очевидно, не больше года жизни! И конец всем его усилиям и стремлениям! Но что суждено, то суждено, надо взять себя в руки и смириться. Каупервуд вышел от врача, озабоченный не столько собственной болезнью, сколько судьбами тех, с кем он был связан в ту или иную пору своей жизни. Как-то отразится его смерть на Эйлин, Беренис, Сиппенсе, на Фрэнке Каупервуде-младшем, его сыне, на его первой жене Лилиан, ныне миссис Уилер, и их дочери Лилиан, которую он не видел много лет, — правда, он хорошо обеспечил ее, ей хватит надолго. Были и еще люди, о которых он чувствовал себя обязанным позаботиться. Позже, по дороге в Прайорс-Ков, он все время думал о том, что нужно привести в порядок свои дела. Прежде всего — составить завещание, даже если эти доктора и ошибаются. Он должен обеспечить всех, кто был близок ему. Нужно решить вопрос о своем сокровище — картинной галерее; она должна быть так или иначе доступна для публики. У него было и еще одно заветное желание — построить больницу в Нью-Йорке. Надо что-то сделать в этом направлении. После того как он выделит все, что полагается, всевозможным наследникам и тем, кого он намерен облагодетельствовать, останется еще изрядная сумма, ее с избытком хватит на больницу: люди, оказавшиеся без средств и без пристанища, смогут получить там отличную медицинскую помощь и уход. Кроме того, предстояло еще подумать и о склепе, который он хотел воздвигнуть для себя и для Эйлин. Нужно посоветоваться с архитектором и заказать ему эскиз. Пусть это будет красивый и достойный мавзолей. Этим он хоть как-то загладит свое невнимание к жене. Но как быть с Беренис? Нельзя открыто упомянуть ее в завещании. Это значило бы натравить на нее свору навязчивых репортеров и сделать предметом всеобщей зависти. Нет, он уладит это иначе. Он уже открыл на ее имя счет в банке, а теперь еще превратит в наличные часть своих облигаций и акций и передаст деньги ей. Это обеспечит ее на многие годы. Но тут экипаж Каупервуда подкатил к Прайорс-Кову, и его тревожные мысли были прерваны появлением Беренис, — она встретила его ласковой улыбкой и тотчас стала расспрашивать, что же сказал доктор. Однако по своей независимой, стоической натуре Каупервуд не мог сказать правду — он только отшутился по обыкновению. — Ничего серьезного, дорогая, — сказал он. — Небольшое воспаление мочевого пузыря, — наверно, я просто съел лишнее. Доктор прописал мне лекарство и посоветовал поменьше работать. — Ну вот! Так я и знала! Я ведь все время это говорила! Ты должен больше отдыхать, Фрэнк, а не работать с утра до ночи. Но тут Каупервуду удалось переменить тему разговора. — Кстати о тяжких трудах, — сказал он. — Ты, кажется, утром что-то говорила насчет голубей и бутылки какого-то особенного винца? — Вот, неисправимый! Сейчас Фини накроет на стол. Мы будем обедать на террасе. — Знаешь, бог бережет честных и трудолюбивых, — сказал он, поймав ее руку. И весело, держась за руки, они вошли в дом.Глава 60
Хотя Каупервуд, казалось, от души наслаждался обедом в обществе Беренис, мысли его, точно по кругу, снова и снова возвращались к одному и тому же: он думал то о своих разнообразных коммерческих и финансовых делах, то о различных людях — мужчинах и женщинах, которые так или иначе помогали ему в осуществлении его планов — строительстве огромной дорожной сети. Эти люди действительно были ему поддержкой — мужчины помогали в делах, женщины скрашивали досуг! Ведь благодаря им он так ярко и полно прожил последние тридцать лет своей жизни. Каупервуд не очень верил диагнозу врачей, — может быть, его болезнь вовсе и не приведет к трагической развязке, — а все же их предсказания о близости конца не могли не подействовать на него; и в этот дивный вечерний час, сидя с Беренис и глядя на Темзу и на зеленые луга, простирающиеся перед ним, он невольно с особенной остротой ощущал всю красоту и мимолетность жизни. А какой насыщенной была его жизнь, сколько в ней было драматизма, сколько сохранилось волнующих воспоминаний. И только теперь, когда он в любую минуту мог лишиться того, что наполняло его дни и что казалось ему неотделимым от него самого, он почувствовал настоящую цену жизни и ее радостям. Беренис — такая умница, молодая, веселая. Будь все благополучно, сколько еще лет они могли бы провести вместе… И, конечно, именно об этом она думает сейчас, она полна надежд и желания быть ему полезной. И впервые мысль о быстротечности бытия поколебала его обычную невозмутимость. С какой-то необычайной остротой он ощущал поэзию этих минут, их мимолетность, которая несет в себе горечь, только горечь… Впрочем, ничто в поведении Каупервуда не выдавало владевших им тяжелых мыслей, ибо он уже решил, что должен притворяться, играть. Он должен, невзирая ни на что, заниматься делами до тех пор, пока не наступит тот час, та минута, когда сбудутся предсказания врачей, — если они вообще сбудутся. Утром он, как обычно, поехал из Прайорс-Кова к себе в контору и принялся за повседневные дела с тем же спокойствием и ясностью мысли, с какими он всегда принимал решения и разрабатывал свои планы. Он чувствовал: сейчас необходимо привести в действие все пружины, чтобы в случае внезапной смерти ни одно его желание не осталось неисполненным. Одним из этих желаний было воздвигнуть склеп для себя и для обманутой Эйлин. И вот Каупервуд вызвал своего секретаря Джемисона и попросил его составить список лучших архитекторов, пользующихся широким признанием, — все равно: англичан или с континента, — которые создали себе имя постройкой памятников и мавзолеев. Эти сведения нужны одному его приятелю — и как можно скорее! Покончив с этим, Каупервуд занялся тем, что было ему всего дороже — картинной галереей; он хотел пополнить ее такими полотнами, чтобы она стала поистине выдающейся коллекцией. С этой целью он написал тем, кто покупал и продавал подобные шедевры, и ему удалось приобрести несколько очень ценных полотен, в том числе «Нашествие в царство Купидона» Бутро, «Дорога в деревню» Коро, «Портрет женщины» Франса Гальса, «Воскресение св. Лазаря» Рембрандта. Все это он отправил пароходом в Нью-Йорк. Он занимался не только этим — неизбежные заботы, связанные со строительством метрополитена, неотступно требовали его внимания: иски, конфликты, столкновения с конкурентами, судебные процессы по всяким мелочным поводам! Но прошло всего несколько дней, и Каупервуд, освоившись со своим новым положением, начал быстро и решительно приводить в порядок свои дела; к тому же он стал чувствовать себя намного лучше и уже склонен был думать, что боли, заставившие его обратиться к врачу, были вызваны каким-то пустяком. В самом деле, никогда еще с тех пор, как он впервые приехал в Лондон, будущее не представлялось ему в более розовом свете. Даже Беренис и та решила, что он сумел восстановить былой запас жизненных сил. Тем временем лорд Стэйн, пораженный неиссякаемой энергией Каупервуда — сколько новых и оригинальных идей он за это время предложил! — подумал, что пора бы устроить в честь американского финансиста прием в Трегесоле, чудесном поместье на берегу моря, где можно разместить по меньшей мере две сотни гостей. И вот после долгих размышлений о том, кого из именитых людей следует пригласить, был, наконец, назначен день приема, и Трегесол с его изумительным парком и огромным залом для танцев, где люстры соперничали в блеске с луной, избран местом бала. Лорд Стэйн, в дверях зала, приветствовал прибывавших гостей. Беренис, входившая под руку с Каупервудом, показалась ему на этот раз особенно красивой — ее простое белое платье с треном, стянутое в талии золотым шнуром, походило на греческую тунику, а огненно-рыжие волосы были словно золотой венец. Подойдя к Стэйну, она подарила его таким взглядом и такой улыбкой, что у него невольно вырвалось: — Беренис! Волшебница! Вы обворожительны! Это приветствие не достигло слуха Каупервуда, который как раз здоровался с одним из своих самых крупных акционеров. — Вы должны отдать мне второй танец, — сказал Стэйн, задержав на минуту руку Беренис. Она грациозно кивнула. Поздоровавшись с Беренис, Стэйн чрезвычайно тепло приветствовал своего почетного гостя — Каупервуда; они разговаривали так долго, что Стэйн успел представить ему многих высших служащих метрополитена и их жен. Вскоре объявили, что ужин подан; за столом завязался оживленный разговор, гости отдавали должное редкостным винам и шампанскому особой марки, которое, — в этом Стэйн не сомневался, — удовлетворит самого требовательного ценителя. Смех, веселые разговоры, остроты слышались со всех сторон, к ним примешивались мягкие звуки музыки, доносившиеся из соседней комнаты. Беренис оказалась почти во главе стола: по одну ее руку сидел лорд Стэйн, по другую — граф Бреккен, весьма приятный молодой человек, который еще задолго до окончания ужина стал умолять ее сжалиться и оставить для него хотя бы третий или четвертый танец. Но хотя такое внимание было ей и приятно и лестно, взгляд ее снова и снова возвращался к Каупервуду; она следила за каждым его движением, а он, на другом конце стола,оживленно болтал с удивительно красивой брюнеткой, своей соседкой слева, не забывая, однако, и о соседке справа — не менее обворожительной красавице. Беренис радовалась, что он отдыхает и веселится, — она уже давно не видела его таким. Ужин затягивался, шампанское лилось рекой, и Беренис начала опасаться за Каупервуда. Его речь и жесты под действием шампанского становились все более порывистыми, и это беспокоило ее. Когда же лорд Стэйн пригласил всех желающих пройти в зал для танцев и Каупервуд, возбужденный и красный, подошел к Беренис, она совсем встревожилась. Однако он вел ее в зал с видом человека, выпившего ничуть не больше других. Кружась с ним по блестящему паркету под плавные звуки вальса, Беренис шепнула: — Ты счастлив, милый? — Я никогда еще не был так счастлив, — ответил он. — Ведь ты со мной, моя красавица! — Милый! — прошептала Беренис. — Ну, скажи, Беви, разве все не чудесно? Ты, этот дом, эти люди! Вот к таким минутам я стремился всю свою жизнь! Она ласково улыбнулась ему, но он вдруг пошатнулся, остановился и, прижав руку к сердцу, пробормотал: — Душно, душно… Выйдем на воздух! Беренис крепко взяла его под руку и повела к открытой двери на балкон, выходивший к морю. Всячески подбадривая Каупервуда, Беренис помогла ему добраться до ближайшей скамьи, на которую он бессильно и грузно опустился. Неописуемая тревога овладела Беренис; в это время показался слуга с подносом, и она бросилась к нему: — Помогите! Скорее! Позовите кого-нибудь, перенесем его в спальню. Ему очень плохо. Перепуганный слуга тотчас позвал дворецкого, который распорядился отнести Каупервуда в свободную комнату на том же этаже и доложил обо всем лорду Стэйну; тот поспешил к больному. Увидев, в каком отчаянии Беренис, он приказал дворецкому перенести Каупервуда в свои покои на втором этаже и немедленно вызвал своего врача — доктора Мидлтона. Дворецкому было велено также сказать слугам, чтобы они не смели болтать о случившемся. Тем временем Каупервуд начал приходить в себя, и доктор Мидлтон застал его уже в полном сознании: Каупервуд беспокоился о том, что болезнь его вызовет разговоры, — пусть Стэйн окажет, что он оступился и упал. К утру, конечно, все пройдет. Но доктор Мидлтон был несколько иного мнения. Он дал Каупервуду болеутоляющее лекарство и посоветовал хотя бы дня два провести в постели, — тогда станет ясно, какое течение приняла болезнь и нет ли осложнений. — Тут, очевидно, дело куда серьезнее, чем простой обморок, — сказал он потом Стэйну.Глава 61
На следующее утро Каупервуд проснулся в покоях Стэйна в полном одиночестве, если не считать необычайно почтительных слуг, иногда заходивших в комнату; и тут он попытался восстановить в памяти тревожную последовательность всего, что так внезапно произошло с ним накануне. Он был поражен и даже напуган тем, что именно теперь, когда он уже перестал было опасаться за свое здоровье, болезнь вдруг снова дала о себе знать. Неужели правда, что эта роковая Брайтова болезнь избрала его своей жертвой? Когда его смотрел доктор Мидлтон, Каупервуд еще не настолько пришел в себя, чтобы расспросить о причине, вызвавшей обморок. Как же это было? Сначала он почувствовал, что ему не хватает дыхания; потом страшная слабость во всем теле — и он упал. В чем же все-таки причина — в болезни почек, о которой говорил ему доктор Уэйн, или просто он слишком много ел и выпил слишком много шампанского? Ведь доктор строго-настрого наказывал ему ничего не пить, кроме воды, и быть очень умеренным в пище. Чтобы выяснить, что же с ним на самом деле и чего ему ждать, Каупервуд решил попросить Беренис дать знать в Нью-Йорк его старому приятелю и личному врачу — доктору Джефферсону Джемсу: пусть немедленно приедет в Лондон. Это преданный друг, каждому его слову можно верить, и он-то сумеет установить, что у него за болезнь. Пока Каупервуд не торопясь, спокойно обдумывал свое положение, в дверь постучали, и вошел лорд Стэйн, — он был весел, любезен и всячески старался ободрить больного. — Вот вы какой! — воскликнул он. — Смотрите, до чего вас довели красивые девушки и шампанское! Подумать только! И не стыдно вам? Каупервуд широко улыбнулся. — Кстати, — продолжал Стэйн, — мне приказано подвергнуть вас суровому наказанию по крайней мере на двадцать четыре часа. Никакого шампанского — только вода! Никакой икры, ни единого зернышка, — только тоненький ломтик говядины, опять же с водой! Ну, уж если совсем соберетесь падать в обморок, пожалуй, дадим вам чашку жидкой кашицы и, конечно, еще водички! Каупервуд сел в постели. — Да это верх жестокости! — воскликнул он. — Но, быть может, вы согласитесь разделить со мной воду и кашицу? А пока мы будем кутить, вы могли бы под большим секретом поведать мне, что вам сказал доктор Мидлтон. — Видите ли, — ответил Стэйн, — он сказал, что вы забываете о своем возрасте и что шампанское и икра вам абсолютно противопоказаны. И танцы до утра — тоже. Вот вы и поскользнулись на моем чересчур натертом бальном паркете. Теперь вам предстоит принять доктора Мидлтона, который намерен посмотреть, как вы себя чувствуете. Впрочем, ничего серьезного он не находит — просто переутомление, которого впредь вы, конечно, без труда можете избежать. Еще позвольте сообщить вам, что ваша очаровательная сиделка любезно приняла мое предложение остаться здесь на ночь и скоро сойдет вниз. Нечего и говорить, что, независимо от заключения доктора Мидлтона, и она и я очень обеспокоены… — Ничего страшного со мной не произошло, — решительно заявил Каупервуд. — Я уже не мальчик, конечно, но еще далеко не дряхлая развалина. Что касается дел, то в случае затруднений я в любое время к вашим услугам. А в силах ли я вести дела — об этом вы можете судить хотя бы по результатам, которых нам удалось достичь. В его тоне был едва уловимый упрек, и Стэйн заметил это. — Результаты потрясающие, — сказал он. — Можно только восхищаться человеком, который пришел к нам с таким предложением, как вы, и еще сумел раздобыть двадцать пять миллионов долларов у американских вкладчиков. Я рад выразить вам свою признательность и признательность наших акционеров за ваши труды. Беда только в том, мистер Каупервуд, что вся затея лежит на ваших широких американских плечах и зависит от вашего здоровья и сил. Вот в чем суть. Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошла Беренис. Завязалась легкая непринужденная беседа, и Стэйн предложил обоим погостить у него подольше — неделю, месяц, сколько душе угодно. Но Каупервуд, ощущая потребность в уединении и покое, настаивал на скорейшем отъезде. Когда Стэйн ушел, он сказал Беренис: — Я вовсе не так уж плохо себя чувствую, дорогая. Не в этом дело. Просто я хочу избежать лишней шумихи, поэтому хорошо бы уехать отсюда поскорее и, если можно, в Прайорс-Ков, а не в гостиницу. Ты не поговоришь с лордом Стэйном, чтобы мы еще утром могли уехать? — Конечно, милый, раз ты этого хочешь, — ответила Беренис. — И мне будет спокойнее, если ты будешь подле меня. — И еще одна просьба, Беви, — продолжал Каупервуд. — Скажи Джемисону, пусть телеграфирует в Нью-Йорк доктору Джефферсону Джемсу. Это мой давнишний врач и старый друг. Попроси его приехать в Лондон, если он может. Передай Джемисону, что это конфиденциально и должно быть зашифровано. Он может послать телеграмму на адрес Нью-йоркского медицинского общества. — Значит, ты и сам чувствуешь, что с тобой что-то неладно? В ее голосе слышалась тревога. — Нет! Не так уж плохо, вообще говоря, но ты же видишь: я до сих пор не знаю, что со мной. Ведь я свалился так внезапно, что всякое можно подумать. Как бы не переполошились мои акционеры и вкладчики! А может быть, просто я вчера съел и выпил лишнее. Но мне никогда еще не было так худо. Потому-то я и хочу повидать Джефферсона. Он уж выяснит, в чем дело, и скажет мне правду. — Фрэнк, — перебила Беренис, — а ведь ты так и не рассказал мне, что сказал тебе в последний раз доктор Уэйн. Какой диагноз поставили специалисты? — Видишь ли, Уэйн сказал, что боли могли быть вызваны Брайтовой болезнью, только он не уверен, потому что Брайтова болезнь бывает либо хроническая, либо острая. А у меня ни то, ни другое. Он оказал, что надо подождать и посмотреть, не появятся ли какие-то более определенные симптомы, а уж тогда специалисты сумеют поставить правильный диагноз. — Ну, если так, доктор Джемс непременно должен приехать! Я скажу Джемисону, чтобы он завтра же послал телеграмму. И скорее поедем в Прайорс-Ков — это для тебя самое подходящее место. Ты будешь жить там, пока доктор Джемс не признает, что ты поправился. Она подошла к окну, спустила штору и вышла, наказав Каупервуду лежать тихо и постараться уснуть, пока она будет готовиться к отъезду. И все время ее мучила мысль: чем это кончится для Фрэнка? Она старалась казаться спокойной, но не могла подавить внутренней дрожи. — Совершенно правильно, — заметил Стэйн, когда Беренис сообщила ему, что они решили ехать в Прайорс-Ков. — Я уверен, мистеру Каупервуду там будет лучше. На меня Прайорс-Ков всегда действовал целительно. К тому же там ваша матушка, и она поможет вам. С вашего разрешения, утром я сам отвезу вас. Я высоко ценю мистера Каупервуда, и мой долг сделать все от меня зависящее, чтобы ему было удобно и чтоб он мог скорее поправиться.Глава 62
Дней через десять в Прайорс-Ков прибыл доктор Джемс; увидев Каупервуда, удобно расположившегося в спальне, выходящей окнами на Темзу, он остановился в дверях и воскликнул: — Я вижу, Фрэнк, вы не так уж больны, раз способны любоваться пейзажем. Может, вы прокатитесь в Нью-Йорк, а я тут понежусь и отдохну от тягот путешествия? Я уже столько лет мечтаю как следует отдохнуть. — У вас был тяжелый переезд через океан? — спросил Каупервуд. — Ничуть. Я никогда еще так не радовался перемене обстановки. Поездка была восхитительная, океан как зеркало. С нами вместе ехала труппа певцов, почти все — негры, и было очень весело. Между прочим, они направлялись в Вену. — Все тот же Джефф! — заметил Каупервуд. — Господи, до чего же приятно вас видеть! Знали бы вы, сколько раз я вас вспоминал! Вот бы, думаю, вам поглядеть, какие чудаки эти англичане. — Никуда они не годятся, а? — подтрунивал Джемс. — Но расскажите-ка мне прежде о себе. Только по порядку, с самого начала: где вы были, что с вами случилось и почему вас посадили под арест? И Каупервуд не торопясь, обстоятельно изложил Джемсу, что с ним произошло со времени возвращения из Норвегии и что сказал доктор Уэйн и специалисты. — Вот почему я и хотел, чтоб вы приехали, Джефф, — сказал он под конец. — Я знаю вы скажете мне правду. Специалисты думают, что это Брайтова болезнь. Уверяют даже, что я проживу года полтора, не больше; впрочем доктор Уэйн оговорился, что заключения специалистов не всегда бывают правильны. — Вот это верно! — с жаром подтвердил доктор Джемс. — Я поверил доктору Уэйну и, как видно, успокоился раньше времени, — продолжал Каупервуд. — А очень скоро, в гостях у лорда Стэйна, как раз и произошел неприятный случай, о котором я вам говорил. У меня вдруг перехватило дыхание, и я даже не мог без посторонней помощи выбраться из комнаты. Тут уж я усомнился в словах Уэйна. Но теперь, надеюсь, вы скажете мне правду и поставите на верный путь. Доктор Джемс подошел к Каупервуду и положил обе руки ему на грудь. — А ну-ка вздохните поглубже, — сказал он, и Каупервуд, набрав воздуха в легкие, глубоко вздохнул. — Ага, понятно, — заметил врач, — небольшое расширение желудка. Придется прописать вам что-нибудь против этого. — Вы находите, что я опасно болен, Джефф? — Не опешите, Фрэнк. Я должен прежде сделать кое-какие исследования. А сейчас я вам вот что скажу: вас уже осматривали двое врачей и трое специалистов и от них вы знаете, что ваша болезнь, быть может, смертельна. Но вы знаете, как далеко от возможного до невозможного, от определенного до неопределенного и как велика разница между болезнью и здоровьем. Насколько я могу сейчас судить, учитывая ваше общее состояние, вы можете протянуть еще несколько месяцев, а то и несколько лет. Дайте мне только время повозиться с вами, обдумать, что вам лучше всего поможет. А завтра утром пораньше я снова буду у вас и тогда уж как следует вас осмотрю. — Одну минуту! — воскликнул Каупервуд. — Я распорядился, чтобы вы жили здесь, с нами: со мной, моей подопечной мисс Флеминг и ее матерью. — Вы очень любезны, Фрэнк, но сегодня я никак на могу остаться. Мне нужно достать в Лондоне два-три лекарства, прежде чем приступить к вашему лечению. Но я вернусь завтра утром, часов в одиннадцать, и потом, если хотите, останусь у вас, хотя бы до тех пор, пока вы если уж не поумнеете, то хоть окрепнете. Только помните: ни капли шампанского, и вообще никакого вина — во всяком случае первое время. А питаться будете только молочной сывороткой — этого можно сколько угодно, — да еще, пожалуй, молочным супом. В эту минуту вошла Беренис, и Каупервуд представил ее врачу. Поздоровавшись с нею, доктор Джемс обернулся к Каупервуду. — Ну как можно хворать, — воскликнул он, — когда возле вас такое лекарство от всех бед! Будьте уверены: теперь я не премину приехать пораньше! Затем, перейдя на профессиональный тон, он пояснил Беренис, что в следующий раз ему потребуется горячая вода и полотенца и, кроме того, уголь — в соседней комнате, кажется, есть камин, надо будет развести хороший огонь. — Подумать только, меня заставили проделать такой путь из Нью-Йорка, чтобы лечить его, а лекарство, оказывается, у него под рукой, — заметил он улыбаясь. — Прямо чудеса! Беренис он сразу понравился — такой умный, веселый. Удивительно, как это Фрэнк всегда умеет окружить себя сильными и интересными людьми. Поговорив еще немного с Каупервудом, врач уехал в город, не забыв, однако, указать больному, что его грандиозная финансовая деятельность уже сама по себе представляет своего рода болезнь. — Все эти проблемы давят на ваш мозг, Фрэнк, — внушительно сказал он. — А мозг — это мыслящий, созидающий и управляющий орган, который может причинить вам не меньше физических страданий, чем любой тяжкий недуг; к числу таких недугов относятся, кстати, и тревоги, а я думаю, что именно этим вы сейчас и страдаете. Моя задача — заставить вас признать это. Поверьте, ваша жизнь должна быть для вас дороже десятка подземных дорог. Если вы по-прежнему будете ставить дела превыше всего, любой шарлатан будет прав, уверяя, что в вашем возрасте от этого можно умереть. Итак, моя задача — заставить вас забыть о метрополитене и по-настоящему отдохнуть. — Постараюсь изо всех сил, — сказал Каупервуд, — но не всякую ношу так легко сбросить с плеч, как вам кажется. Есть обязательства, затрагивающие интересы сотен доверившихся мне людей, не говоря уже о миллионах лондонцев, которые до сих пор не имели возможности выезжать за пределы ближайших кварталов. А если мой план будет претворен в жизнь, они смогут разъезжать по всему Лондону и за какие-нибудь два пенса узнают, наконец, на что он похож. — Вот вы опять оседлали своего конька, Фрэнк! А если вы завтра умрете, что тогда будет с вашими лондонцами? — Лондонцам плохо не будет, умру ли я, или буду жив, — лишь бы мне успеть наладить им подземку. Боюсь, что вы правы, Джефф, для меня и вправду дела важнее всего. Видите ли, моя затея разрослась и пустила корни, теперь осуществление моих планов не зависит от отдельного человека, даже и от меня, хотя я еще многое смогу сделать, если проживу достаточно долго.Глава 63
Доктору Джемсу пришлось немало поразмыслить над заболеванием Каупервуда и над тем, как отражались на нем волновавшие больного финансовые проблемы. Что до Брайтовой болезни, быстрый и трагический исход которой предсказывал лондонский врач, то Джемс знал случаи, когда больные жили долгие годы. Но положение Каупервуда серьезно: во-первых, расширение желудка, во-вторых — периодические острые боли. А тут еще вечные заботы о делах. Все это вместе взятое может, конечно, очень и очень ему повредить. И в довершение всего — Джемс хорошо знал это — немало беспокойства доставляло Каупервуду его прошлое: первая жена, сын, былые связи и, разумеется, Эйлин, — газеты время от времени охотно припоминали знаменитому финансисту его старые грехи. Но что же, что он. Джемс, может сделать для этого человека, который так ему дорог? Что еще, помимо медицины, может восстановить силы больного, хотя бы ненадолго? Разум! Разум! Если б только не одними медикаментами, но и путем внушения заставить разум Каупервуда прийти на помощь телу! И вдруг Джемс почувствовал, что напал на верную мысль. Надо поставить Каупервуда на ноги и пусть он отправится за границу — не только затем, чтобы развлечься, переменить обстановку, но и чтобы вызвать сенсацию в Англии и в Америке. Узнав о его поездке, все будут говорить: «Помилуйте, да он вовсе не болен! Он настолько оправился, что может разъезжать и развлекаться!» Все это, вероятно, подбодрит Каупервуда, укрепит его нервы, и, пожалуй, он сам поверит, что уже здоров или, по крайней мере, что ему гораздо лучше. Как ни странно, выбирая, куда бы отправить Каупервуда, Джемс все больше и больше приходил к мысли, что самое подходящее место — Ривьера, а вернее Монте-Карло, этот огромный игорный дом. Как это эффектно выглядело бы в газетах: Каупервуд у игорных столов, среди напыщенных герцогов и азиатских принцев! Разве такой психологический трюк не укрепит позиций Каупервуда как финансиста? Тысяча против одного, что укрепит! На другой день, вернувшись в Прайорс-Ков и осмотрев Каупервуда, доктор приступил к делу. — Я думаю, Фрэнк, — начал он, — что недельки через три вы будете чувствовать себя вполне прилично и сможете отправиться в какую-нибудь приятную увеселительную поездку. Поэтому вот вам мое предписание: расстаньтесь-ка на время с здешними краями и поедемте со мной за границу. — За границу? — с удивлением переспросил Каупервуд. — Да, и знаете зачем? Ведь газеты наверняка отметят, что вы в состоянии путешествовать. А этого-то вам и надо, не так ли? — Совершенно верно! — ответил Каупервуд. — Куда же мы отправляемся? — Да, пожалуй, в Париж, или можно в Карлсбад, — знаю, знаю, неприятное место, но тамошние воды были бы вам в высшей степени полезны. — Боже милостивый! А потом куда? — Что ж, — сказал Джемс, — к вашим услугам Прага, Будапешт, Вена и Ривьера, включая Монте-Карло, — выбирайте! — Что?! — воскликнул Каупервуд. — Я в Монте-Карло! — Да, вы в Монте-Карло, со всеми вашими болезнями. Вы вдруг появляетесь в Монте-Карло, да еще в такое время года! Не сомневайтесь, эффект будет именно тот, какой вам нужен. Достаточно вам появиться в игорной зале и проиграть несколько тысяч долларов — и об этом немедленно узнает весь свет. Все заговорят о том, что вы в Монте-Карло, что вы играете в рулетку, швыряете деньги без счету. — Ладно! Ладно! — закричал Каупервуд. — Если у меня хватит сил, я поеду. Но если ничего путного из этого не выйдет, я привлеку вас к суду за невыполнение обещания! — Идет! — отозвался Джемс. Три недели провел доктор Джемс в Прайорс-Кове, не спуская глаз со своего пациента; наконец и сам Каупервуд почувствовал себя много лучше, и Джемс решил, что лечение принесло плоды: больной достаточно оправился, можно пускаться в путь. Однако Беренис, как ни рада она была, что здоровье Каупервуда идет на поправку, с тревогой думала о предстоящем путешествии. Да, конечно, слухи о смертельной болезни Каупервуда могут повлечь за собой крушение всех его начинаний. Но она так любит его, как же ей за него не бояться! А вдруг это путешествие окажется вовсе не таким полезным и плодотворным, как считают Фрэнк и доктор Джемс? Но Каупервуд убедил ее, что расстраиваться нечего: он чувствует себя лучше, а план доктора Джемса — просто идеален. Они отплыли в конце следующей недели. И, разумеется, лондонская пресса не замедлила объявить, что Фрэнк Каупервуд, которого еще недавно считали чуть ли не умирающим, по-видимому совсем поправился — он даже позволяет себе увеселительную поездку по Европе. Немного позже о Каупервуде стали появляться сообщения из Парижа, Будапешта, Карлсбада, Вены и, наконец, из Монте-Карло, сказочного Монте-Карло. Эту последнюю новость подхватила вся пресса:«Несокрушимый Каупервуд, о чьей болезни сообщалось недавно, избрал местом своего развлечения и отдыха Монте-Карло».Однако по возвращении Каупервуда в Лондон репортеры засыпали его весьма откровенными вопросами. Один корреспондент спросил напрямик: — Ходят слухи, что вы серьезно больны, мистер Каупервуд, — скажите, есть ли в этом хоть доля истины? — Видите ли, молодой человек, — ответил Каупервуд, — я слишком много работал и мне понадобилось отдохнуть. Мой приятель — врач сопровождал меня во время этого путешествия: вот мы с ним и слонялись по Европе. Он от души расхохотался, когда корреспондент «Уорлд» спросил, правда ли, что он завещал свое бесценное собрание картин нью-йоркскому музею искусств. — Если люди хотят знать, что написано в моем завещании, — сказал он, — им придется подождать, пока меня не накроют дерном. Я только надеюсь, что их милосердие не уступает их любопытству. Сидя на широкой лужайке Прайорс-Кова, Беренис и доктор Джемс прочли в газете ответы Каупервуда репортерам и не могли сдержать улыбки. И хотя доктор ни на минуту не забывал о том, что его ждут в Нью-Йорке дела, дружеское внимание, каким окружали его не только Каупервуд, но и Беренис, все больше покоряло его. Оба были как нельзя более благодарны ему — ведь он, по-видимому, и в самом деле вернул Каупервуду здоровье и силы. И когда Джемсу пришло время уезжать, все трое были взволнованы, им не хотелось расставаться. — У меня не хватает слов, чтобы выразить вам мою благодарность, Джефф, — говорил Каупервуд, когда они втроем подошли к трапу парохода, на котором должен был отплыть доктор Джемс. — Если я могу что-нибудь для вас сделать, приказывайте. Я же хочу только одного: чтобы ничто не нарушило нашей дружбы. — Никаких вознаграждений, бросьте, Фрэнк, — перебил его Джемс. — Знать вас столько лет — это уже награда. Навестите меня как-нибудь в Нью-Йорке. До новой встречи! Он подхватил свой чемодан. — Что ж, друзья, корабли никого не ждут! — сказал он с улыбкой, еще раз пожал руки Беренис и Каупервуду и смешался с толпой, повалившей на пароход.
Глава 64
Проводив доктора Джемса, Каупервуд увидел, что за время его отсутствия накопилось множество дел, и, чтобы управиться с ними, нужны месяцы напряженных усилий и внимания. Необходимо было заняться и кое-какими личными делами. В частности, Эйлин написала ему, что хотя перестройка их дворца под наблюдением архитектора Пайна и идет полным ходом, но хорошо бы ему самому как можно скорее вернуться в Нью-Йорк, ознакомиться с планом в целом и либо принять его, либо отклонить, пока не поздно. Вряд ли в новой галерее хватит места для картин, которыми он за последнее время пополнил свою коллекцию. Разумеется, мистер Касберт большой знаток в вопросах искусства, но, право же, Фрэнк ни в коем случае не согласился бы с ним, будь он сам здесь, в Нью-Йорке. Каупервуд понимал, что это нельзя оставить без внимания. И все же сейчас ему трудно будет предпринять поездку в Нью-Йорк. Слишком уж много вопросов, связанных с постройкой метрополитена, — и большая политика, и практические мелочи — требовали его присутствия. Правда, лорд Стэйн, часто навещавший Каупервуда, уверял, что теперь, наверно, все пойдет гладко; Стэйн сам был заинтересован в этом деле и потому не жалел усилий, чтобы сгладить противоречия между различными участниками предприятия. Узнав о выздоровлении Каупервуда, он вздохнул с облегчением. — А вы молодцом! — сказал он Каупервуду в день, когда тот вновь приступил к исполнению своих обязанностей. — Очень посвежели! Как это вам удалось? — Я тут ни при чем, — отвечал Каупервуд. — Это все мой старинный приятель Джефф Джемс. В прошлом он избавлял меня от болезней, а сейчас избавил от финансового краха. — Вот это верно, — согласился Стэйн. — Что и говорить, вы ловко провели публику. — Это у Джеффа родилась такая блестящая идея. Он не только увез меня, отвлек от моей особы все подозрения и утихомирил болтунов, но попутно еще и вылечил, — сказал Каупервуд. И еще одна задача требовала в то время внимания Каупервуда — надо было договориться о сооружении склепа с Рексфордом Линвудом, одним из трех американских архитекторов, рекомендованных Джемисоном. Только что прошел конкурс на лучший проект памятника губернатору одного из Южных штатов, и Каупервуд видел там работу Линвуда, которая понравилась ему больше всех остальных: на одной из стен склепа была изображена хижина, где родился губернатор, а у подножия огромного, поросшего мхом дуба — силуэт коня, его верного спутника в битвах Гражданской войны. Работа эта глубоко тронула Каупервуда пафосом и простотой замысла. Позже, сидя напротив Линвуда за своим массивным письменным столом, Каупервуд не без удивления смотрел на этого человека с классически правильными чертами лица, на его глубоко сидящие глаза и высокую угловатую фигуру. Архитектор сразу ему понравился. Каупервуд объяснил Линвуду, чего он хочет: склеп должен быть в духе греко-римской архитектуры, но не чисто классической. Хорошо бы добавить какие-нибудь новые оригинальные детали. Желательно, чтобы это было массивное сооружение — Каупервуду всегда нравился простор — из темно-серого гранита. В одной из стен пусть будет прорезано узкое окно, а в другой — две тяжелые бронзовые двери, ведущие в склеп, где должно быть место для двух саркофагов. Линвуд одобрил эту идею и был явно доволен, что ему предстоит возвести такое сооружение. Слушая Каупервуда, он тут же сделал несколько набросков, и тому это очень понравилось. Они договорились об условиях контракта, и Каупервуд предложил Линвуду тотчас приступить к работе. Собирая со стола свои наброски и пряча их в портфель, архитектор вдруг остановился и посмотрел на Каупервуда. — Послушайте, мистер Каупервуд, — сказал он уже в дверях, — судя по вашему виду, вам еще очень не скоро понадобится склеп. По крайней мере я искренне на это надеюсь. — Очень вам признателен, — сказал Каупервуд. — Но не слишком на это рассчитывайте!Глава 65
Дни теперь проходили для Каупервуда в приятном ожидании вечера, когда можно будет вернуться в Прайорс-Ков к Беренис. Впервые за многие годы он наслаждался простыми радостями настоящего дома — места, где благодаря Беренис все, начиная с игры в шашки и кончая небольшой прогулкой по берегу Темзы, казалось особенно милым и значительным. Каупервуду хотелось, чтобы это длилось вечно. Даже старость не такая уж пытка, если бы только проводить время так, как сейчас. Но вот однажды, когда Каупервуд сидел у себя в кабинете за письмом к Эйлин, — это было месяцев через пять после того, как он вернулся к делам, — он вдруг почувствовал такую острую боль, какой еще ни разу не испытывал за все время своей болезни. Казалось, кто-то воткнул ему острый нож под левую почку, медленно его повернул, и боль мгновенно отдалась в сердце. Каупервуд попытался было подняться с кресла, но не смог. Как и тогда, в Трегесоле, у него перехватило дыхание, и он не в состоянии был пошевельнуться. Прошло несколько минут, боль стала успокаиваться, и Каупервуд сумел дотянуться до звонка, чтобы вызвать Джемисона. Он уже собрался нажать кнопку, но передумал и снял руку со звонка: по-видимому, решил он, о таких вот острых приступах боли его и предупреждали врачи, уверяя, однако, что они отнюдь не предвещают скорого конца, Несколько минут он сидел не двигаясь, удрученный и подавленный. Стало быть, болезнь не прошла, когда-нибудь вот так все и кончится! И самое скверное — никому этого не расскажешь, ни с кем не поделишься. Достаточно одного слова, чтобы опять пошли пересуды и кривотолки, как это было до его поездки по Европе. А Беренис! Стэйн! Эйлин! Газеты! И много, много дней в постели! Прежде всего, подумал он, нужно вернуться в Нью-Йорк. Там у него под рукой будет доктор Джемс, а кроме того, он сможет еще раз повидать Эйлин и поговорить с ней обо всем, что ее тревожит. Если смерть близка, надо кое-что привести в порядок. А Беренис он скажет, не вдаваясь в подробности, что ему необходимо вернуться — ей незачем знать о последнем приступе, но надо, чтобы и она поехала в Нью-Йорк. Придя к такому решению, Каупервуд с величайшей осторожностью поднялся с кресла и через несколько часов уже был в Прайорс-Кове; он всячески старался не подавать виду, что с ним что-то неладно. Но после обеда Беренис, у которой в этот день было на редкость хорошее настроение, спросила, все ли у него благополучно. — Нет, не совсем, — ответил он. — Видишь ли, я получил письмо от Эйлин, где она жалуется на то, как идут дела в Нью-Йорке — перестройка дома и тому подобное. Она считает, что не хватит места для картин, которыми я пополнил свою коллекцию. Она приглашала специалистов посмотреть, так ли это, и кое-кто согласен с ней, хотя Пайн и другого мнения. Как видно, я должен поехать туда — посмотрю сам, как обстоит дело с домом, а заодно надо еще кое в чем разобраться — мне там предъявили иски в связи с займами, которые я получил в свой последний приезд. — Ты уверен, что достаточно окреп для такого путешествия? — спросила Беренис, с тревогой глядя на него. — Вполне, — ответил Каупервуд. — Я уже много месяцев не чувствовал себя так хорошо. Да и нельзя мне так долго не показываться в Нью-Йорке. — А как же я? — с беспокойством спросила она. — Ты, конечно, поедешь со мной, а в Нью-Йорке остановишься в отеле «Уолдорф», — это всего удобнее, только, разумеется, не под своим именем. Горестное выражение тотчас исчезло с лица Беренис. — Но на разных пароходах, как всегда? — К сожалению, так будет лучше, хоть мне тяжело и подумать об этом. Ты же знаешь, дорогая, как для нас опасны сплетни и газетная болтовня. — Да, знаю. Я понимаю, каково тебе все это. Раз дела требуют, поезжай, а я выеду тотчас за тобой, следующим пароходом. Когда мы отправляемся? — Джемисон сказал, что ближайший пароход отплывает в среду. Ты можешь собраться к этому времени? — Я буду готова хоть завтра, если нужно, — ответила Беренис. — Милая! Ты всегда так охотно идешь мне навстречу, всегда стараешься помочь!.. Право, не знаю, чем была бы моя жизнь без тебя… Беренис подошла к нему и крепко обняла его. — Я люблю тебя, Фрэнк, — прошептала она, — потому я и стараюсь всеми силами помочь тебе…Глава 66
На борту парохода Каупервуд почувствовал себя одиноким — очень одиноким. Он только сейчас понял, что ни он сам да и никто другой ничего не знает о жизни и ее творце. Вот он стоит на пороге перемены, которая приподнимет для него завесу над великой, удивительной тайной, а как это получилось, почему — кто знает… Он телеграфировал доктору Джемсу, чтобы тот встретил его на пристани, и тотчас получил следующий ответ: «Добро пожаловать в Нью-Йорк. Буду встречать. Ваш Джефф из Монте-Карло». Это послание рассмешило Каупервуда, и в эту ночь он спал спокойно. Перед сном он взял бумагу и чернила и набросал телеграмму Беренис, ехавшей на пароходе «Король Хокон» под именем Кэтрин Трент: «Мы только день в разлуке, а мне кажется десять лет. Спокойной ночи, моя прелесть, одна мысль, что ты рядом, приносит утешение и отраду». В воскресенье утром Каупервуд, проснувшись, почувствовал, что он совсем ослаб. Одеваясь с помощью своего лакея, он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой; пришлось снова лечь в постель на весь день. Сначала это нисколько не взволновало его спутников — Джемисона, его помощника мистера Хартли и лакея Фредериксона, — они думали, что Каупервуд просто отдыхает. Но к вечеру он попросил Джемисона вызвать судового врача: что-то ему нехорошо. Доктор Кэмден, осмотрев больного, заявил, что положение серьезное, да и температура — 39,7; надо известить его личного врача, пусть встречает утром пароход с каретой скорой помощи. Услышав это, Джемисон на собственный страх и риск телеграфировал Эйлин, что муж ее очень болен, что его надо будет увезти с парохода в карете скорой помощи, и просил указаний — как быть дальше. Эйлин тотчас ответила, что дом мистера Каупервуда сейчас переделывается, расширяется картинная галерея, всюду невообразимый шум и беспорядок; поэтому самое правильное — отвезти мистера Каупервуда в отель «Уолдорф-Астория», где можно будет обеспечить ему должный уход и где ему несомненно будет удобнее. Когда доктор Кэмден впрыснул Каупервуду морфий и ему стало немного легче, Джемисон прочел вслух телеграмму Эйлин. — Да, так будет лучше, — слабым голосом согласился Каупервуд, — закажите для меня номер. Рухнули все его планы, и о чем бы он ни думал — все вызывало в нем чувство безграничной усталости. Что-то будет с его домом! С картинной галереей! А больница, которую он собирался основать! И ведь он хотел вернуться в Лондон, к своим делам, к постройке метрополитена! Но нет, довольно-он не хочет больше думать ни о чем и ни о ком, кроме Беренис. Так он пролежал до утра, когда пароход вошел в нью-йоркский порт и стал пришвартовываться. По царившему вокруг шуму, грохоту и движению Каупервуд понял, что путешествие окончено. Тем временем доктор Джемс, наняв лодку, подъехал к борту «Императрицы», все еще стоявшей на дальнем рейде, и, расспросив доктора Кэмдена и Джемисона об их дальнейших планах, направился в каюту Каупервуда. — Здравствуйте, Фрэнк! Вот и я! — провозгласил он с порога. — Ну, как вы себя чувствуете? Вот увидите: все сразу пройдет, как только я дам вам нужное лекарство. И извольте ни о чем не тревожиться. Предоставьте уж все мне, своему сподвижнику по Монте-Карло. — Я знал, что если вы придете. Джефф, — слабым голосом сказал Каупервуд, — все будет в порядке. И он благодарно сжал руку врача. — Мы решили перевезти вас в «Уолдорф» в карете скорой помощи, — продолжал Джемс. — Вы ведь не возражаете? Право, так будет лучше: вы легче перенесете поездку, вот увидите. — Я не возражаю, — отвечал Каупервуд. — Но только постарайтесь оградить меня от репортеров — хотя бы, пока я не устроюсь в отеле. Я не уверен, что Джемисон сумеет справиться с ними. — Предоставьте это мне, Фрэнк. Я обо всем позабочусь. Для вас сейчас главное — лежать и молчать. Я приеду попозже, тогда и поговорим. А сейчас пойду займусь делами. В эту минуту вошел Джемисон. — Идемте, Джемисон, — сказал Джемс. — Прежде всего нам надо повидать капитана. И они вместе вышли из каюты. Через три четверти часа карете скорой помощи, ожидавшей неподалеку от порта, было приказано дать задний ход и подъехать к выходу N4, где было так пустынно, словно все уже сошли на берег и на судне не осталось ни одного пассажира. Два санитара с полотняными носилками проследовали за Джемисоном в каюту Каупервуда и перенесли его в карету. Дверцы захлопнулись, шофер позвонил в гонг, и автомобиль помчался; в кучке репортеров, стоявших поблизости, раздались удивленные восклицания: — Что это значит? Ловко же нас провели! Кто бы это мог быть? Попытка узнать, кто же это так серьезно болен, что пришлось вызывать карету скорой помощи, ни к чему не привела; тогда один из репортеров вспомнил, что у него есть на пароходе знакомая сиделка, и вскоре принес потрясающую новость: неизвестный больной — не кто иной, как Фрэнк Алджернон Каупервуд, знаменитый финансист. Но чем он болен? И куда его отвезли? Кто-то предложил узнать это у миссис Каупервуд, и тотчас несколько человек бросились к ближайшему телефону, чтобы расспросить Эйлин, правда ли, что ее мужа увезли с «Императрицы» в карете скорой помощи, и если да, то где он теперь. Это верно, ответила она, он болен и его, разумеется, отвезли бы в особняк на Пятой авеню, но дело в том, что особняк сейчас перестраивается, — ведь он должен будет вместить богатейшую коллекцию живописи и скульптуры, которая все еще пополняется и со временем станет собственностью города Нью-Йорка. А пока что мистер Каупервуд пожелал поселиться в «Уолдорф-Астории» — там ему будет обеспечен должный уход и покой, чего ему нельзя сейчас предоставить дома. И вот к часу дня все газеты уже пестрели сообщениями о прибытии Каупервуда, его болезни и о том, где он находится; однако доктор Джемс распорядился, чтобы без его письменного разрешения к Каупервуду не пропускали ни одного посетителя, — три сиделки были обязаны следить за этим. Меж тем Каупервуд, понимая, что до Беренис могут дойти тревожные вести о его болезни, попросил доктора Джемса послать ей на пароход — она все еще находилась в пути — следующую телеграмму:«Сообщения о моей болезни крайне преувеличены. Поступай, как условились. Нахожусь на попечении доктора Джемса. Он скажет, что тебе делать»Вести были невеселые, но все же Беренис несколько утешило, что Каупервуд был в состоянии телеграфировать, чтобы успокоить ее. Но что с ним, неужели болезнь обострилась? Во всяком случае, как бы это ни кончилось, ее место — рядом с ним. Однако под вечер, проходя через салон, она увидела на доске для сообщений известие, которое потрясло и испугало ее:Любящий тебя Фрэнк.
«Знаменитый американский финансист и железнодорожный магнат, владелец лондонской подземки, Фрэнк Каупервуд внезапно заболел на борту парохода «Императрица» и по прибытии в Нью-Йорк отвезен в отель «Уолдорф-Астория»».Ошеломленная, расстроенная холодными словами газетного сообщения, Беренис все же облегченно вздохнула, узнав, что Каупервуд в отеле, а не у себя дома. Ей ведь приготовлен там номер, так что она будет хотя бы поблизости. Правда, не исключено, что она может столкнуться там с Эйлин, — это было бы тягостно не только ей, но и Каупервуду. Да, но он просил, чтобы она не отступала от прежних планов и остановилась в отеле, — значит, он что-то придумал. Однако в какое двусмысленное положение она себя ставит! Как это не похоже на уединение Прайорс-Кова, где можно было не опасаться сплетен и пересудов! А хватит ли у нее решимости и сил, чтобы пройти через такое испытание? И все же, как это ни трудно, как ни опасно, она должна быть рядом с ним, а там будь что будет. Он нуждается в ней, и она должна прийти ему на помощь. Приняв это решение, Беренис, как только пароход пристал на следующее утро к берегу и таможенники осмотрели ее багаж, тотчас отправилась в отель «Уолдорф-Астория» и преспокойно зарегистрировалась под именем Кэтрин Трент. Но оставшись одна в своем номере, она призадумалась. Как все сложно и запутано! Что же теперь делать? Эйлин, наверно, уже у него. Ее размышления были прерваны телефонным звонком: доктор Джемс сообщил, что Каупервуд хочет ее видеть, он находится в номере 1020. Беренис от души поблагодарила и сказала, что сейчас придет. Доктор Джемс добавил, что хотя Каупервуду пока и не грозит особой опасности, он все же приказал никого к нему не пускать в течение нескольких дней — никого, кроме Беренис; больному прежде всего необходим отдых и покой. В номере 1020 Беренис тотчас провели к Каупервуду; он полулежал, весь обложенный подушками, очень бледный, с каким-то отсутствующим видом, но, едва вошла Беренис, лицо его оживилось. Она наклонилась и поцеловала его. — Дорогой мой! Какое несчастье! Я так боялась, что это путешествие окажется тебе не под силу. И меня не было с тобой! Но доктор Джемс уверяет, что это не опасно. Помнишь, ты ведь быстро оправился после первого приступа; уж конечно, если как следует за тобой ухаживать, ты и на этот раз скоро поправишься. Ах, если б только я могла быть все время с тобой! Я бы тебя очень скоро поставила на ноги! — Но, Беви, дорогая, — заметил Каупервуд, — уже от одного того, что я смотрю на тебя, мне становится лучше. Конечно, мы устроим так, чтоб ты бывала у меня. Правда, обо мне сейчас слишком много кричат в газетах, и чем меньше это тебя коснется, тем легче у меня будет на душе. Но я объяснил Джеффу, в чем дело, он все понимает и сочувствует нам. Больше того — он будет сообщать тебе, когда можно меня навестить. Ты ведь знаешь, тебе надо избегать только одного человека. Но ты будешь держать постоянную связь с доктором Джемсом; я думаю, все обойдется благополучно, пока я здесь. Я уверен, все будет в порядке. — Какой ты у меня мужественный, мой Фрэнк. Ты же знаешь, я согласна на все, лишь бы находиться подле тебя. Я буду как можно осмотрительнее и осторожнее. А пока — я люблю тебя и буду все время за тебя молиться. Она наклонилась и снова поцеловала его.
Глава 67
Сообщение о внезапной тяжелой болезни Каупервуда, появившееся прежде всего в местных нью-йоркских газетах, выросло чуть ли не в международную сенсацию. Это событие затрагивало интересы и капиталовложения тысяч людей, не говоря уже о банках и банкирах. На следующий же день корреспонденты крупнейших газет Англии, Франции и всех стран Европы, через агентства Юнайтед Пресс и Ассошиэйтед Пресс, не только проинтервьюировали Джемисона и доктора Джемса, но и обратились к известным американским финансистам с вопросом — каковы могут быть последствия смерти Каупервуда. Некоторые акционеры проявляли столько беспокойства, высказывали столько опасений, что многим директорам лондонской подземки пришлось выступить с заявлениями по поводу болезни Каупервуда и ее значения для дела. Например, передавали, что мистер Лике, занимавший в то время пост председателя правления Районной дороги и слывший доверенным человеком Каупервуда, сказал, что «все необходимые меры на случай болезни мистера Каупервуда и появления каких-либо затруднений в делах приняты давным-давно. В совете директоров метрополитена по всем вопросам существует полное согласие. У огромной системы подземных железных дорог — блестящее будущее, в нашем предприятии нет и следа смятения или беспорядка». А некто Уильям Эдмундс, директор лондонской компании по строительству железнодорожного оборудования и прокладке дорог, заявил: «Все идет как по маслу. Дело поставлено настолько хорошо, что болезнь или временное отсутствие мистера Каупервуда не могут на нем отразиться». Лорд Стэйн сказал:«Строительство подземных дорог идет как нельзя лучше; мистер Каупервуд с самого начала так поставил дело, что, хотя он сейчас и вынужден временно отстраниться от управления им, это не вызовет никаких серьезных осложнений. Мистер Каупервуд слишком крупный организатор, чтобы ставить работу целого огромного предприятия в зависимость от какого-либо одного человека. Но, разумеется, мы надеемся, что он скоро выздоровеет и вернется к делам, — его присутствие нам всегда желательно». Хотя доктор Джемс и пытался оградить Каупервуда от всех этих пересудов, однако кое-кого ему все же пришлось допустить к больному, и это были люди, которых он не мог заставить молчать: дочь Каупервуда Лилиан и его сын Фрэнк Каупервуд-младший — он не видел их обоих много лет. Из разговора с ними Каупервуд узнал, как относится публика к его болезни, и нельзя сказать, чтобы это не польстило ему. Вслед за детьми пришла Эйлин; она не на шутку встревожилась — таким слабым и больным выглядел Каупервуд, так плохо он себя чувствовал. Доктор Джемс настоятельно просил Эйлин не говорить пока с больным ни о каких делах, хотя бы и неотложных; она послушно согласилась, и ее первый визит был очень коротким. После ухода Эйлин Каупервуд волей-неволей задумался над различными практическими и финансовыми проблемами, возникшими в связи с его болезнью, — надо как-то их решить, а удастся ли? В частности, нужно подобрать себе заместителя — ведь сам он, разумеется, должен будет временно устраниться от дел. Естественно, первая мысль Каупервуда была о Стэйне; но нет, Стэйн не подходит, у него и так слишком много разнообразных и серьезных обязанностей. Есть еще такой Гораций Олбертсон, президент Электро-транспортной компании в Сент-Луисе и один из самых способных в Америке железнодорожных дельцов, — с ним Каупервуд не раз встречался на финансовом поприще. Вот Олбертсон, пожалуй, самый подходящий человек, на него можно положиться в такой критический момент. И Каупервуд немедленно поручил Джемисону съездить в Сент-Луис и повидаться с Олбертсоном: надо изложить ему суть дела, и пусть он сам назначит, какое ему нужно вознаграждение. Однако Олбертсон отклонил предложение: он, конечно, очень польщен, но у него с каждым днем прибавляется забот, и он не может сейчас даже и подумать о том, чтобы расстаться с Америкой. Каупервуд был разочарован, но он мог понять и оправдать отказ Олбертсона. Впрочем, через некоторое время вопрос этот решился: Стэйн и директора лондонского метрополитена телеграммой известили его о том, что они поручили сэру Хэмфри Бэббсу, которого Каупервуд хорошо знал, временно занять его место и возглавить дело. Пришло и еще несколько телеграмм от лондонских компаньонов Каупервуда, в том числе от Элверсона Джонсона, — все они выражали свое величайшее сожаление по поводу его болезни и горячо желали ему скорее выздороветь и возвратиться в Лондон. Но несмотря на все их любезности, Каупервуд не мог не тревожиться: дела его принимали сложный и даже зловещий оборот. Прежде всего, Беренис — его нежная и преданная возлюбленная — рискует очень многим ради того, чтобы изредка — поздно вечером или рано утром — потихоньку навещать его при содействии доктора Джемса. И Эйлин… ох, уж эта Эйлин, с ее необъяснимыми странностями и причудами и полным непониманием жизни — она тоже время от времени навещает его и не подозревая, что Беренис совсем рядом, здесь же в отеле. Да, надо собраться с силами, надо выжить… Но как ни старайся, а земля уходит из-под ног. Ощущение это было настолько явственным, что однажды, оставшись наедине с доктором Джемсом, Каупервуд заговорил об этом: — Послушайте, Джефф, я болен уже около месяца, а мне ничуть не лучше. — Бросьте, Фрэнк, — поспешно перебил доктор Джемс, — не надо так говорить. Вы должны поправиться, только надо как следует постараться. Ведь бывали у меня пациенты не в лучшем положении, чем вы, — и ничего, выздоравливали. — Знаю, мой друг, — сказал Каупервуд, — и вы, разумеется, хотите подбодрить меня. Но только мне почему-то кажется, что я не встану. Так что вы, пожалуйста, позвоните Эйлин и попросите ее зайти ко мне: нам надо с ней поговорить о доме, об имуществе. Я уже и раньше думал об этом, но сейчас чувствую, что больше откладывать не стоит. — Как хотите, Фрэнк, — сказал Джемс. — Только выбросьте из головы, что вы не поправитесь. Так не годится. Я-то ведь другого мнения. Окажите мне такую услугу: попробуйте поверять, что вы выздоровеете. — Попробую, Джефф, только вызовите Эйлин, хорошо? — Ну, конечно, Фрэнк, но помните: вам нельзя говорить слишком долго! И Джемс, вернувшись к себе, позвонил Эйлин и попросил ее зайти к мужу. — Не могли бы вы прийти сегодня, скажем, часа в три? — спросил он ее. Она помедлила минуту, потом ответила: — Да, конечно, доктор Джемс. И она пришла почти в назначенный срок, взволнованная, удивленная и огорченная. При виде ее Каупервудом овладело знакомое ощущение усталости, которое он уже не раз испытывал за эти годы, — усталости не столько физической, сколько моральной. Как не хватало всегда Эйлин душевной тонкости — редкого качества, отличающего вот таких женщин, как Беренис! И все же Эйлин — его жена, и он должен позаботиться о ней, отнестись к ней с уважением, ведь она была так добра, так предана ему в те времена, когда он больше всего в этом нуждался. Воспоминания смягчили его, и когда Эйлин подошла к его постели, чтобы поздороваться, он ласково взял ее за руку. — Как ты себя чувствуешь, Фрэнк? — спросила она. — Что ж, Эйлин, я здесь уже целый месяц, а силы у меня все убывают, хотя, по мнению доктора, дела мои не так плохи. Нам давно надо было поговорить, вот я и решил послать за тобой. Но, может быть, ты сначала расскажешь мне, как там перестраивается дом? — Да, кое о чем надо бы посоветоваться, — с заминкой сказала Эйлин. — Но, по-моему, все это может подождать, пока тебе не станет лучше, как ты думаешь? — Ну, видишь ли, мне едва ли когда-нибудь станет лучше. Вот почему я хотел видеть тебя сегодня же, — мягко сказал Каупервуд. Эйлин промолчала, не зная, что ответить. — Видишь ли. Эйлин, — продолжал он, — почти все мое имущество переходит к тебе, хотя я не забыл в завещании и о других, в частности о своем сыне и о дочери. Но все заботы об имуществе падут на тебя. А ведь это не шутка, ты будешь распоряжаться огромными деньгами. Вот я и хочу знать, как ты сама считаешь — справишься ты? И скажи мне, выполнишь ли ты в точности все, что сказано в моем завещании? — Да, конечно, Фрэнк, я сделаю все, что ты скажешь. Он вздохнул с чувством внутреннего облегчения и продолжал: — По завещанию я предоставляю тебе полное право бесконтрольного владения имуществом, но именно поэтому я хочу предостеречь тебя: никому нельзя слишком верить. Как только меня не станет, тебя, разумеется, начнут осаждать всякие прожектеры и просители, будут вытягивать у тебя деньги на одно, на другое, на третье, будут добиваться, чтобы ты жертвовала в пользу разных благотворительных учреждений. Правда, я принял меры, чтобы оберечь свое имущество, — душеприказчики ничего не смогут предпринять без твоего ведома и одобрения, а уж ты суди и решай, какой план принять, а какой — отвергнуть. Один из моих душеприказчиков — доктор Джемс, на его суждение я вполне могу положиться. Он не только опытный медик, он человек добрый и глубоко порядочный. Я сказал ему, что тебе потребуется советчик, и он обещал во всем тебе помогать, насколько хватит опыта и умения. Помни, это человек на редкость верный и честный: я сказал, что оставлю ему кое-какие деньги в благодарность за все, что он для меня сделал, — и, представь, он отказался наотрез, хотя и согласился быть твоим советчиком. Так вот, если ты когда-нибудь попадешь в затруднительное положение и не будешь знать, как поступить, прежде всего обратись к нему и послушай, что он тебе скажет. — Да, Фрэнк, я все сделаю, как ты говоришь. Раз ты веришь ему, то и я, конечно, буду верить. — Должен сказать, — продолжал Каупервуд, — что в моем завещании имеются особые пункты, ими ты займешься, когда все наследники получат свою долю. Прежде всего, надо довести до конца перестройку моей картинной галереи и позаботиться о ее сохранности. Наш дворец пусть будет музеем, открытым для публики. Я оставляю достаточно денег на его содержание, и ты должна будешь следить за тем, чтобы он всегда был в порядке. Право, не знаю, Эйлин, понимала ли ты когда-нибудь, как много значил для меня этот дом. Сколько больших замыслов, которым я отдал свою жизнь, родилось в нем. Когда я строил его, покупал для него картины и статуи, я пытался внести в мою и твою жизнь частицу той красоты, что не имеет ничего общего с городской суетой и бизнесом. Слушая Каупервуда, Эйлин, пожалуй, впервые хотя бы отчасти поняла, как все это важно для него, и снова пообещала выполнить в точности все его пожелания. — Еще одно, — продолжал он. — Ты знаешь, я уже давно хотел построить больницу. Для нее вовсе не обязательно покупать роскошный участок, — достаточно выбрать место поудобнее в районе Бронкс, я так и пишу в завещании. Это будет больница для бедных, а не для тех, у кого есть средства, чтобы устроиться получше, — и пусть в нее принимают всех, независимо от расы, вероисповедания или цвета кожи. Он помолчал, переводя дух, — молчала и Эйлин. — И еще одно, Эйлин. Я не говорил тебе об этом до сих пор, потому что не знал, как ты это примешь. Я начал строить склеп на Гринвудском кладбище, он уже почти готов, — это отличная копия древнегреческой гробницы. В нем два бронзовых саркофага — один для меня, а другой для тебя, если ты захочешь, чтобы тебя там похоронили. При этих словах ей стало не по себе, и она невольно поежилась: он говорил о своей близкой смерти так же спокойно и деловито, как о постройке железной дороги. — Ты говоришь, на Гринвудском кладбище? — спросила она. — Да, — торжественно отвечал Каупервуд. — И этот склеп уже почти готов? — Меня можно будет похоронить там, если я умру в ближайшие дни. — Право, Фрэнк, ты самый странный человек на свете! Что это ты вздумал строить самому себе склеп, — и мне заодно, — как будто ты уж так уверен, что не выживешь… — Но ведь этот склеп простоит тысячу лет, Эйлин, — сказал Каупервуд, слегка повысив голос. — Все мы когда-нибудь умрем, так почему бы тебе не быть и после смерти рядом со мной, — разумеется, если ты не против. Она не ответила. — Ну вот и все, — закончил он, — по-моему, нас обоих должны похоронить в этом склепе, раз уж он для того построен. Впрочем, если ты не хочешь… Но тут Эйлин прервала его. — Ох, Фрэнк, не будем сейчас об этом говорить. Раз ты хочешь, чтоб меня там похоронили, так и будет, ты же знаешь… — И голос ее дрогнул от еле сдерживаемого рыдания. В эту минуту открылась дверь, и доктор Джемс сказал, что больному не следует так много разговаривать; она может навестить его и в другой раз, только надо будет предварительно позвонить. Эйлин, сидевшая у постели Каупервуда, тотчас поднялась и взяла его за руку. — Завтра я опять приду, Фрэнк, хоть ненадолго, — сказала она, — если тебе что-нибудь понадобится, попроси доктора Джемса позвонить мне. Только поправляйся, Фрэнк. Ты должен поправиться, должен в это верить. Ведь ты еще столько хотел сделать. Постарайся… — Ну хорошо, хорошо, дорогая, я постараюсь, — ответил Каупервуд и, помахав ей рукой, прибавил: — До завтра!
Эйлин повернулась и вышла в коридор. Она направилась к лифтам, невесело раздумывая о своем разговоре с Каупервудом, как вдруг из лифта вышла женщина. Эйлин в изумлении воззрилась на нее — это была Беренис. На несколько секунд обе оцепенели, потом Беренис пересекла холл, открыла дверь и исчезла на лестнице, ведущей в нижний этаж. Эйлин, не помня себя, повернула было назад, к номеру Каупервуда, но вдруг передумала и направилась обратно к лифтам. Но тут же остановилась и замерла на месте. Беренис! Значит, она в Нью-Йорке, и, очевидно, это Каупервуд ее вызвал. Ну, конечно же! А он-то притворяется, что умирает. Неужели вероломству этого человека не будет границ?.. И он еще просил ее прийти завтра! И толковал о склепе, где она будет погребена рядом с ним! С ним! Нет, хватит! Больше она не желает его видеть, — пусть ее вызывают к нему хоть тысячу раз в день! Она прикажет слугам не отвечать на звонки, если будет звонить ее муж, или этот его сообщник — доктор Джемс, или кто-либо по их поручению! Когда Эйлин вошла в лифт, в ее душе бушевала буря, ярость клокотала, словно волны морские. Она расскажет газетам об этом негодяе — о том, как он оскорбляет и унижает жену, которая столько для него сделала! Она ему еще отплатит! Очутившись на улице, Эйлин бросилась в такси. — Все равно куда — только скорее! — кинула она шоферу и принялась перебирать про себя, точно четки невиданной длины, все беды, какие она только могла придумать, чтобы обрушить их на Каупервуда! Так она ехала все дальше, дрожа от ярости, которая словно электрический ток устремлялась туда — к Беренис.
Глава 68
А тем временем Беренис добралась до своей комнаты, опустилась на стул и замерла, точно одеревенев. Она не в силах была даже думать, так ей было страшно за Каупервуда и за себя. А вдруг Эйлин вернется к нему в номер, что с ним будет, ведь он теперь так слаб! Это может убить его! И как ужасно, что она, Беренис, ничего не может для него сделать! Но вот что: можно пойти к доктору Джемсу и посоветоваться с ним, как успокоить Эйлин, — ведь в порыве мстительной злобы она на все способна. Но страх снова столкнуться с Эйлин удержал Беренис. А вдруг она в холле или даже у доктора Джемса! Однако ждать становилось все невыносимее, и тут Беренис осенило: она подошла к телефону и позвонила Джемсу. К ее величайшему облегчению он сразу отозвался. — Доктор Джемс, — начала она запинаясь, — это я, Беренис. Я вас очень прошу, может быть вы зайдете ко мне сейчас же. Случилось нечто ужасное, мне надо поговорить с вами, я просто вне себя! — Ну, разумеется, Беренис. Сейчас иду, — ответил он. Тогда она добавила совсем уже дрожащим голосом: — Только осторожней. Вдруг вы встретите в холле миссис Каупервуд… я боюсь, она придет сюда за вами. Голос ее оборвался, и Джемс, почуяв неладное, повесил трубку, схватил свой лекарский чемоданчик и поспешил к ее номеру. В ответ на его стук за дверью послышался шепот Беренис: — Доктор, вы один? И лишь после того как он уверил ее, что пришел один, она отперла дверь. — Что случилось, Беренис? Что все это значит? — почти резко спросил Джемс, вглядываясь в ее побелевшее лицо. — Отчего вы так напуганы? — Сама не знаю, доктор. — Она вся дрожала от страха. — Это все миссис Каупервуд. Я видела ее здесь в холле, когда возвращалась к себе, и она меня видела. У нее было такое взбешенное лицо, что я боюсь за Фрэнка. Вы не знаете, она не видела его после того, как я ушла? Вдруг она вернулась к нему в номер? — Ну, разумеется, нет, — сказал Джемс. — Я только что оттуда. Фрэнк цел и невредим и ничего с ним не случилось. Но вот что, — он вынул из своего чемоданчика несколько маленьких белых пилюль и подал одну Беренис. — Примите-ка это и посидите несколько минут молча. Это успокоит ваши нервы, и потом вы мне все расскажите. Он подошел к кушетке и знаком пригласил Беренис сесть рядом. Постепенно она стала успокаиваться. — Теперь послушайте меня, Беренис, — вновь заговорил Джемс. — Я знаю, ваше положение здесь не из легких. Я знал это с тех пор, как вы сюда приехали, но почему вы именно сейчас так встревожились? Неужели вы думаете, что миссис Каупервуд может накинуться на вас? — О нет, я боюсь не за себя, — отвечала она уже спокойнее. — Я за Фрэнка очень боюсь. Ведь он сейчас такой больной, такой слабый и беспомощный. Вдруг она скажет или сделает что-нибудь ужасное, ранит его так больно, что ему и жить больше не захочется. А ведь он так терпимо, так хорошо относился к ней. И как раз сейчас ему так нужна любовь, а не ненависть, он столько для нее сделал, а она готова бог знает на что… она может так оскорбить его, что с ним будет новый припадок. Он много раз говорил мне, что она, когда ревнует, теряет всякую власть над собой. — Да, я знаю, — сказал Джемс. — Каупервуд — большой человек, но женился он очень неудачно, и, говоря откровенно, я все время опасался какого-нибудь скандала. Я считал, что вы поступаете безрассудно, живя в одном отеле. Но любовь — могучая сила, а я еще в Англии видел, как вы любите друг друга. К тому же я знал, да и не я один, что его отношения с миссис Каупервуд оставляют желать лучшего. Кстати, вы говорили с ней? — Нет, ни слова, — ответила Беренис. — Я просто увидела ее, выходя из лифта, а она, как только узнала меня, пришла в бешенство — меня даже в дрожь бросило, такое у нее было злое лицо. Я подумала, что она способна сделать что-нибудь отчаянное, непоправимое. Кроме того, я боялась, как бы она сейчас же не вернулась к Фрэнку. Доктор Джемс посоветовал Беренис не выходить, пока буря не уляжется, — он даст ей знать, как идут дела. А главное, пусть она ни слова не говорит о случившемся Каупервуду, когда увидит его. Фрэнк слишком серьезно болен, ему не по силам такие волнения. Сам же он, терпеливо продолжал Джемс, примет на себя гнев миссис Каупервуд и позвонит ей: надо попытаться выяснить, что она намерена делать, не собирается ли поднять шум. На этом он распростился с Беренис и отправился к себе, чтобы как следует все обдумать. Однако, прежде чем Джемс успел вызвать Эйлин по телефону, к нему вошла сиделка и попросила взглянуть на мистера Каупервуда: он что-то беспокойнее обычного. Доктор Джемс тотчас последовал за нею. В самом деле, Каупервуд то и дело ворочался с боку на бок, точно ему было неудобно лежать. Джемс спросил, как прошла его встреча с Эйлин, и Каупервуд устало ответил: — Да, по-моему, неплохо. Во всяком случае я переговорил с нею обо всех наиболее важных делах. Но знаете, Джемс, я почему-то очень устал. Я совсем выдохся — разговор был длинный… — Так я и знал. В следующий раз не говорите так долго. А теперь вот вам, примите-ка. Это поможет вам успокоиться и отдохнуть немножко. — И доктор Джемс протянул Каупервуду стакан воды и порошок. — Ну, вот и хорошо, — сказал Джемс, когда Каупервуд проглотил порошок. — Я загляну к вам попозже, днем. Затем он вернулся к себе и позвонил Эйлин, которая уже была дома. Услышав от горничной его имя, она тотчас подошла к телефону. Джемс самым любезным тоном сказал ей, что хочет узнать, как прошла ее встреча с мужем, и спросил, не может ли он быть ей чем-нибудь полезен. — Да, доктор Джемс, — громко, со злостью заговорила Эйлин, — вы можете оказать мне большую услугу: потрудитесь больше не звонить мне! Я только сейчас узнала, что здесь происходило между моим, с позволения сказать, мужем и мисс Флеминг. Я знаю, она жила с ним в Лондоне и живет с ним сейчас у вас на глазах, и, как видно, не без вашего благосклонного содействия! И вы еще спрашиваете, довольна ли я встречей с ним! А эта женщина прячется здесь же в отеле! Ничего более гнусного я в жизни своей не слышала! Я уверена, публике будет очень интересно услышать об этой истории. И она услышит — помяните мое слово! — И голосом, срывающимся от бешенства. Эйлин добавила: — А еще доктор! Доктор должен заботиться о соблюдении приличий, а вы… Тут Джемсу, почувствовавшему, что Эйлин разъярена и уже не владеет собой, удалось прервать ее. — Миссис Каупервуд, — сказал он спокойно, но веско, — я попросил бы вас не бросать огульных обвинений. Я в данном случае выступаю как врач, а не как судья, не мое дело разбираться в положении, которое создалось без моего участия. И вы не имеете права упрекать меня в том, что я поступил так, а не иначе — для этого вы меня слишком мало знаете. Можете мне верить или не верить, но ваш муж серьезно болен, очень серьезно, и вы сделаете величайшую ошибку, если дадите газетам пищу для скандальной шумихи. Вы повредите этим себе в тысячу раз больше, чем ему или кому-либо, кто ему близок. Не забудьте, у вашего мужа есть не только могущественные друзья, но и почитатели. Все, что вы скажете или сделаете во вред ему, встретит у них резкий отпор, — они встанут на его защиту. Если он умрет, а это вполне возможно… что ж, судите сами, как будет оценен тогда публичный выпад, который вы задумали. Эта отповедь напомнила Эйлин о ее собственных грешках, притом совсем недавних, и в голосе ее было уже меньше азарта, когда она сказала: — Я не желаю обсуждать свои личные дела с вами или с кем бы то ни было еще, доктор Джемс. Поэтому будьте любезны не звонить мне: я не хочу ничего знать о мистере Каупервуде, что бы там ни случилось. У вас есть мисс Флеминг, вот пускай она и ухаживает за моим мужем и ублажает его. Пусть она заботится о нем, а мне, пожалуйста, не звоните. Я устала, мне надоело — будь оно проклято, мое замужество. И это мое последнее слово, доктор Джемс. В телефоне щелкнуло — Эйлин повесила трубку. Когда доктор Джемс отошел от аппарата, на лице его была еле заметная усмешка. За долгие годы практики ему не раз приходилось иметь дело с истеричками, и он знал, что с тех пор как Эйлин столкнулась с Беренис, гнев ее успел улечься. Ведь в конце-то концов для нее это все не ново. К тому же, разумеется, самолюбие не позволит ей затеять публичный скандал. Она не делала этого в прошлом, не станет делать и сейчас. Успокоившись на этот счет, доктор отправился к Беренис, чтобы обо всем рассказать ей; она встретила его по-прежнему взволнованная, горя нетерпением узнать, что произошло. Джемс, улыбаясь, уверил Беренис, что Эйлин только грозится и кричит, но страшного ничего не сделает. Правда, она угрожала и ему, и Каупервуду, и Беренис, но, несомненно, гнев ее уже остыл и каких-либо безрассудных выходок от нее вряд ли можно ожидать. А сейчас, поскольку Эйлин заявила, что не намерена больше встречаться с мужем, он считает своим долгом просить Беренис взять на себя уход за больным, — они попытаются вдвоем вырвать Каупервуда у смерти. Она могла бы дежурить возле него вечерами, с четырех до двенадцати. — Прекрасно! — воскликнула Беренис. — Я буду так рада сделать все, все, чтобы помочь ему, — все, что в моих силах! Он должен жить, доктор! Он должен поправиться, чтобы осуществить все, что задумал! И мы должны помочь ему. — Я вам очень признателен, — сказал Джемс. — Я знаю, он горячо любит вас, и ему, конечно, станет гораздо лучше, если вы будете при нем. — Что вы, доктор! Это я глубоко признательна вам! — воскликнула Беренис, в порыве благодарности сжимая его руки в своих.Глава 69
Пытаясь внушить Эйлин, какое огромное значение имеет богатство, которое перейдет к ней после его смерти, и как необходимо ей уметь практически разбираться в проблемах, с которыми она, очевидно, столкнется в качестве его душеприказчицы, Каупервуд рассчитывал встретить и нежность и понимание. Однако после разговора с ней он почувствовал, что его старанья напрасны. Она даже не отдает себе отчета в том, как важно все это и для него, и для нее самой. Ведь она совсем не умеет разбираться в характерах и намерениях людей, а раз так, где же гарантия, что, когда его не станет, все его желания и замыслы, изложенные в завещании, будут осуществлены? И эта мысль, вместо того чтобы укрепить в нем жажду жизни, совсем обескуражила его. Он почувствовал усталость, даже скуку и мысленно задавал себе вопрос: да стоит ли жить? Подумать только, как странно: прожили они вместе больше тридцати лет — и почти непрерывно ссорились! Вначале, когда Эйлин было семнадцать, а ему двадцать семь, он восхищался ею и был влюблен без памяти; немного позже он обнаружил, что эта красивая, цветущая женщина недостаточно умна и чутка: она не понимала, не ценила ни его способностей, ни положения в финансовом мире, а в то же время считала, что он — ее неотъемлемая собственность и не смеет даже взглянуть на кого-либо, кроме нее. И однако, несмотря на все бури, возникавшие всякий раз, когда он хоть немного увлекался кем-нибудь другим, они по-прежнему вместе, и Эйлин после стольких лет все так же плохо знает его, так же мало ценит те качества, которые постепенно привели его к нынешнему богатству. И вот он, наконец, встретил женщину, которая заставила его особенно остро почувствовать вкус к жизни. Он нашел Беренис, а она нашла его. Они помогли друг другу понять самих себя. Чудодейственная любовь была в голосе Беренис, в ее глазах, словах, движениях. Вот она склоняется к нему, и он слышит: — Дорогой мой! Любимый! Наша любовь не на один день, она навеки. Она будет жить в тебе, где бы ты ни был, и будет жить во мне. Мы не забудем этого. Отдыхай, милый, не тревожься ни о чем. Размышления Каупервуда прервала Беренис, — она вошла к нему в белой одежде сестры милосердия. Услышав знакомый голос, он вздрогнул и устремил на нее немигающий взгляд, точно не вполне понимая, кто перед ним. Этот костюм так удачно оттенял ее удивительную красоту. С усилием он поднял голову и, преодолевая слабость, воскликнул: — Это ты! Афродита! Богиня морская! Как ты светла! Она наклонилась и поцеловала его. — Богиня! — прошептал он. — Какие золотые у тебя волосы! Какие синие глаза! — И, крепче сжав ее руку, он притянул ее к себе. — Ты теперь со мною, моя! Так ты манила меня тогда, у голубого Эгейского моря! — Фрэнк, Фрэнк! Если б я могла быть твоей богиней всю жизнь, всегда! Она поняла, что он бредит, и пыталась успокоить его. — Какая у тебя улыбка… — невнятно продолжал Каупервуд. — Улыбнись мне еще раз. Точно луч солнца. Подержи мои руки в своих, моя Афродита — пенорожденная! Беренис присела на край постели и тихо заплакала. — Афродита, не покидай меня! Ты так нужна мне! — И он порывисто припал к ней. В эту минуту вошел доктор Джемс и, заметив, в каком состоянии Каупервуд, тотчас подошел к нему. Потом он окинул внимательным взглядом Беренис. — Вы должны гордиться, дорогая! — сказал он. — Такой гигант нуждается в вас. Но оставьте нас вдвоем минуты на две. Мне нужно восстановить его силы. Мы не дадим ему умереть. Она вышла из комнаты, а доктор тем временем дал больному подкрепляющее лекарство. Через несколько минут Каупервуд перестал бредить и пришел в себя. — Где Беренис? — спросил он. — Она скоро придет, Фрэнк, но сейчас для вас главное — отдых и покой, — сказал Джемс. Однако Беренис, услышав, что больной зовет ее, вошла и в ожидании присела на низенький стульчик у его постели. Немного спустя он открыл глаза. — Знаешь, Беренис, — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор, — очень важно сохранить дворец как он есть, — пусть он остается хранилищем для моих картин и скульптур. — Да, знаю, Фрэнк, — мягко и участливо ответила Беренис. — Ты ведь всегда так любил его. — Да, всегда любил. Едва сойдешь с асфальта Пятой авеню, переступишь порог — и ты уже в пальмовом саду. Бродишь среди цветов и растений, присядешь — рядом плещет вода, журчат струйки, стекая в маленький пруд — и слушаешь, точно музыку, будто это звенит ручеек в зеленой прохладе леса. — Знаю, милый, знаю, — шепнула Беренис. — Но сейчас ты должен отдохнуть. Я буду здесь, с тобой рядом, даже когда ты будешь спать. Теперь я твоя сиделка. Позже в тот вечер, да и во все последующие вечера, ухаживая за больным, Беренис с удивлением убеждалась, что он все еще не утратил интереса к делам, которыми был уже не в состоянии заниматься. То он заговаривал о картинной галерее, то о метрополитене, то о больнице. Хотя ни Беренис, ни доктор Джемс не подозревали этого, Каупервуду оставалось жить всего несколько дней. И все же в присутствии Беренис он становился бодрее, но, поговорив минуты две-три, неизменно уставал и его клонило ко сну. — Пусть спит как можно больше, бережет силы, — сказал доктор Джемс. Эти слова совсем обескуражили Беренис. Она робко спросила, нельзя ли что-нибудь еще попробовать, чтобы вылечить Каупервуда. — Нет, — ответил Джемс. — Сон для него сейчас самое лучшее лекарство, и он еще может поправиться. Я применяю самые сильные подкрепляющие средства, какие мне известны, но нам остается только ждать. Еще может наступить перелом к лучшему. Однако перелома к лучшему не наступило. Наоборот, за сорок восемь часов до конца в состоянии больного наступило явное ухудшение, так что доктор Джемс поспешил послать за Фрэнком Каупервудом-младшим и дочерью Каупервуда Лилиан, ныне миссис Темплтон. Приехав, и дочь, и сын сразу заметили, что у постели больного нет Эйлин. Доктор Джемс на их вопрос, почему отсутствует миссис Каупервуд, пояснил, что по каким-то своим соображениям она отказалась посещать мужа. Хотя дети Каупервуда знали, что в отношениях между Эйлин и их отцом существует холодок, все же они по-своему поняли ее отказ приехать к мужу в такое время и сочли своим долгом сообщить ей о его тяжелом состоянии. Они тотчас поспешили к телефону-автомату и позвонили Эйлин, но, к своему удивлению, убедились, что она вовсе не желает ничего знать ни о Каупервуде, ни о его детях. Он сам хотел, чтобы доктор Джемс и мисс Флеминг ведали его делами, не считаясь с нею, вот пускай они теперь и заботятся обо всем, а она не пойдет к нему — ни за что! Лилиан и Фрэнк были ошеломлены такой жестокостью, но им больше ничего не оставалось, как вернуться к отцу и ждать, к чему приведет кризис. Доктор Джемс, Беренис, Джемисон беспомощно стояли вокруг больного, с ужасом сознавая, что ничего сделать нельзя. Так они ждали часами, прислушиваясь к тяжелому дыханию Каупервуда, а оно то становилось громче, то замирало, и тогда в комнате наступала тишина… На вторые сутки он вдруг рванулся, словно желая стряхнуть с себя невыносимую усталость, приподнялся на локте, будто затем, чтобы оглядеть комнату, потом так же внезапно упал навзничь и больше не шевельнулся. Смерть! Смерть! Вот она перед ними — неотвратимая и суровая! — Фрэнк! — закричала Беренис, вся похолодев и глядя на него широко раскрытыми, изумленными глазами. Она бросилась к нему и, упав на колени, схватила его влажные руки и зарылась в них лицом. — Фрэнк, милый, нет, нет!.. — вырвалось у нее, и, теряя сознание, она медленно сползла на пол.Глава 70
Смерть Каупервуда повергла всех в смятение: сразу встало столько проблем — одни не терпели отлагательства, другими надлежало заняться в недалеком будущем; и все это было до такой степени сложно, что несколько минут все стояли вокруг умершего, как громом пораженные. Самым находчивым и хладнокровным оказался доктор: прежде всего он с помощью Джемисона перенес Беренис в свою комнату. Когда они уложили ее на кушетку. Джемс посоветовал Джемисону позвонить миссис Каупервуд и попросить ее распорядиться насчет похорон. Джемисон позвонил — и ему пришлось вести пренеприятный разговор. Отношение Эйлин к смерти мужа очень встревожило и доктора и секретаря, — казалось, без скандала на всю страну не обойтись. — Почему вы обращаетесь ко мне? — заявила она. — Просите совета у доктора Джемса или у мисс Флеминг! Это они ведали всеми его делами и здесь и в Лондоне. — Но, миссис Каупервуд, — вымолвил удивленный Джемисон, — это же ваш муж. Неужели вы не хотите, чтобы его перенесли к вам в дом? — Мистер Каупервуд совершенно не считался со мною, — последовал лаконичный резкий ответ. — Он обманывал меня, все обманывали — и его врач и его любовница. Пусть они обо всем и заботятся — пускай отправят тело в какой-нибудь морг и оттуда везут хоронить. — Но, миссис Каупервуд! — Джемисон в волнении даже повысил голос. — Это неслыханно! Все газеты станут кричать об этом. Неужели вам будет приятно, если вокруг смерти такого большого человека, как ваш муж, разыграется скандал? Тут доктор Джемс, слышавший этот поразительный разговор, подошел к телефону и взял у Джемисона трубку. — Миссис Каупервуд, с вами говорит доктор Джемс, — сказал он холодно. — Как вам известно, мистер Каупервуд вызвал меня к себе, когда он вернулся в Америку. Мистер Каупервуд не родственник мне, я заботился о нем, как заботился бы о любом другом пациенте, в том числе и о вас. Но если вы будете упорствовать и не измените своего недостойного отношения к праху человека, который был вашим мужем и завещал вам свое имущество, — уверяю вас, вы покроете себя позором до конца дней своих. Как-никак, должны же вы отдавать себе отчет в своих поступках. Он подождал секунду, но Эйлин не отвечала. — Вот что, миссис Каупервуд, я ведь прошу вас не о каком-то одолжении, — продолжал Джемс. — Мне от вас ничего не нужно. Подумайте о себе. Конечно, тело вашего мужа можно перевезти в любое бюро похоронных процессий и похоронить где угодно, если вы этого хотите. Но одумайтесь. Вы ведь понимаете, пресса может узнать от меня или в похоронном бюро, что сталось с телом. Еще раз, последний раз, ради вас же самой, прошу: подумайте, а если вы не измените своего решения, имейте в виду — завтра же вся эта история попадет в газеты. Джемс умолк, рассчитывая услышать разумный ответ. Но в телефоне щелкнуло, и он понял, что Эйлин повесила трубку. Тогда он сказал Джемисону: — Она сейчас просто невменяема. Придется нам взять все в свои руки и действовать за нее. Мистера Каупервуда любили слуги, и, я уверен, мы без труда договоримся с ними; надо без ее ведома перенести тело в дом, и оно будет лежать там до погребения. Это мы можем и должны сделать. Нельзя допустить, чтобы перед покойным захлопнулись двери его собственного дома, это было бы слишком ужасно. И, взяв шляпу, Джемс направился к выходу, но по дороге вспомнил, что надо взглянуть на Беренис. Она уже пришла в себя. — Не отчаивайтесь, Беренис, — сказал ей доктор Джемс. — Подите к себе и отдохните, а если будут новости, я вам сообщу. И поверьте, все устроится как надо и без лишнего шума. Это я вам обещаю, — и он дружески пожал ей руку. Затем он приступил к делам. Прежде всего нужно было перевезти тело Каупервуда в бюро похоронных процессий, которое находилось неподалеку. Потом отправиться к Джемисону расспросить о слугах Каупервуда — узнать, кто из них посговорчивее и посообразительнее. Наверно, найдется не один, так другой, на чью помощь можно рассчитывать. Нельзя позволить Эйлин настоять на своем. Возможно, придется превысить права врача, но другого выхода нет. Он уже давно понимал, почему Эйлин не ладила с Каупервудом. Конечно, она безумно любила мужа, но дико ревновала его, придиралась к каждому его шагу — и потому ее мечты о счастье обратились в непрестанную пытку. Любопытное совпадение: в эту тяжелую минуту Джемисона вызвал к телефону некий Бакнер Карр, старший дворецкий Каупервудов, служивший у них еще со времен Чикаго. Звонил он, как оказалось, чтобы поделиться с Джемисоном своим горем и отчаянием — он только что узнал о смерти хозяина, и потом, он слышал, как миссис Каупервуд говорила с кем-то по телефону и возводила всякую напраслину на своего мужа, а главное, она даже не разрешает внести его в собственный дом — это просто ужасно. Вот он и хочет предложить свои услуги, — надо же как-нибудь избежать такого позора. Когда Джемс вернулся в отель, Карр сидел у Джемисона, и доктор изложил им обоим свой план действий. Он уже распорядился, чтобы бюро похоронных процессий приготовило тело к погребению, заказал достойный покойника гроб и велел ждать дальнейших распоряжений. Теперь вопрос — когда можно будет перенести тело во дворец и окажутся ли на месте слуги, чтобы тайком принять гроб и бесшумно перенести его в наиболее подходящую для этого комнату: миссис Каупервуд не должна ни о чем догадываться, по крайней мере до следующего утра. Как полагает Бакнер Карр, можно будет проделать это без помехи? Карр ответил, что он сейчас вернется в особняк Каупервудов, а часа через два позвонит по телефону и скажет, выполнимо ли все, о чем говорил доктор Джемс. Он ушел и по прошествии двух часов действительно сообщил по телефону, что удобнее всего перенести тело между десятью вечера и часом ночи; все слуги готовы помочь, в доме будет темно и тихо. И вот в час ночи, как было условлено, богато отделанный гроб доставили во дворец Каупервудов. Снаружи по пустынной улице дозором ходил Карр. Преданные слуги приготовили зал на втором этаже для гроба с телом их бывшего хозяина. Пока гроб вносили, один из слуг стоял на страже у дверей, ведущих в апартаменты Эйлин, прислушиваясь, не раздастся ли за ними шорох или звук шагов. Так в ночной тиши, без парадных церемоний похоронная процессия с телом Фрэнка Алджернона Каупервуда вступила в его дом, и Эйлин с мужем вновь оказались под одной крышей.Глава 71
Никакие тревожные думы и сновидения не подсказали Эйлин, что происходило ночью в доме, пуха свет утренней зари не разбудил ее. Обычно она любила немного понежиться в постели, но сейчас внимание ее привлек какой-то странный звук, донесшийся откуда-то снизу, словно что-то тяжелое упало на пол, — я Эйлин, опасаясь за драгоценную греческую статую, которую Фрэнк купил совсем недавно, — ее поставили временно на самом ходу, — тотчас встала и сошла по лестнице. Пытливо оглядываясь по сторонам, она миновала большие двухстворчатые двери, ведущие в зал, и направилась прямо к новой статуе, но та оказалась цела и невредима. Эйлин повернула назад, но, поравнявшись с дверями зала, вздрогнула и замерла на месте: посреди огромного зала стоял большой длинный ящик, весь задрапированный черным. Холодная дрожь прошла по телу Эйлин: она стояла, не в силах шевельнуться. Потом повернулась, готовая бежать прочь, но передумала и, медленно подойдя к дверям, застыла на пороге, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Гроб! О боже! Каупервуд! Ее муж! Хладный труп, мертвец! Он все же пришел к ней, хотя она отказывалась прийти к нему, когда он был жив! Ноги у нее подкашивались, когда, полная раскаяния, она подошла посмотреть на его скованное смертью, бездыханное тело. Какой высокий лоб! Какая благородная, красивая голова! Волнистые каштановые волосы, почти не тронутые сединой… Как знакомы ей эти резкие, властные черты! Весь его облик говорит о силе, о незаурядном уме, которые весь мир бесспорно признавал за ним! А она отказалась прийти к нему! Эйлин стояла, словно окаменев. Как жаль, что так сложилась жизнь — и он совершил немало ошибок, да и она тоже. А сколько было между ними диких ссор, которые, как порывы бури, налетали снова и снова. И все же — вот он здесь, наконец-то дома! Дома! Внезапно ее охватил гнев: непонятно, загадочно — как же это он оказался здесь вопреки ее воле? Кто и как принес его сюда? Когда? Ведь только накануне вечером она приказала слугам запереть все двери. И вот он здесь! Разумеется, его, а не ее друзья и слуги объединились, чтобы сделать это для него. А теперь, конечно, все рассчитывают, что она уступит, изменит своему слову, и значит, Каупервуд будет похоронен с почетом, как и подобает выдающемуся человеку. Иными словами, победа останется за ним. Как будто она отказалась от своего мнения и простила мужу то, что он жил как хотел, ни с кем не считаясь! Ну нет, им не удастся провести ее! До последней минуты терпеть унижения и оскорбления? Ни за что! А все же, наперекор ее гневному вызову — вот он тут, перед ней!.. Эйлин все еще глядела на него, когда сзади раздались шаги, — она обернулась: дворецкий Карр шел к ней с письмом в руке. — Это только что принесли для вас, сударыня, — сказал он. Эйлин махнула рукой, приказывая ему уйти, но не успел дворецкий повернуться, как она крикнула ему вслед: — Дайте сюда! И, вскрыв конверт, она прочла:«Эйлин, я умираю. Когда эти строки дойдут до тебя, меня уже не будет. Я знаю, что я виноват, и знаю, в чем ты меня обвиняешь, и во всем виню только себя. Но я не могу забыть ту Эйлин, которая помогла мне пережить дни заключения в филадельфийской тюрьме. Впрочем, что толку сожалеть — ни мне, ни тебе не станет от этого легче. Но почему-то я чувствую, что в глубине души ты все простишь мне, когда меня не станет. И я рад, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Ты знаешь, я все для этого сделал. Итак, прощай, Эйлин! Больше твой Фрэнк не будет тебе досаждать — никогда».Дочитав до конца, Эйлин подошла к гробу, взяла руки Каупервуда в свои и поцеловала. Она постояла еще минуту, пристально всматриваясь в его лицо, потом повернулась и выбежала из зала. Несколько часов спустя Карр, которого через Джемисона и других приближенных Каупервуда засыпали вопросами о похоронах, вынужден был обратиться к Эйлин за распоряжениями. Желающих присутствовать на церемонии оказалось очень много, и Карру пришлось составить для Эйлин список, который получился очень длинным. Увидев его. Эйлин воскликнула: — Пусть приходят! Вреда от этого уже не будет! Пусть мистер Джемисон и дети мистера Каупервуда делают все, что хотят. Я буду у себя в комнате — я нездорова и ничем не могу им помочь. — Но, миссис Каупервуд, разве вы не хотели бы пригласить священника, чтоб он произнес надгробное слово? — спросил дворецкий. (Эту мысль подал доктор Джемс, и она пришлась по душе набожному Карру.) — Ах, да, позовите кого-нибудь. Это не повредит, — сказала Эйлин; в эту минуту ей вспомнились ее родители, люди до крайности религиозные. — Но пусть на панихиде будет не слишком много народу — человек пятьдесят, не больше… Карр тотчас сообщил Джемисону, а также сыну и дочери Каупервуда, что они могут взяться — за устройство похорон — пусть делают все так, как считают нужным. Услышав это, доктор Джемс вздохнул с облегчением и поспешил оповестить о предстоящей церемонии многочисленных знакомых и почитателей Каупервуда.
Глава 72
Многие друзья и знакомые Каупервуда заезжали в тот день и на следующее утро в его дворец на Пятой авеню, и те из них, кто попал в список Бакнера Карра, допускались к гробу, стоявшему в просторном зале второго этажа. Остальным же предлагали присутствовать при погребении, которое должно было состояться на следующий день в два часа на Гринвудском кладбище. Тем временем сын и дочь Каупервуда навестили Эйлин и условились с нею, что они поедут все вместе в первой карете, сразу же за гробом. А все нью-йоркские газеты крупным шрифтом напечатали сообщения о безвременной, как это принято называть, кончине Фрэнка Алджернона Каупервуда, который всего полтора месяца назад вернулся в Нью-Йорк. Принимая во внимание слишком обширные связи и знакомства покойного, писали газеты, на похороны будут допущены лишь ближайшие друзья семьи, — впрочем, это не помешало толпамлюбопытных явиться на кладбище. Итак, на следующий день, в двенадцать часов, погребальная процессия начала выстраиваться перед дворцом Каупервуда. Кучки зевак собирались на ближних улицах, чтобы посмотреть на это зрелище. Сразу за катафалком ехала карета, в которой сидели Эйлин, Фрэнк Каупервуд-младший и дочь Каупервуда Лилиан Темплтон. А дальше, одна за другой, цепочкой потянулись остальные кареты и, медленно проследовав по широкой улице, под нависшим свинцовым небом, въехали в ворота Гринвудского кладбища. Широкая аллея, усыпанная гравием, подымалась по отлогому холму; ее окаймляли старые ветвистые деревья, за которыми виднелись ряды надгробных плит и памятников. Подъем все продолжался; примерно через четверть мили процессия свернула вправо, а через несколько сотен шагов меж высоких деревьев показался склеп — суровый и величественный. Он стоял в полном уединении — вокруг ближе чем на тридцать футов не было ни единого памятника, — серое, строгое сооружение, северное подобие древнегреческого храма. Четыре изящных колонны, по стилю близкие к ионическим, образовали портик; они поддерживали фронтон — правильный треугольник, совершенно гладкий: ни креста, ни каких-либо украшений. Над дверьми, ведущими в склеп, — имя, выведенное крупными, четкими прямоугольными буквами: Фрэнк Алджернон Каупервуд. На трех широких гранитных ступенях лежали горы цветов, а массивные двойные бронзовые двери были раскрыты настежь в ожидании именитого покойника. Каждый, кто видел этот мавзолей впервые, невольно чувствовал, что перед ним подлинное произведение искусства — строгое и внушительное, оно своей величественной простотой подавляло все вокруг. Когда из окна кареты Эйлин неожиданно увидела перед собою склеп, она в последний раз оценила умение мужа внушать почтение окружающим. И тотчас она закрыла глаза, чтобы не видеть этой гробницы, и попыталась представить себе Каупервуда таким, каким она хорошо запомнила его, когда он стоял перед ней, полный жизни, уверенный в себе. Ее карета остановилась, ожидая, чтобы катафалк поравнялся с дверью склепа; затем тяжелый бронзовый гроб внесли по ступеням и поставили среди цветов, перед кафедрой священника. Провожающие вышли из карет и проследовали на площадку перед склепом, — там был натянут широкий полотняный тент и приготовлены скамьи и стулья. В одной из карет, рядом с доктором Джемсом, молча сидела Беренис, устремив неподвижный взгляд на склеп, который должен был навсегда сокрыть от нее любимого. Слез не было: она не плачет и не будет плакать. Да и что толку протестовать, спорить с лавиной, которая унесла из ее жизни все самое дорогое? Во всяком случае так думала Беренис. Она опять и опять повторяла про себя одно единственное слово: «Терпи! Терпи! Терпи!» Когда все друзья и родственники уселись, священник епископальной церкви преподобный Хейворд Креншоу занял свое место на кафедре; выждав несколько минут, пока не стало совсем тихо, он торжественным голосом произнес надгробное слово. Носильщики подняли гроб, внесли его в склеп и опустили в саркофаг; священник преклонил колени и начал молиться. Эйлин отказалась войти в склеп, а потому и все остались снаружи. Вскоре священник вышел, и бронзовые двери затворились, — церемония похорон Фрэнка Алджернона Каупервуда была окончена. Священник подошел к Эйлин, чтобы сказать несколько слов утешения; друзья и родственники начали разъезжаться, и вскоре все вокруг опустело. Только доктор Джемс и Беренис задержались в тени развесистой березы, — Беренис не хотелось уходить вместе со всеми; постояв еще немного, они медленно стали спускаться по извилистой тропинке. Пройдя около сотни шагов, Беренис оглянулась, чтобы еще раз посмотреть на место последнего упокоения своего возлюбленного, — склеп стоял высокий, надменный в своей безвестности: выгравированное на нем имя отсюда уже не было видно. Он был высокий и надменный — и все же такой незначительный по сравнению с огромными вязами, простершими над ним свои ветви.Глава 73
После болезни и смерти Каупервуда на душе у Беренис было так смутно и тяжело, что она решила перебраться в свой особняк на Парк авеню, который стоял под замком все время, пока она жила в Англии. Теперь, когда ее будущее так неопределенно, этот дом будет ей убежищем — она хотя бы на время укроется здесь от докучных репортеров. Доктор Джемс одобрил ее решение, — ведь и ему будет легче отвечать, что она уехала куда-то, а куда — он в точности не знает. И хитрость эта отлично удалась: он несколько раз заявил, что ему известно не больше, чем сообщалось в газетах, и к нему перестали приставать с расспросами. Однако время от времени в печати снова вспоминали об исчезновении Беренис, высказывались и догадки о том, где она теперь. Может быть, вернулась в Лондон? Или опять на виллу — в Прайорс-Ков? Лондонские газеты попробовали выяснить это, но безрезультатно: разыскали в Прайорс-Кове мать Беренис, но она заявила, что не знакома с планами дочери и репортерам придется подождать, пока она сама не будет лучше осведомлена. Ответ этот был подсказан телеграммой от Беренис, которая просила мать пока никому ничего не сообщать о ней. Беренис не без удовольствия думала о том, что сумела перехитрить репортеров, но жилось ей очень одиноко, и почти все вечера она проводила у себя дома за чтением. Однажды в нью-йоркской воскресной газете она увидела целый очерк, посвященный ей и ее отношениям с Каупервудом, и это страшно возмутило ее. Хотя автор и называл ее просто подопечной Каупервуда, весь тон статьи был таков, чтобы у читателя создалось впечатление, что Беренис — ловкая авантюристка; она пользовалась своей красотой, чтобы возможно лучше обеспечить себя и получить доступ к светским развлечениям, — подобное истолкование ее чувств и поступков больно задело и раздосадовало Беренис. Это казалось ей обидным и несправедливым. С тех пор как она себя помнила, ее всегда влекла только красота — желание узнать и испытать все прекрасное, что дает жизнь. Но как бы то ни было, могут появиться и еще такие статейки, больше того — их могут перепечатать в других газетах, не только в Америке, но и за границей. Ее явно хотят превратить в романтическую героиню некоей драмы. Но что делать? Куда бежать, чтобы отделаться от такого внимания прессы? Взволнованная и растерянная, бродила Беренис по своей библиотеке, среди множества книг, к которым уже давно никто не притрагивался; взяв с полки первый попавшийся том, Беренис наугад раскрыла его, и взгляд ее упал на следующие строки:«Во мне есть бог, во всем живом живущий, Незримый, вечность он дарит природе; Он разум в нас вдохнул, вложил пять чувств чудесных Из Пракрики нам тело сотворил… Йоги, достигшие спокойствия духа, дисциплинируя свой разум, ощущают его присутствие в своем сознании. Те же, кто не обладает спокойствием и проницательностью, никогда не постигнут его, даже если и приложат к тому все усилия».Беренис, заинтересовавшись, заглянула на обложку, чтобы узнать, что это за книга. Это оказалась «Бхагавадгита»,[36] и ей вспомнилось, как однажды на обеде у Стэйна в его городском доме замечательно рассказывал о йогах некий лорд Сэвиренс. Он долгое время провел в Индии, жил затворником в уединении близ Бомбея, учась у гуру, и его красочный рассказ произвел тогда на Беренис глубокое впечатление. Ее так взволновало все, что он говорил, ей даже захотелось самой когда-нибудь побывать в Индии и поучиться у тамошних мудрецов. А теперь, когда ей грозит одиночество и всеобщее осуждение, это желание найти какое-то прибежище стало еще сильнее. Ну что ж, это, пожалуй, выход из того запутанного положения, в котором она очутилась! Индия! Отчего бы и нет? Чем больше Беренис думала о такой поездке, тем соблазнительней казалась ей эта мысль. Из другой книги об Индии, которую Беренис нашла у себя в библиотеке, она узнала, что многие свами и гуру — те, кто учат познанию тайн жизни и божества и являются их толкователями, — живут в ашрамах, или уединенных убежищах в горах и лесах. И все смятенные духом, все, кто стремится проникнуть в смысл чудес и тайн жизни, обращаются к ним в часы скорби, отчаяния или крушения всех надежд и узнают, что в них самих сокрыты духовные силы, постигнув которые, они сумеют вполне исцелиться от всех своих горестей. Быть может, какой-нибудь учитель этих великих истин сумеет рассеять окружающий ее мрак одиночества, который грозит навеки ее поглотить, и поможет ее душе обрести свет и покой? Она поедет в Индию! Решено — она закроет дом в Прайорс-Кове и отправится в Бомбей пароходом из Лондона; мать она возьмет с собой, разумеется, если та не будет против. На следующее утро Беренис позвонила доктору Джемсу, — ей хотелось узнать, как он отнесется к ее решению; услыхав, что она намерена поехать в Индию поучиться, Джемс, к немалому удивлению Беренис, очень одобрил этот план. Он и сам давно уже мечтал о чем-нибудь в этом роде, да только дела не позволяют — к сожалению, он не волен распоряжаться своим временем, как Беренис. А она сможет отдохнуть там от пережитого, ей сейчас будет очень полезна смена впечатлений. У него были пациенты, которые по разным личным или общественным причинам страдали тяжелым нервным расстройством; он направил их к одному индусу — свами, жившему тогда в Нью-Йорке, — и через некоторое время это уже были совсем здоровые люди. Должно быть, пытаясь охватить мыслью необъятный мир, человек забывает о своем ограниченном «я», — люди нервные при этом забывают о собственных бедах; а это для них означает выздоровление. Одобрение доктора Джемса утвердило Беренис в ее намерении, и, распорядившись на время своего отсутствия насчет дома на Парк авеню, она выехала из Нью-Йорка в Лондон.
Глава 74
Смерть Фрэнка Алджернона Каупервуда вызвала среди широкой публики множество толков и догадок; больше всего интересовались его состоянием: сколько миллионов оставил покойный, кто наследники, много ли каждый из них получит? До того, как завещание было передано на официальное утверждение, говорили, будто Эйлин получает какую-то совсем ничтожную сумму, большая же часть имущества переходит к двум детям Каупервуда; поговаривали также, будто он щедро одарил своих лондонских друзей и приятельниц. Не прошло и недели после смерти Каупервуда, как Эйлин отказалась от услуг его адвоката и уполномочила некоего Чарльза Дэя единолично охранять ее законные интересы. В завещании, переданном через пять недель после смерти Каупервуда на утверждение в верховный суд округа Кук, оказался перечень лиц и учреждений, получавших в дар различные суммы — по две тысячи долларов было оставлено каждому из его слуг, пятьдесят тысяч долларов Альберту Джемисону, сто тысяч долларов — обсерватории имени Фрэнка А. Каупервуда, которую он подарил Чикагскому университету десять лет назад. Всего в списке было десять лиц и учреждений; в это же число входили и двое детей покойного; общая сумма, оставленная этим лицам и учреждениям, составляла около полумиллиона долларов. Эйлин обеспечивалась за счет дохода с остального имущества. После ее смерти картинная галерея — коллекция живописи и скульптуры, оцененная в три миллиона долларов, — должна была перейти в собственность города Нью-Йорка, дабы служить людям для удовольствия и расширения познаний. В распоряжение попечителей было оставлено семьсот пятьдесят тысяч долларов на содержание галереи. Кроме того, Каупервуд завещал купить участок земли в районе Бронкс и построить там больницу, стоимость сооружения которой не должна была превышать восьмисот тысяч долларов. Остальной недвижимостью — часть дохода с нее предназначалась на содержание больницы — должны распоряжаться назначенные в этих целях душеприказчики — Эйлин, доктор Джемс и Альберт Джемисон. Больнице, по воле покойного, надлежало присвоить его имя и принимать в нее всех больных, независимо от расы, цвета кожи и вероисповедания. Тех, у кого нет средств платить за лечение, следует лечить бесплатно. Эйлин — теперь, когда Каупервуда не стало, — вдруг расчувствовалась: она свято выполнит его последнюю волю, все его желания и прежде всего займется больницей. Перед репортерами газет Эйлин подробно излагала свои планы: в частности, она построит приют для выздоравливающих — такой, чтобы в нем не чувствовалось казенной, больничной атмосферы. В одном из интервью она под конец заявила: — Я приложу все силы, чтобы выполнить пожелания моего мужа, и поставлю целью своей жизни построить эту больницу. Только одно не учел Каупервуд — механику работы американских судов, — всех, от мала до велика, — не учел, как они вершат правосудие или нарушают его, как долго американские юристы способны затягивать решение дел в любой судебной инстанции. Первым ударом по состоянию Каупервуда было решение Верховного суда США, признавшего каупервудовский концерн — Чикагскую объединенную транспортную компанию — недееспособным. Четыре с половиной миллиона долларов, вложенных Каупервудом в акции принадлежавшей ему Единой транспортной, были обеспечены этим концерном. Теперь нужны были годы судебной волокиты, чтобы установить не только стоимость акций, но и их владельца. Это было выше сил и понимания Эйлин, и она тотчас отстранилась от обязанностей душеприказчицы, переложив все заботы на Джемисона. И вот прошло почти два года, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Тут началась паника 1907 года, и Джемисон, не поставив в известность ни суд, ни Эйлин, ни ее поверенного, передал спорные акции в комиссию по реорганизации концерна. — Продавать эти акции бессмысленно, они теперь ничего не стоят, — объяснял Джемисон. — А комиссия по реорганизации, возможно, как-нибудь и ухитрится спасти Объединенную транспортную. Вслед за этим комиссия по реорганизации заложила акции в Среднезападном кредитном обществе — банке, заинтересованном в объединении всех чикагских железнодорожных компаний в один большой трест. И у всех, естественно, возник вопрос: — Любопытно, сколько заработал на этом Джемисон? Два года чикагский суд тянул и медлил, прежде чем утвердить завещание Каупервуда, а тем временем в Нью-Йорке не делалось ровно ничего, чтобы хоть как-то уладить дела. У Общества взаимного страхования жизни имелась закладная на двести двадцать пять тысяч долларов на пристройку к картинной галерее в особняке Каупервуда на Пятой авеню; по этой закладной накопилось процентов на сумму в семнадцать тысяч долларов. Общество обратилось в суд за разрешением наложить арест на принадлежащую Каупервуду недвижимость. Адвокаты общества, без ведома Эйлин и ее поверенных, договорились с Джемисоном и Фрэнком Каупервудом-младшим и продали с аукциона всю пристройку вместе с находившимися в ней картинами. Вырученных денег едва хватило на то, чтобы удовлетворить претензии страхового общества, оплатить налоги и погасить счета нью-йоркских городских властей за воду на сумму около тридцати тысяч долларов. Тогда Эйлин и ее адвокаты обратились в чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях с просьбой отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика. Эйлин сообщила судье Севирингу: — С тех пор как умер мой муж — все одни разговоры и никаких денег. Мистер Джемисон был очень щедр на словах, обещал золотые горы, но денег я от него что-то не видела. Когда я прямо требовала у него денег, он отвечал, что у него нет ни доллара. Я не только перестала доверять ему, он даже внушает мне подозрение. Затем Эйлин рассказала суду, как Джемисон без ее ведома передал комиссии по реорганизации на четыре с половиной миллиона долларов акций; как продал с аукциона за двести семьдесят семь тысяч долларов часть картин покойного, тогда как они стоили четыреста тысяч; как он потребовал с нее полторы тысячи долларов комиссионных, хотя уже получил свое в качестве душеприказчика, и как он не допустил ее поверенного к бухгалтерским книгам, по которым велся учет имущественных дел Каупервуда. — Когда мистер Джемисон предложил мне продать дом и коллекцию картин, — сказала в заключение Эйлин, — да еще потребовал, чтобы я заплатила ему шесть процентов за сделку, я прямо сказала, что не согласна. А он стал грозить мне, сказал, что если я не соглашусь, то вылечу в трубу. Выслушав Эйлин, судья отложил разбор дела на три недели. — Вот что получается, когда женщина вмешивается в то, чего не понимает, — глубокомысленно заметил по этому поводу Фрэнк Каупервуд-младший. Пока Эйлин пыталась через чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика, сам Джемисон, после трех лет бездействия, вдруг обратился в суд с ходатайством о выдаче ему документов, подтверждающих его права душеприказчика также и в Нью-Йорке. Однако, поскольку Эйлин подала на него в суд, следовало сначала выяснить, пригоден ли он вообще для этой роли, а потому судья по делам опеки над недееспособными лицами, некто Монехэн, отложил рассмотрение дела на две недели, чтобы собрать все данные, по которым было бы ясно, следует ли удовлетворить ходатайство Джемисона. В это время в Чикаго Джемисон, представ перед судьей Севирингом по обвинению, выдвинутому против него Эйлин, упорно утверждал, что не нанес ни малейшего ущерба ее интересам и не получил ни цента незаконным путем. Наоборот, он немало потрудился, чтобы сохранить имущество. Судья Севиринг отказался отстранить Джемисона от обязанностей душеприказчика, однако счел необходимым заявить: — Разумеется, если душеприказчик, получивший за выполнение своих обязанностей определенную долю состояния покойного, требует еще с вдовы выплаты процентов за оформление завещанного ей наследства, хотя это его прямой долг, — его следовало бы отстранить от обязанностей душеприказчика. Но сомнительно, имею ли я право отстранить его только на этом основании. После этого Эйлин стала подумывать о том, чтобы передать дело в Верховный суд. Тем временем Лондонская подземная обратилась в Нью-йоркский окружной суд с просьбой взыскать причитающиеся ей восемьсот тысяч долларов. Компания нимало не сомневалась, что взыскать эту сумму вполне возможно, хотя из заявлений авторитетных лиц было ясно, что вследствие всевозможных тяжб из состояния Каупервуда около трех миллионов уже испарилось в воздух. Суд назначил судебным исполнителем некоего Уильяма Каннингхема, и сей муж, невзирая на то, что Эйлин только что слегла в постель с воспалением легких, расставил охрану вокруг дворца Каупервуда на Пятой авеню, а через три дня решил устроить трехдневный аукцион для распродажи картин, ковров и гобеленов, чтобы уплатить по иску Лондонской подземной. Охрана стояла круглые сутки, тщательно наблюдая, чтобы не исчезло что-нибудь из имущества, подлежащего продаже с аукциона. Агенты из охраны шныряли по дому, внося повсюду беспорядок и нарушая право неприкосновенности имущества и жилища. Чарльз Дэй, один из адвокатов Эйлин, тотчас обжаловал решение суда, заявив, что разбор этого дела — худший пример судебного произвола, когда-либо имевшего место в Америке: это самый настоящий заговор с целью проникнуть в дом противозаконным путем, насильственно продать его вместе с картинами и таким образом свести на нет намерение Каупервуда, завещавшего превратить дворец вместе со всей его обстановкой в музей, открытый для публики. Нью-йоркские адвокаты Эйлин всеми силами старались снять временный арест на имущество Каупервуда в Нью-Йорке, а тем временем адвокаты, нанятые ею в Чикаго, добивались назначения распорядителя над всей недвижимостью покойного. Никто не додумался воспользоваться правом выкупа закладной на пристройку к картинной галерее Каупервуда, которую получило страховое общество по предъявленному им ранее иску. И вот четыре месяца спустя страховое общество подало в суд на исполнителя Каннингхема и на Лондонскую подземную, которые наотрез отказались выкупить закладную. Мало того — пока комиссия по реорганизации, состоявшая из чикагских капиталистов, разрабатывала совместно с представителями банкирского дома Брентона Диггса план реорганизации каупервудовского концерна, держатели ценных бумаг этого концерна из состава акционеров трех дочерних компаний потребовали возбудить судебное дело о лишении комиссии права на выкуп этих ценных бумаг. Адвокаты Эйлин заявили, что распоряжаться всем имуществом Каупервуда имеет право только суд округа Кук, тогда как апелляционный суд этого округа таких прав не имеет. Судья упомянутого апелляционного суда согласился с этим, добавив, что тотчас отстранится от всякого вмешательства, как только Джемисон примет на себя обязанности по надзору за нью-йоркской собственностью Каупервуда. Тем не менее через пять месяцев после обращения Эйлин в апелляционный суд США этот суд большинством в два голоса против одного вынес решение о постоянном характере полномочий Уильяма Каннингхема в качестве судебного исполнителя по делу о наследстве Каупервуда. Впрочем, один из судей, не согласный с этим решением, утверждал, что федеральный суд не может вмешиваться в дела об утверждении завещаний, поскольку они относятся к компетенции судов штата. А судьи, голосовавшие за принятое решение, считали, что исполнителя менять не следует до истечения некоего достаточно большого срока, который будет установлен окружным судом, для того чтобы кредиторы имели возможность обратиться к судье по делам об опеке над недееспособными лицами с требованием назначить распорядителя, которому можно будет передать все имущество. Наряду с этим было отменено решение, временно запрещавшее Джемисону возбуждать ходатайство об утверждении его душеприказчиком покойного Каупервуда и в Нью-Йорке. И вот потянулась бесконечная судебная волокита: иски следовали за исками и решения за решениями. И все это обрушилось на вдову, ничего не смыслившую в юриспруденции и тратившую все деньги, оставленные покойным мужем, на защиту своих прав, которые оказалось так трудно отстоять. К тому же здоровье ее совсем расстроилось — она не поднималась с постели, и с деньгами у нее было катастрофически плохо. Адвокатам Эйлин удалось прийти к соглашению с адвокатами Джемисона и официальными представителями Лондонской подземной и выговорить для нее восемьсот тысяч долларов за отказ от прав на часть полагающейся ей по наследству недвижимости. Чикагский суд по делам о завещательных распоряжениях должен был подтвердить законность этого соглашения. Чиновник, определяющий размер налога на наследство, через четыре года после смерти Каупервуда оценил оставшееся после него имущество в 11 467 370 долларов и 65 центов. Последовал новый процесс, на котором председательствовал судья Робертс, — Эйлин требовала, чтобы оценщик пересмотрел свой отчет. Мистер Дэй, выступавший от имени Эйлин, заявил, что если судья Севиринг подтвердит законность соглашения, достигнутого между нею, Джемисоном и Лондонской подземной, останется лишь продать унаследованное ею имущество. Дэй утверждал, что оценка имущества явно завышена: коллекция картин никак не стоит четырех миллионов, а за всю обстановку в доме не выручить и тысячи долларов. Вскоре Джемисон обратился к судье Генри, ведавшему делами об опеке над недееспособными лицами, с просьбой выдать ему документы, подтверждающие, что его права как душеприказчика распространяются и на имущество Каупервуда, находящееся в Нью-Йорке. Примерно в это же время Эйлин проиграла дело против Джемисона, а судья Севиринг подтвердил законность соглашения, достигнутого между нею и Джемисоном через адвокатов: после уплаты долгов она должна была получить восемьсот тысяч долларов, а также одну треть личного имущества, принадлежащую ей как вдове. В соответствии с этим соглашением Эйлин передала исполнителю Каннингхему дом, картинную галерею, конюшню и прочее для продажи с аукциона, а Джемисон через четыре года после того как в Чикаго началось дело об утверждении завещания Каупервуда, был назначен распорядителем его имущества и в Нью-Йорке. Он должен был и имел возможность воспрепятствовать распродаже с аукциона имущества Каупервуда в Нью-Йорке, но он этого не сделал. А в картинной галерее было триста полотен, оцененных в полтора миллиона долларов, в том числе произведения Рембрандта, Гоббемы, Тенирса, Рейсдаля, Гольбейна, Франса Гальса, Рубенса, Ван-Дейка, Рейнольдса и Тернера. Меж тем в Чикаго адвокаты Джемисона, выступая перед судьей Севирингом в суде по делам о завещательных распоряжениях, утверждали, что единственный путь избежать распродажи имущества по причине несостоятельности — это передать комиссии по реорганизации акции Единой транспортной на четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи долларов, с тем чтобы эти акции послужили основой для создания новой компании. Адвокаты же Эйлин утверждали, что аукцион в Нью-Йорке был подготовлен втихомолку, тайно и без всякой на то санкции суда. В ответ на это судья Севиринг заявил, что он не считает себя вправе выносить какие-либо постановления, пока обе стороны сами не придут к какому-то соглашению. Таким образом, решение дела было отложено на неопределенно долгое время, чтобы адвокаты обеих сторон имели возможность договориться. Итак, опять отсрочки! Отсрочки! Отсрочки! Иски корпораций! Иски! Иски! И решения! Решения! Решения! И суды! Суды! Суды! Так прошло пять лет, и в конце концов все, что когда-то принадлежало Фрэнку Каупервуду, было продано с аукциона. И за все, включая недвижимость, было выручено три миллиона шестьсот десять тысяч сто пятьдесят долларов!Глава 75
Пять лет скиталась Эйлин по джунглям закона; суды и судьи, адвокаты и корпорации предъявляли своей жертве все новые и новые иски и претензии, — и, наконец, ею овладело чувство мучительной безнадежности: что ни делай, куда ни кинься, все заранее обречено на провал. В самом деле — чем была ее жизнь в эти годы, к чему свелись все ее усилия? Она жила одна, у нее не было настоящих друзей, все ее иски — кстати, вполне законные — отклонялись один за другим, и в конце концов она поняла, что мечта о величии, которую олицетворял их дворец, растаяла, как дым. От былого великолепия остались только восемьсот тысяч долларов, принадлежащих лично ей, да третья вдовья часть личной собственности, которую она получила после передачи судебному исполнителю Каннингхему дворца, картинной галереи и всего прочего и после уплаты долгов. Закон, корпорации, судебные исполнители, словно стая голодных волков, преследовали ее по пятам, пока не загнали в угол, — и вот ей пришлось расстаться с собственным домом: его продадут с молотка, в нем поселятся чужие люди. Не успела еще Эйлин перебраться на квартиру, которую она присмотрела для себя на Мэдисон авеню, а дворец уже наводнили агенты аукционистов — они шныряли повсюду, осматривали каждую мелочь и наклеивали на вещи ярлычки с номерами по каталогу. Прибыли фургоны за картинами, чтобы отвезти все триста полотен в галерею Свободного искусства, на Двадцать третью улицу. Явились коллекционеры — они расхаживали по комнатам, разглядывая вещи, оценивая их. Эйлин, больная, подавленная, вынуждена была выслушивать Каннингхема, который объяснял свое вторжение тем, что он, видите ли, обязан немедленно произвести полную инвентаризацию дома и галереи и представить опись суду. И вот в газетах появились извещения о распродаже, которая начнется в ближайшую среду и будет длиться три дня подряд, — продаются мебель, бронза, скульптура, панно и всевозможные произведения искусства, а также большая библиотека. Место распродажи: Пятая авеню, 864. Аукционист: Дж. Л. Донехью. В доме царил невероятный беспорядок, и среди всего этого, еле сдерживая горечь и обиду, бродила Эйлин, собирая свои вещи, чтобы немногие слуги, которые остались ей верны, перевезли их на новую квартиру. С каждым днем возрастало число желающих побывать на этой распродаже, и спрос на пригласительные билеты был так велик, что устроители аукциона не в состоянии были всех удовлетворить. Цена входного билета как для осмотра вещей и произведений искусств, так и на самую распродажу была установлена в один доллар, но и это не останавливало любопытных. В день аукциона зал в галерее Свободного искусства был битком набит. В каталоге предметов, подлежащих распродаже, значилось более тысячи трехсот названий. Появление некоторых шедевров на столе аукциониста встречали аплодисментами. А во дворец Каупервуда уж и вовсе невозможно было пробраться. Автомобили, такси и кареты сплошной стеной выстроились вдоль тротуаров Пятой авеню и Шестьдесят восьмой улицы, да так и стояли здесь до тех пор, пока не кончилась распродажа. Среди собравшихся были коллекционеры с миллионным состоянием, прославленные художники, знаменитые светские львицы — их автомобили никогда не останавливались прежде у этих дверей, теперь же все стремились попасть сюда, чтобы перехватить какую-нибудь редкостную вещь, принадлежавшую Эйлин или Фрэнку Каупервуду. Его золотая кровать, на которой некогда спал бельгийский король и которую Фрэнк приобрел за восемьдесят тысяч долларов; ванна розового мрамора из туалетной комнаты Эйлин, стоившая пятьдесят тысяч долларов; сказочные шелковые ковры, вывезенные из ардебильской мечети; изделия из бронзы, красные африканские вазы, кушетки с золочеными спинками в стиле Людовика XIV; канделябры из горного хрусталя с аметистовыми и топазовыми подвесками — тоже в стиле Людовика XIV; изящнейший фарфор, стекло, серебро и разная мелочь — камеи, кольца, булавки для галстука, ожерелья, неоправленные драгоценные камни и статуэтки — все пошло с молотка. Толпы чужих, любопытных людей переходили из зала в зал, следуя за аукционистом, раскатистый голос которого отдавался эхом в высоких комнатах. На их глазах скульптура Родэна «Амур и Психея» была продана антиквару за пятьдесят одну тысячу долларов. Кто-то, в азарте все набавляя цену, давал уже тысячу шестьсот долларов за полотно Ботичелли, но тут из зала крикнули: «Тысяча семьсот!» — и азартный покупатель остался ни с чем. Толстая и важная женщина в красном, которая все время старалась держаться поближе к аукционисту, за любую вещь почему-то давала триста девяносто долларов — не больше и не меньше. Потом толпа устремилась за аукционистом в зимний сад — всем хотелось взглянуть на статую работы Родэна; народу было так много, что аукционист громко попросил не прислоняться к пальмам. Пока шла распродажа, взад и вперед по Пятой авеню раза три медленно проехала двухместная карета, в которой сидела одинокая женщина. Она смотрела на автомобили и коляски, подъезжавшие к дворцу Каупервудов, на мужчин и женщин, толпившихся у подъезда. Это зрелище означало для нее слишком многое: конец борьбы, последнее «прости» былым честолюбивым мечтам. Двадцать три года назад она была одной из красивейших женщин Америки. В ней и по сию пору сохранилось что-то от прежней жизнерадостности и смелости. Правда, пришлось покориться, но жизнь еще не сломила ее окончательно, — пока еще нет. И тем не менее миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд не присутствовала на аукционе. Но она видела, как покупатели выносили из дому самые любимые ее вещи, и порой до нее доносились выкрики аукциониста: «Кто больше? Кто больше? Кто больше?» Потом она почувствовала, что дольше не вынесет, и приказала кучеру ехать назад, на Мэдисон авеню. Через полчаса Эйлин стояла у себя в спальне, молча, сжав губы, — ей хотелось сейчас одного — тишины. Итак, все исчезло, исчезло без следа, словно по мановению злого волшебника. Отныне она всегда будет одна. Каупервуд больше никогда не вернется, никогда… Через год она опять заболела воспалением легких, — и вскоре ее не стало. Перед смертью она написала доктору Джемсу:«Я Вас очень прошу, будьте так добры, позаботьтесь, чтобы меня похоронили в склепе, рядом с мужем, как он того хотел; Можете ли Вы простить мне грубые выходки, которые я прежде позволяла себе по отношению к Вам? Они были вызваны страданьями, которые я не в силах описать».Странная штука жизнь, думал доктор Джемс, машинально складывая вчетверо эту записку. И закончил про себя: «Да, Эйлин, я все исполню!»
Глава 76
Состояние Каупервуда растаяло, Эйлин умерла, а Беренис за это время постепенно пришла к убеждению, что надо попытаться вновь найти себе место в жизни и, пожалуй, умом и сердцем отрешиться от меркантильных воззрений Запада, который признает лишь одно божество — деньги, роскошь. Сначала это стремление пересмотреть свои взгляды на жизнь возникло у Беренис под влиянием горя, которое после смерти Каупервуда чуть не сломило ее. Потом случайно, по крайней мере ей так показалось, ей попался под руку маленький томик, известный под названием «Бхагавадгита» — в нем была собрана и запечатлена вся религиозная мысль Востока за много тысячелетий. Кто постигнет Атман, Тот постигнет счастье Чистого познанья… Многие ль познают Тайну нашей жизни, Тайну человека? Лишь один, быть может. Повторяя про себя эти древние песнопения, Беренис задумалась: а не могла бы она познать тайну жизни и уразуметь ее суть? Почему бы не попытаться? И она решила пуститься на поиски. Прежде чем отправиться в Индию, где она мечтала обрести истину, Беренис поехала в Англию за матерью, которую она хотела взять с собой. Через несколько часов после ее приезда в Прайорс-Ков туда явился лорд Стэйн. Беренис сказала ему, что едет в Индию и намерена серьезно заняться индусской философией; Стэйн был удивлен и даже шокирован. Он много слышал об этой стране от англичан, которые ездили туда по поручению правительства или по другим делам, и, вспомнив сейчас их рассказы, объявил Беренис, что, как ему кажется, Индия — не место для молодой красивой женщины. Стэйн теперь отлично понимал, что Каупервуд был для нее не просто опекуном и что на прошлом ее матери есть какая-то тень: но он все еще был влюблен в Беренис, и ему казалось, что, несмотря на ее прошлое, несмотря на ее неопределенное положение в обществе, он был бы много счастливее, а его духовная и умственная жизнь много полнее, будь с ним Беренис — верная спутница с такими широкими, разумными взглядами. Да, разумеется, он был бы счастлив, если бы ему удалось жениться на женщине, в которой столько обаяния и благородства! Но когда Беренис рассказала ему, какие мысли появились у нее после смерти Каупервуда и как она пришла к убеждению, что там, вдали от Запада с его грубым меркантилизмом, она сумеет обрести душевное равновесие, Стэйн решил отложить разговор о чувствах до тех пор, пока Беренис сама не разберется в путанице овладевших ее противоречивых желаний и мыслей. Придя к такому выводу, Стэйн промолчал о любви и лишь выразил надежду, что Беренис выслушает советы его друга — лорда Сэвиренса. Он, как ей известно, прекрасно осведомлен об Индии и будет счастлив оказаться ей полезным. Беренис ответила, что рада получить совет и помощь лорда Сэвиренса, хотя она твердо решила идти прямо к намеченной цели. — Что-то тянет меня туда, как магнит, — добавила она, — и никакая сила не заставит меня свернуть с этого пути. — Иными словами, Беренис, вы верите в судьбу, — сказал Стэйн. — Что ж, я тоже верю в нее до некоторой степени. Но у вас при этом есть и мужество и уверенность в себе, чтобы осуществить свои желания. Ну, а мне пока остается только надеяться, что всякий раз, как вам что-нибудь понадобится, вы обратитесь ко мне. Я рад буду служить вам. Надеюсь, вы хоть изредка будете писать мне и сообщать о своих успехах. И Беренис обещала писать. После этого разговора Стэйн принял на себя все заботы, связанные с отъездом Беренис и ее матери в Индию. В частности, он взял для нее несколько рекомендательных писем от лорда Сэвиренса. Беренис для начала решила ехать в Бомбей; Стэйн выправил паспорта, заказал билеты и проводил мать и дочь в далекий путь.Глава 77
Подъезжая к Бомбею, Беренис и ее мать были поражены красотою открывавшейся панорамы. Пароход вошел в широкий, испещренный гористыми островками пролив, который тянулся до самого города. Слева возвышались величественные здания, а направо тянулся низкий берег, окаймленный пальмами, и, постепенно поднимаясь, где-то далеко переходил в горные вершины Западных Гат. Письмо лорда Сэвиренса управляющему отеля «Маджестик» обеспечило путешественницам самый любезный прием и великолепное обслуживание на все время их пребывания в Бомбее; им так здесь понравилось, что они решили задержаться на несколько недель и познакомиться поближе с этим городом, столь не похожим на города Европы и Америки. Они были вознаграждены за это множеством самых разнообразных впечатлений. Широкие проспекты, на которых то и дело попадаются запряженные буйволами телеги со всякой всячиной для продажи; шумные базары с их разнообразием и изобилием, кишащие людьми чуть ли не всех национальностей и вероисповеданий, всех цветов кожи от светло-коричневого до черного, — афганцы, сикхи, тибетцы, сенегальцы, багдадские евреи, японцы, китайцы — кого тут только нет! И сколько босых, сколько едва прикрытых рубищем. Нет предела нужде и нищете! Невероятно изможденные люди, худые, как скелеты, с впалой грудью, бегают впряженные в колясочки мимо прекрасных зданий, мимо роскошных храмов, мимо университета, по улицам, обсаженным хевейями и пальмами всех видов — кокосовыми, финиковыми, карликовыми; среди ветвей висят плоды и орехи. Одним словом, невиданные дотоле люди и тропические пейзажи поглощали все внимание Беренис и ее матери, пока они, наконец, не расстались с Бомбеем и не отправились поездом в Нагпур, город, расположенный к востоку от Бомбея, на пути в Калькутту. Они поехали туда по совету лорда Сэвиренса. Сэвиренс рекомендовал Беренис разыскать гуру Бородандаджу, которого он назвал Разрушителем материи и властелином энергии, — этот гуру жил близ Нагпура, где путешественникам предоставляется возможность поселиться на время в простом, старинной архитектуры, доме, выходящем на главную площадь. Как только они устроились, Беренис, следуя указаниям Сэвиренса, отправилась на поиски гуру. Она вышла на шоссе, пересекавшее Нагпур с севера на юг, и, дойдя до ветхого строения, походившего на заброшенную мельницу, круто повернула направо. Пройдя с полмили по заброшенному хлопковому полю, она вышла к роще черного дерева и огромных тиков — деревья росли здесь так густо, что жаркие лучи южного солнца не проникали сквозь их листву. Вспомнив подробное объяснение Сэвиренса, Беренис поняла, что здесь-то и находится жилище гуру. Она остановилась в нерешительности и, оглядевшись, увидела узкую, едва заметную тропинку, которая, извиваясь, вела куда-то в глубь рощи. Тропинка привела Беренис к квадратному деревянному дому. Большой, но полуразрушенный дом этот, как она узнала впоследствии, когда-то занимало правительственное учреждение, надзиравшее за лесами, частью которых и была эта роща. В стенах зияли провалы, которых никто никогда не заделывал, — сквозь них видны были комнаты, весь дом разрушался и изнутри и снаружи. Как узнала потом Беренис, это покинутое здание отдали гуру Бородандадже, чтобы он мог учить других искусству созерцания и показывать, как с помощью учения йоги человек может подчинить своей воле физические силы, всю внутреннюю энергию своего тела. Тишина и полумрак царили под сенью высоких ветвистых деревьев, меж которых с тайной робостью шла Беренис. Казалось, деревья говорили об одиночестве и покое — том душевном покое, которого она так жаждала и не могла найти в оставленном ею мире, таком для нее чуждом и неприемлемом. Когда Беренис подошла к одному из строений во дворе, навстречу ей вышла смуглая немолодая индуска и знаком пригласила ее пройти под арку во дворик, в глубине которого виднелось еще одно строение. — Иди сюда, — сказала она. — Учитель ждет тебя. Беренис прошла за этой женщиной через провал в полуразрушенной стене и, обойдя разбитые глиняные горшки и чаши, которые валялись подле колод, служивших, очевидно, скамьями, остановилась перед широкой массивной дверью. Индуска распахнула дверь, и Беренис, сняв туфли, переступила порог. Высокий смуглый человек с узким длинным лицом сидел в обычной позе йогов, скрестив ноги, на большом куске белой ткани, разостланном посреди комнаты. Руки его были сложены, словно он молился. Он не пошевельнулся и не сказал ни слова, только внимательно посмотрел на Беренис черными проницательными, испытующими глазами. Потом заговорил. — Где же ты была? — спросил он. — Вот уже четыре месяца, как умер твой муж, и я давно жду тебя. Пораженная его вопросом и всем его видом, Беренис невольно попятилась. — Не бойся, — сказал гуру. — Брахманизм, поучающий тем истинам, которые ты хочешь познать, не признает страха. Подойди сюда, дочь моя, и садись. — Длинной тонкой рукою он указал Беренис ее место — угол того же разостланного на полу полотна. Когда она села, он снова заговорил: — Ты проделала долгий путь в поисках того, что даст тебе покой. Ты ищешь Самади — единения с богом. Правду ли я сказал? — Да, учитель, — ответила Беренис, изумленная и испуганная, — это правда. — И ты считаешь, что много страдала от зол этого мира, — продолжал гуру. — И теперь ты готова изменить свою жизнь. — Да, да, учитель, да. Я готова изменить свою жизнь. Сейчас мне кажется, что это я причинила миру зло, а не он мне. — И ты готова искупить свою вину, если это возможно? — Да, о да! — еле слышно сказала она. — Но готова ли ты посвятить этому несколько лет, или в тебе говорит только минутное желание? — Я готова отдать годы, лишь бы искупить свою вину. Я хочу знать, как это сделать. Я должна этому научиться. В голосе Беренис звучало волнение. — Но, знай, это потребует терпения, труда и самообладания. Ты станешь всесильной, лишь подчинившись тому, о чем учит Брахма. — Я буду выполнять все, что потребуется! — сказала Беренис. — Для этого я и пришла сюда. Я знаю, мне нужно научиться сосредоточению и созерцанию, и тогда я стану мудрой настолько, чтобы искупить свою вину, а может быть и привести к раскаянию других. — Лишь тот, кто способен созерцать, способен познать истину, — сказал гуру, зорко вглядываясь в Беренис. Помолчав немного, он добавил: — Да, я приму тебя. Твоя искренность открывает тебе доступ в число моих учеников.Приходи завтра на занятия — будем учиться владеть своим дыханием. Узнаешь, что такое глубокое дыхание, среднее дыхание, всеобъемлющее дыхание йогов, носовое дыхание. Управлять дыханием — все равно, что управлять жизнью в теле. Это первый шаг, основа, на которой ты будешь строить свой новый мир. Через это ты достигнешь полной отрешенности. Ты освободишься от страдания, ибо страдание порождается желанием. — Учитель, я многое отдам за спокойствие духа, — сказала Беренис. Помолчав несколько секунд, гуру начал торжественно: — Если человек отказался от жизни в красивом доме, от красивой одежды и от хорошей пищи и отправился в пустыню, это вовсе не значит, что он уже от всего отрешился. Единственное его достояние, его плоть, может стать средоточием всех его помыслов, и его дальнейшая жизнь может превратиться в борьбу за то, чтобы поддержать и сохранить свою плоть. Отрешенность не имеет ничего общего с нашей плотью. Она возможна только в духе. Человек может восседать на троне и быть совершенно от всего отрешенным, а другой и в рубище может быть всецело занят собой. Но если человек обладает даром духовной прозорливости, если его озаряет свет Атмана, — все сомнения его рассеиваются. Он не содрогается, совершая то, что неприятно, и не стремится делать то, что приятно. Нет такого человеческого существа, которое могло бы жить в полной бездеятельности, но про того, кто отдает плоды своих деяний, можно сказать, что он достиг отрешенности. — О учитель, если б я могла овладеть хотя бы крупицей этой мудрости! — воскликнула Беренис. — Всякое познание, дочь моя, — продолжал гуру, — есть дар духа, и лишь тому, кто умеет быть благодарным в духе, познание раскрывается, словно лепестки лотоса. От своих западных учителей ты узнаешь, что такое искусство и наука, восточные же учителя покажут тебе сокрытые тайны мудрости. Истинно просвещенный человек не тот, который много знает, а лишь тот, кто владеет знанием сокрытой истины. Лишь сокрытая истина оживляет бездушные факты и внушает сердцу человека отдать знание на пользу другим. Не рассудком, а сердцем познаем мы бога. Делай добро ради добра, и тогда ты достигнешь полной отрешенности. — Я приложу все силы, чтобы научиться всем видам дыхания, учитель, — сказала Беренис. — Я знаю достаточно об учении йоги, и я понимаю, что в этом — основа прозрения. Я знаю, дыхание — это жизнь. — Это не совсем верно, — сказал гуру. — Если хочешь, я покажу тебе сейчас, что жизнь может быть там, где нет дыхания. Он взял небольшое зеркало и протянул ей со словами: — Когда я перестану дышать, поднеси это зеркало к моим губам и посмотри, потускнеет ли оно. Он закрыл глаза; понемногу тело его становилось все более неподвижным и прямым, совсем как статуя, — казалось, он застыл, оцепенел. Беренис, не сводя с него глаз, поднесла ладонь к его лицу. Прошло несколько минут, и она почувствовала, что дыхание его стало тише. Затем, к ее величайшему изумлению, оно прекратилось совсем. Никакого следа! Она подождала еще. Потом взяла зеркало и поднесла его на несколько секунд к губам гуру. Зеркало не потускнело. Да, дыхания не было, и гуру казался каменным изваянием. Беренис в волнении посмотрела на часы. Прошло десять долгих минут, прежде чем она обнаружила у него признаки дыхания — оно становилось все ровнее и наконец стало совсем нормальным. Гуру, казавшийся очень утомленным, открыл глаза и с улыбкой посмотрел на нее. — Это чудо! — воскликнула Беренис. — Я могу вот так задерживать дыхание по нескольку часов, — сказал гуру. — А иные йоги могут не дышать месяцами. Были даже такие, которых на недели и месяцы замуровывали в склепы, куда не проникает воздух, и они выходили оттуда живыми и здоровыми. Кроме этого, — продолжал гуру, — существует еще одно испытание: можно подчинить своей воле биение сердца. Я могу заставить сердце не биться, ибо, как ты, наверно, знаешь, дыхание и кровь нераздельны. Но это я покажу тебе в другой раз. Ты узнаешь со временем, что дыхание — это лишь проявление более сложной силы, обитающей в наших важнейших органах, но невидимой. Когда сила эта покидает тело, дыхание, подвластное ей, тотчас останавливается, и наступает смерть. Но, подчинив себе дыхание, тем самым ты подчиняешь себе в какой-то мере и эту сокрытую силу. Но предупреждаю тебя, это — предмет изучения Раджа-йоги, а к нему мы подойдем лишь после того, как ты усвоишь Хата-йоги. Сейчас ты, как видно, устала: иди отдохни и приходи завтра в такое время, когда сможешь приступить к занятиям. Беренис поняла, что ее встреча с этим необычайным человеком на сегодня окончена. Она неохотно рассталась с ним, — у нее было такое ощущение, словно она уходила от никем еще не тронутого и неисчерпаемого кладезя знаний. Возвращаясь по той же каменистой тропе, которая привела ее сюда, Беренис ускорила шаги — за время пребывания в Индии она успела узнать, что ночь здесь наступает мгновенно; здесь нет, как в Европе и Америке, ленивого заката, когда солнце медлит над горизонтом. Темнота подкрадывается быстро и плотным покровом окутывает землю. Подходя к Нагпуру, Беренис вдруг остановилась как завороженная, — так бесподобно хороша была священная гора Рамтек с ее сверкающими белыми храмами, словно парившими в вышине над всем этим краем. Беренис задумчиво стояла, любуясь редкостной красотой пейзажа, прислушиваясь к монотонным ритмам индусских мантров, далеко разносившимся в прозрачном воздухе. Беренис знала, что это поют священнослужители Рамтека: они собираются на исходе дня для молитвы и хором распевают свои священные гимны. Сначала их пение доносилось до Беренис подобно тихому шепоту, нежному и приятному, но чем ближе она подходила к городу, тем явственнее оно становилось, и, наконец, железный ритм песнопений зазвучал, словно мерные удары в гигантский барабан. И вдруг Беренис показалось, что сердце ее стало биться по-иному, в одном ритме с биением жизни в этой огромной, взыскующей бога стране, где дух ставят превыше всего, — и она поняла, что здесь она наконец обретет душевный покой.Глава 78
Следующие четыре года Беренис знакомилась с различными положениями учения йоги; прежде всего она приучилась сидеть в классической позе йогов, совсем прямо и неподвижно, так как, созерцая, человек не должен чувствовать своего тела. Ибо Дхьяна, то есть созерцание, учат йоги, есть отрешенность. Беренис училась подчинять себе жизненные силы своего тела — это было учение Праньяна; она изучала Пратьяхара — искусство внутреннего самосозерцания; Дхарана — искусство сосредоточения; Дхьяна — искусство созерцания; часто она сравнивала свои записи с записями других учеников, — вместе с нею занимались один англичанин, молодой и очень способный индус и две индуски. С течением времени она узнала все виды учения йоги — Хата, Раджа, Карма, Джнанаи и Бхакти. Она узнала, что брахма — сущность — и есть высшее проявление бога. Оно не может быть ни определено, ни выражено. В «Упанишадах» сказано, что брахма — это все сущее, а также познание и блаженство. Но и это еще не все. Нельзя говорить о брахме как о чем-то, что существует, Брахма есть само существование. Брахма — это не мудрость и не радость, брахма — это абсолютное познание, абсолютное блаженство.«Нельзя разделить на части бесконечное и заключить его в понятие конечного. Вся вселенная полна мною, моим извечным «я», недоступным для человеческих чувств. И хотя меня нет ни в одном живом существе, все они существуют во мне. Это не значит, что они существуют во мне физически. В том-то и заключается моя сокровенная тайна. Пытайтесь разгадать ее. Я поддерживаю жизнь во всех живых существах, я порождаю их, но моя связь с ними неуловима. Однако, если человек будет поклоняться мне и будет размышлять обо мне, ничем не отвлекаясь и посвятив мне все свои помыслы и каждую минуту своего времени, я дам ему все, в чем он нуждается, и сохраню его достояние. Даже те, кто поклоняется другим божествам и с верой в сердце приносит им жертвы, на самом деле поклоняются мне, хотя идут ко мне ложным путем. Ибо я единственный, кто возликует от этих жертв, я единственное божество, которое их принимает. И все же эти люди обречены вернуться к своим земным заботам и страстям, ибо они не признают меня в моей подлинной сущности. Кто приносит жертвы разным божествам, тот и придет к этим божествам. Кто поклоняется предкам, тот придет к своим предкам. Кто поклоняется силам и духам природы, тот придет к ним. Так и мои приверженцы придут ко мне».
Гуру однажды сказал Беренис: — Самый воздух, которым мы дышим, каждым своим дуновением как бы говорит: «Это божество!» И вся вселенная с мириадами солнц и лун возглашает устами тех, кто способен говорить: «Это божество!» И Беренис припомнились «Последние строки» — чудесные стихи Эмили Бронте, которая когда-то была ее любимой писательницей:
Душе моей не ведом страх,
Ничто ей все земные бури;
Мой щит — молитва на устах
И бог, витающий в лазури.
О всемогущий! Ты в груди,
Твоею волей сердце бьется, —
Я не прошу тебя — приди,
Ты здесь, и вечно радость льется.
Бесплодны помыслы людей —
Развеет их дыханье тлена, —
Так в океане средь зыбей
Бесследно исчезает пена.
Благоговейная хвала
Тебе, чья мощь непостижима!
Бессмертья твоего скала
От века непоколебима.
Сучит, как свет, твою любовь
Тысячелетий вереница,
Все рушит, созидая вновь,
Твоя незримая десница.
И пусть планет и звезд рои
В пучине сгинут бесконечной —
Живут создания твои
В тебе, всевышний, жизнью вечной!
И смерти нет. И не умрет
Ни малый атом, ни комета —
Где ты — все дышит, все живет
В лучах божественного света…
И, наконец, настал день, когда Беренис услышала от гуру последние напутственные слова, ибо он знал, что она должна покинуть его. — Итак, я научил тебя мудрости, которая есть тайна тайн, — сказал он. — Обдумай все, что я тебе говорил. А потом действуй, как сочтешь нужным и правильным. Ибо Брахма говорит: «Кто не ведает заблуждений и знает, что во мне все сущее, — знает все, что можно познать. И потому он поклоняется мне от всего сердца». Это самая священная истина из всего, чему я тебя научил. Кто познал это, тот воистину стал мудр. И цель его жизни достигнута.
Глава 79
Весь следующий год Беренис с матерью путешествовали по Индии, — они стремились как можно больше увидеть и лучше узнать эту удивительную страну, Беренис, посвятившая четыре года изучению индусской философии, успела, однако, насмотреться на то, как живут здесь люди; она поняла, что народ здесь жестоко обманут и что участь его горька, и ей захотелось до возвращения на родину как можно больше узнать об этом народе. И вот Беренис с матерью побывали в Джайпуре, Канпуре, Пешаваре, Лахоре, Равалпинди, Амритсаре, в Непале, в Дели и Калькутте, посетили Мадрас и даже добрались до южной границы Тибета. И чем дальше они проникали в глубь Индии, тем больше поражала Беренис ужасающая бедность и жалкое состояние миллионов людей, населяющих эту необыкновенную страну. Беренис была озадачена: как случилось, что в стране, породившей такую возвышенную религиозную философию, возникла и сохраняется поныне столь низменная и жестокая система социального гнета? Горсточка богачей ведет поистине королевский образ жизни, а миллионы трудятся, не разгибая спины, и получают за это гроши, которых не хватает даже на хлеб! Этот резкий контраст, разрушающий все иллюзии, был выше понимания Беренис. Она видела улицы и дороги, вдоль которых тесно, плечом к плечу, точно какая-то страшная живая изгородь, сидели на земле грязные, оборванные, полунагие люди, с глазами, полными отчаяния: некоторые просили милостыню для своих учителей — святых пилигримов. Беренис встречала такие места, где жители, дошли до последнего предела духовного и физического обнищания. В одной деревне началась эпидемия чумы и косила всех жителей подряд: никто не оказал им помощи, не прислал ни лекарств, ни врачей. Во многих деревушках в крохотной конуре ютится по тридцать человек — здесь, разумеется, неизбежны болезни и голод. И тем не менее, если в их жилищах прорубают окна, хоть крохотное оконце, они тотчас снова наглухо заделывают каждую щель. Самым страшным общественным злом казался Беренис чудовищный обычай выдавать замуж девушек, не достигших совершеннолетия, почти детей. В результате большинство этих несчастных дошло до такого физического и умственного упадка, что ни о каком здоровье физическом или душевном нечего и говорить, и рано наступающая смерть для них скорее избавление, чем проклятие. Видя трагическое положение каст «неприкасаемых», Беренис поинтересовалась, как они возникли. Ей рассказали, что когда светлокожие предки современных индусов впервые пришли в Индию, ее населяли дравиды — кожа у них была темнее и черты лица не так тонки; это они воздвигли величественные храмы на юге страны. И жрецы народа-пришельца потребовали, чтобы его кровь не смешивалась с кровью туземцев. Они объявили, что дравиды — племя нечистое, что к ним нельзя прикасаться. Так расовая вражда породила трагедию «неприкасаемости». Впрочем, как рассказали Беренис, Ганди сказал однажды:«Понятие неприкасаемости в Индии, наперекор всем стараниям сохранить его, быстро отмирает. Этот бесчеловечный обычай унижает индусов. Ведь с «неприкасаемыми» обращаются так, словно они хуже животных. Самая их тень будто бы оскверняет имя бога. Я осуждаю отверженность неприкасаемых так же решительно, как осуждаю навязанные нам англичанами методы управления страной, а быть может, еще решительнее. Существование каст неприкасаемых кажется мне еще менее терпимым, чем британское владычество. Если индуизм настаивает на сохранении каст неприкасаемых, значит индуизма больше не существует, значит он мертв».И все же Беренис не раз видела молодых матерей «неприкасаемых» с крошечными, хилыми детишками на руках, — неизменно держась в отдалении, они с отчаянием и тоской во взгляде следили за тем, как она беседует с каким-нибудь индусским проповедником. При этом она не могла не заметить, что некоторые из них недурны собой и, видимо, очень неглупы. Две или три походили на обыкновенных американок — так выглядели бы хорошенькие, толковые американские девушки, будь они заброшены, изолированы от всего окружающего мира и обречены на жизнь в грязи и нищете, как их индийские сестры. Впрочем, говорили, что пять миллионов «неприкасаемых» избавились от проклятия, приняв христианство. А дети? Беренис видела столько жалких, несчастных детей — эти крошечные заморыши даже не могли ходить, а только ползали; они росли заброшенными, без всякого ухода, до того истощенные недоеданием и болезнями, что ясно было: уже ничто не вернет им здоровья. Сердце Беренис размывалось от жалости, и тут ей вспомнились уверения гуру, что божество, Брахма — есть все сущее, есть беспредельное блаженство. Если это так, то где же он, бог? Мысль эта неотступно преследовала Беренис, пока она не почувствовала, что больше не выдержит, и тогда явилась другая мысль: нужно бороться с нищетой и вымиранием этого народа, спасти его. Разве не вездесущий направляет ее помыслы? Да, она должна помогать несчастным, она не успокоится, пока в земной жизни людей добро не придет на смену злу. Беренис всем сердцем стремилась к этому. Настало, наконец, время, когда Беренис и ее мать, потрясенные и измученные нескончаемым зрелищем бедствий и нищеты, решили тронуться в обратный путь; дома, в Америке, они на досуге поразмыслят над тем, что им довелось увидеть и как они могут помочь искоренению зла. И вот ясным, теплым октябрьским днем на пароходе «Холиуэл» они прибыли в Нью-Йорк прямо из Лиссабона и по реке Гудзон поднялись до причала у Двадцать третьей улицы. Пароход медленно шел вдоль берега, знакомые очертания нью-йоркских громад заслоняли небо. Как непохоже все это на Индию, думала Беренис, какой разительный контраст! Здесь чистые улицы, великолепные многоэтажные здания, могущество, богатство, самый изысканный комфорт, сытые, хорошо одетые люди, а там… Беренис чувствовала, что изменилась, но в чем — пока еще и сама не понимала. Она видела голод в самой обнаженной, уродливой форме — и не могла этого забыть. Не могла она забыть и выражения некоторых лиц, особенно детских — так смотрит затравленное, испуганное животное. Что же можно тут сделать, изменить? Да и можно ли? Но вот перед нею страна, где она родилась и выросла и которую любит больше всего на свете. И сердце Беренис забилось быстрее при виде самых обыденных картин — несметного множества реклам, расписывающих гигантскими разноцветными буквами бесценные достоинства того, чему подчас на самом деле грош цена, толпы крикливых мальчишек-газетчиков, вереницы оглушительно гудящих такси, легковых автомобилей и грузовиков; и напыщенный вид путешествующего американского обывателя, которому, в сущности, едва ли есть чем кичиться. Покончив с формальностями в таможне, Беренис и ее мать решили остановиться в отеле «Плаца» — по крайней мере на несколько недель; в такси они с радостью почувствовали: наконец-то они дома! И как только они устроились у себя в номере, Беренис позвонила доктору Джемсу. Ей не терпелось поговорить с ним о Каупервуде, о себе самой, об Индии — и не только о прошлом, но и о будущем. Они встретились в кабинете Джемса, в его доме на Западной Восемнадцатой улице. Беренис была растрогана: Джемс принял ее очень тепло и дружески, с большим интересом слушал ее рассказ о том, где она побывала и что видела. Доктор Джемс понимал, что Беренис интересует судьба состояния Каупервуда. И хотя ему было неприятно вспоминать о том, как скверно исполнили свои обязанности душеприказчики Каупервуда, он счел своим долгом подробно рассказать Беренис обо всем, что произошло в ее отсутствие. Прежде всего, несколько месяцев назад умерла Эйлин. Беренис была потрясена: она всегда думала, что именно Эйлин выполнит волю Каупервуда и распорядится всем его имуществом, как он того хотел. Она тотчас вспомнила, что Каупервуд всегда желал основать больницу. — А как же с больницей, которую он собирался построить в районе Бронкс? — поспешно спросила она. — Ну, из этого ничего не вышло, — отвечал Джемс. — Слишком много стервятников набросилось под прикрытием закона на состояние Фрэнка после его смерти. Со всех сторон посыпались иски, встречные иски, требования об отказе в праве выкупа закладных; даже состав душеприказчиков и тот был опротестован. Большое количество акций — на четыре с половиной миллиона долларов — было признано обесцененным. Пришлось выплачивать проценты по закладным, покрывать всевозможные судебные издержки, росли горы счетов, и в конце концов от громадного состояния уцелела едва десятая часть. — А картинная галерея? — с тревогой спросила Беренис. — Ничего не осталось, все продано с аукциона. И дворец тоже продан — за неуплату налогов и тому подобное. Эйлин принуждена была выехать оттуда и снять себе квартиру. А потом она заболела воспалением легких и умерла. Разумеется, все эти тревоги и огорчения лишь ускорили ее смерть. — Какой ужас! — воскликнула Беренис. — Как больно было бы Фрэнку, если б он знал!.. Столько сил стоило ему все это! — Да, немало, — в раздумье заметил Джемс, — но никто не верил в его добрые намерения. Куда там — даже и после смерти Эйлин в газетах все еще называли Каупервуда человеком сомнительной репутации, банкротом, чуть ли не преступником. Посмотрите, кричали они, его миллионы рассеялись как дым! Одна статья так и называлась: «Что посеешь…» Там говорилось, что деятельность Фрэнка потерпела полный крах… Да, немало было злобных заметок — и все потому, что, когда Фрэнк умер, от его богатства при попустительстве господ законников осталось одно воспоминание. — Как это тяжело! Как ужасно, что из всех прекрасных начинаний Фрэнка так ничего и не вышло. — Да, не осталось ничего, кроме могилы и воспоминаний. Беренис рассказала Джемсу о своих занятиях восточной философией и о той внутренней перемене, которая произошла в ней. Многое, что прежде казалось таким важным, теперь потеряло для нее всякое значение. Как терзалась она когда-то, опасаясь, что близость с Каупервудом может повредить ее положению в обществе. А теперь ее несравненно больше тревожит трагическое положение индийского народа. И Беренис описала Джемсу то, что видела в Индии: бедность, голод, неграмотность и невежество. Многое, говорила она, порождено суеверием, давними религиозными и социальными предрассудками. Подумать только, страна понятия не имеет о социальном, техническом и научном прогрессе. Джемс внимательно слушал, лишь по временам у него вырывалось: «Ужасно!», «Неслыханно!». Когда Беренис кончила, он сказал: — Разумеется, все, что вы говорите об Индии, верно. Но боюсь, что и общественное устройство Америки и Англии тоже не безупречно. Конечно, и здесь, в нашей стране, немало социальных зол и бедствий. Если вы захотите как-нибудь пройтись со мной по Нью-Йорку, я покажу вам целые районы, где люди живут ничуть не лучше ваших индийских нищих. Я покажу вам заброшенных детей — они обречены, нормальное физическое и умственное развитие для них попросту невозможно. Они рождены для бедности, и в бедности почти все они умирают, а годы, отделяющие их рождение от смерти, отнюдь нельзя назвать жизнью в подлинном смысле слова. В наших фабричных, промышленных городах есть трущобы, где условия человеческого существования столь же невыносимы, как в Индии. Беренис попросила Джемса показать ей эти районы Нью-Йорка — за всю свою жизнь она никогда не слышала и не видела, чтобы люди так жили в Америке. Это признание не удивило доктора Джемса — он знал, что жизненный путь Беренис отнюдь не был тернист… Они еще немного поговорили, и Беренис вернулась к себе в отель. Но всю дорогу у нее не выходил из головы рассказ Джемса о том, как рассыпалось в прах богатство Каупервуда. Как грустно, что потерпели крушение все его планы. Ничего не вышло, ничего! И ведь он любил ее, нуждался в ее понимании и поддержке, и она тоже любила его. А разве не она подала ему мысль поехать в Лондон и строить там метрополитен? И вот его нет; завтра она навестит его могилу — последнее, что осталось от всех его богатств, которые в свое время представлялись ей такими прекрасными и нужными, а теперь, после того что она видела в Индии, утратили в ее глазах всякий смысл. Следующий день в точности походил на тот, когда хоронили Каупервуда. Такое же серое небо низко висело над головой, и склеп издали показался Беренис одиноким каменным перстом, устремленным в эти свинцовые небеса. С охапкой цветов в руках она шла к нему по усыпанной гравием дорожке — и вдруг под надписью «Фрэнк Алджернон Каупервуд» увидела другую: «Эйлин Батлер Каупервуд». Что ж, наконец-то Эйлин обрела свое место рядом с тем, из-за кого она столько выстрадала, на кого поставила все, что имела… чтобы проиграть. А она, Беренис, казалось бы, одержала верх в этой игре, но лишь на время — она тоже страдала и тоже проиграла. Так Беренис стояла в раздумье, глядя на место последнего упокоения Каупервуда, и ей казалось, что она опять слышит звучный голос священника, произносящего надгробное слово: «Ты как наводнение уносишь их: они как сон, как трава, которая утром вырастает, днем цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Но теперь Беренис уже не могла думать о смерти так, как думала до поездки в Индию. Там на смерть смотрят лишь как на продолжение жизни, а в распаде одной материальной формы видят переход к возникновению другой. «Мы никогда не рождаемся и никогда не умираем» — говорит индусская мудрость. Ставя цветы в бронзовую урну на ступенях склепа, Беренис думала: Каупервуд теперь должен был бы знать, если не знал этого прежде, что его преклонение перед красотой во всех ее проявлениях, а особенно в женщине, его неустанные поиски этой красоты — не что иное, как стремление приобщиться к высшему началу, увидеть лик Брахмы, проступающий сквозь ее покров. Как было бы хорошо, если бы он разделял с нею эти ее взгляды, когда они были вместе… А что это гуру говорил о милосердии? «Будь благодарна возможности одарить ближнего. Радуйся, что на пути твоем встретился бедняк, ибо, помогая ему, ты помогаешь себе. Разве вся вселенная — это не ты? Если бедняк подошел к твоей двери, выйди ему навстречу, ибо ты выходишь навстречу самой себе». Но если вспомнить — какое же место занимали до сих пор дела милосердия в ее жизни? Чем она хоть раз помогла другому? Что она вообще сделала, чтобы оправдать свое право на существование? Вот Каупервуд — тот не только задумал основать больницу для бедных, но и сделал все, что было в его силах, чтобы осуществить свой замысел, хотя планы его и рухнули… А она… появлялось ли у нее когда-нибудь желание помочь бедным? Нет, что-то она не припомнит такого случая. Вся ее жизнь, за исключением последних нескольких лет, была посвящена погоне за удовольствиями, борьбе за положение в обществе. Но теперь она знает: человек должен жить не только ради себя самого, — он должен стремиться принести пользу многим, ибо нужды многих куда важнее тщеславия и благополучия тех немногих, к числу которых принадлежит и она. Но что же она может сделать? Чем помочь? И вдруг она снова подумала о больнице, которую хотел основать Каупервуд. А почему бы ей самой не заняться этим? Ведь он оставил ей солидное состояние, прекрасный дом, полный ценных вещей и произведений искусства. Она может выручить за него изрядную сумму; вместе с тем, что у нее уже есть, этого будет достаточно для начала. А быть может, ей удастся увлечь своей идеей и еще кого-нибудь. Доктор Джемс, наверное, согласится помочь. Прекрасная мысль!
Приложение
Предыдущая глава — это последнее, что написал Теодор Драйзер накануне своей смерти — 28 декабря 1945 года. Сохранились, однако, заметки для последующей главы и заключения ко всем романам трилогии — к «Финансисту», «Титану» и «Стоику». Это заключение, как сообщает жена Драйзера, писатель задумал в форме монолога, так чтобы у читателя уже не оставалось ни малейшего сомнения относительно того, как Драйзер понимает жизнь, что он думает о силе и слабости, о богатстве и бедности, о добре и зле. Ниже приводятся записи Драйзера, подготовленные к печати его женой.Возвращаясь в карете с Гринвудского кладбища, Беренис обдумывала, каким образом можно основать больницу; она понимала, что это задача нелегкая, тут множество и практических и чисто технических трудностей; необходимо найти специалистов, обладающих достаточными знаниями и опытом, способных правильно организовать и наладить это большое дело; нужно привлечь людей состоятельных и в то же время склонных к благотворительности. Что ж, можно продать дом на Парк авеню со всей обстановкой, — это даст по меньшей мере четыреста тысяч долларов. Она добавит к этому половину своего состояния; но всего этого едва ли хватит хотя бы для начала. Доктор Джемс, разумеется, самый подходящий человек на должность главного врача и директора, но сумеет ли она заинтересовать его? День за днем Беренис гадала и рассчитывала, как лучше приступить к делу, и тут она снова встретилась с доктором Джемсом, — он пригласил ее поехать в Ист-Сайд и посмотреть самые страшные нью-йоркские трущобы. Для Беренис, которая в юности ни разу не была в этих кварталах Нью-Йорка, — в самом сердце нищеты и запустения, — это первое посещение Ист-Сайда явилось горестным откровением. Мать всегда тщательно оберегала ее от соприкосновения с жестокой действительностью, — до того рокового вечера, когда в ресторане одного из крупнейших нью-йоркских отелей Беренис со стыдом и ужасом узнала, что прошлое ее матери, Хэтти Стар из Луисвиля, далеко не безупречно (об этом поведал во всеуслышание некий подвыпивший джентльмен); тогда она впервые почувствовала, что значит быть отвергнутой обществом! Но теперь все эти волнения остались позади. Беренис произвела полную переоценку ценностей, и взгляды ее совершенно изменились. Ее былые честолюбивые стремления казались ей теперь пустой, никчемной шелухой. Поездка в Индию пробудила в ней желание глубже окунуться в жизнь — посмотреть, что же представляют собою те силы, которые движут жизнью, и постараться изучить их; ведь прежде все это было так далеко от нее. Теперь она уже не стремилась занять прочное положение в высшем обществе — в ней крепло желание стать как-то полезной людям. И вот она попала с доктором Джемсом в трущобы; ему нередко приходилось бывать здесь, и ничто его не удивляло, но Беренис была потрясена, ей едва не стало дурно. Какая грязь, какое зловоние! Кроватей нет — люди спят прямо на полу, на грубых мешках, набитых соломой, — днем их кучей сваливают куда-нибудь в угол. В двух тесных конурках ютятся шесть взрослых и семеро детей. Окон нет, но в стенах зияющие дыры, из них тянет смрадом, здесь наверняка водятся крысы. Наконец они снова вышли на улицу, всей грудью вдохнули свежий воздух, и Беренис сказала доктору Джемсу, что она непременно хочет основать больницу, о которой думал Каупервуд. Надо же хоть чем-то помочь несчастным, заброшенным детям, вот таким, как те, которых они сейчас видели! Она с радостью отдаст на это половину своего состояния. Доктор Джемс был тронут — только тут он понял, какая большая перемена произошла в Беренис за годы, что она провела вдали от Америки. А Беренис, почувствовав, что он одобряет ее намерение, спросила, не поможет ли он ей собрать нужные для этой цели деньги и не согласится ли руководить больницей и занять пост главного врача? Джемс давно знал, как остро нуждается Бронкс в больнице, к тому же руководить такой больницей было его заветной мечтой, — и он с радостью согласился на предложение Беренис.
Шесть лет спустя мечта стала реальностью; во главе новой больницы был поставлен доктор Джемс. Беренис прошла курсы медицинских сестер; не без удивления она впервые обнаружила в себе глубокий материнский инстинкт: оказалось, что она очень любит детей, и потому детское отделение было поручено ее заботам. Порою и доктор Джемс удивлялся, видя, как неутомимо, с какой нежностью ухаживает она за жалкими, заброшенными малышами. Дети чувствовали это и тоже привязались к ней. В отделение каким-то образом попали двое слепых малышей. Оба они были слепы от рождения. Хрупкой белокурой девочке по имени Патриция было всего пять лет, ее мать тяжким трудом зарабатывала, свой хлеб и не могла уделять внимания ребенку; долгими часами девочка сидела одна в уголке и, естественно, очень отстала в своем развитии. К тому же мать, чувствуя себя без вины виноватой, словно чуждалась маленькой калеки. Случайно обнаружив эту песчинку, такую одинокую в безбрежном человеческом море, Беренис горячо полюбила слепую девочку и всеми силами старалась ей помочь; она научила Патрицию многим затеям — например, кататься с горки на детской площадке, не боясь упасть. И какой радостью была для слепого ребенка эта нехитрая игра! Девочка готова была без конца, снова и снова скользить с горки, это ей никогда не надоедало, и личико ее всякий раз светилось счастьем: наконец-то она научилась что-то делать сама! В отделении был еще пятилетний мальчик по имени Дэвид — тоже слепой от рождения. Ему посчастливилось: его мать, женщина неглупая, очень его любила, старалась быть внимательной к нему, и поэтому он был много развитее Патриции. Беренис научила его взбираться на дерево — и вот он влезал на какой-нибудь сук повыше и, подняв к солнцу худенькое выразительное лицо, как это обычно делают слепые дети, покачивая головой, распевал «В вечерний час». Однажды, шагая мимо широкого окна, выходившего на детскую площадку, доктор Джемс увидел среди малышей Беренис и остановился посмотреть на нее. Лицо у нее было спокойное и радостное, и ясно было, что заботиться о детях для нее счастье. Мимо проходила старшая сестра — мисс Слейтер, и доктор поделился с ней своими наблюдениями. Да, Беренис превзошла все ожидания и, право же, заслуживает самой горячей похвалы! В тот вечер, когда Беренис уже собиралась домой, мисс Слейтер идоктор Джемс повторили ей это: она так много делает для детей, все в больнице так ценят и любят ее… Беренис с улыбкой поблагодарила их — она так рада, что может хоть чем-то облегчить участь несчастных ребят! Однако по дороге домой, в свою скромную квартиру, Беренис невольно задумалась о том, как ничтожно ее участие в жизни огромного мира. Что значит пылинка человеческой доброты в необозримом море нищеты и отчаяния! Ей вспомнились несчастные голодные дети, которых она видела в Индии, — какие у них были страдальческие лица! И какую жестокость, какое равнодушие и пренебрежение проявляет к их горестной участи весь мир. «Да что же такое этот мир? — спрашивала она себя. — Неужели миллионы крошечных существ рождаются лишь ради мук и унижения — чтоб умереть от нужды, холода и голода?» Правда, наконец-то она стала хоть что-то делать, чтобы облегчить страдания тех немногих детей, которым посчастливилось попасть в ее больницу. Ну, а как же остальные, тысячи и тысячи, — ведь всех к себе не возьмешь? Как же они? Все ее попытки помочь — лишь капля в море. Одна капля! Беренис окинула мысленным взором прошлое. Она подумала о Каупервуде и о той роли, какую играла она в его жизни. Как упорно, как яростно боролся он долгие годы, прокладывая себе дорогу, — а все для чего? Ради богатства, власти, роскоши, влияния, положения в обществе? Что же сталось со всеми этими замыслами и стремлениями, которые не давали Фрэнку Каупервуду покоя и толкали его вперед и вперед? Как далека она теперь от всего этого, хотя прошло совсем немного времени! Как внезапно раскрылась перед нею беспощадная правда жизни! Ведь она всегда жила, не зная забот и тревог, в довольстве и изобилии, которых она, быть может, и не оценила бы, если бы случай не привел ее в далекую Индию, где на каждом шагу перед нею вставали разрывающие душу социальные контрасты — контрасты, от которых никуда не уйдешь. Там настала для Беренис заря духовного пробуждения, у нее раскрылись глаза, и она увидела то, чего не видела до сих пор. Что ж, нужно идти дальше, приобретать опыт и знания и постараться по-настоящему и до конца понять, что же такое жизнь и для чего живет человек.

ГЕНИЙ (роман)
Юджин Витла, обещаешь ли ты взять эту женщину себе в жены, чтобы жить с ней согласно воле божьей в священном браке? Обещаешь ли ты любить ее, беречь, почитать, лелеять в болезни и здоровье и, отказавшись от всех других, быть верным ей одной, пока смерть не разлучит вас?»«Обещаю».
Герой романа «Гений», талантливый художник Юджин Витла, во многом сродни своему создателю — американскому писателю Теодору Драйзеру. Их сближают не только биографические совпадения, но и эстетические взгляды. Тернист путь Юджина к цели. Он обретает материальное благополучие и респектабельное положение в обществе ценой невосполнимых потерь. Но Юджин — сильная личность, он сумел не сломаться, пережив творческий и душевный кризис. Творческая личность, он находится в постоянном поиске и открывает для себя новую сферу — «великое искусство снов»…
Часть I. ЮНОСТЬ
Глава 1
Действие этой повести начинается между 1884–1889 годами в городе Александрии, небольшом административном центре штата Иллинойс. Собственно городом Александрию с ее десятитысячным населением можно было назвать лишь в той мере, в какой она перестала быть деревней. В описываемую пору в ней имелись: одна линия конки, театр, носивший название «Оперы» (неизвестно почему, так как там никогда не ставилась ни одна опера), два вокзала, по числу проходивших здесь железных дорог, и так называемый деловой центр, в сущности, четыре тротуара вокруг главной площади, на которых обычно толкался народ. В деловом центре города находился окружной суд и редакции четырех газет — двух утренних и двух вечерних. Газеты эти не без успеха старались довести до сознания своих читателей, что на свете много всяких вопросов как местного, так и общегосударственного значения и что жизнь ставит человеку немало интересных и разнообразных задач. Несколько озер и живописная речка на окраине — пожалуй, самая приятная особенность окрестного пейзажа — сообщали Александрии характер недорогого курорта. Строения в городе были не новые, почти сплошь деревянные, как и вообще в американском захолустье того времени, но некоторые кварталы выглядели даже нарядно. Дома здесь стояли в глубине зеленых палисадников, и обрамлявшие их живые изгороди, неизбежные цветочные клумбы и вымощенные кирпичом дорожки с непреложностью свидетельствовали о достатке и комфорте, которым наслаждались их обладатели. Александрия была городом молодых американцев. Ее дух был молод. Перед каждым еще простирались неведомые дали. Здесь можно было жить и радоваться жизни. В этом городе обитала семья, которая по своему положению и составу могла считаться типичной для Америки, в частности, для ее Среднего Запада. Семью эту нельзя было назвать бедной — во всяком случае, она себя такой не считала, — но она отнюдь не была и богатой. Отец, Томас Джеферсон Витла, агент по продаже швейных машин, был в округе главным поставщиком одной из наиболее известных и ходких марок. Продажа каждой машины стоимостью в двадцать, тридцать пять и шестьдесят долларов приносила ему тридцать пять процентов комиссионных. Машин продавалось немного, но достаточно, чтобы агент мог выручить от этих операций до двух тысяч долларов в год. На эти средства мистеру Витла удалось приобрести участок земли и дом, который он уютно обставил, и открыть на главной площади лавку, где были выставлены последние модели швейных машин. Он также принимал в обмен подержанные машины других марок, со скидкой от десяти до пятнадцати долларов с продажной цены новой машины, занимался починкой и, сверх всего прочего, с истинно американской предприимчивостью, пробовал свои силы в страховом деле. Он взялся за него в расчете, что к тому времени, как сын его, Юджин Теннисон Витла, подрастет, страховое дело достаточно разовьется, и он передаст ему эту часть своей работы. Конечно, пока еще трудно было сказать, что выйдет из его сына, но всегда хорошо иметь что-нибудь про запас. Мистер Витла, рыжеватый блондин невысокого роста, с голубыми глазами, приветливо глядевшими из-под густых бровей, орлиным носом и вкрадчивой, подкупающей улыбкой, был человек живой и энергичный. Необходимость внушать несговорчивым матронам и их равнодушным или косным мужьям, что им не обойтись без новой швейной машины, выработала в нем осторожность и такт, а также известную изворотливость. Он умел приноравливаться к людям. Его жена считала, что даже слишком. И уж во всяком случае мистер Витла был честен, трудолюбив и бережлив. Ему с женой пришлось долго ждать того дня, когда можно будет сказать, что у них есть свой собственный дом и припасено кое-что про черный день. Но когда это время наступило, у супругов Витла уже не было основания жаловаться на судьбу. Их славный домик, белый с зелеными ставнями, ютился в тени высоких густых деревьев, а перед домом раскинулась низко подстриженная лужайка с тщательно разделанными клумбами. На террасе стояли кресла-качалки, под одним деревом висели качели, под другим — гамак, а в сарае помещались шарабан и несколько фургонов, в которых Витла разъезжал со своим товаром. Он любил собак и держал двух шотландских овчарок. Миссис Витла обожала все живое: у нее была канарейка, кошка, куры, а в скворечнице, укрепленной на высоком шесте, обитало несколько дроздов. Словом, это был прелестный уголок, и супруги Витла по праву гордились им. Мириэм Витла была своему мужу доброй женой. Дочь владельца фуражной лавки в Вустере, что в графстве Мак-Лин, небольшом городке близ Александрии, она никогда не выезжала дальше Спрингфилда и Чикаго. В Спрингфилд она попала еще в ранней юности, по случаю похорон Линкольна, а в Чикаго съездила вместе с мужем, чтобы побывать на ярмарке, которую штат ежегодно устраивал на городской набережной. Миссис Витла хорошо сохранилась, она все еще была красива; под ее внешней сдержанностью скрывалась поэтическая натура. Это она настояла на том, чтобы назвать их единственного сына Юджин Теннисон — в честь своего брата Юджина, а заодно и прославленного поэта, — такое сильное впечатление произвели на нее «Королевские идиллии». Имя Юджин Теннисон казалось папаше Витла несколько вычурным для американского мальчика, уроженца Средне-Западных штатов, но он любил жену и обычно считался с ее желаниями. Имена Сильвия и Миртл, которые она выбрала для дочерей, ему даже нравились. Все дети были хороши собой. Черноволосая, темноглазая Сильвия, энергичная, здоровая, всегда улыбающаяся, в двадцать один год цвела, как роза. Сестра ее, более хрупкого сложения, миниатюрная, бледная, застенчивая, была необычайно мила — совсем как цветок мирта, имя которого она носит, говорила про нее мать. Прилежная, мечтательная, склонная к уединению, она любила стихи. Все юные денди из старших классов считали за честь пройтись с Миртл, но в ее присутствии не могли сказать двух слов. И она не знала, о чем с ними говорить. Юджин Витла, двумя годами моложе Миртл, был любимцем семьи. У него были гладкие черные волосы, темные миндалевидные глаза, прямой нос и красиво очерченный, но, пожалуй, безвольный подбородок. Все находили необыкновенно приятной его улыбку, обнажавшую ровные белые зубы, которыми он словно гордился. Он не отличался крепким здоровьем, был подвержен частой смене настроений и рано стал проявлять черты артистической натуры. Плохое пищеварение и некоторое малокровие делали его более хрупким на вид, чем он был на самом деле. Под броней сдержанности в нем таилась пламенная, страстная душа, кипели бурные желания. Он был застенчив, самолюбив, не в меру чувствителен и очень неуверен в себе. Дома он слонялся без дела, зачитывался Диккенсом, Теккереем, Скоттом и По и, глотая книгу за книгой, размышлял о жизни. Его манили большие города. Он мечтал о путешествиях. В школе на переменах он читал книги Тэна и Гиббона, дивясь пышности и красоте описываемых ими королевских дворов. Уроки языка, математики, естествознания и физики казались ему скучными, интерес к ним просыпался у него лишь временами и не надолго. Иногда вдруг какие-то вещи представлялись ему занятными — что такое на самом деле облака, из чего состоит вода, какие химические элементы входят в состав земли. Но охотнее всего он лежал в гамаке и, будь то весной, летом или осенью, глядел в голубое небо, просвечивающее сквозь верхушки деревьев. Коршун, парящий в небе и как бы застывший в созерцательном полете, надолго приковывал к себе его внимание. Чудесное зрелище белоснежных облаков, которые, клубясь, несутся по ветру, словно плавучий остров, было для него подобно песне. Он не лишен был остроумия и обладал чувством юмора и чувством пафоса. Порой ему казалось, что он будет заниматься живописью, порой — что писать стихи. Он угадывал в себе склонность и к тому, и к другому, но не занимался, в сущности, ни тем, ни другим. Иногда он делал какие-то наброски — ничего законченного: уголок крыши, вьющийся из трубы дымок и летящие птицы; излучина реки со склонившейся над водою ивой и тут же лодка у причала; мельничная запруда со стайкой плавающих уток и мальчик или женщина на берегу. У него не было еще в то время дара изображения, а только очень острое чувство красоты. Очарование летящей птицы, пышно распустившейся розы, дерева, раскачивающегося на ветру, — все захватывало его. Он любил бродить вечерами по улицам родного города, любуясь яркими витринами и наслаждаясь ощущением молодости и воодушевления, которое дает толпа, и ощущением ласкового уюта от освещенных окон домов, просвечивающих сквозь густые деревья. Он восхищался девушками, они влекли его, — но только те, что были по-настоящему красивы. В школе были две-три девушки, при виде которых ему приходили на память поэтические сравнения из книг: «красота — что стрела, пущенная из лука», «златые косы, дивный стан», «прелестный образ: поступь феи», но он терялся и робел в их присутствии. Они казались ему прекрасными, но такими далекими. Его воображение наделяло их большей красотой, чем это было на самом деле, — красота жила в его душе, но он еще не знал этого. Одна девушка, чьи густые волосы, золотистые, как спелые колосья, тугими косами лежали на затылке, долго занимала его мысли. Он обожал ее издали, а она и не подозревала, что он не сводит с нее серьезных горящих глаз, стоит лишь ей отвернуться. Вскоре она уехала, ее родители переселились в другой город, и время исцелило раны Юджина — ведь на свете много красоты. Но цвет ее волос и чудесные линии шеи запомнились ему навсегда. Витла подумывал о том, чтобы дать детям высшее образование, но никто из них не обнаруживал влечения к наукам. Они были, пожалуй, мудрее книг, так как жили в мире воображения и чувства. Сильвия мечтала о материнстве. В двадцать один год она вышла замуж за Генри Берджеса, сына Бенджамина Берджеса, издателя газеты «Морнинг Эппил», и в первый же год у них родился ребенок. Миртл, погруженная в премудрости алгебры и тригонометрии, уже задумывалась над тем, выйти ли ей замуж или стать учительницей, так как скромные средства семьи требовали, чтобы она чем-нибудь занялась. Юджин учился, грезя наяву и не заботясь о том, чтобы приобрести полезные знания. Он немного писал, но эти попытки шестнадцатилетнего мальчика были ребячеством. Он рисовал, но не было никого, кто сказал бы ему, стоят ли чего-нибудь его рисунки. Все житейское, как правило, не имело для него значения, а в то же время его пугало, что жизнь ставит человеку практические задачи — продавать и покупать, как его отец, вести торговые книги, управлять делом. Все это смущало его, и он очень рано стал задумываться над тем, что его ждет. Он не возражал против занятия, которое избрал для себя отец, но оно не интересовало его. Он думал, что для него это будет бессмысленной, скучной погоней за куском хлеба, да и страховое дело не лучше. Едва ли он когда-нибудь разберется в бесконечных дурацких параграфах страхового полиса. Когда по вечерам или в субботу он помогал отцу в лавке, это было для него сущим наказанием. Не лежала у него душа к этому делу. Когда Юджину пошел тринадцатый год, мистер Витла уже стал понимать, что его сын не создан для коммерции, а когда тому минуло пятнадцать, он окончательно убедился в этом. Судя по книгам, которыми увлекался мальчик, и по его школьным отметкам, Юджина, видимо, не интересовали и школьные занятия. Миртл, которая была на два года старше брата, но в школе занималась в одной с ним классной, рассказывала, что Юджин меньше всего думает об уроках. Он глаз не отрывает от окна. Опыт Юджина по части любовных увлечений был небогат. На его долю выпали те мимолетные переживания, которые суждены нам в ранней юности, когда мы украдкой целуем девушек или они украдкой целуют нас, — к Юджину относилось последнее. Он не увлекался какой-либо определенной девушкой. В четырнадцать лет одна юная школьница избрала его на вечеринке своим кавалером и во время игры в «почту», когда в темной комнате девичьи руки обвились вокруг его шеи и девичьи губы коснулись его губ, он испытал незабываемое ощущение; но больше им не пришлось встретиться. Вспоминая это первое переживание, Юджин мечтал о любви, но всегда робко, издали. Он боялся девушек, да и те, по правде говоря, боялись его. Они не могли его понять. Но на семнадцатом году жизни, осенью, Юджин встретил девушку, которая произвела на него глубокое впечатление. Стелла Эплтон, его ровесница, была настоящей красавицей. Белокурая, с темно-голубыми глазами и тонкой, воздушной фигуркой, она была исполнена того веселого и простодушного очарования, которое и само не подозревает, как оно опасно для обыкновенного беззащитного мужского сердца. Она кокетничала с мальчиками не потому, что кто-нибудь ей особенно нравился, а потому, что это забавляло ее. В этом кокетстве не было, однако, ничего мелочного и дурного, просто она находила, что мальчишки все премилые, причем те, что поскромнее, привлекали ее, в сущности, больше, чем воображающие о себе умники. Юджин понравился ей своей робостью. Он увидел ее в первый раз, когда был уже в выпускном классе. Стелла недавно поселилась в их городе и поступила в последний класс третьей ступени. Отец ее приехал из Молина, штат Иллинойс, получив место управляющего на новой, только что открывшейся здесь фабрике приводных ремней. Девушка быстро подружилась с Миртл — по-видимому, ее привлекал в Миртл кроткий нрав, тогда как ту привлекала веселость Стеллы. Как-то днем, когда подруги шли по Главной улице, возвращаясь домой с почты, они повстречали Юджина, который шел к товарищу. Юджин почувствовал робость; завидев их издали, он хотел было бежать, но они уже заметили его, и Стелла с интересом его разглядывала. Миртл захотелось показать брату свою хорошенькую подругу. — Ты не из дому? — спросила она, останавливая Юджина. Это давало ей возможность познакомить с ним Стеллу; теперь он никак не мог улизнуть. — Мисс Эплтон, это мой брат Юджин. Стелла наградила его светлой, поощрительной улыбкой и протянула руку, которую Юджин робко пожал. Он совсем растерялся. — У меня ужасный вид, — пробормотал он извиняющимся тоном. — Я помогал отцу чинить шарабан. — Пустяки, — сказала Миртл. — Куда ты идешь? — К Гарри Моррису, — ответил он. — Зачем? — Мы пойдем за орехами. — Я тоже не отказалась бы от орехов, — сказала Стелла. — Я вам принесу, — любезно вызвался он. Она опять улыбнулась. — Буду очень рада. Ей хотелось предложить ему взять их с собой, но она не решилась. Юджин сразу подпал под власть ее чар. Стелла была похожа на одно из тех недосягаемых созданий, которые и раньше появлялись на его горизонте. Чем-то она напоминала девушку с косами цвета спелых колосьев, только в той было больше человеческого и меньше сказочного. Стелла была прелестна. Нежная и розовая, как фарфоровая статуэтка, она казалась очень хрупкой, хотя на самом деле была здоровой и сильной. У Юджина захватило дыхание, но он чувствовал какой-то страх перед нею. Ему хотелось бы знать, что она подумала о нем. — Ну, нам пора домой, — сказала Миртл. — Я пошел бы с вами, если бы не сговорился с Гарри. — Ладно, — ответила Миртл, — мы не обидимся. Он попрощался, чувствуя, что произвел невыгодное впечатление. Глаза Стеллы смотрели на него вопросительно. Когда он отошел, она поглядела ему вслед. — Какой он милый, — сказала она Миртл. — Да, только ужасный нелюдим. — Отчего это? — Он не очень крепкого здоровья. — Мне нравится его улыбка. — Вот как? Я ему скажу! — Нет, пожалуйста, не надо! Ведь ты не скажешь, правда? — Нет, нет! — Но у него в самом деле хорошая улыбка. — Приходи к нам как-нибудь вечером, ты его непременно застанешь. — С удовольствием, — обрадовалась Стелла. — Вот хорошо. Мне и вправду хотелось бы. — Приходи в субботу с ночевкой. Он будет дома. — Обязательно приду! — Я вижу, он тебе понравился! — засмеялась Миртл. — Он очень славный, — просто сказал Стелла. Их вторая встреча и в самом деле произошла в субботу вечером, после того как Юджин вернулся с работы из страховой конторы отца. Стелла пришла к ужину. Он увидел ее в открытую дверь гостиной и помчался наверх переодеваться, — в нем пылал тот огонь юности, которого не может потушить расстроенное пищеварение или слабые легкие. Трепеща от радостного волнения, Юджин особенно усердно занялся своим туалетом, тщательно вывязал галстук и сделал аккуратный прямой пробор. Когда он через некоторое время спускался вниз, его мучила мысль, что ему надо сказать Стелле что-то умное, достойное его, а то она и не заметит, какой он интересный, но вместе с тем он боялся, как бы не осрамиться. Когда он вошел в гостиную, Стелла сидела с его сестрой у камина. Лампа под абажуром в красных цветах мягко освещала комнату. Это была обычная в таких домах гостиная — стол, покрытый голубой скатертью, простые фабричные стулья и полка с книгами, — но в комнате было уютно, и этот домашний уют чувствовался во всем. Миссис Витла поминутно выходила из комнаты, занятая делами по хозяйству. Отца еще не было дома. Он поехал куда-то в другой конец округа, надеясь продать там одну из своих машин, — его ждали домой к ужину. Юджину было все равно, дома отец или нет. Мистер Витла, когда бывал в хорошем настроении, любил подтрунивать над детьми, причем всегда в одном и том же духе: он подмечал просыпающийся в них интерес к другому полу и предсказывал, что все их пылкие увлечения завершатся когда-нибудь самым прозаическим образом. Он любил говорить Миртл, что она выйдет замуж за ветеринара, а Юджину прочил в жены некую Эльзу Браун, у которой, как уверяла миссис Витла, были сальные локоны. И Миртл и Юджин принимали эти замечания добродушно, Юджин даже удостаивал их снисходительной усмешки — он любил шутку; но уже в этом возрасте он трезво судил об отце. Он видел, как жалко его занятие, и ему было смешно, что подобная профессия может предъявлять права и на него, Юджина. Он таил свои чувства, но в нем кипел протест против всего заурядного, словно раскаленная лава в кратере вулкана, который время от времени зловеще дымится. Ни отец, ни мать не понимали его. Для них он был странный мальчик, мечтательный, болезненный, еще не отдающий себе отчета в том, чего он, собственно, хочет. — А, вот и ты! — сказала Миртл, когда он вошел. — Садись сюда. Стелла встретила его чарующей улыбкой. Юджин подошел к камину и стал в позу: ему хотелось произвести впечатление на девушку, но он не знал, с чего начать. Он так растерялся, что не мог сказать ни слова. — Вот и не угадаешь, что мы делали! — защебетала Миртл, приходя ему на помощь. — А что? — смущенно отозвался он. — А ты отгадай. Ну, попробуй. — Хоть разочек, — прибавила Стелла. — Жарили кукурузу, — осмелился предположить Юджин, невольно улыбаясь. — То, да не то. Это говорила Миртл. Ее подруга не сводила с Юджина широко раскрытых голубых глаз. — Еще разок, — предложила она. — Каштаны! — догадался он. Она весело кивнула. «Какие волосы!» — подумал Юджин. Затем спросил: — А где же они? — Вот вам один, — ответила его новая знакомая и, смеясь, протянула ему на ладони каштан. Под действием ее ласкового смеха к нему стал возвращаться дар речи. — Жадина! — сказал он. — Как не стыдно! — воскликнула она. — А я отдала ему свой последний каштан. Не давай ему ничего, Миртл. — Беру свои слова обратно, — поправился он. — Я не знал. — Ничего он не получит! — заявила Миртл. — На, Стелла, держи, а ему не давай! — И она высыпала последние каштаны Стелле на ладонь. Юджин понял, что от него требовалось. Это был вызов — его приглашали отнять каштаны силой. Пожалуйста, он готов. — Ну дай же! — Он протянул руку. — Так не честно. Стелла покачала головой. — Только один! — настаивал он. Она все так же медленно и решительно покачала головой. — Только один, — просил он, придвигаясь. Золотистая головка не сдавалась. Но рука, державшая каштаны, была так близко к Юджину, что он мог схватить ее. Девушка хотела было убрать ее за спину и там переложить каштаны в другую руку, но он подскочил и крепко сжал ее запястье. — Миртл! Выручай! — позвала она. Миртл бросилась на помощь. Их было двое против одного. В самом разгаре борьбы Стелла увернулась от Юджина и встала. Ее волосы задели его по лицу. Он крепко держал ее маленькую ручку. На мгновение он заглянул ей в глаза. Что это было? Он не мог бы сказать. Но только он выпустил ее руку и подарил ей победу. — Ну вот, — улыбнулась она. — А теперь я дам вам один каштан. Он схватил каштан и засмеялся. Но гораздо больше ему хотелось схватить ее в объятия. Незадолго до ужина вошел отец и подсел к ним, но немного погодя взял свежий номер чикагской газеты и ушел читать в столовую. А потом мать позвала всех ужинать, и Юджин сел рядом со Стеллой. Его занимало все, что она делала и говорила. Когда ее губы шевелились, он наблюдал за тем, как они шевелятся. Когда обнажались ее зубы, он думал о том, какие они красивые. Светлый завиток у нее на лбу манил его, словно золотой пальчик. Только сейчас он понял всю прелесть выражения «золотистые пряди волос». После ужина он, Миртл и Стелла вернулись в гостиную. Отец продолжал читать в столовой, а мать принялась мыть посуду. Миртл вскоре ушла помогать ей, и Юджин остался со Стеллой вдвоем. Теперь, когда они были одни, Юджин не решался говорить. Что-то в ее красоте сковывало его. — Ты любишь школу? — спросила она, помолчав. Ей казалось неудобным сидеть молча. — Не очень, — ответил он. — Там нет ничего для меня интересного. Я думаю бросить учение и начать работать. — А что ты собираешься делать? — Еще не знаю, — может, стану художником. Впервые он признавался в своем честолюбивом стремлении. Зачем, он и сам не знал. Но Стелла пропустила это признание мимо ушей. — Я боялась, что меня не примут в выпускной класс, — сказала она, — но меня приняли. Директор школы в Молине написал здешнему директору. — Они в таких случаях ужасно придираются, — сочувственно отозвался он. Она встала и принялась рассматривать книги на полке. Он не спеша последовал за ней. — Ты любишь Диккенса? — спросила она. — Очень, — сказал он серьезно. — А мне он не нравится. Он слишком длинно пишет. Я больше люблю Вальтера Скотта. — И я люблю Вальтера Скотта, — сказал он. — Сейчас я тебе назову одну книгу, которая мне очень нравится. Она замолчала, губы ее приоткрылись. Она силилась вспомнить, название книги и подняла руку, словно хотела поймать его в воздухе. — «Русое божество»! — воскликнула она наконец. — Да, прекрасная вещь, — одобрил он. — Помнишь, как собираются принести в жертву Авахи? — Да, и мне это понравилось. Она взяла с полки «Бен-Гура» и стала неторопливо перелистывать книгу. — Это тоже замечательный роман. — Да, чудесный! Они умолкли. Стелла подошла к окну и остановилась под дешевыми тюлевыми занавесками. Ночь была лунная. Деревья, в два ряда окаймлявшие улицу, стояли голые; трава была бурая, мертвая. Сквозь тонкие ветви, сплетавшиеся в серебряную филигрань, они различали огни ламп в других домах, светившиеся через приспущенные шторы. Человек прошел мимо, — в полумраке мелькнула его черная тень. — Красиво, правда? — сказала она. Юджин подошел ближе. — Замечательно, — ответил он. — Скорей бы настали морозы и можно было кататься на коньках. Ты любишь коньки? Она повернулась к нему. — Ну еще бы, — ответил он. — Ах, как хорошо на катке в лунную ночь. В Молине я много каталась. — Мы здесь тоже часто катаемся. Ведь у нас тут два озера. Ему вспомнились ясные хрустальные ночи, когда лед на Зеленом озере трескался с глухим гулом. Вспомнились шумные толпы конькобежцев, далекие тени, звезды. Юджин до сих пор не встречал девушки, с которой было бы приятно кататься. Он ни с одной не чувствовал себя легко. Однажды он упал вместе со своей спутницей, и это чуть не отбило у него охоту ходить на каток. Со Стеллой ему было бы приятно кататься. Он чувствовал, что и она, пожалуй, охотно будет кататься с ним. — Когда подморозит, можно будет пойти всем вместе, — осмелился он сказать. — Миртл тоже катается. — Вот и чудесно! — захлопала в ладоши Стелла. Она долго, не отрываясь, смотрела в окно, потом вернулась к камину и, задумчиво потупившись, остановилась перед Юджином. — Как ты думаешь, твой отец не уедет отсюда? — спросил он. — Он говорит, что нет. Ему здесь нравится. — А тебе? — Да… теперь и мне нравится. — Почему теперь? — Потому что раньше мне здесь не нравилось. — Почему? — Да потому, должно быть, что я никого не знала. А теперь мне нравится. Она подняла глаза. Он подошел чуть ближе. — У нас славный городок, — сказал он, — но мне тут нечего делать. Я думаю в будущем году уехать отсюда. — Куда же ты поедешь? — В Чикаго. Я ни за что здесь не останусь. Она повернулась к огню, а он подошел к ее стулу и оперся на спинку. Она чувствовала, что он стоит совсем близко, но не шевельнулась. — Но ведь ты вернешься? — спросила она. — Возможно. Как сложится жизнь. Вероятно, вернусь. — Вот уж не подумала бы, что ты собираешься так скоро уехать. — Почему? — Да ведь ты сказал, что здесь хорошо. Он ничего не ответил, и она взглянула на него через плечо. Он совсем близко склонился к ней. — Так ты будешь со мной кататься зимою? — выразительно спросил он. Она кивнула. Вошла Миртл. — О чем вы тут беседуете? — спросила она. — О том, какое у нас катание на коньках, — ответил Юджин. — Ужасно люблю кататься! — воскликнула Миртл. — Я тоже, — сказала Стелла, — что может быть лучше?Глава 2
Некоторые эпизоды последовавшей затем поры влюбленности — несмотря на всю ее мимолетность — оставили глубокий след в душе Юджина. Вскоре выпал снег. Зеленое озеро замерзло, и они со Стеллой стали вместе ходить на каток. Стояли чудесные дни. Морозы держались так долго, что к Миллер-Пойнту, где запасались льдом, приезжали на подводах и выпиливали специальными пилами целые глыбы льда толщиною в фут. После Дня благодарения почти каждый вечер толпы школьников — мальчики и девочки — носились по льду, словно водяные жуки. Юджин не всегда бывал свободен — иногда вечерами и в субботу ему приходилось помогать отцу в магазине. Но каждый свободный вечер Миртл по его просьбе звала Стеллу, и они все вместе шли кататься. Иногда он приглашал девушку пойти вдвоем, и она нередко соглашалась. Однажды, катаясь по озеру, они очутились у высокого берега, на склоне которого прилепилась кучка небольших домиков. Взошла луна, и ее льстивые лучи отражались в зеркальной поверхности льда. Сквозь черную гущу окаймлявших берег деревьев желтыми, приветливыми огоньками мерцали окна. Юджин и Стелла, намного опередившие остальных, решили повернуть обратно. Золотистые кудри девушки были скрыты вязаной шапочкой, из-под которой выбивалось несколько колечек; ее фигурку плотно облегал белый шерстяной свитер, доходивший до бедер, и юбка из толстого серого сукна; поверх чулок она надела белые шерстяные гамаши. В этот вечер она была особенно хороша и знала это. Но когда молодые люди повернули назад, Стелла вскрикнула: у нее развязался конек. — Подожди, — сказал Юджин, — я сейчас поправлю. Она остановилась перед ним, а он, опустившись на колени, стал распутывать отстегнувшийся ремешок. Сняв конек, он взглянул вверх, и девушка, улыбаясь, тоже посмотрела на него. Юджин выронил конек и, обхватив ее руками, прижался лицом к серому сукну. — Нехорошо это, — сказала она. Однако она не противилась, чувствуя себя прекрасной героиней восхитительной сказки. Сдернув с Юджина шерстяной шлем, Стелла провела рукой по его волосам. У него чуть не брызнули слезы, так он был счастлив. Вместе с тем это движение разбудило в нем жгучую страсть. Он крепко прижал ее к себе. — Надень же мне конек, — благоразумно сказала она. Он поднялся и хотел обнять ее, но она не позволила. — Нет, нет! Не смей! Не то я с тобой никогда больше не пойду. — Стелла! — взмолился он. — Я говорю серьезно, — настаивала она. — Не смей этого делать! Юджин подчинился, обиженный и немного раздосадованный. Он испугался ее решительного отпора. Ему и в голову не приходило, что она такая недотрога. Как-то в другой раз несколько школьниц устроили катание на санях, и Стелла, Юджин и Миртл получили приглашение. Ночь выдалась звездная, искрился снег, воздух был морозный, бодрящий. Огромный фургон сняли с колес, поставили на полозья, а внутри настлали соломы и накидали целый ворох шуб. За Юджином и Миртл завернули после того, как сани объехали уже с десяток таких домиков. Вскоре добрались и до дома Стеллы. — Иди сюда! — крикнула ей Миртл, сидевшая далеко впереди брата. Это разозлило его. — Садись со мной! — позвал он девушку, боясь, что сама она не решится. Стелла пробралась к Миртл, но, видно, место пришлось ей не по вкусу, и она пересела в глубь саней. Юджин сделал энергичное усилие, чтобы освободить уголок возле себя, и девушка как бы случайно очутилась рядом. Он накинул на нее бизонью доху. Мысль, что Стелла с ним, наполняла его счастьем. Сани, звеня бубенцами, продолжали объезд городка, собирая остальных участников, и наконец вынеслись в поле. Мимо мелькали черные перелески, уснувшие в сугробах, и приникшие к самой земле тесовые фермерские домики, заиндевевшие окна которых изливали тусклый, романтический свет. Ярко горели звезды. Эта картина бесконечно взволновала Юджина: он был страстно влюблен, и тут, рядом с ним, окутанная тенью, в которой слабо выделялось ее лицо, сидела любимая девушка. Он видел ее прелестный профиль, щеки, глаза, пушистые волосы. Вокруг них болтали, пели, и под шум общего веселья Юджин незаметно обвил рукой талию Стеллы, взял ее руку в свою, заглянул в глубину ее глаз, пытаясь угадать ее мысли. Она всегда вела себя с ним сдержанно, уступая лишь до известного предела. Теперь он несколько раз украдкой поцеловал ее в щеку и раз — в губы, а потом, воспользовавшись минутой, когда было совсем темно, с силою привлек к себе и запечатлел на ее устах такой долгий, чувственный поцелуй, что она испугалась. — Не надо, — в волнении отбивалась она, — не смей!.. Он подчинился, чувствуя, что зашел слишком далеко. Но очарование той ночи и красота девушки навсегда остались у него в памяти.— Неплохо бы пристроить Юджина к газетной работе или к чему-нибудь в этом роде, — заметил как-то Витла-отец в разговоре с женой. — Да, по-видимому, это — единственное, на что он годится, по крайней мере сейчас, — отозвалась миссис Витла, считавшая, что ее мальчик еще не нашел себя. — Со временем он займется чем-нибудь получше. Ведь ты знаешь, какого он слабого здоровья. Витла подозревал в душе, что сын его просто ленив, но уверенности в этом у него не было. Он высказал предположение, что Бенджамин С. Берджес, будущий свекор Сильвии, редактор и владелец «Морнинг Эппил», мог бы дать Юджину место репортера или наборщика, чтобы постепенно познакомить его с делом. В «Морнинг Эппил» был, правда, небольшой штат, но мистер Берджес, вероятно, не откажется дать Юджину возможность начать с репортерских заметок, — если у него есть к этому способности — либо с наборного дела, либо с того и другого. Однажды, встретившись с Берджесом на улице, Витла-отец вступил с ним в разговор. — Послушайте, Берджес, не найдется ли у вас в газете местечка для моего сына, а? Он у меня все что-то пишет и воображает, будто и рисует неплохо, хотя его мазня, на мой взгляд, немногого стоит. Надо его куда-нибудь определить. В школе он бездельничает. Он мог бы, например, изучить типографское дело. Ему будет только полезно начать с азов, если явится потом охота пойти по этой части. Сколько вы ему положите для начала, неважно. Берджес подумал. Юджин попадался ему на улице. Ничего дурного он про него не слыхал, разве только, что парень витает в облаках и держится букой. — Пришлите его как-нибудь ко мне, — ответил он уклончиво. — Возможно, я что-нибудь для него и придумаю. — Я был бы вам очень признателен, — сказал Витла. — А то он меня беспокоит. На этом они расстались. Дома Витла рассказал Юджину об этой встрече. — Берджес говорит, что мог бы взять тебя наборщиком или репортером в «Морнинг Эппил». Загляни к нему на этих днях, — сказал он сыну, который сидел у лампы и читал. — Вот как? — спокойно отозвался Юджин. — Гм! Ну, какой я репортер! Наборщиком я бы еще, пожалуй, мог быть. Это ты к нему обратился? — Да, — сказал Витла. — А все-таки наведайся туда как-нибудь. Юджин прикусил губу. Он понимал, что это намек на его склонность к безделью. Успехи его, и правда, были не очень-то велики. Но все же профессия наборщика — не блестящая карьера для человека с его запросами. — Ну что ж, — решил он, — когда кончу учение. — Лучше поговори с ним до окончания школы. А то как бы кто-нибудь другой не опередил тебя. А ведь тебе невредно было бы испытать себя на такой работе. — Поговорю, — послушно сказал Юджин. И вот в конце солнечного апрельского дня он вошел в контору мистера Берджеса. Она помещалась в нижнем этаже трехэтажного здания газеты на городской площади. Мистер Берджес, заметно лысеющий толстяк, испытующе посмотрел на Юджина поверх очков в стальной оправе. В его жидких волосах пробивалась седина. — Так вы не прочь поработать в газете? — спросил он юношу. — Да, я хотел попробовать себя в этом деле, — ответил Юджин, — посмотреть, не придется ли оно мне по душе. — Я могу вам сказать наперед, что в нем мало интересного. Ваш отец говорил мне, что вы пишете. — Мне бы очень хотелось писать, но едва ли я справлюсь. Я охотно изучил бы типографское дело. А со временем, быть может, начну и писать, если у меня что-нибудь получится. — Когда же вы могли бы приступить? — Как только кончатся занятия в школе, если вы не возражаете. — Пожалуйста. Мне, в сущности, никто не нужен, но я подыщу вам дело. Пять долларов в неделю вас устроит? — Вполне, сэр. — Ну, тогда приходите, как только освободитесь. Я посмотрю, что можно для вас сделать. Движением пухлой руки он отпустил будущего наборщика и повернулся к облупленному столу темного орехового дерева, заваленному газетами и освещенному электрической лампой под зеленым абажуром. Юджин вышел, унося с собой запах свежей типографской краски и не менее въедливый запах еще не просохших газет. «Интересно попробовать, — подумал он, — но, возможно, это будет для меня напрасной тратой времени». Юджин был не слишком высокого мнения об Александрии. Когда-нибудь он отсюда выберется. Редакция «Морнинг Эппил» ничем не отличалась от редакции всякой другой провинциальной газеты в любой точке земного шара. В первом этаже, окнами на улицу, находилась контора, а позади нее — печатный цех, где стоял единственный большой плоский пресс и печатные машины. Во втором этаже была расположена наборная с кассами для шрифта на высоких стеллажах, так как «Морнинг Эппил», как и большинство провинциальных газет, набиралась еще вручную; там же, по фасаду, помещался обшарпанный кабинет редактора, заведующего издательством и заведующего отделом городской хроники — ибо все трое были представлены в газете одним и тем же лицом: это был некто мистер Калеб Уильямс, которого Берджес откопал много лет назад неизвестно где. Уильямс был небольшого роста, тощий, жилистый человек, с острой черной бородкой и стеклянным глазом, который как-то странно смотрел на собеседника своим черным зрачком. Необыкновенно подвижный и разговорчивый, всегда в зеленом козырьке, низко надвинутом на лоб, с коротенькой терновой трубкой в зубах, Уильямс искусно управлялся со своими разнообразными делами и обязанностями. У него была бездна всяких познаний, накопленных за долгие годы газетной работы в столице. После бесконечных странствий по бурному житейскому морю он с женой и тремя детьми бросил, наконец, якорь в Александрии; закончив рабочий день, он бывал рад поговорить с кем угодно о жизни вообще и о своей в частности. С восьми утра до двух пополудни он занимался тем, что собирал скудные городские новости и либо сам писал заметки, либо редактировал. По округе у него был разбросан целый штат корреспондентов, которые раз в неделю присылали ему местные новости. Кое-чем снабжало его и агентство «Ассошиэйтед пресс», а к тому же выручали две страницы стандартного приложения, на которых читатель находил рассказы, хозяйственные советы, медицинские объявления и прочее. Большую часть материала Уильямс пускал в печать не редактируя. — В Чикаго мы уделяли всему этому много внимания, — рассказывал он всякому, кто попадался под руку, — но здесь с этим возиться не приходится. Да наш читатель, в сущности, и не требует этого. Он ждет от газеты прежде всего местных новостей. А за этим я слежу очень внимательно. Отделом объявлений ведал сам мистер Берджес. Мало того, он сам добывал объявления и следил, чтобы они были набраны сообразно с желаниями клиента и должным образом помещены, — в зависимости от того, как позволял газетный материал, и в соответствии с правами и притязаниями других клиентов. На нем держалась вся газета, он вел ее дела, и он же определял направление. Иногда он писал передовицы или же совместно с Уильямсом решал, в каком духе они должны быть написаны, принимал посетителей, приходивших в редакцию, и улаживал возникавшие трудности. Мистер Берджес предоставил себя и свою газету в полное распоряжение местных заправил республиканской партии, и это казалось вполне естественным, так как он сам был республиканцем по склонностям и темпераменту. Однажды ему даже предложили должность почтмейстера (в вознаграждение за кое-какие услуги), но он от нее отказался, потому что газета давала ему больше дохода, чем мог принести этот новый пост. К нему попадали все объявления по городу и округе, какие только могли ему доставить руководители республиканской партии, и таким образом он вполне преуспевал. Уильямс знал кое-что о сложных махинациях, в которые вовлекали Берджеса его политические связи. Но это нисколько не тревожило прилежного труженика. Он рассуждал так: «Мне надо прокормить пять ртов, и этого с меня вполне довольно. Зачем мне соваться в чужие дела?» Таким образом, в редакции царила спокойная, деловая и, можно сказать, даже приятная атмосфера. Работать здесь было одно удовольствие. На Юджина, попавшего сюда прямо со школьной скамьи, когда ему едва минуло семнадцать лет, самое сильное впечатление произвел мистер Уильямс. Этот человек ему решительно нравился. Со временем он подружился также и с Джонасом Лайлом, работавшим за главной наборной кассой, и с неким Джоном Саммерсом, приходившим не регулярно, а лишь в тех случаях, когда поступал какой-нибудь экстренный типографский заказ. Юджин очень скоро узнал, что Джон Саммерс, седой молчаливый человек лет пятидесяти пяти, болен туберкулезом и сильно пьет. Он в самые различные часы украдкой исчезал из типографии минут на десять — пятнадцать. Все делали вид, будто ничего незамечают, потому что здесь никто никого не понукал. С работой так или иначе справлялись. Джонас Лайл был более интересный тип. Лет на десять моложе Саммерса и гораздо здоровей его и крепче, он тоже был примечательная личность. Флегматичный по натуре, он кое-что прочитал на своем веку и любил пофилософствовать. Как вскоре узнал Юджин, Лайл успел поработать во всех концах Соединенных Штатов — в Денвере, Портленде, Сент-Поле, Сент-Луисе, где хотите, — и любил порассказать о своих бывших хозяевах. Стоило ему встретить в печати сколько-нибудь выдающееся имя, как он тотчас шел с газетой к Уильямсу, — а позднее, когда они ближе познакомились, к Юджину, — и говорил: «Я знал этого парня, когда жил там-то… Он был почтмейстером (или кем-либо еще) в N. А смотрите, как в гору пошел!» В большинстве случаев он не был лично знаком с этими знаменитостями, но слышал про них, и отголоски их славы, донесшиеся до этого глухого захолустья, действовали на его воображение. В горячие часы он помогал Уильямсу править корректуру, был хорошим наборщиком и вообще честно исполнял свои обязанности. Но успеха в этом мире он не добился, так как был всего-навсего безотказным орудием в чужих руках. Юджин понял это с первого взгляда. Вот этот-то Лайл и научил Юджина наборному делу. Он в первый же день показал ему, как устроены «гнезда», или «карманы», в кассах для шрифта, как размещены буквы — чтобы одни были ближе под рукой, чем другие, объяснил, почему некоторых букв дается больше и почему в одних газетах в определенных случаях употребляются прописные буквы, а в других — нет. — Вот в Чикаго, когда я работал в «Трибюн», мы обычно выделяли курсивом названия церквей, пароходов, книг, гостиниц и всего прочего в этом роде, — рассказывал он. — Сколько знаю, больше ни в одной газете так не делают. Вскоре Юджин узнал, что такое шпоны, гранки, верстатки; узнал, что пальцы постепенно приучаются определять по весу характер шрифта; что, как только приобретаешь известный навык, буквы почти механически ложатся обратно в свои гнезда и об этом даже не думаешь; все это Лайл словоохотливо сообщил своему ученику. Он требовал от него серьезного отношения к предмету, и Юджин, уважавший всякое знание, выслушивал его вдумчиво и внимательно. Юджин еще не представлял себе, чем ему хотелось бы заняться, зато он чувствовал, что хочет знать все. И хотя он и убедился вскоре, что не желает быть ни наборщиком, ни репортером, ни вообще кем-либо, причастным к провинциальной газете, все же некоторое время типография представляла для него интерес, так как он изучал здесь жизнь. И он весело работал за своим реалом, с улыбкой глядя на мир, расстилавшийся за открытым окном, читал какие-то забавные обрывки заметок, статей или местных объявлений — по мере того, как набирал их, — и думал о чудесах, которые мир держит в запасе для него, Юджина. В ту пору у него не было еще того огромного честолюбия, которое пробудилось впоследствии, но он был преисполнен надежд, хотя и не вовсе чужд меланхолии. Он видел в окно знакомых юношей и девушек, которые прохаживались без дела по улице или стояли на перекрестке; видел, как Тэд Мартинвуд разъезжает по городу в отцовском шарабане, как Джордж Андерсон слоняется по тротуару с видом человека, которому никогда не придется работать (его отцу принадлежала единственная в городе гостиница). В голове Юджина часто мелькали мысли о рыбной ловле, о катании на лодке и о том, как приятно было бы посидеть где-нибудь на траве с хорошенькой девушкой, но, увы, девушек, по-видимому, не особенно влекло к нему. Он был слишком робок. Порой он задумывался о том, как хорошо, вероятно, быть богатым. И мечтал. Юджин был в том возрасте, когда хочется выражать свои чувства в пылких фразах. Но это был также возраст, когда застенчивость принуждает к сдержанности, хотя бы вы и были влюблены и обладали страстной натурой. То, что он говорил Стелле, казалось ему скучным и пошлым, и он больше вздохами выражал свои чувства. Но девушка тяготилась вздохами и предпочитала им пошлые излияния. Она уже тогда начала подумывать, что он немного странный, какой-то «взвинченный». Тем не менее он ей нравился. В городе стали считать, что Стелла его девушка. В маленьких городах и деревнях такие парочки — обычное явление среди школьников. Их видели всюду вместе. Отец подтрунивал над Юджином. Родители же Стеллы считали, что это просто детское увлечение и не столько с ее стороны (они знали, что их дочь не слишком интересуется мальчиками и не придает большого значения их чувствам), сколько со стороны Юджина. Они думали, что его сентиментальность скоро начнет тяготить Стеллу. Так оно и случилось. Однажды на вечеринке, устроенной школьницами старших классов, затеяли игру в «деревенскую почту». Это одна из тех игр, в которых все сводится к поцелуям. Играющим задают вопросы, и с того, кто не ответил, берут фант. Тот, чей фант вынут, становится почтмейстером и вызывает кого-нибудь «за почтой». А это значит, что вы идете в темную комнату, где вас целует тот или та, кто вам нравится или кому нравитесь вы. Почтмейстеру дано право или власть — называйте как хотите — вызвать кого ему угодно. На этот раз водить пришлось Стелле, которая попалась раньше Юджина. Первая ее мысль была о нем, но оттого ли, что это делалось в открытую, или оттого, что ее втайне беспокоила порывистость Юджина, она назвала имя Харви Раттера. Харви был красивый мальчик, Стелла познакомилась с ним недавно, уже после встречи с Юджином. Она не была им увлечена, но он ей нравился, и юная кокетка была не прочь узнать его поближе. Сейчас ей представлялся удобный случай. Польщенный Харви побежал на ее зов, и Юджина охватила бешеная ревность. Он не мог понять, почему Стелла так обращается с ним. Когда наступил его черед, он вызвал Берту Шумейкер, тоже прехорошенькую девушку, которая ему нравилась, но которая, по его мнению, не могла сравниться со Стеллой. Для него было мукой целовать ее, тогда как он мечтал о другой. Когда он вышел, Стелла прочла в его глазах обиду, но притворилась, что ничего не замечает. А между тем, несмотря на деланную веселость, его вялый и понурый вид бросился всем в глаза. Потом Стелла опять проштрафилась, и на этот раз вызвала Юджина. Он пошел, но обида еще кипела в нем. Ему захотелось наказать ее. Когда они встретились в темноте, она ожидала, что он обнимет ее, и уже вскинула руки ему на плечи, но он только сжал ее пальчики, и едва коснулся губ холодным поцелуем. Если бы он сказал: «Зачем ты это сделала?», — если бы привлек ее к себе и попросил не играть его чувствами так жестоко, их дружба была бы спасена. Но Юджин ничего этого не сделал. Тогда в девушке вспыхнула досада, и она с задорным видом вышла из комнаты. Молодые люди сторонились друг друга до конца вечеринки, но он все же пошел проводить ее домой. — Ты сегодня, кажется, в плохом настроении, — заметила Стелла, после того как они в полном молчании прошли два квартала. Улицы утопали во мраке, и их шаги по выложенному кирпичом тротуару гулко отдавались в ночной тишине. — Нет, почему же. Я чувствую себя прекрасно, — угрюмо ответил он. — У Веймеров было, по-моему, очень мило. Там всегда ужасно весело. — Да, необычайно весело! — презрительно отозвался он. — Не будь ты таким злюкой! — рассердилась она. — У тебя нет никаких причин дуться на меня! — Ты думаешь? — Да, никаких. — Что ж, тебе видней. Но я смотрю иначе. — Ну, знаешь, мне совершенно безразлично, как ты на это смотришь. — Вот как? — Да, так! — Девушка сердито вздернула головку. — Ну, а мне тем более безразлично! Снова наступило молчание, которое длилось почти до самого ее дома. — Ты будешь на балу в четверг? — спросил Юджин. Он имел в виду вечер, который устраивала методистская церковь. Само по себе это празднество ничуть его не интересовало, но оно давало ему возможность увидеться со Стеллой и проводить ее домой. Он задал ей этот вопрос, испугавшись нависшего над ними разрыва. — Нет, — сказала она. — Едва ли. — Почему? — Не хочется. — Какая ты злая! — упрекнул он ее. — Ну и прекрасно! — ответила она. — А по-моему, ты слишком любишь командовать. И по правде сказать, ты не очень мне нравишься. Сердце его зловеще сжалось. — Делай как знаешь, — сказал он упрямо. Они дошли до ее калитки. Здесь они обычно целовались в тени и Юджин крепко прижимал к себе Стеллу, невзирая на ее протесты. Он и сейчас с нетерпением ждал этой минуты, но девушка предупредила его. Едва поравнявшись с калиткой, она быстро открыла ее и юркнула в палисадник. — Спокойной ночи! — крикнула она оттуда. — Спокойной ночи! — сказал он и, когда она уже дошла до двери, позвал: — Стелла! Входная дверь открылась, и девушка проскользнула в дом. Юджин растерянно стоял в темноте, огорченный, раздосадованный, подавленный. Как же теперь быть? Он медленно поплелся домой, думая о том, что лучше: не замечать ее, избегать, пока она сама не вернется к нему, или же добиваться встречи и решительного объяснения? Стелла была неправа: Юджин так и уснул с этой мыслью, и она не покидала его весь следующий день. Юджин делал довольно быстрые успехи в наборном деле. Готовясь к будущей своей профессии, он пробовал свои силы в репортерском ремесле, работая прилежно и с интересом. Нередко он делал из окна зарисовки, хотя с тех пор, как у них вышла размолвка со Стеллой, занимался этим без обычного увлечения. Ему нравилось приходить в типографию, надевать фартук и приниматься за набор какой-нибудь заметки местного корреспондента, залежавшейся со вчерашнего дня, или телеграммы, только что наколотой на крючок возле его кассы. Уильямс пробовал давать ему репортерские поручения для отдела местной хроники, но Юджин был медлителен и не выказывал способностей по этой части. Когда ему предлагали взять у кого-нибудь интервью, он возвращался в редакцию с материалом, который нуждался в пополнении из других источников. Сколько ни бился с ним Уильямс, Юджин, в сущности, так и не постиг тех требований, какие предъявляет газета, и большей частью работал за своей кассой. И все же кое-чему он научился. Взять хотя бы то, что он начал разбираться в существе рекламного дела. Местные торговцы изо дня в день помещали одни и те же объявления, и текст их почти не менялся. Юджин видел, как Лайл и Саммерс брали старые рекламы, которые месяцами печатались без всяких изменений, и, выправив одно-два слова, снова сдавали в цинкографию. Юджина удивляла эта косность, и когда они наконец попадали к нему на просмотр, у него часто являлось желание переделать их, — таким суконным языком они были написаны. — Почему бы не давать к объявлениям маленьких рисунков? — спросил он однажды Лайла. — Вы не находите, что они очень выиграли бы? — Гм! Право, не знаю, — ответил Лайл. — По-моему, и так сойдет. Здешней публике не понравилось бы такое новшество. Читатели скажут, что это несолидно. Юджин присматривался к журнальной рекламе и находил ее несравненно эффектнее. Почему бы не изменить и газетную? Но никто здесь, по-видимому, не нуждался в его советах. С клиентами имел дело сам мистер Берджес. Это он решал, каким должно быть объявление. Он никогда не советовался ни с Юджином, ни с Саммерсом и редко даже с Лайлом. Лишь иногда Уильямс по его требованию давал им предварительные указания. Юджин был еще так молод, что вначале Уильямс не обращал на него внимания, но потом, приглядевшись к юноше поближе, стал охотно объяснять ему то одно, то другое: почему некоторые заметки должны быть краткими, а некоторые — пространными; почему сообщения, касающиеся их округа, — городишек вокруг Александрии и их обитателей, — имеют для газеты с финансовой точки зрения гораздо большее значение, чем самый достоверный отчет о смерти турецкого султана. А всего важнее, говорил он, следить за тем, чтобы в имена и фамилии местных жителей не вкрались опечатки. — Упаси вас бог неправильно набрать их, — сказал он однажды Юджину. — А особенно следите за инициалами. Люди на этот счет очень чувствительны. Если вы не будете осторожны, мы рискуем растерять всех подписчиков, а потом поди разберись, как это случилось. Юджин старался все запомнить. Ему интересно было вникнуть в механику дела, хотя в глубине души он находил все это мелким. Да и люди казались ему мелкими, по крайней мере большинство людей. Но кое-что в типографском деле интересовало его. Он любил смотреть, как в машину закладывают бумагу и как она потом работает, любил помогать при заключке форм и наблюдать за тем, как ложатся друг на друга газетные оттиски и отсчитываются готовые листы. Он любил прислушиваться к ходу машины и вместе с другими переносить еще влажные кипы газет в экспедицию и к сортировочному столу. «Морнинг Эппил» выходила не очень большим тиражом, но в момент выпуска типография оживала, и это нравилось Юджину. Ему нравилось, что руки и лицо у него в чернилах и краске и что это его не смущает, нравилось видеть в зеркале свою всклокоченную шевелюру. Он старался быть полезным где только мог, и работники газеты полюбили его, хотя иногда он раздражал их своей неловкостью и медлительностью. Здоровье его в то время было не из крепких, он часто страдал желудком. Иногда у него мелькала мысль, что воздух типографии вреден для его легких, но серьезного значения он этому не придавал. Однако сколько ни радовался Юджин новым впечатлениям, этот мирок казался ему тесным. За пределами редакции был несравненно больший простор. Он это знал. И на этот простор он рассчитывал когда-нибудь выбраться. Он надеялся уехать в Чикаго.
Глава 3
По мере того как Стелла проявляла все большую независимость, Юджином все сильнее овладевала хандра. Но эти его настроения только расхолаживали девушку. Немалую роль играл и успех, которым она пользовалась у других молодых людей, а то, что один из них, а именно добродушный, покладистый Харви Раттер, был и красивее Юджина и выгодно отличался от него приятным неназойливым нравом, сыграло, пожалуй, решающую роль. Юджин иногда встречал их вместе — Стелла ходила на каток с ним вдвоем или с компанией молодежи, где был и Харви. Юджин возненавидел его всей душой. Порою он ненавидел и Стеллу за то, что она не подчинилась его воле. Но ее красота по-прежнему сводила его с ума. Стелла помогла ему создать себе идеал женщины. Теперь он знал, что такое женская красота. Настало время задуматься и над своим положением. До сих пор он всецело зависел, в отношении питания, одежды и карманных денег, от родителей, которые были не слишком щедры. Он знал мальчиков, которые могли себе позволить увеселительную поездку в Чикаго или Спрингфилд (последний был расположен ближе к Александрии) на субботу и воскресенье. Юджину эти развлечения были недоступны. Отец не разрешил бы ему, вернее, не дал бы денег. Другие мальчики благодаря щедрости родителей слыли первыми щеголями в городе. Юджин наблюдал по воскресеньям, а иногда и в будние дни, как они, готовясь куда-нибудь идти, прохаживались возле книжного магазина, где обычно гуляло местное «общество», одетые с такой изысканностью, о какой он не смел и мечтать. Тэт Мартинвуд, сын крупнейшего в городе торговца мануфактурой, сшил себе сюртук; он иногда заходил в нем к парикмахеру побриться, перед тем как идти к своей девушке. У Джорджа Андерсона имелась даже фрачная пара и лакированные туфли, в которых он щеголял на всех балах. Эд Уотербери разъезжал по городу в собственном экипаже. Правда, все эти юноши были немного старше Юджина и их интересовали взрослые девушки, но это не меняло дела. И Юджин страдал. Для себя он не видел возможности разбогатеть. Отец его никогда не будет богат, это было всякому ясно. Сам Юджин не вынес из школы никаких практических знаний. Он ненавидел страховое дело — всю эту писанину и погоню за клиентами, презирал торговлю швейными машинами, но и не возлагал никаких надежд на то, что со временем ему удастся стать писателем или художником. Все, что он рисовал, казалось ему просто баловством, а то, что писал, — вернее, пытался писать, — казалось лишенным всякого значения и смысла. В эту пору Юджин часто с горечью размышлял о своем будущем. Как-то Уильямс, давно уже приглядывавшийся к юноше, остановился у его реала. — Послушайте, Витла, почему бы вам не уехать в Чикаго? — сказал он. — Там гораздо больше возможностей для такого парня, как вы. Работая в провинциальной газете, вы никогда ничего не добьетесь. — Я знаю, — ответил Юджин. — На меня вы не смотрите, — продолжал Уильямс, — я достаточно покружил по свету. У меня жена и трое детей, а когда у человека семья, он не имеет права рисковать. Вы же молоды. Почему бы вам не уехать в Чикаго и не поступить в какую-нибудь газету? Вы там легко устроитесь. — Кем, например? — спросил Юджин. — Да хотя бы наборщиком, если вступите в союз. Не знаю, выйдет ли из вас хороший репортер, — по-моему, это не ваше призвание, но вам надо учиться рисовать. Художники в газете недурно зарабатывают. Юджин с горечью подумал о своем даровании художника. Немногого он стоит. Немногого он достиг. Все же он стал помышлять о Чикаго. Широкий мир манил его. Только бы выбраться отсюда, только бы найти приличный заработок, а не получать какие-то семь-восемь долларов в неделю! Это постоянно занимало его мысли. Однажды в воскресенье он вместе с Миртл и Стеллой отправился навестить Сильвию; Стелла вскоре стала собираться домой, говоря, что мать будет беспокоиться. Миртл хотела было уйти вместе с ней, но сестра упросила ее дождаться чая. — Пусть Юджин проводит Стеллу домой, — сказала Сильвия. Юджин был в восторге. Неисправимый упрямец, он еще надеялся вернуть любовь Стеллы. Когда они очутились на улице, где уже пахло весной, он решил, что это удобный случай сказать девушке что-то такое, что вернуло бы ее к нему. Они вышли на окраину города, где жила Стелла, и девушка уже хотела свернуть в своей переулок, но Юджин удержал ее. — Ну, побудь со мной немного. Разве тебе так уж обязательно надо домой? — стал он упрашивать. — Нет, я могу еще погулять, — ответила она. Беседуя, они вышли за черту города; последний дом остался позади. Поддерживать разговор становилось все труднее. Прилагая все усилия к тому, чтобы быть занимательным, Юджин поднял с земли три прутика, намереваясь показать ей фокус, основанный на законе равновесия. Надо было два прутика сложить под прямым углом, а третьим поддерживать их в воздухе. Стелла не пожелала и пробовать. Ее это не занимало. Но Юджин настаивал, и, когда она согласилась, он взял ее за правую руку, чтобы помочь. — Не надо, — сказала она, отдергивая руку. — Я сама! Но она безуспешно возилась с прутиками и хотела уже бросить их, когда он взял обе ее руки в свои. Это произошло так внезапно, что Стелла не смогла высвободиться и невольно посмотрела ему в глаза. — Оставь, Юджин. Пожалуйста, отпусти мои руки. Он отрицательно покачал головой, глядя на нее в упор. — Прошу тебя, отпусти, — повторила она. — Не смей этого делать. Я не хочу. — Почему? — Потому! — Почему все-таки? — Ну, просто не хочу! — Я в самом деле больше не нравлюсь тебе? — спросил он. — Нет, не нравишься… во всяком случае не так… — А раньше нравился? — Мне казалось, что да. — Значит, ты ко мне переменилась? — Да, если хочешь, переменилась. Он отпустил ее руки и впился в нее трагическим взглядом. Но это на нее не подействовало. Они медленно повернули назад, к городу. У ее калитки он сказал: — Что ж, видно, мне не стоит больше и приходить к тебе. — Да, не стоит, — просто сказала она. Она вошла в дом, ни разу не оглянувшись, а Юджин, вместо того чтобы вернуться к сестре, отправился домой. Ему было очень тяжело, и, посидев немного в гостиной, он ушел в свою комнату. Стемнело, а он все сидел и смотрел из окна на деревья и горевал о своей утрате. Должно быть, он недостаточно хорош для Стеллы, раз не мог добиться ее любви. Но в чем же причина? То ли он недостаточно красив (Юджин и в самом деле не считал себя красивым), то ли недостаточно силен и смел? Он заметил, что луна висит над деревьями, как яркий щит. Два слоя легких облаков плыли навстречу друг другу на разной высоте. Юджин оторвался от своих мыслей и стал думать о том, откуда взялись эти облака. В солнечные дни, когда тучки бесконечными флотилиями плывут по небу, они тают прямо на глазах, а потом — о чудо из чудес! — снова появляются неизвестно откуда. Когда Юджин впервые обратил на это внимание, он был немало удивлен — тогда он еще понятия не имел, что такое облака. Потом он прочел об этом в учебнике физической географии. Сегодня ему вспомнились и эти облака, и бескрайние равнины, над которыми они проносятся, и трава, и деревья — бесконечные леса, что тянутся на много миль. Как чудесен мир! Ведь именно о таких вещах писали поэты — Лонгфелло, Брайант и Теннисон. Юджину вспомнились «Танатопсис» и «Элегия» — его любимые поэмы. Что же это такое — жизнь? С болью в сердце вернулся он к мысли о Стелле. Она окончательно ушла от него, — она, такая прекрасная! Никогда больше они не будут разговаривать. Никогда не держать ему ее рук, не целовать ее. О, этот вечер на катке, и тот, другой вечер, в санях! Как это было прекрасно! Он разделся и лег в постель. Ему хотелось быть одному, отдаться своей тоске. Юджин лежал на белой подушке и грезил о том, что могло бы быть, — о поцелуях, ласках, о тысяче радостей. Как-то в воскресенье, валяясь в гамаке и размышляя о том, какой Александрия скучный город, Юджин развернул субботний номер чикагской газеты (это был в сущности воскресный номер, так как в воскресенье газета не выходила) и стал от скуки ее просматривать. Газета, как всегда, была исполнена для него неотразимого интереса, чудеса большого города притягивали его, точно магнит. Вот большой отель, который кто-то собирается выстроить; вот портрет знаменитого пианиста, приезжающего в Чикаго на гастроли; дальше — рецензия на новую комедию; описание романтического уголка на Гусином острове, раскинувшемся посредине реки Чикаго, — старые баржи служили здесь жилищем, и между ними вперевалку бродили гуси. Внимание Юджина привлекла заметка о человеке, провалившемся в угольный люк на Южной Холстед-стрит. Это произошло в доме номер шесть тысяч двести с чем-то, — он и не представлял себе, что существуют такие длинные улицы. Какой это, должно быть, гигантский город. Мысль о мчащихся по мостовым вагонах конки, о толпах народа, о поездах до боли взволновала его, как манящий призыв. Это чудо, эта красота, вся эта жизнь неотразимо влекли его к себе. «Уеду в Чикаго!» — мысленно решил он и поднялся. Вот перед ним родной дом, уютный, тихий. А в нем — мать, отец, Миртл. Но он уедет. Ничто не мешает ему вернуться обратно, если он захочет. «Конечно, я могу вернуться», — произнес он про себя. Словно движимый какой-то неодолимой силой, Юджин вошел в дом, поднялся к себе и достал маленький саквояж. Он сложил туда вещи, которые могли понадобиться ему в первую очередь. В кармане у него было девять долларов — с некоторых пор он копил деньги. Он спустился вниз и остановился в дверях гостиной. — Что случилось? — спросила мать, глядя на его серьезное лицо, говорившее о внутренней борьбе. — Я еду в Чикаго, — сказал он. — Когда? — спросила она пораженная, не зная, что и думать. — Сегодня, — ответил он. — Не может быть! Ты шутишь! — воскликнула мать. Она недоверчиво улыбалась. Конечно, это только мальчишеская выходка, не больше. — Я еду сегодня же, — сказал он. — И хочу поспеть к четырехчасовому поезду. Теперь на лице матери появилась тревога. — Быть не может, — повторила она. — Ведь я в любое время могу вернуться, если захочу, — сказал Юджин. — Пора мне поискать себе другое занятие. Вошел отец. У него была маленькая мастерская в сарае, где он иногда чистил машины и чинил фургоны. Он все утро копался там. — Что случилось? — спросил он, увидев их взволнованные лица. — Юджин уезжает в Чикаго. — Это когда же? — иронически спросил отец. — Сегодня. Он говорит, что едет сейчас. — Ты это, надеюсь, не всерьез? — сказал пораженный Витла. Он ушам своим не верил. — Что это тебе загорелось? Такой шаг надо хорошенько обдумать! На какие же средства ты будешь там жить? — Проживу как-нибудь, — сказал Юджин. — Я еду. Хватит с меня Александрии. Я хочу выбраться отсюда. — Ну что ж, — сказал отец, веривший в инициативу. Оказывается, он плохо знал своего сына. — Ты уложил чемодан? — Нет, пусть мама вышлет мне вещи. — Не уезжай сегодня, — стала упрашивать миссис Витла. — Подожди, Юджин, пока у тебя будет хоть что-нибудь на примете. Это слишком серьезный шаг. Подожди до завтра. — Я поеду сегодня, мама. — Он обнял ее одной рукой. — Мамочка!.. Он был уже сейчас выше ее ростом и продолжал расти. — Хорошо, Юджин, — тихо сказала она. — Но напрасно ты уезжаешь. Ее мальчик покидал ее — сердце матери обливалось кровью. — Я всегда могу вернуться. Ведь это всего лишь сотня миль. — Что ж, поезжай, — сказала она наконец, стараясь держаться бодро. — Я уложу твой саквояж. — Я уже все уложил. Она пошла проверить. — Ну что ж, скоро пора ехать, — сказал Витла, думавший, что Юджин еще колеблется. — Очень жаль. Хотя это, разумеется, пойдет тебе на пользу. Во всяком случае ты знаешь, что здесь тебе всегда будут рады. — Знаю, — сказал Юджин. Они отправились к поезду все вместе — Юджин, отец и Миртл. Мать не пошла с ними. Она осталась дома плакать. По дороге на вокзал они зашли к Сильвии. — Что ты, Юджин! — воскликнула она. — Что за странная фантазия! Не надо ехать! — Он твердо решил, — сказал Витла. Наконец Юджин вырывался на свободу. Любовь, семья, все близкое, родное крепко держало его в своих объятиях, и с каждым шагом он словно рвал эти узы. Они добрались до вокзала. Подошел поезд. Отец ласково и крепко пожал сыну руку. — Будь молодцом, — сказал он и судорожно глотнул. Миртл поцеловала брата. — Какой ты чудила, Юджин! Пиши мне. — Ладно. Он поднялся в вагон. Прозвонил звонок, и поезд тронулся. Юджин смотрел на знакомые места, и боль, настоящая боль сжала его сердце… Стелла, мать, отец, Миртл, их милый домик… Все это уходило из его жизни. — Гм-м! — чуть ли не застонал он, прочищая горло. — Черт побери! Он откинулся на спинку скамьи и заставил себя ни о чем не думать. Он должен пробить себе дорогу. Это и есть жизнь. И это должно быть его целью. Он добьется своего.Глава 4
Чикаго — кто его опишет! Кто опишет этот гигантский муравейник, выросший словно по мановению жезла на гнилых болотах приозерья! На целые мили протянулись мрачные домишки, на целые мили ушли вперед улицы с торцовыми мостовыми, газовыми фонарями, водопроводными магистралями и пустынными деревянными тротуарами, по которым скоро заснуют толпы прохожих. Стук сотен тысяч молотков, звонкие удары зубил в руках каменщиков! Длинные, смыкающиеся вдали ряды телеграфных мачт; тысячи и тысячи стоящих вразброс, словно часовые, домиков, заводов, устремленных ввысь фабричных труб, и среди них вдруг одинокая невзрачная церковка, смиренно приткнувшаяся на голом пустыре. Нетронутая целина прерии с выгоревшей на солнце травой. Широкие железнодорожные насыпи, по которым ползут стальные пути — десять, пятнадцать, двадцать, тридцать в ряд, — унизанные, словно бусинками, тысячами и тысячами грязных вагонов. Громыхающие паровозы, бегущие поезда, люди у переездов — пешеходы, возчики, кучера, подводы с пивом, платформы с углем, кирпичом, камнем, песком — зрелище новой, неприкрашенной, неукротимой жизни! По мере приближения к Чикаго Юджин начинал все больше и больше понимать существо и значение огромного города. Какими невнятными казались ему теперь слабые газетные отголоски по сравнению с этой яркой, красноречивой, полнокровной жизнью! Перед ним раскрывался новый мир — мощный, влекущий, совсем особенный. Когда поезд стал подъезжать к городу, внимание юноши привлекла красивая пригородная станция — такой он еще никогда не видел. Никогда не приходилось ему видеть и такого скопления рабочих-иностранцев — целые толпы литовцев, поляков, чехов дожидались пригородного поезда. Никогда он не видел и настоящего большого завода, а здесь они вырастали перед ним один за другим — сталелитейные, фаянсовые, мыловаренные, чугунолитейные заводы, мрачные и неприступные на фоне вечереющего неба. Несмотря на воскресенье, что-то юное, энергичное, оживленное чувствовалось в атмосфере этих улиц. С интересом смотрел Юджин на конки, дожидавшиеся пассажиров. В одном месте переправа через реку производилась на канатном пароме; это была грязная, неприглядная речонка, но во всю ее ширь теснилось множество судов, а по обоим берегам тянулись огромные амбары, зерновые элеваторы, угольные склады — архитектура насущных нужд большого города. Воображение Юджина разыгралось. Как хорошо было бы передать эту картину в черных тонах, лишь кое-где тронув красным или зеленым огни вдоль мостов и на судах. В некоторых журналах художники делают такие вещи, но у них это получается недостаточно живописно. Поезд, пробираясь среди длинных составов, подошел к бесконечной крытой платформе, где под гигантской выпуклой крышей из стекла и стали шипело штук двадцать дуговых фонарей. Толпы людей сновали взад и вперед, пыхтели паровозы, гулко звонили колокола. У Юджина не было в этом городе ни родных, ни знакомых — никого, к кому он мог бы обратиться, но он не испытывал одиночества. Новая, невиданная картина жизни захватила его целиком. Он вышел из вагона и неторопливым шагом направился к выходу, гадая, куда идти. На углу, в свете зажженного фонаря, ему бросилась в глаза дощечка с надписью «Мэдисон-стрит». Он взглянул вдоль улицы: по обе стороны ее, уходя вдаль, выстроились магазины, тащились конки, торопливо сновали пешеходы. «Какое зрелище!» — мелькнуло у него в голове, и он повернул на запад. Погруженный в размышления, прошел он мили три, и только когда совсем стемнело, спохватился, что не позаботился о еде и ночлеге. Добродушный толстяк, сидевший на стуле с плетеным сиденьем у ворот извозного двора, казалось, сулил все необходимые сведения. — Вы не знаете, где здесь поблизости сдается комната? — спросил Юджин. Человек, наслаждавшийся вечерним воздухом, внимательно оглядел его. Это был владелец двора. — Вон там, через улицу, в доме семьсот тридцать два, живет одна пожилая женщина, — сказал он. — У нее как будто есть комната. Может, она пустит вас. Молодой человек явно внушал ему доверие. Юджин перешел на ту сторону и позвонил у двери первого этажа. Ему открыла высокая приветливая женщина. В ее облике было что-то материнское. Волосы ее были белы. — Что вам угодно? — спросила она. — Джентльмен вот там, у извозного двора, сказал мне, что у вас можно снять комнату. Женщина ласково улыбнулась. Растерянность юноши, его сияющие от возбуждения глаза, а также одежда и манеры выдавали провинциала. — Да, войдите, — сказала она. — У меня есть комната. Можете ее посмотреть. Это была маленькая спальня, совершенно изолированная, окнами на улицу — опрятная, скромная, удобная. — Она мне нравится, — сказал Юджин. Женщина снова улыбнулась. — Платить мне будете два доллара в неделю, — сказала она. — Хорошо, — сказал Юджин, ставя на пол свой чемодан. — Я беру ее. — Вы ужинали? — спросила женщина. — Нет, но я скоро пойду прогуляться, посмотреть город и найду, где поесть. — А то я накормлю вас, — предложила хозяйка. Юджин поблагодарил ее, и она опять улыбнулась. Вот что Чикаго делает с провинцией — забирает у нее молодежь. Юджин открыл ставни, стал на колени и облокотился на подоконник. Он смотрел на улицу, где все казалось ему необыкновенным. Витрины залиты огнями. Люди спешат, — как гулко раздаются их шаги! И куда ни глянешь, — на восток, на запад, — везде то же самое, повсюду большой, огромный, изумительный город. Как хорошо здесь! Теперь он это знает. Ради этого стоило приехать. Как мог он так долго сидеть в Александрии! Он здесь устроится, непременно устроится. Он был глубоко уверен. Он знал это. Чикаго в то время действительно представлял для новичка целый мир возможностей и надежд. Тут было столько нового, еще не тронутого — все находилось в стадии созидания. Протянувшиеся длинными рядами дома и магазины были по большей части временными постройками — одноэтажными и двухэтажными бараками, но кое-где попадались уже и трехэтажные и четырехэтажные кирпичные здания, возвещавшие лучшее будущее. Торговый центр, расположенный между озером и рекой, — между Северной и Южной сторонами, — таил в себе неограниченные возможности, так как здесь были сосредоточены магазины, обслуживавшие не только Чикаго, но и весь Средний Запад. Тут были внушительные банки, конторы, огромные розничные магазины, отели и постоянно бурлил людской поток, олицетворяющий юность, иллюзии, безыскусственные мечтания миллионов людей. Попав сюда, вы начинали чувствовать, что Чикаго — это неудержимый порыв, это людские надежды, людские желания. Это был город, вливавший жизненные силы в каждую колеблющуюся душу; новичка он заставлял грезить, пожилым внушал, что нет такого тяжелого положения, которое не могло бы измениться к лучшему. За всем этим скрывалась, конечно, борьба. Юность, надежды и энергия вступали в бешеную гонку. Здесь надо было работать, не отставая, живей поворачиваться, не зевать. Здесь необходимо было обладать инициативой. Город требовал от человека самого лучшего, что было в нем, — иначе он просто от него отворачивался. Как юность в своих смутных исканиях, так и зрелость испытывали это на себе. Здесь не было места лежебокам. Юджин, едва обосновавшись, понял это. На профессию наборщика он как-то махнул рукой. С этим у него было покончено. Ему хотелось быть художником или чем-то в этом роде, но он понятия не имел, как приступить к делу. Лучше всего устроиться в газету, да вряд ли там принимают начинающих. А ведь он ничего не умеет. Правда, его сестре Миртл очень нравились его наброски, но что она понимает? Если бы он мог где-нибудь подучиться, найти кого-нибудь, кто поучил бы его… А пока придется работать… Прежде всего он, разумеется, попытал счастья в газетах, в этих великолепных учреждениях, куда тянет всякого, кто хочет проложить себе дорогу. Но Юджина испугали шумные редакции, хмурые заведующие художественными отделами и заносчивые редакторы. Один из этих власть имущих нашел небезынтересными те три-четыре наброска, которые показал ему Юджин, но он был в дурном расположении духа, и — нет, ему никто не нужен. Он так и сказал: «Нет, нам никого не надо». Юджин с горечью подумал, что, очевидно, его и на этом поприще ждет провал. Вся беда юноши заключалась в том, что его способности еще дремали. Красота жизни, то изумительное, что есть в ней, уже держало его в своей власти, но он еще не в состоянии был передать это в линиях и красках. Он без конца бродил по шумным улицам, подолгу простаивал у витрин и часами глядел на лодки, скользившие по реке, и на сновавшие по озеру суда. Как-то днем, когда Юджин стоял на берегу озера, на горизонте показалась шхуна, плывшая под всеми парусами, — первый корабль, который он увидел в своей жизни. Чуткая душа его встрепенулась. Руки нервно сжались в кулаки, дрожь пробежала по телу. Он сел на парапет и все смотрел и смотрел, пока шхуна не скрылась из виду. Так вот они, великие озера! Каковы же должны быть великие моря — Атлантический, Тихий, Индийский океаны. О море! Когда-нибудь он, быть может, попадет в Нью-Йорк и увидит там море. Но оно и здесь перед ним — в миниатюре, и какое оно изумительное! Однако человек не может жить праздно, проводя время в мечтаниях на берегу озера, у паромов и витрин, если у него нет средств к существованию, а у Юджина их не было. Покидая отчий дом, он твердо решил добиться самостоятельности. Он хотел иметь заработок, на который можно было бы кое-как жить. Он хотел иметь возможность написать домой, что неплохо устроился. Прибыли его вещи, от матери пришло ласковое письмо и немного денег, однако деньги он отослал обратно — всего лишь десять долларов, но он не так думал начинать новую жизнь. Он считал, что должен жить на собственные средства — во всяком случае он решил попытаться. Прошло десять дней, капиталы Юджина сильно поубавились, — у него оставался доллар семьдесят пять центов, — надо было браться за любую работу. Нечего было сейчас и думать о месте художника или даже наборщика. Наборщик должен быть членом профессионального союза, а потому приходилось брать, что подвернется, — и он стал ходить из магазина в магазин, предлагая свои услуги. Убогие мастерские, в которых он справлялся о работе, были до того неприглядны, что Юджин внутренне морщился; но он подавил свою брезгливость. Он готов был взяться за какой угодно труд, хотя бы приказчика в булочной, кондитерской или мануфактурном магазине. Однажды он зашел наугад в большую скобяную лавку. Человек, к которому он обратился, посмотрел на него с любопытством. — Я могу вам предложить работу по ремонту печей, — сказал он. Юджин не понял его, но охотно согласился. Ему положили шесть долларов в неделю, — на это все же можно было существовать. Юджина проводили на чердак, находившийся в ведении двух верзил-рабочих, мастеров по сборке, окраске и починке печей. Они сердито объяснили своему новому помощнику, что он должен будет счищать ржавчину со старых печей, а также помогать собирать их, красить и переносить на склад, — в этой лавке ремонтировались для продажи старые печи, которые хозяин скупал у старьевщиков по всему городу. Юджину была отведена низкая скамья у окошка, где ему полагалось чистить ржавые печи, но он часто забывал о работе, глядя вниз, в переулок, где во дворах густо росла зеленая трава. Город был для него полон чудес, он манил его каждой мелочью. Когда мимо проходил тряпичник, выкрикивая: «Тряпки, железо покупаю!» — или торговец овощами зазывал: «Вот помидоры, картошка, молодая кукуруза, зеленый горошек!» — Юджин поднимал голову и прислушивался: эта своеобразная музыка находила в нем живой отклик. В Александрии ничего похожего не услышишь. Все это было так непривычно. И Юджин представлял себе, как он стал бы делать наброски, и мысленно зарисовывал белье, развешанное во дворе на веревках, девушек с корзинками и тому подобное. Однажды, когда ему казалось, что он усердно трудится (он работал в лавке уже две недели), один из мастеров крикнул ему: — Эй ты, там, пошевеливайся! Не за то тебе платят, чтобы ты в окно глазел. Юджин застыл на месте. Он и не заметил, что бездельничает. — А вам что за дело? — сказал он обиженно и вызывающе. До сих пор он считал, что работает с этими людьми, как равный, и вовсе не подчинен им. — Я тебе покажу, дерзкий мальчишка! — отозвался мастер постарше, грубый малый, вылитый Билл Сайкс из «Оливера Твиста». — Ты у меня узнаешь, кто твой начальник. Живей, говорю, и не нахальничать! Эта неожиданная вспышка звериной грубости поразила Юджина. Зверь, за которым он наблюдал на расстоянии, как мог бы наблюдать художник, и который интересовал его как явление, теперь показал себя. — Убирайтесь вы к дьяволу! — крикнул Юджин, лишь наполовину сознавая, какой опасности он себя подвергает. — Что такое? — заорал мастер и кинулся на него. Он оттолкнул Юджина к стене и хотел было пнуть носком своего тяжелого, подбитого гвоздями башмака. Юджин схватил с пола железную ножку от печки. Он был бледен как полотно. — Лучше не пробуйте! — угрожающе сказал он, крепко зажав в руке железную ножку. — Брось, Джим, — сказал другой мастер, понимавший всю неуместность такой вспышки. — Не тронь его. Гони его лучше вон, если он тебе не нравится. — В таком случае проваливай ко всем чертям! — сказал великодушный начальник Юджина. Все еще держа в руке печную ножку, Юджин подошел к гвоздю, на котором висели его пиджак и шляпа. Боясь, что нападение может повториться, он осторожно прошел мимо противника. Тот склонен был снова дать ему тумака в наказание за упрямство, но воздержался. — Много понимаешь о себе, щенок. Проснись, сонная харя! — сказал он, когда Юджин направился к выходу. Юноша тихонько проскользнул за дверь, чувствуя себя униженным и опозоренным. Какая сцена! Его, Юджина Витла, чуть не пнули ногой, чуть не вытолкали пинками вон, — и это на работе, за которую платят шесть долларов в неделю! На секунду острая спазма сдавила ему горло, но постепенно отлегло. Ему хотелось плакать, но он не мог. Он спустился вниз и подошел к конторке — лицо и руки у него были измазаны краской. — Я ухожу, — сказал он нанявшему его человеку. — Ладно. А что случилось? — Эта скотина мастер хотел ударить меня ногой, — объяснил Юджин. — Да, они довольно наглые ребята, — согласился хозяин. — Я так и думал, что вы с ними не поладите. Тут нужен человек покрепче вашего. Получите. Он выложил на стол три с половиной доллара. Юджин с удивлением выслушал этот странный ответ. Он должен был поладить с этими людьми! А они не обязаны ладить с ним? Так вот какую жестокость таит в себе большой город! Юджин вернулся домой, умылся и снова вышел на улицу, так как теперь не время было сидеть без работы. Неделю спустя он нашел место агента в конторе по продаже недвижимого имущества; он должен был узнавать и сообщать номера пустующих домов и наклеивать на окна ярлычок с надписью: «Сдается». Это приносило восемь долларов в неделю и открывало кой-какие перспективы. Юджина это место вполне устраивало, но не прошло и трех месяцев, как контора обанкротилась. Близилась осень, и надо было думать о зимнем костюме и теплом пальто, но Юджин не писал родным о своих злоключениях. Что бы ни было на самом деле, ему хотелось, чтобы они думали, будто он преуспевает. Остроту и некоторую горечь его впечатлениям придавало зрелище роскоши, подступавшей к нему с разных концов. Его восхищали такие улицы, как Мичиган, Прери и Эшленд-авеню, а также бульвар Вашингтона, — районы, застроенные прекрасными домами, каких Юджин до сих пор никогда не видел. Он был поражен их великолепием, красотой окружающих газонов, зеркальными окнами, блеском выездов и слуг. Впервые в жизни увидел он швейцаров в богатой ливрее, стоящих у дверей. Он видел издали молодых девушек и женщин, казавшихся ему чудом красоты и таких изысканных в своих нарядах, видел молодых людей с горделивой осанкой. Должно быть, это и былипредставители «общества», о которых постоянно писали в газетах. Юджин еще не умел разбираться в этом. Красивая одежда и изысканная роскошь были для него свидетельством высокого общественного положения. Впервые у него открылись глаза, и он увидел бездонную пропасть между тем, что ждет новичка из провинции, и теми благами, которыми располагает мир, — вернее, теми, что щедро сыплются на немногих, стоящих на самом верху. Все это несколько отрезвило, но и огорчило его. Жизнь была полна несправедливости. В эти осенние дни, когда листва на деревьях стала бурой и пронизывающий ветер гнал перед собой клубы дыма и тучи пыли, он убедился, что город умеет быть жестоким. Навстречу попадались люди в потрепанной одежде, угрюмые и изможденные, с запавшими глазами, из которых глядело глубокое отчаяние. Очевидно, их довела до этого тяжелая жизнь. Если они просили милостыню, — правда, к Юджину обращались редко, так как вид его отнюдь не говорил о довольстве, — то обычно жаловались на жизненные неудачи. Ведь так легко потерпеть крушение. Можно попросту умереть с голоду, если не глядеть в оба, — город быстро научил этому Юджина. В эти дни его грызла тоска. Юджин был не очень общителен и к тому же склонен к самоанализу. Он не имел возможности обзавестись друзьями, по крайней мере так он думал, и потому либо одиноко бродил вечерами по улицам, наблюдая жизнь большого города, либо сидел дома в своей комнатушке. Миссис Вудраф, его квартирная хозяйка, была добра и достаточно заботлива, но уже не молода, — не о таком обществе мечтал Юджин. Он думал о девушках и о том, как грустно, что нет ни одной, с кем можно было бы перемолвиться словом. Стеллы нет — с этой мечтой покончено. Когда-то он встретит другую, похожую на нее? В конце месяца, в течение которого он вынужден был истратить часть денег, присланных матерью для покупки в рассрочку костюма, Юджин, наконец, устроился возчиком в прачечную, и эта работа, за которую платили десять долларов в неделю, представлялась ему очень хорошей. Время от времени, когда он чувствовал себя не слишком усталым, он брался за карандаш и делал наброски, но все они казались ему бездарными. А потому он продолжал работать в прачечной и развозить белье, тогда как ему следовало бы искать места в какой-нибудь редакции или учиться живописи. В ту зиму Миртл написала ему, что Стелла Эплтон уехала в Канзас, куда перебрался ее отец, что мать хворает и просит Юджина хоть на неделю приехать домой. Незадолго перед этим Юджин познакомился с одной девушкой-шотландкой, по имени Маргарет Дафф, работавшей в той же прачечной; он быстро сошелся с ней, и эта связь положила начало его отношениям с женщинами. До этого он не знал женщин и с тем большей горячностью отдался теперь переживаниям, которые пробудили в его характере новую черту, если не порочную, то во всяком случае разрушительную и дезорганизующую. Он любил женщин, любил красивые линии их тела, их внешнее очарование, а впоследствии должен был полюбить и душевную красоту (он и сейчас ее любил, только смутно, бессознательно), но его идеал женщины еще не был ему ясен. Маргарет Дафф была непосредственна, добра и обладала некоторой грацией и миловидностью. Вот, пожалуй, и все. Но, найдя для себя благоприятную почву, чувственность Юджина стала быстро расти и за несколько недель почти целиком завладела им. Он дня не мог прожить без этой девушки, а она охотно шла ему навстречу, лишь бы их связь не слишком бросалась в глаза. Маргарет слегка побаивалась родителей, но они, люди рабочие, рано ложились и спали крепко. Они, по-видимому, ничего не имели против ее встреч с молодыми людьми. Юджин был у нее не первый. В продолжение трех месяцев страсть их была безудержна. Юджин проявлял жадность, ненасытность, а девушка, хоть и более холодная, рада была угодить возлюбленному. Ей льстил его пыл, жаркое пламя, которое она в нем зажгла; вскоре, однако, она почувствовала утомление. Затем стала сказываться разница натур, противоположность вкусов, взглядов, стремлений. Юджину в сущности не о чем было говорить с Маргарет, он не мог найти в ней отклика на свои более тонкие переживания. Она же не встречала в нем интереса к тем пустякам, которые ее занимали, — к остротам, услышанным с эстрады, к забавным замечаниям знакомых молодых людей и девушек. Маргарет умела одеться, но во всем, что касалось искусства, литературы, социальных проблем, была совершеннейшей невеждой, тогда как Юджин, при всей своей молодости, горячо отзывался на все, что происходило в мире. Ему были близки имена великих людей — Карлейля, Эмерсона, Торо, Уитмена, — дороги отзвуки их великой славы. Он читал о гениальных философах, художниках, композиторах, которые метеорами пронеслись по небу западного мира, и размышлял. Его волновало смутное предчувствие, что и он призван совершить нечто великое, и в своем юношеском энтузиазме он уже наполовину верил, что это будет очень скоро. Он знал, что девушка, с которой он сошелся, не удержит его надолго. Она увлекла его, но, увлеченный, он оставался господином, критиком и судьей. У него не раз мелькала мысль, что она ему не нужна, что он может найти кого-нибудь получше. Естественно, что такие мысли неизбежно должны были убить страсть, как пресыщение неизбежно должно было породить такие мысли. Маргарет постепенно охладевала к Юджину. Ее злило его высокомерие, его порой надменный тон. Они ссорились из-за пустяков. Как-то вечером он с обычной заносчивостью заметил, что ей следовало бы сделать то-то и то-то. — Брось, пожалуйста, командовать, — сказала она. — Ты всегда со мной разговариваешь, будто я твоя собственность! — Так оно и есть, — сказал он шутя. — Ты так думаешь! — вспыхнула она. — Найдутся и другие. — Ну и отправляйся к ним, когда тебе будет угодно. Я не возражаю. Его тон задел ее за живое, хотя Юджин сказал это больше в шутку, чем всерьез, и в действительности ничего такого обидного не имел в виду. — Мне сейчас угодно! Незачем ходить ко мне, раз ты этого не хочешь. Обойдусь и без тебя. Она вызывающе вскинула голову. — Не дури, Маргарет, — сказал он, поняв, какое вызвал озлобление. — Ты вовсе этого не думаешь. — Не думаю? А вот посмотрим! Она отошла в противоположный угол. Он последовал за нею, но ее гнев снова пробудил в нем раздражение. — Впрочем, как хочешь, — сказал он, постояв в нерешительности. — Я пойду, пожалуй. Она ничего не ответила, ни о чем не просила, ничего не предлагала. Юджин пошел за шляпой и пальто. — Хочешь поцеловать меня на прощание? — спросил он вернувшись. — Нет — холодно ответила она. — Покойной ночи, — сказал он. — Покойной ночи, — равнодушно отозвалась она. Они так и не помирились окончательно, хотя отношения их и продолжались еще некоторое время.Глава 5
Связь с этой девушкой возбудила в Юджине почти неудержимый интерес к женщинам. Большинство мужчин втайне гордятся своими любовными успехами, и всякое доказательство умения покорить женщину, увлечь и удержать ее рождает в них уверенность и смелость, которой порой не хватает тем, кто не избалован подобными победами. Для Юджина это была первая победа такого рода, и она доставила ему огромное удовлетворение. Он чувствовал больше уверенности в себе и совсем не испытывал стыда. Что знали, размышлял он, глупые мальчики в Александрии о той жизни, какую он ведет здесь? Он, Юджин, живет в Чикаго. Это совершенно иной мир. Он стал мужчиной, человеком независимым, с установившейся индивидуальностью, представляющей интерес для других. Маргарет Дафф говорила ему много лестного о его особе. Она восхищалась его внешностью, манерами, его вкусом. Он испытал, что значит обладать женщиной. Все это вскружило голову Юджину, и даже то, что ему так бесцеремонно была дана отставка, не произвело на него никакого впечатления, — ведь он был готов ее принять. Теперь он стал тяготиться своей работой, так как десять долларов в неделю не могли удовлетворить уважающего себя молодого человека, особенно если он задался целью при первой же возможности вступить в новую связь, вроде только что оборвавшейся. Юджин решил искать место получше. И вот однажды женщина, которой он доставлял белье на Уоррен-авеню, остановила его вопросом: — Сколько вы, возчики, получаете в неделю? — Я получаю десять долларов, — сказал Юджин. — Но некоторые, возможно, зарабатывают больше. — Из вас вышел бы хороший инкассатор, — предложила она. Это была рослая женщина, с виду простая, но проницательная и прямая. — Хотели бы вы перейти на такую работу? Юджину давно опротивело развозить белье. Рабочий день был убийственно длинный. В субботу, например, он кончал в час ночи. — Еще бы не хотеть! — воскликнул он. — Я не знаю, что это за должность, но в моей теперешней веселого мало. — Мой муж служит управляющим в компании «Дешевая мебель», — продолжала женщина. — Там нужны хорошие инкассаторы. Сейчас у них, кажется, есть вакантное место. Хотите, я поговорю с ним? Юджин обрадовался и поблагодарил ее. Вот уж действительно как с неба свалилось! Ему очень хотелось узнать, сколько получает такой инкассатор, но он решил, что спрашивать неудобно. Однако женщина, по-видимому, угадала его мысли. — Если он вас возьмет, вы будете, вероятно, получать для начала долларов четырнадцать, — сказала она. Юджин был в восторге. Вот это действительно шаг вперед! На четыре доллара больше! При таком жалованье он мог бы одеться и иметь свободные деньги. Он мог бы учиться живописи. Его мечты росли и множились. Да, можно пробить себе дорогу, стоит только захотеть. Добросовестность, с какою он обслуживал клиентов прачечной, получила должную награду. А дальнейшие труды на новом поприще принесут ему, возможно, и больший успех. Ведь он еще так молод. К тому времени он уже проработал в прачечной полгода. И вот полтора месяца спустя на его имя пришло письмо от мистера Генри Митчли, управляющего компанией «Дешевая мебель», с просьбой зайти к нему на дом в любой вечер после восьми. «Мне порекомендовала вас моя жена», — сообщал он в заключение. Юджин отправился по адресу в тот же день, и там его встретил и внимательно оглядел худощавый, подвижный, обходительный до слащавости человек лет сорока, который задал ему множество вопросов относительно его родителей, работы, получаемого жалованья и так далее. Наконец он сказал: — Мне нужен дельный молодой человек. Для солидного, честного и трудолюбивого работника у нас очень хорошее место. Моя жена хвалит вас, и я готов вас испробовать. Я могу предложить вам должность на четырнадцать долларов. Зайдите ко мне в следующий понедельник. Юджин поблагодарил его. По совету мистера Митчли, он решил за неделю предупредить управляющего прачечной о своем уходе. Он рассказал Маргарет о своих планах, и она, по-видимому, была рада за него. Управляющий расстался с ним не без сожаления, так как Юджин работал добросовестно. За неделю он помог ввести в дело нового человека, взятого на его место, и в понедельник явился к мистеру Митчли. Последний радушно встретил Юджина, так как угадывал в нем энергичного и способного работника. Он объяснил ему несложные обязанности инкассатора, которые заключались в том, чтобы взыскивать с клиентов текущие взносы за проданные им в рассрочку товары — часы, серебро, ковры и прочее, что составляло в среднем от семидесяти пяти до ста двадцати пяти долларов в день. — В таком деле, как наше, у служащих обычно берут залог, — пояснил мистер Митчли, — но мы обходимся без этих новшеств. Мне кажется, я всегда отличу честного человека. К тому же у нас существует контроль. И если у человека дурные наклонности, с нами он не больно разживется. Юджин никогда особенно не задумывался над тем, что значит быть честным. Дома ему не отказывали в небольших карманных деньгах, а служа в газете, он достаточно зарабатывал на свои нужды. С другой стороны, в его кругу быть честным считалось чем-то обязательным, само собой разумеющимся. Кто не был честен, попадал в тюрьму. Он отлично помнил один прискорбный случай в Александрии, когда его знакомого арестовали за то, что он забрался ночью в какой-то магазин. На Юджина это происшествие произвело огромное впечатление. Впоследствии он немало думал об этих вопросах, но так ни до чего и не додумался. Он знал, что от него могут в любую минуту потребовать отчета в сумме, предоставленной в его распоряжение, и был готов к этому. Его заработка, считал он, должно хватать на жизнь, тем более что ему не нужно никого содержать. Он в сущности легко скользил по поверхности жизни, и честность его оставалась неиспытанной. Юджин взял приготовленные для него счета и стал добросовестно обходить дом за домом. Одни клиенты платили с готовностью, и он выдавал им расписки, другие просили об отсрочке или совсем отказывались платить, ссылаясь на какие-то недоразумения с компанией. Нередко выяснялось, что люди, которых он разыскивал, съехали, не оставив адреса и захватив с собой неоплаченные вещи. В таких случаях он был обязан, как объяснил ему мистер Митчли, расспросить о них соседей. Юджин сразу понял, что эта служба по нем. Пребывание на свежем воздухе, всегда в движении, сравнительная простота обязанностей — все нравилось ему. Эти обязанности заводили его в незнакомые части города и сталкивали с незнакомыми дотоле типами и характерами. Если работа возчика — необходимость ездить от дома к дому — действовала на него освежающе, то и новая его служба была в таком же роде. Он наблюдал сценки, которые могли в будущем послужить ему прекрасным материалом для картин. Темные массивы фабрик, высящиеся в светлом небе; широкое железнодорожное полотно, скрещивающиеся, переплетающиеся пути под дождем, под снегом, на ярком солнце; гигантские черные трубы, устремленные навстречу утренним или вечерним облакам. Особенно нравились ему эти трубы под вечер, когда они рельефно выделялись на фоне красного или тускло-фиолетового заката. «Изумительно!» — восклицал он про себя и думал о том, как будет поклоняться мир ему, Юджину, если он когда-нибудь создаст такие же великие произведения, как Гюстав Доре. Он восхищался грандиозным воображением этого мастера. Юджин никогда не представлял себя пишущим маслом, акварелью или мелом, — только тушью, и притом большими, грубыми пятнами черного и белого. Вот как нужно писать. Вот чем достигается сила впечатления. Но он еще не мог создавать образы. Он мог только мыслить ими. Больше всего восхищала его река Чикаго, ее черная, невероятно грязная вода, которую тяжело вспенивали пыхтящие буксиры, ее берега, где выстроились огромные красные элеваторы, черные желоба для погрузки угля и отливающие яркой желтизной склады лесных материалов. Вот где были настоящие краски, настоящая жизнь — вот что следовало писать. И другой пейзаж: приземистые, исхлестанные дождем сиротливые коттеджи, их серые унылые ряды на фоне голой прерии и одинокое корявое деревце где-нибудь сбоку. Он брал первый попавшийся конверт и силился запечатлеть главное, — передать ощущение, как он выражался, — но у него ничего не выходило. Все, что он рисовал, казалось ему жалким и шаблонным, — одни ничего не говорящие линии и безжизненные, тяжеловесные массы. Как достигали великие художники естественности и простоты рисунка? — спрашивал себя Юджин.Глава 6
Юджин добросовестно работал — собирал взносы по счетам, сдавал собранные деньги — и уже успел кое-что скопить для себя. Маргарет была для него теперь далеким прошлым. Квартирная хозяйка Юджина, миссис Вудраф, уехала к дочери в Сидейлию, штат Миссури, и он перебрался в другой дом, поприличнее, на Двадцать первой улице, в восточной части города. Перед домом на лужайке в пятьдесят квадратных футов росло дерево, это-то и привлекло Юджина. Его новая комната, как и первая, стоила недорого, и он жил в семье. Он договорился платить двадцать центов за каждый завтрак, обед или ужин, который будет получать от хозяев, и, таким образом, расходовал на питание всего пять долларов в неделю. Из остальных девяти он тратил какие-то суммы на одежду, проезд и развлечения — на последние почти ничего. Как только у него появились кое-какие сбережения, он стал подумывать о том, чтобы наведаться в Институт искусств, который представлялся ему дорогой к успеху, и узнать условия поступления на вечерние курсы по рисунку. Юджин слышал, что плата там умеренная, всего пятнадцать долларов в семестр, и решил туда зачислиться, если к поступающим не предъявляют слишком строгих требований. Он постепенно приходил к убеждению, что рожден быть художником и рано или поздно им будет. Старое здание Института искусств на углу Мичиган-авеню и Монро-стрит, еще до переезда Института в нынешнее внушительное помещение, являло образец изящества, которого так не хватает большинству общественных зданий того времени. Большое, шестиэтажное, из бурого песчаника, оно, помимо залов для выставок и классов, вмещало ряд рабочих студий отдельных художников, скульпторов и преподавателей музыки. Курсы были утренние и вечерние, и они уже в то время привлекали немало учащихся. Красота, таящаяся в искусстве, до некоторой степени расшевелила западного американца. Так мало красоты было в жизни этого народа, а между тем какой славы достигли те, кто сумел проявить себя на этом поприще и жил в этой изысканной атмосфере. Уехать в Париж! Поучиться там в какой-нибудь прославленной мастерской! Или в Мюнхен, Рим! Познакомиться с художественными сокровищами Европы, с жизнью артистических кварталов, — одно это чего стоило! В груди многих неискушенных юношей и девушек горело поистине непреодолимое желание вырваться из болота будничной жизни, воспринять вкусы и нравы, присущие — как тогда считали — служителям искусства, усвоить их отчасти изысканные, отчасти небрежные манеры; поселиться в студии, пользоваться известной свободой, недоступной для простых смертных, — вот что надо делать, к чему стремиться. Разумеется, некоторая роль во всем этом отводилась и самому искусству. Предполагалось, что когда-нибудь вы обогатите мир замечательными полотнами и великолепными статуями, а пока вам можно и должно жить жизнью художника. Какая прекрасная, привольная жизнь! Юджину давно уже грезилось нечто подобное. Он знал, что в Чикаго немало известных мастерских, что есть художники, создающие, судя по отзывам газет, превосходные произведения. В печати то тут, то там попадались сообщения о выставках, по большей части бесплатных, ибо публику и так было довольно трудно туда залучить. Однажды Юджин прочел о выставке картин Верещагина, прославленного русского баталиста, какими-то судьбами оказавшегося в западном полушарии. В одно из воскресений Юджин отправился посмотреть его картины и был потрясен великолепной передачей деталей боя, изумительными красками, правдивостью образов, ощущением трагизма, мощи, опасности, ужаса и страданий, которое исходило от этих полотен. Они свидетельствовали о зрелости и глубине таланта русского художника, об исключительном богатстве его воображения и темперамента. Юджин смотрел и думал о том, как достигнуть такого совершенства. И в течение всей дальнейшей жизни имя Верещагина было для него величайшим стимулом. Если быть художником, то только таким. В другой раз Юджин увидел картину, которая затронула в нем иные струны, хотя природа впечатления и на этот раз была художественной. Это была картина французского художника Бугро — крупное, теплое по колориту нагое женское тело. Совсем недавно этот художник произвел сенсацию своими смелыми изображениями обнаженной натуры. Излюбленными образами Бугро были не жеманные, миниатюрные, хрупкие существа, лишенные силы и страсти, а прекрасные, полнокровные женщины, со сладострастными линиями шеи, рук, груди, бедер и ног, женщины, созданные для того, чтобы зажечь лихорадочный огонь в крови молодого мужчины. Художник, несомненно, понимал и знал страсть, любил форму, чувственность, красоту. За его прекрасными образами угадывалось брачное ложе, материнство и пухлые, цветущие младенцы, радостно прижимаемые к груди. Его женщины вставали во всей своей красе и притягательной силе: с полуоткрытыми сочными губами, с румянцем страсти на щеках, с манящим желанием в глазах. Нечего и говорить, что консерваторы и пуритане, люди религиозного и строгого воспитания, предавали такие картины анафеме. Уже одного того, что это полотно было привезено в Чикаго для продажи, оказалось достаточно, чтобы вызвать бурю возмущения. Нельзя рисовать такие вещи, кричали газеты, во всяком случае незачем показывать их публике. Многие хотели видеть в Бугро одного из тех, кто сеет соблазн и пытается своим талантом внести разложение в общественные нравы. Поднялся вопль, что картину надо убрать, и, как всегда бывает при взрывах общественного протеста, она вызвала в публике огромный интерес. Юджин тоже заинтересовался дискуссией. Он не только не видел раньше полотен Бугро, он вообще никогда не видел ни одной настоящей картины, изображающей обнаженное тело. Освобождаясь обычно в три часа, он успевал посещать выставки, тем более что его теперешняя работа позволяла ему всегда носить хороший костюм. Юджин выглядел серьезным, солидным молодым человеком, и его просьба показать что-либо в художественном салоне не должна была вызвать недоумения. По внешнему виду он вполне мог принадлежать к интеллигенции или к племени художников. Не будучи уверен в том, какой прием будет оказан столь молодому человеку (ему еще не исполнилось и двадцати лет), Юджин тем не менее рискнул зайти в магазин, где был выставлен Бугро, и попросил показать ему картину. Служитель с любопытством оглядел его, но все же проводил в глубь магазина, в комнату с темно-красными портьерами, включил электрическую люстру в нише, затянутой красным бархатом, и отдернул занавес, скрывавший картину. Юджин никогда не видел такого тела, такого лица. Это была красота, которая является только в мечтах, — его идеал, воплощенный в жизнь. Он смотрел, не отрываясь, на это лицо и шею, на пышный узел чувственных каштановых волос, на губы, раскрытые, словно лепестки, на нежные щеки. С изумлением разглядывал он мягко намеченные груди и живот — это обещание материнства, которое так воспламеняет мужчин. Он мог бы часами стоять, созерцая и наслаждаясь, но служитель, оставивший его одного на несколько минут, вернулся. — Сколько она стоит? — спросил Юджин. — Десять тысяч долларов, — последовал ответ. Юджин понимающе усмехнулся. — Да, вещь замечательная, — сказал он и направился к выходу. Служитель выключил свет. Эта картина, как и полотна Верещагина, оставила глубокий след в душе Юджина. Но, как ни странно, у него не было желания создать что-либо в этом роде. Он лишь испытывал радостное волнение, разглядывая ее. Эта картина воплотила его идеал женщины — идеал красоты, и он всем существом жаждал найти подобное создание, которое отнеслось бы к нему благосклонно. Были и другие выставки (на одной он, между прочим, увидел подлинного Рембрандта), которые произвели на него немалое впечатление, но ни один художник не взволновал его так глубоко, как Верещагин и Бугро. Юджина все неудержимее влекло к искусству; ему хотелось побольше узнать и самому испытать свои силы. Однажды, набравшись смелости, он зашел в Институт искусств и навел справки у секретарши. Это была женщина с весьма практическим складом ума. Она сообщила ему, что занятия продолжаются с октября по май, что он может записаться в класс живой натуры, или гипсов, или в тот и другой — хотя гипсы для начала целесообразнее, — или в класс иллюстрации, где натурщиков и натурщиц пишут в костюмах различных эпох, а также сказала, сколько ему придется платить за это. Он узнал, что в каждом классе свой преподаватель (человек с именем и весом) — но Юджину пока нет надобности обращаться к кому-либо из них, — а также свой староста. От учащегося требуется добросовестная работа — ради его же собственного блага. Юджин не видел самые классы, но вынес впечатление, что здесь каждый уголок насыщен искусством; даже коридоры и служебные комнаты были изящно отделаны, и всюду висели гипсовые слепки — руки, ноги, торсы, бедра и головы. Юджину казалось, что он постоял у открытой двери и заглянул в новый мир. Он с радостью узнал, что ему предоставляется возможность учиться рисовать пером или кистью в классе иллюстрации, а также, если он пожелает, заниматься вечерами по классу живой натуры и посещать, без особой доплаты, от пяти до шести класс эскиза. Он несколько удивился, узнав из врученного ему печатного проспекта, что в классе живой натуры пишут с обнаженных моделей — мужчин и женщин. Он и впрямь был на пути в новый мир. Этот мир казался ему естественным и необходимым, но вместе с тем от него веяло чем-то неприступным, наводившим на мысль о священном храме, куда доступ открыт лишь избранным и одаренным. Одарен ли он? Погодите! Он еще покажет себя, хоть он и неотесанный провинциал! Юджин решил записаться, во-первых, в класс живой натуры, где занятия происходили по понедельникам, средам и пятницам от семи до десяти, и, во-вторых, в класс эскиза, который работал ежедневно с пяти до шести. Он понимал, что знает очень мало — вернее, ничего не знает — о строении и анатомии человеческого тела и что ему лучше всего поработать над этим. Костюм и иллюстрация подождут, а что касается пейзажей, тех самых видов города, которые его особенно увлекали, то с этим надо повременить, пока он не постигнет основного. До сих пор Юджин никогда не пытался рисовать лицо или человеческую фигуру — разве только очень мелким планом, как деталь более крупной композиции. Теперь ему предстояло делать углем наброски головы или тела с живой натуры, и это его пугало. Он знал, что придется работать в одном классе с пятнадцатью — двадцатью другими студентами, которые увидят его работы и будут критиковать их. Дважды в неделю их будет просматривать преподаватель. Как он узнал из проспекта, тот, кто в течение месяца обнаружил наибольшие успехи, получает право выбирать себе лучшее место всякий раз, когда группа приступает к новой работе. Преподаватели представлялись Юджину людьми хорошо известными среди американских художников — все это были «Н.А.», «национальные академики». Он и не подозревал, с каким презрением относились к этому званию в некоторых кругах. Однажды вечером, в один из октябрьских понедельников, запасшись несколькими листками бумаги, которую он приобрел, следуя указаниям все того же всеведущего проспекта, Юджин приступил к занятиям. Он слегка нервничал, оглядывая ярко освещенные коридоры и классы, и вид проходивших мимо молодых людей и девушек отнюдь не способствовал его успокоению. Ему сразу бросились в глаза их веселость и непринужденные манеры. Студенты производили впечатление интересных, мужественных и в большинстве красивых мужчин, а студентки — изящных, бойких и уверенных в себе молодых особ. Одна или две из них, как мысленно отметил Юджин, выделялись какой-то своеобразной, непонятной ему красотой. О, это был прекрасный мир. Классные комнаты поразили его не меньше. Они так давно служили своему назначению, что все стены их были измазаны краской, соскобленной с палитр. Не было даже мольбертов, одни только стулья и маленькие скамеечки; стульями, как узнал Юджин, студенты пользовались вместо мольбертов, перевернув их ножками кверху, скамеечки заменяли им стулья. Посередине класса были устроены подмостки высотой с обыкновенный стол, где позировали натурщицы или натурщики, а в одном углу комнаты стояла ширма, за которой они одевались. Ни картин, ни статуй — голые стены, и у одной из них почему-то рояль. В коридорах и в общем зале висели изображения нагого тела или его частей во всевозможных положениях, и для Юджина, при его непосредственности и молодости, это служило немалым соблазном. Он посматривал на них с тайным удовольствием, но понимал, что никому не должен признаваться в таких мыслях. Люди искусства, говорил он себе, должны казаться равнодушными к подобным искушениям, они должны быть выше таких чувств. Ведь они приходят сюда работать, а не мечтать о женщинах. Когда настал час, назначенный для занятий, студенты засуетились и забегали, некоторые стали совещаться между собой, и вскоре мужчины заняли один ряд комнат, а женщины — другой. В своем классе Юджин увидел молоденькую девушку, которая сидела у самой ширмы и со скучающим видом смотрела по сторонам. Черноволосая и черноглазая, она была хороша собой; ее лицо выдавало ирландское происхождение. На ней была шапочка, напоминавшая национальный головной убор польских женщин, и красный плащ. Юджин подумал, что это натурщица, и втайне спрашивал себя, неужели он и в самом деле увидит ее нагой. Спустя несколько минут, когда все расселись, по рядам прошло легкое движение, и в класс неторопливо вошел высокий мужчина лет тридцати шести, весьма живописной внешности. Он гуляющей походкой прошел через всю комнату и потребовал внимания. На нем был поношенный серый шерстяной костюм и небрежно сдвинутая набекрень коричневая шляпа с небольшими полями, которую он не нашел нужным снять. Под пиджаком виднелась голубая в полоску рубашка с отложным воротником и без галстука — все вместе придавало ему чрезвычайно самодовольный вид. Это был высокий, стройный мужчина, с длинным, узким лицом, твердо очерченной линией большого рта, крупными руками и ногами; ходил он вперевалку, как моряк. Юджин догадался, что это и есть «м-р Темпл Бойл, Н.А.», их преподаватель, и ожидал, что сейчас будет произнесено нечто вроде вступительной речи. Но тот лишь заявил, что старшим по классу назначен мистер Уильям Рэй, и выразил надежду, что не услышит жалоб на беспорядок и напрасную трату времени. По средам и пятницам он будет регулярно просматривать работы и надеется, что все студенты постараются заниматься успешно. Затем он предложил классу приступить к делу и так же неторопливо удалился. Юджин узнал от одного из студентов, что это действительно был мистер Бойл. Молодая ирландка прошла за ширму, и Юджин со своего места увидел, что она раздевается. Это смутило его, но он взял себя в руки, чтобы не опозориться в присутствии стольких студентов. Он перевернул стул ножками кверху, как это сделали другие, и сел на скамеечку. Уголь в маленькой коробочке лежал рядом. Он разгладил бумагу, натянутую на доску, и нетерпеливо ждал, сохраняя внешнее спокойствие. Некоторые студенты переговаривались между собой. Наконец натурщица сбросила с себя тонкую, прозрачную сорочку, и в следующее мгновение показалась из-за ширмы нагая и совершенно спокойная. Поднявшись на помост, она стала в позу лицом к студентам, опустив руки вдоль бедер и запрокинув голову. У Юджина зазвенело в ушах, краска залила лицо, сначала он даже боялся посмотреть на девушку. Потом, взяв уголь, он начал наносить на бумагу какие-то робкие штрихи, пытаясь хотя бы отчасти передать ее позу и черты лица. Все происходившее казалось ему необыкновенным — и то, что он в этой комнате, и то, что перед ним натурщица, — словом, что он учится живописи. Так вот каков этот мир, столь не похожий на тот, который он знал до сих пор. И он вступил в него, так как нашел свое призвание.Глава 7
Только окончательно решив поступить в Институт искусств, Юджин впервые навестил свою семью. Несмотря на то, что его родной дом находился в каких-нибудь ста милях от Чикаго, у него никогда не возникало желания поехать туда, даже на рождественские праздники. Но теперь у него есть что сказать родным — он будет художником. А что до его службы, тут все обстояло как нельзя лучше. Мистер Митчли был им, по-видимому, доволен. Юджин ежедневно сдавал ему деньги и неоплаченные счета. Тот проверял наличность, а на неоплаченных счетах делал пометку «Ко взысканию». Случались у Юджина и просчеты: денег оказывалось то слишком много, то слишком мало. Но так как излишками покрывались недостающие суммы, то в конечном итоге счет выравнивался. В денежных вопросах Юджин не был способен к обману. Ему многое хотелось бы приобрести, но он готов был терпеливо ждать, пока это достанется ему честным путем. Именно эта черта в его характере и нравилась мистеру Митчли. Он стал подумывать, что из Юджина, пожалуй, выйдет толк. Юджин выехал из Чикаго в пятницу вечером, перед Днем труда — праздником, который, как известно, приходится на первый понедельник сентября и который неукоснительно отмечался в городе всеми. Он сообщил мистеру Митчли о своем желании выехать в субботу после рабочего дня, чтобы провести дома воскресенье и понедельник, но тот предложил ему сделать за четверг и пятницу все, что у него намечено на субботу, и выехать в пятницу вечером. — Тем более что в субботу мы работаем только полдня, — добавил он. — Таким образом, вы и с делами справитесь и дома пробудете не два, а три дня. Юджин поблагодарил мистера Митчли и последовал его совету. Он уложил в чемодан все лучшее, что у него было из одежды, и сел в поезд, думая о том, что его ждет дома. Многое изменилось за это время! Стелла уехала. Его юношеская наивность и неопытность отошли в прошлое. Теперь он едет домой как человек бывалый, с кое-какими перспективами на будущее. Он и не догадывался, каким мальчиком он еще выглядел, как мало еще знал жизнь и как далеко было ему до того трезвого благоразумия, которое так высоко ценит мир. На вокзале в Александрии Юджина встретили отец, Миртл и Сильвия со своим двухлетним сынишкой. Они приехали в семейной коляске, в которой было место и для него. Юджин ласково поздоровался со всеми и с подобающей скромностью принял их восторженные похвалы своей внешности. — Здорово ты вырос! — воскликнул отец. — Оказывается, Юджин, ты будешь высоким мужчиной. Я уже боялся, что ты перестал расти. — А мне и не заметно, что я сколько-нибудь вырос, — сказал Юджин. — Нет, правда, — вставила Миртл. — Ты стал гораздо выше, Джин. И потому кажешься похудевшим. Ну как ты, поздоровел, окреп? — Еще бы мне не окрепнуть, — смеясь, ответил Юджин, — когда я за день делаю миль пятнадцать — двадцать и все время на свежем воздухе! Сильвия справилась насчет его желудка. В общем, все то же самое, ответил Юджин. То как будто лучше, то опять хуже. Один врач посоветовал ему выпивать утром стакан горячей воды, но он никак себя не заставит. Противно глотать эту гадость. Так, за разговорами и расспросами, они и не заметили, как доехали до дому, где миссис Витла ждала их на крыльце. Завидев ее в поздних сумерках, Юджин соскочил на ходу и бросился к ней. — Мамочка! — воскликнул он. — Не ждала меня так скоро, правда? — Скоро, говоришь?.. — только и вымолвила она и припала к его груди. Несколько секунд она не выпускала его из объятий, а потом сказала: — Ты стал совсем взрослым, Юджин! Юджин прошел в гостиную и огляделся. Все здесь было по-прежнему. Те же книги, тот же стол и стулья, та же лампа, спускающаяся на блоке с потолка. Ничего нового не прибавилось ни в другой, парадной, гостиной, ни в спальных комнатах, ни в кухне. Мать немного постарела, отец — нисколько. Сильвия заметно изменилась. Ее круглое личико слегка осунулось и заострилось. «Печать материнства», — подумал Юджин. Лицо Миртл светилось спокойствием и счастьем. У нее был теперь жених, некий Фрэнк Бэнгс, управляющий местной мебельной фабрикой. Он был совсем еще молод и недурен собой. В семье считали, что со временем он будет состоятельным человеком. Старый Билл — одна из двух рабочих лошадей — был продан. Не было в живых Бродяги — одной из овчарок, и кот Джек погиб где-то во время ночных прогулок. Юджин стоял в кухне и наблюдал за матерью, которая жарила для него увесистый бифштекс и готовила в честь его приезда бисквит со сладкой подливкой, и у него было такое ощущение, словно этот мир стал ему чужим. Он был еще теснее и меньше, чем ему представлялось. Да и самый город, когда он проезжал по улицам, показался ему меньше, меньше стали и дома. Конечно, здесь было хорошо. Но эти уютные, тихие дворики чересчур уж напоминали деревню. А отец, со своей торговлей швейными машинами, — до чего же он ограничен. Типичный провинциал. Как это дико, вдруг подумал Юджин, что у них в доме никогда не было рояля. А ведь Миртл любит музыку. И сам он тоже обнаружил в себе страстную любовь к музыке. В Центральном музыкальном зале в Чикаго по вторникам и пятницам давались органные концерты, и он иногда успевал попасть на них после работы. Кроме того, выступления некоторых видных проповедников, — людей, известных своими либеральными взглядами, как, например, профессор Суинг, преподобный Г. У. Томас, преподобный Гансолус, профессор Солтас, — всегда сопровождались прекрасной музыкой. Все это Юджин открыл для себя в своем стремлении узнать жизнь и бежать от одиночества. И теперь он понимал, что старый мир, в котором он жил когда-то, был просто глухим, захолустным городишкой. Никогда он не вернется к такой жизни. На другой день, отлично выспавшись в своей прежней спальне, Юджин пошел в «Морнинг Эппил» повидаться с мистером Калебом Уильямсом и мистером Берджесом, с Джонасом Лайлом и Джоном Саммерсом. На площади возле суда он повстречал Эда Митчела и Джорджа Тэпса, а потом Билла Грониджера и еще четырех или пятерых товарищей по школе. От них он узнал все новости. Джордж Андерсон женился на здешней девушке и теперь живет в Чикаго — работает там на бойнях. Эд Уотербери уехал в Сан-Франциско. Хорошенькая дочка мистера Сэмпсона, Бесси Сэмпсон, когда-то так дружившая с Тэдом Мартинвудом, сбежала с приезжим из Андерсона, что в штате Индиана. Об этом в свое время было много разговоров. Юджин слушал. Но каким все это казалось ему ничтожным по сравнению с той новой средой, в которую он попал. Ни один из этих молодых людей и не догадывался, какие виды на будущее рисовались ему, Юджину. В Париж! Ни в коем случае не меньше! И в Нью-Йорк! Хотя он не мог бы сказать, какой дальней дорогой туда доберется. А Билл Грониджер устроился на службу в багажное отделение одного из местных вокзалов и рад. Бог ты мой! В редакции «Морнинг Эппил» все было по-старому. Юджин после двух лет думал найти здесь большие перемены, а между тем изменился он сам. Это он попал в круговорот всяких ломок и превращений. Он чистил ржавые печи, он был помощником агента по продаже недвижимого имущества, возчиком, инкассатором. Он узнал Маргарет Дафф, и мистера Редвуда, заведующего прачечной, и мистера Митчли. Большой город озарил его своим светом — Верещагин, Бугро, Институт искусств. Он шел вперед семимильными шагами, а этот городок тоже двигался, но так же, как раньше, понемножку, не торопясь. Калеб Уильямс, как и встарь, носился по комнате веселый, разговорчивый, исполненный участия. — Рад тебя видеть, Юджин, — заявил он, уставившись на него своим единственным, слезящимся глазом. — Рад, что ты делаешь успехи. Это хорошо. Со временем будешь художником, а? Что ж, я лично считаю, что ты для того и создан. Я не всякому молодому человеку посоветовал бы ехать в Чикаго, но ты будешь там как раз на месте. Если б у меня не было жены и троих детей, ни за что бы оттуда не уехал. Но когда у человека семья… — Он сделал выразительную паузу и покачал головой. — О-хо-хо! По одежке протягивай ножки. И ушел искать запропастившуюся куда-то заметку. Джонас Лайл был все так же осанист, флегматичен и философски настроен. Он приветствовал Юджина серьезным, испытующим взглядом. — Ну-с, как дела? Юджин улыбнулся. — Неплохо. — Наборщиком, значит, не собираетесь быть? — Как будто нет. — Что ж, это, пожалуй, к лучшему. Их и без того слишком много. Пока они разговаривали, подошел бочком Джон Саммерс. — Как поживаете, мистер Витла? — спросил он. Юджин посмотрел на него. Джон был уже отмечен печатью смерти. Он еще больше исхудал, лицо приняло мертвенный оттенок, плечи ссутулились. — Очень хорошо, мистер Саммерс, — сказал Юджин. — А я не могу похвастаться, — сказал старый печатник. Он многозначительно постучал себя по груди. — Это штука скоро меня доконает. — Не верьте ему, — вмешался Лайл. — Джон вечно ноет. Он здоров, как никогда. Я ему говорю, что он еще лет двадцать проскрипит. — Нет, нет, — сказал Саммерс, качая головой. — Я-то знаю. И он тут же куда-то исчез, пояснив предварительно: «Это здесь рядом, через дорогу», как всегда говорил, когда шел выпить. — Он и года не протянет, — сказал Лайл, едва за ним закрылась дверь. — Берджес только потому его терпит, что стыдно выгонять больного на улицу. Но его песенка спета. — Это сразу видно, — сказал Юджин. — Выглядит он ужасно. И они продолжали беседовать в том же духе. В двенадцать часов Юджин вернулся домой. Миртл заявила, что вечером он непременно должен пойти с ней и с мистером Бэнгсом в гости. Там будут игры, угощение. Ему никогда раньше не случалось задумываться над тем, что молодежь в городе не танцевала и почти не занималась музыкой. Редко у кого в доме был рояль. После ужина пришел мистер Бэнгс, и все трое отправились на типичную для провинциального городка вечеринку. Она немногим отличалась от тех, на которых Юджин бывал когда-то со Стеллой, — разве только участники ее почти все были постарше. Два года играют огромную роль в жизни молодых людей. Человек двадцать юношей и девушек с трудом помещались в трех просторных комнатах и на веранде; окна и двери на веранду были раскрыты. За окнами была пожелтевшая трава и редкие осенние цветы. Трещали кузнечики, запоздалые светлячки носились в воздухе. Был тихий, теплый вечер. Первые попытки создать непринужденное настроение были не очень успешны. Кого-то с кем-то знакомили, местные денди перебрасывались остротами и шутками. Было довольно много новых лиц, преимущественно среди девушек; одни перебрались сюда из других мест, другие за время отсутствия Юджина успели расцвести и созреть. — Выходите за меня замуж, Мэдж, я куплю вам котиковые сережки! — услышал он слова одного из юнцов. Юджин улыбнулся, а девушка посмотрела на него и рассмеялась. — Он воображает, что это остроумно. Юджину всегда стоило больших усилий преодолеть сковывавшую его в таких случаях застенчивость. Он боялся уронить себя во мнении окружающих — в этом проявлялось его тщеславие, его повышенное самолюбие. И сейчас он нерешительно прислушивался к разговорам, пытаясь с помощью двух-трех остроумных замечаний присоединиться к общей беседе, и уже начал было оживляться, когда в комнату вошла незнакомая ему девушка в сопровождении жениха Миртл — Бэнгса. Она весело смеялась чему-то, и этот веселый, мелодичный смех сразу привлек к себе внимание Юджина. На ней былобелое платье, отделанное золотисто-коричневой лентой, пропущенной на подоле по краю оборки. Длинные толстые косы оттенка матового золота обвивали ее голову. У нее был прямой нос, тонкие и румяные губы и чуть выдающиеся скулы. Что-то было в ней, выделявшее ее среди окружающих, — едва уловимое обаяние незаурядности. Юджина безотчетно потянуло к этой девушке. Подвел ее к Юджину Бэнгс. Это был подтянутый, всегда улыбающийся молодой человек, крепкий, как молодой дубок, простой и честный. — Позвольте вас представить, Юджин, это — мисс Блю. Она из Висконсина и часто бывает в Чикаго. Я говорю ей, что вы непременно должны познакомиться. Вы можете как-нибудь встретиться там. — Как это удачно! — обрадовался Юджин. — Я чрезвычайно рад познакомиться с вами. Где вы живете в Висконсине? — В Блэквуде, — смеясь, ответила она, и в ее зеленовато-голубых глазах заплясали огоньки. — Волосы у нее желтые, глаза голубые, а сама из Блэквуда[37], — сказал Бэнгс. — Каково? Он широко улыбался, поблескивая ровными белыми зубами. — Вы упустили синее имя и белое платье. Мисс Блю[38] должна всегда носить белое. — Да, этот цвет подходит к моей фамилии, верно? — воскликнула она. — Дома я и хожу обычно в белом. Ведь я всего только скромная провинциалка и почти всегда сама шью себе платья. — Вы и это сами шили? — спросил Юджин. — Конечно, сама. Бэнгс отступил на шаг, чтобы получше рассмотреть платье. — Гм, оно и вправду, красиво! — объявил он. — Мистер Бэнгс ужасный льстец, — с улыбкой сказала девушка, обращаясь к Юджину. — Он все время говорит мне комплименты. — Он прав, — сказал Юджин. — Я согласен с ним насчет платья и считаю, что оно очень идет к вашим волосам. — Вот видите, он тоже пал жертвой, — рассмеялся Бэнгс. — Это общая участь. Ну, а теперь я вас покину. Мне пора, а то я оставил вашу сестру, Юджин, на попечении своего соперника. Юджин повернулся к девушке и улыбнулся ей своей сдержанной улыбкой. — Я сейчас как раз думал о том, что с собой делать. Я здесь не был два года и как-то совсем разошелся с людьми. — Мое положение еще хуже. Я всего две недели в Александрии и почти никого не знаю. Миссис Кинг вывозит меня в свет и знакомит со здешним обществом, но все это так для меня ново, что я никак не могу освоиться. Я нахожу, что Александрия славный город. — Хороший городок. Вы, вероятно, уже видели озера? — Да, конечно. Мы ловили рыбу, катались на лодке, спали в палатках. Я чудесно провела время, но завтра мне уже надо уезжать. — Неужели? — сказал Юджин. — Да ведь и я завтра еду. Поездом в четыре пятнадцать. — И я еду тем же поездом! — сказала она, смеясь. — Быть может, поедем вместе? — Непременно. Вот удачно. А я думал, что придется ехать одному. Я вырвался сюда всего на несколько дней. Я работаю в Чикаго. Они принялись рассказывать друг другу о себе. Она была родом из Блэквуда — городка в восьмидесяти пяти милях от Чикаго — и там провела всю свою жизнь. У нее несколько братьев и сестер. Ее отец, местный фермер, по-видимому, увлекался политикой, но был не чужд и других интересов. Из беглых замечаний своей новой знакомой Юджин понял, что ее семья, хоть они и небогаты, пользуется всеобщим уважением. Один ее зять работает в банке, другой — владелец элеватора. Сама она школьная учительница и уже несколько лет преподает в Блэквуде. Она была на целых пять лет старше Юджина, — он тогда не знал этого, и обладала тактом и теми огромными преимуществами, какие дает такая разница в возрасте. Ей надоело быть учительницей, надоело нянчиться с детьми замужних сестер, надоела необходимость работать и жить дома, между тем как проходили ее лучшие годы. Ее влекло к способным людям, глупые деревенские юнцы не интересовали ее. Вот и сейчас один такой блэквудский житель просил ее руки, но это был бесцветный человек, право же, недостойный ее и неспособный создать ей обеспеченную, благоустроенную жизнь. С грустью, с отчаянием, со смутной надеждой и затаенной страстью ждала она чего-то лучшего и не находила. Встреча с Юджином не сулила ей желанного выхода. Да и не так уж безоглядно гналась она за счастьем, чтобы на каждое знакомство смотреть под определенным углом. Но этот молодой человек привлекал ее больше всех, с кем ей случалось знакомиться в последнее время. По-видимому, у них было что-то общее в характере. Ей нравились его большие ясные глаза, темные волосы, его эффектная бледность. Он казался лучше всех, кого она знала, и она надеялась сойтись с ним поближе.Глава 8
Остаток вечера Юджин провел если не исключительно в обществе мисс Анджелы Блю (он узнал, что ее зовут Анджелой), то во всяком случае вблизи нее. Она привлекала его не только свое внешностью — хотя была прелестна, — но и какой-то особенностью своего темперамента, которую он все время ощущал, как иногда долго ощущаешь на языке приятный вкус. Он решил, что она очень молода, и был очарован ее — как ему казалось — невинностью и наивностью. На деле же Анджела была не столь уж молода и наивна, — скорее она бессознательно разыгрывала простодушие. Это была хорошая в общепринятом смысле слова девушка, преданная, честная, порядочная до мелочности, с твердыми нравственными правилами. Брак и материнство она считала долгом и уделом всякой женщины, но, вдоволь намучившись с чужими детьми, не испытывала особенного желания обзаводиться собственными, а тем более иметь много детей. Она, конечно, не надеялась избежать этой общей, столь превозносимой многими участи, — и полагала, что и ей, по примеру сестер, предстоит выйти замуж за преуспевающего дельца или человека солидной профессии, что у нее будет трое, четверо или пятеро здоровых ребят, что она станет хозяйкой образцового дома среднего достатка и будет преданной служанкой своего мужа. В ней таилась глубокая страстность, которая — как она постепенно начала сознавать — никогда не найдет полного удовлетворения. Ни один мужчина не способен ее понять, ни один из тех, во всяком случае, кто может оказаться на ее пути, а между тем она знала, что любовь — это ее призвание. Если бы ей встретился человек, который сумел бы зажечь в ней чувство и был бы этого достоин, каким вихрем страсти она ответила бы ему! Как бы она любила, как жертвовала бы собой! Но, по-видимому, ее мечтам не суждено было сбыться: столько времени прошло, и ни разу еще не появился на ее горизонте «настоящий» мужчина. И вот теперь, в двадцать пять лет, когда она так грезила о счастье и тянулась к нему, перед нею неожиданно предстал предмет ее мечтаний, а она даже не сразу поняла это. Взаимное влечение мужчины и женщины сказывается очень скоро, Юджин был во многом зрелее Анджелы. Он был осведомленнее ее в некоторых вопросах и обладал более широким кругозором, к тому же в нем были заложены силы, недоступные ее пониманию. Но вместе с тем он был беспомощной игрушкой своих чувств и желаний. Чувства Анджелы, — хотя, возможно, и более сильные, — питались другим. Звезды, ночь, красивый пейзаж, все то чарующее, что есть в природе, волновало Юджина до грусти. Что касается Анджелы, то природа, в ее наиболее ярких проявлениях, оставалась ей, в сущности, чуждой. Горячий отклик, как и в Юджине, находила в ней музыка. В литературе он ценил реалистическое направление, ей же нравились чувствительно-возвышенные истории, имеющие порой отдаленное отношение к реальности. Искусство в своих чисто эстетических формах ничего не говорило ее душе, для Юджина же оно было источником утонченных наслаждений. История, философия, логика, психология оставались для нее закрытой книгой, тогда как для Юджина это уже были распахнутые двери, вернее, поросшие цветами тропы, по которым он радостно бродил. И, несмотря на все это, их влекло друг к другу. Были между ними и другие различия. Для Юджина условности ничего не значили, и его представления о добре и зле показались бы непонятными рядовому человеку. Он склонен был симпатизировать всякому человеческому существу, независимо от его характера и положения, — высокоразвитому и невежественному, опрятному и нечистоплотному, веселому и грустному, с белой, желтой или черной кожей. Анджела, наоборот, отдавала явное предпочтение людям, которые вели себя соответственно с правилами добропорядочности. Ей с детства внушали уважение к тем, кто особенно усердно работает, по возможности во всем себе отказывает и сообразует свои действия с общепринятыми понятиями о том, что хорошо и что дурно. Ей и в голову не приходило критиковать установившиеся взгляды. То, что записано на скрижалях общественного и морального кодекса, не подлежало для нее изменению. Возможно, что существуют милейшие люди и за пределами ее круга, но с ними немыслимо общаться и им нельзя сочувствовать. Для Юджина же всякий человек был прежде всего человеком. Находясь среди отверженных и неудачников, он мог весело смеяться с ними и над ними. Все на свете восхитительно, прекрасно, занятно. Даже суровый трагизм жизни, и тот был для него как-то оправдан, хотя Юджин не оставался к нему равнодушен. Почему он все-таки почувствовал такое влечение к Анджеле, остается загадкой. Возможно, что они в то время как-то дополняли друг друга, подобно тому, как спутник дополняет более крупное светило, так как эгоизм Юджина требовал похвалы, сочувствия, женской ласки. Анджелу же воспламенила горячая страстность его натуры. На другой день, в поезде, они провели почти три часа в упоительной беседе. Чуть ли не с первых слов он рассказал ей, как два года назад ехал по той же дороге, тем же поездом и в те же часы. Рассказал, как бродил по улицам большого города в поисках ночлега, как получил работу и не возвращался домой в Александрию, пока не убедился, что обрел свое призвание. Теперь он будет учиться живописи, а затем поедет в Нью-Йорк или Париж, будет работать в журналах, а возможно, и писать картины. Он любил порисоваться перед теми, кто восхищался им, а здесь он был уверен в восхищении. Его спутница смотрела на него глазами, которые ничего, кроме него, не видели. Этот человек действительно не был похож на тех, кого она когда-либо знала, — он был молод, талантлив, честолюбив, обладал богатым воображением. Он хотел пробить себе дорогу в мир, куда стремилась и она, — без малейшей, впрочем, надежды его увидеть, — в мир искусства. И вот будущий художник рассказывает ей о своих планах, говорит о Париже. Как это прекрасно! Когда они стали подъезжать к Чикаго, Анджела сказала, что ей придется немедленно пересесть в поезд, следующий из Чикаго в Сент-Пол и останавливающийся в Блэквуде. По правде сказать, у нее было немного тоскливо на душе и сердце чуть щемило, так как летние каникулы подошли к концу и ей предстояло снова вернуться к занятиям в школе. Две недели, которые она провела в гостях у миссис Кинг, своей бывшей школьной подруги, уроженки Блэквуда, промелькнули как чудесный сон. Подруга приложила все старания, чтобы Анджеле было весело. И вот все миновало. Да и знакомство с Юджином скоро оборвется, он еще ни словом не обмолвился о том, чтобы снова встретиться с нею. Но она только подумала, что хорошо было бы поближе узнать тот мир, который он обрисовал ей в таких ярких красках, как Юджин сказал: — Мистер Бэнгс говорил мне, что вы время от времени наведываетесь в Чикаго? — Да, правда, — ответила она. — Я иногда приезжаю, чтобы побывать в театре и кое-что купить. Анджела не рассказала ему, что эти поездки вызываются соображениями практического свойства, так как она славилась в семье умением покупать, и для больших закупок родные часто посылали ее в Чикаго. Практичностью и хозяйственностью она превосходила их всех, а кроме того, сестры и друзья чрезвычайно ценили ее за то, что она охотно брала на себя всякие хлопоты. При ее любви к труду ей грозила опасность превратиться в рабочую лошадь для всей семьи. За что бы она ни бралась, она все делала добросовестно, но занималась почти исключительно хозяйственными мелочами. — А скоро вы рассчитываете снова побывать в Чикаго? — спросил он. — Трудно сказать. Обычно я приезжаю зимой, когда открывается опера. Но в этом году, возможно, попаду в Чикаго ко Дню благодарения. — Не раньше? — Едва ли, — ответила она лукаво. — Как жаль! А я надеялся, что увижу вас еще этой осенью. Во всяком случае, когда приедете, дайте мне знать. Я с удовольствием сводил бы вас в театр. Юджин очень мало тратился на развлечения, но тут он решился на некоторый риск. Ведь она не часто будет приезжать. Кстати, он надеялся получить в ближайшие дни прибавку, а это существенно меняло дело. К тому времени, когда девушка соберется приехать, он уже будет учиться в Институте и для него откроется новое поприще. Будущее рисовалось ему в самых радужных красках. — Это очень мило с вашей стороны, — ответила Анджела. — Я вас извещу, когда приеду. Ведь я такая провинциалка, — добавила она, тряхнув головкой, — в кои-то веки мне удается попасть в большой город. Юджину нравилось в ней то, что он принимал за бесхитростное простодушие, — откровенность, с какою она признавалась в своей бедности и неискушенности. Обычно девушки так не держатся. В ее устах бедность и неискушенность казались чуть ли не добродетелями; как признание, во всяком случае, это звучало очаровательно. — Смотрите же, без обмана, — сказал он. — Зачем же. Я с удовольствием вас извещу. Поезд подходил к вокзалу. Юджин забыл в эту минуту, что эта девушка не так красива и недосягаема, как Стелла, и что по темпераменту ей, вероятно, далеко до Маргарет. Он смотрел на нее прекрасные матовые волосы, тонкие губы и совсем особенные голубые глаза, восхищаясь ее прямотой и безыскусственностью. Как только приехали, он взял ее чемодан и помог ей разыскать поезд, а потом горячо пожал руку на прощание; ведь она была так мила и с таким сочувствием и интересом слушала его. — Помните же! — весело повторял он, усаживая ее в вагон местного поезда. — Я не забуду. — И не сердитесь, если я вам напишу. — Напротив. Буду очень рада. — Хорошо, тогда я буду вам писать, — сказал он, выходя из вагона. Юджин стоял на перроне и смотрел на нее, пока поезд не отошел. Его радовало это знакомство. Вот славная девушка — чистая, прямая, бесхитростная. Такою и должна быть хорошая женщина — порядочной и чистой; это не разнузданная девчонка, как Маргарет; и не равнодушная, бесстрастная красавица, как Стелла, хотелось ему прибавить, но у него не хватило духу. Какой-то голос нашептывал ему, что с эстетической точки зрения Стелла была совершенством, ему и сейчас было больно вспоминать о ней. Но Стелла навсегда ушла из его жизни — в этом не было никакого сомнения. В последующие дни Юджин часто думал об Анджеле, мысленно гадая о том, что представляет собою Блэквуд, какая обстановка и какие люди ее окружают. Наверно, они так же милы и простодушны, как и его родные в Александрии. Жители большого города, которых он встречал на своем пути, — в особенности девушки, а также люди, избалованные богатством, — не представляли в то время интереса для Юджина. Они были слишком далеки, слишком чужды всему, к чему он мог стремиться, тогда как такая девушка, какой была, очевидно, мисс Блю, — сокровище для кого угодно. Он не переставал твердить себе, что напишет ей. У него в то время не было никакой другой знакомой девушки, и перед поступлением в Институт он набросал коротенькое письмо, в котором с благодарностью вспоминал их совместную поездку и спрашивал, скоро ли она собирается приехать. В ответном письме, пришедшем через неделю, Анджела сообщала, что предполагает быть в Чикаго в середине или в конце октября и будет рада, если он навестит ее. Она сообщала ему адрес своей тетки, жившей на Северной стороне, на Огайо-стрит, и писала, что о дне своего приезда известит особо. Сейчас она так занята в школе, что ей даже некогда вспомнить, как чудесно она провела лето. «Бедная девочка, она заслуживает лучшей участи, — подумал Юджин. — Когда она приедет, я непременно повидаю ее», — решил он, а к этой мысли примешивались и многие другие: «Какие у нее волосы!»Глава 9
С поступлением в Институт для Юджина началась новая жизнь. Теперь он понимал, — или так ему по крайней мере казалось, — в чем разница между служителями искусства и рядовыми людьми. После дневных скитаний по бедным кварталам Чикаго он внезапно переносился в другой мир, и ему с трудом верилось, что для него, Юджина Витла, нашлось здесь место. Студенты казались ему существами иной породы, — во всяком случае некоторые из них. Даже те, кто не был прирожденным художником, все имели богатое воображение — душу артиста. Эти молодые люди собрались сюда, как постепенно узнавал Юджин, со всех концов страны, с запада и юга — из Чикаго и Сент-Луиса, из Канзаса, Небраски и Айовы, из Техаса, Калифорнии и Миннесоты. Один юноша был из Саскачеваны — на северо-западе Канады, другой — из Новой Мексики, которая в то время еще именовалась «территорией». Этого последнего звали Джил, и товарищи прозвали его «гила-монстр»[39], — им казалось, что звучит достаточно похоже. Юноша из Миннесоты был сыном фермера и собирался на следующую весну и лето поехать домой — пахать, сеять и жать. А тот, что из Канзас-Сити, был сыном миллионера. Юджин вначале особенно увлекся рисунком. Уже в первый вечер он убедился в неправильности своего представления о светотени. При изображении человеческого тела ему никак не удавалось передать ощущение плотности и объема. — Самая густая тень лежит всего ближе к яркому свету, — лаконично заметил ему преподаватель в одну из сред, заглядывая через его плечо, — а у вас все одинаково тускло и монотонно. Так вот в чем дело! — Вы рисуете эту фигуру так же, как стал бы строить дом каменщик, который не разбирается в архитектурном деле. Вы кладете кирпичи без всякого плана. Где ваш план? Голос принадлежал мистеру Бойлу, незаметно подошедшему сзади. Юджин поднял глаза. Он только что начал вырисовывать голову. — План! Где план? — повторил мистер Бойл, широким движением руки намечая очертания рисунка. — Прежде всего набросайте главные линии. Деталями займетесь потом. И Юджину сразу стало ясно. В другой раз преподаватель наблюдал за ним, когда он рисовал женскую грудь. Все у него получалось какое-то деревянное, и красота линий не давалась. — Они бывают только круглые! Только круглые, уверяю вас! — разразился, наконец, долго молчавший мистер Бойл. — Если вы когда-нибудь увидите четырехугольные, сообщите мне, пожалуйста! Юджин расхохотался, но вместе с тем и сильно покраснел, понимая, сколько ему еще надо учиться. Самое жестокое, что он услышал однажды из уст этого человека, были слова, обращенные к одному юноше, неумелому и тупому, но очень старательному. — Ни черта у вас не выйдет, — грубо сказал он. — Послушайтесь моего совета и поезжайте домой. Вы больше денег заработаете, нанявшись ломовым извозчиком. Весь класс вздрогнул, но таков был этот человек, — он не выносил бездарности. Мысль о том, что кто-то попусту отнимает у него время, была ему нестерпима. Он смотрел на искусство по-деловому и отказывался нянчиться с неудачниками, дураками и тупицами. Ему хотелось внушить классу, что искусство требует больших усилий. Однако если откинуть эти суровые и настойчивые напоминания о трудностях, которые должен преодолеть художник, жизнь в Институте имела немало приятных и, по-своему, даже заманчивых сторон. Между получасовыми сеансами, в течение которых позировала натурщица, за вечер бывало несколько четырех— или пятиминутных перерывов, когда студенты разговаривали, зажигали потухшие трубки и каждый делал, что хотел. Иногда в комнату заглядывали слушатели из других классов. Юджина удивляла вольность, с какою натурщица обращалась со студентами, а те с нею. Постепенно освоившись, он стал замечать, что некоторые студенты, учившиеся уже не первый год, поднимались на подмостки, где сидела девушка, и вступали с нею в разговор. Прозрачный розовый шарф, которым она закрывала плечи и грудь, не только не скрадывал, а скорее подчеркивал соблазнительность ее наготы. — Что вы скажете? — обратился однажды к Юджину сидевший рядом с ним юноша. — Признаюсь, меня от такого зрелища даже пот прошибает. — Да, — рассмеялся Юджин. — Картина весьма пикантная. Студенты часто шутили и смеялись с девушкой, и она тоже смеялась и кокетничала с ними. Юджин видел, как она расхаживала по классу, заглядывая в их альбомы, или же останавливалась поговорить с кем-нибудь, спокойно глядя ему в глаза. Он испытывал в таких случаях сильное волнение, но подавлял и скрывал его, как нечто такое, чего надо стыдиться и чего не следует показывать. Однажды, когда он рассматривал снимки, принесенные кем-то из студентов, девушка, этот цветок улицы, подошла и стала смотреть через плечо. На ней был легкий шарф; губы и щеки ее были накрашены. Она стояла совсем близко, прижимаясь мягкой грудью к его плечу и руке. Юджину показалось, будто по всему его телу прошел ток, но он сделал вид, что нисколько не смущен. В классе был рояль, и студенты нередко пели и играли во время перерывов. Иногда и натурщица присаживалась к инструменту, под ее аккомпанемент кто-нибудь запевал песню, а двое-трое подтягивали. Юджина почему-то особенно волновало такое пение, ему чудилось в нем что-то вакхическое. Он едва владел собой и чувствовал, как у него начинают стучать зубы. Когда же девушка снова становилась в позу, волна страсти спадала, и верх брало холодное, эстетическое восприятие ее красоты. Только такие случайные эпизоды и выводили его из равновесия. Юджин мало-помалу делал успехи в рисунке и развивался как художник. Он любил рисовать человеческое тело. Это давалось ему не так легко, как разнообразные очертания ландшафтов и зданий, но он умел передавать красивыми, чувственными линиями изгибы тела, — в особенности женского, — линиями, которые начинали производить впечатление. Он давно уже миновал ту стадию, когда Бойл вынужден был говорить ему: «Они бывают только круглые». Его контуры приобрели изящество, которое не замедлило привлечь к себе внимание преподавателя. — Вот теперь вы улавливаете не только частности, а и все в целом, — негромко сказал он ему однажды. Юджин вспыхнул от удовольствия. В другой раз Бойл заметил: — Спокойнее, мой мальчик, спокойнее. Слишком много чувственности. В фигуре этого нет. Из вас вышел бы со временем неплохой мастер фрески, если вы имеете к этому склонность, — продолжал Бойл. — У вас есть чувство красоты. Трепет прошел по телу Юджина. Итак, он начинает овладевать искусством. Этот человек заметил его способности. Значит, у него действительно есть талант. Как-то вечером на доске, где вывешивались всякие объявления, он увидел следующий красноречивый плакат:ХУДОЖНИКИ! ВНИМАНИЕ! МЫ УЖИНАЕМ! МЫ УЖИНАЕМ! 16 НОЯБРЯ У СОФРОНИ. Все желающие участвовать сообщите свои имена классным старостам.Юджин, ничего не слышавший об этом раньше, подумал, что затея эта, по всей вероятности, исходит не от его класса. Он все же справился у старосты и узнал, что должен внести всего семьдесят пять центов. Желающие могут приводить с собой девушек. Большинство так и сделают. Юджин решил принять участие в ужине. Но где взять даму? «Софрони» был итальянский ресторанчик в нижней части Кларк-стрит — квартале, заселенном преимущественно рабочими-итальянцами. Дом, где находился ресторан, был не много лучше других. Во дворе стояли простые деревянные столы, и летом там ставили скамейки. Для защиты от дождя над столами был натянут тент. Впоследствии тент уступил место стеклянной крыше, благодаря чему помещением стали пользоваться и зимой. В ресторане было чисто, да и кормили неплохо. Какой-то начинающий журналист или художник случайно набрел на это заведение, и мало-помалу синьор Софрони стал замечать, что клиентура его улучшается. Он начал здороваться с новыми посетителями, отвел для них особый уголок, а однажды накормил небольшую компанию почти что бесплатным обедом. Слава ресторана росла — один студент приводил другого, и теперь синьор Софрони мог и зимою устраивать банкеты на сто человек, беря по семьдесят центов с персоны за ужин с довольно разнообразным ассортиментом вин и крепких напитков. Все это немало способствовало его популярности. Ужин, назначенный на шестнадцатое ноября, был завершением ряда пирушек, которые до того устраивались в самом классе. Существовала традиция — при появлении нового студента или вообще постороннего человека приветствовать его криками: «Угощение! Угощение!» Новичок должен был внести в пивной фонд свою лепту — два доллара, в противном случае его могли выкинуть вон или же сыграть с ним какую-нибудь злую шутку. Как только появлялись деньги, занятия на этот вечер прекращались. Студенты устраивали складчину и посылали за бочонком пива и бутербродами с сыром, а затем начиналось веселье — выпивка, пение, игра на рояле и всякие дурачества. Однажды, к великому изумлению Юджина, студент из штата Омаха, рослый, благодушный кутила, поднял голую натурщицу, посадил ее к себе на шею и, приплясывая, понес вокруг комнаты, — девушка изо всех сил дергала его за волосы, а следом с воплями скакали остальные. Студентки из соседнего вечернего класса живой натуры бросили работу и прильнули к отверстиям в перегородке, специально просверленным для таких оказий. Представшее перед ними зрелище так их поразило, что весть об этом мгновенно разнеслась во всему зданию. Узнало об этой выходке и начальство, и провинившийся студент был на другой день исключен. Но вакхический танец все же состоялся, и память о нем надолго сохранилась в стенах Института. Во время таких пирушек Юджина тоже заставляли пить, и он пил, хоть и весьма умеренно. Он не находил вкуса в пиве. Пробовал он и курить, но и это ему не понравилось. Порою, при одном виде такого разнузданного веселья, он испытывал нечто вроде нервного опьянения и тогда обычная скованность исчезала, и он смеялся и шутил напропалую. Во время одной вечеринки какая-то натурщица даже сказала ему: — Однако вы лучше, чем кажетесь. Я вас считала ужасным букой. — Да что вы! — воскликнул он. — Это на меня временами находит. На самом деле я совсем не такой. Вы меня еще не знаете. И он обнял ее за талию, но она оттолкнула его. Как он жалел тогда, что не танцует. Привлечь бы ее к себе и закружить по комнате. Он решил непременно научиться танцевать. Вопрос о том, где найти девушку, которую можно было бы пригласить на ужин, не выходил у Юджина из головы. Он никого не знал, кроме Маргарет, но считал маловероятным, чтобы она танцевала. Оставалась мисс Блю из Блэквуда, с которой он виделся, когда она приезжала в Чикаго, но мысль о ней в связи с чем-либо подобным казалась ему просто нелепой. Интересно, подумал он, что бы она сказала, если бы увидела то, что видел он. Однажды, заглянув в канцелярию, Юджин застал там мисс Кенни, натурщицу, позировавшую у них в тот вечер, когда он впервые присутствовал на уроке. Юджин не забыл свою первую модель, к тому же девушка была прехорошенькая. Это она однажды подошла к нему во время перерыва и стала так близко. С тех пор он не встречал ее. Юджин нравился девушке, но казался нелюдимым и бесцветным. Однако с недавних пор он стал носить свободно повязанный галстук и круглую мягкую шляпу, которая была ему очень к лицу. Волосы он теперь зачесывал назад и старался подражать свободной, размашистой походке мистера Бойла. Этот человек представлялся ему своего рода божеством — могущественным и беспечным. Как ему хотелось походить на него! Девушка заметила в Юджине эту перемену. Какой он стал интересный, подумала она, какая у него белая кожа и ясные глаза. В нем чувствуется сила. Она притворилась, будто рассматривает какой-то эскиз. — Здравствуйте, — сказал Юджин улыбаясь. Он отважился заговорить с ней, так как чувствовал себя одиноким и, кроме нее, никого не знал. Она повернула голову и ответила на его приветствие ласковой улыбкой. — Я давно вас не видел, — сказал он. — Опять у нас работаете? — Только эту неделю, — ответила она. — Я позирую в частных студиях. Когда есть возможность, я предпочитаю работать там. — А мне казалось, что вам у нас нравится! — удивился он, вспомнив, какая она всегда бывала веселая. — Я не сказала бы, что не нравится, но в частных студиях условия лучше. — Мы постоянно вспоминаем вас. Другие натурщицы не сравнятся с вами. — Однако вы льстец! — рассмеялась она, лукаво посматривая на него своими черными глазами. — Нет, правда, — ответил он, а затем спросил с тайной надеждой: — Вы будете на нашем ужине шестнадцатого? — Возможно, — сказала она. — Я еще не решила. Все зависит… — От чего? — От того, какое у меня будет настроение и кто меня пригласит. — В приглашениях, я полагаю, недостатка не будет, — заметил Юджин. — Я тоже пошел бы, да не с кем, — продолжал он, делая отчаянное усилие приблизиться к цели. Мисс Кенни угадала его намерение. — Как прикажете это понимать? — смеясь, сказала она. — А вы пошли бы со мной? — осмелился он спросить, воспользовавшись столь открыто предложенной помощью. — Разумеется! — ответила она. Он все больше нравился ей. — Вот чудесно! Где вы живете? Мне понадобится ваш адрес. Он полез в карман за карандашом. Она назвала ему номер дома на западном конце Пятьдесят седьмой улицы. Благодаря своей работе инкассатора Юджин хорошо знал этот район. Улица эта — на южной окраине города — состояла сплошь из жалких деревянных домишек. Ему вспомнились тесные ряды лавчонок, немощеные тротуары и сырые незастроенные пустыри. Его нисколько не удивляло, что эта девушка — цветок, выросший среди мусора и угольной пыли, — стала натурщицей. — Я непременно зайду за вами, — продолжал он весело. — Вы не забудете, не правда ли, мисс… — Просто Руби, — прервала она его. — Руби Кенни. — У вас красивое имя, — сказал он. — Очень благозвучное. Не разрешите ли заехать к вам как-нибудь в воскресенье, чтобы посмотреть, где это? — Пожалуйста, — ответила она, польщенная тем, что ему нравится ее имя. — В воскресенье я большей частью дома. Приезжайте в это воскресенье днем, если хотите. — Непременно приеду, — сказал Юджин. Он вышел вместе с ней на улицу в чрезвычайно приподнятом настроении.
Глава 10
Руби Кенни была приемной дочерью старого рабочего-ирландца и его жены. Они взяли ее, сжалившись над четырехлетней малюткой, совсем заброшенной своими вечно ссорившимися родителями. Это была неглупая добрая девушка, которая, однако, плохо разбиралась в том, какие силы правят миром, — простодушное создание, жаждавшее интересных приключений, но не умевшее предвидеть заранее, куда они ее заведут. Начав трудовую жизнь кассиршей в универсальном магазине, она уже в пятнадцать лет лишилась невинности. К счастью для себя, она обладала тем типом красоты, который привлекает мужчин со вкусом, благоразумных и осмотрительных, и, к счастью для них, и сама была довольно разборчивой, идя навстречу, только если чувствовала серьезное расположение, а в двух-трех случаях и настоящую любовь, да и тогда после долгого ухаживания, так что ее симпатии и пристрастия значили не меньше, чем желания ее любовников. Приемные родители Руби не могли сколько-нибудь разумно руководить ее воспитанием. Они любили ее, и так как она по своему развитию была выше их, подчинялись ей во всем, принимая как должное ее взгляды, суждения и доводы. Она только смеялась в ответ на их робкие замечания, повторяя, что ей дела нет, что подумают соседи. Посещения Юджином дома Руби и завязавшаяся между ними связь ничем существенно не отличались от других его знакомств подобного рода. Он прежде всего искал в женщине красоту, хотя ни разу не случалось, чтобы наряду с этим он не обнаружил в ней и тех качеств ума и сердца, которые особенно привлекали его. Кроме красоты, он искал в женщине отзывчивости и сочувствия. Избегая неприязненной критики и холодности, он никогда не выбрал бы себе подруги, которая превосходила бы его в тонкости ощущений, быстроте восприятия или возвышенности мыслей. В ту пору ему нравились простые вещи, простые жилища, простая, невзыскательная среда, будничная атмосфера простой жизни, тогда как более изысканная и утонченная среда пугала его. Пышные особняки, мимо которых ему случалось проходить, великолепные магазины, люди, занимающие высокое общественное положение, представлялись ему чопорными, холодными. Он предпочитал людей скромных, ничем не прославившихся, но добрых и ласковых. Если ему удавалось найти женскую красоту в таком кругу, он был счастлив и ничего лучшего не желал. Поэтому его и потянуло к Руби. В воскресенье шел дождь, и та часть города, где жила Руби, навевала уныние. На пустырях между домами на побуревшей, мертвой траве блестели огромные лужи. Пробираясь по бесконечному лабиринту усыпанных черным шлаком железнодорожных путей, на которых стояло бесчисленное множество паровозов и вагонов, Юджин думал о том, какой благодарный материал для художника эти гигантские черные паровозы, выбрасывающие клубы дыма и пара в серый, насыщенный влагой воздух, это скопление двухцветных вагонов, мокрых от дождя и потому особенно красивых. В темноте на скрещениях путей вспыхивали, подобные ярким цветам, огни стрелок. Юджину нравились эти желтые, красные, зеленые и синие пятна, горевшие словно живые глаза. К такому материалу Юджин был особенно чувствителен, и он испытывал смутную радость оттого, что эта простая девушка-цветок живет где-то близко. Он подошел к двери, позвонил, и ему открыл старый, весь трясущийся ирландец, по-видимому, человек малоразвитый, — Юджин подумал, что ему подошло бы служить сторожем у шлагбаума. На старике была грубая, но не лишенная живописности одежда; от долгой носки она приняла естественные очертания человеческого тела. В руке у него дымилась коротенькая трубка. — Мисс Кенни дома? — спросил его Юджин. — Угу! — ответил он. — Заходите. Я позову ее. Он указал на дверь в глубине прихожей, где, очевидно, была гостиная. Кто-то позаботился о том, чтобы все здесь было выдержано в красных тонах — большая лампа под шелковым абажуром, семейный альбом, коврик на полу и цветастые обои. В ожидании Руби Юджин открыл альбом и стал просматривать фотографии — по-видимому, ее родственников. Все это был мелкий люд — приказчики, лавочники, коммивояжеры. Вскоре вошла Руби, и глаза Юджина заблестели: в этой девушке (ей едва исполнилось девятнадцать лет) чувствовалось очарование юности, которое всегда приводило его в восторг. На ней было черное кашемировое платье, отделанное красным бархатом у шеи и на рукавах, с красным галстучком, завязанным небрежным узлом, как у мальчика. Она вошла нарядная и оживленная и весело протянула ему руку. — Ну как, трудно было нас найти? — спросила она. Он покачал головой. — Я довольно хорошо знаком с этими местами. Мне приходится собирать здесь взносы — я, видите ли, служу в компании «Дешевая мебель». — Значит, я напрасно беспокоилась, — сказала она, радуясь его откровенности. — Я боялась, что вы совсем измучаетесь, пока разыщете нас. Ужасная погода, не правда ли? Юджин согласился с нею, а потом рассказал о тех мыслях, которые навеял ему окрестный пейзаж. — Если бы я был художником, я рисовал бы именно такие вещи. Это так величественно, так чудесно. Он подошел к окну и стал смотреть на открывавшийся оттуда вид. Руби с интересом наблюдала за ним. Каждое его движение доставляло ей удовольствие. Она чувствовала себя с этим юношей необычайно просто, словно заранее уверенная, что полюбит его. Так легко было с ним разговаривать. Институт, ее работа натурщицы, его надежды, местность, где она живет, — все это были темы, сближавшие их. — А много здесь художественных мастерских, пользующихся известностью? — спросил он, когда они заговорили о ее работе. Ему хотелось знать, что представляет собой художественный мир Чикаго. — Не так уж много. Во всяком случае, хороших мало. Ведь много художников только воображают, будто умеют писать картины. — А кто из них считается крупным мастером? — спросил он. — Видите ли, я ведь знаю только то, что слышу от других. Мистер Роуз, говорят, очень талантлив, Байэм Джонс недурен в жанровых картинах, Уолтер Лоу хороший портретист и Менсон Стил тоже. Да, постойте, есть еще Артур Бигс, он пишет только пейзажи. В его мастерской я никогда не была. Затем Финли Вуд — тоже портретист, и Уильсон Брукс, — тот пишет многофигурные композиции. Но всех не запомнишь, их немало. Юджин слушал, как зачарованный. Этот непритязательный разговор о вещах, касающихся искусства, давал ему большее представление о здешних художниках, чем все слышанное до сих пор. Очевидно, эта девушка много знала. Она была в этом мире своим человеком. Любопытно, думал Юджин, какие у нее отношения со всеми этими людьми. Через некоторое время они снова стали смотреть в окно. — Не очень-то здесь красиво, — сказала она, — но отцу и матери нравится. Отцу близко ходить на работу. — Это ваш отец открыл мне дверь? — Он мне не родной отец, — объяснила она. — Я приемная дочь. Но они относятся ко мне, как к родной. Я им очень многим обязана. — Вы, верно, недавно начали позировать? — спросил Юджин, подумав о том, как она еще молода. — Да, примерно с год. Она рассказала ему, что раньше служила кассиршей в «Базаре», и вот ей и одной ее подруге пришла мысль пойти в натурщицы. В воскресном номере «Трибюн» они увидели снимок девушки, позирующей перед студентами. Это показалось им заманчивым. Они стали советоваться, не попробовать ли им тоже? И с тех пор работают натурщицами. Ее подруга тоже будет на ужине. Юджин слушал ее с наслаждением. Слова Руби напомнили ему, как в свое время его увлекали снимки в газетах: виды Гусиного острова на реке Чикаго, утлые рыбачьи домишки, перевернутые вверх дном лодки, служившие людям пристанищем. Он рассказал ей об этом, а также про свой приезд в Чикаго, и она слушала с большим интересом. Она подумала, что он славный малый, хотя, пожалуй, и чересчур сентиментален. И какой высокий, — она рядом с ним совсем маленькая. — Вы, кажется, играете? — спросил он. — Чуть-чуть. У нас нет рояля. Я немного научилась в студиях, где позировала. — И танцуете? — Конечно. — Мне тоже хотелось бы научиться танцевать, — сказал он огорченно. — Так за чем же дело стало? Это легче легкого. Я за один урок научу вас. — Пожалуйста, — попросил он. — Это совсем не трудно, — повторила Руби, отходя от него на шаг. — Я покажу вам все па. Обычно начинают с вальса. Приподняв платье, она приоткрыла свои маленькие ножки и показала ему первые па. Он попробовал повторить, но у него ничего не вышло. Тогда она обвила его рукой свою талию, а другую сжала в своей руке. — Я поведу вас, — сказала она. Какое это было наслаждение чувствовать ее в своих объятиях! И, по-видимому, она нисколько не спешила кончать урок, — терпеливо возилась с ним, объясняя различные движения, и то и дело останавливалась, чтобы поправить его и посмеяться над его и своими промахами. — Понемножку получается, — сказала она после того, как они сделали несколько туров. Взгляды их не раз встречались, и когда он улыбался, она отвечала ему радостной улыбкой. Он вспомнил вечер в студии, как она стояла возле него и смотрела через его плечо. Конечно, будь он посмелее, он мог бы сразу перешагнуть через все условности. Он слегка прижал ее к себе, а когда они остановились, не отпустил. — Как вы добры, — сказал он, сделав над собой усилие. — Вовсе нет, просто у меня хороший характер, — засмеялась она, не торопясь высвободиться из его объятий. Как всегда в таких случаях, его охватило волнение. Ее же влекло к нему то, что она принимала за властную уверенность. Он был не такой, как другие мужчины, которых она знала. — Я вам нравлюсь? — спросил он, заглядывая ей в глаза. Руби внимательно оглядела его волосы, лицо, глаза. — Не знаю, — спокойно ответила она. — Может быть, не нравлюсь? Снова наступила пауза, во время которой девушка задорно глядела на него, а потом, опасливо покосившись на дверь, ведущую в коридор, сказала: — Мне кажется, что нравитесь. Он схватил ее на руки. — Вы прелесть! — воскликнул он и понес ее на красный диванчик. Остаток дождливого дня она провела, нежась в его объятиях и упиваясь его поцелуями. Таких, как он, она еще не встречала.Глава 11
Незадолго до этого Анджела Блю, вняв горячим просьбам Юджина, впервые за ту осень приехала в Чикаго. Ей стоило большого труда вырваться из дому, но она преодолела все препятствия, увлеченная страстностью, какою Юджин умел окрашивать каждую свою фразу, особенно когда дело касалось какого-нибудь его желания. Он владел не только кистью, но и пером. Правда, у него еще не было ни законченного стиля, ни умения логически излагать свои мысли, но зато чрезвычайно развит был дар описания. Он с не меньшим умением, чем кистью, живописал пером людей, дома, лошадей, собак, пейзажи, сообщая своим описаниям проникновенную нежность. Он в самых заманчивых красках описывал Анджеле город и весь окружающий его мир. У него был на счету каждый час, но он не жалел времени, чтобы рассказать Анджеле о своей жизни. Он увлекал ее своеобразием того мира, в котором вращался, и обаянием своей незаурядной личности (о последнем Юджин не говорил открыто, но не скупился на намеки). По контрасту собственный мирок стал казаться Анджеле страшно жалким. Она приехала вскоре после начала занятий в Институте, и, получив ее приглашение, Юджин поспешил на Северную сторону в тихий переулок, где в хорошеньком кирпичном домике жила тетка Анджелы. Все здесь дышало мещанским уютом и покоем. Юджин с первого взгляда пленился этой, полной тихой прелести, как ему казалось, атмосферой старосветского быта. Это был вполне подходящий дом для столь изящной и утонченной девушки, как Анджела. Юджин пришел в субботу, рано утром, так как оказался в этой части города по делам службы. Анджела играла ему на рояле, — лучшей игры он никогда не слыхал. Это еще больше подняло ее в глазах Юджина. Она любила чувствительную музыку, романсы и мелодии, полные ласковой нежности. За те полчаса, что он пробыл у нее, она сыграла ему несколько пьес; Юджин с восхищением смотрел на ее миниатюрную, словно точеную, фигурку впростом облегающем платье, и на пышные волосы, заплетенные в толстые косы, свисающие ниже талии. В этом костюме и прическе она немножко напоминала Маргариту из «Фауста». Вечером Юджин примчался опять, в своем лучшем костюме, сияющий и воодушевленный. Он был весь во власти открывшихся ему надежд стать художником и радовался свиданию с этой девушкой, в которой уже заранее видел предмет своей страсти. В ней чувствовалось что-то сильное, доброжелательное, и это влекло его к ней. А ей хотелось обласкать талантливого юношу, хотелось нравиться ему, и это благоприятствовало их сближению. В тот же вечер они отправились в оперу, где давали какую-то феерию. Прекрасная постановка этой музыкальной фантазии, навевающая безмятежное, радостное настроение, роскошные костюмы, прелестные хористки и чарующие мелодии заворожили Юджина и Анджелу. Оба они давно не были в театре, обоим было как нельзя более по душе такое фантастически условное изображение жизни. Эти впечатления придали какую-то особую праздничность их встрече после короткого знакомства в Александрии. По выходе из театра Юджин, через толпу, проводил Анджелу к трамваю, связывавшему центр с Северной стороной (за время его пребывания в Чикаго городские дороги были электрифицированы); молодые люди с увлечением обсуждали красоты и удачи спектакля. Он попросил разрешения снова навестить ее и на другой день, зайдя после обеда, предложил послушать знаменитого проповедника, выступавшего по вечерам в Центральном музыкальном зале. Анджела была в восторге от находчивости Юджина; ей хотелось побыть с ним вместе, а тут представлялся такой благовидный предлог. Они отправились заблаговременно и слушали проповедь с большим увлечением. Для Юджина искусство проповедника было свидетельством того, сколько свежести, красоты и власти над людьми таится в человеческом слове. Ему захотелось быть таким же оратором, и он высказал эту мысль вслух, а потом доверил своей спутнице и другие сокровенные свои мысли. На нее произвела сильное впечатление разносторонность его интересов и тонкий вкус. Она была уверена, что ему суждено стать выдающимся человеком. Были у них и другие встречи. Анджела снова приезжала — один раз в начале ноября, затем перед рождеством, и Юджин все больше запутывался в сетях ее прекрасных волос. Несмотря на то, что в ноябре он познакомился с Руби и между ними началось сближение на менее идеальных, как Юджин выразился бы в то время, началах, он хранил в душе дружбу с Анджелой, как нечто более возвышенное и драгоценное. Анджела восхищала его своей чистотой. В мыслях, которыми она делилась с ним, в музыкальности ее игры чувствовалась натура более глубокая, чем у Руби. Кроме того, она олицетворяла собой далекую провинцию, тихий дом, вроде его собственного, милый, простой городок, милых людей. Зачем ему расставаться с нею, зачем приоткрывать перед ней тот, другой мир, с которым он соприкасался? Он считал, что не должен этого делать. Его пугала возможность потерять ее, так как он был убежден, что она может составить счастье любого мужчины, который на ней женится. Когда она приехала в декабре, он чуть было не сделал ей предложения. Он чувствовал, что не должен позволять себе с нею никаких вольностей, не должен слишком торопливо искать сближения. Она сумела внушить ему сознание святости любви и брака. И в январе он действительно сделал предложение. Артистическая натура — это смесь утонченных чувств и желаний, не поддающихся определению. Ни одна женщина не могла бы в тот период полностью удовлетворить Юджина. Красота играла для него главную роль. Всякая девушка, в которой молодость, свежесть чувств и душевная отзывчивость соединялись с внешним очарованием, могла привлечь его и на время удержать. Ему нужна была красота, а не жизнь по чьей-то указке. Он мечтал о карьере художника, а вовсе не о том, чтобы обзаводиться семьей. Девичья красота, обаяние молодости волновали его как художника, и он страстно тянулся к ним. В противоположность Юджину Анджела была установившейся натурой с твердыми взглядами и ровными чувствами. Она с детства привыкла видеть в браке нечто нерушимое. Она верила, что человеку дана одна жизнь и одна любовь, и когда вы нашли такую любовь, все другое теряет значение. Есть дети — хорошо; нет детей — неважно: брак от этого не перестает быть браком. И если он даже не дал вам счастья, все равно — нужно страдать и терпеть во имя того хорошего, что жизнь еще приберегла для вас. Такой союз может принести вам жестокие разочарования, но порвать его — значит, навлечь на себя бесчестье. Если нет больше сил страдать — значит, жизнь потерпела полный крах. Юджин, разумеется, и не догадывался, какую он затеял опасную игру. Он и понятия не имел о характере тех отношений, навстречу которым шел, и не переставал безотчетно мечтать об Анджеле как о своем идеале, предвкушая возможный брак с нею. Когда это осуществится, трудно было сказать, так как, несмотря на прибавку к жалованью, полученную на рождество, ему платили всего восемнадцать долларов в неделю. Но он успокаивал себя тем, что это время наступит и что оно не за горами. Между тем его свидания с Руби привели к неизбежному результату. Все, казалось, способствовало этому. Девушка была молода, она жаждала романтических приключений, ее восхищали в мужчинах молодость и сила. Бледное лицо Юджина, овеянное меланхолией, притягательная сила его темперамента, его любовь к красоте волновали ее воображение. Сначала, возможно, в ней преобладала необузданная страсть, но очень скоро к страсти примешалось настоящее чувство, так как эта девушка умела любить. Она была очень миловидна, простодушна и совершенно несведуща во многих жизненных вопросах. Юджин представлялся ей воплощением всех совершенств, какие только она могла вообразить. Она рассказала ему о своих приемных родителях, об их простодушии и о том, как она может делать все, что хочет. Они и не подозревают, что она позирует обнаженной. Она также призналась ему в своих более чем дружеских отношениях с некоторыми художниками, утверждая, впрочем, что сейчас у нее ни с кем ничего нет. «Все это дело прошлое», — говорила она, но Юджин ей не верил. Он подозревал, что она принимает домогательства других с такою же готовностью, как и его ухаживания. Это возбуждало в нем ревность и настойчивое желание, чтобы она немедленно бросила работу натурщицы. Он так и сказал ей, но она расхохоталась. Она знала, что он этого захочет, и это служило ей доказательством его настоящего интереса к ней. Для Юджина начались чудесные дни и вечера в обществе Руби. Однажды, незадолго до ужина у Софрони, она пригласила его позавтракать с нею в ближайшее воскресенье. Ее приемные родители уезжали куда-то, и дом оставался на весь день в полном ее распоряжении. Ей хотелось угостить Юджина завтраком главным образом, чтобы показать ему, как хорошо она готовит, и еще потому, что в этом было что-то новое. Она не приступала к приготовлениям до его прихода, а в девять часов, когда он явился, Руби, в хорошеньком, ловко сидевшем на ней домашнем платьице светло-сиреневого цвета и в белом переднике с оборками, принялась за работу: накрыла на стол, приготовила рагу из почек в крепком вине, горячие бисквиты и кофе. Юджин был в восторге. Он ходил за нею по пятам и то и дело обнимал и осыпал поцелуями, мешая ей работать. Она выпачкала нос в муке, и он стер муку поцелуем. В это утро Руби показала ему забавный танец, который она исполняла в особых башмаках на толстой подошве, притопывая и отбивая ритм каблучками. Подобрав юбки чуть повыше щиколоток, Руби с невероятной ловкостью и проворством выделывала сложнейшие па, ножки ее так и мелькали в вихре танца. Юджин был вне себя от восторга; он решил, что никогда еще не встречал такой девушки — прекрасно позирует, играет на рояле, танцует и так молода. Жизнь с этим созданием казалась ему раем, и он жалел, что у него нет для этого средств. В эту минуту восторга, да случалось и потом, он был почти готов на ней жениться. В день ужина он заехал за ней и был поражен, увидев ее в красном платье с большими черными кожаными пуговицами, посаженными по диагонали во всю его длину, в красных чулках, такого же цвета туфлях и с красной гвоздикой в волосах. Платье было низко вырезано на груди и спине, с короткими рукавами. Она показалась Юджину ослепительной, и он сказал ей это. Руби рассмеялась. Они отправились в кэбе: Руби заранее предупредила его, что придется нанять экипаж. Это обошлось ему по два доллара в каждый конец — непозволительное мотовство! — но Юджин говорил себе, что оно вызвано исключительными обстоятельствами. Однако подобные мелочи вынуждали его серьезно задумываться над тем, как бы лучше устроить свою жизнь. В ужине принимали участие студенты всех курсов, как утренних, так и вечерних. Собралось больше двухсот человек, сплошь молодежь. Тут были студентки, натурщицы и просто приглашенные девушки самого разного общественного положения и умственного развития. В огромной столовой стоял невероятный шум от звона посуды, нестройного пения, шутливых выкриков и приветствий. У Юджина и кроме однокурсников было здесь достаточно знакомых, чтобы не скучать и не оставаться в стороне от общего веселья. С первой же минуты выяснилось, что все знают Руби и что она пользуется общим расположением. Она резко выделялась благодаря своему смелому туалету. Со всех концов неслось: «Здорово, Руби!» Это удивило и неприятно поразило Юджина. К его спутнице подходили молодые люди, которых он никогда в глаза не видел, и заговаривали с ней о вещах, о которых он не имел ни малейшего понятия. В течение каких-нибудь десяти минут она раз десять убегала от него, отзываясь на чей-либо оклик, и он то и дело замечал ее в противоположном конце комнаты: окруженная гурьбой студентов, она весело смеялась и оживленно болтала. По мере того как проходили часы, настроение молодежи делалось все развязнее и легкомысленнее. По окончании ужина в одном конце зала освободили место и угол затянули куском зеленой материи вместо ширмы. Это была артистическая для выступающих. Какой-то студент, встреченный громкими аплодисментами, на глазах у всех нацепил зеленые бакенбарды и прочел монолог, подражая акценту ирландца. Другой вышел на эстраду, держа в руках большущий, туго свернутый бумажный свиток, исписанный стихами. Можно было подумать, что это целая поэма, которую он будет читать весь вечер. Все ахнули. Студент актерским жестом поднял руку, требуя тишины, и, дав свитку развернуться, приступил к декламации. Стихи оказались неплохими, но самое забавное было то, что поэма заключала в себе не более двадцати строк. Все остальное были попросту каракули, чтобы ввести публику в заблуждение. И этот номер заслужил аплодисменты. Кто-то из второкурсников спел романс «В долине Лигай», кто-то изобразил, как Темпл Бойл и другие преподаватели просматривают работы студентов и сами показывают свое мастерство на удивление всему классу. Это доставило зрителям большое удовольствие. Потом после долгих криков «Десмонд! Десмонд!» одна из натурщиц прошла за зеленую ширму и через несколько минут показалась в коротенькой юбочке испанской танцовщицы, усыпанной черными и серебряными блестками, с кастаньетами в руках. У кого-то из студентов нашлась мандолина, и под ее аккомпанемент натурщица протанцевала «Ла Палому». Все это время Юджин почти не видел Руби. Она пользовалась слишком большим успехом. Не успела первая натурщица закончить свой танец, как чей-то голос крикнул: «Эй, Руби! А ты почему не покажешь свое искусство?» «А ну-ка, Руби!» — поддержал его другой поклонник ее таланта. Скоро весь зал подхватил этот крик, и студенты, окружив девушку, стали подталкивать ее к площадке, очищенной для танцев. Кто-то подхватил ее на руки, а затем Руби в шутку стали перебрасывать от одной группы к другой. Раздались аплодисменты. Юджина, для которого она была близким существом, эта фамильярность выводила из себя. Казалось, она принадлежала не только ему, а была достоянием всех и каждого. А Руби беспечно хохотала. Лишь только девушку опустили на пол, она подобрала подол платья — как делала это, танцуя для него, — и с увлечением пустилась в пляс. Студенты обступили ее стеной. Юджину пришлось протиснуться поближе, чтобы ее увидеть. А она, словно забыв о его существовании, задорно плясала, постукивая каблучками. Когда Руби кончила, трое или четверо особенно напористых юнцов стали упрашивать ее станцевать еще, бесцеремонно дотрагиваясь до ее рук и плеч. Кто-то очистил стол, чьи-то руки подхватили девушку и поставили на эту импровизированную эстраду. Руби танцевала еще и еще. Кто-то крикнул: «Эй, Кенни, а ведь без красного-то платья, пожалуй, удобнее?» Так вот что представляла собой его временная подруга! Когда около четырех часов утра Руби решила наконец ехать домой, — вернее, когда студенты согласились ее отпустить, — она едва помнила, что приехала сюда с Юджином, и заметила, что он дожидается ее, лишь в ту минуту, как двое студентов вызвались ее проводить. — Нет, у меня есть провожатый! — воскликнула она, завидев его. — Мне пора ехать. До свидания! — И она направилась к Юджину. У него было холодно на душе, он чувствовал себя здесь совсем чужим. — Поедем? — спросила она. Он кивнул угрюмо и укоризненно.Глава 12
От рисования обнаженной натуры, в чем он достиг за зиму большого успеха, Юджин перешел к занятиям по классу иллюстрации, где позировали модели в костюмах. Здесь он впервые испробовал свои силы в акварели, которой в то время особенно интересовались журналы, и вскоре его работы стали хвалить. Хвалили, впрочем, не всегда, так как преподаватели, убежденные в том, что суровая критика является лучшим стимулом роста, высмеивали иной раз его удачнейшие вещи. Но Юджин верил в свое призвание и после минутных взрывов отчаяния еще сильнее утверждался в своей вере. Служба в мебельной компании становилась ему уже в тягость, когда в одну из сред преподаватель класса иллюстрации Винсент Бирс, взглянув на его набросок, сказал: — А знаете, Витла, вы скоро сможете кое-что зарабатывать своими рисунками. — Вы думаете? — спросил Юджин. — Конечно. Для такого человека, как вы, должно найтись место в какой-нибудь газете, — хотя бы в вечерней. Вы никогда не обращались в газету? — Обращался, как только приехал в Чикаго. Но нигде не нашлось вакантного места. Теперь я рад, что никому не понадобился. Я думаю, что долго бы меня держать не стали. — Вам удаются наброски тушью, не правда ли? — Сначала это было мне больше всего по вкусу. — Вот видите. Вы можете быть очень полезны в газете. Но я бы на вашем месте долго не засиживался в Чикаго. Вам надо ехать в Нью-Йорк и стараться попасть в журнал. А сейчас было бы невредно поработать в газете. Юджин решил обратиться в дневные газеты, — такая работа не помешала бы ему продолжать занятия в Институте. Вечера он может отдавать работе по классу иллюстрации и урывать часок-другой для живой натуры. Ничего лучшего нельзя было и желать. В течение нескольких дней он один час после работы посвящал поискам места в газете, причем брал с собой образцы своих набросков тушью. Кое-где его рисунки понравились, но свободного места нигде не оказалось. Нашлась, впрочем, одна газета, — из самых захудалых, — где Юджину кое-что обещали. Главный редактор сказал ему, что им в скором времени понадобится художник. Пусть Юджин наведается недели через три-четыре, тогда это выяснится. Начинающим они платят немного — двадцать пять долларов в неделю. Юджину эти условия показались весьма заманчивыми, и, когда, явившись через три недели, он окончательно договорился, его радости не было границ. Теперь он вполне уверовал, что находится на пути к успеху. Ему отвели стол в маленькой комнатке на четвертом этаже, по счастливой случайности выходившей окнами на северо-запад, во двор. В отделе, где он работал, было, кроме него, еще два человека, постарше, и один из них разыгрывал из себя «шефа». По условиям работы здесь приходилось не только рисовать тушью, но и гравировать по цинку, то есть наносить рисунок иглой на цинковую пластинку, покрытую слоем мела, что давало возможность легко воспроизводить клише. Юджин не был знаком с этой техникой, и «шефу» пришлось показать ему, но он быстро научился. Вскоре он обнаружил, что эта работа вредна для легких, так как, царапая острием по меловой поверхности пластинки, надо все время сдувать мел, и белая пыль набивается в рот и в нос. Он надеялся, что с такой гравировкой придется иметь дело не часто, но как раз вначале ее оказалось очень много, главным образом потому, что оба его товарища сваливали все на него, пользуясь тем, что он новичок. Скоро Юджин стал догадываться об этом, но к тому времени он успел подружиться со своими сослуживцами, и все более или менее утряслось. Эти новые знакомые не играли в жизни Юджина большой роли, однако они ввели его в чикагский газетный мир, что расширило его кругозор и принесло ему практическую пользу. Один из них — «шеф» — был фатоват и любил пофрантить. Звали его Хорейс Хау. Второй, Джеремайя Мэтьюз, или попросту Джерри, был маленького роста, полный, с круглой, веселой, вечно улыбающейся физиономией и копною жестких черных волос. Он жевал табак и был не слишком опрятен в одежде, зато трудолюбив, отзывчив и добр, Юджин обнаружил, что за ним водятся три страстишки: он любил хорошо поесть, увлекался археологией и экзотическими безделушками. Кроме того, он живо интересовался всем, что происходит на свете, и был совершенно чужд всяких предрассудков, как социальных, так и нравственных и религиозных. Дело свое он любил и, работая, насвистывал или болтал. Юджин с самого начала почувствовал к нему симпатию. Работая в газете, Юджин впервые открыл у себя литературные способности. Произошло это совершенно случайно, так как он давно отказался от мысли чего-либо достичь в журналистике, хотя когда-то серьезно об этом подумывал. Газета нуждалась для воскресных приложений в маленьких фельетонах на темы местного характера. Читая некоторые такие фельетоны, которые ему поручали иллюстрировать, Юджин приходил к убеждению, что мог бы написать несравненно лучше. — Скажите, кто у нас пишет эти статьи? — спросил он однажды Мэтьюза, просматривая воскресный номер. — Да все, кому не лень, обычно штатные репортеры. Кое-что заказывают, кажется, на сторону. Платят всего четыре доллара за столбец. Интересно, будут ли ему платить, подумал Юджин. Но, так или иначе, ему хотелось этим заняться. Возможно, ему даже позволят поставить под фельетоном свое имя, — он видел, что некоторые были подписаны. Юджин заметил вслух, что с удовольствием написал бы что-нибудь в этом роде, но Хау, который не только рисовал, но и пописывал статейки, лишь неодобрительно фыркнул в ответ. Такое пренебрежение уязвило Юджина, и он решил испытать свои силы, как только представится случай. Ему хотелось написать что-нибудь о реке Чикаго, — он мог бы, как ему казалось, богато иллюстрировать такой фельетон. Он описал бы Гусиный остров, — вспомнив, кстати, то, что ему пришлось прочитать о нем несколько лет назад, — а также незатейливые красоты городских парков, в которых он любил гулять по воскресеньям, наблюдая влюбленных. Были у него и другие темы, но именно к этим напрашивались очаровательные, проникнутые настроением рисунки, и Юджину хотелось попробовать. В разговоре с редактором воскресного номера Митчелом Голдфарбом, с которым у него установились приятельские отношения, Юджин как-то намекнул, что река Чикаго чрезвычайно благодарный материал для иллюстрирования. — Что ж, действуйте, — сказал этот достойный муж, здоровый, сильный, молодой американец лет тридцати, который смеялся взахлеб, словно ему плеснули за ворот ледяной воды. — Нам такие вещи нужны. А вы вообще-то умеете писать? — Я думаю, у меня получится, если я постараюсь. — Так за чем же дело стало! — продолжал тот, предвкушая возможность получить бесплатный материал. — Дерзайте. Может, состряпаете что-нибудь подходящее. Если вы пишете не хуже, чем рисуете, тогда все в порядке. Гонорара мы штатным сотрудникам не платим, но будет ваша подпись. Юджину этого было достаточно. Он немедленно взялся за дело. Как художник, он уже начинал обращать на себя внимание сослуживцев. В его рисунках была грубоватая сочность, смелость, острота и какая-то задушевность. Хау втайне ему завидовал. Мэтьюз был преисполнен восхищения. После разговора с Голдфарбом Юджин в следующее же воскресенье объехал рукава реки Чикаго, отмечая все ее красивые места и достопримечательности, и заготовил рисунки. Затем он отправился в публичную библиотеку, ознакомился там с историей реки, причем случайно натолкнулся на докладные записки правительственных инженеров о ее возможностях как средства сообщения. То, что он написал, было не столько статьей, сколько маленьким панегириком. Умиляясь крохотными размерами реки, он восхищался ее красотами, которые находил там, где никому не пришло бы в голову их искать. Голдфарб с удивлением прочитал его статью. Он и не предполагал, что у Юджина такие литературные способности. Сильная сторона писательских опытов Юджина заключалась в том, что, наряду с поэтичностью и чувством колорита, он обладал логическим умом и тяготел к фактам, а это придавало написанному существенный интерес. Он любил покопаться в истории занимавшего его предмета и умел связать свою тему с современностью. Он написал ряд очерков о парках, о Гусином острове, о Брайдуэлской тюрьме, обо всем, что привлекало его. Однако главной его страстью оставался по-прежнему рисунок. Он был для него более естественным, более органичным средством выражения. Его радовало, что он может описать что-то словами, а затем и нарисовать. Это казалось Юджину прекрасным даром, его увлекала возможность придавать самым простым вещам характер чего-то захватывающе интересного. Он во всем умел найти интерес — и в повозке, проезжавшей по улице, и в высоком здании, и в уличном фонаре — словом, в каждой вещи. Своих занятий в Институте он тоже не запускал и, по-видимому, двигался вперед. — Я не пойму, Витла, что мне так нравится в ваших рисунках, — заметил ему однажды Мэтьюз, — но что-то такое в них есть. Вот скажите, например, зачем вы поместили над трубой летящих птиц? — Сам не знаю, — ответил Юджин. — Просто я так чувствую. Должно быть, я когда-то видел это. — А ведь как это важно, — продолжал Мэтьюз. — Да вы и в композиции сильны. Я никого не знаю у нас, кто бы рисовал так, как вы. «У нас» означало в Америке, так как и он и Хау, эти труженики на поприще изобразительного искусства, считали себя знатоками по части рисования тушью и вообще всякой графики. Они выписывали «Югенд», «Симплициссимус», «Пик-Ми-Ап» и европейские художественные журналы радикального направления. Им были известны и Стейнлен, и Шере, и Муша, и вся молодая школа французских мастеров художественного плаката. Юджин с удивлением узнавал об этих людях и об этих журналах. Он все больше проникался верою в себя и начинал думать о себе как о человеке недюжинном. Как раз в эту пору, когда он набирался знаний и усиленно знакомился с современным искусством и различными художественными школами, его роман с Анджелой Блю пришел к своему логическому завершению: он стал женихом. Несмотря на свою связь с Руби Кенни, продолжавшуюся и после студенческого вечера, Юджин считал, что не может жить без Анджелы. Отчасти это объяснялось тем, что после Стеллы ни одна девушка не сопротивлялась ему так упорно: отчасти тем, что Анджела казалась ему такой невинной, непосредственной и доброй. К тому же она была само очарование. Ее прелестной фигурки не мог скрыть даже неуклюжий, провинциальный покрой ее платьев. Нельзя было не обратить внимания на ее роскошные волосы и большие, манящие, светло-голубые глаза. У нее были румяные губы и щеки и природное изящество походки; она танцевала, играла на рояле. Юджин все больше приходил к убеждению, что она не уступает по красоте ни одной из знакомых ему девушек, зато значительно превосходит их душою. Всякий раз, как он пытался взять ее за руку, обнять или поцеловать, она ускользала от него, действуя обдуманно, оставаясь все время настороже и вместе с тем наполовину уступая. Она ждала от него официального предложения не потому, что стремилась завлечь его в свои сети, а потому, что воспитанная в духе преклонения перед условностями, считала такие вольности недопустимыми, пока они не помолвлены. Она в сущности была уже влюблена в него, но хотела сначала стать его невестой. Когда он делался настойчивее, Анджелу тянуло броситься в его объятия, но она сдерживала себя, терпеливо выжидая. Наконец однажды вечером, когда она сидела за роялем, он внезапно обнял ее и, порывисто прижав к себе, поцеловал. Анджела вскочила и вырвалась из его объятий. — Не смейте этого делать! — воскликнула она. — Это нехорошо. Я запрещаю вам. — Но я люблю вас, Анджела! — воскликнул он, следуя за ней. — Я хочу, чтобы вы были моей женой. Вы согласны выйти за меня замуж, Анджела? Хотите быть моею? Девушка не сводила с него нетерпеливых глаз. Она понимала, что заставила этого непосредственного, не знающего жизни юношу с темпераментом художника поступить так, как она хотела. Она рада была бы дать согласие сейчас же, не задумываясь, но что-то нашептывало ей, что нужно подождать. — Я не дам вам сейчас ответа, — сказала она, — я должна посоветоваться с родителями. Ведь они ничего еще не знают. Мне важно услышать их мнение, а когда я снова приеду сюда, я вам отвечу. — О Анджела! — взмолился он. — Нет, мистер Витла, прошу вас, подождите. — Она еще ни разу не назвала его по имени. — Я вернусь недели через две-три. Дайте мне хорошенько подумать. Так будет лучше. Юджин сдержал свой порыв и решил ждать, но это лишь укрепило в нем уверенность, что лучшей жены, чем Анджела, ему не найти. Она, как ни одна другая женщина, заставляла его умерять свою страсть и делать вид, будто его чувства носят возвышенный платонический характер. Он даже себе пытался внушить, что речь идет только о духовной близости, но в действительности его пожирал огонь, зажженный ее красотой, прелестью ее тела, ее темпераментом. Чувства Анджелы еще дремали, скованные условностями и религиозными традициями. Если бы разбудить ее! Он закрывал глаза и грезил.Глава 13
Через две недели Анджела вернулась, готовая связать себя с Юджином обетом верности. Юджин нетерпеливо ждал, горя желанием услышать из ее уст этот ответ. Он хотел встретить ее под дымным навесом вокзала, пообедать вместе у Кингсли, преподнести ей цветы и надеть заранее приготовленное кольцо (оно стоило семьдесят пять долларов и поглотило почти все его сбережения). Но она слишком хорошо понимала всю серьезность момента и хотела встретиться с ним только в гостиной тетки, где она будет ждать его во всеоружии своей красоты. Она написала ему, что приезжает рано утром, и когда он в субботу в восемь вечера явился к ней, Анджела вышла к нему в платье, которое считала наиболее «романтичным», — том самом, что было на ней при их первой встрече в Александрии. Она не украсила свой корсаж цветами, так как ждала их от него, и когда он поднес ей красные розы, приколола их к поясу. Анджела была воплощением изящества и сияющей молодости, она и впрямь походила на ту, чьим именем он прозвал ее, — на прекрасную Илэйн, одну из придворных дам короля Артура. Ее золотистые волосы были собраны на затылке в тяжелый узел, лицо разрумянилось от волнения, губы были влажны, глаза горели. Всем своим сияющим видом она показывала Юджину, что рада ему. Юджин сам себя не помнил от восторга. Всякая романтическая ситуация приводила его в экстаз. Красота любви, неописуемая прелесть юности песней отдавались в его душе, зажигая в крови лихорадку волнения. — Наконец-то вы здесь, Анджела! — сказал он, пытаясь удержать обе ее руки в своих. — Ну что? — Не торопите меня, — ответила она. — Я хочу сперва поговорить с вами. Я вам что-нибудь сыграю. — Нет, я хочу знать сейчас, — сказал он, следуя за ней к роялю. — Я должен знать. Я не в силах больше ждать. — Я еще не решила, — уклончиво отвечала она. — Дайте мне подумать. Лучше я вам сыграю. — Нет, нет! — настаивал он. — Пожалуйста, дайте мне поиграть. Невзирая на его просьбы, она отдалась звукам, все время ощущая его присутствие, словно какую-то нависшую над нею силу. Когда она кончила играть и под действием музыки все ее ощущения еще более обострились, он обнял ее за плечи, как уже было однажды, но она снова вырвалась и отбежала в угол, точно загнанный зверек. Он с восторгом смотрел на ее разрумянившееся лицо, растрепавшиеся волосы, на розы, повисшие у пояса. — Ну, — проговорил он, останавливаясь перед нею, — согласны вы быть моей женой? Девушка низко опустила голову, как бы борясь с сомнениями и страшась его настойчивости. Он стал на колено, чтобы заглянуть ей в глаза, и обвил руками ее талию. — Да, Анджела? Она смотрела на его мягкие волосы, темные и густые, на его чистый, белый лоб, черные глаза и красиво очерченный подбородок. Ей хотелось сказать «да» как можно театральнее, и она сочла момент подходящим. Она обхватила руками его голову, и посмотрела ему в глаза. — Ты будешь любить меня? — спросила она, не сводя с него взгляда. — Да, да! — воскликнул он. — Ты сама это знаешь, Анджела. Ведь я без ума от тебя. Она закинула его голову назад и коснулась губами его губ. В этом поцелуе была мучительная страсть. Она долго не отпускала его, но, наконец, он поднялся и стал осыпать поцелуями ее лицо, рот, глаза, шею. — Мой бог! — вырвалось у него. — Как ты прекрасна! Его голос испугал ее. — Так нельзя. — Но я не в силах бороться с собой. Как ты хороша! Она охотно простила ему все за этот комплимент. Последовали жгучие минуты, когда они сидели рядом, крепко обнявшись, и он, прижав ее к себе, шептал ей о своих планах на будущее. Он достал кольцо, которое купил для нее, и надел ей на палец. Он будет великим художником, она — женою художника. Он будет рисовать ее прелестное лицо, волосы, ее тело. Когда ему захочется написать любовную сцену, он запечатлеет на полотне ту, которую они только что пережили. Они проговорили до часу ночи, и она стала просить его уйти домой, но он не уходил. Он простился только в два часа, но лишь с тем, чтобы снова вернуться рано утром и пойти с нею в церковь. Для Юджина наступила чудесная пора — пора бурного расцвета всех его душевных и творческих сил, когда его способность воспринимать явления литературы и искусства стала глубже и изощреннее, а любовь к Анджеле рождала в нем тысячи новых непривычных мыслей. Чрезвычайно обострившаяся восприимчивость помогала ему понимать многое, над чем он раньше не задумывался: несообразность требований, предъявляемых человеку религиозными догмами; безнадежность той путаницы, которая царит в вопросах нравственности; то обстоятельство, что внутри нашего общественного организма существует рядом множество различных миров и что в сущности не выработано никаких определенных, твердых взглядов, обязательных для всех и каждого. Мэтьюз говорил ему о различных течениях в философии — о Канте, Гегеле, Шопенгауэре, — и благодаря ему Юджин отчасти познакомился с их мыслями и теориями. От Хорейса Хау он слышал о таких популярных в то время писателях, глашатаях новых исканий, как Пьер Лоти, Томас Гарди, Метерлинк, Толстой. Юджин был не из тех, кто зачитывается книгами — слишком сильна была в нем жажда жизни, — но он многому научился в спорах, которым отдавался с увлечением. Ему уже начинало казаться, что он может справиться с любым делом, со всем, за что бы он ни взялся, — может сочинять стихи, пьесы, повести, рисовать, писать, иллюстрировать и так далее. Он воображал себя то полководцем, то оратором или политическим деятелем и мечтал о том, каких высот он мог бы достигнуть, если бы твердо остановился на чем-нибудь одном. Иногда он вслух произносил отрывки зажигательных речей, которые сочинял, бродя по улицам. Но все эти юношеские мечтания искупались искренней любовью к труду. Он ни от чего не уклонялся и охотно брал на себя любые обязанности. После вечерних занятий в Институте Юджин иногда ехал к Руби и добирался до ее дома часов в одиннадцать. Они заранее договаривались, и наружная дверь оставалась открытой, что позволяло ему входить, никого не беспокоя. Не раз случалось, что он находил ее спящей в ее маленькой комнатке рядом с гостиной; она лежала как темнокудрый ребенок, свернувшись клубочком в своем красном шелковом халатике. Руби знала, что Юджину нравится ее тяготение к красивому и изысканному, и старалась одеваться и делать все по-особенному. Она ставила на столик возле кровати свечу под красным колпачком и оставляла на одеяле небрежно брошенную книгу, чтобы он, войдя, подумал, будто она читала. Он входил беззвучно, брал ее сонную на руки, будил поцелуем в губы и, прижав к груди, уносил в гостиную, а там, лаская, нашептывал ей на ухо страстные признания. Он не переставал любить Руби даже тогда, когда объяснялся в любви Анджеле, искренне считая, что эти чувства не мешают одно другому. Он говорил себе, что любит Анджелу, но и Руби ему нравилась, и он находил ее прелестной. Временами ему становилось жаль ее: она была таким слабым, легкомысленным созданием. Кто на ней женится? Что станет с нею в будущем? В ответ на такое отношение своего возлюбленного девушка страстно привязалась к нему и вскоре готова была ради него на любые жертвы. Как было бы хорошо, мечтала она, жить с Юджином вдвоем в маленькой квартирке вдали от людей. Она отказалась бы от своего ремесла натурщицы и вела бы хозяйство. Он и сам заводил об этом разговор, мысленно играя такой возможностью и вполне отдавая себе отчет в том, что этому, вероятно, никогда не бывать. Жениться он хотел на Анджеле, но, будь у него деньги, рассуждал Юджин, он мог бы устроить Руби где-нибудь отдельно. Что сказала бы на это Анджела, нисколько его не тревожило, важно было лишь, чтобы она ничего не знала. Он ни одной из них ни словом не обмолвился о другой, но нередко спрашивал себя, какого мнения они были бы друг о друге, если бы знали правду. Деньги, деньги — вот главное препятствие! Не имея денег, он ни на ком не мог сейчас жениться — ни на Анджеле, ни на Руби. Для того чтобы серьезно думать о женитьбе, надо сперва добиться обеспеченного положения. Он знал, что Анджела ждет этого от него. И этого же он должен достигнуть, если хочет сохранить Руби. Юджина все больше тяготило его стесненное положение. Он начинал понимать все убожество и скудность своего существования. Мэтьюз и Хау, получавшие больше, чем он, имели возможность жить лучше. Они посещали ночные рестораны, театры и всякие увеселительные места тех кварталов Чикаго, которые для представителей богемы приобретают особую прелесть с наступлением темноты. Мол, так называлась известная часть набережной реки Чикаго, Гемблерс-Роу, в южной части Кларк-стрит, а также клуб «Уайтчепел», где собирались газетчики, и многие другие места, излюбленные литературной братией и более видными журналистами. Будучи натурой созерцательной, склонной к самоанализу, Юджин не принимал участия в этих развлечениях; свойственная этим местам крикливая безвкусица оскорбляла его эстетическое чувство, а кроме того, у него не хватало на это средств. На занятиях в Институте студенты рассказывали ему о своих вчерашних похождениях, не жалея красок, чтобы придать им большую соблазнительность. Правда. Юджин не выносил грубых, вульгарных женщин и разнузданных кутежей, но это не мешало ему сознавать, что даже при желании он не мог бы позволить себе таких развлечений. Для того чтобы кутить, требовались деньги, а у него их не было. Оттого, возможно, что он был молод и явно неопытен и непрактичен, его хозяева и не думали прибавлять ему жалованье. Они, по-видимому, считали, что он удовлетворится и небольшим заработком и не станет спорить из-за денег. Целых полгода работал он в редакции без малейшего намека на прибавку, хотя заслуживал ее больше, чем кто-либо другой. Юджин не принадлежал к разряду людей, умеющих отстаивать свои интересы, однако это в конце концов стало волновать его. Раздражение его все возрастало, а вместе с тем и желание уйти из газеты, хотя работал он, как всегда, добросовестно. Это равнодушие со стороны хозяев и побудило Юджина уехать из Чикаго, хотя, конечно, главными причинами были Анджела, его карьера, беспокойный от природы характер и крепнущая вера в свои силы. В Анджеле воплотилась его мечта о будущем. Если бы он мог жениться на ней и где-нибудь твердо обосноваться, он был бы счастлив. Что же касается Руби, то он уже пресытился ею и, в сущности, готов был с ней расстаться. Едва ли она примет разлуку близко к сердцу. Для этого ее чувства недостаточно глубоки. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что несправедлив к Руби, и когда он стал реже навещать ее и не так интересовался ее жизнью в среде художников, ему нередко становилось стыдно за свою жестокость. Если Юджин долго не показывался, все поведение Руби говорило о том, что она страдает и догадывается о его растущем равнодушии. — Ты придешь в воскресенье вечером? — спросила она его однажды. — Нет, никак не могу, — начал он оправдываться, — у меня работа. — Знаю я, какая у тебя работа. Но делай, как хочешь. Мне все равно. — Руби, зачем ты так говоришь! Не могу же я вечно сидеть с тобой. — Я прекрасно знаю, в чем дело, Юджин. Ты меня больше не любишь. Впрочем, это совершенно неважно. — Руби, милая, полно, не надо, — говорил он. А когда он уходил, она подолгу стояла у окна, глядя на унылую улицу, и грустно вздыхала. Этот человек значил для нее больше, чем все, кого она встречала до сих пор. Но Руби была не из тех, кто плачет. «Он меня скоро бросит, — была ее постоянная мысль. — Он меня скоро бросит». Голдфарб уже давно присматривался к Юджину. Он интересовался его работой, понимал, как тот талантлив. Сам он собирался в скором времени перейти в другую, более крупную газету на должность редактора воскресного номера и находил, что Юджин попусту теряет время и что необходимо указать ему на это. — Я думаю, что вам следовало бы перебраться в одну из здешних влиятельных газет, — сказал он ему однажды в субботу, незадолго до окончания занятий. — В нашей вы ничего не достигнете. Слишком она мелка. Поищите себе что-нибудь посолиднее. Почему бы вам не толкнуться в «Трибюн»? А не то поезжайте в Нью-Йорк. Мне кажется, вам следовало бы работать в журнале. Юджин упивался каждым его словом. — Я уже подумывал об этом, — сказал он. — По всей вероятности, я поеду в Нью-Йорк. Там я лучше устроюсь. — Я на вашем месте предпринял бы что-нибудь. Когда засидишься в такой газете, как эта, ничего, кроме вреда, не получается. Юджин вернулся к своему столу. Из головы его не выходила мысль о предстоящей перемене. Надо уезжать. Он начнет откладывать деньги, пока не соберет полтораста — двести долларов, и тогда попытает счастья на Востоке. Он расстанется с Анджелой и Руби — с первой только на время, а с последней, вероятно, навсегда, хотя он лишь робко признавался себе в этом. Он заработает много денег, вернется обратно и женится на своей блэквудской мечте. Его воображение, забегая вперед, рисовало ему романтическое венчание в деревенской церковке и стоящую рядом Анджелу в белом платье. И он увезет ее в Нью-Йорк — он, Юджин Витла, к тому времени уже прославившийся в Восточных штатах художник. Он не переставал думать об огромном городе на Востоке, с его дворцами, богатством, славой. Это был тот замечательный город, про который он столько слышал, город, достойный сравнения с Парижем и Лондоном. Он поедет туда, не откладывая, в самом скором времени. Чего он там добьется? Удастся ли ему прославиться? И скоро ли это будет? Так он мечтал.Глава 14
Задумав поехать в Нью-Йорк, Юджин без большого труда привел эту мысль в исполнение. Он успел положить на книжку шестьдесят долларов уже после того, как потратился на кольцо для Анджелы, и теперь решил возможно скорее утроить эту сумму и отправиться в путь. Важно было кое-как протянуть первое время, пока не удастся устроиться. Если его рисунков не примут в журналах, он поищет работу в газете. Да и вообще он был уверен, что как-нибудь проживет. Он сообщил Хорейсу Хау и Мэтьюзу о своем намерении в самом скором времени перебраться на Восток, и каждый из них откликнулся на эту новость по-своему. Хау, давно уже завидовавший Юджину, был рад от него избавиться, но вместе с тем его грызла мысль о той блестящей карьере, какую, казалось, сулила этому щенку его решимость. «Пожалуй, он и в самом деле добьется исключительного успеха, — думал Хау, — он так эксцентричен, так своенравен». Мэтьюз радовался за Юджина, хотя и не без чувства горечи. Эх, будь у него смелость Юджина, его огонь, его талант!.. — Вы там добьетесь успеха, — сказал он как-то, когда Хорейса не было в комнате; он понимал, что тот завидует Юджину. — У вас для этого все данные. Кое-что из ваших здешних работ послужит вам недурной рекомендацией. Как бы и мне хотелось поехать! — Почему же вы не едете? — спросил Юджин. — Кто? Я? Куда мне! Мне еще рано. Я еще не дорос. Может, когда-нибудь и рискну. — Мне очень нравятся ваши работы, — великодушно соврал Юджин. На самом деле он не считал работы Мэтьюза настоящим искусством, хотя, как газетные наброски, они были недурны. — Вы этого не думаете, Витла, — отозвался Мэтьюз. — Я прекрасно знаю свои способности. Юджин промолчал. — Пишите нам по крайней мере из Нью-Йорка, хоть изредка, — продолжал Мэтьюз. — Я буду рад услышать, как пойдет у вас дело. — Непременно напишу, — ответил Юджин, польщенный тем интересом, который вызвало его решение. — Обязательно. Но он ни разу не написал. В лице Руби и Анджелы перед Юджином вставали две трудные проблемы, которые ему необходимо было так или иначе разрешить. Он думал о Руби с грустью, с раскаянием, с сожалением, скорбя о ее беспомощности, о ее загубленной жизни. Она была по-своему прелестна и мила, но ни умом, ни сердцем ему не пара. Разве мог бы он довольствоваться ею, если бы даже и захотел! Разве могла она заменить ему такую девушку, как Анджела? А теперь он далеко завлек и Анджелу, ибо с тех пор как она стала его невестой, он узнал ее с новой стороны. Эта девушка, с виду такая скромная и невинная, минутами загоралась, точно охваченное огнем сено. Когда Юджин распускал ее роскошные волосы и перебирал их густые пряди, глаза ее вспыхивалиогнем. «Дева Рейна! — говорил он. — Моя крошка Лорелей! Ты, как русалка, завлекаешь юного возлюбленного в сети своих волос. Ты — Маргарита, а я Фауст. Ты прелестная Гретхен. Как я люблю эти дивные волосы, когда они заплетены в косы. О моя радость, мой идеал! Когда-нибудь я увековечу твой образ на полотне. Я прославлю тебя!» Анджела вся трепетала от этих слов. Она сгорала на жарком костре, который он разжигал. Она прижималась губами к его губам в долгом, горячем поцелуе, садилась к нему на колени, обвивала волосами его шею и ласкала ими его лицо, словно омывая его в этих шелковых прядях. В такие минуты он терял власть над собою, осыпал ее безумными поцелуями и не ограничился бы этим, если б не девушка, которая при первом проявлении смелости со стороны Юджина вырывалась из его объятий, ища спасения не столько от него, сколько от самой себя. Она укоряла его, говоря, что была лучшего мнения о его любви, и Юджин, дорожа ее доверием, старался взять себя в руки. Это удавалось ему, так как он прекрасно знал, что не добьется того, чего хочет. Излишняя горячность только отпугнула бы ее. И любовной борьбе их не предвиделось конца. Осенью, спустя несколько месяцев после помолвки с Анджелой, Юджин покинул Чикаго. Лето он прожил кое-как, поглощенный беспокойными мыслями о будущем. Он все больше и больше избегал Руби и наконец уехал, даже не повидавшись с нею, хотя до последней минуты убеждал себя, что должен проститься. С Анджелой Юджин расставался в подавленном, угнетенном состоянии духа. Теперь ему казалось, что он едет в Нью-Йорк не по собственному желанию, а по горькой необходимости. Здесь, на Западе, у него нет возможности заработать достаточно на жизнь. Они не могли бы существовать на его доходы. А потому он должен ехать и, уезжая, рискует потерять Анджелу. Положение рисовалось ему в самых трагических красках. В доме ее тетки, куда Анджела приехала перед его отъездом, вырвавшись на субботу и воскресенье, он угрюмо расхаживал по комнате, считая немногие оставшиеся им часы и рисуя в воображении день, когда он вернется за нею. Анджелу томил смутный страх перед событиями, которые могли этому помешать. Ей приходилось читать повести о поэтах и художниках, которые, уехав в большой город, уже не возвращались. Ведь и Юджин был выдающейся личностью, — а вдруг ей не удастся удержать его? Но он дал ей обещание, он от нее без ума, в этом не могло быть сомнения. Этот упорный, страстный, полный душевной муки взгляд — что другое мог он выражать, как не вечную любовь? Жизнь подарила ей бесценное сокровище — большую любовь и дала ей художника в возлюбленные. — Поезжай, Юджин, и не тревожься! — трагически воскликнула она наконец, обхватив его голову обеими руками. — Я буду ждать тебя. Когда бы ты ни вернулся, ты найдешь меня здесь. Только приезжай скорее, ведь ты скоро приедешь, правда? — И ты спрашиваешь! — отозвался он, целуя ее. — Ты спрашиваешь! Посмотри мне в глаза. Разве ты не чувствуешь? — Да, да, да! Конечно, чувствую! — воскликнула Анджела, бросаясь к нему в объятия. Затем они расстались. Он ушел, подавленный сложностью и трагизмом жизни. Глядя на звезды, ярко сверкавшие в октябрьском небе, он погрузился в мрачные размышления. Мир прекрасен, но жить в нем порою тяжело. Все, однако, можно претерпеть, и, вероятно, в будущем его ждут счастье и покой. И то и другое он найдет в союзе с Анджелой, наслаждаясь ее поцелуями, упиваясь ее любовью. Так должно быть. Весь мир этому верит, и даже сам он — после Стеллы, и Маргарет, и Руби. Даже он. В поезде, уносившемся из Чикаго, сидел молодой человек, погруженный в глубокое раздумье. Пока поезд, пробираясь по бесчисленным подъездным путям, проезжал мимо жалких дворов и домишек, мимо уличных перекрестков, мимо гигантских фабрик и элеваторов, Юджин вспоминал о другой своей поездке, когда он впервые рискнул отправиться в большой город. Как все переменилось! Какой он был неотесанный, наивный. С тех пор он успел стать художником-иллюстратором, он недурно пишет, он пользуется успехом у женщин и имеет некоторое представление о том, что такое жизнь. Правда, он не скопил денег, зато учился в Институте искусств, подарил Анджеле кольцо с бриллиантом и сейчас у него с собою двести долларов, при помощи которых он намерен произвести разведку в величайшем городе Америки. Поезд пересекал Пятьдесят седьмую улицу. Юджин узнал места, где он нередко бывал, навещая Руби. Он так и не простился с нею. Вон там, вдали, виднеются ряды двухквартирных деревянных домиков, в одном из них живут ее приемные родители. Бедная маленькая Руби! Ведь она любит его. Он поступил позорно, но что делать! Он разлюбил ее. Правда, мысли о ней доставляли ему искреннее огорчение, но тем скорее он постарался от них избавиться. Этим, столь обычным в мире, трагедиям не поможешь сочувственными размышлениями. Поезд мчался теперь по отлогим полям северной части Индианы, и, когда мимо замелькали провинциальные городки, Юджин вспомнил Александрию. Что-то поделывает Джонас Лайл и Джон Саммерс? Миртл писала, что ее свадьба состоится весной: она считает, что с этим успеется и ей незачем торопиться. Юджину порой приходило в голову, что Миртл похожа на него, — у нее тоже быстро меняются настроения. Он твердо знал, что никогда не захочет вернуться в Александрию, иначе как ненадолго, в гости, но ему приятно было вспомнить об отце и матери, о старом доме, где он родился. Отец, — как мало он знает настоящий мир! Когда поезд миновал Питсбург, Юджин впервые увидел высокие горы, торжественно и величаво поднимавшие свои вершины к небу, и гигантские ряды коксовальных печей, из труб которых вырывались огненные языки. Он видел людей за работой, видел спящие, быстро сменявшиеся города. Какая обширная страна Америка! Как хорошо быть художником в этой стране! Ведь здесь миллионы людей, а между тем до сих пор еще нет ни одного гениального творения, которое отобразило бы все это — хотя бы такие вот исполненные пафоса обычные вещи, как коксовальные печи ночью. Если бы ему это удалось! Если бы у него достало сил всколыхнуть всю страну, чтобы его имя зазвучало здесь подобно имени Доре во Франции или Верещагина в России! Если бы ему удалось вдохнуть огонь в свои произведения, тот огонь, который он ощущал в себе! Поздно вечером Юджин забрался на свою полку и долго лежал, устремив мечтательный взгляд в окно, где темнела ночь и сверкали звезды, а потом задремал. Когда он проснулся, было уже утро. Поезд миновал Филадельфию и теперь летел по широким лугам, приближаясь к Трентону. Юджин встал и оделся, не переставая разглядывать мелькавшие мимо, как бы выстроившиеся в боевом порядке, города — Трентон, Нью-Брансвик, Метучен, Элизабет. Эта местность чем-то напоминала ему штат Иллинойс — она была такая же ровная. За Нью-Арком поезд вырвался на широкий степной простор, и Юджин ощутил близость моря; оно должно было находиться за этой степью. Тут протекали питаемые приливом реки Пассаик и Хакенсак — у причалов стояли маленькие суденышки и баржи, груженные кирпичом и углем. Трепет охватил его, когда проводник стал объявлять по вагонам: «Джерси-сити», а когда он вышел на гигантский перрон, сердце его сжалось. Он будет один, совершенно один в Нью-Йорке, этом богатом, холодном, враждебном городе. Каким образом добьется он здесь успеха? Юджин вышел за ворота вокзала, туда, где за низкими сводами виднелись паромы, и в следующее мгновение его взору открылись силуэт города, и залив, и Гудзон, и статуя Свободы, и паромы, и пароходики, и океанские суда, — все окутанное серой пеленою ливня, сквозь шум которого прорывались унылые голоса сирен. Перед его глазами была картина, которую бессилен представить себе тот, кто ее никогда не видел, а шум настоящей соленой воды, набегавшей на берег высокими валами, настраивал его на торжественный лад, как музыка. Какое оно изумительное, это море, чье лоно бороздят суда и мощные киты, чьи глубины полны неизъяснимых тайн! Какое изумительное место Нью-Йорк, этот город, стоящий на берегу океана и омываемый его волнами, — сердце обширной страны! Вот оно море, а там — гигантские доки, откуда суда отправляются во все порты мира. Взорам Юджина предстали их внушительные корпуса, выкрашенные в серый и черный цвет, — они стояли пришвартованные к длинным молам, выступающим далеко в море. Он прислушивался к сиренам, к шуму прибоя, наблюдал за кружившими над головой чайками и думал о том, какие сонмы людей населяют этот город. Здесь живут Джей Гулд и Рассел Сейдж, Вандербильды и Морганы — настоящие, живые, — и все здесь. Уолл-стрит, Пятая авеню, Мэдисон-сквер, Бродвей — сколько он слышал про эти улицы! Как-то сложится теперь его жизнь? Чего он здесь добьется? Окажет ли ему когда-нибудь Нью-Йорк тот триумфальный прием, какой выпадает на долю избранных? Юджин смотрел, широко раскрыв глаза, всем сердцем устремляясь навстречу городу и бесконечно восторгаясь им. Ну что ж, он дерзнет, он приложит все усилия, а там кто знает… быть может… Но на душе у него была тоска. Как ему хотелось быть сейчас с Анджелой, обрести надежный приют в ее объятиях. Как ему хотелось ощущать на своем лице прикосновение ее рук, ее волос. Ему не пришлось бы тогда бороться одному. Но он был один, а вокруг него бушевал город, шумный, как океан. Он должен пойти туда и начать борьбу.Глава 15
Не зная, куда направиться в совершенно незнакомом ему городе, Юджин сел на паром у пристани Дебросс-стрит и, очутившись на Вест-стрит, долго бродил по этой оживленной улице, разглядывая подъездные пути к докам. С этой стороны Манхэттен показался ему совсем неприглядным. Но, говорил он себе, пусть этот город не блещет красотой, зато в других отношениях в нем должно быть много замечательного. Когда же он увидел массивы прижатых друг к другу домов, нескончаемый людской поток, потрясающую картину уличного движения, он понял, что огромное скопище людей уже само по себе создает впечатление величественности и что в этом-то и заключается основная особенность Манхэттена. Но были и другие особенности: преобладание низких строений в старом городе, целые кварталы тесных улочек, неприглядные потемневшие кирпичные и каменные дома, добрую сотню лет терпящие непогоду, — все это вызывало в Юджине порою любопытство, а порою и гнетущую тоску. Он легко поддавался внешним впечатлениям. Во время своих блужданий Юджин не переставал высматривать себе место для жилья — небольшой дом с садиком или хотя бы деревцом перед окнами. Наконец в нижнем конце Седьмой авеню внимание его привлек ряд домов с железными балкончиками. Он стал спрашивать, и в одном из них оказалась комната за четыре доллара в неделю. Пока что, подумал он, можно будет остановиться на этом. В гостинице стоило бы дороже. Хозяйка, неимоверно унылая особа в черном затрепанном платье, показалась ему каким-то безликим существом, вид которого вызывал одну мысль: какое, должно быть, печальное занятие — держать постояльцев! Да и комната была такая же уныло-заурядная, но Юджин стоял у преддверия нового мира, и все его интересы и мысли были там. Ему не терпелось увидеть город. Он оставил в комнате чемодан, послал за сундуком и вышел на улицу — ведь он приехал сюда для того, чтобы учиться и познавать. В этот начальный период знакомства с Нью-Йорком Юджин всецело отдался своим впечатлениям. Он и не пробовал думать о том, что делать дальше, а выходил на улицу и попросту брел куда глаза глядят. Так, в первый же день он прошел вниз по Бродвею до здания муниципалитета, а вечером — вверх от Четырнадцатой улицы до Сорок второй. Вскоре он был уже знаком с Третьей авеню, с Бауэри, с роскошью Пятой авеню и Риверсайд-Драйв, с красотами Ист-Ривер, Баттери, Сентрал-парка и нижней частью Ист-Сайда. В самое короткое время он успел повидать все чудеса столичной жизни — толпы народа на улицах в обеденный час и перед открытием театров на Бродвее, ужасающую толчею утром и днем в торговых кварталах, бесконечные вереницы экипажей на Пятой авеню и в Сентрал-парке. В свое время его поражали богатство и роскошь Чикаго, но от того, что он увидел сейчас, захватывало дыхание. Здесь все было так обнажено, так наглядно, так понятно. Во всем чувствовалась та пропасть, которая отделяет простого смертного от представителей богатых классов. От этого сознания у Юджина кровь застывала в жилах; какое-то отупение охватывало его при мысли о том, как низко он стоит на общественной лестнице. До приезда в этот город он был довольно высокого мнения о себе, теперь же, чем больше он смотрел вокруг, тем делался меньше в собственных глазах. Что такое он сам? Что такое искусство? Какое дело до всего этого городу? Город больше интересовался другим — нарядами, едой, визитами, путешествиями. Нижнюю часть острова заполнило холодное торгашество, наводившее на Юджина ужас; в верхней же части, где тон задавали женщины и показная роскошь, царило сладострастное сибаритство, вызывавшее в нем зависть. У него было всего двести долларов; с этими деньгами он должен был пробить себе дорогу, — и вот каков был тот мир, который ему предстояло покорить. Люди с темпераментом Юджина легко поддаются чувству подавленности. Он чересчур жадно упивался зрелищем открывшейся перед ним жизни и теперь страдал от «умственного несварения». Он слишком много увидел за слишком короткий срок. Неделями бродил он по городу, изучая витрины, библиотеки, музеи, широкие проспекты, и с каждым днем отчаяние все глубже проникало в его душу. Ночью он возвращался в свою убогую комнату и садился писать пространные послания Анджеле, рисуя ей все, что он видел, и уверяя в вечной любви; эти письма были для него единственной возможностью дать выход своей бьющей через край энергии и своим настроениям. Это были вдохновенные письма, полные ярких красок и сильных переживаний, но Анджела толковала их по-своему. Для нее они были свидетельством нежных чувств и искренней тоски, поскольку она считала, что их диктует разлука с нею. Так оно и было отчасти, но в гораздо большей степени эти письма вызывались одиночеством и желанием выразить те ощущения, которые пробудила в Юджине грандиозная панорама развернувшейся перед ним жизни. Он посылал ей также зарисовки сценок, которые ему случалось наблюдать: толпа в глубоких сумерках на Тридцать четвертой улице; суденышко на Ист-ривер, неподалеку от Восемьдесят шестой улицы, в проливной дождь; баржа на буксире, груженная вагонами. Юджин и сам не знал, что он будет делать с этими этюдами, но ему хотелось испробовать свои силы в журнальной графике. Эти великолепные издания немного пугали его; теперь, когда он мог зайти в редакцию и предложить свои услуги, он гораздо меньше верил в себя. В одну из первых недель пребывания в Нью-Йорке Юджин получил письмо от Руби. Прощальное письмо, которое он отправил ей по прибытии в Нью-Йорк, принадлежало к тем вымученным посланиям, которые диктуются угасшей страстью. Он очень сожалеет, писал Юджин, что вынужден был уехать, не простившись с нею. Он уже совсем собрался зайти, но из-за спешки, вызванной неотложными приготовлениями… и так далее и тому подобное. Он надеется на днях побывать в Чикаго и тогда непременно навестит ее. Он по-прежнему ее любит, но ему необходимо было уехать туда, где для него таятся величайшие возможности. «Я помню, как ты была очаровательна, когда мы впервые встретились, — писал он в заключение, — и я никогда не забуду моего первого впечатления, Руби!» Говорить об этом сейчас было величайшей бестактностью, но Юджин не мог побороть в себе художника. Эти слова острой болью отозвались в сердце Руби: она поняла, что Юджин любит только красоту и что теперь ее красота потеряла для него свою прелесть. Она ответила ему через некоторое время, ей хотелось взять вызывающий, безразличный тон, но это ей никак не удавалось. Она хотела придумать что-нибудь резкое, но кончила тем, что написала так, как чувствовала.«Дорогой Юджин, — писала она, — уже несколько недель, как я получила твое письмо, но до сих пор не могла заставить себя ответить. Я знаю, что между нами все кончено, да иначе и не могло быть. Мне кажется, ты неспособен долго любить одну женщину. Ты прав, конечно, что тебе необходимо было поехать в Нью-Йорк, там тебя ждет более широкое поле деятельности. Все это так, но мне очень больно, что ты не пришел проститься. Все же мог бы зайти. Однако я ни в чем тебя не упрекаю, Юджин. В сущности, конец немногим отличается от того, что было между нами все последнее время. Я тебя любила, но я знаю, что так или иначе перенесу это и никогда не буду упрекать тебя. Пожалуйста, верни мне мои письма и фотографии. Теперь они тебе больше не нужны»А в самом конце была приписка:Руби.
«Ночью я стояла у окна и смотрела на улицу. Луна сияла, ветер раскачивал голые деревья. Вдали, среди лугов, блестел пруд, и в нем отражалась луна. Он казался серебряным. О Юджин, лучше бы мне умереть!»Юджин вскочил, прочитав эти слова, и скомкал письмо. Оно до глубины души тронуло его. Он невольно проникся уважением к Руби и даже подумал, не совершил ли ошибку, покинув эту девушку. В конце концов он и в самом деле любил ее. В ней столько очарования. Будь Руби в Нью-Йорке, они могли бы жить вместе. Она могла бы устроиться здесь натурщицей. Он совсем уже готов был написать ей это, но как раз пришло одни из тех пространных посланий, которые почти ежедневно отправляла ему Анджела, и его настроение изменилось. Разве мыслимо продолжать связь с Руби перед лицом такого большого и чистого чувства, как любовь Анджелы? Очевидно, его былая привязанность к Руби угасает. Стоит ли пытаться воскресить ее? Это столкновение противоречивых чувств было очень характерно для Юджина, и будь в нем развита способность к трезвому самоанализу, он пришел бы к выводу, что по натуре он мечтатель, влюбленный в красоту, влюбленный в любовь, и что ему несвойственно хранить верность какой-либо одной женщине — кроме единственной, несуществующей. Так или иначе, он написал Руби письмо, которое дышало сожалением и раскаянием, но не заключало в себе приглашения приехать. Он не мог бы долго содержать ее, если бы она приехала, говорил он себе. Кроме того, он хотел добиться Анджелы. И прерванный роман так и не возобновился. Между тем Юджин начал наведываться в редакции журналов. Уезжая из Чикаго, он уложил на дно сундука целую пачку рисунков, которые в свое время сделал для газеты «Глоб». Тут были этюды реки Чикаго, Блю-Айленд авеню, которую он однажды зарисовал в перспективе, Гусиного острова и набережной озера Мичиган, а также кое-какие уличные сценки. Все они производили сильное впечатление благодаря особой, свойственной Юджину манере создавать мозаику из черных пятен, среди которых неожиданно мелькало несколько белых бликов и линий. В этих рисунках сквозило чувство, ощущалась жизнь. Их должны были бы оценить с первого взгляда. Но достаточно было даже намека на радикальное новаторство, чтобы работы его многим показались примитивными, даже грубыми. Пальто он рисовал одним штрихом, одним пятном изображал лицо. Даже вглядываясь в его работы, трудно было уловить отдельные детали, а зачастую они и вовсе отсутствовали. Под действием похвал, которые он слышал в институте, а также от Мэтьюза и Голдфарба, Юджин постепенно приходил к убеждению, что у него сложилась собственная манера письма, и, дорожа своей самостоятельностью, он склонен был этой манеры придерживаться. Теперь он производил впечатление весьма самоуверенного молодого человека, и это отталкивало от него людей. Когда он показывал свои рисунки в редакции журнала «Сенчури», а также у Харпера и Скрибнера, их разглядывали с видом усталой учтивости. На стенах редакций, где он бывал, красовались десятки великолепных рисунков, подписанных (как уже знал к этому времени Юджин) лучшими художниками-иллюстраторами страны. И он возвращался к себе домой, убежденный, что его работы не произвели впечатления. Очевидно, в редакциях привыкли иметь дело с художниками в тысячу раз лучше его. На самом же деле то, что так смущало Юджина, было лишь видимостью. Рисунки, которые висели на стенах редакционных кабинетов, были во многих случаях нисколько не лучше его собственных, а возможно, и хуже. Их преимущество заключалось в массивных деревянных рамах и во всеобщем признании. Юджин не был еще мэтром, признанным в журналах, но в его ранних работах было не меньше огня, чем в картинах позднейшего периода. Последние отличались большей зрелостью письма, в них не замечалось уже такой нетерпимости к деталям, но экспрессии в них было не больше, если не меньше. Дело, однако, заключалось в том, что руководителям художественных отделов до смерти надоели молодые художники, приносившие им свои рисунки. Пусть немного помучаются, это пойдет им впрок. И Юджин повсюду натыкался на отказ, сопровождаемый скупою похвалой, которая была для него хуже уничтожающей критики. В результате он совсем пал духом. Оставались, однако, газеты и журналы помельче, и Юджин неутомимо рыскал по городу, стараясь найти себе какую-нибудь работу. В двух-трех журнальчиках ему удалось получить заказ — несколько рисунков, в общей сложности на тридцать пять долларов. Нужно было еще платить натурщице. Теперь понадобилась и комната, которая заменяла бы мастерскую и куда можно было бы приглашать натурщиц. После долгих поисков он нашел в западной части Четырнадцатой улицы подходящее помещение — в конце коридора, окнами во двор, откуда можно было попадать прямо к нему по запасной лестнице. Комната стойла двадцать пять долларов в месяц, но он решил, что должен рискнуть этой суммой. Только бы получить несколько заказов, тогда можно будет прожить.
Глава 16
Художественный мир Нью-Йорка весьма своеобразен. В период, о котором идет речь, да и долгое время спустя он состоял из разрозненных групп, почти не входивших между собой в соприкосновение. Особое место в нем занимали, например, скульпторы, человек тридцать-сорок, едва знакомых между собой; они злобно критиковали друг друга и предпочитали жить, замкнувшись каждый в тесном кругу близких и друзей. Свой, отдельный, мирок составляли и живописцы; они держались особняком от графиков и насчитывали в своей среде до тысячи, если не больше, человек, именовавших себя художниками. В большинстве своем это были мужчины и женщины, обладавшие достаточным дарованием для того, чтобы разок-другой добиться чести выставить свои работы в залах Национальной академии и от поры до времени продать картину или получить случайный заказ на декоративную работу или портрет. В городе было немало домов, где квартиры сдавались под студии: на Вашингтон-сквере, на Девятой и Десятой улицах, а также кое-где на Макдугал-эли или в кварталах между Вашингтон-сквером и Пятьдесят девятой улицей. Дома эти была населены живописцами, графиками, скульпторами, а также представителями различных видов прикладных искусств. Художники были больше связаны между собой, чем скульпторы, которые, впрочем, отчасти примыкали к ним. У художников было несколько клубов — «Салмагунди», «Кит-Кэт», «Лотос»; нередко устраивались выставки — тушь, акварель, масло, — сопровождавшиеся дружескими встречами, на которых можно было обменяться взаимными одобрениями и советами. В студиях на Десятой улице, в общежитии ХАМЛ[40] на Двадцать третьей улице, в студиях имени Ван Дейка и в ряде других мест художники часто селились вместе. В то время нетрудно было встретить такую небольшую группу лиц, вступивших во временное содружество, и даже присоединиться к ней, — если вы, как принято было говорить, оказались своим. Вне этого жизнь художника в Нью-Йорке протекала скучно, и он с большим трудом находил подходящую для себя среду. Живописцам противостояли графики. В большинстве своем это была зеленая молодежь, к которой примыкали те, кто сумел снискать себе прочное расположение господ редакторов. Формально они не принадлежали к миру живописцев и скульпторов, но по духу были родственны им. У них тоже были свои клубы, а их мастерские всегда оказывались по соседству с мастерскими художников и скульпторов; поскольку графики пробавлялись больше надеждами на будущее, то они обыкновенно селились по трое-четверо в одной студии — отчасти из соображений экономии, но также из чувства товарищества, чтобы поддерживать и вдохновлять друг друга в работе. В Нью-Йорке в ту пору существовало много таких групп, но Юджин, конечно, не знал о них. Новичку требуется немало времени, чтобы обратить на себя внимание. Все мы должны пройти через годы учения, на какое бы поприще мы ни вступили. Юджин был одарен и преисполнен решимости, но у него не было ни жизненного опыта, ни близких друзей или знакомых. Этот город был такой чужой и холодный, и если бы Юджин с первых же минут не воспылал к нему безграничной любовью, он чувствовал бы себя в нем одиноким и несчастным. А сейчас он был весь во власти очарования, которым были исполнены для него прекрасные зеленые скверы — Вашингтон, Юнион и Мэдисон, изумительные улицы вроде Бродвея, Пятой авеню, Шестой авеню, и такие необычайные панорамы, как Бауэри при ночном освещении, Ист-ривер, набережные и Баттери. Юджин подпал под гипноз таившегося в этом городе чуда, имя которому красота. Какие бурлящие толпы людей! Какой водоворот жизни! Гигантские отели, опера, театры, рестораны — все, все восхищало его своей красотой. Прелестные женщины в великолепных нарядах, вереницы желтоглазых экипажей, напоминавших чудовищных насекомых, приливы и отливы людских масс утром и вечером — вот что заставляло его забывать о своем одиночестве. У него не было ни лишних денег, ни надежд быстро добиться успеха, а потому он мог сколько угодно бродить по этим улицам, смотреть на окна домов, любоваться прекрасными женщинами и с жадностью читать в газетах о триумфах, ежечасно выпадающих на долю счастливцев, преуспевших в той или иной области. Газеты то и дело сообщали об авторе нашумевшей книги, об ученом, сделавшем новое открытие, о философе, выступившем с новой теорией, или о финансисте, основавшем крупное предприятие. Писали о готовящихся театральных постановках, о предстоящих гастролях приезжих знаменитостей, об успехах молодых девушек, впервые выезжающих в свет, и о шумных общественных кампаниях. Одно было ясно: слово принадлежит молодости и честолюбию. Если у человека выдающиеся способности — это лишь вопрос времени, когда о нем услышит мир. Юджин мечтал, что придет час и его торжества, но боялся, что очень и очень не скоро, и это часто повергало его в уныние. Перед ним лежал еще долгий путь. Одним из его любимых занятий в те дни и вечера было бродить по улицам — и в дождь, и в туман, и в снег. Нью-Йорк притягивал его к себе и под косыми струями ливня и запорошенный снегом. Особенно любил Юджин площади. Однажды он увидел Пятую авеню в сильную метель, при свете шипящих дуговых фонарей, и на следующее утро поспешил к мольберту, чтобы воссоздать эту картину в черно-белой гамме. Ничего у него не вышло, — так по крайней мере ему казалось, — и, провозившись около часу, он с отвращением бросил кисть. Но такие зрелища привлекали его. Ему хотелось запечатлеть их на бумаге, хотелось увидеть изображенными в красках. Возможный успех в будущем служил ему единственным утешением в ту пору, когда на обед он решался потратить не более пятнадцати центов и когда во всем городе не было ни одной живой души, к кому он мог бы зайти перекинуться словом. Характерной чертою Юджина было стремление к полной материальной независимости. Еще в Чикаго он имел возможность в тяжелые минуты написать домой и попросить помощи; он мог бы и сейчас занять у отца немного денег, но предпочитал заработать сам: пусть думают, что ему живется лучше, чем в действительности. Если бы кто-нибудь спросил Юджина, как его дела, он ответил бы, что не может пожаловаться. В таком духе Юджин и писал Анджеле, а то обстоятельство, что он все еще медлит со свадьбой, объяснял желанием добиться больших средств. Он изо всех сил старался подольше растянуть свои двести долларов и кое-что подработать мелкими заказами, как бы мизерно они ни оплачивались. Свои расходы он строго ограничил десятью долларами в неделю, и ему удавалось не выходить за пределы этой суммы. Дом, где Юджин обосновался, не был, в сущности, предназначен для студий. Это было старое здание, занятое дешевым пансионом и меблированными комнатами, а также торговыми конторами. В верхнем этаже находились три полноценных комнаты и две темных каморки, и в каждой из них обитал какой-нибудь одинокий служитель муз. Соседом Юджина оказался мелкий работяга-иллюстратор, получивший образование в Бостоне и теперь утвердивший свой мольберт в Нью-Йорке, в надежде как-нибудь прокормиться. Вначале соседи мало общались между собой, хотя уже на второй день после переезда Юджин понял, что рядом с ним живет художник, так как в открытую дверь виден был мольберт. Поскольку ни одна натурщица не являлась к нему с предложением своих услуг, Юджин решил обратиться в Лигу молодых художников. Он зашел к секретарю и получил у него адреса четырех натурщиц, которые не преминули откликнуться на его приглашение. Он выбрал одну из них — молодую американку шведского происхождения, отдаленно напоминавшую ему героиню повести, которую он предполагал иллюстрировать. Она была очень изящно одета, миловидная, с темными волосами, прямым носиком и чуть заостренным подбородком и с первого же взгляда понравилась Юджину. Но он стыдился своей неприглядной обстановки и потому вел себя робко. Натурщица тоже держалась скромно, и он постарался закончить эскизы возможно скорее, без лишних затрат. Юджин не принадлежал к людям, умеющим заводить случайные знакомства, хотя довольно быстро сходился с теми, кто был равен ему по развитию. В чикагском Институте искусств он был дружен с несколькими молодыми художниками, но здесь никого не знал, так как приехал без всяких рекомендаций. Все же он познакомился со своим соседом, Филиппом Шотмейером. Юджину хотелось расспросить его о том, что представляет собой художественный мир Нью-Йорка. Однако Шотмейер оказался человеком не блестящего ума и не мог ничего толком рассказать ему. Правда, Юджин узнал от него кое-что о крупнейших мастерских, о выдающихся деятелях искусства и о том, что начинающие художники работают группами. Шотмейер и сам еще год назад состоял в такой группе, но почему он теперь работает один — этого он Юджину не сообщил. Его иллюстрации появлялись в нескольких журналах — правда, мелких, однако более солидных, чем те, куда был вхож Юджин. Но одну важную услугу он оказал Юджину: он не скрывал своего восхищения его работами. Как и многие другие до него, Шотмейер разглядел в эскизах соседа что-то, выделявшее его из общей массы художников, — а он не пропускал ни одной выставки, — и однажды подсказал ему шаг, положивший начало блестящей карьере Юджина в области журнальной графики. Юджин работал в то время над одной из своих уличных сценок — дело, за которое он брался всякий раз, когда был свободен. Шотмейер как-то зашел к нему в комнату и стал следить за тем, как под его кистью оживает на полотне сценка из жизни Ист-Сайда: толпы работниц, наводняющих улицы в шесть часов вечера, по окончании работы; тесные стены зданий, один или два мигающих фонаря, несколько витрин, залитых желтым светом, и множество утопающих в тени, едва различимых лиц. Это были лишь скупые намеки, но они передавали ощущение живой толпы и пульсирующей жизни. — А знаете, — сказал Шотмейер, — эта вещичка вам здорово удалась. По-моему, очень похоже. — Правда? — обрадовался Юджин. — Я уверен, что какой-нибудь журнал обязательно возьмет у вас рисунок для вкладки. Почему бы вам не отнести его в редакцию «Труф»? «Труф» был еженедельник, которым Юджин восхищался, еще живя на Западе, так как в каждом его номере печаталась какая-нибудь цветная репродукция вразворот, и зачастую именно такие сценки, какие пытался рисовать он. Как-то всегда получалось, что когда Юджин слишком долго безвольно плыл по течению, он нуждался в побудительном толчке, который заставил бы его действовать. Под влиянием слов Шотмейера он особенно усердно поработал над этюдом и, закончив, решил отнести его в редакцию «Труф». Заведующему художественным отделом рисунок понравился с первого же взгляда, но он ничего не сказал, а пошел показать его главному редактору. — Вот, по-моему, настоящая находка! — И он с гордостью положил этюд на стол редактора. — Гм, — произнес тот, оторвавшись от рукописи, которой был занят, — действительно замечательная вещь, а? Кто это принес? — Какой-то парень по имени Витла. Я его вижу у нас впервые. Настоящий художник, верно? — Как выразительны эти намеки на лица в глубине, — восхищался редактор. — Что вы скажете? Немного напоминает массовые сцены Доре. Хорошо сделано, а? — Прекрасно, — вторил ему заведующий художественным отделом. — Я думаю, это будущий мастер, если только с ним ничего не случится. Надо взять у него несколько рисунков для вкладок. — Сколько он хочет за это? — Да он и сам, видно, не знает. Сколько дадут, столько и возьмет. Я предложу ему семьдесят пять долларов. — Идет, — сказал редактор, отодвигая от себя лист с рисунком. — Здесь чувствуется какая-то свежая струя. С этим художником надо поддерживать знакомство. — Я так и сделаю, — ответил тот. — Но он еще молод. Не следует слишком баловать его. Выйдя из кабинета, он придал своему лицу выражение суровости. — Этюд мне нравится, — сказал он. — Мы, пожалуй, возьмем его для журнала. Оставьте ваш адрес, я вам в скором времени вышлю чек. Юджин назвал свой адрес. Сердце его радостно колотилось. Он не думал о том, сколько получит, сейчас эта мысль меньше всего занимала его, он уже видел в воображении свой этюд воспроизведенным в журнале на развернутом листе. Итак, ему действительно удалось поместить свою работу, да еще в таком журнале, как «Труф»! Теперь он может со спокойной совестью сказать, что кое-чего достиг. Он сейчас же напишет Анджеле и поделится с ней новостью. А когда выйдет журнал, пошлет ей несколько экземпляров. В дальнейшем у него будет возможность ссылаться на эту работу. А самое главное — теперь он знает, что такие сценки ему удаются. Он шел по улице, ступая по серому булыжнику, как по воздуху. Откинув голову назад, он дышал всей грудью. Воображению его уже рисовались другие сценки, которые он изобразит. Его мечты начинают сбываться, он, Юджин Витла, автор цветного разворота в журнале «Труф»! В голове у него уже готова была серия таких рисунков, — все, о чем он когда-то мечтал. Ему захотелось поскорее бежать к Шотмейеру, рассказать ему о своих успехах и угостить хорошим ужином. Он даже почувствовал нежность к этому бедному ремесленнику от искусства за то, что тот подал ему такой удачный совет. — Послушайте, Шотмейер, — сказал он, просовывая голову в его дверь, — сегодня мы идем с вами ужинать! «Труф» взял мой рисунок. — Вот это замечательно! — воскликнул сосед без малейшего признака зависти. — Очень рад за вас. Так я и думал. Юджин чуть не прослезился. Бедняга Шотмейер! Не бог весть какой художник, но сердце у него золотое. Никогда он не забудет его доброты.Глава 17
Крупная удача с продажей рисунка, сопутствовавший ей чек на семьдесят пять долларов и спустя некоторое время появление репродукции в журнале окрылили Юджина: наконец-то он на твердом пути! Он уже стал подумывать, не поехать ли ему в Блэквуд навестить Анджелу. Но нет, раньше он как следует поработает. Юджин приготовил еще несколько уличных сценок, зарисовал Грили-сквер в моросящий дождь и поезд воздушной железной дороги над Бауэри, мчащийся по высокой кружевной эстакаде. Он умел улавливать контрасты, резко выделяя свет и тень, и писал эффектными, расплывчатыми пятнами, которые неуловимостью красок и скрытой в них многозначительностью напоминали игру драгоценных камней. Спустя месяц после первого посещения редакции «Труф» Юджин снова отправился туда, и опять заведующий художественным отделом не устоял перед ним. Он старался казаться равнодушным, но ему это плохо удавалось. В этом молодом человеке было именно то, что ему требовалось. — Приносите мне все, что у вас будет в таком роде, — сказал он. — И если рисунки будут не хуже этих, мы всегда найдем для них место. Юджин вышел из редакции с высоко поднятой головой. Он начинал проникаться верой в свои способности. Не мало требуется рисунков по семьдесят пять и сто пятьдесят долларов, чтобы обеспечить себе приличный доход! Не говоря уже о том, что художников в Нью-Йорке хоть отбавляй и не так-то легко выдвинуться. Прошло много месяцев, прежде чем первые работы Юджина увидели свет. Он избегал мелких журналов в надежде, что ему удастся вскоре утвердиться в более крупных, но последние не так уж стремились залучить к себе молодые дарования. Шотмейер познакомил Юджина с двумя живописцами, сообща занимавшими студию на Уеверли-плейс. Оба чрезвычайно понравились Юджину. Мак-Хью, родом из штата Вайоминг, мастерски рассказывал о жизни на рудниках и горных фермах. Смайт был сыном канадского рыбака из Нова-Скотии. Мак-Хью, высокий и худой, при первом знакомстве казался типичным деревенским увальнем, но это впечатление очень скоро сглаживалось — столько ума и живого юмора было в его взгляде. Юджина сразу потянуло к этому приятному, располагавшему к себе человеку. От Джозефа Смайта исходило дыхание моря. Невысокого роста, коренастый и крепкий, он напоминал кузнеца. У него были большие руки и ноги, большой рот, глубокие, резко очерченные глазные впадины и жесткие каштановые волосы. Говорил он медленно, с расстановкой, зато, когда улыбался или смеялся, лицо его преображалось. В минуту волнения или радости все тело его приходило в движение, физиономия покрывалась забавной сеткой добродушных морщин, косноязычия как не бывало, он начинал говорить легко и быстро. Он любил пересыпать свою речь забористыми словечками, так как, работая среди моряков, накопил обширный запас весьма живописных выражений. Впрочем, в этом не чувствовалось злости. Смайт был само доброжелательство и благодушие. Юджину хотелось подружиться с этой парой, и он старался поддерживать с ними знакомство. Друзья, как он замечал, бывали ему рады, и они часами рассказывали друг другу забавные эпизоды и обменивались мнениями о людях. Он все чаще и чаще стал заходить к ним, а через некоторое время и они начали к нему заглядывать. Но лишь спустя много месяцев Юджин почувствовал, что по-настоящему сошелся с ними. В течение этого года он приобрел знакомства среди натурщиц, стал посещать выставки и благодаря заведующему художественным отделом журнала «Труф», Хадсону Дьюла, несколько раз получал приглашения на интимные обеды художников и их подруг. Он не встретил никого, кто особенно понравился бы ему, если не считать Ричарда Уилера, редактора довольно жалкого журнальчика под названием «Крэфт». Это был белокурый молодой человек с поэтическим темпераментом. Он сразу угадал в Юджине неудержимое влечение к красоте и постарался сдружиться с ним. Юджин охотно шел ему навстречу, и Уилер стал бывать у него в мастерской. Юджин еще не зарабатывал в те дни достаточно, чтобы обзавестись лучшим жилищем, но он постарался приобрести для своей студии несколько гипсовых слепков и красивых бронзовых вещиц. На стенах были развешаны его собственные рисунки, преимущественно виды Нью-Йорка. Выражение, с каким их разглядывали знатоки, постепенно убеждало Юджина, что он призван сказать свое слово в искусстве. Весною на второй год пребывания в Нью-Йорке, когда Юджин уже свыкся с новой атмосферой, он решил съездить на Запад навестить Анджелу, а заодно побывать в Александрии у родителей. Шестнадцать месяцев прошло со дня его отъезда из Чикаго, и за это время он не встретил ни одной женщины, которая увлекла бы его или встала между ним и Анджелой. В марте он написал ей, что, возможно, приедет в мае или в июне, но вырваться ему удалось только в июле, когда Нью-Йорк изнывал от невыносимой жары. Он не особенно много сделал за это время, всего лишь иллюстрации к десятку рассказов и четыре рисунка в развернутый лист для журнала «Труф», из которых один был уже напечатан, — но все же он продвигался. Как раз в этот день, когда он собрался ехать в Чикаго и Блэквуд, в киосках появился второй номер журнала с его рисунком, и Юджин, сияя от гордости, купил один экземпляр, чтобы захватить с собою в вагон. Рисунок изображал поезд воздушной железной дороги над ночным Бауэри. Репродукция очень удалась; Юджин испытывал необычайную гордость и знал, что Анджела будет радоваться вместе с ним. Она с таким восторгом писала ему о его зарисовке Ист-Сайда, которую он назвал «Шесть часов». Сидя в поезде, Юджин мечтал. Наконец, пробежав огромное расстояние между Нью-Йорком и Чикаго, поезд прибыл в Город Озер, и Юджин, даже не посетив тех мест, где он делал свои первые шаги на пути к самостоятельности, отправился пятичасовым в Блэквуд. Было душно, и пока он ехал, в небе скопились густые грозовые тучи, вскоре разразившиеся летним ливнем. Деревья и трава напились вволю, на дорогах улеглась пыль. Освежающий холодок ласкал усталое от жары тело. Мимо проносились, быстро скрываясь из глаз, маленькие городки, утопавшие в густой зелени, и наконец показался Блэквуд. Он был меньше Александрии, но в общем мало отличался от нее. Как и в Александрии, здесь прежде всего бросались в глаза церковный шпиль, лесопильный завод, красивая торговая улица с кирпичными домами и множеством вековых развесистых деревьев. Город с первого взгляда понравился Юджину. Именно в таком месте должна была жить Анджела. Было уже семь часов, надвигались сумерки. Юджин не сообщил Анджеле точный час своего приезда и решил заночевать в маленькой гостинице, вернее, харчевне, которую заметил неподалеку от станции. У него был с собою только большой чемодан и саквояж. Он справился у содержателя гостиницы, как проехать на ферму Блю и далеко ли до нее, и узнал, что утром его в любое время довезут туда за доллар. Поужинав бифштексом с жареным картофелем и запив его скверным кофе, он сел в качалку на террасе, выходившей на улицу, чтобы в тишине поглядеть, как живет этот городишко, и насладиться вечерней прохладой. Он мысленно представлял себе очаровательное гнездышко, в котором, вероятно, обитает Анджела. Какой маленький городок, как тут тихо! До одиннадцати поездов из Чикаго уже не будет. Немного погодя Юджин вышел пройтись и подышать вечерним воздухом. Вернувшись в гостиницу, он широко распахнул окно душного номера и стал смотреть на улицу. Летняяночь, сохранявшая свежесть пролившегося дождя, непросохшие деревья, аромат сочной, влажной растительности — все это оставляло свой след в его душе, как рельефный узор на глине. Он чувствовал нежность к маленьким домикам с лучистыми окнами и к случайным прохожим, которые обменивались простыми дружескими приветствиями. Его глубоко трогало и трещание кузнечиков, и кваканье лягушек, и мерцание далеких звезд — солнц и планет, словно повисших над верхушками деревьев. Ночь дышала плодородием, вокруг кипела невидимая мельчайшая работа, очень мало или совершенно не зависящая от человека, хотя человек и является участником этого таинства. Наконец веки его начали слипаться, он лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном. На другое утро Юджин проснулся рано и едва дождался часа, когда можно будет тронуться в путь. Он считал неудобным выехать раньше девяти и, чтобы скоротать время, разгуливал по городу, привлекая общее внимание, так как его высокая, худощавая, изящная фигура и резкий профиль бросались здесь в глаза. В девять часов ему подали какой-то шарабан прадедовских времен, и он покатил по глинистой, размытой вчерашним дождем дороге, местами затемненной густыми деревьями. Столько прелестных полевых цветов росло вдоль дороги, так пышно разросся цветущий кустарник за решеткою оград — желтый и красный шиповник, жимолость и прочее, — что сердце Юджина замирало от восторга. Музыкой звучала в его душе эта чудесная природа — желтеющая пшеница, молодая, чуть ли не в человеческий рост кукуруза, луга и клеверные поля, разделенные небольшими рощами, ласточки, стремительно проносящиеся в воздухе в погоне за насекомыми, и парящий высоко в небе коршун, еще в детстве представлявшийся Юджину воплощением красоты. Юджин вспомнил, как мальчуганом он радовался порханию бабочек и птиц и воркованию горлицы (вот оно как раз прорезало тишину вдали) и восхищался мужественной силою сельских жителей. Сидя в своем шарабане, он думал о том, что хорошо было бы написать серию деревенских этюдов, таких же безыскусственных, как дворики, мимо которых он проезжал, как этот пересекающий дорогу ручей, образовавший невдалеке заводь, где поили скот, как этот остов заброшенного дома — без дверей и окон, с провалившейся крышей, до самых стропил заросший жимолостью и повиликой. «Мы, жители городов, не знаем всего этого», — подумал он со вздохом, совершенно позабыв, что, как и все юноши и девушки, уезжающие в столицу, он унес с собой глубоко врезавшиеся в душу впечатления детства, проведенного на лоне природы.Ферма семейства Блю была расположена посреди довольно широкой долины, между отлогими склонами лесистых холмов. В одном ее конце, неподалеку от дома, в густо заросших ивняком и орешником берегах, журча по камешкам, бежал ручеек, не дальше как в миле оттуда разливаясь небольшим озерком. Прямо перед усадьбой на десять акров раскинулось поле, засеянное пшеницей; справа от него — выгон, а слева — клеверное поле. За домом, к которому вела длинная лужайка с тенистой аллеей из высоких старых вязов, виднелись сарай, колодец, свинарник, амбар для кукурузы и несколько сарайчиков поменьше. Прилегавший к дому палисадник был отделен от лужайки низеньким забором, вдоль которого росла сирень, а в самом палисаднике были разбиты незатейливые клумбы с розами и золотистыми ноготками. Галерея, соединявшая черный ход с летней кухней, была вся увита плющом, а торчащий неподалеку пень был сплошь увит цветущей жимолостью. Газон во дворе содержался аккуратно, а большая лужайка перед домом, на которую падала тень развесистых деревьев, казалась бархатной. Дом был длинный, одноэтажный, по его фасаду тянулись в ряд шесть комнат. Две из них, расположенные посередине, представляли собою, вероятно, его старую часть, построенную лет семьдесят назад. Остальные четыре появились позднее, а кроме них, была еще пристройка, где помещались зимняя кухня и столовая. К западу от галереи, ведущей в летнюю кухню, стояла некрашеная, сколоченная из досок кладовая. Весь дом был стар и запущен, но по-своему живописен. Юджин не ожидал, что попадет в такое чудесное место. Ему понравился и самый дом — длинный и низкий, с дверями, открывавшимися прямо в сад, и окнами, обрамленными диким виноградом, и кусты сирени, зеленой стеной отделявшие дом от лужайки, и тенистые вязы, напоминавшие часовых. Когда шарабан въезжал в ворота, он сказал себе: «Вот место, созданное для любви! И подумать только, что Анджела живет здесь!» Шарабан прогремел по усыпанной крупной галькой дороге, слева от лужайки, и остановился у садовой калитки. Из дома вышла Мариетта. Ей было двадцать два года, и насколько старшая сестра была рассудительна и сумрачна, настолько эта была жизнерадостна и весела. Беспечная, как котенок, склонная видеть во всем светлую сторону, она повсюду приобретала друзей. По ней вздыхал целый рой поклонников, писавших ей пылкие письма, но она всех отвергала с подкупающим добродушием. Казалось бы, что здесь, в деревне, не было таких возможностей, как в городе; в смысле светских развлечений, однако кавалеры под тем или иным предлогом проникали и сюда. Мариетта притягивала их, точно магнит, и Анджела принимала участие в веселье, которое умела создавать ее младшая сестра. Анджела была в столовой, и позвать ее не составляло большого труда. Но Мариетте хотелось сперва собственными глазами убедиться, что представляет собою возлюбленный ее сестры, которого та завлекла в свои сети. Она была поражена его ростом, его живописной наружностью и проницательным взглядом. Она не ожидала, что у Анджелы такой завидный жених. Она с ласковой улыбкой протянула ему руку. — Вы мистер Витла, не правда ли? — спросила она. — Он самый, — ответил Юджин несколько торжественно. — Какая чудесная дорога к вам! — Да, когда хорошая погода, — смеясь, сказала девушка. — Зимой она вам не так понравилась бы. Заходите, пожалуйста, и поставьте чемодан вот сюда. Дэвид отнесет его в вашу комнату. Юджин повиновался, не переставая, однако, думать об Анджеле, о том, когда она, наконец, покажется и какой предстанет перед ним. Он вошел в просторную, низкую, прохладную гостиную и немало обрадовался, увидев там рояль и ноты, сложенные на этажерке. За открытым окном виднелись гамаки, висевшие среди деревьев на лужайке. «Какой чудесный уголок, — подумал он, — сама поэзия». И тут появилась Анджела. Она была в простом белом полотняном платье. Толстые косы обвивали ее голову, — это так всегда нравилось Юджину. Она успела сорвать и приколоть к корсажу большую красную розу. Завидев Анджелу, Юджин протянул ей обе руки, и она бросилась ему на шею. Он крепко поцеловал ее, так как Мариетта тактично оставила их одних. — Наконец-то я с тобой! — шептал он между поцелуями. — Да, да, — вздохнула она. — Тебя так долго не было. — О, я страдал еще больше, чем ты, — утешал он ее. — Я так мучился и все ждал, ждал, ждал. — Забудем, — сказала Анджела. — Мы снова вместе. Ты здесь. — Да, я здесь! — расхохотался он. — Во всеоружии ума и таланта и в единственном своем коричневом костюме! Но как у вас красиво — эти изумительные деревья, эта чудесная лужайка! Он на минуту оторвался от нее, чтобы посмотреть в окно. — Я рада, что тебе у нас нравится, — отозвалась Анджела, и глаза ее радостно заблестели. — Мы любим наш дом, хотя он очень старый. — Потому-то он мне и нравится! — воскликнул Юджин. — Какая прелесть эти кусты, эти розы! Если б ты знала, дорогая, как у вас хорошо! И ты — ты такая чудная! Он отодвинул ее от себя, разглядывая, а она залилась румянцем и еще больше похорошела. Его порывистость и смелость приводили Анджелу в смятение, и сердце ее учащенно билось. Немного погодя они вышли во дворик, и тогда снова появилась Мариетта, а вместе с нею и миссис Блю, добродушная, полная женщина лет шестидесяти. Она сердечно поздоровалась с Юджином. Он сразу почувствовал, что она во всех отношениях похожа на его мать — на всякую хорошую мать: она так же любила порядок и покой, так же пеклась о благополучии своих детей, так же дорожила общественным мнением и правилами чести и морали. Все эти черты Юджин искренне уважал в других. Его радовало, когда он обнаруживал их в окружающих, он считал, что они имеют большое значение для общества, но не был уверен, что они обязательны и для него. В душе он всегда считал, что жизнь богаче, сложнее и загадочнее, чем любая шаблонная теория или устоявшийся жизненный уклад. Разумеется, похвально, когда мужчина или женщина следуют законам чести и морали в соответствии со своим положением и с характером самого общества, но если смотреть в глубь вещей, это не играет никакой роли. Всякий уклад, всякий строй, рассчитывающий на долгое существование, должен иметь в своем составе таких миссис Блю, согласующих свое поведение с высшими принципами и установлениями данного общества. При встрече с такими людьми можно, конечно, умиляться, но что они значат перед изменчивыми, неисповедимыми силами природы. Они — проявления случайной гармонии, необходимые для данного строя, но не имеющие никакой ценности для вселенной в целом. Таковы были взгляды Юджина в двадцать два года, и он спрашивал себя, удастся ли ему когда-нибудь высказать их и что подумали бы люди, если бы могли прочитать его мысли; он спрашивал себя, существует ли что-нибудь — что бы то ни было — действительно устойчивое, как незыблемая скала, на которой можно утвердиться, или же все в мире лишь зыбкие тени и призраки. Миссис Блю ласковым взглядом окинула жениха своей дочери. Она много наслышалась о нем. Воспитав своих детей в правилах долга, чести и морали, она верила, что они будут общаться с людьми таких же правил. Она заранее решила, что и Юджин принадлежит к таким людям, а его открытое, без малейшего лукавства лицо, смеющиеся глаза и приятная улыбка убедили ее в том, что он и по натуре порядочный человек. И, наконец, достаточно было его замечательных рисунков, оттиски которых он время от времени посылал Анджеле, — а в особенности рисунка, изображавшего толпу на Ист-Сайде, — чтобы заранее расположить ее в его пользу. Ни одна из ее дочерей — а три из них были уже замужем — не могла похвалиться супругом, который выдерживал бы сравнение с этим молодым человеком. Она смотрела на Юджина как на будущего зятя, рассчитывая, что он с радостью и как нечто должное возьмет на себя все общепринятые в этих случаях обязательства. — Спасибо вам, миссис Блю, за ваше любезное приглашение, — почтительно сказал Юджин. — Мне давно хотелось побывать у вас. Я столько слышал от Анджелы о вашей семье. — У нас самый обыкновенный деревенский дом; ничего он собой не представляет, но мы его любим, — отвечала миссис Блю. Она ласково улыбнулась Юджину, спросила, как у него подвигается работа в Нью-Йорке, предложила отдохнуть в гамаке и опять пошла на кухню, где у нее уже готовился обед для гостя. Молодые люди направились вдвоем к лужайке и там уселись под деревьями. Юджин испытывал какое-то восторженное чувство. Он был еще так молод, а между тем жизнь осыпала его своими лучшими дарами; он любил и был любим; недавние успехи в Нью-Йорке сулили ему исполнение самых честолюбивых надежд. А теперь он вкушал душевный мир, радуясь заслуженному отдыху и наслаждаясь любовью, красотой, поклонением и лучезарным летом. Погруженный в эти мысли, Юджин раскачивался в гамаке и любовался чудесной лужайкой; наконец взгляд его остановился на Анджеле, и он подумал: «В мире не может быть ничего прекраснее!»
Глава 18
Около полудня вернулся домой старый Джотем Блю, пропалывавший в поле кукурузу. Несмотря на свои шестьдесят пять лет и белоснежные волосы и бороду, он производил впечатление крепкого человека, который может прожить до девяноста, а то и до ста лет. У него были голубые глаза и проницательный взгляд, на лице играл румянец. Широкие, могучие плечи и тонкая талия показывали, что в молодости это был стройный мужчина. — Здравствуйте, мистер Витла, — сказал он необычайно просто и сердечно, подходя к Юджину. Он был в сапогах, на которых засохла принесенная с поля желтая грязь. Достав из кармана большой складной нож, старик принялся строгать тоненький сучок, подобранный с земли. — Очень рад вас видеть. Анджела мне кое-что рассказывала о вас. Он, улыбаясь, посмотрел на Юджина. Анджела, сидевшая рядом с гостем, встала и медленно пошла к дому. — И я рад вас видеть, — сказал Юджин. — Мне очень у вас нравится. Благодатный край. — Край благодатный, что и говорить, — сказал старый Джотем и, придвинув к себе стул, стоявший под деревом, сел. Юджин снова занял свое место в гамаке. — У нас здесь почва богата известью, углеродом и калием — самая пища для растений. Искусственного удобрения требуется очень мало. Главное — тщательно возделывать землю и бороться с сорняками и вредителями. Он задумчиво строгал свой сучок. Юджина удивило обнаруженное им знакомство с физикой и химией в применении к земледелию. Приятно было видеть человека, у которого искусство землепашца сочеталось с незаурядными познаниями. — По дороге к вам я видел прекрасные пшеничные поля, — заметил он. — Да, пшеница у нас тут хорошо родится, когда погода более или менее благоприятная, — словоохотливо отозвался старик Блю, — да и кукуруза тоже. Яблони дают богатейшие урожаи, и виноград часто вызревает. Я всегда был того мнения, что штат Висконсин имеет некоторые преимущества перед другими штатами в бассейне Миссисипи; природа благословила нас умеренным климатом, обилием проточной воды и прекрасным, разнообразным рельефом. На севере богатейшие рудники, и лесу сколько угодно. У нас, в Висконсине, привольное житье. Этому штату предстоит большое будущее. Пока он говорил, Юджин успел заметить, как широко расставлены у него глаза. Ему понравилось, что старик так заинтересован судьбами своего штата и своей родины. Это был не жалкий раб земли, а земледелец в истинном смысле слова, фермер, знающий свое дело, американец, любящий свой штат и родину. — Мне долина Миссисипи всегда представлялась краем великих возможностей, — сказал Юджин. — История знает такие густо заселенные места — долина Нила, например, или долина Евфрата, но наша несравненно больше. Я верю, что в будущем сюда устремятся толпы поселенцев. — Наш штат — новый земной рай, — сказал Джотем Блю; он перестал на минуту строгать и поднял правую руку, чтобы придать больше силы своим словам. — Мы еще не знаем полностью всех его богатств. Здесь можно вырастить достаточно плодов, кукурузы, пшеницы, чтобы прокормить весь мир. Меня иногда поражает плодородие нашей почвы. Она так щедра. Это великая мать. Она просит только чтобы с ней хорошо обращались, и тогда она дает все, что у нее есть. Юджин улыбнулся. Широкий кругозор его будущего тестя удивлял его. Он чувствовал, что готов полюбить этого человека. Они поговорили о характере местного населения, о росте Чикаго, об угрожавшей еще недавно войне с Венесуэлой, о новом лидере демократической партии, которым Джотем Блю восхищался. Он стал рассказывать о нем во всех подробностях, — выяснилось, что тот недавно посетил их в Блэквуде, — но тут на пороге дома появилась миссис Блю. — Джотем! — позвала она. — Жене, вероятно, нужно ведерко воды, — сказал он, вставая, и неторопливо направился к дому. Юджин улыбнулся. Как все это трогательно! Вот именно такой должна быть жизнь — воплощением здоровья, силы, добродушия, полной взаимного понимания и простоты отношений. Он был бы рад стать человеком, подобным Джотему Блю, таким же здоровым, сердечным, чистым и сильным. Подумать только — ведь этот фермер вырастил восемь человек детей! Не удивительно, что у него такая очаровательная дочь, как Анджела! И все другие дети, наверно, такие же. Юджин качался в гамаке, когда вернулась Мариетта; она улыбнулась, ветер растрепал ее белокурые волосы. У нее были голубые глаза, как у отца, и его живая, подвижная натура, исполненная сердечности и теплоты. Юджина потянуло к ней. Она немного напоминала ему Руби и немного Маргарет. Она цвела юностью и здоровьем. — Вы, должно быть, сильнее Анджелы, — сказал он, глядя на девушку. — Еще бы! — воскликнула она. — Нашему Ангелочку ни за что за мной не угнаться. И когда мы деремся, я всегда побеждаю. Иногда я даже чувствую себя старше — ведь это я всегда все затеваю. Юджин оценил прозвище «Ангелочек», решив, что оно подходит Анджеле. Она и действительно напоминала ангелов, как их изображают в старых фолиантах или на церковных витражах. У него мелькнула смутная мысль, что у Мариетты, пожалуй, более приятный характер и что в ней больше душевной теплоты и женского обаяния. Но он заставил себя выкинуть эту мысль из головы. Он чувствовал, что здесь он должен быть верен Анджеле. Во время их беседы подошел Дэвид, самый младший, и уселся на траву. Это был мальчик невысокого роста, довольно плотный для своих шестнадцати лет, с умным лицом и живыми глазами. Юджин почувствовал в нем уравновешенность и спокойную силу. Он приходил к заключению, что молодежь унаследовала от родителей и крепкое здоровье и характер. Это был дом, где росли удачные дети. Немного спустя к ним подошел Бенджамен — высокий, даже слишком высокий для своего возраста юноша, производивший впечатление пуританина — его западноамериканской разновидности, — а затем и самый старший из сыновей, Сэмюэл, наиболее интересный из всех. Это был крупный мужчина с невозмутимо спокойным, как у старого Джотема, выражением лица, сильно загорелый и крепкий, словно молодой дуб. Из разговора выяснилось, что он работает на железной дороге в Сент-Поле и домой приехал ненадолго — провести отпуск после трехлетнего отсутствия. Его дорога называлась «Великая Северная», он занимал уже должность второго помощника начальника станции, и в семье считали, что он далеко пойдет. Юджину было ясно, что все эти юноши и девушки, так же как и Анджела, отличаются непреклонно честным и правдивым характером. Все они были воспитаны в христианских понятиях о добродетели — это были не церковные догмы, а именно христианские понятия, окрашенные терпимостью и доброжелательностью. Они по мере сил соблюдали десять заповедей, и жизнь их не выходила за рамки того, что именуется нравственностью и приличием. Это заставило Юджина задуматься. Его собственная беспринципность в вопросах морали была загадкой для него самого. Может быть, они действительно правы, а он глубоко заблуждается? Но для кого же тогда весь этот сложный механизм мироздания со всеми его тайнами? Юджин чувствовал, что в пределах сложившегося общественного уклада он явно не на месте, но что касается жизни в более широком понимании — тут трудно что-либо сказать. В половине первого в дверях показалась миссис Блю и объявила, что обед на столе. Все тотчас же встали. Это была простая домашняя трапеза, обычная в культурных фермерских семьях. Были поданы в изобилии свежие овощи — зеленый горошек, молодая фасоль в стручках и молодой картофель. Мясо для жаркого было куплено у мясника, разъезжавшего в своей тележке по всей округе. Кроме того, миссис Блю приготовила горячие воздушные бисквиты. Юджин признался, что он большой любитель пахтанья, и ему принесли полный кувшин, заметив, что обычно его примешивают в корм свиньям, так как никто из детей его не любит. За столом шла оживленная беседа, раздавались шутки, и до слуха Юджина доносились обрывки новостей, касавшихся окрестных жителей. У такого-то фермера пала лошадь, такой-то собирается снимать пшеницу. То и дело упоминались три старшие сестры, жившие в других городах того же штата. У них, по-видимому, было много детей, доставлявших им изрядные хлопоты. Они часто приезжали навестить своих родных, с которыми были связаны крепкими узами. — Чем ближе вы познакомитесь с семейством Блю, — заметил Сэмюэл Юджину, когда тот удивился такой общности интересов, — тем яснее вам станет, что это не столько семья, сколько клан. Все ее члены крепко спаяны между собой. — Это, по-моему, очень хорошая черта, — смеясь, ответил Юджин, отнюдь не питавший такого интереса к своим родным. — А я вам скажу, — вставил живший по соседству фермер, по имени Джейк Долл, — что если вы хотите узнать, как все Блю держатся друг за друга, попробуйте обидеть кого-нибудь из них. — А ведь это верно, согласна, сестричка? — заметил Сэмюэл Анджеле, рядом с которой сидел, и ласково прикоснулся к ее руке. Это движение не укрылось от Юджина. Девушка так же ласково кивнула головой. — Да, все Блю крепко держатся друг за друга. Юджин готов был приревновать Анджелу к ее брату. Он невольно задумался на тем, можно ли такую девушку вырвать из родной атмосферы, полностью от нее изолировать и перенести в совершенно иной мир? Сможет ли она понять его, Юджина, сможет ли он навсегда остаться с нею? Он с улыбкой смотрел на ее отца и мать, говоря себе, что должен навсегда сохранить ей верность. Но все же в жизни много странного, трудно сказать, как она сложится. За этот день Юджин вынес еще много приятных впечатлений. Вечером они с Анджелой целых два часа сидели вдвоем в прохладной гостиной, и Юджин снова и снова говорил ей о том, как она прекрасна, как он очарован этим старым домом, какие милые люди ее отец и мать, какие у нее интересные братья. Он сделал карандашный набросок с Джотема, возвращающегося с поля. Рисунок очень понравился Анджеле, и она оставила его у себя, чтобы показать отцу. Юджин попросил ее позировать ему у окна и зарисовал ее головку в ореоле пушистых волос. Вспомнив про иллюстрацию, изображающую Бауэри ночью, он пошел разыскать ее и тут впервые увидел отведенную ему в самом конце дома уютную прохладную комнату. Окно выходило на запад — из него видны были кусты жимолости, — а дверь открывалась на тенистую, прохладную лужайку. Ему казалось, что он купается в красоте и видит вокруг себя одно лишь счастье. Больно было думать, что жизнь не может всегда быть такой радостной, — как будто красота не вечна и не вездесуща. Увидев рисунок Юджина в журнале, Анджела была вне себя от гордости и счастья. Это служило неоспоримым доказательством одаренности ее возлюбленного. В своих письмах он почти ежедневно описывал ей художественный мир Нью-Йорка, так что у нее было некоторое представление о нем, — правда, сильно приукрашенное. Зато такие вот репродукции были чем-то конкретным, осязаемым. Весь мир увидит их. Она воображала, что Юджин уже знаменит. В этот вечер, и на другой день, и в последующие дни, когда они сидели одни в гостиной, между Юджином и Анджелой стало все больше устанавливаться то взаимное понимание, которое рано или поздно наступает между любящими мужчиной и женщиной. Юджин неспособен был ограничиться целомудренными поцелуями и невинными ласками, если его постоянно не держали в узде. Ему казалось, что любовь должна идти своим естественным путем. Юджин не был женат, он не знал, какую ответственность налагает брак, и никогда не задавался мыслью о том, каких трудов стоило его родителям вырастить и воспитать его. У него отсутствовал тот инстинкт, который все это подсказал бы ему. Он не питал ни малейшей склонности к отцовству и не ведал того естественного стремления, которое заставляет человека мечтать о домашнем очаге и условиях, необходимых для создания семьи. Все мысли Юджина сосредоточивались на любовном периоде — на сопровождающих его поцелуях, ласках и объятиях. И чем больше Анджела противилась, упорно борясь сама с собой, тем острее предвкушал он всю полноту предстоящего им счастья. Порой, заглядывая в ее глаза, он замечал заволакивавшую их дымку, сулившую неудержимый порыв. Он сидел рядом с нею, гладил ее руки, прикасался к ее лицу, ласкал ее волосы, крепко прижимал ее к себе. Ей было трудно устоять перед этим недвусмысленным нажимом и держать его на безопасном расстоянии, так как она и сама жаждала восторгов любви. В третий вечер своего пребывания в доме Блю Юджин, несмотря на все возраставшее уважение к каждому члену этого семейства, довел Анджелу до грани и, возможно, переступил бы вместе с нею заповедную черту, если бы, к счастью, в нем не взяли верх чувства совершенно иного порядка, чувства, вызванные бурным отчаянием Анджелы. В этот день они купались в маленьком озере Оукуни, расположенном неподалеку от дома. После купания Юджин с Анджелой, Дэвидом и Мариеттой поехали прокатиться. Стоял один из тех очаровательных вечеров, которые выдаются иногда летом и красноречиво говорят о красоте и любви. Погода была такая чудесная, такая теплая, в тени деревьев было так хорошо, что у Юджина защемило сердце. Сейчас он молод, жизнь прекрасна, но какой-то она будет в старости? Душу его словно терзало болезненное предчувствие надвигающейся катастрофы. Солнце уже село, когда они подъезжали к дому. Жужжали насекомые, то и дело позвякивали колокольчики коров, свежий ветерок, предтеча близкого вечера, овевал их лица, когда они проезжали лощину. Приближаясь к дому, они завидели синий дымок, курившийся над кухней и возвещавший близость ужина. Юджин в экстазе сжимал руку Анджелы. Ему хотелось грезить, сидя с нею в гамаке, когда надвинутся глубокие сумерки, и смотреть на окружающий мир. Повсюду жизнь била ключом. Старый Джотем и Бенджамен вернулись с поля, и вскоре из кухни, где они умывались, послышались их голоса и плеск воды. В конюшне нетерпеливо фыркали лошади в предвкушении корма, где-то вдали мычала корова, хрюкали голодные свиньи. Юджин вскинул голову, как будто стряхивал с себя какие-то чары, — кругом царила такая идиллия, такая гармония. За ужином он едва прикоснулся к еде, — все его внимание захватило зрелище, которое представляла собою группа за столом. А после вечерней трапезы он вместе со всей семьей сидел на лужайке, вдыхая аромат цветов, глядя на звезды, мерцавшие сквозь деревья, и прислушиваясь к тому, что говорили Джотем и миссис Блю, Сэмюэл, Бенджамен, Дэвид, Мариетта и изредка Анджела. Чувствуя его настроение, его грусть, порожденную всем этим очарованием, она тоже притихла и только прислушивалась к словам Юджина и отца. Но когда она что-нибудь произносила, голос ее звучал мелодично. Вскоре Джотем Блю встал и отправился спать, а за ним последовали один за другим и остальные. Дэвид и Мариетта ушли в гостиную, потом встали Сэмюэл с Бенджаменом. Каждый объяснял свой уход тем, что завтра предстоит тяжелый день. Сэмюэл собирался тряхнуть стариной и помочь отцу в молотьбе. Юджин взял Анджелу за руку и вместе с нею направился к палисаднику, где в полном цвету стояли гортензии — белые, как снег, днем и бледно-серебристые в темноте. Взяв ее лицо в ладони, Юджин вновь стал шептать ей о своей любви. — Сегодня у меня был необыкновенный день, — сказал он. — Жизнь здесь так прекрасна. Какое чудесное, тихое место! А ты… ты… — Остальное досказали его поцелуи. Они долго стояли обнявшись, а затем вернулись в гостиную, и Анджела зажгла лампу. Комната озарилась мягким желтым светом — достаточно ярким, чтобы придать ей теплоту, подумал Юджин. Сперва они уселись рядом в двух качалках, а потом пересели на диванчик, и Юджин обнял девушку. Перед ужином Анджела переоделась в свободное кремовое домашнее платье. Юджин уговорил ее вынуть шпильки из волос, чтобы он мог любоваться ее косами. Истинная страсть молчалива. Юджин сидел, словно зачарованный, и смотрел на девушку. Она прислонилась головой к его плечу и гладила его волосы, а потом и совсем замерла, изнемогая от наплыва чувств. Он казался ей юным богом, могучим, мужественным, прекрасным. Его ждет блестящее будущее. Все эти годы она надеялась, что появится человек, который полюбит ее по-настоящему, и вот у ее ног этот талантливый юноша. Он гладил ее руки, шею, лицо, а потом, медленно обвив руками, прижался головой к ее груди. Анджела была воспитана в строгих правилах добродетели, внушенных ей родителями, и во всем считалась с мнением своих родных. Но сейчас ей трудно было бороться. Сперва она позволила ему обнять себя, а потом покорилась и более интимным ласкам. Сопротивление казалось совершенно невозможным, так как он крепко прижимал ее к себе; она была вся во власти исходившей от него магнетической силы. Когда же, наконец, она почувствовала его руки на своем трепетном теле, она откинулась назад в порыве муки и наслаждения.— Нет, нет, Юджин, не надо, — бормотала она. — Спаси меня от меня самой! Спаси меня, Юджин! Он посмотрел на нее. Ее побледневшее лицо было искажено страданием и болезненной бледностью. Все ее тело безжизненно замерло в его объятиях. И только горячие, влажные губы выдавали ее душевное смятение. Юджин не мог сразу совладать с собой. Прежде чем отпустить ее, он нервными пальцами художника провел по ее шее и груди. Тогда Анджела, напрягая последние силы, высвободилась из его объятий и опустилась на колени; платье ее расстегнулось у выреза. — Не надо, Юджин, — взмолилась она. — Не надо! Подумай об отце, о матери! Я всегда гордилась своей чистотой. Они верят мне. Умоляю тебя, Юджин! Он гладил ее волосы и лицо и смотрел ей в глаза так, как, должно быть, смотрел Абеляр на Элоизу. — О, я знаю, знаю! — вдруг воскликнула Анджела прерывающимся голосом. — Я нисколько не лучше всякой другой. Я так долго, так долго ждала! Но я не должна этого делать, Юджин. Не должна! Помоги мне, Юджин! Юджин стал смутно догадываться: у этой девушки никогда не было возлюбленного. Чем это объяснить? — подумал он. Ведь она так хороша. Он встал, готовый уже схватить ее на руки и унести к себе в комнату, но остановился в раздумье. Как она трогательно беспомощна! Что ж, разве он так уж жесток? Неужели он не в состоянии проявить благородство? Ее отец и мать приняли его как родного… Перед глазами встали Джотем и миссис Блю, братья и сестры Анджелы, с обожанием смотревшие на сестру. Он не сводил с девушки глаз, — слишком заманчива была добыча, — чувствуя, что теряет власть над собой. Все же он взял себя в руки. — Встань, Анджела, — сказал он наконец с усилием, в упор глядя на девушку. — А теперь уходи, — продолжал он, когда она встала. — Уходи сейчас же, а то я не отвечаю за себя. Ты видишь, я стараюсь совладать с собой. Пожалуйста, уходи. Она медлила и смотрела на него со страхом и сожалением. — О, прости меня, Юджин! — Ты меня прости, — сказал он. — Это я виноват. А теперь уходи, родная. Ты не знаешь, как это трудно, ты иди, чтоб мне не было так тяжело. Она направилась к двери, а он тоскующим, горячим взглядом проводил ее до порога. Когда она тихо затворила за собою дверь, он прошел к себе в комнату и сел. Все его тело, казалось, было налито свинцом, он чувствовал себя совершенно разбитым. Ошеломленный, он стал перебирать в памяти все случившееся в последние минуты. Потом вышел и постоял немного под открытым небом прислушиваясь. Квакали лягушки, в траве что-то шуршало, словно там копошились жуки. Чуть слышно крякнула утка, где-то совсем неподалеку звенела колокольчиком пасшаяся у ручья корова. Он увидел на головой Большую Медведицу, ярко горел Сириус, в беспредельной вышине раскинулся Млечный Путь. «Что такое жизнь? — спрашивал себя Юджин. — Что такое человеческое тело? Откуда эти пароксизмы страсти? Мы томимся лихорадкой желания, а потом сгораем, и жизнь кончена». В голове его рождались обрывки стихов и вставали видения, которые так и просились на бумагу. И все время перед его мысленным взором, как на экране кинематографа, проносился образ Анджелы, какой он видел ее недавно, когда прижимал к себе и когда она стояла перед ним на коленях. Сегодня он заглянул ей в душу. Он держал ее в своих объятиях. Он по доброй воле отказался от наслаждения, которое она могла ему дать. Что бы там ни было, он не совершил зла. Он и впредь не совершит его.
Глава 19
Трудно сказать, в какую сторону изменилось отношение Юджина к Анджеле под влиянием этой памятной ночи, если оно вообще сколько-нибудь изменилось. Он, пожалуй, проникся к ней еще более глубокой симпатией, обнаружив в ней то, что было для него естественным человеческим чувством. Его умиляло и ее откровенное признание в своей слабости, в своей неспособности защитить себя, и то, что он нашел в себе силу поступить великодушно. Он знал теперь, что может обладать ею, когда захочет, но, успокоившись, принял решение оставаться великодушным до конца и не настаивать. Он может подождать. Что же касается Анджелы, то когда она пришла в себя и добралась до своей комнаты в противоположном конце дома, которую делила с Мариеттой, ее душевное состояние заслуживало сожаления. Она так привыкла думать о себе как о достойной, целомудренной девушке. В характере Анджелы была некоторая доля пуританского ханжества; это могло привести ее к невеселому существованию старой девы, если бы на ее пути не появился Юджин, не признававший никаких условностей и старозаветных взглядов, или не понимавший их, или относившийся к ним с полным безразличием, — Юджин, чуждый соображений материального благополучия, не задумывавшийся над разницей в возрасте. Этот человек овладел всеми ее помыслами, он отдал ей свою любовь. Он явился для нее глашатаем взглядов, чуждых ее миру, и сам стал для нее непререкаемым законом. Он не был похож на других мужчин, это ей было ясно. Он стоял выше. Возможно, что он, как художник, и неспособен будет много зарабатывать, зато он может дать ей нечто более заманчивое. Слава, прекрасные картины, интересные знакомства — разве все это не важнее, чем деньги? Анджела не была избалована большими достатками, и сколько бы Юджин ни зарабатывал, ей бы хватило. По его мнению, брак требовал много денег, она же ради Юджина готова была на любые трудности. Сцена в гостиной, развенчавшая Анджелу в собственных глазах, не только поставила под сомнение ее несокрушимую добродетель, но и заставила ее трепетать за любовь Юджина. Будет ли он так же предан ей теперь, после того, как она разрешила ему ласки, позволительные лишь на брачном ложе? Не сочтет ли он ее легкомысленным, порочным созданием, дожидающимся лишь удобного случая, чтобы уступить? Она сознавала, что утратила в ту минуту всякое представление о том, что хорошо и что дурно. Она позабыла и отца, с его строгими принципами, и мать, с ее понятиями о порядочности и добродетели, и своих братьев и сестер, чистых душою и не тревоживших себя сложными вопросами. Теперь она запятнана; хотя ничего непоправимого не произошло, она все же чувствовала себя опозоренной. Воспитанная в полном подчинении условностям, она терзалась угрызениями совести, и сердце ее разрывалось от горя. Анджела вышла за дверь, опустилась на влажную от предрассветной росы траву и задумалась. Было прохладно, всюду царил покой, но только не в ее душе. Стиснув лицо руками и чувствуя, как горят щеки, она спрашивала себя, что думает о ней Юджин? Что сказали бы отец и мать? При одной мысли об этом она в отчаянии заломила руки. Наконец она вернулась в дом, в надежде уснуть. Нельзя сказать, чтобы Анджела не ощущала радости и красоты пережитого ею эпизода. Но мысль о том, что, по ее убеждению, ей надлежало чувствовать, и о том, как все это отразится на ее будущем, не давала ей покоя. Удержать Юджина после того, что случилось, казалось ей очень сложным делом. Сможет ли она смотреть на него по-прежнему с гордо поднятой головой? Сможет ли и дальше сдерживать его порывы? Под влиянием этих мыслей Анджела провела почти бессонную ночь. А наутро она встала расстроенная и бледная, но более влюбленная, чем когда-либо. Этот чудесный юноша открыл ей совершенно новый мир, исполненный яркого драматизма. Перед завтраком они встретились на лужайке. На Анджеле было белое полотняное платье, она выглядела прозрачно-бледной и хрупкой, и глаза ее, обведенные темными кругами, показывали, какие тяжелые мысли тревожат ее. Юджин ласково взял ее за руку. — Полно себя мучить, — сказал он. — Я все знаю. Тебе не из-за чего терзаться. И он нежно улыбнулся ей. — Ах, Юджин, я перестаю себя понимать, — скорбным голосом сказала она. — Я думала, что я выше этого. — Никто из нас не выше этого, — просто ответил он. — Мы иногда только воображаем себя выше. Для меня ты все такая же. Напрасно ты себя упрекаешь. — Правда? — обрадованно спросила она. — Разумеется, — ответил он. — В любви нет ничего постыдного. Наоборот, в ней все прекрасно. Почему я должен думать о тебе хуже, чем раньше? — Потому что порядочные девушки так не поступают. При моем воспитании я должна была бы понимать, что хорошо, а что дурно, и так и вести себя. — Все это предрассудки, которые внушены тебе воспитанием. Ты думаешь, что это нехорошо. Но почему? Только потому, что так сказали тебе отец и мать. Разве не правда? — Нет, не только потому. Все считают, что это нехорошо. Библия учит нас этому. Всякий отвернется от меня, как только узнает, какая я. — Постой, постой, — сказал Юджин. Вступая с нею в спор, он, в сущности, пытался разрешить то, что было загадкой и для него самого. — Оставим в покое Библию, так как я в Библию не верю, — во всяком случае не считаю ее законом для человеческого поведения. Но ведь если даже все считают что-либо дурным, это еще не значит, что оно действительно дурно. Не правда ли? Он отказывался признать понятие «все» верным отражением управляющих миром принципов. — Конечно, — протянула Анджела с сомнением в голосе. — Послушай, — продолжал Юджин, — в Турции Магомета считают святым пророком. Но разве отсюда следует, что это действительно так? — Нет. — Вот видишь! Точно так же нет ничего дурного в том, что было вчера вечером, хотя бы все здесь в доме и считали это дурным. Не правда ли? — Да, пожалуй, — растерянно ответила Анджела. Она говорила наугад. Ей трудно было с ним спорить. Его доводы были слишком тонки и казались неопровержимыми, а между тем внутренний голос подсказывал ей совсем другое. — Ведь ты, собственно говоря, думаешь о том, как отнесутся к тебе люди. Ты говоришь, что они отвернутся от тебя. Но это уже вопрос практический. Твой отец, возможно, выгнал бы тебя из дому… — Я думаю, что он именно так и поступил бы, — ответила Анджела, не понимавшая, какое у ее отца большое сердце. — А я думаю, что нет, — сказал Юджин. — Впрочем, это никакого отношения к делу не имеет. Ни один мужчина, возможно, не захочет на тебе жениться, но это опять-таки вопрос чисто практический. И ты едва ли станешь утверждать, что это может служить мерилом того, что хорошо и что дурно, не так ли? Рассуждения Юджина ни к чему не вели. Он и сам не больше кого-либо другого знал, что здесь хорошо, а что дурно. Он говорил скорее для того, чтобы убедить самого себя, но вместе с тем достаточно логично, чтобы посеять смятение в душе Анджелы. — Я, право, не знаю, — неуверенно сказала она. — По мнению людей, хорошо то, — продолжал он наставительно, — что согласуется с истиной. Но кто же знает, что такое истина? Никто тебе этого не скажет. Ты можешь действовать разумно или неразумно лишь с точки зрения твоего личного благополучия. Если именно это тебя мучает, — а я знаю, что это так, — могу тебя заверить, что ничего дурного с тобой не случилось и ничто не угрожает твоему благополучию. Я бы сказал даже, что наоборот, так как теперь я еще больше люблю тебя. Анджела дивилась тонкости его рассуждений. Она далеко не была уверена в том, что он не прав. Значит, ее страхи были неосновательны? Ведь она и так впустую растратила свои лучшие годы. — Как ты можешь так говорить? — возразила она в ответ на его уверения, что теперь он любит ее еще больше. — Очень просто, — ответил он. — Я ближе узнал тебя. Меня восхищает твоя прямота. Ты прелесть, никто с тобой не сравнится. Ты прекрасна вся. И он пустился в подробности. — Перестань, Юджин, — взмолилась она, прикладывая палец к губам. Кровь снова отхлынула от ее лица. — Пожалуйста, не надо. — Хорошо, не буду, — сказал он. — Но, право же, ты прелесть. Хочешь, посидим в гамаке. — Нет, я пойду приготовлю завтрак. Тебе пора что-нибудь поесть. Он сполна наслаждался своими привилегиями гостя, так как в доме почти никого не было — Джотем, Сэмюэл, Бенджамен и Дэвид ушли в поле. Миссис Блю была занята шитьем, а Мариетта отправилась куда-то по соседству проведать подругу. Анджела — как в свое время Руби — стала хлопотать, готовя завтрак для Юджина. Она замесила тесто для бисквитов, поджарила свиной грудинки и начистила целую корзинку свежесобранной ежевики. — Мне нравится твой молодой человек, — сказала ей мать, входя в кухню. — Он выглядит добрым малым. Но смотри, не испорти его. Если начнешь слишком баловать, потом пожалеешь. — А ты разве не баловала папу? — спросила Анджела, подумав о том внимании, каким был окружен в семье ее отец. — Твой отец человек долга, — ответила миссис Блю. — Его не грех и побаловать. Этим его не испортишь. — Может быть, и Юджин такой же, — сказала дочь, переворачивая на сковородке ломтики грудинки. Мать улыбнулась. Все ее дочери были счастливы в браке. Возможно, что брак Анджелы окажется даже самым удачным. Ее жених, вне всякого сомнения, на голову выше всех остальных ее зятьев. Все же она нашла нужным заметить, что осторожность не мешает. Анджела задумалась. Если бы только мать знала! Или отец! Бог ты мой! Но Юджин такой милый. Ей хотелось прислуживать ему, баловать его. Если бы она могла быть с ним вечно и никогда больше не разлучаться! «Только бы он женился на мне!» — вздохнула она. Это было самое высшее счастье, какого она могла ждать в жизни. Юджин, кажется, век не расстался бы с этим гостеприимным домом. Он видел, что старый Джотем охотно беседует с ним. Старик живо интересовался вопросами внутренней и внешней политики, знал понаслышке о многих выдающихся, интересных людях и, по-видимому, был в курсе мировых событий. У Юджина создалось впечатление, что и сам он человек исключительный, но старый Джотем с добродушной усмешкой отмахнулся от подобного мнения. — Я простой фермер, — сказал он. — Самым большим делом своей жизни я считаю то, что я воспитал хороших детей. Из мальчиков, я знаю, выйдут дельные люди. Юджину впервые стало понятно, что значит быть отцом и продолжать жить в своих детях, но он не стал задумываться над этим. Он был слишком молод, слишком жизнерадостен, слишком жадно стремился к разнообразию в жизни, а потому истинный смысл этого чувства еще ускользал от него. Но вот наступило воскресенье, и нужно было уезжать. Юджин пробыл на ферме девять дней — на два дня больше, чем предполагал. А теперь ему предстояло проститься с Анджелой, которая стала ему так близка и слушалась его, как ребенок. Прощай, идиллическая жизнь на лоне природы!Когда-то еще увидит он такого почтенного патриарха, как Джотем Блю, чистого душою, доброго, умного — этого землепашца, стоящего во весь рост на своем кукурузном поле, гордого тем, что он хороший отец, не стыдящегося бедности, не боящегося ни старости, ни смерти? Юджин чувствовал, как обогатилась его душа. Словно он посидел у ног мудрого пророка. Прощайте, великолепные поля, голубые холмы, тенистая аллея густых вязов и белые, красные и синие цветы вокруг дома. Как сладко спалось ему в его опрятной комнатке! С какою радостью прислушивался он к голосам птиц — лесной горлинки и сладкогласного дрозда! Он слышал неумолчное журчанье ручья, бежавшего по своему каменистому ложу. Свиньи, коровы, лошади — как все это было ему по душе! Ему вспоминалась «Элегия» Грея, «Покинутое селение» и «Путник» Гольдсмита. Как напоминал этот уголок места, воспетые поэтами. Когда наступило время отъезда и Юджин шел с Анджелой через лужайку, он, не переставая, твердил ей, как ему больно покидать ее. Дэвид запряг гнедую кобылку и дожидался их в конце аллеи. — Радость моя, — со вздохом сказал Юджин, — я до тех пор не узнаю счастья, пока ты не станешь моей. — Я буду ждать, — вздохнула Анджела, хотя в действительности ей хотелось крикнуть: «О, возьми, возьми меня с собой!» Когда он уехал, она машинально вернулась к своим обязанностям, чувствуя, что все утратило для нее свою радость, свой блеск. Без яркого воображения Юджина, обладавшего способностью озарять все вокруг, жизнь стала казаться ей тусклой. А Юджин ехал по дороге и мысленно прощался с каждой пядью этой прекрасной земли — с пшеничным полем и живописным ручейком, с озером Оукуни и с идиллическим домиком семейства Блю. Он говорил себе: «Никогда в жизни я не узнаю ничего более прекрасного. Анджела в моих объятиях в этой маленькой простенькой гостиной! Боже мой! Ведь человек живет всего каких-нибудь семьдесят лет и из них не более десяти или пятнадцати бывает по-настоящему молод».Глава 20
Юджин увез в душе не только значительно окрепшее чувство к Анджеле, что объяснялось их несколько изменившимися отношениями, но и растущее чувство уважения к ее семье. Какая внушительная фигура старый Джотем, как добра и прямодушна его жена! Юджин думал об их безукоризненном отношении к детям и друг к другу, о почетном положении, которое по праву принадлежит им в обществе. Другого наблюдателя могла бы оттолкнуть ограниченность и мизерность их существования. Но Юджин и сам был слишком мало знаком с роскошью, чтобы относиться с презрением к невзыскательной простоте такой жизни. Он нашел здесь прелесть самобытности, поэзию юности, ее честолюбивых устремлений и счастливых надежд. Сыновья Блю, стойкие и независимые, несомненно займут в жизни то место, какое они себе наметили. Мариетта, эта очаровательная девушка, удачно выйдет замуж. Сэмюэл уже и теперь быстро продвигается по службе в железнодорожной компании. Бенджамен готовится стать юристом, а Дэвида собираются послать в Вест-Пойнт[41]. Эти люди нравились ему своим естественным благородством. И все они обращались с ним, как с человеком, который со временем станет мужем Анджелы. К концу пребывания в их доме он так сроднился с семьей, словно знал ее всю жизнь. Прежде чем вернуться в Нью-Йорк, Юджин побывал в Чикаго, где повидался с Хау и Мэтьюзом, продолжавшими корпеть на старой службе, и заехал на несколько дней в Александрию. Отец его был все так же погружен в свои дела. Он по-прежнему сам доставлял клиентам швейные машины, и его тележка бодро колесила по бесконечным проселкам, как и в ранние дни его карьеры. На этот раз Юджин не без сожаления подумал о том, как бесплодно отец прожил свою жизнь, но он не мог не восхищаться его терпением и трудолюбием. А на юркого агента по продаже швейных машин немалое впечатление произвели успехи сына, и он добросовестно старался проявить интерес к искусству. Как-то вечером, когда они вместе возвращались домой с почты, мистер Витла обратил внимание сына на какую-то уличную сценку и посоветовал зарисовать ее. Юджин подумал, что эта новоявленная любовь отца к живописи всецело вызвана его успехами. Отец, конечно, и раньше все это наблюдал, но считал пустяками, не заслуживающими внимания, пока не увидел рисунков сына, напечатанных в столичных журналах. — Если тебя интересуют деревенские виды, ты мог бы нарисовать мельницу Кука, ту, что около водопада. Это одно из самых красивых мест, какие мне встречались, — сказал он как-то вечером сыну, стараясь показать, какое внимание он проявляет к его работе. Юджин знал этот уголок. Он действительно был красив: живописная речка, катившая свои прозрачные воды у подножья отвесной сорокафутовой скалы из красного песчаника, падала здесь с высоты пятнадцати футов на серые мшистые камни. Место это находилось у самой дороги, на которой царило большое оживление, и было со всех сторон защищено густыми деревьями. Юджин еще в детстве восхищался этим чудесным тихим уголком. — Да, там очень живописно, — ответил он. — Надо будет как-нибудь заглянуть туда. Витла-старший почувствовал прилив гордости. Его сын оказывал ему честь, прислушиваясь к его советам. На миссис Витла, как и на ее муже, начинал уже сказываться налет времени. Морщинки в уголках ее глаз стали глубже, резче обозначились складки на лбу. В первый вечер, увидев Юджина, она затрепетала: перед нею был возмужавший, вполне независимый человек. Жизненный опыт закалил ее сына, придал ему спокойствие и выдержку, говорившие о зрелости. Не стало мальчика, который еще недавно нуждался в ее внимании и уходе. Перед нею был мужчина, который сам мог бы ею руководить и который даже слегка подшучивал над нею, как взрослый над ребенком. — Ты так вырос, что я просто не узнаю тебя, — сказала она, когда он ее обнял. — Нет, мамочка, это ты становишься маленькой. Мне казалось раньше, что я никогда не вырасту настолько, чтобы ты не могла взять меня за плечи и потрясти. Но теперь это время ушло, правда? — Да тебя и наказывать-то было не за что, — нежно сказала мать. Миртл год тому назад вышла замуж за Фрэнка Бэнгса и уехала с мужем в городок Оттамву, в штате Айова, где Бэнгс получил место управляющего заводом, так что Юджину не удалось ее повидать. Зато он повидался с Сильвией, теперь матерью двух детей. Ее муж был все тем же старательным, консервативным чиновником, каким Юджин помнил его. Вновь посетив редакцию «Морнинг Эппил», Юджин узнал, что Джон Саммерс недавно умер. В остальном там ничего не изменилось. Всеми делами по-прежнему ведали Джонас Лайл и Калеб Уильямс. Юджин был рад, когда настало время уезжать, и с чувством большого облегчения сел в поезд, увозивший его в Чикаго. И опять, как по приезде из Нью-Йорка и по возвращении из Блэквуда, в нем болезненно заговорили воспоминания о Руби. Он был многим ей обязан. Его первые впечатления в области искусства были в какой-то мере связаны с нею. Все же у него не было желания навестить ее. Впрочем, может быть, и было? Он задавал себе этот вопрос с грустью, так как продолжал любить ее, как любят героиню пьесы или романа. Что-то трагическое было в судьбе этой девушки. Ее жизнь, ее среда, ее преданная любовь — все это составляло как бы законченную новеллу. Когда-нибудь, думал Юджин, он напишет о ней стихи. Ему случалось писать неплохие стихи, хоть он никому их не показывал. Он писал очень просто, но с чувством и получалось у него очень наглядно. Недостаток его стихов заключался в том, что в них не было еще того благородства, какое придают поэзии отстоявшиеся и отточенные мысли. Юджин не пошел навестить свою бывшую подругу. Он уверял себя в свое оправдание, что это было бы бестактно. Она, конечно, и не захотела бы сейчас его видеть. Возможно, она старается забыть его. К тому же у него есть обязанности перед Анджелой, это было бы нечестно по отношению к ней. Тем не менее, когда поезд, выйдя из пределов Чикаго, устремился на восток, он долго смотрел в ту сторону, где жила Руби, думая о том, как хорошо было бы снова пережить те памятные мгновения. В Нью-Йорке жизнь, казалось, сулила Юджину повторение прошлого года, лишь с незначительными изменениями. Осенью он поселился вместе с Мак-Хью и Смайтом. Их студия состояла из большой мастерской и трех спален. Они решили, что хорошо уживутся вместе, и, как нечто временное, такое сожительство пошло им на пользу. Критика, которой они подвергали друг друга, содействовала их развитию, а кроме того, им было приятно вместе обедать, вместе гулять, вместе посещать выставки. Они много и плодотворно спорили, так как у каждого была на все своя точка зрения. Это напоминало Юджину его совместную работу с Мэтьюзом и Хау. Зимою рисунки Юджина впервые появились в «Харперс мэгэзин» — одном из самых крупных периодических изданий того времени. Юджин отнес в этот журнал несколько своих старых рисунков: они понравились, и ему обещали работу, как только подвернется подходящий рассказ. И действительно, в скором времени Юджин получил приглашение зайти в редакцию, где ему было поручено сделать три рисунка за сто двадцать пять долларов. Он писал с натурщиц, прекрасно справился с работой, и в журнале она понравилась. Товарищи поздравляли его — они искренне восхищались его талантом. Он принял твердое решение «покорить», как тогда выражались, журналы «Скрибнерс» и «Сенчури», и по прошествии некоторого времени ему удалось получить у них заказы, хотя и мелкие. В одном случае ему поручили проиллюстрировать стихотворение, в другом — небольшой рассказ, нисколько не подходивший к его манере. Эта работа не принесла Юджину удовлетворения, он чувствовал, что ни то, ни другое нельзя назвать удачей. Ему хотелось либо получить для иллюстрирования подходящий материал, либо поместить в этих журналах одну из своих уличных сценок. Не легко было создать себе прочную репутацию и обеспечить постоянный заработок. Правда, о Юджине уже заговорили художники, но все же он не мог считать себя сколько-нибудь значительной величиной в глазах публики или заведующих художественными редакциями. Он по-прежнему оставался подающим надежды начинающим художником. Он рос, но до признания было еще далеко. Только один издатель склонен был оценить его по заслугам, но он располагал очень небольшими средствами. Это был Ричард Уилер, редактор «Крэфт», журнала совершенно безнадежного с коммерческой точки зрения, но горячо откликавшегося на все вопросы искусства. Уилер был еще молодой человек, энтузиаст, и, так как он восторгался работами Юджина, они быстро сдружились. Этой зимою Уилер познакомил Юджина с Мириэм Финч и Кристиной Чэннинг — двумя женщинами, совершенно различными как по темпераменту, так и по призванию, и каждая из них открыла перед ним совершенно особый мир. Мириэм Финч была скульптором по профессии, а по темпераменту принадлежала к тем натурам, у которых рассудок перевешивает чувство. Сама неспособная к сильным переживаниям, она тем более ценила их у других. Весь облик ее говорил о том, как много в женщине иной раз таится жизненных сил. Она не знала настоящей молодости, у нее не было ни одного настоящего романа, но она не переставала предаваться романтическим грезам, с почти безнадежной страстностью веря в их осуществление. Как-то вечером Уилер предложил Юджину отправиться к ней в студию; ему хотелось знать, какое впечатление она произведет на его юного друга. Мириэм, которой к моменту этого знакомства минуло уже тридцать два года, была миниатюрная женщина с гибким, как у кошки, телом и выразительными карими глазами. Ее изысканная речь и манеры сразу обличали в ней артистическую натуру. В эту пору в ней не оставалось уже и тени той нежной, расцветающей красоты, которая составляет очарование восемнадцати лет, но она была по-своему интересна и обаятельна. Волосы пушистым облачком обрамляли ее лицо, в быстром взгляде карих глаз сквозили живой ум, отзывчивость и доброта. Ее губы имели очертания лука Купидона, и улыбка их была пленительна. Желтоватый цвет ее лица гармонировал с каштановыми волосами и платьем из светло-коричневого бархата. Мириэм одевалась с благородной простотой, выделявшей ее среди других. Она мало считалась с модой, но все ее туалеты были ей удивительно к лицу; можно сказать, что, заказывая платья, она видела в себе как бы некое художественное целое, гармонически сочетающее индивидуальные запросы с требованиями, которые предъявляет окружающий мир. Для такой натуры, как Юджин, всякое человеческое существо, наделенное умом и тонким вкусом, тактом и душевным равновесием, обладало неизъяснимым очарованием. Он тянулся к одаренным людям, как цветок тянется к свету. Он находил радость в созерцании законченности и совершенства такого существа. Независимость взглядов и убеждений покоряла его. Умение точно формулировать свои мысли и приходить к определенным убедительным выводам было в его глазах великим и завидным преимуществом. От таких людей он с радостью брал все, что мог, пока не насыщался, а затем отворачивался от них. И только когда у него снова просыпалась потребность в том, что они могли дать ему, он снова готов был вернуться к ним, — но не раньше. До сих пор все его знакомые подобного рода были мужчинами, — он не знал ни одной сколько-нибудь выдающейся женщины. Начиная с Темпла Бойла и Винсента Бирса, преподавателей класса живой натуры и класса иллюстрации в Чикагском институте искусств, он встретил на своем жизненном пути Джерри Мэтьюза, Митчела Голдфарба, Питера Мак-Хью, Дэвида Смайта и Джотема Блю — и все эти люди с яркой индивидуальностью и ясными взглядами произвели на него сильное впечатление. Теперь ему впервые предстояло встретиться с сильными, незаурядными женщинами. Стелла Эплтон, Маргарет Дафф, Руби Кенни и Анджела Блю были по-своему прелестны, но они не умели мыслить самостоятельно. Ни одна из них не была устоявшейся личностью, способной к самовоспитанию и самоконтролю, как Мириэм Финч. Последняя, не задумываясь, признала бы себя стоящей выше любой из них или всех их вместе взятых — с точки зрения ума, вкуса и таланта, хотя оценила бы по достоинству их красоту и признала бы за ними их законное и необходимое место в обществе. Она изучала жизнь и любила критически анализировать человеческие чувства, но в то же время страстно тосковала именно по тому, чем обладали и Стелла, и Маргарет, и Руби, и даже Анджела, завидуя их молодости, красоте, привлекательности, магнетическому очарованию их лица и фигуры, способному вызвать в возлюбленном пылкую страсть. Ей хотелось быть любимой горячо и красиво, но она была лишена этого счастья. Мисс Финч жила в одной квартире со своими родными, на восточном конце Двадцать шестой улицы; ее студия была расположена на третьем этаже и выходила окнами на север. Однако жизнь в лоне семьи не препятствовала развитию ее утонченной индивидуальности, открывшей Юджину как бы новый мир. В ее комнате, отделанной в серебристых, коричневых и серых тонах, в одном углу стоял огромный канделябр, вышиною не менее пяти футов, а в другом — великолепный резной ларь старинной фламандской работы. На письменном столе с книжными полками темного орехового дерева теснились прелюбопытные издания — «Марий эпикуреец» Пейтера, «Жены художников» Доде, «История моего сердца» Ричарда Джефриса, «Aes Triplex»[42] Стивенсона, «Касида» Ричарда Бертона, «Дом жизни» Россетти, «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше. Достаточно было Юджину окинуть взглядом комнату и ее хозяйку, как ему стало ясно, что самое присутствие здесь этих книг должно говорить за себя. Он с большим интересом вертел их в руках, прочитывая наугад отдельные абзацы, рассматривал картины на стенках, заглянул во все уголки мастерской, запечатлевая в памяти ее достопримечательности. Он понимал, что это чрезвычайно важное для него знакомство, и, чтобы закрепить его, старался произвести на хозяйку этой чудесной студии как можно лучшее впечатление. Мириэм Финч с первого же взгляда заинтересовалась Юджином. В нем угадывалось столько силы, любознательности и умения понимать и ценить, что она не могла остаться к нему равнодушной. Что-то заставило ее мысленно сравнивать его с зажженной лампой, отбрасывающей ровный ласковый свет. Не успев познакомиться с хозяйкой студии, Юджин стал бродить по комнате, рассматривая картины, бронзовые и терракотовые фигурки, расспрашивая, чье это, кто рисовал, кто сделал. — Ни об одной из этих книг я даже не слыхал, — откровенно признался он, просмотрев ее небольшую, тщательно подобранную библиотечку. — Тут есть замечательные вещи, — сказала она, подходя к нему. Ей нравилось его простодушное признание, — словно потянуло свежим ветерком. Ричард Уилер, приведший Юджина, нимало не обижался на то, что о нем забыли. Он хотел, чтобы Мириэм Финч полностью насладилась его «находкой». — Знаете, — сказал Юджин, отрываясь от «Касиды» Бертона и глядя в карие глаза Мириэм, — у меня от Нью-Йорка голова идет кругом. Это такой замечательный город. — Что вы имеете в виду? — спросила она. — А то, что в нем столько всевозможных чудес. Я на днях видел лавку, где полным-полно всяких старинных украшений, драгоценностей, невиданных камней и одеяний. И, бог ты мой, чего там только нет! Такого количества вещей я не видел за всю свою жизнь. Да взять хотя бы этот непритязательный с виду дом в тихом переулке — и вдруг такая комната! Снаружи как будто ничего особенного, а внутри — прямо дух захватывает, столько роскоши, такие произведения искусства! — Вы говорите об этой комнате? — спросила она. — Ну, конечно, — ответил он. — Прошу вас заметить, мистер Уилер, — сказала Мириэм, обращаясь к своему молодому другу-редактору, — в первый раз в жизни меня обвиняют в том, что я купаюсь в роскоши. Поэтому, когда будете писать обо мне, не забудьте упомянуть об окружающей меня роскоши. Мне это нравится! — Непременно, я так и сделаю. — Обязательно. И о произведениях искусства тоже. — Разумеется, и о произведениях искусства тоже, — сказал Уилер. Юджин улыбнулся. Ему нравилась живость Мириэм. — Я знаю, что вы хотите сказать, — заметила она. — Я испытывала то же в Париже. Заходишь в маленький домишко, самый обыкновенный с виду, и наталкиваешься на изумительные вещи — груды прелестных нарядов, всякая старина, драгоценности. Где это я читала такую статью? — Надеюсь, не в «Крэфт?» — сказал Уилер. — Нет, не думаю. Кажется, в «Харперс базар». — Какая гадость! — воскликнул Уилер. — «Харперс базар», — нашли что читать! — Но ведь это как раз ваша тема. Почему бы вам не написать об этом в своем журнале? — Обязательно напишу, — пообещал он. Юджин подошел к роялю, стал перебирать кипу нот. И опять наткнулся на незнакомые ему и, очевидно, выдающиеся вещи — «Арабский танец» Грига, «Es war ein Traum»[43] Лассена, «Элегия» Массне, «Нимфы и пастушки» Перселя, — вещи, самые названия которых говорили о чем-то ярком и красивом. Глюк, Сгамбатти, Россини, Чайковский, итальянец Скарлатти… Юджину стало ясно, как мало он знает музыку. — Сыграйте что-нибудь, — попросил он, и Мириэм с улыбкой подошла к роялю. — Вы знаете романс «Es war ein Traum»? — спросила она. — Нет, — сказал он. — Очаровательная вещь, — сказал Уилер. — Спойте! Юджин и раньше предполагал, что Мириэм поет, но это богатство красок в ее голосе было для него неожиданностью. Голос был не сильный, но приятный и теплый, и его вполне хватило для тех вещей, которые она бралась петь. Она подбирала для себя музыку так же, как туалеты, — сообразуясь со своей индивидуальностью. Лирические, исполненные поэзии интонации спетого ею романса произвели на Юджина огромное впечатление. Он был в восторге. — Вы прекрасно поете! — воскликнул он, придвигая свой стул к самому роялю и глядя ей в глаза. Она поблагодарила его быстрой улыбкой. — Если вы будете и дальше говорить мне комплименты, я готова петь для вас, сколько хотите. — Я ужасно люблю музыку, — сказал он. — Ничего в ней не понимаю, но вот такие вещи мне особенно нравятся. — Вам нравится то, что действительно хорошо. Мне это понятно. Я и сама все это люблю. Он был польщен и благодарен ей. Она спела «Соловья», «Элегию», «Последнюю весну» — все незнакомые Юджину вещи, но он понимал, что это музыка, которая свидетельствует об изощренном понимании, изысканном вкусе и подлинно артистическом темпераменте. И Руби играла на рояле, и Анджела — последняя даже очень недурно, но он был убежден, что ни та, ни другая понятия не имели об этих вещах. Руби наигрывала популярные песенки, Анджела же предпочитала избитые мелодии, красивые, но слишком уж приевшиеся. А этой женщине не было дела до вкусов широкой публики — она далеко опередила их. Юджину захотелось доставить удовольствие своей новой знакомой, обворожить ее. Он придвинулся поближе и, улыбаясь, смотрел на нее, а она отвечала на его улыбку. Как и многим другим, ей нравились его лицо, рот, глаза, волосы. «Какой он милый», — подумала она, проводив Юджина. А он ушел от нее с ощущением, что это выдающаяся, исключительная женщина.Глава 21
Хотя Мириэм, по-видимому, нисколько не считалась со своей семьей, последняя оказала на ее жизнь немалое влияние. Родители ее были типичными представителями Среднего Запада, у которых права и требования такой изысканной натуры, как их дочь, не находили ни сочувствия, ни понимания. С тех пор как Мириэм еще шестнадцатилетней девочкой обнаружила склонность к искусству, родители стали ревниво оберегать ее от тлетворного, как они считали, влияния артистической среды. Когда из Огайо она переехала в Нью-Йорк, мать последовала за нею и, пока девушка училась в художественной школе, была при ней неотлучно и повсюду сопровождала ее. Затем, решив, что для Мириэм полезно побывать за границей, она отправилась туда вместе с нею. Вся жизнь молодой художницы протекала под самым пристальным наблюдением. Мать была с нею, когда она жила в Париже в Латинском квартале, мать не отходила от нее, когда она осматривала художественные галереи и дворцы Рима. И на развалинах Помпеи и Геркуланума, и в Лондоне, и в Берлине — повсюду ее сопровождала мать, маленькая сорокапятилетняя женщина с железной волей. Она была убеждена, будто знает точно, что именно необходимо для ее дочери, и ей до некоторой степени удавалось внушить это и Мириэм, пока у той постепенно не появились собственные взгляды и вкусы. И тогда между матерью и дочерью начались трения. В душе девушки родилась смутная догадка, сменившаяся затем ясным сознанием, что ее жизнь зажата в тиски. Ее постоянно предостерегали от общения с тем или иным человеком, ей рисовали опасности, какие сулит молодому, неопытному существу жизнь беспечной богемы. О браке с каким-либо заурядным художником ей нельзя было даже и думать. Лепка с натуры, особенно с обнаженных натурщиков, первое время приводила ее мать в ужас. Она настояла на том, чтобы присутствовать на этих сеансах, и дочь считала, что иначе и быть не может. Но, наконец, вечный контроль матери, ее взгляды, ее интеллектуальное давление стали раздражать дочь, и тогда между ними произошел открытый разрыв. Это была одна из тех размолвок между отцами и детьми, которые могут стать настоящей трагедией для консервативных родителей. И сердце миссис Финч было разбито. К сожалению, для самой Мириэм разрыв произошел с большим опозданием; лучшая пора ее жизни уже миновала. Из-за неусыпного надзора матери она упустила свою молодость, как раз то время, когда ей следовало бы пользоваться полной свободой. Она утратила любовь нескольких почитателей, которые добивались ее руки, когда ей было восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет, но не выдержали критики ее взыскательной мамаши. А в двадцать восемь лет, когда произошел разрыв, самый восхитительный период для любви миновал, и Мириэм стала ощущать неудовлетворенность и тоскливое разочарование. Тогда-то она и настояла на полной и коренной перестройке своей личной жизни. Через посредство комиссионеров ей удалось получить заказы на копии с некоторых наиболее удачных ее работ. Публике нравилась ее статуэтка «Танцовщица», изображавшая Карменситу, прославленную балерину того времени, в одном из ее наиболее эффектных танцев, и комиссионер продал восемнадцать статуэток по сто семьдесят пять долларов. На долю Мириэм пришлось по сто долларов с каждой. Другая статуэтка — бронзовая, вышиной не более шести дюймов, под названием «Сон» — была распродана в количестве двадцати экземпляров по сто пятьдесят долларов каждый, и на нее находились все новые покупатели. Был спрос и на статуэтку «Ветер», изображавшую фигуру съежившегося от холода человека. Все это давало Мириэм надежду зарабатывать от трех до четырех тысяч в год. Тогда Мириэм потребовала от матери, чтобы ей было предоставлено право иметь свою студию, уходить и приходить, когда вздумается, принимать у себя своих знакомых, и женщин и мужчин, и занимать их так, как ей нравится. Она воспротивилась контролю в какой бы то ни было форме, заранее отвергла чье бы то ни было право обсуждать ее действия и категорически заявила, что будет жить по-своему, не отдавая никому отчета. Осуществляя все это, завоевывая себе свободу, она с горечью думала о том, что ее лучшая пора ушла безвозвратно, что у нее не хватило ни ума, ни силы воли отстоять себя тогда, когда это было ей всего нужнее. А теперь ей уже и поздно и трудно меняться. Но ничего не поделаешь! Кое-что из всего этого Юджин угадал уже при первом знакомстве с Мириэм. Ему открылось все своеобразие ее темперамента и взглядов и то, что можно было бы назвать ее обманутыми надеждами в области чувства. Она жадно тянулась к жизни; Юджин находил это странным, — так щедро, казалось, она была взыскана судьбой; потом, когда они стали большими друзьями, он заставил ее разговориться, и многое стало ему ясно. Прошло три месяца, — это было еще до его знакомства с Кристиной Чэннинг, — и между Юджином и мисс Финч установились самые чистые, самые здоровые отношения, какие только могли у него быть с женщиной. У Юджина вошло в привычку раз, а то и два в неделю заходить к Мириэм. Он начал понимать ее жизненные устремления, которые носили отвлеченно-эстетический характер и были, в сущности, далеки от всякой чувственности. Ее идеал возлюбленного отчасти определился под влиянием греческой поэзии и скульптуры — Адонис, Персей — и тех юношей средневековья, которых изображали на своих полотнах Милле, Берн-Джонс, Данте Габриель Россетти и Форд Мэдокс Браун. Она мечтала о юноше прекрасно сложенном, с классическими чертами лица; он должен быть умным, мужественным и утонченным. Это был трудно достижимый идеал, в особенности для женщины, перешагнувшей за тридцать лет, но почему не помечтать? Несмотря на то, что Мириэм по возможности окружала себя талантливой молодежью — молодыми людьми и девушками, — она еще не встретила предмета своих мечтаний. Не раз ей казалось, что она нашла его, но вскоре приходилось сознаваться, что надежды ее снова потерпели крушение. Все молодые люди, которых она знала, склонны были влюбляться в женщин моложе себя, часто в тех интересных девушек, с которыми она сама их знакомила. Не легко видеть, как твой идеал отворачивается от тебя, своего духовного двойника, увлеченный плотским очарованием, которое столь быстротечно. Но именно так складывалась ее судьба, и порой Мириэм была готова поддаться отчаянию. К тому времени, как она встретилась с Юджином, она уже почти убедила себя, что ей не суждено узнать любовь, и теперь не обольщалась надеждой, что он влюбится в нее. И все же он завладел ее воображением, и она порой мечтательно любовалась его интересным лицом и фигурой. Она говорила себе, что если этот человек кого-либо полюбит, то любовь его будет яркой и прекрасной. Чем ближе они узнавали друг друга, тем больше старалась Мириэм выказывать молодому художнику свое расположение. Двери ее студии всегда были открыты для него. Мириэм была хорошо осведомлена по части выставок, знаменитостей, всяких движений в религии, искусстве, науке, политике и литературе. Она проявляла интерес к социализму и верила в необходимость восстановления справедливости на земле. Юджину казалось, что он разделяет ее взгляды, но жизнь интересовала его больше как зрелище, и он сознавал, что уделяет мало внимания этим вопросам. Она посещала с ним выставки, знакомила его с разными людьми, гордясь тем, что находится в обществе такого одаренного юноши. Ей доставляло удовольствие видеть, как его всюду охотно принимают. Юджин на всех производил самое выгодное впечатление, а в особенности на начинающих писателей, поэтов и музыкантов. Он был весел и остроумен, быстро осваивался в любом обществе и чувствовал себя со всеми легко и непринужденно. Он старался быть объективным и справедливым в своих суждениях, но по молодости о многом судил пристрастно. Он ценил дружбу Мириэм, но не стремился придать их отношениям более интимный характер. Юджин знал, что добиться ее любви можно только честным предложением руки и сердца, а для этого он недостаточно любил ее. К тому же он чувствовал себя связанным с Анджелой, да и возраст Мириэм, как ни странно, казался ему препятствием к браку. Юджин бесконечно восхищался Мириэм, дружба с нею помогла ему создать себе идеал женщины, но он был не настолько увлечен, чтобы домогаться ее любви. Зато в Кристине Чэннинг, с которой он вскоре познакомился, он нашел не только женщину с более пылким темпераментом и словно созданную для любви, но и не менее яркую артистическую натуру. Кристина Чэннинг была певицей. Она жила в Нью-Йорке с матерью, но последняя не подавляла самостоятельности своей дочери, как миссис Финч, хотя Кристина еще не вышла из того возраста, когда мать может и должна оказывать на дочь известное влияние. Кристине было двадцать семь лет, она не достигла еще славы, которая впоследствии выпала на ее долю, но была полна той веры в свои силы, которая рано или поздно ведет к успеху. Пока что она усердно училась то у одного, то у другого преподавателя и уже имела на своем счету несколько романов. Правда, ни один из них не был достаточно серьезным, чтобы отвлечь ее от избранной карьеры, но она накопила изрядный жизненный опыт, не избежав обычной участи всех неискушенных дебютанток, постепенно узнающих, как устроен мир и что нужно делать для достижения успеха. Артистическое дарование мисс Чэннинг не нашло своего выражения в создании такой утонченной атмосферы, какою окружила себя мисс Финч, но оно немало способствовало росту ее личного обаяния. В ее голосе, богатом и сочном контральто, была выразительность и глубина, сообщавшие задушевность даже самым задорным песенкам ее репертуара. Она была недурной музыкантшей и аккомпанировала себе с большим чувством и огнем. Будучи солисткой Нью-йоркского симфонического оркестра, она, однако, пользовалась правом получать ангажементы на стороне. Она готовилась ближайшей осенью гастролировать по Германии, надеясь заключить контракт с какой-нибудь придворной оперой и тем самым проложить себе путь к успеху в Нью-Йорке. Кристину уже хорошо знали в музыкальных кругах и признавали, что она достойна петь на оперной сцене, так что ее будущий успех был скорее делом удачи, а не ее заслуг. Несмотря на то, что Юджин был очарован обеими женщинами, на его любви к Анджеле это нисколько не отражалось. Он сознавал, что в отношении одаренности и интеллектуального развития она уступает им, зато сердцем она богаче. Ее письма были проникнуты пылкой нежностью, а в ее присутствии он незаметно подпадал под действие ее взволнованных чувств и сам испытывал невольное волнение. Что-то похожее на боль сопровождало каждое воспоминание о ней и вызывало в его представлении образы Сафо и Маргариты Готье. Порою у Юджина мелькала мысль, что, если он покинет Анджелу, это может оказаться для нее роковым. Он, правда, был далек от вероломства, но иногда задумывался над тем, какая пропасть отделяет ее от такой интеллектуалки, как Мириэм Финч. Среди его знакомых были теперь и женщины из общества — женщины, которых он до сих пор знал лишь по газетам да еще по модным журналам типа «Таун топикс» или «Вог», — и все они были по-своему совершенны. Но это были женщины совсем иного — так сказать, третьего типа. Он смутно понимал теперь, что мир необъятен и сложен и что ему предстоит еще узнать о женщинах много такого, о чем он раньше и не догадывался. В чем Кристина Чэннинг могла соперничать с Анджелой — это во внешности. Она была высокого роста и прекрасно сложена; здоровый румянец, сочные губы и густая копна иссиня-черных волос оттеняли ее смуглое лицо. У нее были выразительные, лучистые карие глаза. Юджин познакомился с нею через Шотмейера, которого один из его бостонских друзей снабдил рекомендательным письмом к Кристине. Тот, в свою очередь, рассказал ей о своем друге, выдающемся молодом художнике, и попросил разрешения как-нибудь привести его с собой. Мисс Чэннинг дала согласие, так как она видела несколько этюдов Юджина и уловила в них какую-то близкую ей поэтическую нотку. Шотмейер, гордившийся своими выдающимися знакомыми, — которые, в сущности, только терпели его занимательную болтовню, — расхвалил Юджину голос мисс Чэннинг и спросил его, не хочет ли он как-нибудь вечерком заглянуть к ней. «С большим удовольствием», — сказал Юджин. Был назначен день, и они отправились вместе. Мисс Чэннинг занимала несколько комнат в одном из лучших пансионов на Девятнадцатой улице. Она приняла их, одетая в гладкое черное бархатное платье, отделанное красным. Это напомнило Юджину платье, в котором он впервые увидел Руби. Красота молодой певицы поразила его. Что же касается Кристины, то она, как не раз потом слышал от нее Юджин, почувствовала какое-то странное, неизъяснимое волнение. — Когда я в тот вечер причесывалась, я хотела повязать темно-синюю ленту, которую как раз купила, — рассказывала она. — И вдруг подумала: «Нет, я ему больше понравлюсь в красной». Не правда ли, странно? Просто у меня было предчувствие, что ты меня полюбишь и что мы должны будем ближе узнать друг друга. Этот молодой человек — как его? забыла — описал мне тебя очень точно. Это признание она сделала много месяцев спустя после их знакомства. Юджин предстал перед ней с тем независимым и горделивым видом, какой он приобрел с тех пор, как его жизнь в Нью-Йорке стала входить в более широкое русло. К знакомству с талантливыми людьми, особенно женщинами, он относился серьезно. Он держался очень прямо, ходил размашистой походкой и испытующе смотрел на собеседника, как бы заглядывая ему в душу. Он быстро составлял себе мнение о людях и умел угадывать в них талант. Взглянув на мисс Чэннинг, Юджин почувствовал, как по всему его телу прошел трепет. Здороваясь, она протянула ему белую, гибкую руку. Они поговорили о своем заочном знакомстве. Юджин выразил свое восхищение той областью искусства, которой она себя посвятила «Музыка стоит гораздо выше», — сказал он, когда она заговорила о его собственном призвании. Темно-карие глаза Кристины оглядывали его с ног до головы. «Он чем-то напоминает свои этюды, — подумала она, — на него так же приятно смотреть». Она представила его матери. Они сели, и сразу завязался разговор, потом мисс Чэннинг спела «Che faro senza Euridica»[44]. У Юджина было ощущение, что она поет для него. Щеки у нее разрумянились, губы стали еще ярче. — Ты сегодня удивительно в голосе, Кристина, — заметила ее мать, когда она кончила. — Я прекрасно себя чувствую, — ответила та. — Изумительный голос! — воскликнул Юджин. — Он словно огромный красный мак или большая желтая орхидея. Кристина оценила это сравнение. Оно показалось ей очень верным. Нечто подобное ощущала и она, когда пела. — Пожалуйста, спойте «Кто Сильвия?», — попросил он немного погодя. И она очень охотно исполнила его просьбу. — Это написано для вас, — тихо сказал он, приблизившись к самому роялю, когда она кончила петь. — Для меня вы — Сильвия. Горячий румянец разлился по ее лицу. — Спасибо, — сказала она, кивнув головой, но глаза ее говорили красноречивее слов. Она приветствовала его смелость и давала ему почувствовать это.Глава 22
Главным источником огорчений для Юджина, в особенности с тех пор как в его жизнь вошли эти две женщины, был слишком маленький заработок. И эти огорчения все росли. В первый год ему удалось заработать около тысячи двухсот долларов, во второй — около двух тысяч, а в этом, третьем, году его заработок был, пожалуй, даже еще больше. Но по сравнению с тем, что он видел вокруг себя, по сравнению с той жизнью, с которой он начал знакомиться, это было ничто. Нью-Йорк являл собой зрелище такого материального преуспеяния, о каком он и не подозревал. Богатые выезды на Пятой авеню, обеды в дорогих ресторанах, светские балы, о которых ежедневно писали газеты, — все это кружило ему голову. Его тянуло на улицы наблюдать за нарядной толпой, а замечая господствующую повсюду роскошь и изысканность, он все больше приходил к заключению, что сам не живет, а прозябает. Давно ли искусство казалось ему дорогой не только к славе, но и к богатству? Теперь, по мере того как он изучал окружающий мир, выходило, что это совсем не так. Художники никогда не бывают особенно богаты. Он вспомнил, что читал в повести Бальзака «Кузина Бетта» про выдающегося художника, до которого снизошла богатая семья парижан, выдав за него дочь, и все считали, что девушка сделала плохую партию. Еще недавно он не поверил бы этому, такими недосягаемыми существами представлялись ему служители искусства. Но теперь он все больше убеждался в том, что французский писатель очень верно изобразил отношение к художникам со стороны так называемого света. В Америке были художники, которые пользовались большой популярностью, некоторые из них — по мнению Юджина, совершенно незаслуженно — зарабатывали от десяти до пятнадцати тысяч долларов в год. На какую же ступень социальной лестницы, спрашивал себя Юджин, это ставило их в том мире подлинной роскоши, где заправляли пресловутые «четыреста семейств» — эти обладатели высокого положения и несметных богатств? Он читал в газетах, что на одни только туалеты для молодой особы, начинающей выезжать в свет, требуется от пятнадцати до двадцати пяти тысяч долларов в год. Он знал, что есть люди, которым ничего не стоит заплатить пятнадцать — двадцать долларов за обед в ресторане. По сравнению с теми деньгами, которые выбрасывались на портных и модисток, по сравнению с драгоценностями и нарядами, какие можно было видеть в театрах, жалкий доход художника казался совершенной безделицей. Мисс Финч постоянно рассказывала ему о той выставке роскоши и богатства, какую она наблюдала в домах своих друзей, — благодаря свойственному ей такту она приобрела много знакомых в высшем обществе. Мисс Чэннинг, когда они ближе сошлись с Юджином, то и дело упоминала о прославленных певцах или музыкантах, получавших тысячу долларов за выступление, об огромном жаловании, которое выплачивалось оперным знаменитостям. И, вспоминая свой собственный ничтожный доход, Юджин снова чувствовал себя жалким нищим, совсем как в первые дни своего пребывания в Чикаго. Оказывается, что искусство, если не считать славы, ничего не дает. Оно не обеспечивает настоящей жизни. Оно ведет лишь к своего рода духовному расцвету, который все готовы признать, что не мешает, однако, даже гению оставаться бедным, больным, голодным и жалким. Разве не таким был Верлен, недавно умерший в Париже? Умозаключения Юджина отчасти объяснялись тем, что все это происходило в начале «золотого века» роскоши, который переживал Нью-Йорк, и он везде и всюду сталкивался с нею. За предшествующие пятьдесят лет многие люди накопили огромные состояния, и теперь в Нью-Йорке были тысячи жителей, «стоивших» от миллиона до пятидесяти, а то и до сотен миллионов долларов. Город — главным образом на острове Манхэттен, за Пятьдесят девятой улицей — зарастал домами, словно сорной травой. В разных частях так называемого «района белых огней»[45] воздвигались огромные отели. То было время первой организованной попытки капитала удовлетворить вновь возникшую потребность — появились современные роскошные восьми-, десяти— и двенадцатиэтажные жилые дома, предназначенные для огромного числа новоявленных капиталистов, представителей недавно разбогатевшей средней буржуазии, которые со всех концов страны устремлялись в Нью-Йорк. На Западе, на Юге и Севере люди наживали огромные состояния. И едва у них появлялось достаточно средств, чтобы прожить остаток дней в довольстве и роскоши, как они переезжали на Восток, занимали дорогие квартиры, наводняли гигантские отели и роскошные рестораны, сообщая городу атмосферу расточительства. Все отрасли, служившие нуждам богатства и роскоши, достигли необычайного расцвета — антикварные лавки, магазины, где вы могли приобрести ковры, портьеры, мебель и безделушки, картины, драгоценности, фарфор и хрусталь — все, все, что только способствовало комфорту и блеску. Бродя по городу, Юджин все это видел; он ощущал происходившие вокруг него перемены, улавливал эту неуклонную тенденцию к росту населения, к росту роскоши, к росту красоты. Все его помыслы были заняты лишь одним: жить нужно теперь, пока он молод и полон энергии, пока все его увлекает. Скоро это утратит для него всякий смысл — ведь только семь десятков лет отпущено человеку, и из них у него ушло уже двадцать пять. Что, если ему так и не суждено узнать роскошь, что, если высшее общество окажется для него недоступным, если он никогда не получит возможности жить так, как живут богачи? Эта мысль причиняла ему боль. Он испытывал бешеное желание вырвать у мира деньги и славу. Жизнь должна отдать ему его долю, в противном случае он будет проклинать ее до конца своих дней. Таковы были ощущения Юджина на двадцать шестом году жизни. И все это особенно обострилось под влиянием дружбы с Кристиной Чэннинг. Она была немногим старше его, обладала таким же, как у него, темпераментом, лелеяла те же надежды и стремления и не хуже разбиралась в ходе вещей. Нью-Йорку предстояло увидеть золотой век роскоши. Он уже вступал в него. И те, кто достиг вершин на каком-либо поприще, — особенно в музыке или сценическом искусстве, — могли, по-видимому, рассчитывать на участие в одном из наиболее ярких зрелищ богатства, какие только известны человечеству. Кристина Чэннинг разделяла эти надежды. Она была уверена, что получит свою долю, а после нескольких бесед с Юджином склонна была верить, что и он может рассчитывать на это. Он был такой блестящий и умный. — Вы какой-то особенный, — сказала она ему, когда он во второй раз пришел к ней. — В вас столько силы. Мне кажется, вы можете добиться всего, чего захотите. — Ну нет, — возразил он. — Вовсе я не такой ужасный. Поверьте, мне с таким же трудом, как и всем, дается то, чего я хочу. — Но вы все-таки добиваетесь своего. У вас есть цель. Понадобилось немного времени, чтобы эти двое пришли к полному взаимопониманию. Они рассказывали друг другу о себе — вначале, конечно, с известной сдержанностью. Кристина посвятила Юджина в историю своей музыкальной карьеры, начавшейся в Хагерстауне в штате Мэриленд, а он вспоминал дни своей ранней юности в Александрии. Они говорили о своих родителях и о том весьма различном влиянии, которое те оказали на них. Он узнал, что отец ее — владелец устричных промыслов, и, со своей стороны, признался, что его отец — агент по продаже швейных машин. Они беседовали о влиянии маленького городка на развитие личности, о своих ранних иллюзиях и начинаниях. Кристина пела в методистской церкви родного городка, собиралась одно время стать модисткой, потом попала к учителю музыки, который чуть не уговорил ее выйти за него замуж. Но тут что-то случилось — не то она уехала на лето, не то что-то другое, — и она передумала. Один раз Юджин возил ее в оперу, еще как-то ужинал с нею в ресторане, потом опять нанес ей визит и в это третье посещение, проведя в ее обществе тихий вечер, осмелился наконец взять ее за руку. Кристина стояла у рояля, и он смотрел на ее лицо, на большие глаза, в которых дрожал вопрос, на нежную, красиво округленную шею и подбородок. — Я вам нравлюсь, — сказал он вдруг, безотносительно к чему-либо, если не считать сильного взаимного влечения, которое оба испытывали друг к другу. Она, ни минуты не колеблясь, утвердительно кивнула, хотя яркая волна краски залила ее лицо и шею. — Вы мне кажетесь такой прекрасной, что словами этого не выразишь, — продолжал он. — Я могу только написать ваш портрет, или же вы — передать это в пении, — слова тут бессильны. Я не раз бывал влюблен, но в таких, как вы, — никогда. — Разве вы влюблены в меня? — простодушно спросила она. — А разве нет? — сказал Юджин, обнимая ее и привлекая к себе. Она отвернула голову, и ее порозовевшая щека оказалась у его губ. Он поцеловал сперва ее щеку, потом губы, шею. Приподняв ее подбородок, он заглянул ей в глаза. — Осторожнее, — сказала она, — мама может войти. — Да провались она, — рассмеялся он. — Как бы вам самому не провалиться, если она сейчас зайдет. Она ведь и не подозревает, что я способна на такие вещи. — Это доказывает только, как мало мама знает свою Кристину, — сказал он. — Достаточно знает, — рассмеялась та. — Ах, если бы сейчас быть в горах! — В каких горах? — полюбопытствовал он. — В Голубых. У нас там дача в Флоризеле. Вы должны приехать летом, когда мы так будем. — И мама тоже там будет? — спросил он. — Да, и папа, — смеясь, ответила Кристина. — И, надо полагать, кузина Энн? — Нет, но братец Джордж будет. — В таком случае бог с ней, с дачей, — сказал Юджин. — Но я прекрасно знаю окрестности. Там чудесные дороги и тропинки для прогулок. Она произнесла это с наивным намеком, и ее выразительное, умное лицо засветилось. — Тогда дело другое, — с улыбкой сказал он. — Но пока что… — А пока что вам придется подождать. Вы видите, каково положение, — и она кивком указала на соседнюю комнату, где лежала с легкой головной болью миссис Чэннинг, — мама не слишком часто оставляет меня одну. Юджин не мог понять Кристину. Он еще не встречал такой девушки. Ее прямота наряду с несомненной одаренностью поражала его. Он не ожидал этого, не думал, что она признается ему в любви, не знал, как понимать ее слова насчет Флоризеля. Он чувствовал себя польщенным, он вырос в собственных глазах. Если такая красивая, талантливая женщина, как Кристина, могла признаться ему в любви, значит, он человек незаурядный. Она мечтает о более удобной обстановке… для чего? Юджин не хотел слишком ускорять события, да и Кристина не стремилась к этому — она предпочитала оставаться для него загадкой. Но в ее взгляде он читал любовь и восхищение и был счастлив и горд этим, не желая пока ничего другого. Кристина была права — для поцелуев пока было мало возможностей. Мать не спускала с нее глаз. Кристина пригласила Юджина послушать ее концерты в Филармонии. И вот сначала в огромном концертном зале отеля «Уолдорф-Астория», затем в великолепной аудитории Карнеги-холл и в третий раз в прекрасном помещении общества «Арион» он с восторгом видел, как она — такая прекрасная — быстрой походкой приближалась к рампе и останавливалась перед ожидающим ее оркестром и публикой, держась уверенно и даже несколько надменно. Когда огромный зал рукоплескал, Юджин наслаждался воспоминаниями: «Вчера вечером она обвила мою шею руками. Сегодня, когда я приду к ней и мы останемся одни, она меня поцелует. Эта прелестная и необыкновенная девушка, которая раскланивается и улыбается там, на эстраде, любит меня и никого другого. Если бы я предложил ей, она вышла бы за меня замуж, — если бы я мог это сделать, если бы у меня были средства». «Если бы я мог…» Эта мысль, как ножом, резнула Юджина, так как он знал, что не может. Он не мог предложить ей стать его женой. Да и не захочет она его, если он скажет ей, как мало зарабатывает. А впрочем, как знать?Глава 23
По мере того как весна близилась к концу, в Юджине все больше крепла мысль не ехать снова к Анджеле, а отправиться в горы, куда-нибудь неподалеку от дачи Кристины. Под действием напряженной, волнующей жизни столицы образ Анджелы несколько потускнел в его душе. Воспоминания о ней оставались все такими же восхитительными, — они по-прежнему были исполнены красоты, — но понемногу Юджином начали овладевать сомнения. Блестящее нью-йоркское общество состоит из людей иного типа; Анджела прелестна и мила, но будет ли она здесь на своем месте? Тем временем Мириэм Финч — этот утонченный эклектик — продолжала воспитывать Юджина. Она вполне могла бы заменить ему школу. Он сидел у нее и слушал ее рассказы о той или иной пьесе, ее суждения о той или иной книге, ее мнение по тому или иному модному философскому вопросу и чувствовал, что растет не по дням, а по часам. Она знала множество людей и всегда могла сказать, куда следует пойти, чтобы увидеть то, что его интересовало. Не было ни одной выдающейся личности — оратора, которого стоило бы послушать, или нового актера, — о которой у нее не было бы самых исчерпывающих сведений. — А знаете, Юджин, — восклицала она, увидев его, — вам непременно нужно пойти посмотреть Хейдена Бойда в пьесе «Клеймо»! Или: — Вам следует посмотреть Эльмину Деминг в ее новых танцах. Или: — Не забудьте взглянуть на картины Уинслоу Хомера — они выставлены у Нэдлера. И мисс Финч самым подробным образом объясняла ему, почему она хочет, чтобы он видел то или иное, и что, по ее мнению, это может ему дать. Она не скрывала, что считает его гением, и всегда требовала, чтобы он рассказывал ей, над чем работает. Когда в печати появлялась какая-нибудь удачная его работа, она спешила высказать ему свою похвалу. У Юджина нередко бывало такое чувство, словно он владеет и ее комнатой и ею самой, словно ему принадлежит все, что у нее есть, — ее мысли, ее друзья, ее переживания. Все это было полностью к его услугам, сидел ли он у ее ног или шел куда-нибудь вместе с нею. С наступлением весны она с удовольствием стала совершать с ним прогулки, прислушиваясь к тому, что он говорил о природе и жизни. — Замечательно! — восклицала она. — Почему бы вам не написать это? Или: — Почему бы вам не зарисовать это? Он показал ей некоторые свои стихи, и она тотчас переписала их и вклеила в альбом, который называла своим собранием шедевров. Так она не переставала баловать его. С другой стороны, и Кристина доставляла ему не меньше радости. Она не уставала говорить Юджину, какого она высокого мнения о нем, каким интересным его считает. — Вы такой большой, такой умный, — говорила она ему как-то, крепко сжав его руки и ласково заглядывая в глаза. — И мне нравится, как вы причесываетесь. Вы во всех отношениях такой, каким должен быть художник. — Вы изобрели легкий способ испортить меня, — отвечал он. — Позвольте лучше сказать вам, как вы прелестны. Хотите, скажу? — М-м-м, — с улыбкой протянула она, отрицательно качая головой. — Подождите, пока мы очутимся в горах. Там я вам скажу, — и он запечатлел на ее губах такой долгий поцелуй, что девушка чуть не задохнулась. — Боже, какой вы сильный! — воскликнула она. — Вы точно из стали… — А вы как большая алая роза. Поцелуйте меня. Кристина научила его разбираться в музыке и познакомила с именами крупнейших исполнителей. Он приобрел кое-какое понятие о разных ее жанрах — оперном, симфоническом, камерном. Он познакомился с различными формами музыкального творчества, с терминологией, с тайной голосовых связок, с методами вокального обучения. Он узнал, каких интриг полна эта среда, какого мнения крупнейшие музыкальные авторитеты о том или ином композиторе или певце. Он понял, как трудно пробить себе дорогу в оперном мире, какая жестокая идет там борьба, как быстро публика готова отвернуться от заходящей звезды. Кристина ко всему относилась с такой беспечностью, что Юджин готов был полюбить ее за одну эту отвагу. Она была так умна, так добродушна. — Если хочешь быть хорошей певицей, приходится от многого отказываться, — сказала она однажды Юджину. — Нельзя жить обычной жизнью и оставаться верной искусству. — Я не совсем понимаю вас, Крисси, — сказал он, нежно гладя ее руку, так как они были одни. — Очень просто. Нельзя выходить замуж и иметь детей, нельзя играть заметную роль в обществе. Я знаю, что некоторые певицы выходят замуж, но мне кажется, что это ошибка. Большинство артисток, связанных семьей, не слишком преуспевает, насколько мне известно. — И вы что же, не собираетесь выходить замуж? — полюбопытствовал Юджин. — Не знаю, — ответила она, догадываясь, к чему он клонит, — во всяком случае, я бы очень и очень подумала. Да и вообще положение артистки дьявольски трудное. Ей над многим приходится задумываться. — Например? — Ну, скажем, над тем, что скажут о ней люди и семья, и еще над многим. Для нас, служителей сцены, следовало бы изобрести третий пол, вроде как у пчел. Юджин улыбнулся. Он тоже догадывался, к чему она клонит. Но он не мог знать, что Кристина не впервые пытается разрешить конфликт между добродетельной жизнью и стремлением к успеху в искусстве. Она не хотела усложнять браком свою карьеру артистки. Она знала почти наверняка, что успех на оперной сцене — а тем более шансы на блестящий успех за границей — для начинающей певицы в сильной степени зависит от какой-нибудь связи. Некоторым удавалось избежать этого, но лишь немногим. Она не переставала спрашивать себя, должна ли она в угоду господствующей морали оставаться девственницей. По общепринятому мнению, девушки должны блюсти себя для того, чтобы потом выйти замуж, но применимо ли это к ней, к артистическому темпераменту? Ее беспокоила мысль о матери и родных. Она оставалась добродетельной, но молодость и страстная натура были для нее источником многих горьких минут. А тут еще появился Юджин. — Да, это трудный вопрос, — подтвердил он, думая о том, как же она в конце концов поступит. Он чувствовал, что ее взгляды на брак самым непосредственным образом касаются его. Неужели она готова пожертвовать любовью во имя искусства? — Не вопрос, а целая проблема, — сказала она и направилась к роялю, чтобы что-нибудь ему спеть. Под влиянием этого разговора у Юджина создалось впечатление, что Кристина замышляет какой-то очень серьезный шаг. Какой именно — он не решался и подумать, но его крайне интересовало, как она разрешит эту проблему. Ее пренебрежение к условностям поражало Юджина, оно даже его заставило смотреть на вещи шире. Любопытно, думал он, какого мнения была бы его сестра Миртл о девушке, которая подобным образом рассуждает о браке, — в духе, так сказать, «быть или не быть»? И что сказала бы Сильвия? Интересно было бы знать, многие ли девушки так рассуждают? Большинство женщин, которых он знал, было как будто последовательнее его в этих вопросах. Он вспомнил, что спросил однажды Руби, не считает ли она «незаконную любовь» грехом, и в ответ услышал: «Нет. Некоторые считают, что это грех, но вовсе не значит, что и я должна так думать». И вот еще одна девушка, и еще одна теория. Они и после этого говорили о любви, и Юджин спрашивал себя, почему ей хочется, чтобы он летом приехал в Флоризель. Не может быть, чтобы она… Нет, нет, она слишком для этого консервативна. Однако он догадывался, что она не думает о браке с ним, что сейчас она вообще ни за кого не выйдет замуж. Очевидно, ей просто хотелось быть любимой, хотя бы недолго. Наступил май, концертные выступления Кристины кончились, да и уроки пения не связывали ее больше с Нью-Йорком. В течение зимы она то и дело уезжала и приезжала — Питтсбург, Буффало, Чикаго, Сент-Пол, — а сейчас, после года тяжелой работы, вместе с матерью на несколько недель уехала в Хагерстаун, предполагая потом отправиться в Флоризель. «Если бы ты был здесь! — писала она Юджину в начале июня. — Месяц светит к нам в сад, розы в цвету. Какие дивные запахи, какая роса! Некоторые окна открываются вровень с травой, и я пою, пою, пою!» Ему хотелось бросить все и помчаться на ее зов, но он воздержался, так как она сообщала, что через две недели уезжает в горы. У него был заказ на серию рисунков для одного журнала, его очень торопили, и он решил сначала закончить работу. В последних числах июня он отправился в Голубые горы, в южной части штата Пенсильвания, где был расположен Флоризель. Он, собственно, рассчитывал на приглашение Чэннингов, но Кристина предупредила его, что будет безопаснее и удобнее, если он остановится в одном из близлежащих отелей. Их было несколько на склонах прилегающих гор, причем плата колебалась от пяти до десяти долларов в день. Хотя это были для него большие деньги, Юджин все же решил поехать. Ему хотелось увидеть эту удивительную девушку, узнать, чем объяснялось ее желание быть с ним вместе в горах. У него было около восьмисот долларов в сберегательной кассе, и он взял из них триста на поездку. Он захватил с собой для Кристины изящно переплетенный экземпляр Вийона, которого она любила, и несколько томиков новых стихов. Овеянные грустью, они гармонировали с владевшими им в последнее время настроениями, — в них говорилось о тщете жизни, о ее неизбывной скорби, хотя и превозносилась ее совершенная красота. К этому времени Юджин окончательно пришел к заключению, что никакой загробной жизни нет, что нет ничего, кроме слепой и темной силы, бесцельно играющей человеком, — тогда как раньше он безотчетно верил в провидение и задумывался над вопросом, существует ли ад. Книги служили ему проводниками по торным дорогам и извилистым тропинкам логики и философии. За последнее время он много читал и учился мыслить. Он одолел «Основные начала» Спенсера — книгу, которая буквально перевернула все его взгляды и надолго выбила его из привычной колеи. От Спенсера он вернулся назад — к Марку Аврелию, Эпиктету, Спинозе и Шопенгауэру, к мудрецам, которые разнесли в прах все его собственные теории и заставили его задуматься над тем, что же такое жизнь. После чтения таких книг он долго бродил по улицам, размышляя о неисповедимых целях природы, о распаде вещества и о том, что человеческие мысли не более постоянны, чем облака в небе. Философские теории возникают и исчезают, формы правления приходят и уходят, человеческие расы нарождаются и вымирают. Однажды он зашел в Музей естественных наук и увидел гигантские остовы доисторических животных, обитавших на земле, как известно, два, три, пять миллионов лет назад. Юджин с удивлением думал о тех силах, которые вызвали их к жизни лишь для того, чтобы потом с такою безучастностью обречь на вымирание. Природа казалась необычайно расточительной в многообразии своих творений, но вместе с тем абсолютно равнодушной к сохранению их. Юджин приходил к выводу, что и сам он всего лишь пустая раковина, слабый отголосок, гонимый ветром листок, не имеющий в сущности никакого значения, и это сознание причиняло ему в то время невероятные муки, грозя сокрушить его эгоизм, подавить всю его гордость мыслящего существа. Он бродил по городу, ошеломленный, обиженный, расстроенный, словно заблудившийся ребенок, но мысль его продолжала упорно работать. А потом на сцене появились Дарвин, Гексли, Тиндаль, Лэббок, целая плеяда английских мыслителей, которые, подтверждая первоначальные выводы других философов, открыли ему красоту, закономерность, многообразие форм и идей в методах природы, и он был зачарован. Он все еще продолжал читать стихи, а также книги и статьи по естествознанию, но по-прежнему оставался мрачен. Жизнь все так же казалась ему игрой темных, бесцельно мятущихся сил. То, какие выводы он делал из этого для себя, было весьма характерно для него — человека ярко индивидуалистического склада. Мысль, что красота расцветает лишь ненадолго, чтобы затем исчезнуть, вызывала в нем грусть. Мысль, что жизнь длится лишь семьдесят лет, после чего наступает неизбежный конец, приводила его в ужас. Он и Анджела, думал Юджин, лишь случайные знакомые, связанные неким избирательным сродством, и им не суждено больше встретиться в вечности. Он и Кристина, он и Руби, он и кто бы то ни было другой могли провести вместе всего лишь несколько ярких часов, после чего наступало великое безмолвие, распад, конец всему. Эти мысли, с одной стороны, причиняли боль, с другой — вызывали в нем еще более сильное желание изведать жизнь и любовь, пока он жив. Если бы еще можно было всегда находить забвение в объятиях любимой! В таком настроении он добрался до Флоризеля, проведя целую ночь в дороге, и Кристина, которая и сама временами склонна была поразмышлять и пофилософствовать, не могла не заметить этого. Она дожидалась его на станции в собственном изящном маленьком кабриолете, чтобы отправиться вместе на прогулку. Кабриолет катился по мягким, покрытым желтой пылью дорогам. Горная роса еще лежала на земле, и насыщенная влагой пыль не поднималась в воздух. Зеленые ветви деревьев низко нависали над ними, но за каждым поворотом открывались очаровательные виды. Юджин целовал Кристину, так как кругом никого не было, повернув к себе ее лицо и прижимаясь губами к ее губам. — Счастье, что лошадь такая смирная, не то бы дело кончилось несчастным случаем. Но почему ты так мрачен? — спросила она. — Я вовсе не мрачен… А впрочем, возможно… Я в последнее время много думал, и все больше о тебе. — И мысль обо мне вызывает у тебя грусть? — Отчасти да. — А почему, разрешите узнать, сэр? — спросила она с притворной строгостью. — Потому что ты так прекрасна, так очаровательна, а жизнь так коротка. — И у тебя остается всего пятьдесят лет, чтобы любить меня! — расхохоталась она. — О Юджин, какой ты еще мальчик! Подожди-ка минуточку, — добавила она после маленькой паузы и остановила лошадь у придорожных деревьев. — Подержи, — сказала она, передавая ему вожжи, а когда он взял их, она обвила руками его шею и воскликнула: — Глупенький! Я люблю тебя! Люблю! Люблю! Я еще никогда такого, как ты, не встречала. Ну, это тебя немножечко утешит? — закончила она, с улыбкой заглядывая ему в глаза. — Да, — ответил он. — Но не совсем. Семьдесят лет жизни — меня никак не удовлетворяет. Для такой жизни, как сейчас, мало целой вечности. — Да, как сейчас, — взяв из его рук вожжи, словно эхо, повторила она, так как и сама прониклась его чувствами и мечтой о вечной молодости и вечной красоте — обо всем том, что, увы, живет лишь миг и обречено на быстрое увядание.Глава 24
Семнадцать дней провел Юджин в горах в обществе Кристины и за это время дошел до такого восторженного состояния, какого никогда еще не испытывал. Дело в том, что он никогда не встречал женщины, подобной Кристине, такой прекрасной, физически совершенной, с таким проницательным умом и тонкой душой артистки. Она с поразительной быстротою схватывала все, что он хотел выразить. Ее мысли и чувства бесконечно обогащали его. Как и он, она много думала о тайнах жизни, о сложности человеческого организма, о его загадочных функциях, об их сознательных и подсознательных проявлениях и существующей между ними взаимосвязи. Человеческие страсти, желания, потребности были для нее тончайшим узором, в созерцание которого она любила погружаться. У нее не было времени продумать свои мысли до конца, не было желания писать, зато она в своем выразительном пении передавала то прекрасное и возвышенное, что испытывала. И при случае она умела говорить, говорить красиво, с поэтической грустью, хотя в груди ее было столько юной отваги и силы, что ни одна сторона жизни не пугала ее, — не пугало даже и то, что сделает природа с ничтожной горсточкой вещества, из которого она была создана, когда вещество это растворится в пространстве. «Для каждого из нас пробьет последний час», — цитировала она Юджину, и он серьезно кивал головой. Гостиница, где остановился Юджин, блистала такой роскошью, какой он еще не видел. И никогда в жизни не было у него столько денег, и никогда еще он не чувствовал себя призванным так свободно их тратить. Номер, который он занял, был одним из лучших в отеле; при выборе его Юджин руководствовался тем, что подумает Кристина. По ее же совету он несколько раз приглашал ее обедать вместе с матерью и братом (остальные члены ее семьи еще не приехали). В свою очередь, и он получал приглашения на дачу к завтраку и к обеду. Сразу по приезде Юджин понял, что Кристина намерена проводить в его обществе возможно больше времени. С этой целью она предложила подняться на три ближайших горы — Высокую, Смелую и Трубу. Она знала превосходные гостиницы в радиусе семи, десяти, пятнадцати километров, куда можно было поехать поездом или в кабриолете, с тем чтобы потом возвращаться при свете луны. В лесной чаще и рощицах она облюбовала два-три укромных уголка, где среди деревьев были крохотные полянки; здесь они привязывали гамак и, раскидав возле себя томики стихов, наслаждались беседой и поцелуями. Эти прогулки наедине, прекрасные июньские дни, безоблачное небо привели к тому, что Кристина приняла решение, о котором Юджин не смел и мечтать. Они постепенно прошли через все стадии любви. Они много говорили о любви и страсти, с презрением отвергая мысль о том, будто есть что-либо греховное хотя бы и в самой интимной близости между мужчиной и женщиной. И, наконец, Кристина сказала откровенно: — Я не хочу выходить замуж. Брак не для меня, во всяком случае, до тех пор, пока я не добьюсь серьезного успеха. Я предпочитаю подождать, если только можно любить тебя и сохранить свободу. — Почему ты хочешь отдаться мне? — спросил Юджин. — Я не уверена в том, что хочу этого. Я могла бы довольствоваться просто твоей любовью, если бы это тебя удовлетворило. Но я хочу дать тебе счастье. Я хочу дать тебе все, что только могу. — Странная ты девушка, — сказал он, проводя рукой по ее высокому лбу. — Ты для меня загадка, Кристина. Я не могу понять, как ты пришла к такой мысли. Зачем ты решаешься на это? Если что-нибудь случится, ведь пострадаешь ты. — О нет, — улыбнулась она. — Если бы это случилось, я бы вышла за тебя замуж. — Как, решиться на такой шаг просто так, потому, что ты меня любишь, потому, что ты хочешь видеть меня счастливым!.. — Он умолк. — Я и сама этого не понимаю, золотой мой, — сказала она. — Я просто иду на это. — Но почему, если ты готова на это, ты не предпочитаешь поселиться со мной? Вот чего я не пойму. Она сжала его голову в своих ладонях. — Мне кажется, я знаю тебя лучше, чем ты сам. Я не думаю, что ты будешь счастлив, если женишься. Может случиться, что ты разлюбишь меня. Или я разлюблю тебя. Возможно, ты пожалеешь об этом. Если мы познаем счастье сейчас, может быть, потом я уже буду тебе не нужна. И, понимаешь, тогда я не буду терзаться мыслью, что мы так и не узнали счастья. — Что за логика! — воскликнул он. — Ты, вероятно, хочешь сказать, что это я буду не нужен тебе? — О нет! Мне ты будешь нужен, но не так. Как ты не понимаешь, Юджин, ведь, по крайней мере, я буду знать, что дала тебе все, что могла. Юджин был опечален тем, что она способна так рассуждать, приводить такие доводы. Какой странный, жертвенный, фаталистический склад ума! Возможно ли, чтобы так рассуждала молодая, прекрасная, талантливая девушка? Поверит ли этому хоть один человек на свете, если рассказать? Он посмотрел на нее и грустно покачал головой. — Подумать только, что нельзя сохранить навсегда самое лучшее, что есть в жизни, — вздохнул он. — Нет, золотой мой, ты хочешь слишком многого, — ответила она. — И тебе только кажется, что ты хотел бы это сохранить. Нет, ты хочешь, чтобы все прошло. Ты не согласился бы жить со мной всю жизнь, я уверена в этом. Так бери же то, что посылают тебе боги, и ни о чем не жалей. Гони прочь мысли — ведь ты это умеешь. Юджин порывисто привлек ее к себе. Он целовал ее без конца, забыв на ее груди все свои прошлые привязанности. И она отдалась ему охотно и радостно, не переставая повторять, что счастлива. — Если б ты мог видеть со стороны, как мне хорошо с тобой, тебя бы это не удивляло, — говорила она. Он пришел к заключению, что она самое удивительное существо, какое только встречалось на его пути. Ни одна женщина не проявила в любви к нему такой царственной щедрости. Ни одна женщина из всех, кого он знал, не имела столько мужества, чтобы так сознательно, так просто, так прямо идти к своей цели. Когда он слушал, как эта блестящая артистка, девушка такой красоты, спокойно рассуждает о том, пожертвовать ли ей добродетелью ради любви, пригоден ли брак в его обычных формах для служителей искусства, следует ли ей насладиться его любовью сейчас, пока они оба молоды, или же, подчинившись предрассудкам, дать молодости промчаться, — Юджин чувствовал, что в его еще скованной условностями душе все возмущается против этого, ибо вопреки своему стремлению к личной свободе, вопреки сомнениям и моральным софизмам он продолжал питать глубокое уважение к такой семье, какую создали Джотем Блю и его жена, и к тому, что отсюда следует, — к нормальному, здоровому, послушному потомству. Природе, несомненно, стоило больших трудов и усилий довести человека до его теперешнего состояния, и едва ли она так легко отступится от своего. Да и действительно ли необходимо от всего этого отказываться? Захочет ли он, Юджин, увидеть мир, в котором женщина согласна будет принять его на время, как это делала сейчас Кристина, а затем бросить? Это новое переживание заставило Юджина задуматься, оно опрокидывало все его теории и взгляды, оно перемешало все представления о жизни, какие успели у него сложиться. Он ломал голову над сложностью жизни и любви и, сидя на просторной террасе гостиницы, думал и думал без конца о том, каков же все-таки ответ и почему он не может, подобно другим мужчинам, оставаться верным одной женщине и быть счастливым. Он спрашивал себя, действительно ли это так, действительно ли он не может быть таким, как другие. Пожалуй, что и может. Он знал, что еще до сих пор не разобрался в себе и не умеет управлять своей волей и своими желаниями. Эти блаженные дни оставили в нем глубокий след. Он был поражен тем, какого совершенства может достигнуть жизнь в иные редкие минуты. Высокие, безмолвные горы, такие однообразные в своих округлых очертаниях, такие зеленые, такие мирные, давали отдых его душе. Однажды он вместе с Кристиной взобрался на гору, которая с высоты двух тысяч футов господствовала — как мелькнуло в голове Юджина — «над всеми царствами мира»: над огромными пространствами зеленых лугов и шахматной доской полей, над скромными поселками и городами, над холмами, поднимавшимися в отдалении, словно дружные братья. — Посмотри на этого человека там, в палисадничке, — говорила Кристина, показывая на микроскопическое существо, коловшее дрова перед деревенским коттеджем на расстоянии доброй мили от утеса. — Не вижу, — отвечал Юджин. — Смотри туда, на этот красный амбар, сразу за рощицей, неужели не видишь? Вот там, на лугу, где пасутся коровы. — Я не вижу никаких коров. — О Юджин, что у тебя с глазами? — А! Теперь вижу, — сказал он, сжимая ее руку. — Он похож на таракана, не правда ли? — Да, — засмеялась она. — Как обширна земля и как мы ничтожны! Взгляни только на этого крохотного человечка со всеми его надеждами и мечтаниями, со всей сложной машиной его мозга и нервов и скажи мне, может ли какой-то бог всем этим заниматься. Ну скажи, Кристина, как ты думаешь, может? — Конечно, нет, дорогой мой, бог не может заниматься одним таким человечком. Но он, возможно, занят мыслью о человеке вообще и о человеческом роде в целом. Впрочем, я и сама не уверена, золотой мой. Я знаю только одно: сейчас я счастлива. — И я, — словно эхо, отозвался он. Тем не менее разговор на этом не оборвался, и они продолжали все больше и больше углубляться в вопросы о происхождении жизни и о ее цели. Они говорили о невероятной древности земли, о бурях рождений и смертей, бушевавших на земле в разные эпохи. — Не нам решать все эти вопросы, Eugenio mio[46], — рассмеялась она. — Лучше пойдем домой. Моя бедная дорогая мамочка будет беспокоиться за свою Кристину. Знаешь, она, по-моему, начинает подозревать, что я влюблена в тебя. Ей дела нет до того, сколько человек влюбляется в меня, но как только я выказываю кому-либо малейшие знаки предпочтения, она начинает волноваться. — А много было таких случаев предпочтения? — спросил он. — Нет. Но зачем этот вопрос? Не все ли равно? Ну, скажи, Юджин, не все ли тебе равно? Ведь сейчас я люблю тебя. — Не знаю, все равно или нет, — ответил он, — но мне больно, когда я думаю о твоем прошлом. Я не могу тебе сказать почему. Однако это так. Она задумчиво смотрела вдаль. — Как бы то ни было, ни один человек не был со мной так близок, как ты. Разве этого недостаточно? Разве этим не все сказано? — Да, дорогая. Этим все сказано. Да, да, все! Прости меня. Я не буду больше тебя расстраивать. — Не надо, — сказала она. — Ты делаешь больно и мне и себе. Бывали вечера, когда Юджин сидел в гостинице на одной из террас и смотрел, как развешивали между колоннами китайские фонарики, горевшие мягким светом, и шли приготовления к вечерним танцам. Он любил наблюдать, как собирались мужчины и женщины, жившие в этой летней колонии. Девушки в прозрачных белых платьях и белых туфельках, мужчины в белых полотняных и фланелевых костюмах, весело болтая, шли по дороге. Кристина приходила на эти вечера в сопровождении матери и брата, такая очаровательная в белом полотняном или батистовом платье, отделанном кружевами. Юджин с огорчением думал о том, что он так и не постиг в совершенстве искусства танцев. Он умел танцевать, но далеко не так, как брат Кристины или десятки других мужчин, легко скользивших по навощенному полу, и это заставляло его страдать. Временами после прекрасного вечера, проведенного с возлюбленной, он сидел совсем один, грезя о красоте окружающей природы. Звезды были, как бесчисленные алмазные зерна, раскиданные рукою равнодушного сеятеля. В отдалении высились темные горы. Повсюду были тишина и покой. Почему жизнь не может всегда быть такою, думал Юджин, и сам себе отвечал, что со временем это сделалось бы убийственно скучным, как и всякая не подверженная переменам красота. Человеческая душа жаждет движения, а не покоя. Покой — на короткое время после деятельности, а затем снова деятельность… Так и должно быть. Он понимал это. Перед самым его отъездом в Нью-Йорк Кристина сказала ему: — Теперь, когда мы снова встретимся, я буду мисс Чэннинг, а ты — мистер Витла. Мы почти забудем, что были когда-то вместе. Нам будет с трудом вериться, что мы видели то, что мы видели, делали то, что мы делали. — Кристина, ты говоришь, как будто между нами все кончено. Ведь это же не так, правда? — В Нью-Йорке ничего похожего быть не может, — вздохнула она. — У меня нет времени, да и тебе нужно работать. В ее голосе слышалось твердое решение. — Кристина, не говори так, прошу тебя! Я не могу себе этого представить. — Хорошо, не буду, — сказала она. — Посмотрим. Подождем, пока я вернусь. Он раз десять поцеловал ее на прощание и уже на пороге снова крепко прижал к груди. — Ты меня совсем забудешь? — спросил он. — Нет, ты меня забудешь. Но помни одно, дорогой. Ты получил все, правда? Позволь же мне остаться твоей лесною нимфой. Все остальное недостойно нас. Он вернулся к себе в гостиницу. На душе у него было горько: он знал, что они испытали все, что им было суждено испытать. Кристина полностью насладилась проведенным с ним летом. Она целиком отдала ему себя. А теперь она хотела быть свободной, чтобы работать. Он не мог этого понять, но знал, что это так.Глава 25
Грустно возвращаться летом в раскаленный город после чудесных дней в горах. Душою Юджина еще владело безмолвие горных склонов, блеск и журчание быстрых ручьев, он еще видел перед собою ястребов, орлов и коршунов, реющих в хрустальной синеве неба. Он испытывал в первое время тоску, недомогание, чувствовал себя не в силах вернуться к обычной жизни и работе. Время от времени, напоминая о пережитом недавно счастье, приходили письма и коротенькие записки от Кристины. Но он терзался предчувствием конца, тревожившим его еще при расставании. Необходимо было написать Анджеле. Он совершенно не думал о ней за время своей поездки. У него сложилась привычка писать ей не реже чем каждые три-четыре дня, и хотя в последнее время в его письмах уже не было прежней страстности, все же они приходили регулярно. Теперь же, когда он так внезапно замолчал на целых три недели, Анджела испугалась, не заболел ли он, но где-то внутри у нее уже шевелилось подозрение, что в нем происходит какая-то перемена. В письмах он все реже упоминал о тех радостях, которые они пережили вместе, и о счастье, которое их ждет впереди, и все чаще описывал нью-йоркскую жизнь, все больше говорил о своих честолюбивых стремлениях. Анджела готова была многое ему простить, помня о том, что Юджин прилагает все усилия, чтобы добиться успеха и обеспечить средства для их совместной жизни. Но трудно было объяснить трехнедельное молчание, не предположив какой-нибудь серьезной причины. Юджин понимал это. Он пытался оправдаться болезнью, писал, что теперь уже встал с постели и чувствует себя много лучше. Но Анджела сразу уловила в его письмах нотку неискренности и задумалась над тем, что это означает. Уж не поддался ли он соблазну той распутной жизни, какую, говорят, ведут художники? Она мучилась сомнениями и тревогой, так как время уходило, а Юджин все не назначал окончательного срока их уже не раз обсуждавшейся свадьбы. Положение Анджелы было тем более тяжелым, что с Юджином были связаны все ее надежды. Она была пятью годами старше его. Она давно уже утратила ту юность и жизнерадостность, которые свойственны девушке в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет. Краткая пора вслед за этим, когда девушка цветет, точно роза, и дышит свежестью и красками богатой, новой, яркой жизни, тоже осталась для нее позади. Впереди был неизбежный путь вниз, навстречу более будничному, трезвому и суровому существованию. У некоторых женщин это увядание протекает медленно и аромат юности держится годами, так что нет большой нужды в искусстве портнихи, парфюмера и ювелира. У других оно происходит быстро, и никакие средства не в состоянии остановить тех разрушений, которые производит беспокойная, мятущаяся, неудовлетворенная душа. Иногда искусный уход за собой при медленном разрушении может дать женщине почти неувядаемое очарование, особенно когда красоте физической сопутствует красота духовная и когда ко всему этому присоединяются вкус и такт. Годы были милостивы к Анджеле, к тому же ее спасала пылкость воображения и чувств. Но внутреннее горение и тревога уже наложили бы на нее печать стародевичества, если бы не благотворное действие домашней среды и счастливая — или злосчастная — встреча с Юджином в минуту, когда она уже готова была поставить крест на своих мечтах о любви. Она не принадлежала к тому новому типу девушек, которые жаждут войти в широкий мир, чтобы расти, развиваться и найти свой, самостоятельный интерес в жизни. Скорее она принадлежала к тем домовитым женщинам, которые мечтают о муже, требующем заботы и любви. И вот ее дивной, прекрасной мечте о счастье с Юджином угрожало крушение, и Анджела с ужасом думала о том, что ей предстоит и дальше влачить бессмысленное, убийственно-тоскливое существование скупо оплачиваемой учительницы в деревенской глуши. Между тем Юджин, по мере того как лето близилось к концу, приобретал все новые знакомства среди женщин. Мак-Хью и Смайт уехали на лето к родным, и Юджин, пребывавший в полном одиночестве, испытал большое облегчение, когда однажды познакомился в редакции одного журнала с Нормой Уитмор — темноволосой темпераментной и чрезвычайно экспансивной журналисткой и редактором, которая, как и многие до нее, живо им заинтересовалась. Их познакомил заведующий художественным отделом этого журнала Янс Янсен. Поболтав некоторое время с молодым художником, она зазвала его к себе в кабинет. Норма привела его в маленькую комнату, не более шести футов на восемь, где стоял ее стол. Юджин успел заметить, что она худощава, что у нее желтоватый цвет лица, что она одних с ним лет или чуть постарше и чрезвычайно умна. Его внимание привлекли ее руки — тонкие, красивые, свидетельствовавшие об артистической натуре. Ее глаза горели каким-то особенным блеском, а свободно сидевшее платье говорило о большом вкусе. У них завязался разговор о его работе, с которой она была знакома и которой восхищалась, а затем она пригласила его к себе в гости. Он смотрел на Норму бессознательно-оценивающим взглядом. Кристины еще не было в городе, но даже воспоминание о ней мешало Юджину писать Анджеле с прежней страстностью. Все же Анджела по-прежнему представлялась ему очаровательной. Он говорил себе, что надо писать ей регулярно и что в скором времени придется поехать в Блэквуд и жениться на ней. Уже близилось время, когда он в состоянии будет содержать ее и обзавестить собственной студией, если они будут жить скромно. Но в сущности ему вовсе не хотелось жениться. Вот уже три года, как он был знаком с Анджелой. Около полутора лет он не видел ее. За последний год в его письмах все меньше и меньше говорилось об их отношениях и все больше — о чем угодно другом. Ему трудно становилось писать обычные любовные письма. Но он не позволял себе доискиваться причин этого, он остерегался трезво разбираться в своих чувствах — это привело бы его к мучительному заключению, что он не может жениться на Анджеле, и заставило бы так или иначе освободиться от данного ей слова. Этого он не хотел делать. Он тянул, удерживаемый жалостью к ее уходящей молодости, удерживаемый ее любовью к нему, сознанием своей несправедливости — тем, что он отнял у нее столько лет и помешал ей иначе устроить свою судьбу, и, наконец, мыслью о том, как незавидна будет ее участь, если ей придется сообщить родным, что он ее бросил. Юджин страшно не любил обижать людей. Ему тяжело было сознавать, что он кому-то причинил горе, а причинять горе, не сознавая этого, он тоже не мог. Он был слишком мягкосердечен. Он дал Анджеле обещание жениться на ней. Он был связан словом, он подарил ей кольцо и просил ждать его, он грубо обманывал ее, изливаясь в нежности и страсти. И теперь, после трех лет, опозорить ее перед всей ее милой семьей — старым Джотемом, матерью, сестрами и братьями — казалось такой жестокостью, что он не осмеливался и думать об этом. Анджела с ее болезненно-мнительной, страстной и робкой натурой не могла, конечно, не чувствовать надвигающейся катастрофы. Она горячо любила Юджина, и долго сдерживаемое пламя ее страсти в течение стольких лет ждало возможности разгореться, — а такой возможностью мог быть только брак. Однако Юджин своими чарующими манерами и обаянием, силою своей чувственности, вспыхивавшей в нем в известные минуты, и неотразимостью доводов, когда разговор заходил о вопросах пола, внушил ей надежды на столь полное осуществление ее грез, что она уже готова была пожертвовать своей девственностью, забыть о добродетели. Воспоминание о том единственном знаменательном вечере мучило ее. Она говорила себе, что если его любовь сменится полным равнодушием, то лучше было бы тогда уступить ему. Зачем она старалась спасти себя? Возможно, у нее родился бы ребенок, и Юджин остался бы верен ей из сострадания и чувства долга. Она испытала бы это величайшее для женщины блаженство — слияние с любимым. В худшем случае она могла бы умереть. Мысли Анджелы невольно обращались к тихому маленькому озеру неподалеку от их усадьбы, на стеклянной поверхности которого отражалось небо, и она представляла себе, как лежит на его песчаном дне: светлые волосы разметались, и вода шевелит их пряди, глаза закрылись навеки, руки скрещены на груди. Но ее воображение далеко опережало отвагу. Она не способна была бы это сделать, а могла лишь думать об этом, и такие мысли еще усиливали ее горе. По мере того как время шло, а пыл Юджина не оживал, Анджела все больше мучилась неразрешенными сомнениями любви и все серьезнее задумывалась над тем, что предпринять, чтобы вернуть его привязанность. В свое последнее посещение он так стремился обладать ею, что она и сейчас верила в его любовь, пусть даже разлука и бурная столичная жизнь временно затмили воспоминание о ней. Анджеле пришло на ум выражение из той оперетты, которую она смотрела вместе с Юджином. «Разлука — это темная комната, в которой не видно даже любви» — оно очень подходило к данному случаю. Если бы вернуть его, если бы только он снова очутился подле нее, прежний огонь разгорелся бы в нем, и тогда она, может быть, пошла бы на то, чтобы отдаться ему. Смутная мысль о самопожертвовании уже мелькала у нее и тревожила ее сознание. Этому в немалой степени способствовали те испытания, которым она подвергалась у себя дома. Ее сестра Мариетта была окружена поклонниками, которые тянулись к ней,как пчелы к медвяной росе цветка, и Анджела понимала, что на нее они смотрят как на нечто вроде гувернантки, приставленной к младшей сестре. Мать и отец с сожалением поглядывали на Анджелу, огорчаясь при мысли, что такая хорошая девушка страдает, потому что ее не ценят и не понимают. Ей не удавалось скрыть свои чувства; родители видели, что она несчастна, и ей было ясно, что они это видят. Тяжело было говорить сестрам и братьям, которые иногда справлялись о Юджине, что у него все благополучно, — а как бы ей хотелось сказать, что он в самом скором времени приедет за ней. Мариетта сначала завидовала сестре. Ей приходило в голову, что неплохо было бы отбить у нее Юджина, и только мысль о годах Анджелы и о том, что сестра не пользуется большим успехом у мужчин, удерживала ее. Теперь же, когда стало ясно, что Юджин пренебрег Анджелой или, во всяком случае, непозволительно медлит с женитьбой, Мариетта прониклась к ней глубокой жалостью. Однажды — еще задолго до того возраста, когда за девушкой начинают ухаживать, — она заметила Анджеле: «Я буду ласкова с мужчинами. Ты слишком холодна. Ты никогда не выйдешь замуж». Анджела поняла тогда, что дело не в излишней холодности, а в ее инстинктивном предубеждении против типа мужчин, с которыми ей преимущественно приходилось встречаться. Кстати, заурядные мужчины и не увлекались ею. Она не могла заставить себя находить удовольствие в их обществе. Только Юджину удалось зажечь в ней пламя любви, и, однажды познав это чувство, она не могла уже думать ни о ком другом. Мариетта понимала чувства сестры. А теперь, после этих трех лет, Анджела окончательно оттолкнула от себя всех поклонников, в том числе и того, кто оказался всех больше ей предан, — верного Виктора Дина. Единственное, что могло еще спасти ее от опасности полного пренебрежения, была романтическая мечтательность, благодаря которой она сохранила моложавый вид и свежесть чувств. Страшась быть покинутой, Анджела начала намекать Юджину в письмах, что ему следовало бы приехать навестить ее, и выражала надежду, что он не захочет оттягивать и дальше их брак из-за трудностей, связанных с их будущим устройством. Она снова и снова повторяла, что будет счастлива с ним и в бедности, что тоскует по нем. Юджин поневоле задумался над тем, как же ему поступить. Преимуществом Анджелы при создавшихся обстоятельствах было то, что она больше, чем какая-либо другая женщина, привлекала его физически. Что-то в ней сулило ему более сильное, более глубокое, более яркое наслаждение, чем он знавал до сих пор. Ему вспоминались дивные дни, проведенные с нею, и особенно тот памятный вечер, когда она молила его спасти ее от нее самой. Красота благодатного лета, обаяние этой приветливой, дружной семьи, аромат цветов и благостная сень деревьев — все способствовало тому, что ее пленительный образ сохранил в его воображении всю свою свежесть. Мог ли он грубо оборвать этот незавершенный роман, отбросить в сторону этот прелестный цветок? В то время у Юджина не было никакой любовной связи. Мириэм Финч была чересчур консервативна и интеллектуальна. Норма Уитмор не привлекала его с этой стороны. Что же касается других прелестных женщин, с которыми Юджин встречался в том или ином кругу, то ни он не чувствовал к ним влечения, ни они к нему. Он переживал душевное одиночество — состояние, которое всегда обостряло его впечатлительность. И он не мог заставить себя прийти к выводу, что с Анджелой все кончено. Наконец Мариетта, долго наблюдавшая за развитием романа своей старшей сестры, пришла к заключению, что нужно попытаться помочь ей. Анджела, очевидно, затаила в душе горе, которое лишало ее покоя и душевного равновесия. Она была глубоко несчастна, и это очень огорчало ее сестру. Мариетта любила ее всей душой, несмотря на то, что Юджин мог бы стать между ними яблоком раздора, — и однажды ей пришло в голову написать ему по-дружески и рассказать, как обстоит дело. Она считала, что у него доброе и нежное сердце, что он любит Анджелу, что, возможно, Анджела права, и он медлит лишь из желания обзавестить средствами для их совместной жизни. Быть может, если по-настоящему поговорить с ним, он бросит охотиться за призрачным богатством и поймет, что лучше соединиться с Анджелой сейчас, пока они еще молоды, чем ждать, когда оба настолько состарятся, что вся прелесть брака будет утрачена навсегда. Она долго носилась с этой мыслью, твердила себе, что Анджела вполне заслуживает такого счастья, и наконец набравшись смелости, написала письмо, которое и отправила Юджину.«Дорогой Юджин! Вы будете удивлены, получив мое письмо. Только никому про это ни слова, а тем более Анджеле. Юджин, я давно слежу за нею и знаю, что она несчастна. Она без памяти любит Вас. Когда от Вас долго нет писем, Анджела просто места себе не находит, и у нее одна мечта — быть с Вами. Юджин, почему Вы не женитесь на ней? Она такая душечка, такая красавица, и характер у нее чудный. Она не хочет дожидаться хорошо обставленной квартиры и роскоши, — ни одной девушке это не нужно, если она любит так, как, я знаю, Анджела любит Вас. Она хочет быть с Вами сейчас, пока вы оба молоды и можете дать друг другу счастье, а не ждать нарядной квартиры и хороших вещей, которые Вы когда-нибудь сможете ей дать. Юджин, имейте в виду, я ничего не говорила ей, ни полслова, и я знаю, что она ужасно рассердится, если догадается, что я написала Вам. Она никогда не простит мне этого. Но я не могу удержаться, чтобы не написать Вам. Мне тяжело видеть, как она грустит и тоскует, и я уверена, что, узнав об этом, Вы приедете и заберете ее с собой. Только, пожалуйста, ни одним намеком не выдайте меня и не отвечайте на это письмо, разве только уж очень захочется. Но лучше не надо. И разорвите мое письмо. Но только приезжайте за ней поскорее, Юджин, пожалуйста, приезжайте. Анджела так ждет Вас, и она будет Вам прекрасной женой, потому что это чудесная девушка. Мы все ее так любим — и папа, и мама, и все. Надеюсь, Вы простите меня. Я не могла не сделать этого»Письмо не только удивило, но и больно поразило Юджина, — он огорчился и за себя, и за Анджелу, и за Мариетту. В самом деле, какое прискорбное положение! Оно занимало его не только потому, что касалось его самого, но и потому, что в нем вообще было нечто трагическое. Бедная Анджела, с золотистыми волосами и ангельским личиком! Какой стыд, что они до сих пор еще не вместе, когда ей этого хочется, как, до известной степени, хочется и ему. Она прекрасна, в этом нет сомнения! Она нисколько не хуже любой другой хорошенькой женщины, не считая, правда, тех, которые выделяются своим умом и развитием. Зато чувством она богаче и Мириэм Финч, и Кристины Чэннинг. Она только не умеет говорить об этом, вот и вся разница. Она умеет лишь страдать. Юджин представлял себе все многообразие ее душевных мук — отношение родных, с недоумением поглядывающих на нее, смятение, в которое повергают ее эти взгляды, ее собственные терзания, холодное участие знакомых, пытающихся разгадать эту загадку. Бедняжка, в какое мучительное положение он ее поставил. Не лучше ли ему поехать к ней? Она может дать ему счастье. Они будут жить в студии, и со временем все устроится. Или лучше остаться жестоким и не ехать? Ему было трудно примириться с этой мыслью. Так или иначе, но Мариетте он не ответил и, как она просила, разорвал ее письмо на мелкие клочки. «Если бы Анджела знала, — подумал он, — это, конечно, глубоко оскорбило бы ее». Размышления Анджелы тем временем привели ее к выводу, что, пожалуй, разумнее отдаться возлюбленному, если он когда-либо к ней вернется, — он тогда сочтет себя обязанным жениться на ней. Она и вообще-то плохо знала жизнь, а в то время в ее суждениях царила полная путаница. Она не отдавала себе отчета в том, как неразумны подобные уловки. Она любила Юджина, она чувствовала, что он должен принадлежать ей, что лучше умереть, чем лишиться его, и мысль о таком недостойном шаге пришла ей в голову как последнее средство. Если он откажется жениться, ей остается только броситься в озеро — это она твердо решила. Она покинет этот ужасный мир, где лучшие надежды любви осуждены на гибель. Она забудет все свои муки. Если там ее ждут покой и тишина, больше ей ничего не надо. Месяцы шли, близилась весна, и так как Юджин догадывался о настроениях Анджелы по тем патетическим фразам, которые часто повторялись в ее письмах, он постепенно пришел к решению, что должен поехать к ней. Письмо Мариетты не выходило у него из головы. В нем родилось предчувствие неминуемой катастрофы. Он не мог хладнокровно сесть и написать ей, что они никогда больше не увидятся. Слишком свежи были в его памяти впечатления от поездки в Блэквуд — благоухание лета и свежая красота того мира, в котором она жила. В апреле он написал, что приедет в июне, и Анджела была вне себя от радости. Решению Юджина способствовало и то обстоятельство, что Кристина Чэннинг не предполагала в этом году вернуться из Европы. Она несколько раз писала ему в течение зимы, но в чрезвычайно сдержанном тоне. Посторонний человек, прочитав ее письмо, никогда бы не подумал, что между нею и Юджином что-то было. Его письма звучали, конечно, более пылко, но Кристина предпочитала игнорировать его страстные намеки и постепенно внушила Юджину, что ему нечего ждать от нее в будущем. Они останутся добрыми друзьями, но вряд ли будут когда-либо любовниками и, во всяком случае, никогда не будут мужем и женой. Его бесила мысль, что она с таким спокойствием относится к вещам, казавшимся ему чрезвычайно важными. Гордость его была уязвлена тем, что она так равнодушно вычеркнула его из своей жизни. В конце концов он обозлился, и верность Анджелы начала представляться ему в новом свете. Вот девушка, которая не стала бы с ним так обращаться. Она по-настоящему любит его. Это верная, преданная душа. Теперь поездка в Блэквуд стала казаться ему более привлекательной, а к началу июня он уже горел желанием увидеть Анджелу.Любящая Вас Мариетта.
Глава 26
Наступили прекрасные июньские дни, и Юджин во второй раз отправился в Блэквуд. Странное чувство овладело им — он и хотел увидеть Анджелу, и вместе с тем мучился сознанием, что, возможно, совершает ошибку. Мысль о какой-то роковой неизбежности томила его. Или так уж ему суждено жениться на Анджеле? Но это глупо — ведь решение зависит только от него. Он сам решил ехать за нею, — а впрочем, может быть, и нет?.. Юджин готов был допустить, что следует голосу страсти, но, говоря по правде, он и не видел в любви ничего, кроме страсти. Разве не влечение толкает мужчину и женщину в объятия друг друга? Правда, бывает еще и обаяние личности, но основой все-таки остается страсть. Если физическое тяготение достаточно сильно, то разве не довольно этого для союза двух людей? И что, собственно, еще требуется? Это была логика пылкой и неопытной молодости, но на время она устраивала Юджина и успокаивала его. В Анджеле не было того, что влекло его к Мириэм Финч и к Норме Уитмор, не было у нее также чудесного таланта Кристины Чэннинг. И все же он ехал в Блэквуд. За истекшую зиму его интерес к Норме Уитмор усилился. Юджина восхищала широта ее взглядов и утонченность ума. Он мало встречал людей с таким независимым вкусом, который делал бы для них доступным все новое и оригинальное в искусстве. Ее влекло к выразительному реализму в литературе и тому свежему, непосредственному искусству, представителем которого он считал себя. Необычайная чуткость и восприимчивость, которая позволяла ей по достоинству ценить то новое и свежее, что он пытался сделать, служила для него огромным поощрением, не говоря уже о популярности, которую она создавала ему и его исканиям среди своих друзей. Не ограничиваясь этим, Норма пыталась заинтересовать работами Юджина двух знакомых владельцев художественных салонов. Как-то, встретившись с ними, она выразила удивление, что они до сих пор проходят мимо такого крупного и значительного явления, как молодой Витла. — Поймите же, — говорила она Эбергарту Зангу, владельцу крупнейшего художественного салона на Пятой авеню, который давал ей картины для репродукций, — поймите же, это нечто совершенно новое. — Витла, Витла? — отозвался тот со свойственной ему немецкой сдержанностью, потирая подбородок. — Что-то я не встречал его картин. — Конечно, не встречали, — так же настойчиво продолжала Норма. — Я вам и говорю, что это новое явление. Он только недавно приехал. Просмотрите номера журнала «Труф» за последний месяц и в одном из них — не помню, в каком именно, — разыщите этюд «Грили-сквер». Тогда вы поймете, что я хочу сказать. — Витла, Витла? — повторил Занг, стараясь запомнить имя. — Пришлите его ко мне. Я не прочь посмотреть что-нибудь из его вещей. — Пришлю, — обрадованно ответила Норма. Ей очень хотелось направить к нему Юджина, но тот не склонен был выставлять свои вещи, пока их не наберется побольше. Он считал, что может рискнуть вынести на суд публики только значительное количество работ. Между тем его серия нью-йоркских видов еще не была закончена. К тому же он надеялся выставить свои картины в еще более крупном художественном салоне. Отношения между Юджином и Нормой приняли к тому времени такой характер, что их можно было бы назвать отношениями между братом и сестрой, вернее, между двумя приятелями. Бывая у нее, он иногда обнимал ее за талию, без всякого стеснения брал ее руки в свои и ласково похлопывал ее по плечу. С его стороны это было не более, как изъявление дружеской привязанности, в ней же легко могли вспыхнуть чувства совершенно другого порядка, если бы его добродушное, чисто братское поведение не расхолаживало ее. Он никогда не рассказывал ей о других своих приятельницах. И сейчас, направляясь на Запад, Юджин спрашивал себя, как отнесутся к его браку Норма и Мириэм Финч, если предположить, что он действительно женится на Анджеле. Что касается Кристины Чэннинг, то он не хотел, вернее, боялся слишком много о ней думать. От романа с нею у него осталось какое-то ощущение утраченной красоты, чувство, причинявшее боль. Чикаго в июне показался ему малоприятным и по царившей в городе сутолоке и по воспоминаниям, которые невольно нахлынули на него здесь. Институт искусств, здание газеты, где он когда-то работал, улица и дом, где жила Руби. Он задумался о ней, как и в прошлый раз, едва поезд стал приближаться к городу. У него было сильное желание разыскать Руби и повидаться с нею. Он побывал в редакции «Глоб», но Мэтьюза там уже не было. Благодушный веселый Джерри незадолго до этого уехал в Филадельфию по приглашению журнала «Норс-Америкен»; остался один Хау, такой же мелочный и ничтожный, как раньше. Голдфарба, конечно, тоже не было, и Юджин почувствовал себя в этом городе совсем чужим. Он был рад, когда пришло время сесть в поезд, отправлявшийся в Блэквуд, и покинул Чикаго с щемящим сердцем, скорбя о бесследно канувших годах своей юности и размышляя о бессмысленности, загадочности и тщете жизни. «Как грустно, что мы стареем, — думал он. — Все то, что было для меня самой сутью жизни, теперь живет только в моем воспоминании». Дни, предшествовавшие приезду Юджина в Блэквуд, были полны для Анджелы самых бурных переживаний. Теперь ей предстояло узнать, любит ли он ее, как любил когда-то. Она вновь изведает радость его близости, его обаяния и убедится, удастся ли ей удержать его подле себя. Мариетта, узнав, что он приезжает, очень возгордилась ролью, которую сыграло в этом ее письмо, но ее беспокоило, что сестра не сумеет должным образом воспользоваться возможностями, которые открывает ей этот приезд. Ей хотелось, чтоб Анджела выглядела как можно лучше, и она давала ей советы, что надеть, в какие игры играть (со времени последнего приезда Юджина в число развлечений семьи вошли теннис и крокет) и какие совершать с ним прогулки. Она боялась, что у Анджелы не хватит хитрости, чтобы с должным искусством пустить в ход все свои чары: Юджину не миновать ее сетей, пусть только она оденется как следует и покажет себя в наиболее выгодном свете. Сама же Мариетта решила пореже попадаться Юджину на глаза, да и вообще по мере сил стушевываться перед сестрой. Дело в том, что она превратилась в настоящую красавицу и помимо своей воли разбивала сердца мужчин. — Ты помнишь, Ангелочек, мою нитку кораллов, — сказала она Анджеле однажды утром, дней за десять до приезда Юджина, — надень ее с моим суровым полотняным платьем и твоими коричневыми туфельками. Ты будешь прелесть как хороша и понравишься Юджину. Почему бы тебе не взять новую двуколку и не встретить его в Блэквуде? Ты непременно должна встретить его. — Нет, знаешь, Бэбиетт, мне, право, не хочется, — ответила Анджела, боясь первого впечатления, которое она произведет на Юджина. Пусть не думает, что она гоняется за ним. «Бэбиетт» было прозвище, данное Мариетте в детстве и так и сохранившееся за ней. — Какие глупости, Ангелочек, не будь такой отсталой. Я в жизни не видела более застенчивой девушки. Ведь это же сущие предрассудки. Поверь мне, он тебя еще крепче полюбит, если ты проявишь больше смелости. Ну, как, поедешь его встречать? — Нет, нет, — ответила Анджела. — Это не для меня. Пусть сперва приедет, и тогда я как-нибудь вечерком покатаюсь с ним. — Ах, какая ты, Ангелочек! Ну, надень хотя бы к его приезду розовое платье в цветочках, а в волосы вплети зеленые листья. — Полно, Бэбиетт. Ничего подобного я не стану делать. — Нет, станешь! — заявила сестра. — Ну хоть раз меня послушайся. Розовое тебе удивительно к лицу, а с зелеными листьями будет просто чудно. — Я не про платье говорю. Я знаю, что оно очень миленькое. Я говорю про листья. Это новое проявление неуместной скромности окончательно рассердило Мариетту. — Не будь ты дурочкой, Анджела! — воскликнула она. — Ты старше меня, но я знаю мужчин куда лучше, чем ты когда-либо будешь знать. Разве ты не хочешь понравиться ему? Надо быть более решительной. Бог ты мой! Сколько на свете девушек, которые не то еще сделали бы на твоем месте! Она обняла сестру за талию и посмотрела ей в глаза. — Ты сделаешь так, как я говорю, — заявила она, и Анджела поняла, чего Мариетта от нее требует: она должна всеми средствами завлечь Юджина, заставить его окончательно объясниться и назначить точный день свадьбы или же взять ее с собой в Нью-Йорк. У Анджелы с младшей сестрой еще не раз заходил разговор на эту тему, причем в программу развлечений было включено катание по озеру, несколько партий в теннис, на которые Анджела должна была надеть белый костюм и туфли, и танцы (по слухам, знакомый фермер милях в семи от них затевал в своем новом амбаре вечеринку с танцами). Мариетта решила, что Анджела должна показать себя молодой, веселой, предприимчивой, то есть сделать все, чтобы очаровать Юджина. Наконец Юджин приехал. Поезд его прибыл в Блэквуд в полдень. Несмотря на все свои возражения, Анджела все же встретила его, хорошо одетая, держась с большим достоинством, как советовала ей Мариетта. Она надеялась произвести на него впечатление своим независимым видом, но, когда он вышел из вагона и она увидела его дорожный костюм с поясом, серое английское дорожное кепи и модный зеленый кожаный чемодан, сердце ее упало. Перед нею был многоопытный, светский человек. Видно было, что Блэквуд для него глухая провинция, которую он ни во что не ставит. Он знал другой, большой мир. Анджела ждала в своей двуколке в самом конце станционной платформы и, завидев Юджина, замахала ему рукой. Он быстро направился к ней. — Здравствуй, дорогая! — воскликнул он. — Ну, вот мы наконец и увиделись. Как ты чудесно выглядишь! Он вскочил в двуколку и сел рядом, критически оглядывая ее, и она всем своим существом почувствовала этот испытующий взгляд. После первого радостного впечатления от встречи Юджин слегка растерялся: эта девушка была так далека от того нового мира, в котором он теперь жил. К тому же она постарела, в этом не могло быть сомнения. Нельзя было рассчитывать, что три года надежд, ожидания и тревог не оставят по себе следа. И все же это было нежное, преданное и милое создание. Юджин почувствовал это, и ему стало чуть больно и за нее и за себя. — Ну, как ты тут жила? — спросил он. Они еще не выехали из поселка, и нельзя было давать воли своим чувствам. Пока они не достигли безлюдной проселочной дороги, надо было держаться официально. — Как всегда, Юджин. Ждала тебя. Она посмотрела ему в глаза, и ему передалось то волнение, которое охватывало ее в его присутствии. Что-то было во всем ее существе, что раздувало в пламя теплившуюся в нем симпатию к ней. Она пыталась скрыть свои чувства, притвориться веселой и довольной, но глаза выдавали ее. Взгляд этих глаз вызывал в нем смесь желания и душевного волнения. — Как хорошо снова очутиться в деревне, — сказал он, пожимая ей руку, так как правила она. — А тем более увидеть тебя и эти зеленые поля после большого города. Он посмотрел вокруг на маленькие одноэтажные домишки, каждый с крохотным газоном, несколькими деревьями и аккуратной изгородью. После Нью-Йорка и Чикаго такая деревушка производила забавное впечатление. — Ты по-прежнему любишь меня? Она кивнула. Он стал расспрашивать ее об отце, матери, братьях и сестрах, а когда убедился, что кругом никого нет, обнял и привлек к себе. — Теперь можно, — сказал он. Она почувствовала силу его страсти, но — увы! — исчезло обожание, с которым он когда-то смотрел на нее. Да, он сильно изменился. Он не мог не измениться. После впечатлений и встреч большого города она должна была много потерять в его глазах. Анджеле больно было сознавать, что жизнь так жестоко обошлась с нею. Но, может быть, ей еще удастся завоевать его, удержать подле себя? Они поехали по направлению к Оукуни, маленькому поселку на скрещении двух дорог у небольшого озера того же названия, неподалеку от фермы Блю. Семья Блю считала это место как бы частью своей усадьбы. По дороге Юджин узнал от Анджелы, что ее младший брат, Дэвид, поступил в Вест-Пойнт и делает там большие успехи. Сэмюэл заведует багажным отделением на одной из станций Великой Северной железной дороги и снова ждет повышения. Бенджамен закончил курс юриспруденции и теперь практикует в городе Расине. Он очень интересуется политикой и намеревается выставить свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Мариетта по-прежнему беспечна и весела и не проявляет ни малейшего желания сделать наконец выбор среди своих многочисленных поклонников. Юджин вспомнил про ее письмо и подумал, что скажут ему глаза этой девушки, когда он увидит ее. — Мариетта все такая же опасная кокетка, как и раньше, — ответила Анджела на его вопрос о младшей сестре. — Все в нее влюбляются. Юджин улыбнулся. Воспоминание о Мариетте всегда доставляло ему удовольствие. И сейчас у него мелькнуло сожаление, что приехал он не к ней, а к Анджеле. Но Мариетта была не только лукава, — при желании она умела быть и доброй. Встретив Юджина, она намеренно всем своим видом выказала к нему полное безразличие и напустила на себя скромность и серьезность. При этом она не раз вздохнула в душе, так как он ей очень нравился. Не будь это Анджела, думала младшая сестра, она оделась бы как можно лучше и стала бы напропалую кокетничать с Юджином. Ей ничего не стоило бы вскружить ему голову. И она-то уж сумела бы сохранить его любовь. Мариетта чрезвычайно верила в свою способность очаровать, повергнуть к своим ногам любого мужчину, а Юджина она с радостью и сохранила бы для себя. Но сейчас она старалась меньше попадаться ему на глаза и только изредка поглядывала на него украдкой, думая о том, удастся ли Анджеле снова приворожить его. Она очень волновалась за сестру. Никогда, говорила она себе, не станет она на ее пути к счастью. Семейство Блю встретило Юджина так же сердечно, как и в первый раз. Не прошло и часа, как он почувствовал себя здесь так, словно никогда и не уезжал. Эти широкие поля и старый дом с его чудесной лужайкой навеяли на него волнующие воспоминания. Как только Юджин поздоровался с миссис Блю и Мариеттой, последняя представила ему своего поклонника, приехавшего из городка Вокеша, и предложила сыграть партию в теннис с ней и Анджелой. Юджин не умел играть и отказался. Анджела появилась в теннисном костюме, и Юджин увидел ее во всем ее очаровании. Она много бегала, разрумянилась и много и весело хохотала, обнажая ровные белые зубы, а он любовался ее быстрыми, ловкими движениями. Она казалась такой хорошенькой и изящной, что Юджин снова пленился ею и, встретившись с ней после тенниса в тихой и темной гостиной, прижал ее к груди почти с былою страстью. Анджела сразу почувствовала в нем перемену. Мариетта оказалась права: Юджин любит веселье и яркие краски. Еще недавно, когда они ехали со станции, она была в отчаянии, но этот порыв вселил в нее надежду. Юджин редко увлекался наполовину. Если что-нибудь захватывало его, то уж всего целиком. Очарование минуты владело им безраздельно, так что он в конце концов готов был вообразить себя совсем не таким, каким был в действительности. И сейчас он охотно поддался тому настроению, которое хотели пробудить в нем Анджела и Мариетта, и уже готов был видеть свою нареченную в прежнем свете. Он сознательно закрывал глаза на многое, что не ускользнуло бы от него в нью-йоркской студии, где на его суждение оказали бы влияние другие обстоятельства и причины. Анджела была недостаточно молода для него; она придерживалась устарелых взглядов. Она была очаровательна, спору нет, но ему никогда не удалось бы привить ей свое, легкое, отношение к жизни. А между тем она не знала его с этой стороны, и он ничего не говорил ей об этом. Он выступал перед Анджелой в роли героического однолюба, преданного Ромео, рождая в ней отраднейшие для женского сердца иллюзии. Юджин уже догадывался, что он человек ненадежный, но ему все еще не хотелось признаваться в этом даже самому себе. Прозрачные июньские сумерки сгустились, в небе зажглись звезды. К вечеру вернулся с поля старый Джотем, это был все тот же почтенный патриарх. Он сердечно пожал Юджину руку. — Я часто вижу ваши рисунки в журналах, — заметил он. — Вы делаете успехи. Тут у нас поблизости, у озера, живет молодой пастор, который жаждет с вами познакомиться. Его интересуют ваши работы, и я посылаю ему каждую книжку с вашими рисунками, как только Анджела ее прочитает. Он говорил — то книжки, то журналы; казалось, они не больше значили в его глазах, чем, скажем, листья на деревьях — да в сущности так оно и было. Человеку, привыкшему наблюдать чередование времен года, посевов и урожаев, вся жизнь, с ее неугомонным мельканием образов и форм, кажется игрою преходящих теней. Даже люди были для него подобны листьям, падающим с деревьев. Джотем притягивал к себе Юджина, как магнит притягивает железо. Мировоззрение этого патриархального фермера находило отклик в душе молодого художника, и Анджелу он видел как бы в лучах исходящего от него сияния. Если у нее такой замечательный отец, то и она должна стоять выше женщин среднего уровня. У такого человека должны быть исключительные дети. Едва ли можно было ожидать, чтобы Анджела и Юджин, оставшись наедине, не возобновили прежних отношений. А поскольку они так далеко зашли в прошлый раз, было вполне естественно, что они не остановятся и пойдут дальше. Когда она после обеда вышла к нему из своей комнаты, одетая, по настоянию сестры, в облегающее вечернее платье из мягкой ткани и с довольно глубоким вырезом, Юджину передалось ее волнение. Он и сам не знал, как будет вести себя, насколько он может за себя ручаться. Под влиянием страсти Юджин терял голову, она порой завладевала им с неодолимой силой. Она дурманила его сознание, как снотворный порошок или газ. Он мысленно принимал решение взять себя в руки, но если он сразу же не обращался в бегство, спасения не было, он терял способность бежать. Он колебался и медлил, но уже через несколько минут страсть одерживала верх, и он слепо, безвольно повиновался ей, хотя бы это грозило ему опасностью и даже гибелью. В этот вечер, когда Анджела вышла к нему, он спрашивал себя, что мог значить ее приход. Должен ли он дать себе волю? Женится ли он на ней? Удастся ли ему сохранить свободу? Они сели и стали беседовать, но вскоре он привлек ее к себе. Повторилась старая история: с каждой минутой страсть разгоралась. И вскоре Анджела, обессиленная долгим ожиданием и тоской, перестала сопротивляться. А Юджин… — Если что-нибудь случится, мне придется уйти из дому, — с мольбою в голосе сказала она, когда он, подняв на руки, понес ее к себе в комнату. — Мне нельзя будет остаться здесь. — Молчи, — сказал он. — Приедешь ко мне. — Это правда, Юджин? — Такая же правда, как то, что я держу тебя в своих объятиях, — ответил он. В полночь Анджела открыла испуганные, удивленные, растерянные глаза, чувствуя себя безвозвратно погибшей. Две картины сменялись у нее в голове, чередуясь с равномерностью маятника. В одной главное место занимали брачный алтарь и прелестная студия в Нью-Йорке, куда Юджина приходили навещать друзья, как он не раз описывал ей. Другая представляла собою тихие воды голубого озера Оукуни, на дне которого она лежит, бледная и неподвижная. Да, если он и теперь не женится на ней, она умрет. Жить тогда не стоит. Она не станет принуждать его. Она просто выйдет как-нибудь ночью потихоньку из дому — если окажется, что больше не на что надеяться, что позора не скроешь, — и на другой день найдут ее труп. Бедная Мариетта, как она будет плакать. А старик отец, — Анджела мысленно рисовала себе его горе. Впрочем, он никогда не узнает всей правды. А мать… «О боже милосердный, как тяжело жить на свете, — думала она, — какой страшной бывает жизнь».Глава 27
После этой ночи вся атмосфера в доме казалась Юджину насыщенной укоризной, хотя внешне это не проявлялось ни взглядом, ни словом. Когда он проснулся на другое утро и через полуоткрытые ставни увидел окружающий зеленый мир, вместе с утренней свежестью его охватило чувство глубокого стыда. Как это жестоко — явиться в такой дом и сделать то, что он сделал! Ведь в конце концов сколько ни философствуй, разве такой славный старик, как Джотем Блю, честный и добропорядочный гражданин, прямой и искренний в своих понятиях о морали, в своем уважении к правам ближнего, — разве не заслужил он лучшего отношения со стороны человека, которым восхищался? Джотем так тепло отнесся к нему. В их беседах было столько взаимного уважения и понимания. Юджин чувствовал, что Джотем считает его честным человеком. Он и сам знал, что располагает к себе людей. Он был откровенен, добродушен, уважителен, не любил никого осуждать; но женщины и женская красота — вот где было его слабое место. И, однако, разве вопрос о взаимоотношении полов не имеет важнейшего значения? Разве на этом не зиждется весь мир? Разве от порядочности и честности отдельных людей не зависят добрые устои и нравы? Разве семья не краеугольный камень общественного здания? Как можно ожидать, чтобы человек был порядочным, если не были порядочными его отец и мать? Как может общество надеяться чего-либо достигнуть, если люди будут метаться по воле своих страстей и повсюду заводить беспорядочные связи? Каково было бы ему, например, если б кто-нибудь обесчестил его сестру Миртл? Задав себе этот вопрос, Юджин не мог точно ответить, чего он хочет и чему сочувствует. Миртл — такой же свободный человек, как и всякая другая девушка. Она вольна поступать, как хочет. Возможно, что ему это было бы не совсем по душе, но… Юджин переходил от одного вопроса к другому, снова и снова пытаясь распутать этот гордиев узел. Взять хотя бы дом Анджелы, который представлялся ему таким милым и чистым, когда он впервые вошел в него; теперь на него легла тень, и эту тень набросил он сам. Но так ли уж он виноват? — продолжал рассуждать Юджин. Теперь уже не оставалось ничего, что он принимал бы за истину. Он метался в заколдованном кругу. Это ли истина? Или это? Или вот то? Но ответа не было. Жизнь казалась неразрешимой загадкой. Иногда она заставляла его стыдиться своих поступков. Вот и сейчас он сгорал от стыда. И вместе с тем спрашивал себя, в самом ли деле он должен чего-то стыдиться. Может быть, это глупо? Разве мы живем не для того, чтобы жить, а для того, чтобы мучить себя упреками? Ведь не он создал заложенные в нем страсти и желания. Юджин распахнул настежь ставни, и его ослепило сияние яркого дня. За окном все зеленело, цветы распустились во всей своей красе, деревья отбрасывали прохладную тень. Щебетали птицы. Гудели пчелы. В воздухе стоял запах сирени. «Бог ты мой! — воскликнул Юджин, вскидывая руки над головой. — Как хороша жизнь. До чего она прекрасна!..» Юджин глубоко вдохнул в себя воздух, насыщенный ароматом цветов. Если бы можно было всегда так жить — вечно, вечно! Он обтерся холодной водой, оделся, выбрав мягкую сорочку с отложным воротником и темный галстук, и вышел из комнаты бодрый и свежий. Анджела уже встала и ждала его. Лицо ее было бледно, но вся она светилась какою-то грустной красотой. — Полно, полно, — сказал он, ласково взяв ее за подбородок. — Ну что это! — Я сказала всем, что у меня болит голова, — шепнула она ему. — Она у меня действительно болит. Ты понимаешь? — Я понимаю твою головную боль, — рассмеялся он. — Но все будет хорошо, очень, очень хорошо. Какой чудесный день, правда? — Прекрасный, — грустно ответила она. — Не горюй, — настойчиво повторил он. — Полно терзаться, все будет чудесно. Он подошел к окну и выглянул в сад. — Твой завтрак будет сейчас готов, — сказала она и, пожав ему руку, исчезла. Юджин вышел из дому и направился к гамаку. Теперь, очутившись среди простора лугов и полей, он испытывал такое наслаждение, такую радость, что от его тревог не осталось и следа. Эти мощные, вечно юные силы обновленной природы, которые он ощущал вокруг себя, заставили его позабыть свой страх перед злом и нравственным падением, страх, которому так легко поддаются смертные. Юджин чувствовал, что молодость и любовь оправдывают все, особенно при взаимном влечении. Почему было ему не взять Анджелу? Почему им не принадлежать друг другу? Когда Анджела позвала его завтракать, он с большим аппетитом съел все, что она ему приготовила. Он держался с ласковой непринужденностью победителя, Анджелу же, подобно человеку, пустившемуся в опасное плавание, томили страх и неуверенность. Она подняла парус, но куда плывет она, к какой пристани прибьет ее челн? Что сулит ей судьба — смерть на дне озера или блаженство с Юджином в его нью-йоркской студии? Будет ли она жить и познает счастье, или ее ждет смерть и черная загадка небытия? Существует ли ад, как уверяют проповедники, это страшное обиталище погибших душ, воспетое поэтами? Она смотрела на тот же мир, который Юджин находил таким прекрасным, и в самой его красоте ей чудилась опасность. А между тем ей предстояло еще много-много таких дней. Несмотря на все ее тревоги, запретный плод, которого она однажды вкусила, теперь казался сладостным и соблазнительным. Как только они с Юджином оставались вдвоем, волнение снова охватывало их. Днем она предавалась своим опасениям, но наступала ночь, в небе загорались звезды, веяло упоительной прохладой, и, покорная зову страсти, Анджела забывала все свои муки. Юджин был ненасытен, она стосковалась по ласке. Малейшее прикосновение его было подобно искре, упавшей на трут. Она уступала ему, твердя, что не уступит. Родные Анджелы пребывали, конечно, в блаженном неведении. Анджеле казалось удивительным, что самые стены, которые видели ее с Юджином, не кричат о ее падении. В том, что им удавалось много времени проводить наедине, не было ничего странного, так как ухаживания Юджина всячески поощрялись — ради нее же, — но Анджелу даже пугало, что ее грех оставался необнаруженным: то, что можно было объяснить лишь случайностью, представлялось ей зловещим предзнаменованием. Что-то непременно случится, шептал ей какой-то недобрый голос. Ей не хватало смелости, которая была бы под стать ее страсти и в которой она так нуждалась. Прошла неделя, и хотя Юджин проявлял уже меньше пыла и был до некоторой степени угнетен сознанием, что он, по-видимому, до конца исчерпал свою победу, он все еще не решался уезжать. Ему жаль было покидать этот дом, обрывать медовый месяц, насыщенный красотой и радостью (тем более восхитительной и чарующей, что никто не делил с ними их тайны), но постепенно в нем стала просыпаться мысль о связывающих его цепях долга и ответственности. Ведь Анджела отдалась на его милость, доверившись его чести. Она добилась от него обещания жениться не настойчивостью, не коварными уловками, рассчитанными на то, чтобы завлечь его в свои сети, а лишь сказав, что в противном случае ей придется умереть. Достаточно было посмотреть на нее, чтобы убедиться, что это не ложь. К тому же теперь, когда Юджин добился своего, когда он познал всю глубину ее чувств и желаний, он еще больше оценил ее. Хотя она была старше его, она дышала такой юностью и красотой, что он был заворожен. Ее тело было восхитительно прекрасно. Ее представления о жизни и любви были преисполнены нежности и красоты. Как рад он был бы осуществить ее мечту о блаженстве без ущерба для себя. Когда его пребывание в Блэквуде близилось к концу, Анджеле пришла удачная мысль съездить в Чикаго, так как надо было сделать кое-какие покупки. Мать не возражала, и Анджела решила ехать вместе с Юджином. Это смягчало тяжесть разлуки и давало возможность обо всем поговорить. Анджела, как всегда, должна была остановиться у своей тетки. По дороге она снова и снова задавала Юджину вопрос о том, как он будет теперь относиться к ней. Не станет ли он презирать ее за то, что произошло. Он уверял, что нет. С грустью она сказала ему, что только смерть или замужество может сейчас спасти ее. — Что это значит? — спросил он, прижав к груди золотистую головку Анджелы и глядя в ее печальные темно-синие глаза. — Если ты на мне не женишься, мне придется покончить с собой. Я не смогу тогда оставаться дома. Он представил себе, во что превратит смерть ее прекрасное тело, ее чудесные волосы, и с сомнением спросил: — Неужели ты решилась бы на это?.. — Да, — печально ответила она. — У меня нет выхода. — Тсс, Ангелочек! — остановил он ее. — Ничего подобного ты не сделаешь. Тебе не придется горевать. Я женюсь на тебе… А как бы ты это сделала? — О, я уже все обдумала, — мрачно ответила она. — Ты помнишь наше маленькое озеро? Я утоплюсь в нем. — Что ты, родная, — взмолился он, — не говори так. Это ужасно. Не поддавайся сомнениям! Все будет хорошо, увидишь! Подумать только, что она будет лежать на дне маленького Оукуни, этого тихого озерца с зелеными берегами и желтыми песчаными отмелями! Подумать только, что этим может кончиться вся ее любовь, вся ее страсть! Смерть ее пала бы на его голову. Эта мысль была для Юджина невыносима. Она пугала его. Такие драмы иногда описываются в газетах со всеми душераздирающими подробностями, но его это не должно коснуться. Он женится на ней. В конце концов она хороша собой. Ему придется жениться. Самое лучшее — теперь же принять решение. Он задумался над тем, как скоро придется это осуществить. Из семейных соображений Анджела требовала официального бракосочетания: если ее родные и не будут на нем присутствовать, пусть они по крайней мере знают, что оно состоялось. Она согласна поехать с ним на Восток — это нетрудно будет устроить. Но они должны сочетаться браком. Юджин так ясно отдавал себе отчет в том, как сильны в ней условности, что ему и в голову не приходило предложить ей что-либо другое. Она не согласилась бы, она ответила бы презрением. Единственной альтернативой для нее была смерть. В тот вечер, их последний вечер, когда Анджеле предстояло вернуться в Блэквуд, он проводил ее, печальную, на вокзал, а сам, донельзя расстроенный, отправился в Джексон-парк, где однажды при свете луны любовался очаровательным озером. Были последние дни июня, и воды озера отливали серебристыми, розовыми и лиловыми тонами. Деревья на западе и на востоке тонули во мгле. В небе догорал последний оранжевый румянец зари. Воздух был насыщен ароматом, теплыми июньскими благоуханиями. Бродя тихими тропинками, где песок и галька чуть хрустели под ногами, Юджин думал о промчавшейся неделе. Как богата и разнообразна жизнь, и сколько в ней высокой романтики! Взять хотя бы любовь Анджелы — как она прекрасна! Хорошо любить и чувствовать себя молодым. Что ждет его впереди — еще более прекрасные мгновения, или же он так и будет брести, то и дело оступаясь, попусту тратя время, расточая себя и свои силы в разврате? Но разве это называется развратом? Настанет ли когда-нибудь для него час возмездия? Будет ли он любить Анджелу после того, как женится на ней? Будут ли они счастливы? Юджин стоял на берегу тихого озера и любовался бесчисленными оттенками света, отраженными в его водах, испытывая восторг художника перед совершенной красотой природы, которая пробуждает мысли о любви, смерти, поражении и славе. Как романтично, что в таком вот озере могут найти труп Анджелы, если он поступит с ней жестоко. Такой же мрак, какой сейчас заливает землю, погасил бы ее яркие мечты. Чем это не сюжет для поэтической новеллы? Он подумал, что какой-нибудь великий писатель, вроде Доде или Бальзака, мог бы воспользоваться этим мотивом для своего талантливого произведения. И художник нашел бы здесь тему для романтического образа. Бедная Анджела! Будь он искусным портретистом, он написал бы ее. Обнаженное тело, густые пряди волос ниспадают на шею и грудь, — это была бы прекрасная картина. Должен ли он жениться на ней? Да, должен. Хотя неизвестно, к чему это приведет. Возможно, что это будет ошибка, но… Он смотрел на бледнеющие краски озера, отливавшего то серебристыми, то розовыми, то свинцово-серыми тонами. Над его головой ярко загорелась звезда. Что будет с Анджелой, если над ней действительно сомкнутся неподвижные воды озера? Как пережил бы он ее смерть? Это было бы слишком ужасно, слишком горько. Нет, он должен жениться на ней. Юджин вернулся в город, чувствуя в душе всю скорбь мира, и в таком настроении, забрав в отеле свой чемодан, сел в ночной поезд, отправлявшийся в Нью-Йорк. Забыты были и Руби, и Мириэм, и Кристина. Он оказался участником любовной драмы, от которой зависела жизнь Анджелы и его будущее душевное спокойствие. Он не мог предугадать, чем все это кончится, и только чувствовал, что должен жениться на ней. Когда — он еще и сам не знал, обстоятельстваподскажут. Возможно, что даже немедленно. Необходимо позаботиться о студии, объявить о предстоящем переезде друзьям — Смайту и Мак-Хью, и еще больше напрячь все силы, чтобы добиться успеха и средств для совместной жизни с Анджелой. Он в таких ярких красках расписал ей свою жизнь художника, что теперь боялся ее суда. Главное, чтобы студия ей понравилась. Он должен будет представить Анджеле своих друзей. Всю дорогу в Нью-Йорк эта мысль не давала ему покоя — Смайт, Мак-Хью, Мириэм, Норма Уитмор, Кристина… Что подумает Кристина, если, вернувшись в Нью-Йорк, найдет его женатым? Конечно, между этими людьми и Анджелой лежит пропасть. В них, как бы это сказать, больше смелости, больше понимания, пожалуй, больше души. Подумают ли они, увидев ее, что он сделал ошибку? Или сочтут его глупцом? У Мак-Хью есть девушка, но совсем другого типа — интеллигентная, умная. Юджин думал и думал и неизменно приходил к одному заключению. Он должен жениться. Другого выхода нет. Так надо.Глава 28
Октябрь ознаменовался в студии господ Смайта, Мак-Хью и Витла на Уеверли-плейс неким из ряда вон выходящим событием. Даже в большом городе пора, когда листья начинают желтеть и опадать, навевает грусть, которая еще усиливается при появлении обычных предвестников зимы: серого неба, резкого, порывистого ветра, что гонит по улицам щепки, солому, обрывки бумаги, — даже из дому выйти неприятно. Бедняки зашевелились: надвигаются лишения, непогода, холод. Но и тот, кто праздно провел лето, с новым рвением берется за работу. Купля, обмен, продажа в полном разгаре. В промышленности, в избранных кругах общества, в мире искусства, медицины, юриспруденции, финансов и литературы — повсюду жизнь бьет ключом, люди снова прониклись стремлением что-то делать, чего-то добиваться. Весь город, в предвидении близкой зимы, испытывает прилив энергии и жажду деятельности. В этой атмосфере Юджин, достаточно ясно представлявший себе, на чем зиждется окружающая его жизнь и в чем секрет преуспеяния, ревностно работал над решением той задачи, которую он себе поставил. Расставшись с Анджелой, он пришел к выводу, что необходимо закончить кое-что для выставки, о которой он не переставал думать последние два года. Другого пути для того, чтобы привлечь к себе внимание общества, у него не было, это он хорошо знал. По возвращении в Нью-Йорк он успел уже многое пережить. Во-первых, напрасную тревогу из-за письма Анджелы, которой показалось, что с ней происходит что-то неладное. Предположение это, хотя и совершенно искреннее, было вызвано игрой больной фантазии, сулившей ей всякие бедствия, и ничем в действительности не подтверждалось. Несмотря на некоторый свой опыт, Юджин все же недостаточно разбирался в таких вещах. Впрочем, если бы он даже что-нибудь и знал, то не решился бы расспрашивать. Во-вторых, испугавшись этих новых осложнений, он написал ей, что готов жениться, и, принимая в расчет ее тяжелое душевное состояние, решил не медлить с этим. Ему надо было лишь закончить некоторые этюды, собрать немного денег и найти подходящую квартиру, где они могли бы устроиться. Он побывал во многих студиях в разных частях города, но все еще не нашел ничего, что было бы ему по вкусу и вместе с тем по карману. Найти студию с подходящим освещением, ванной, спальней и хотя бы небольшим чуланчиком под кухню было трудно. Цены казались ему очень высокими — от пятидесяти до ста двадцати пяти и ста пятидесяти долларов в месяц. Были и новые студии, которые строились специально для богатых бездельников и лентяев, плативших за них, по предположению Юджина, от трех до четырех тысяч в год. Интересно знать, размышлял он, достигнет ли он когда-нибудь таких высот? Беспокоил его и вопрос о меблировке. Мастерская, которую он занимал вместе со Смайтом и Мак-Хью, напоминала скорее казарму. Там не было ни коврика, ни дорожки. Стоявшие в спальнях две складные кровати и койка, крепко сколоченные, но весьма убогие на вид, перешли к ним по наследству от прежних жильцов. Картины, мольберты и по шкафчику на брата — вот в сущности и все их хозяйство. Дважды в неделю приходила уборщица, вытирала пыль, относила белье в прачечную и приводила в порядок постели. Чтобы устроиться с Анджелой, необходимо было, по мнению Юджина, множество вещей, и притом вещей совсем другого сорта. Свою будущую студию он представлял себе примерно такой, как у Мириэм Финч или Нормы Уитмор. В ней должна стоять стильная мебель — старофламандская или колониальная, хепелуайт, чиппендейл или шератон — вроде той, какую ему случалось видеть в антикварных лавках или в магазинах подержанных вещей. Если иметь время, можно такую мебель подобрать. Анджела, конечно, ни о чем этом понятия не имеет. В студии должны быть ковры, занавески, всякие безделушки из бронзы, гипса и даже, если позволят средства, из старинного серебра. Он мечтал раздобыть со временем бронзовое или гипсовое изваяние Христа на грубом кресте из орехового или тикового дерева и повесить или поставить его в углу студии. По бокам возвышались бы два огромных подсвечника с большущими свечами, закопченные и залитые воском. Зажжешь такие свечи в темной студии, и в полумраке смутно выступят на стене контуры распятия, запляшут пугливые тени, и сразу создастся особое настроение. Обстановка, о какой мечтал Юджин, должна была обойтись примерно в две тысячи долларов. Сейчас, конечно, об этом нечего было и думать. У него и всего-то едва ли найдется такая сумма. Он уже собирался написать Анджеле о том, как трудно подыскать подходящее помещение, но вдруг услышал про студию на южной стороне Вашингтон-сквер, которую ее владелец, литератор, сдавал на зиму. Говорили, что студия хорошо обставлена, а плата не выше обычной квартирной. Владельцу важно было, чтобы в ней поселился человек, который позаботился бы о ее сохранности до его возвращения будущей осенью. Юджин немедленно отправился по адресу и был пленен и расположением дома, и видом из окон, и красивой обстановкой. Он решил, что жить здесь будет одно удовольствие. А какой превосходный случай познакомить Анджелу с Нью-Йорком! Тут она получит свои первые приятные впечатления о городе. Как и во всякой хорошо обставленной студии, какие ему приходилось видеть, тут были книги, картины, статуэтки, много бронзовых и даже серебряных вещиц. Мастерскую отделяла от алькова большая рыболовная сеть, окрашенная в зеленый цвет и усыпанная осколками зеркала, которые должны были изображать рыбью чешую. Был там и рояль под черное дерево и разрозненные образцы стильной мебели — «миссионерской», фламандской, венецианской XVI века и английской XVII века, — и все это, несмотря на такое смешение стилей, отлично гармонировало друг с другом и вполне соответствовало своему назначению. Кроме мастерской, там была спальня, ванная и маленький отгороженный уголок, который можно было приспособить под кухню. Если кое-какие из развешанных по стенам картин с толком заменить собственными этюдами, подумал Юджин, получится прекрасное жилище для него и его жены. Стоило это пятьдесят долларов в месяц, и он решил рискнуть. Дав понять владельцу, что он снимет студию (один вид ее до некоторой степени примирил его с неизбежностью женитьбы), Юджин решил, что женится в октябре. Анджеле можно будет тогда приехать в Нью-Йорк или в Буффало — она еще не видела Ниагарского водопада, — и там они повенчаются. Анджела предполагала навестить своего брата в Вест-Пойнте, а потом они вернутся в Нью-Йорк, чтобы там обосноваться. Приняв это решение, он написал о нем Анджеле, а также намекнул Смайту и Мак-Хью, что в скором времени, возможно, женится. Известие это чрезвычайно огорчило обоих приятелей, которые сжились с Юджином. У него была привычка подшучивать над людьми, которые ему нравились. Вставая поутру, он сразу начинал свой день каким-нибудь забавным замечанием: — Нет, вы взгляните, какая благородная решимость озаряет сегодня чело Смайта. Или же: — Мак-Хью, ленивый раб, слезай с кровати и постарайся заработать себе на кусок хлеба. Мак-Хью в ответ с головой закутывался в одеяло. — Ох уж эти мне горе-художники, — сокрушенно вздыхал Юджин. — Ничего путного от них не жди. Им всего-то и нужно несколько вареных картофелин в день да охапка соломы. — Да заткнись ты! — ворчал Мак-Хью. — Ко всем чертям и дьяволам! — доносился откуда-то голос Смайта. — Если б не я, — продолжал Юджин, — право, не знаю, что сталось бы с этой студией. Вот что значит, когда какие-то рыбаки и всякая темная деревенщина пытаются стать художниками. — Не забудь, кстати, возчиков из прачечных, — добавлял Мак-Хью, приподнимаясь на кровати и причесывая всей пятерней свои лохмы (Юджин рассказал приятелям кое-что из своей биографии). — Не забудь о том ценном вкладе в искусство, который сделала Американская компания паровых прачечных. — Что ж, воротнички и манжеты — это и в самом деле произведения искусства, — отпарировал Юджин, — не то что гвозди или, с позволения сказать, рыба. Тьфу! Иногда эта пикировка продолжалась добрых полчаса, пока наконец чье-либо остроумное замечание не вызывало громкого хохота. К работе приступали после утреннего завтрака, — завтракали обычно все вместе в ресторане, — и трудились без перерыва до пяти часов дня, разве что надо было куда-нибудь пойти, или же приходил кто-нибудь в гости, или хотелось перекусить. Они работали бок о бок уже два года, успели за это время изучить друг друга и хорошо знали, насколько можно рассчитывать на преданность, отзывчивость, доброту или щедрость товарища. Они, не скупясь, критиковали один другого, но это была благожелательная критика, с искренним намерением помочь. Их совместные прогулки то в серые, пасмурные дни, то в дождь, то в солнечную погоду, поездки на острова — Кони-Айленд и Фар-Рокэуей, посещение театров и выставок, а также забавных ресторанчиков, где подаются национальные блюда, были проникнуты духом веселого товарищества. Они добродушно подшучивали друг над другом, иронизируя по поводу дарования, наклонностей, отдельных черт характера или нравственных качеств каждого, — и эти шутки принимались без всякой злобы. То Юджин и Мак-Хью, объединив усилия, разделывали на все корки Джозефа Смайта, то жертвою острот становился Юджин либо Мак-Хью, и против него выступали остальные двое. Искусство, литература, философия, выдающиеся люди, те или иные жизненные вопросы — все было предметом их споров. Как и раньше, когда Юджин работал с Джерри Мэтьюзом, он узнавал от друзей много нового. От Джозефа Смайта — о жизни моряков и о свойствах и особенностях океана; от Мак-Хью — о природе и жителях великого Запада. У того и у другого был неистощимый запас воспоминаний, которые давали интересный материал для бесед изо дня в день, из года в год. Особенно горячие споры вызывала какая-нибудь выставка или продающаяся коллекция картин, так как тут каждый высказывал свои самые заветные убеждения относительно того, что в искусстве ценно и вечно. Все трое не признавали установленных авторитетов, но чрезвычайно ценили истинные заслуги, независимо от того, шла ли речь о человеке с именем или совершенно неизвестном. Они то и дело знакомились с произведениями малоизвестных в Америке художников и распространяли весть об их таланте. Так постепенно в поле их зрения появились Моне, Дега, Мане, Рибейра, Монтичелли, и они не переставали изучать их и превозносить. И потому, когда Юджин в конце сентября заявил, что, возможно, в скором времени покинет их, поднялся вопль протеста. Джозеф Смайт работал в то время над морским пейзажем, прилагая все усилия к тому, чтобы добиться гармоничного по краскам изображения прогнившей палубы торгового суденышка, полуобнаженного негра у руля и иссиня-черных волн вдали, которые должны были создать впечатление бесконечного морского простора. — Ври больше!.. — недоверчиво протянул Смайт, думая, что Юджин шутит. Правда, откуда-то с Запада еженедельно на имя Юджина приходили письма, но и Мак-Хью получал письма, и к этому так привыкли, что уже не обращали внимания. — Ты женишься? Какого черта! Ну и муженек же из тебя выйдет, нечего сказать. Я непременно наведаюсь к твоей жене и кое-что расскажу про тебя. — Нет, правда, я, очевидно, женюсь, — ответил Юджин, которого рассмешила уверенность Смайта в том, что это шутка. — Брось, пожалуйста, — подал голос Мак-Хью, стоявший у мольберта и работавший над сценкой из деревенской жизни — группа фермеров перед зданием почты. — Неужели ты захочешь разорить наше гнездо? Оба они любили Юджина. Его общество много им давало, — он всегда был готов помочь товарищу, всегда полон жизнерадостности и оптимизма. — Об этом не может быть и речи. Но разве я не вправе жениться? — Я голосую против, клянусь богом! — патетически воскликнул Смайт. — Не даю моего согласия. Питер, неужели мы это потерпим? — Разумеется, нет, — ответил Мак-Хью. — Если он попробует выкинуть такой номер, мы вызовем полицию. Я подам на него в суд. А кто она, Юджин? — Держу пари, что знаю, — вмешался Смайт. — Что-то он уж слишком часто бегает на Двадцать шестую улицу. Джозеф Смайт имел в виду Мириэм Финч, с которой Юджин познакомил своих сожителей. — Вздор! — сказал Мак-Хью, внимательно посмотрев на Юджина. — Нет, друзья, не вздор: расстаться должно нам! — Ты что же, не шутишь, Витла? — сказал Джозеф уже серьезным тоном. — Не шучу, Джо, — спокойно ответил Юджин. Он стоял у мольберта и изучал перспективу своего шестнадцатого нью-йоркского этюда, на котором были изображены три паровоза в ряд, въезжающие в железнодорожный парк. Дым, туманный воздух, грязные подпрыгивающие товарные вагоны — красные, зеленые, синие, желтые, — в этом была красота, сила и красота неприкрашенной действительности. — И скоро? — так же серьезно спросил Мак-Хью, испытывая легкий прилив грусти, которая овладевает нами, когда что-то приятное близится к концу. — Вероятно, в октябре, — ответил Юджин. — Печально, черт возьми! — сказал Смайт. Он отложил кисть и медленно отошел к окну. Мак-Хью, менее склонный к проявлению своих чувств, продолжал задумчиво работать. — Когда ты принял такое решение, Витла? — спросил он немного погодя. — Видишь ли, Питер, это давнишняя история. В сущности, я бы раньше женился, если б средства позволяли. У меня есть обязательства перед вами, а то я не стал бы обрушивать на вас эту новость. Я буду платить свою долю за студию, пока вы не подыщите кого-нибудь другого. — К черту студию, — сказал Смайт. — Мы не хотим никого другого. Что ты скажешь, Питер? Жили же мы раньше вдвоем. Смайт молча потирал свой квадратный подбородок, посматривая на приятеля с таким видом, точно они очутились перед катастрофой. — Пустяки, — сказал он, — ты прекрасно знаешь, что нас не интересует твоя доля за студию. Но, может быть, ты все-таки скажешь, на ком женишься? Мы ее знаем? — Нет, не знаете, — ответил Юджин. — Она из Висконсина. Та, от которой я получаю письма. Ее зовут Анджела Блю. — В таком случае за здоровье Анджелы Блю! — воскликнул Смайт, к которому вернулось обычное веселое настроение, и, схватив кисть, он, словно чашу, поднял ее вверх. — За здоровье миссис Витла, и пусть, как говорят в Нова-Скотии, ее парус пройдет невредимым через все бури, а ее якорь выдержит любой шторм. — Ура! — подхватил Мак-Хью, заражаясь настроением приятеля. — Присоединяюсь! Когда же свадьба? — Собственно говоря, день еще не назначен. Приблизительно в первых числах ноября. Только я просил бы вас никому об этом не говорить. Хотелось бы избежать лишних расспросов. — Никому не скажем, хотя, надо признаться, нелегко нам слышать это, старый ты морж! Почему, черт возьми, ты не дал нам времени подготовиться к этой мысли, скотина ты этакая? И Смайт укоризненно ткнул его в бок. — Поверьте, я огорчен не меньше вашего, — сказал Юджин. — Мне грустно уходить из нашей студии, право, грустно. Но мы не будем терять друг друга из виду. Я ведь остаюсь в Нью-Йорке. — Где же ты намерен поселиться? В самом городе? — спросил Мак-Хью, все еще хмурясь. — Разумеется. Тут неподалеку, на Вашингтон-сквер. Помните студию Дикстера, про которую рассказывал Вивер, ту самую, на третьем этаже, на Шестьдесят первой улице? Вот это она и есть. — Не может быть! — воскликнул Смайт. — Здорово ты устроился. Как тебе удалось? Юджин объяснил. — Гм, повезло, — сказал Мак-Хью. — Твоей жене там понравится. Надеюсь, у вас найдется уютный уголок для бродяги-художника, если он как-нибудь заглянет к вам? — Фермерам, морякам и бездарным художникам вход категорически воспрещен! — торжественно заявил Юджин. — К чертовой бабушке! — сказал Смайт. — Когда миссис Витла узнает нас поближе… — …она пожалеет, что приехала в Нью-Йорк, — закончил Юджин. — Она пожалеет, что не познакомилась с нами раньше, — сказал Мак-Хью.Часть II. БОРЬБА
Глава 29
Бракосочетание Юджина и Анджелы состоялось в Буффало второго ноября. Как было решено заранее, их сопровождала Мариетта. Предполагалось, что потом все трое поедут посмотреть Ниагарский водопад, затем отправятся в Вест-Пойнт, где сестры повидаются с Дэвидом, после чего Мариетта вернется домой, чтобы рассказать обо всем родителям. Волею обстоятельств все было обставлено чрезвычайно скромно, не надо было проходить через церемониал поздравлений, никто не подносил подарков, за которые нужно было бы благодарить. Анджела объяснила своим родным и друзьям, что Юджину в это время года нельзя надолго отлучаться из Нью-Йорка. Она знала, что он против свадебных торжеств, на которые слетелась бы вся ее родня (Юджин называл это «быть прогнанным сквозь строй»), и охотно согласилась приехать к нему. Семья Юджина еще ничего не знала. В последний приезд домой он намекнул, что, вероятно, женится и что невеста его не кто иная, как Анджела. Но из всех родных только Миртл однажды видела Анджелу, а она жила теперь в Оттумве, в штате Айова. Старик Витла был несколько разочарован. Он надеялся, что Юджин сделает блестящую партию. Его сын, такой видный малый, знаменитый художник, чьи рисунки то и дело печатаются в журналах, должен был, по его мнению, жениться (в Нью-Йорке, где столько возможностей!) уж по крайней мере на богатой наследнице. Разумеется, если Юджину угодно осчастливить какую-то провинциалку, это его дело, но не о том мечтали его родные. Настроение, при котором проходило брачное торжество, — во всяком случае, что касается Юджина, — едва ли соответствовало важности момента. Его мучило сознание, что он, по-видимому, совершает ошибку. Он не мог отделаться от чувства, что только стечение обстоятельств и его собственная слабохарактерность принуждают его выполнить обещание, от которого, пожалуй, следовало отказаться. Единственное, чего он этим, безусловно, достиг, это избавил Анджелу от злополучной участи старой девы. Но это представлялось ему слабым утешением. Анджела была мила и преданна, она чрезвычайно серьезно относилась к жизни, к нему лично и ко всему, что взывало к ее чувству долга. Но не такой Юджин рисовал себе настоящую подругу — возлюбленную, которая была бы смыслом и венцом его существования. Где же тот священный огонь, который должен сейчас гореть в его душе? Где они, возвышенные мысли о будущей совместной жизни? Где то чувство, которое он испытал, впервые увидев Анджелу в доме ее тетки в Чикаго? Что-то произошло. Не сам ли он опошлил свой идеал излишней интимностью, — сорвал прекрасный цветок и втоптал в грязь? Неужели в браке действительно нет ничего, кроме физической страсти? Или же истинный брак представляет собой нечто более благородное — союз высоких мыслей и чувств? В таком случае разделяет ли их с ним Анджела? Она как будто тоже обнаруживала порой возвышенные чувства и стремления. Нельзя сказать, чтобы она отличалась широтою ума и большим развитием, но это не мешало ей чувствовать хорошую музыку и разбираться в прочитанном. Она ровно ничего не понимала в искусстве, но душа ее тянулась к прекрасному. Почему же этого недостаточно, чтобы их жизнь была сносной, спокойной и даже приятной? И действительно ли этого недостаточно? Но сколько Юджин ни раздумывал над этим, у него не проходило ощущение, что в их союзе что-то неладно. Правда, он честно выполнил свой долг — обязательство, которое он сам на себя взвалил, — и все же не чувствовал себя счастливым. Он шел на этот брак, как человек, соглашающийся на известную жертву в угоду общественному мнению. Возможно, что все обойдется, а возможно, что и нет. Он не мог согласиться с существующими взглядами, что браки заключаются на всю жизнь и что если он сегодня женится на Анджеле, то должен будет жить с ней до конца дней своих. Он знал, что таков общепринятый взгляд на брак, но ему этот взгляд был отнюдь не по душе. Союз двух людей, по его мнению, должен основываться на сильном желании жить вместе и ни на чем другом. Он не имел представления о чувстве долга, которое внушает человеку привязанность к своему потомству, так как у него не было ни детей, ни желания ими обзаводиться. Дети — это только лишняя неприятность. Брак — уловка, с помощью которой природа вынуждает человека осуществлять ее цели, состоящие в продолжении человеческого рода. Любовь — западня, страсть — наспех состряпанная приманка. Природа и закон продолжения жизни заставляют человека выполнять то, что ему назначено, как, скажем, ломовую лошадь заставляют тащить тяжелый груз. Юджин считал, что ничем не обязан ни природе, ни закону продолжения жизни на земле. Он не просил, чтобы его произвели на свет. Путь его не был усыпан розами. Так почему же он должен делать то, чего требует от него природа? Встретившись с Анджелой, он нежно поцеловал ее, так как при виде ее в нем снова вспыхнуло желание, еще недавно настойчиво владевшее им. Со времени их последней встречи он не прикасался к женщине, главным образом, потому, что никого поблизости не было, но еще и потому, что воспоминания и ожидания, связанные с Анджелой, были слишком живы, и сейчас с нетерпением ждал конца брачной церемонии. Еще утром он позаботился о разрешении на брак, и с поезда, которым прибыли Анджела с Мариеттой, отвез их прямо к методистскому священнику. Обряд, который так много значил для Анджелы, в глазах Юджина не играл никакой роли. Клочок бумаги, полученный им в отделе регистрации браков, и стереотипная фраза о том, что отныне он должен «любить, беречь и почитать», казались ему простой формальностью. Конечно, он будет любить, уважать и беречь ее, если это окажется возможным, — в противном же случае не станет этого делать. Анджела между тем, надев обручальное кольцо и услышав знаменательные слова: «этим кольцом обручаю тебя», почувствовала, что все ее мечты сбылись. Теперь она действительно по-настоящему «миссис Юджин Витла». Ей незачем больше терзаться мыслью, что придется кончать с собой, что она будет опозорена или что ей суждена одинокая, достойная жалости жизнь. Она стала женою художника, многообещающего художника, и будет жить в Нью-Йорке. Какая будущность открывается перед нею! Значит, Юджин все же любит ее. Она считала, что он доказал это. Он потому медлил с женитьбой, что ему трудно было надлежащим образом устроить их совместную жизнь. Иначе он давно бы на ней женился. Они отправились в отель «Ирокез», записались там как муж и жена и сняли отдельный номер для Мариетты. Последняя под тем предлогом, что ей хочется после езды в вагоне скорее принять ванну, покинула их, обещав поспеть к обеду. Юджин и Анджела остались наконец одни. И тут он убедился, что, вопреки всем прекрасным теориям, радость этой минуты в значительной мере притуплена для него прежней близостью с Анджелой. Правда, он снова может обладать ею. Желание, которое так сильно владело им, будет удовлетворено, но с него сорван покров заманчивой тайны. Их настоящая свадьба была отпразднована в Блэквуде несколько месяцев назад, а то, что происходило сейчас, было буднями брака. Юджин вновь испытал острое и сладостное ощущение их близости, но обаяние чего-то чудесного, неизведанного исчезло. Он жадно обнял Анджелу, но теперь в нем говорило скорее грубое физическое влечение, чем благоговейный восторг. Для Анджелы же ничто не изменилось. У нее было любящее сердце, и в Юджине заключался для нее весь мир. В ее глазах он вырастал в героическую фигуру. Его талант был священным огнем. Ни один человек на свете не мог знать столько, сколько знал Юджин. Никто не мог сравниться с ним как художник. Правда, он не был практичен, как другие мужчины (ее братья и зятья, например), зато он гений, — незачем ему быть практичным. Она уже думала о том, какой будет ему преданной женой, верной помощницей на пути к успеху. Ее опыт учительницы, ее умение дешево покупать, ее практический ум — все это окажет ему большую помощь. Два часа, оставшиеся до обеда, они предавались любовным утехам, а затем оделись и спустились в ресторан. Анджела сшила себе к свадьбе несколько нарядных платьев, истратив на это сбережения многих лет, и сейчас была исключительно красива в черном шелковом платье со вставкой и рукавами из светло-серого шелка, расшитого мелким жемчугом и черным бисером. Мариетта в бледно-розовом шелковом платье, нежном, как цвет персика, сильно вырезанном, с короткими рукавами, блистала юностью, свежестью и жизнерадостностью. Теперь, когда она благополучно выдала сестру замуж, она ни в коей мере не считала себя обязанной прятаться от Юджина или скрывать свою красоту из боязни затмить Анджелу. Она была в исключительно веселом настроении, и Юджину трудно было — даже в эту минуту — не сравнивать ее с сестрой. Улыбка Мариетты, ее остроумие, ее безотчетная смелость — все это представляло резкий контраст с тихой Анджелой. Кричащая роскошь современных отелей теперь никого уже не удивляет; но для Анджелы и Мариетты в этом было достаточно новизны, и окружающая обстановка произвела на них сильное впечатление. В пышном убранстве отеля Анджела видела знамение ожидающего их с Юджином блистательного будущего. Ковры, портьеры, лифты и официанты — вся эта дешевая роскошь говорила ей о чем-то возвышенном. После дня, проведенного в Буффало, куда их привлекли красоты Ниагарского водопада, новобрачные отправились в Вест-Пойнт. Здесь они побывали на параде в честь какого-то заезжего генерала и на балу в военной академии. Прелестную Мариетту встретил такой успех среди товарищей ее брата, что она решила остаться в Вест-Пойнте еще на неделю, так что Юджин и Анджела могли отправиться в Нью-Йорк и побыть там некоторое время одни. Они пробыли в Вест-Пойнте ровно столько, сколько потребовалось, чтобы сдать Мариетту в надежные руки, а затем уехали в Нью-Йорк, спеша вступить во владение своими апартаментами на Вашингтон-сквер. Поезд прибыл вечером, и панорама освещенного города, открывшаяся перед ними с берега Северной реки, против Сорок второй улицы, произвела на Анджелу огромное впечатление. Она не имела ни малейшего представления о Нью-Йорке, и когда кэб, по указанию Юджина, свернул на Бродвей и, часто останавливаясь, направился к Пятой авеню, ее глазам впервые открылся тот сверкающий мишурным блеском проспект, который впоследствии получил название «великого белого пути». Юджин давно уже научился видеть здесь характерные для нью-йоркской жизни дешевку и фальшь, но все же эта выставка красоты, нарядов и дутых репутаций еще не потеряла для него своей заманчивости и невольно действовала на его воображение. Здесь можно было встретить театральных критиков и известных актеров, актрис и хористок — богинь и одновременно игрушек жадных, невежественных, ненасытных богачей. Юджин показывал Анджеле театры, обращал ее внимание на известные имена, описывал рестораны, отели, магазины и лавки, в которых продаются всякие безделушки и побрякушки, пока наконец они не свернули на нижнюю часть Пятой авеню, где еще царило спокойное величие внушительных особняков и атмосфера консервативного богатства. На Четырнадцатой улице Анджела издали увидела арку Вашингтона, залитую желтовато-белым заревом электрических фонарей. — Что это такое? — заинтересовалась она. — Это арка Вашингтона, — ответил Юджин. — Она видна из нашей квартиры, с южной стороны площади. — Как красиво! — воскликнула она. Арка привела Анджелу в восторг, а когда они миновали ее и их взорам открылась вся площадь, ей показалось, что она в раю и что жить тут просто наслаждение. — Здесь? — спросила она, когда кэб остановился у здания, где находилась студия. — Да, здесь. Тебе нравится? — Очень, — ответила она. Они поднялись по белым каменным ступеням старинного дома и далее по лестнице, устланной красной дорожкой, на третий этаж и вошли в тесную студию, где Юджин, чиркнув спичкой, зажег (для большего эффекта) восковые свечи. По мере того как он зажигал одну свечу за другой, мягкий свет все ярче озарял комнату, и тогда Анджела увидела старинные стулья чиппендейл, письменный стол хепелуайт, фламандский ларь, в котором хранились старые и новые рисунки, зеленую сеть, усыпанную блестящими осколками, напоминавшими рыбью чешую, четырехугольное зеркало в золоченой раме над камином, а на мольберте — большую, сразу бросившуюся ей в глаза картину: три паровоза в серую, пасмурную погоду. Все это показалось Анджеле верхом красоты. Теперь она поняла, насколько велика разница между банальной роскошью отеля и обстановкой студии, в которой чувствовался своеобразный вкус ее владельца. Тяжелые канделябры-семисвечники по обеим сторонам квадратного зеркала ошеломили ее, а черный рояль, стоявший в углублении за наполовину задернутой сетью, вызвал у нее возглас восхищения. — О, как красиво! — воскликнула она, подставляя Юджину лицо для поцелуя. Он обнял ее, и она снова принялась изучать картины, мебель, медные и бронзовые безделушки. — Когда же ты все это раздобыл? — спросила она, потому что Юджин не успел ей рассказать о своей удаче: как он узнал о предстоящем отъезде Декстера и снял у него студию, с условием вносить за нее арендную плату и содержать в порядке. — Студия не моя, — небрежно ответил он, растапливая камин, в котором швейцар заранее приготовил дрова. — Я снял ее на время у Рассела Декстера. Он уехал в Европу, где пробудет до следующей зимы. Я подумал, что это лучше, чем ждать твоего приезда и потом уже обставлять квартиру. Мы успеем это сделать и будущей осенью. Он надеялся, что весною ему удастся устроить выставку и что-нибудь выгодно продать. Так или иначе, выставка принесет ему известность и даст возможность больше зарабатывать. У Анджелы упало сердце, но уже через секунду она овладела собой. Разве не чудо, что Юджину удалось снять хотя бы на время такую замечательную студию. Она глянула в окно. Перед нею расстилалась окаймленная рядами домов огромная площадь с купами деревьев, еще сохранявших редкую пыльную листву, с десятками фонарей, которые шипя излучали ослепительно яркий свет, с изящными контурами желтовато-белой арки у выхода на Пятую авеню. — До чего здесь хорошо! — снова воскликнула она и, подбежав к Юджину, обвила его шею руками. — Я и думать не могла, что будет так чудесно. Как ты меня балуешь. Она протянула ему губы, и он ущипнул ее за щеку и поцеловал. Они вместе обошли кухню, спальню и ванную, а немного спустя задули свечи и отправились на покой.Глава 30
После тишины маленького городка, после однообразия и простоты провинциальной жизни и скучных, утомительных обязанностей сельской учительницы незнакомый мир, в который окунулась Анджела, показался ее изумленному взору исполненным красоты, радостной новизны и счастья. Если человеческие чувства быстро притупляются под действием часто повторяющихся впечатлений, то столь же свойственно им преувеличивать красоту и прелесть непривычного. Раз это ново, то должно быть лучше, чем все, что было раньше. Как часто внешняя обстановка, которой мы себя окружаем, меняет наше отношение к жизни! Если человек был беден, богатство сделает его на время как будто счастливым. Если он находится среди людей чуждых взглядов, то, очутившись в благоприятном окружении, он будет некоторое время думать, что все его затруднения разрешены. Это показывает, как мало знакомо нам то внутреннее спокойствие, которое не могут поколебать никакие изменения в наших материальных условиях. Когда Анджела проснулась на другое утро, студия, где ей предстояло жить, показалась ей верхом совершенства. Она восхищалась вкусом, с каким все было расставлено, и радовалась таким удобствам, как ванна с горячей и холодной водой тут же, рядом со спальней, и кухня с аккуратными рядами необходимой посуды и утвари. Из небольшого уголка, где они устроили столовую, видна была сама студия. Здесь Анджела получила свои первые представления об искусстве, предметом которого является природа, красота форм человеческого тела, многообразие красок и оттенков. Как это было непохоже на существование школьной учительницы! Когда она сравнивала длинный, приземистый старенький дом в Блэквуде, его подслеповатые окошки, затененные плющом, небрежно разбросанные клумбы и большую лужайку — с этой студией, тесно заставленной и замысловато убранной, с окнами, выходящими на Вашингтон-сквер, все было в пользу последней. Впрочем, по мнению Анджелы, их даже и сравнивать было нельзя. Если бы она прочитала мысли Юджина, ей трудно было бы понять, что ее родной городок, уединенная ферма ее отца, голубые воды маленького озера и тени высоких деревьев на лужайке сроднились в его представлении не только со всем, что есть истинно прекрасного, но и с ее собственным очарованием. Среди всей этой красоты она и сама была прекрасной. Она не понимала, как много теряет, расставшись с ней. Самой Анджеле эти спутники ее прежней жизни казались теперь неприглядными, ненужными, не стоящими внимания. Зато новый мир был для нее в своем роде чудесной пещерой Аладина. Когда она утром глянула из окна на огромную площадь и впервые увидела ее, залитую ярким солнцем, с рядом внушительных кирпичных зданий на севере и с гигантским небоскребом на востоке, увидела грузовики, подводы, трамваи и экипажи, грохотавшие внизу по мостовой, на нее повеяло молодостью и энергией. — Придется нам одеться и идти завтракать в ресторан, — сказал Юджин. — Я не догадался что-нибудь припасти. Признаться, я не знал бы даже, что купить, если б и захотел. Мне еще никогда не приходилось хозяйничать. — Не важно, — ответила Анджела, гладя его руки. — Давай лучше не ходить в ресторан, разве только не удастся ничего придумать. Сначала я загляну сюда. Не теряя времени, она направилась в крохотный чуланчик, отведенный под кухню, посмотреть, что там есть из посуды. Она мечтала о том, как будет готовить, вести хозяйство, ухаживать за Юджином, баловать его, и вот теперь ей представлялась эта возможность. Оказалось, что у Декстера, их щедрого хозяина, было много всяких необходимых в хозяйстве вещей: два фарфоровых сервиза, — обеденный и кофейный — коричневый и голубой, кофеварка, прелестный матово-синий чайник с такими же чашками, вафельницы всех фасонов и размеров, сотейник для жаркого, всевозможные кастрюли и сковородки, а также в изобилии ножи и вилки, серебряные и простые. По-видимому, он время от времени принимал гостей, так как Анджела нашла хлебницу, сухарницу, банки для сахара, муки и соли, а в маленьком шкафчике с выдвинутыми ящиками всякие пряности. — Да тут ничего не стоит самой что-нибудь приготовить, — сказала Анджела, зажигая газ, чтобы убедиться, в порядке ли плита. — Я сбегаю только в магазин, если ты меня проводишь, и закуплю все, что нужно. Это займет несколько минут. Потом я уж сама осмотрюсь. Юджин охотно согласился. Анджела всегда считала, что из нее выйдет идеальная хозяйка, и теперь, когда ее Юджин был с нею, ей не терпелось скорее приступить к делу. Вот будет удовольствие показать ему, как она прекрасно управляется с хозяйством, как работа спорится у нее в руках, как бережно она обращается с деньгами — их общим достоянием. Убедившись, что искусство не бог весть какое доходное занятие, Анджела сокрушалась в душе, что не принесла мужу приданого. Но она знала, что Юджин не придает этому значения. Ведь он так непрактичен. Он, конечно, великий художник, но в житейских делах совершенное дитя, особенно по сравнению с ней. Да и не удивительно — ведь она столько времени покупала все необходимое для своих братьев и сестер, выгадывая каждый цент. Анджела свернула волосы в аккуратный узел, вынула из саквояжа (сундуки еще не прибыли) изящное домашнее светло-зеленое платьице, надела его и с Юджином в качестве проводника отправилась разыскивать магазины. Когда они стояли вместе у окна, он объяснил ей, что в переулках, радиусами расходящихся к югу от площади, тянутся рядами лавки итальянских торговцев — мясников, булочников, зеленщиков, в один из таких переулков они сейчас и направились. Очутившись на оживленной улице, Анджела ахнула — такое кругом было движение и столько толпилось народа. Они купили картофеля, помидоров, яиц, муки, масла, бараньих котлет и соли — с десяток всяких пакетов и всего понемножку — и поспешили обратно в студию. Некоторые лавки своим видом произвели на Анджелу отталкивающее впечатление. Попадались, правда, и довольно опрятные, и все же ей представлялось странным делать покупки в итальянском квартале, среди шумливой, оживленно жестикулирующей оравы женщин и детей со смуглыми, как дубленая кожа, лицами и лихорадочно горящими глазами. Юджин, в коричневом костюме и мягкой зеленой шляпе, казался здесь человеком из другого мира. Он был такой стройный и так выделялся среди окружающих своим спокойным достоинством и сдержанной речью, когда, обращаясь к ней, делился своими впечатлениями. — Они особенно хороши с серьгами в ушах, — сказал он про итальянок. — Этот угольщик — настоящий корсиканский бандит, — заметил он в другом случае. — Посмотри на ту старуху, с нее можно писать Эндорскую волшебницу. Анджела была целиком поглощена покупками. Она весело улыбалась Юджину, но думала о своем. Все ее мысли были заняты тем, в каких количествах закупить продукты, где хранить молодой картофель, вполне ли чист ледник, сколько времени потребуется на то, чтобы осторожно обмахнуть пыль со всего, что стоит в студии. Голые кирпичные стены зданий, грязь и отбросы в водосточной канаве, голодные, тощие бродячие собаки и кошки, густые толпы пешеходов — во всем этом она не находила ровно ничего живописного. И, лишь прислушавшись к замечаниям Юджина, звучавшим очень серьезно, она стала догадываться, что окружающее представляет в глазах художника какой-то интерес. Если Юджин так говорит, — значит, так и есть. Удивительный это мир, каков бы он ни был, — и, несомненно, она будет очень, очень счастлива. Они позавтракали горячими бисквитами с маслом, омлетом с помидорами, жареным картофелем со сметаной и кофе. Юджин, столько времени довольствовавшийся однообразной ресторанной стряпней, нашел этот завтрак идеальным. Сидеть в собственной квартире, против очаровательной жены, которая только и думает, как бы тебе угодить, перед обильным столом, уставленным блюдами, лучше которых ты никогда не едал, — ничего более приятного нельзя и представить. И он мысленно рисовал себе счастливое будущее, если только удастся добыть средства для такой жизни. Конечно, денег потребуется много, гораздо больше, чем он до сих пор зарабатывал, но он все же рассчитывал свести концы с концами. После завтрака Анджела играла на рояле, а потом, когда Юджин выразил желание поработать, она уже по-настоящему взялась за свои хозяйственные обязанности. Как раз прибыл багаж, не говоря уже о том, что надо было позаботиться о втором завтраке и обеде, — а тут и любовь предъявляла свои права, — словом, дел у нее набралось больше чем достаточно. Первое время эта жизнь казалась им восхитительной. Юджин предложил пригласить к обеду Смайта и Мак-Хью — самых близких своих приятелей. Анджела охотно согласилась, тем более, что и сама горела желанием познакомиться с друзьями Юджина. Пусть убедятся, что она не хуже других умеет принять гостей. Она стала усиленно готовиться к среде — на этот день был назначен обед — и уже с самого утра была как на иголках, до того ей хотелось увидеть, что представляют собой друзья Юджина, и узнать, какого они будут мнения о ней. Званый обед сошел как нельзя лучше. Студия произвела на двух веселых друзей большое впечатление, и они не скупились на похвалы, а Юджина поздравляли с тем, что судьба наградила его такой женой. Анджела в том же платье, что и на обеде в Буффало, была очень эффектна, а ее густые золотистые волосы совершенно очаровали Смайта и Мак-Хью. — Ух, какие косы! — потихоньку заметил Смайт своему приятелю, так чтобы хозяева не услышали. — Да, ничего не скажешь, — ответил Мак-Хью. — И вообще хозяюшка у него хоть куда, не правда ли? — Еще бы! — сказал Смайт, которого восхищали безыскусственность и добродушие этой девушки с Запада. Немного погодя они в несколько более изысканных выражениях высказали свое восхищение вслух, и Анджела была чрезвычайно довольна. Мариетта, только что приехавшая в Нью-Йорк, еще не показывалась гостям. Она переодевалась в единственной спальне, которой располагала студия. Анджела, в своем очаровательном наряде, лично наблюдала за приготовлениями к обеду. С помощью швейцара она раздобыла девушку, которая помогла ей прислуживать за столом, но кухарку так и не удалось найти. Обед состоял из супа, рыбного блюда, жареных цыплят и салата. Наконец вышла Мариетта, совершенно обворожительная в своем розовом шелковом платье. При виде ее Смайт и Мак-Хью остолбенели, и Мариетта немедленно пустила в ход свои чары. Для этой девушки не существовало разницы между мужчинами — она каждого готова была сделать своим рабом, надеть на вертел своей красоты и томить в соку любовных терзаний. Впоследствии Юджин прозвал улыбку Мариетты кинжалом. Стоило ей улыбнуться, как он восклицал: — А! Клинок снова вынут из ножен! В кого-то он сегодня вонзится? Бедная жертва! Теперь он был зятем Мариетты и мог позволить себе обнять ее за талию, а она пользовалась родственными отношениями, чтобы целоваться с ним. В Юджине было что-то, что всегда влекло ее, и в течение этих первых дней после свадьбы сестры она давала волю своему давнишнему желанию чувствовать себя в его объятиях, оставаясь, однако, начеку и тем самым заставляя его держаться в рамках. Втайне ее очень интересовало, насколько она ему нравится. Едва она показалась, Смайт иМак-Хью вскочили и принялись хлопотать вокруг нее. Мак-Хью предложил ей свое место у камина. Смайт не отставал от друга. — Я провела чудесную неделю в Вест-Пойнте, — весело затараторила Мариетта. — Вы представляете, все время танцы, парады, прогулки с военными. — Предупреждаю вас обоих — вы на краю пропасти, — сказал Юджин, уже усвоивший привычку дразнить Мариетту. — Эта женщина опасна. И вам, как художникам с именем, не мешает поостеречься. — Как вам не стыдно, Юджин, — рассмеялась Мариетта, показывая свои прелестные зубки. — Ну вы подумайте, мистер Смайт, разве это не безобразие так рекомендовать сестру своей жены? Тем более что я приехала всего на несколько дней, у меня и времени-то в обрез. Я нахожу, что это возмутительно. — Это просто позор, — отозвался Смайт, обнаруживая полную готовность сделаться ее жертвой. — Не такой вам нужен был зять. Если б вы имели дело с человеком, которого я хорошо знаю… — Форменное издевательство, — добавил со своей стороны Мак-Хью. — Впрочем, много времени вам и не понадобится. — Ну, уж это совсем не по-рыцарски, — рассмеялась Мариетта. — Я вижу, что все здесь против меня, за исключением мистера Смайта. Но ничего, вы еще пожалеете, когда я уеду. — Охотно этому верю, — с чувством сказал Мак-Хью. Смайт ничего не сказал. Он просто млел от восторга перед этой девушкой, у которой цвет лица напоминал персики со сливками. Он пожирал взглядом ее волнистые каштановые волосы, блестящие голубые глаза и точеные руки. Каким раем должна быть жизнь с этим веселым и добродушным созданием. «Интересно было бы знать, — думал он, — что представляет собой семья, с которой Юджин породнился. Анджела, Мариетта, брат в Вест-Пойнте — не иначе как милые, добропорядочные и состоятельные люди». Мариетта отправилась на кухню помогать сестре, и Смайт, воспользовавшись отсутствием Юджина, шепнул приятелю: — Что ты скажешь? Ведь он совсем не плохо устроился? А эта, помоложе, — настоящая красотка! Она, пожалуй, перещеголяет сестру. Мак-Хью только глазел по сторонам. Все здесь приводило его в восхищение. Старинная мебель, ковры, портьеры, картины, горничная в белом передничке и наколке, Анджела, Мариетта, стол, накрытый белоснежной скатертью и уставленный разноцветным фарфором, серебряные канделябры — подумать только, что в каких-нибудь десять дней с Юджином произошло такое превращение. Уж действительно кому повезет… Эта студия была редкостной находкой… Ведь вот другим… И Мак-Хью задумчиво покачал головой. — Ну, — спросил Юджин, который выходил в спальню, чтобы переодеться к обеду, — что ты скажешь, Питер? — Скажу, что ты идешь в гору, Юджин. Я никак не ожидал. Благодари небо. Тебе, безусловно, везет. Юджин загадочно улыбнулся. «Действительно ли это так?» — подумал он. Ни Смайту, ни Мак-Хью, ни кому другому и невдомек, при каких обстоятельствах все произошло. Сколько в общем лицемерия на свете! Даже смешно, до чего обманчива видимость! Если бы кто-нибудь знал, какая необходимость толкнула его на поиски квартиры и с каким тяжелым сердцем он взялся за это. Мариетта вернулась в студию, а с нею и старшая сестра. Анджела прониклась теплым чувством к обоим друзьям мужа — к этим мальчикам, как она уже мысленно их называла. Юджин усвоил себе манеру характеризовать каждого, о ком бы ни заговорил, как «славного малого» — его обычное определение. Так и эти двое одаренных молодых людей были для него всего лишь славными ребятами из провинции, как и сам он, и Анджела стала относиться к ним так же. — Мне бы очень хотелось как-нибудь набросать ваш портрет, миссис Витла, — сказал Мак-Хью, когда Анджела снова заняла свое место у камина. В последнее время он пробовал свои силы в портретной живописи и рад был случаю попрактиковаться. Анджела пришла в восторг и от лестного предложения и оттого, что услышала в первый раз «миссис Витла» из уст старого друга Юджина. — Я буду очень рада, — ответила она зардевшись. — Честное слово, ты прелестна, Ангелочек! — воскликнула Мариетта, обнимая сестру за талию. — Нарисуйте ее с косами, мистер Мак-Хью, ведь она совершеннейшая Гретхен. Анджела снова вспыхнула. — Я, собственно, сам об этом подумывал, Питер, — сказал Юджин. — Но так и быть, попробуй ты. Я не большой мастер по части портрета. Смайт улыбнулся Мариетте. Ему бы очень хотелось нарисовать ее, но человеческие фигуры давались ему плохо, разве лишь как детали для его морских видов. При этом мужчины удавались ему лучше женщин. — Вот если б вы были старым морским волком, мисс Блю, — сказал он, обращаясь к Мариетте, — я бы создал из вас шедевр. — Что ж, за этим дело не станет, если только вы напишете мой портрет, — весело отозвалась она. — Воображаю, как бы я была хороша в высоких сапогах и в непромокаемом плаще, не правда ли, Юджин? — По-моему, вы были бы красавицей, — сказал Смайт. — Приходите к нам в студию, и я вас наряжу. У меня есть полный костюм моряка. — Непременно приду, — рассмеялась Мариетта. — Вы только скажите — когда. Мак-Хью почувствовал, что Смайт обгоняет его, и, чтобы наверстать упущенное, удвоил внимание к Мариетте. — Послушай, Джозеф, — запротестовал он, — я только собрался предложить мисс Блю написать ее портрет. — Опоздал, — ответил Смайт. — Ты бы еще подольше думал. Мариетту поразила обстановка, в какой жили Анджела и Юджин. Она была подготовлена к тому, что увидит, как живут художники, но эта студия превзошла все ее ожидания. Анджела рассказала ей, что квартира не принадлежит Юджину, но в глазах Мариетты это не играло большой роли. Факт тот, что сейчас это его студия. Он получил ее благодаря своим связям в обществе и в кругах художников. Он и Анджела блестяще начинали совместную жизнь. Если бы она могла рассчитывать на такой прелестный уголок для начала своей замужней жизни, она была бы вполне довольна. Потом все сели за круглый стол из тикового дерева — одно из сокровищ Декстера, — и временная горничная Анджелы стала подавать обед. Беседа велась легко и непринужденно — собственно, ни о чем, больше для того, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Молодые художники очень понравились Анджеле и Мариетте, поскольку обе они угадывали в своих собеседниках некоторую житейскую положительность. Те, не рисуясь, говорили об испытаниях и удачах, которые выпадают на долю художника, о том, как трудно добиться хорошего заработка; они, по-видимому, были на дружеской ноге со знаменитостями из разных кругов общества — величайшая награда всякого таланта. За обедом Смайт рассказывал о своих приключениях на море, а Мак-Хью — о жизни в горняцких поселках Запада. Мариетта принялась описывать своих висконсинских поклонников, высмеивая простоватых блэквудских обывателей, и Анджела вторила ей. Наконец Мак-Хью сделал карандашный набросок, изобразив Мариетту в сопровождении длинного хвоста деревенских воздыхателей, от которых она лицемерно отворачивается, воздев очи к небу. — Ну, это уж совсем жестоко! — воскликнула она, когда Юджин, увидев рисунок, стал от души хохотать. — Я никогда так не закатываю глаза. — Нет, он правильно тебя нарисовал, — заявил Юджин. — Ты — широкая, усыпанная цветами тропа, которая ведет к погибели. — Не обращай внимания, Бэбиетт, — вставила Анджела, — я за тебя заступлюсь, если никто другой не заступится. Ты милая, скромная, робкая девушка, и вообще ни на кого не смотришь, не правда ли? Анджела встала и шутливо прижала к себе голову Мариетты, как бы выражая сочувствие ее безутешному горю. — Вот чудесное имя, — восхитился Смайт, растроганный красотой Мариетты. — Бедная Мариетта, — сказал Юджин. — Подойди ко мне, я тебя тоже пожалею. — Вы не так поняли мой рисунок, мисс Блю, — весело заметил Мак-Хью. — Я просто хотел показать, каким успехом вы пользуетесь. Когда провожали гостей, Анджела стояла рядом с Юджином, охватив его гибкой рукой. Мариетта кокетничала на прощанье с Мак-Хью. Какое большое преимущество у его друзей, думал Юджин, они холостяки и могут сколько угодно шутить с Мариеттой и ухаживать за нею. Для него все это кончено. Он уже никогда не сможет любезничать ни с одной девушкой. Он должен вести себя серьезно, быть сдержанным и осторожным. Юджину стало больно от этой мысли. Он вдруг почувствовал, что это вовсе ему не свойственно. Ему хотелось быть таким, как всегда, — ухаживать за Мариеттой, если бы она позволила, а вот и нельзя. Когда дверь за гостями закрылась, он подошел к камину. — Какие они оба милые! — воскликнула Мариетта. — Мак-Хью такой забавный. Он с большим юмором. — Смайт тоже славный, — заступился Юджин за своего друга. — Оба они чудесные, просто чудные. — И мне понравился Мак-Хью, он такой оригинал, — заметила Анджела. — Но и мистер Смайт тоже славный и очень положительный. Большего нельзя и требовать от мужчины. А все-таки нет никого на свете лучше моего Юджина, — нежно сказала она, обнимая его. — О боже, вы опять за свое! — воскликнула Мариетта. — Ну, я иду спать. Юджин вздохнул. Они припасли кушетку для Мариетты, с тем чтобы по уходе гостей поставить ее в альков за унизанный блестками занавес. Юджин с грустью думал о том, что любовь Анджелы для него уже не новость. Этого не было бы, если б он женился на Мариетте или Кристине. Он все больше убеждался, что питает к жене только физическое влечение. И этим ему придется довольствоваться? Разве это возможно? Эта мысль повлекла за собой множество других мыслей, которые с этих пор уже не покидали его, хотя он не всегда замечал их присутствие и ощущал их не с одинаковой остротой. Мгновенная вспышка жалости, страсть, восхищение могли на время заглушить их, но, в сущности, они не оставляли его. Он сделал ошибку. Он сам накинул себе петлю на шею. Он подчинился условностям, которых отнюдь не одобрял. Как поправит он теперь совершившееся? И поправимо ли оно вообще?Глава 31
Но какие бы мысли Юджин ни таил в душе, он начал свою семейную жизнь с видом человека, достаточно серьезно относящегося к браку. Раз уж он женат и связан законными узами, решил он, остается только примириться. Было время, когда у него мелькала надежда, что можно будет скрывать от всех свою женитьбу и не показывать Анджелу друзьям, но такую мысль пришлось отбросить, когда он увидел, как отнеслись к его браку Мак-Хью и Смайт. А главное, приходилось считаться с самой Анджелой. Он стал подумывать о том, что нужно бы известить о своей женитьбе друзей — Мириэм Финч и Норму Уитмор, а возможно, и Кристину Чэннинг, — когда она вернется. В этих трех женщинах заключалась для него самая большая трудность. Он понимал, какое невыгодное впечатление Анджела будет производить рядом с ними. Что они подумают о нем, о ней? Теперь, когда она была тут, в Нью-Йорке, он не мог не видеть, что она представляет здесь совершенно иной, чуждый мир. Пригласив к обеду Смайта и Мак-Хью, он открыл кампанию, которую теперь предстояло продолжить. Юджина тревожила, главным образом, мысль, как примет эту новость Мириэм Финч, поскольку Кристина Чэннинг была в отъезде, а Норма Уитмор не так уж много значила для него. Он твердил себе, что должен был известить их раньше и что необходимо поскорее исправить эту ошибку. В конце концов он так и поступил, написав Норме Уитмор кратко, но выразительно: «Ваш покорный слуга женился. Разрешите приехать к Вам с женой, чтоб познакомить вас». Мисс Уитмор была поражена. Вначале она огорчилась — и даже очень, так как Юджин чрезвычайно интересовал ее и она опасалась за удачность его выбора. Но она поспешила улыбнуться на эту очередную насмешку судьбы и ответила ему коротенькой запиской:«Дорогие Юджин с супругой! Вот так новость! Поздравляю. Непременно забегу к вам, как только приду в себя от изумления. А потом вы оба должны побывать у меня»Юджин обрадовался и в душе поблагодарил Норму за то, что она так мило отнеслась к этому, но Анджелу чуть-чуть задевало втайне, что он не рассказал ей про Норму раньше. Почему он скрыл от нее существование этой женщины? Уж не та ли это, которой он интересовался? Три года, в течение которых она, терзаемая сомнениями, ждала Юджина, обострили ее подозрительность и посеяли в душе ее немало страхов. Все же она решила не придавать этому значения и притворилась, что ей будет очень приятно познакомиться с мисс Уитмор. Юджин рассказал ей, как хорошо относится к нему эта женщина, как она верит в его дарование, сколько вокруг нее талантливой молодежи, начинающих художников и литераторов, и как считаются с ее мнением влиятельные люди. Она еще не раз окажет ему услугу. Анджела терпеливо слушала, но не могла подавить легкого недовольства от того, что он такого высокого мнения о другой женщине. С какой стати он, Юджин Витла, должен зависеть от услуг какой-то своей приятельницы? Она, по всей вероятности, очень милый человек, и они будут друзьями, но… Норма пришла два дня спустя под вечер и принесла с собою ту атмосферу восторженности, которая, как казалось Юджину, была от нее неотъемлема. В ее преклонении перед его талантом он черпал уверенность и силу. — Юджин Витла, скверный вы поросенок! — пожурила она Юджина, так как была чуть обижена на него — самую малость, за измену их дружбе. — Что это вы вздумали вдруг удрать и жениться, никому ни слова не сказав? Вы даже лишили меня возможности сделать вам свадебный подарок, но лучше поздно, чем никогда. Какой очаровательный уголок, просто прелесть! — И, положив на стол пакет с подарком, Норма стала оглядываться, ища глазами миссис Юджин Витла. Анджела тем временем заканчивала в спальне свой туалет. Она ожидала нападения и приготовилась к нему, надев для этого случая свое светло-зеленое домашнее платье. Услыхав фамильярный тон, которым мисс Уитмор разговаривала с ее мужем, она слегка вздрогнула, так как подобное обращение говорило о продолжительном и близком знакомстве. Юджин почти не упоминал о мисс Уитмор раньше и только недавно стал рассказывать про нее, но теперь стало ясно, что они давнишние и близкие друзья. Анджела заглянула в студию и увидела высокую, не очень красивую, но грациозную женщину, все существо которой дышало умом и энергией и говорило о богатстве и утонченности чувств и восприятий. Юджин жал гостье руку и радостно смотрел ей в глаза. «Чем она его обворожила? — тотчас же возник у нее вопрос. — Почему он на нее так смотрит?» Слова «Юджин Витла, скверный поросенок» вызвали в ней раздражение. Это звучало так, будто Норма сама влюблена в него. Через несколько минут Анджела вышла к гостье с любезной, приветливой улыбкой, но мисс Уитмор сразу почувствовала в этой любезности оттенок неприязни. — Так это и есть миссис Витла! — воскликнула она, целуя Анджелу. — Страшно рада познакомиться с вами. Меня всегда интересовало, на ком женится мистер Витла. Вы должны простить меня, что я называю его попросту Юджином. Поскольку он теперь человек женатый, я постараюсь отделаться от этой привычки. Но мы с ним старые друзья, и я большая поклонница его таланта. Ну, как вам нравится жизнь художника, или, может быть, вам это не в новинку? Анджела, жадно изучавшая старую приятельницу Юджина, ответила не без наигранной наивности, что, напротив, ей все здесь в новинку, она ведь прямо из деревни, самая настоящая фермерская дочка, да еще из такого медвежьего угла, как Блэквуд, в штате Висконсин. Она сделала паузу, чтобы дать Норме возможность выразить дружеское изумление, а потом добавила, что Юджин, по-видимому, мало кому говорил про нее, хотя писал ей достаточно часто. Как ни оскорбительно было для Анджелы сознание, что Юджин так упорно утаивал ее от своих друзей, она не могла не торжествовать при мысли, что достался он в конце концов ей, а не мисс Уитмор. Восторженность этой женщины наводила на мысль, что Юджин ей очень нравится. Так вот, значит, какого рода женщины заставляли его медлить с женитьбой. Интересно, каковы же другие? Разговор зашел о нью-йоркской жизни. В это время вернулась Мариетта, бегавшая по магазинам вместе с некоей миссис Линк, женой армейского капитана, служившего инструктором в Вест-Пойнте, и тотчас же был подан чай. Мисс Уитмор настойчиво приглашала их к себе обедать. Юджин сообщил ей, что посылает одну из своих картин на выставку в академию. — Ее, разумеется, примут, — сказала Норма. — Но вам следовало бы устроить самостоятельную выставку своих картин. Мариетта принялась тараторить о том, какое чудо эти большие магазины, и вскоре мисс Уитмор стала прощаться. — Вы придете ко мне, не правда ли? — обратилась она к Анджеле, так как, невзирая на какое-то чувство отчужденности, мешавшее их сближению, твердо решила хорошо относиться к ней. Мисс Уитмор думала, что только неопытность и самонадеянность могли толкнуть Анджелу на брак с Юджином. Она очень опасалась, что эта женщина ему не пара. Хотя, с другой стороны, Анджела оригинальна и довольно пикантна. Возможно, что они и поладят. Анджела же не переставала думать о том, что мисс Уитмор чересчур подчеркивает свою старую дружбу с Юджином и что она какая-то неестественная и слишком восторженная. А потом настал день, когда с визитом явилась Мириэм Финч. Вездесущий Ричард Уилер, узнав от Смайта и Мак-Хью о женитьбе Юджина и его новом местожительстве, поспешил к нему, а от него отправился прямиком к Мириэм Финч. Сам немало удивленный, он знал, что мисс Финч будет поражена еще больше. — Витла женился! — воскликнул он, врываясь к ней и еще не отдышавшись. И в первое мгновение Мириэм настолько потеряла самообладание, что чуть ли не трагическим тоном воскликнула: — Да вы в своем ли уме, Ричард Уилер! Не может этого быть! — Женился! — уверял Уилер. — Они живут на Вашингтон-сквер, дом номер шестьдесят один. И у него премиленькая жена с золотыми волосами. Анджела очень ласково приняла Уилера и успела обворожить его. Атмосфера уюта, царившая в студии, тоже произвела на него впечатление, и он подумал, что для Юджина это будет очень полезно. Ему необходимо остепениться и как следует приняться за работу. Мириэм внутренне содрогнулась, слушая повествование Уилера. Она была сильно обижена вероломством Юджина: он не нашел нужным даже намекнуть, что собирается жениться. — Они уже десять дней как женаты, — сообщил Уилер и этим огорчил ее еще больше, а то обстоятельство, что Анджела «премиленькая и с золотыми волосами», вконец расстроило ее. — Однако! — воскликнула она с притворной веселостью. — Он мог бы все-таки поделиться с нами этой новостью, не правда ли? Она постаралась скрыть свое замешательство под маской беспечного равнодушия. Конечно, по отношению к ней Юджин проявил возмутительную небрежность, но, с другой стороны, почему ему было вести себя иначе? Он никогда не делал ей предложения. Правда, духовно они были очень близки. Ей не терпелось увидеть Анджелу. Интересно, что представляет собой эта женщина. «Премиленькая! С золотыми волосами!» Ну, конечно, Юджин, как и все мужчины, пожертвовал очарованием ума и души ради хорошенькой фигурки и смазливого личика. Почему-то ей всегда казалось, что он не способен на такой поступок, что его жена — если он вообще когда-нибудь женится — будет высокая, изящная женщина, блестящего ума — одним словом, существо исключительное. Чем объяснить, что мужчины, высокоразвитые и талантливые, да и все мужчины вообще, в вопросах брака ведут себя как дураки? Ну что ж, она поедет к нему и посмотрит. Узнав, что Уилер сообщил Мириэм о его женитьбе, Юджин написал ей, стараясь быть возможно лаконичнее, что он женился и хотел бы навестить ее с Анджелой. В ответ Мириэм явилась сама, веселая, улыбающаяся, безукоризненно одетая, горя желанием как-нибудь уязвить Анджелу за то, что ей досталась эта победа. Она также хотела показать Юджину, как мало ее затрагивает перемена в его жизни. — И скрытный же вы молодой человек, мистер Юджин Витла! — воскликнула она, здороваясь с ним. — Отчего вы не заставили его уведомить нас, миссис Витла? — лукаво обратилась она к Анджеле, вкладывая в свои слова тайный яд. — Можно подумать, что он хотел утаить вас от друзей. Анджела вздрогнула, как от удара бичом. В словах Мириэм ей послышался явный намек на то, что Юджин пытался скрыть их брак, словно он стыдился ее. И сколько еще у него таких приятельниц, как Норма Уитмор и Мириэм Финч? Юджин находился в блаженном неведении насчет истинных чувств Мириэм и, когда миновали первые тягостные минуты, стал без умолку говорить о всякой всячине, стараясь, чтобы все, по возможности, выглядело просто и естественно. Когда вошла Мириэм, он как раз работал над одной из своих картин, и ему очень хотелось услышать ее мнение, так как вещь была почти готова. Мириэм, прищурившись, посмотрела на мольберт. Она нашла картину исключительной, но ничего не ответила на его вопрос, хотя раньше рассыпалась бы в похвалах. Она расхаживала по мастерской с безразличной миной, разглядывая с видом знатока то одну вещь, то другую, расспрашивала Юджина, как ему удалось заполучить студию, и поздравляла с удачей. Анджела, решила она, хорошенькая женщина, но по своему умственному уровню не подходит Юджину и с ней считаться не стоит. Юджин промахнулся. Это ясно. — Вы непременно должны прийти ко мне с миссис Витла, — сказала она на прощание. — Я вам сыграю и спою несколько моих новинок. Я недавно откопала очаровательные итальянские и испанские романсы. Анджела, всегда выставлявшая себя перед Юджином музыкантшей, была возмущена этим приглашением, сделанным таким снисходительным тоном, а также всем поведением Мириэм, которая не сочла даже нужным поинтересоваться ее музыкальными способностями и вкусами. Почему она разговаривает так высокомерно, тоном превосходства? Что ей за дело до того, рассказывал ли Юджин кому-нибудь про свою жену или нет? Она ни словом не обмолвилась о том, что сама тоже играет, но ее удивило, почему молчит Юджин. Это показалось ей признаком неуважения и невнимания. А Юджин был весь поглощен мыслью, понравилась ли Мириэм его картина. Прощаясь, она крепко пожала ему руку и сказала с лукавой улыбкой: — Я убеждена, что вы оба будете безумно счастливы. До Юджина дошло, наконец, скрывавшееся в каждом ее слове раздражение. Он понял, что оно не могло ускользнуть и от его жены. Мириэм внутренне кипела — вот чем все объяснялось. Она чувствует себя оскорбленной. Она, по-видимому, успела составить себе мнение об Анджеле, и едва ли оно благоприятное. Во всем ее поведении явно сквозило желание показать, что его жена ровно ничего собой не представляет, что она никакого отношения не имеет к тому избранному кругу художников, к которому принадлежат они — Мириэм и Юджин. — Как она тебе понравилась? — спросил Юджин, нащупывая почву; он угадывал в Анджеле скрытое возмущение, хотя не знал в точности, чем оно вызвано. — Она мне не понравилась, — с обидой ответила Анджела. — Воображает себя лучше всех. С тобой обращается, точно ты ее собственность. Меня она открыто оскорбила, сказав, что ты утаил от всех мое существование. И мисс Уитмор тоже меня оскорбляла. Все меня оскорбляют! И будут оскорблять! О! Она вдруг разразилась слезами и, рыдая, кинулась в спальню. Юджин пошел за нею, ошеломленный, пристыженный, растерянный, виноватый. — Что ты, Анджела! — начал он умоляющим голосом, наклонившись над женой и пытаясь поднять ее. — Ты прекрасно знаешь, что это неправда. — Нет, правда, правда! — настаивала она. — Не трогай меня! Не смей подходить ко мне! Ты знаешь, что это правда! Ты меня не любишь! Все время, что я здесь, ты со мной обращаешься не так, как должно. Ты не сделал ничего, чтобы меня защитить. Она прямо в лицо оскорбляла меня. Голос ее прерывался рыданиями, и Юджину было и больно и жутко от этого неожиданного и бурного взрыва чувств. Он никогда еще не видел Анджелу в таком состоянии. Он еще ни одну женщину не видел в таком состоянии. — Полно, Ангелочек, — начал он ее утешать. — Как ты можешь так говорить? Ты прекрасно знаешь, что это неправда. Что я такого сделал? — Ты не рассказал своим друзьям о нашем браке, вот что ты сделал! — воскликнула она, судорожно всхлипывая. — Они по-прежнему считают тебя холостяком. Ты держишь меня взаперти, точно я какая-то… какая-то… бог знает кто! Твои приятельницы приходят сюда и открыто оскорбляют меня. Да, да! Оскорбляют, оскорбляют! О! И она снова разрыдалась. Несмотря на душившую ее злобу и ярость, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает. Она была уверена, что действует правильно. Юджину необходимо дать хороший урок. Он очень дурно поступил по отношению к ней, и это надо пресечь в корне. Его поведению нет никакого оправдания, и только то обстоятельство, что он — художник, витающий в туманном мире искусства, а не человек, который считается с обычными жизненными условностями, спасало его в ее глазах. То, что она сама уговорила его жениться на ней, не играло роли, и то, что он это сделал, не давало ему отпущения грехов. Анджела считала, что он только выполнил свой долг. Как бы там ни было, теперь они муж и жена, и он должен вести себя подобающим образом. Юджин стоял под этим градом обвинений, как оглушенный. Ему казалось, что у него не было никаких задних мыслей, когда он скрывал ее существование. Он только пытался защитить себя — самую малость, да и то лишь временно. — Не надо так говорить, — сказал он умоляющим тоном. — Теперь не осталось никого, кто не был бы извещен, по крайней мере из тех, кто что-то для меня значит. Просто я не подумал об этом. Я ничего не намеревался скрывать. Хочешь, я напишу каждому, кого это может интересовать? Он все еще был сильно уязвлен тем, что она — как ни велико ее горе — так грубо набросилась на него. Он не прав, это верно, — ну, а она? Разве так нужно вести себя? Разве так выражается истинная любовь? У него было очень смутно и скверно на душе. Обняв ее и гладя ее волосы, он стал просить прощения. И наконец когда Анджела решила, что он достаточно наказан, что он искренне огорчен и больше это не повторится, она сделала вид, что прислушивается к его словам, а потом вдруг бросилась к нему на шею и начала обнимать и целовать его. Кончилось все, разумеется, взрывом страсти, но эта сцена оставила в душе Юджина отвратительный осадок. Он терпеть не мог сцен. Он предпочитал высокомерное равнодушие Мириэм, веселое притворство Нормы, неподражаемый стоицизм Кристины Чэннинг. Напрасно он дал вторгнуться в свою жизнь этим шумным, бурным, злобным чувствам. Он не мог представить себе, что любовь их от этого окрепла. И все же Анджела очень мила, размышлял он. В сущности, она всего лишь простенькая девушка — не такая разумная, как Норма Уитмор, не умеющая постоять за себя, как Мириэм Финч или Кристина Чэннинг. Возможно, в конце концов, что она действительно нуждается в его заботах и нежности. Пожалуй, это к лучшему, что они поженились, и для него и для нее. Размышляя, он продолжал крепко держать ее в объятиях, и Анджела, лежа рядом с ним, внутренне торжествовала. Она чувствовала себя победительницей. Она с самого начала взяла правильный курс. Она повела Юджина по правильному пути. Она сумеет одержать над ним верх во всем — в вопросах нравственности, ума и чувства — и поставит на своем. И пусть эти женщины, которые считают себя выше ее, делают, что хотят. Юджин будет принадлежать ей, он будет великим человеком, а она — его женой. А больше ей ничего не нужно.Норма Уитмор.
Глава 32
Эта вспышка Анджелы привела к тому, что Юджин поспешил известить о своей женитьбе всех, кого еще не успел уведомить, — Шотмейера, своих родителей, Сильвию, Миртл, Хадсона Дьюла, — и получил в ответ поздравительные карточки и письма, которые и показал жене, чтобы ее успокоить. Как только все улеглось, Анджела поняла, что на Юджина эта сцена произвела тягостное впечатление, и теперь она горела желанием загладить своей нежностью те страдания, которые причинила ему из тактических соображений. Юджин и не догадывался, что в лице Анджелы — при всей ее миниатюрности и ребяческом, как ему казалось, уме — он имел дело со зрелой женщиной, прекрасно знавшей, чего она хочет. Правда, она была в какой-то мере рабой своей любви к нему, и это отчасти путало ее расчеты, а кроме того, многие его чувства и мысли были ей чужды и непонятны. Зато она инстинктивно угадывала, в чем залог незыблемости отношений между мужем и женой, а также между любой женатой парой и остальным миром. Для нее даваемая у алтаря клятва означала именно то, что в ней и говорилось: что муж и жена должны навеки прилепиться друг к другу, и отныне она не признавала никаких мыслей, чувств, переживаний, а тем более поступков, которые не находились бы в полном согласии с буквой и духом этого брачного обета. Юджин отчасти догадывался о ее настроениях, но не придавал им должного значения. Он недооценивал узость ее взглядов и правил, их непреклонность и надеялся, что сумеет заразить Анджелу своей терпимостью и добродушием. Она должна знать, что люди, особенно мужчины, по натуре своей в большей или меньшей степени непостоянны. Для них нельзя установить твердых, нерушимых законов. Это всякому понятно. Можно и должно стараться держать себя в руках, во имя самосохранения, во имя внешних приличий, требуемых обществом, но если человек согрешил, — что легко может случиться, — то нельзя считать это преступлением. И уж, конечно, не преступление — любоваться другой женщиной. А если даже, поддавшись соблазну, человек сошел с прямого пути, то разве это не в природе вещей? Разве человек сам создает свои желания? Ни в коем случае. И, если ему не удается полностью ими управлять, что ж… Жизнь у них наладилась в общем довольно интересная, хотя Юджину отравлял существование страх перед возможностью неудачи, ибо он по складу своего характера принадлежал к людям, склонным вечно волноваться, готовым все видеть в мрачном свете. Сознание, что он женился на Анджеле против своей воли, что у него еще до сих пор нет крепких связей в художественном мире, что его заработок едва достигает двух тысяч долларов в год, что он принял на себя известные материальные обязательства, удвоившие его расходы на стол, платье, развлечения и квартиру (он платил за студию на тридцать долларов в месяц больше, чем когда жил вместе со Смайтом и Мак-Хью), сильно угнетало его. Обед, который он дал в честь своих бывших сожителей, повлек за собой дополнительный расход в восемь долларов. Таких обедов будет еще немало, и стоить они будут столько же, если не больше. Придется иногда водить Анджелу в театр. Будущей осенью им предстоит обзавестись обстановкой, разве только снова подвернется что-нибудь вроде этой студии. Затем, хотя Анджела и запаслась довольно разнообразным и добротным гардеробом, его хватит не навеки. Уже вскоре после свадьбы стала появляться необходимость то в одном, то в другом. И Юджин начал понимать, что если они и впредь будут жить так же нерасчетливо и беспечно, как он жил до женитьбы, то ему необходимо иметь гораздо более высокий и верный заработок. Энергия, которую пробудили в нем эти мысли, дала кой-какие результаты. Прежде всего он послал на выставку в академию оригинал своей картины «Шесть часов», изображавшей уголок Ист-Сайда. Он давно мог бы это сделать, но почему-то так и не собрался. Анджела слышала от Юджина, что Национальная художественная академия — это своего рода форум, где выставляются произведения искусства и куда широкая публика допускается по пригласительным билетам или за плату. Добиться того, чтобы картина была принята и выставлена в залах академии, значило для художника добиться признания своего таланта и заслуг. Сам Юджин, впрочем, был не слишком высокого мнения об этом учреждении. Оценку картине давало жюри из художников, решавших — принять ее или отвергнуть, и если принять, то где повесить — на почетном месте или там, где ее никто не увидит. Почетным местом считался нижний ряд, где было прекрасное освещение и где посетители выставки могли хорошо разглядеть картину. В течение первых двух лет пребывания в Нью-Йорке Юджин не решался представить свои полотна на суд жюри, находя, что они еще не заслуживают этой чести; позднее он стал подумывать о собственной выставке, считая критерии академии в сущности пошлыми и отсталыми. Все, что ему до сих пор приходилось там видеть, было, по его мнению, бездарно и отдавало мертвечиной, и быть допущенным на такую выставку не представляло особой чести. Но теперь, возможно, увлеченный примером Мак-Хью, отчасти же потому, что он и сам собрал почти достаточное количество картин для выставки в какой-нибудь частной галерее (которую он надеялся заинтересовать ими), Юджин решился на этот шаг. Ему хотелось узнать мнение авторитетов американского художественного мира о своей работе. Может быть, они отвергнут ее. Но это послужит лишь доказательством того, что они не способны оценить искусство, порывающее с общепринятым методом и сюжетами. Он знал, что так когда-то игнорировали импрессионистов. Ну что ж, придет время, и они признают его. Если же они допустят его на выставку, это будет доказательством того, что они лучше разбираются в своем деле, чем он предполагал. — Пожалуй, это самое разумное, — рассуждал он. — Так или иначе, интересно знать их мнение. Картина была отправлена и, к великому удовлетворению Юджина, принята и повешена в зале выставки. Почему-то она не привлекла к себе того внимания, какого следовало ожидать, но свою долю похвал получила. Поэт Оуэн Овермэн, повстречавшись с Юджином в вестибюле академии в день вернисажа, горячо поздравил его. — Мне помнится, я видел ваш этюд в журнале «Труф», — сказал он, — но в действительности он несравненно лучше. Прекрасная вещь. Вам следует побольше писать в этом духе. — Я так и делаю, — ответил Юджин. — И рассчитываю в ближайшее время устроить свою собственную выставку. Он подозвал Анджелу, которая отошла в сторону, чтобы посмотреть на какую-то статую, и представил ее. — Я только что говорил вашему мужу, как мне понравилась его картина, — сказал ей Овермэн. Анджела была очень польщена тем, что ее мужу оказана такая честь; ведь картина его принята на большую выставку, где все стены увешаны прекрасными полотнами и где среди многочисленной публики так много видных людей. Расхаживая с Анджелой по выставочным залам, Юджин указывал ей то на того, то на другого известного художника или писателя и почти про каждого говорил, что он «не без способностей». Юджин знал в лицо нескольких знаменитых коллекционеров, членов жюри и меценатов и объяснял Анджеле, кто они такие. На выставку пришло много натурщиц, привлекавших внимание своей элегантной внешностью; Юджин знал их — либо понаслышке, либо лично; это были — Зелма Десмонд, позировавшая ему когда-то, Гедда Андерсон, Анна Магрудер, Лора Мэтьюсон и другие. Красота и элегантность этих женщин поразили Анджелу. Они вели себя так непринужденно и свободно, что она была изумлена. У Гедды Андерсон был вызывающий вид, но одета она была замечательно. Каждым своим движением она, казалось, подчеркивала, насколько неинтересны все обыкновенные женщины, как мало они заслуживают внимания. Она увидела Анджелу рядом с Юджином и задержала на ней недоуменный взгляд. — Правда, эффектная женщина? — заметила Анджела, не зная, что Юджин знаком с ней. — Я ее хорошо знаю, — ответил он, — это натурщица. И как раз в этот миг мисс Андерсон в ответ на его кивок подарила Юджину обворожительную улыбку. У Анджелы защемило сердце. Мимо них прошла Элизабет Стейн, и Юджин поклонился ей. — А это кто? — спросила Анджела. — Известная социалистка и агитатор. Она часто выступает с речами на улицах Ист-Сайда. Анджела стала внимательно разглядывать эту женщину. Восковой цвет ее лица, гладкие черные волосы, заплетенные в косы и уложенные на голове короной, прямой, точеный нос, правильно очерченные румяные губы и невысокий лоб говорили о бесстрашии и душевной утонченности. Анджела не могла себе представить, чтобы такая красивая девушка занималась подобными делами и вместе с тем держала себя так смело, свободно и непринужденно. Странные у Юджина знакомства, подумала она. Юджин представил ей также Уильяма Мак-Коннела, Хадсона Дьюла, который еще ни разу не навестил их, Яна Янсена, Луи Диза, Леонарда Бейкера и Пэйнтера Стоуна. О картине Юджина газеты, за исключением одной, не обмолвились ни словом. Но этот единственный отзыв, по мнению Юджина и Анджелы, стоил многих. Статья появилась в газете «Ивнинг сан», которая славилась своим отделом искусства; в ней в ясных, веских выражениях высказывалось мнение о работе Юджина. «Молодой художник Юджин Витла выставил картину под названием «Шесть часов». По четкости и смелости рисунка, по остроте восприятия, по верной передаче деталей и того, что мы, за отсутствием лучшего термина, назовем целеустремленностью замысла, это полотно представляет собой лучшее из того, что можно встретить на выставке. Эта картина кажется не на месте среди слащавых, прилизанных пейзажиков, которые так охотно выставляются академией, — но она нисколько от этого не теряет. Художнику присуща новая, резкая, почти грубая манера письма, однако полотно его действительно передает то, что он видит и чувствует. М-ру Витла, очевидно, придется еще подождать, — если только эта картина не случайная, единичная вспышка таланта, — но со временем к его голосу станут прислушиваться. В этом не может быть никакого сомнения. Юджин Витла — подлинный художник». Юджин с восторгом читал эти строки. Это было как раз то, что сказал бы он сам, если бы посмел. Анджела была вне себя от счастья. Кто автор этой заметки? — задавалась она вопросом. Что он собой представляет? Бесспорно, это человек с широким кругозором. Юджину хотелось пойти и разыскать его. Если нашелся хотя бы один критик, который сумел заметить его талант, то со временем найдутся и другие. Именно это обстоятельство и придало ему решимости (хотя картина в конце концов вернулась непроданной и не удостоилась ни похвального отзыва, ни премии) устроить собственную выставку.Глава 33
Мечты о славе! Каких только высоких раздумий, восторженных порывов и лихорадочных усилий не рождает эта наиболее обманчивая из всех иллюзий! Какое человеческое сердце не тянется к этой обольстительной приманке, к этому ignis fatuus[47]? Но особенно ярко горит она в юных сердцах, источая красоту и благоухание весенних костров. Ибо в эту пору жизни нам больше чем когда-либо представляются незыблемой действительностью увлекательные иллюзии — тени, отбрасываемые великими людьми. В эту пору кажутся достижимыми покой, довольство и сладостное удовлетворение, эти спутники славы — отблеск побед, о которых можно только мечтать. Слава дышит красотой и свежестью утренней зари. Слава — это и аромат розы, и шелковистость тончайшей ткани, и нежный румянец юности. О, если бы мы могли добиться славы в дни, когда мы о ней грезим, а не в том возрасте, когда в волосах уже серебрится седина, когда лицо изборождено морщинами — следами пережитой борьбы, когда глаза померкли от долгих лет напряжения, разочарований и горя. Покорить мир на заре жизни, шествовать среди рукоплесканий и приветственных кликов, пока молода любовь, молода вера! Ощущать себя молодым и чувствовать любовь человечества, пока ты еще юн и здоров, — какая это дивная мечта! Легкое, окрашенное багрянцем облачко в небе, месяц, играющий в зеркале вод, воспоминание о чудном, прерванном сне — вот что такое слава в юности, и только в юности. Этой иллюзии поддался и Юджин. Он не мог знать, что уготовила ему в будущем судьба, но полагал, что если ему удастся устроить выставку где-нибудь на Пятой авеню, — как в свое время была выставлена в Чикаго «Венера» Бугро, — и публика побежит туда, как бежал когда-то на выставки он сам, это доставит ему огромную радость и удовлетворение. Если бы он мог создать полотно, которое приобрел бы у него Нью-йоркский музей, он в некотором роде приобщился бы к числу классиков, оказался бы в одном ряду с французскими живописцами Коро, Добиньи и Руссо или англичанами Тернером, Уотсом и Милле, — самыми излюбленными фигурами его пантеона. Эти художники, как ему представлялось, обладали тем, чего недоставало ему: более богатой техникой, более совершенным восприятием красочного и характерного, ощущением неуловимых оттенков, которыми так богата жизнь. Обширный опыт, широкий кругозор, широта чувства — вот что он видел в замечательных полотнах, украшавших стены этого музея, и что заставляло его сомневаться в своих силах. И только отзыв «Ивнинг сан» поддерживал его в минуты, когда мысли о поражении не давали ему покоя. Он — подлинный художник. Собрав все свои картины, писанные маслом (всего в общей сложности двадцать шесть — виды реки, улиц, сценки из ночной жизни и так далее), он наново прошел их, подчеркнув некоторые детали, которые раньше были только чуть намечены, усиливая кое-где эффект какого-нибудь яркого пятна, кое-где изменяя тона и оттенки, и, наконец, после длительных размышлений над возможным исходом своего предприятия, отправился искать художественный магазин, который принял бы его полотна для демонстрации и продажи. Сам Юджин был того мнения, что его работы несколько еще сыроваты и поверхностны и что они мало скажут сердцу зрителя. Они в большинстве своем изображали фабричные здания, буксирные суда, баржи, паровозы, надземную железную дорогу — все в грубых ярко-красных, желтых и черных тонах. Правда, и Мак-Хью, и Дьюла, и Смайт, и мисс Финч, и Кристина, и «Ивнинг сан», и Норма Уитмор хвалили его вещи, — во всяком случае некоторые. Но не больше ли увлекают публику классические представления о красоте, которая раскрывается нам в полотнах сэра Джона Милле? Не отдаст ли она предпочтение «Благословенной деве» Россетти перед любой уличной сценкой? Юджина одолевали сомнения. Даже в минуты ликования, после хвалебной оценки «Ивнинг сан», им овладевал смутный страх при мысли, что его произведения слабы. Привлекут ли они публику? Будут ли их покупать когда-нибудь? Представляют ли они собою действительную ценность? «Нет, о сердце художника! — можно было бы ему ответить. — Они представляют не большую ценность, чем всякий другой труд на этом свете, но и не меньшую. Солнечные лучи на колосьях, нежный отблеск зари на лице девушки, серебристый свет луны на воде — все это ценно или ничего не стоит, в зависимости от того, кто и как это воспринимает. Не бойся. Мир соткан из прекрасных грез». Фирма «Кельнер и сын» на Пятой авеню, близ Двадцать восьмойулицы, торговавшая художественными произведениями как старых, так и современных мастеров, была единственной фирмой в городе, пользовавшейся авторитетом. Картины, появлявшиеся в витринах магазина «Кельнер и сын», выставки, устраиваемые в его открытых лишь для избранного общества залах, строгий вкус — все это в течение тридцати лет привлекало к ней художников и публику. С первого же дня своего приезда в Нью-Йорк Юджин с большим интересом следил за выставками «Кельнер и сын». Ему самому случалось видеть в огромных витринах фирмы изумительные творения той или иной школы: о других вещах он слышал восторженные отзывы художников. Первое крупное произведение школы импрессионистов (весенний ливень в роще серебристых тополей, кисти Уинтропа), очаровавшее Юджина своим мастерством, было выставлено в витрине «Кельнер и сын». У них же видел он серии декадентских рисунков Обри Бердслея, работы «сухой иглой» Элле, изумительные скульптуры Родена и импозантные творения Толоу, свидетельствовавшие о монументальном эклектизме скандинавов. Фирма имела агентов, по-видимому, во всех странах света, так как порой в ее залах появлялись картины новейших мастеров Италии, Испании, Швейцарии и Швеции, сменяя шедевры наиболее известных английских, французских и немецких художников. «Кельнер и сын» были знатоками искусства в полном смысле этого слова, и хотя основатель фирмы, по происхождению немец, умер много лет назад, его методы ведения дела и строгость требований удерживались на прежней высоте. Юджин в то время не знал, как трудно устроить выставку у Кельнера; фирма была завалена письмами от лиц, желавших продать то или иное произведение искусства, и предложениями крупных художников, изъявлявших полную готовность уплатить за место и время и обладавших для этого достаточными средствами. Фирма имела твердо установленную таксу и никогда не отступала от нее, за исключением тех редких случаев, когда художнику, не обладавшему средствами, но обладавшему талантом, из каких-либо соображений предоставлялись льготы. Двести долларов за один из выставочных залов сроком на десять дней считалось довольно умеренной платой. Юджин не располагал такой суммой, но однажды в январе, не имея точного представления об условиях фирмы, он отправился туда, захватив с собой четыре репродукции из числа напечатанных в свое время в журнале «Труф», уверенный в том, что ему есть что показать. Мисс Уитмор не раз напоминала ему, что Эбергарт Занг просил его заглянуть, но Юджин полагал, что если уже идти к кому-нибудь, то к «Кельнеру и сыну». Он намеревался сказать мистеру Кельнеру, если таковой существует, что у него еще много других вещей, которые он считает даже лучше этих, так как они ярче отражают его понимание американской жизни, его самого и его технику. Он вошел, испытывая некоторую робость, — хотя и держась с достаточным достоинством, — ибо его очень беспокоил исход этой затеи. Управляющий американской конторой «Кельнер и сын», мосье Анатоль Шарль, француз по рождению и воспитанию, был знаком с духом и историей французского искусства и со всеми течениями и школами в искусстве многих других стран. Главная контора фирмы в Берлине направила его в Нью-Йорк не только потому, что он прекрасно изучил английский художественный мир, и не только потому, что он умел находить картины, привлекавшие внимание публики и поднимавшие репутацию фирмы, а попутно и ее благосостояние, как в Америке, так и в Европе, — мосье Шарль обладал способностью приобретать друзей среди сильных мира, где бы ему ни случалось быть, и продавал одну картину за другой, ибо обладал особым талантом, какой-то магнетической силой, притягивавшей к нему людей, которые ценили подлинные шедевры и готовы были платить за них. Специальностью его были полотна современных крупных иностранных мастеров. Он по опыту знал, какие картины пойдут в Америке, какие во Франции, Англии и Германии. У него сложилось убеждение, что американское искусство не дало еще в сущности ничего ценного, и не только с коммерческой, но и с художественной точки зрения. Если не считать нескольких полотен Иннеса, Хомера, Сарджента, Уистлера, Аббея (художников, которые по своему направлению скорее могли почитаться иностранцами, вернее космополитами), американское искусство все еще было незрелым, сырым и даже грубым. «У меня такое впечатление, что здешние художники еще не вышли из детского возраста, — говорил мосье Шарль своим близким друзьям. — Они достигают эффекта по мелочам, но, по-видимому, не умеют еще охватить вещи в целом. В их полотнах я не нахожу того ощущения вселенной в малом, какое дают нам картины великих европейских мастеров. Иллюстраторы в Америке куда лучше, чем художники, — не знаю, чем это объяснить». Мосье Шарль более чем в совершенстве владел английским языком. Он был светский человек в полном значении этого слова — изысканные манеры, чувство собственного достоинства, безукоризненные костюмы, консервативный образ мыслей и сдержанная речь. К нему часто приходили критики и восторженные ревнители искусства, хвалившие того или иного художника. Но он только поднимал брови с видом умудренного опытом человека, покручивал холеные усы, поглаживал артистическую бородку и произносил: «Вот как!» или: «Неужели?» Он сам признавал, что ищет таланты, таланты, сулящие доход, — однако при случае фирма «Кельнер и сын» (при этом мосье Шарль красноречиво разводил руками и слегка вздергивал плечи) готова послужить по мере сил искусству ради искусства, отвлекаясь от финансовых интересов. — Но где они, ваши живописцы? — спрашивал он. — Я ищу их, ищу. Уистлер, Аббей, Сарджент, Иннес?.. Да, но все это старые мастера, а где же новые? — Как раз тот, про кого я вам рассказываю… — настаивал иногда критик. — Хорошо, хорошо, я пойду. Я посмотрю. Но у меня мало надежды, признаюсь, очень, очень мало надежды. Уступая давлению, он нередко появлялся то в одной, то в другой студии, присматривался и выносил суждение. Увы, лишь немногие картины удостаивались чести быть отобранными им для выставок, да и цену за услуги он обычно назначал очень высокую. Таков был этот лощеный, в своем роде неподражаемый человек, с которым Юджину было суждено встретиться в то утро. Когда он вошел в роскошно обставленный кабинет мосье Шарля, тот сейчас же встал. Он сидел до этого за маленьким столиком розового дерева, на который падал свет от лампы под зеленым шелковым абажуром. Стоило ему взглянуть на Юджина, как он понял, что перед ним художник, возможно талантливый, более чем вероятно — очень впечатлительный и нервный. Мосье Шарль давно убедился, что любезность и обходительность стоят недорого. Это был первый шаг к тому, чтобы завоевать расположение художника. Визитная карточка Юджина, переданная ему служителем в ливрее, достаточно красноречиво говорила о цели его посещения. Когда Юджин подошел ближе, мосье Шарль движением приподнятых бровей дал понять, что он был бы рад узнать, чем может служить мистеру Витла. — Я хотел бы показать вам несколько репродукций моих картин, — начал Юджин, призвав на помощь всю свою смелость. — Я написал целую серию с целью устроить выставку и подумал, не согласитесь ли вы познакомиться с ними и взять на себя устройство такой выставки. Всего у меня двадцать шесть холстов и… — Видите ли, очень трудно что-нибудь обещать, — осторожно перебил его мосье Шарль. — У нас уже есть большая предварительная запись: ее хватило бы на два года, если бы даже мы пожелали ограничиться только ею. Помимо того, у нас известные обязательства по отношению к художникам, с которыми мы уже имели дело раньше. Иногда наши выставочные залы здесь, в Нью-Йорке, целиком заполнены картинами, которые присылают нам наши берлинские и парижские отделения. Конечно, мы всегда рады выставить интересную вещь, если обстоятельства позволяют. Кстати, вам известно, сколько мы берем за выставку? — Нет, — ответил Юджин, удивленный тем, что за это нужно платить. — Двести долларов за две недели. На более короткий срок мы договоров не заключаем. У Юджина вытянулось лицо. Он ожидал совершенно иного приема. Тем не менее он развязал папку, в которой принес репродукции. Мосье Шарль стал с любопытством рассматривать их. Изображенная на листе уличная толпа Ист-Сайда сразу же произвела на него впечатление, а когда он увидел другой этюд — Пятую авеню в снежную метель (жалкий, видавший виды омнибус, запряженный парою тощих, грязных кляч с выпирающими ребрами), он был поражен его выразительностью. Он по достоинству оценил ту живость, с какою был передан кружащийся в воздухе, подгоняемый ветром снег. С огромным вниманием рассматривал он обычно запруженную толпой, а теперь пустынную улицу, редких прохожих в застегнутых на все пуговицы пальто, съежившихся от холода, сгорбленных, торопливых, и такие красноречивые детали, как снег, наметенный на подоконники, на карнизы, на ступеньки домов и даже на окна омнибуса. — Эффектная деталь, — заметил он Юджину тоном, каким один критик делится мнением с другим, указывая на полоску снега на оконной раме омнибуса. Потом другая деталь привлекла его внимание — опушенные снегом поля шляпы у одного из прохожих. — Так и чувствуется ветер, — добавил он. Юджин улыбнулся. Мосье Шарль стал молча рассматривать другой лист: буксирный пароход на Ист-Ривер, дымя, тянет за собой две огромные баржи. Мысленно он отметил: все искусство этого Витла, в сущности, заключается в том, что он умеет схватывать и запечатлевать эффектные моменты. Главную роль в его работах играли не столько краски и углубленное истолкование жизни, сколько умение создавать чисто сценические эффекты. Этот стоявший перед ним человек умел подмечать живописное в самом обыденном. И тем не менее… Мосье Шарль взял в руки последнюю репродукцию — Грили-сквер под моросящим дождем. Благодаря какому-то неведомому свойству своего таланта Юджину удалось в точности передать впечатление дождевых капель, брызжущих на серые каменные плиты, ярко освещенные фонарями. Он уловил также разнообразие оттенков света — огни кэбов, трамваев, освещенных витрин, уличных фонарей, подчеркивающих черноту толпы и неба. Эта работа была безусловно значительной и по краскам. — Каков размер оригиналов? — спросил мосье Шарль. — Почти все тридцать дюймов на сорок. По его тону Юджин не мог догадаться, вызван ли этот вопрос интересом к его картинам или просто любопытством. — И все, надо полагать, писаны маслом? — Да, все. — Недурно сделано, должен вам сказать, — осторожно заметил мосье Шарль. — Есть, конечно, излишний нажим в сторону драматического эффекта, но… — Это репродукции… — начал было Юджин, надеясь обратить его внимание на несовершенство печати и заинтересовать более высоким качеством оригиналов. — Да, да, я понимаю, — перебил его мосье Шарль, прекрасно зная, что он скажет. — Репродукции никуда не годятся. Но все же они дают достаточное представление об оригинале. Где помещается ваша студия? — Вашингтон-сквер, номер шестьдесят один. — Как я уже говорил вам, — продолжал мосье Шарль, записывая адрес Юджина на его визитной карточке, — наши возможности в смысле устройства выставок чрезвычайно ограниченны, и плату мы взимаем высокую. У нас есть много вещей, которые мы просто вынуждены выставлять. Трудно сказать заранее, когда представится возможность. Но, если вам угодно, я могу как-нибудь зайти взглянуть на ваши картины. Лицо Юджина выражало огорчение. Двести долларов! Целых двести долларов! Под силу ли ему такая сумма? А между тем выставка может иметь для него огромное значение. Но, по-видимому, этот человек вовсе не горит желанием сдать ему зал даже за эту цену. — Я зайду к вам, если разрешите, — повторил мосье Шарль, заметив его настроение. — Я думаю, что это и для вас лучше. Мы должны очень осторожно выбирать вещи для выставок. Ведь у нас не обычная галерея для продажи картин. Как только представится возможность, я дам вам знать, если угодно, и вы мне сообщите, подходит ли вам время, которое я укажу. Я буду весьма рад посмотреть ваши этюды. Они по-своему очень хороши. Наверняка, конечно, сказать не могу, но может представиться случай — через неделю, дней десять — как-нибудь в промежутке между двумя выставками. Юджин незаметно вздохнул. Так вот как это делается! Его самолюбие было задето. Но, так или иначе, устроить выставку нужно. Если понадобится, он пожертвует на это двести долларов. Где-нибудь в другом месте выставка не будет иметь такого значения. Хотя, по правде говоря, он надеялся, что его картины встретят лучший прием. — Я буду очень рад, если вы ко мне заглянете, — задумчиво сказал он наконец. — Я думаю все-таки снять у вас зал, если удастся. И мне интересно будет узнать ваше мнение о моих работах. Мосье Шарль поднял брови. — Отлично, — сказал он. — Я вас уведомлю. Юджин вышел. Какая неприятность, думал он. Он мечтал, что ему устроят выставку у Кельнера бесплатно, так как его картины произведут большое впечатление. А там, оказывается, даже не интересуются ими, — с него еще возьмут двести долларов, чтобы выставить их. Это было большим ударом, большим разочарованием. Все же это принесет ему некоторую пользу, размышлял он по дороге домой. Критики будут обсуждать его работы, как они обсуждают работы других художников. Если действительно осуществится наконец то, о чем он столько мечтал и на чем строил столько планов, они увидят, на что он способен. Выставка у Кельнера представлялась ему радостным событием, венчающим его карьеру художника, а ведь он, возможно, уже близок к этой цели. Она вполне достижима. Мосье Шарль захотел увидеть остальные его вещи. Он не отказался познакомиться с ними. Уже одно это — большая победа!Глава 34
Прошло, однако, некоторое время, прежде чем мосье Шарль соизволил написать Юджину и сообщить, что, если удобно, он зайдет в среду, шестнадцатого января, в десять утра. Но важно было то, что письмо все же пришло и рассеяло сомнения и страхи Юджина. Наконец-то ему представится случай показать свои работы! Этот человек, возможно, оценит его картины и, пожалуй, даже заинтересуется ими. Как знать? Он с небрежным видом показал письмо Анджеле, словно не придавая ему большого значения, но сам загорелся надеждой. Анджела привела студию в идеальный порядок, ибо понимала, как много значило для Юджина это посещение, и жаждала быть по возможности ему полезной. Она купила у итальянца на углу цветов и расставила их в вазах по всей студии. Она без конца подметала и вытирала пыль, затем оделась с большой тщательностью, выбрав домашнее платье, которое было ей больше всего к лицу, и в сильном волнении стала ждать звонка. Юджин делал вид, будто поглощен работой над одной из своих картин, хотя он давно ее кончил. На ней была изображена облупленная, грубо сложенная стена дома на Ист-Сайде, а возле нее — кучка ребят, жалкие тележки уличных торговцев и безликая толпа куда-то спешащих, чего-то ищущих людей. Вся картина дышала неприкрашенными буднями. Но сейчас душа Юджина не лежала к работе. Он снова и снова спрашивал себя, что скажет мосье Шарль. Хорошо еще, что у него такая прекрасная студия. Хорошо, что Анджела так изящна в своем бледно-зеленом платье, без всяких украшений, кроме булавки с красным кораллом у ворота. Он подошел к окну и стал смотреть на Вашингтон-сквер, на оголенные деревья, раскачивающиеся под напором ветра, на снег, на прохожих, суетливо, словно муравьи, снующих взад и вперед. О, будь у него деньги — как спокойно он мог бы работать! Он послал бы тогда к дьяволу этого мосье Шарля! Раздался звонок. Анджела нажала кнопку входной двери, и по лестнице неторопливой походкой поднялся мосье Шарль. Послышались его шаги в коридоре. Он постучал, и Юджин, сильно нервничая, сказал: «Войдите!» Наружно он был спокоен и держался с достоинством. Мосье Шарль вошел. На нем было подбитое мехом пальто, меховая шапка и желтые замшевые перчатки. — Доброе утро! — приветствовал он хозяев. — Сегодня прекрасный день. Какой бодрящий воздух, не правда ли? У вас отсюда изумительный вид. Миссис Витла? Рад познакомиться с вами! Я немного запоздал, но меня задержали, и я ничего не мог сделать. В Нью-Йорк только что прибыл один из наших немецких компаньонов. Сняв пальто, мосье Шарль стал греть руки, потирая их перед горевшим в камине огнем. Поскольку он уже снизошел до визита, он старался быть до конца любезным и внимательным. Так лучше, если ему предстоит в будущем вести дела с Юджином. К тому же картина, которая красовалась перед ним на мольберте возле окна, — и которой он как будто не замечал, — дышала изумительной силой. Чью это кисть она ему напоминает? Впрочем, действительно ли она кого-нибудь напоминает? Перебирая в памяти многочисленные произведения искусства, он вынужден был признаться, что не может вспомнить ничего похожего. Красные и зеленые пятна, резкие и грубые, грязно-серый тон булыжника, и эти лица! Картина в полном смысле слова кричала о фактах. Она, казалось, говорила: «Да, я — грязь, я — будни, я — нужда, я — неприкрашенная нищета, но я — жизнь!» Тут не было ни малейшей попытки что-либо оправдать, что-либо сгладить. С грохотом, скрежетом, оглушительным треском сыпались факты один за другим, вопя с жестокой, звериной настойчивостью: «Это так! Это так!» Ведь если подумать, то и ему, мосье Шарлю, случалось замечать в те дни, когда на душе у него было особенно скверно и тяжко, что некоторые улицы имеют именно такой вид. И вот сейчас такая улица стояла перед ним — грязная, неопрятная, жалкая, наглая, пьяная, все что хотите, — но она была фактом. «Слава богу, наконец-то он послал нам реалиста», — мысленно сказал себе мосье Шарль, разглядывая полотно, так как он знал жизнь, этот холодный знаток искусства. Но внешне он и виду не подал, что картина его заинтересовала. Он окинул взглядом высокую, стройную фигуру Юджина, отметил слегка впалые щеки, глаза, горящие внутренним огнем (художник в полном смысле слова!), затем Анджелу — маленькую, взволнованную, миловидную любящую женщину, и в глубине души порадовался, что скажет им сейчас о своей готовности взять на себя устройство выставки. — Ну что ж, — сказал он, делая вид, будто его взгляд впервые упал на картину на мольберте, — приступим к делу. Насколько я понимаю, это один из ваших холстов? Прекрасная вещь, по-моему. Чрезвычайно сильная. Что у вас еще есть? Юджин подумал, что картина далеко не так понравилась мосье Шарлю, как он надеялся, и поспешил отставить ее в сторону, взяв другую из десятка холстов, стоявших у стены за зеленой занавеской. На ней были изображены в ряд три паровоза, въезжающих в железнодорожный парк. Клубы дыма поднимались из труб прямо вверх, словно гигантские серовато-белые султаны, и расплывались в сыром холодном воздухе; в небе низко нависли черно-серые тучи. Из сырой мглы выступали красные, желтые и синие вагоны. Так и чувствовался холодный моросящий дождик, и влажные рельсы, и усталость стрелочников, дежурящих на путях. Вот один такой на переднем плане выкинул вперед руку с красным фонарем. Он кажется совсем черным, видно, промок насквозь. — Симфония в серых тонах, — лаконично заметил мосье Шарль. После этого просмотр пошел быстрее, сопровождаясь лишь редкими замечаниями мосье Шарля и Юджина. Последний ставил перед гостем холст за холстом и, продержав его на мольберте несколько минут, тут же заменял другим. Нельзя сказать, чтобы его мнение о собственном таланте при этом сильно возросло, так как мосье Шарль оставался по-прежнему холодным, хотя один раз он не удержался и вслух выразил свое одобрение при виде этюда «Театральный разъезд», изображавшего разодетую толпу, суетящуюся в ярком свете фонарей. Он понял, что произведения Юджина охватывают почти все стороны жизни большого города, таящие в себе что-то драматическое, и еще многое такое, что казалось лишенным драматизма, пока его не коснулась кисть художника: вот опустевшее к трем часам утра ущелье Бродвея; вот длинный обоз огромных молочных фургонов с забавно покачивающимися фонарями, который тянется с пристаней на рассвете; вот пожарная команда, она мчится на своих машинах, а прохожие бегут вдогонку или глазеют вслед, разинув рот; вот лощеная публика, покидающая здание оперы; очередь за бесплатной булкой у дверей благотворительного заведения; мальчик-итальянец, выпускающий голубей из корзины, висящей у него на руке. Чего бы ни касалась кисть Юджина, все приобретало своеобразную красоту и романтичность, и вместе с тем это был реалист, большей частью бравший своей темой суровую нужду и серые будни. — Разрешите вас поздравить, мистер Витла! — воскликнул наконец мосье Шарль, взволнованный сознанием, что перед ним большой талант, и чувствуя, что теперь можно отбросить излишнюю осторожность. — В ваших картинах я вижу изумительный материал. Они, несомненно, гораздо эффектнее, в них больше драматизма и выразительности, чем в репродукциях, которые вы мне показывали. Я далеко не уверен, что вы много выручите за них, так как в Америке спрос на произведения отечественного искусства очень невелик. Они, пожалуй, найдут лучший сбыт в Европе. Во всяком случае, на них должен найтись покупатель, но это уже вопрос другого порядка. Хорошие вещи далеко не всегда продаются быстро. Нужно время. Однако я сделаю все, что будет в моих силах. В первых числах апреля я на две недели выставлю у нас ваши картины и ровно ничего не возьму с вас за это. Юджин вздрогнул. — Я обращу на них внимание некоторых моих знакомых и поговорю с людьми, покупающими картины. Позвольте вас заверить, что я почту это для себя за честь. В моих глазах вы — художник в полном смысле этого слова. Я даже сказал бы — крупный художник. Вы далеко пойдете, очень далеко, но надо беречь и осторожно расходовать свой талант. Я с большим удовольствием пришлю за этими картинами, когда придет время. Юджин не знал, что отвечать. Ему не совсем понятны были ни эта европейская серьезность в отношении к делу, ни эта оценка его дарования, выраженная так непринужденно и искренне и в то же время так официально. Мосье Шарль говорил от души. Это была одна из тех редких и радостных минут в его жизни, когда он мог позволить себе удовольствие высказать не признанному еще гению свою уверенность в том, что его ждет слава и всеобщее признание. Он стоял, ожидая, что скажет Юджин, но тот молчал, и только легкий румянец показался на его бледных щеках. — Я очень рад, — сказал он наконец, как-то невыразительно и буднично, чисто по-американски. — Мне тоже казалось, что вещи недурны, но я не был уверен в этом. Я вам очень обязан. — Вы не должны чувствовать себя обязанным мне, — ответил мосье Шарль, переходя на менее официальный тон. — Вы обязаны всем себе, своему таланту. Я уже говорил вам, что считаю это для себя честью. Мы устроим чудесную выставку. У вас нет рам к картинам? Ну, это неважно, мы одолжим вам свои. Он улыбнулся, пожал Юджину руку и поздравил Анджелу. Та слушала его с изумлением и с чувством все возрастающей гордости. От нее не ускользнуло, в какой тревоге находится Юджин, несмотря на наружное спокойствие, какие огромные надежды он возлагает на этот визит. Тон мосье Шарля сначала ввел ее в заблуждение. Она решила, что ему не бог весть как понравились картины и что Юджина ждет разочарование. И теперь, услышав этот восторженный дифирамб, она не знала, как его принять. Посмотрев на Юджина, она увидела, что он взволнован и испытывает не только облегчение, но и горделивую радость. Все это ясно читалось на его бледном, смуглом, без румянца лице. Достаточно было Анджеле увидеть, какой тяжелый груз свалился с плеч глубоко любимого человека, — и она от счастья совсем перестала владеть собой. Ее охватило такое сильное волнение, что, когда мосье Шарль обратился к ней, слезы брызнули у нее из глаз. — Не нужно плакать, миссис Витла, — торжественно сказал он, заметив ее слезы. — Вы имеете полное право гордиться вашим мужем. Он великий художник. Берегите его хорошенько. — Ах, я так счастлива! — воскликнула Анджела, плача и смеясь. — Не обращайте на меня внимания. Она подошла к Юджину и прижалась головой к его груди. Юджин обнял ее одной рукой и сочувственно ей улыбнулся. Мосье Шарль тоже улыбался, гордясь впечатлением, которое произвели его слова. — Вы оба вправе чувствовать себя очень счастливыми, — сказал он. «Милая Анджела! — подумал Юджин. — Вот она, верная подруга, преданная жена! Успех мужа — для нее все. Своей собственной жизни у нее нет — нет ничего, что не было бы связано с ним и его благополучием». — Ну, мне пора идти, — сказал наконец мосье Шарль и снова улыбнулся. — Когда нужно будет, я пришлю за картинами. А тем временем вы оба должны у меня отобедать. Я пришлю вам приглашение. Когда он наконец откланялся, заверив их в своих самых теплых чувствах, Анджела и Юджин переглянулись. — О, какое счастье, котик! — воскликнула она, смеясь и плача. (Она с первого дня замужества стала звать его «котиком».) — Мой Юджин — великий художник! Он сказал, что ты оказываешь ему большую честь. Какое счастье! И скоро весь мир узнает об этом. Кто бы мог подумать! О, как я горжусь тобой, дорогой мой! И она в восторге бросилась ему на шею. Юджин нежно поцеловал ее. Но сейчас он думал не столько о ней, сколько о фирме «Кельнер и сын» — об их огромном выставочном зале, о том, какой вид будут иметь его двадцать семь или тридцать картин, когда они будут оправлены в золоченые рамы, о тех, кто посетит выставку, о критических отзывах в газетах, о словах одобрения. Отныне все его друзья-художники будут знать, что его считают крупным мастером. А если он как-нибудь встретится с такими людьми, как Сарджент или Уистлер, он будет вправе чувствовать себя с ними на равной ноге. Весь мир услышит о нем. Слава его донесется до самых отдаленных уголков земного шара. Он подошел к окну и поглядел на улицу. Ему вспомнилась Александрия, типография, чикагская компания «Дешевая мебель», студенческий союз художников, газета «Глоб»… Да, не сразу пришел он к своей цели. — Черт возьми! — вырвалось у него наконец. — Вот обрадуются Смайт и Мак-Хью, когда услышат об этом! Надо будет пойти рассказать им.Глава 35
Выставка, состоявшаяся в апреле, принадлежала к числу тех событий, которые выпадают на долю одних только счастливцев, — когда человек получает возможность раскрыть перед миром россыпи своих чувств, ощущений, восприятий и взглядов. У каждого есть свои чувства и восприятия, но не каждому дана способность найти им выражение. Правда, труды и поступки человека в какой-то мере выражают его сущность, но это совсем другое дело. Он не может выставить для всеобщего обозрения то, чем он живет. Едва ли можно увидеть в одно какое-то мгновение все мысли и чувства человека, собранные воедино. Даже художнику не всегда и не слишком часто удается публично выступить со своими произведениями в таких условиях, чтобы можно было привлечь широкое внимание публики. Это счастье выпадает на долю одиночек, а не большинства. Юджин понимал, что фортуна осыпала его своими щедротами. Когда подошло время выставки, мосье Шарль был настолько любезен, что прислал за картинами и позаботился обо всех мелочах. Они с Юджином решили, что наиболее подходящими для его полотен — поскольку важно было оттенить выразительность письма и преобладающую гамму красок — будут черные рамы. Главный выставочный зал в первом этаже, где предполагалось развесить холсты, был задрапирован тяжелыми занавесями из красного бархата, и картины эффектно выделялись на этом фоне. Пока их развешивали, Юджин побывал в этом зале вместе с Анджелой, со Смайтом и Мак-Хью, с Шотмейером и другими. Он задолго до выставки оповестил о ней Норму Уитмор и Мириэм Финч, хотя последней уже успел рассказать обо всем Уилер. Мириэм была очень огорчена, так как снова почувствовала, — как это было, когда Юджин женился, — что он намеренно забывает о ней. Мечта Юджина претворилась наконец в действительность. В зале размерами восемнадцать футов на сорок, сплошь затянутом темно-красным бархатом, в мягком свете скрытых от глаз электрических лампочек его картины выступали во всей своей выразительности и ощутимости, резкие, как сама жизнь. А для некоторых — для тех, кто видит жизнь не своими глазами, а через других людей, — даже резче. Именно поэтому выставка Юджина была для большинства посетителей поразительным зрелищем. Она вскрыла такие стороны жизни, на которых обычно внимание людей не задерживается и которые, вследствие своей обыденности и будничности, считаются темой, недостойной художника. Особенно сильное впечатление производила картина, где был изображен огромный, нескладный, некрасивый негр, скорее животное, чем человек, с толстыми оттопыренными ушами, с мясистыми губами, приплюснутым носом и выдающимися скулами; всем своим существом он выражал грубую силу и чисто животное равнодушие к грязи и холоду. Он стоял на одной из жалких серых улиц Ист-Сайда рано утром, в январе или феврале. Это был мусорщик, и художник запечатлел его в тот момент, когда он ставил на край неуклюжего обитого железом фургона громадный жестяной бак с золой, обрывками бумаги и всякими отбросами. Его большие руки утопали в заплатанных красных кожаных рукавицах, грязных, заскорузлых, явно ему мешавших. Голову и уши защищал от холода какой-то красный фланелевый платок или просто лоскут; завязанный под упрямым подбородком, а поверх платка был нахлобучен коричневый холщовый картуз с жетоном, на котором значился номер мусорщика. Вокруг пояса у него был обмотан кусок дерюги, а руки и ноги были такие бесформенные, словно он надел на себя две или даже три пары штанов, две или три теплые фуфайки. Его отупелый взгляд был устремлен на грязную улицу, покрытую свежевыпавшим снегом и усеянную жестянками из-под консервов, бумагою, всяким сором и отбросами. Из мусорного бака, который он опорожнял в фургон, летела пыль, смешанная с золой. Вдали двигалась тележка молочника и брели одинокие прохожие, а перед гастрономической лавкой стояла бедно одетая девочка. Выше виднелись окна с маленькими квадратиками подслеповатых стекол, ставни с выломанными планками, чья-то лохматая голова — очевидно, человек хотел узнать, какая сегодня погода. Юджин предъявил здесь жизни поистине жестокое обвинение. Он, казалось, без малейшего милосердия нагромождал все эти вещественные доказательства. С беспощадностью рабовладельца, избивающего раба, он не ослаблял ярости своей бичующей кисти. «Вот так, так и так обстоит дело, — казалось, говорил он. — А что вы скажете на это, это и это?» Публика приходила и удивлялась. Приходили и молодые светские дамы, и владельцы художественных салонов, и критики, и литераторы из числа тех, которые интересуются искусством, и музыканты, а также — благодаря тому, что газеты особо отметили выставку, — немало праздных зрителей, которые бывают повсюду, где можно увидеть что-нибудь новенькое и интересное. Выставка, длившаяся две недели, вылилась в целое событие. На ней побывали Мириэм Финч (хоть она и не призналась в этом Юджину, не желая доставить ему это удовольствие), Норма Уитмор, Вильям Мак-Коннел, Луи Диза, Оуэн Овермэн, Пэйнтер Стоун, — одним словом, вся компания знавших его литераторов и художников. Пришел также кое-кто из выдающихся мастеров, которых Юджин раньше никогда не встречал. Ему доставило бы неизмеримое удовольствие, если бы он мог наблюдать со стороны, как разглядывали его картины некоторые виднейшие представители нью-йоркского общества. Посетители изумлялись мужественной силе художника, любопытствовали, кто он такой, каковы его взгляды и вес в художественном мире и чем он руководствовался при выборе сюжетов. Люди, не слишком сведущие в искусстве, хватались за газеты, чтобы узнать, какого мнения об этой живописи печать, какой ярлык нацепит она на художника. Благодаря силе и выразительности картин и установившейся репутации выставлявшей их фирмы, а также благодаря проявленному публикой интересу почти все критические отзывы были положительными. Правда, нашелся один журнал по вопросам искусства, тесно связанный с неким крупным издательством и служивший рупором его консервативных взглядов, который отрицал в картинах Юджина какую бы то ни было эстетическую ценность, высмеивал стремление художника находить красоту в грубых, неприглядных сторонах жизни, утверждал, что он не владеет рисунком, что ему вовсе чужды идеалы «чистого искусства» и единственная его цель — ошеломить широкую публику. «Мистер Витла, — писал критик, — несомненно, был бы польщен, если бы о нем заговорили как об американском Милле. В грубом преувеличении, на котором зиждется искусство английского мастера, он, возможно, ищет для себя оправдания. Но он глубоко заблуждается. Великий Милле любил человечество, он по духу своему был реформатором, он был мастером рисунка и композиции. У него не заметно ни тени желания бить на дешевый эффект и оскорблять чьи бы то ни было чувства. Помилуй нас бог от того, чтобы нам под видом искусства навязывали помойные ведра, паровозы и старых, заезженных кляч. Тогда уж лучше сразу обратиться к простой фотографии и на этом успокоиться. Разбитые ставни, грязные мостовые, полузамерзшие мусорщики, карикатурные фигуры полицейских, безобразные старухи, нищие, попрошайки, сэндвичмены[48] — вот что такое искусство с точки зрения Юджина Витла». Читая это, Юджин внутренне ежился. В данную минуту он готов был согласиться с этим суждением. Его творчество действительно изображало все неприглядное. Нашлись, однако, и такие критики, как Люк Севирас, которые ударились в противоположную крайность. «Истинное понимание волнующих и ярко драматических сторон жизни, дар сообщать вещам яркий колорит, отнюдь не фотографируя их, как это может показаться поверхностному критику, но выявляя их более возвышенное, духовное значение; способность вынести беспощадный приговор беспощадной жизни и бичевать с пророческой силой ее жестокость и подлость, в надежде этим уврачевать ее раны; умение обнаружить красоту там, где она действительно есть, — даже в позоре, страдании и унижении, — таково творчество этого художника. Он, по-видимому, пришел в искусство из толщи народа, с непочатыми силами, готовый осуществить свою великую задачу. Вы не обнаружите в его работах ни робости, ни преклонения перед традициями, ни признания каких бы то ни было общепринятых методов. Мне могут сказать, что он и не знает этих общепринятых методов. Тем лучше! Мы видим перед собой новый метод. Он обогатит мировое искусство. Повторяем, мистеру Витла потребуется, очевидно, какое-то время, чтобы добиться признания. Можно сказать с уверенностью, что его картины не так-то быстро будут распроданы, не так-то скоро будут развешаны в роскошных гостиных. Наши любители искусства неохотно принимают все новое. Но если мистер Витла и впредь будет неуклонно следовать по избранному им пути и если дарование ему не изменит, то придет и его черед. Скажем прямо: талант не может изменить ему. Он большой художник. Пожелаем же ему дальнейшего роста и вполне осознанного развития своих способностей и сил». На глазах Юджина при чтении этих строк выступили слезы. Мысль, что он является носителем какой-то великой, благородной идеи, вызвала в горле спазму, точно там застрял какой-то клубок. Он жаждал стать великим живописцем, жаждал оправдать ту лестную оценку, которую ему дали. Сколько писателей, художников, музыкантов и знатоков искусства прочтут этот отзыв и запомнят его имя! Возможно, что на некоторые картины даже найдутся покупатели. Как он был бы счастлив всецело посвятить себя живописи и навсегда покончить с работой иллюстратора. Какое это мизерное занятие для художника, как оно ограниченно, как незначительно! Отныне только крайняя необходимость может заставить его вернуться к этой профессии. Напрасно будут его об этом просить. Он — художник в полном смысле этого слова, великий художник, имя которого будут упоминать рядом с такими именами, как Уистлер, Сарджент, Веласкес и Тернер. Пусть журналы с их ничтожными тиражами оставят его в покое! Его искусство — для всего мира. Как-то раз, когда выставка была еще в полном разгаре, он стоял в своей студии у окна рядом с Анджелой и перебирал в уме все то лестное, что было сказано о нем в последнее время. Ни одна картина еще не была продана, но мосье Шарль обнадеживал его, уверяя, что некоторые, вероятно, будут куплены перед закрытием выставки. — Если что-нибудь удастся продать, мы летом, пожалуй, поедем в Париж, — сказал Юджин Анджеле. — У меня всегда было желание побывать там. А осенью вернемся и снимем студию в верхней части города. На Шестьдесят пятой улице как раз строится великолепный дом, специально под студии. Он подумал о художниках, которые имеют возможность платить за студию по три-четыре тысячи в год. О художниках, которые получают четыреста, пятьсот, шестьсот и даже восемьсот долларов за каждый свой холст. Вот бы ему так! Или получить бы на будущую зиму заказ на стенную роспись. Его сбережения были очень скудны. Большую часть зимы он провозился над своими картинами. — О Юджин, — воскликнула Анджела, — все это кажется мне каким-то чудом! Даже не верится, что это правда. Ты — настоящий, великий художник! Подумать только, мы поедем в Париж! Как это прекрасно! Это похоже на сон. Я все думаю, думаю, и иногда мне не верится, что я здесь, что твои картины выставлены у Кельнера и… о!.. В порыве восторга она бросилась ему на шею. В парке только еще распускались почки на деревьях. Казалось, вся площадь была окутана прозрачно-зеленой сетью, затканной крохотными зелеными листьями, вроде блесток на сети в студии Юджина. Голосистые птицы распевали на солнышке. Воробьи шумными стайками носились в воздухе. Голуби лениво искали корма на мостовой между рельсами. — Я мог бы написать серию картин из жизни Парижа. Мало ли что там может подвернуться. Мосье Шарль обещает мне будущей весной устроить еще одну выставку, если накопится достаточно материала. Он потянулся и сладко зевнул. Интересно, что думает о нем мисс Финч? Где сейчас Кристина Чэннинг? Газеты пока ни словом не упоминали о ней. Что думает Норма Уитмор, он знал. Она, казалось, была так счастлива, словно выставлены ее собственные картины. — Ну, котик, мне нужно пойти купить тебе что-нибудь к завтраку! — заторопилась Анджела. — Да еще надо сбегать в гастрономическую лавку, к мистеру Джиолетти, и к мистеру Руджиере в овощную. Она расхохоталась: эти итальянские имена забавляли ее. Юджин вернулся к мольберту. Его мысли были заняты Кристиной — где-то она сейчас? Он и не подозревал, что в этот самый момент, только что вернувшись из Европы, она смотрит его картины. Она прочитала о выставке в «Ивнинг пост». «Какое мастерство! — думала Кристина. — Какая сила! Какой замечательный художник! И когда-то он был моим!» Ее мысли перенеслись в Флоризель, к круглой поляне среди деревьев. «Он назвал меня горной Дианой, своей дриадой, своей богиней охоты». Она знала, что Юджин женился. Об этом ей написала еще в декабре одна знакомая. Прошлое в глазах Кристины было прошлым. У нее не было желания вернуть его. Но вспоминать о нем было чудесно — какое восхитительное воспоминание! «Странная, однако, я женщина», — подумала она. И все же ей хотелось снова увидеть Юджина. Не встретиться с ним лицом к лицу, а взглянуть на него издали, чтобы он ее не видел. Интересно было бы знать, изменился ли он, изменится ли вообще. В те памятные дни он казался ей таким прекрасным!..Глава 36
Мечта о Париже ярко засияла в воображении Юджина, а к этому примешивались и другие заманчивые мысли. Теперь, когда его картины удостоились публичной выставки, широко отмеченной в газетах и специальных журналах и привлекшей такое множество избранной публики, его имя стало известным в кругах художников, критиков, писателей. Немало людей искало знакомства с ним, чтобы выразить ему свой восторг. Установилось мнение, что Юджин — крупный художник; правда, талант его еще не достиг своего расцвета, но явно находится на пути к этому. В глазах своих знакомых Юджин благодаря выставке чуть ли не в один день вознесся на недосягаемую высоту, оставив далеко позади таких мелких художников, как Смайт, Мак-Хью, Мак-Коннел и Диза, чьи полотна дважды в год наводняли залы Национальной академии и Общества акварелистов и из чьей среды он до некоторой степени вышел. Он стал крупной фигурой — это признавали выдающиеся критики, разбиравшиеся в искусстве, — и теперь от него будут ждать больших вещей. Одна фраза из статьи Люка Севираса, опубликованной в «Ивнинг сан» в дни выставки, не выходила у него из головы: «Если мистер Витла и впредь будет неуклонно следовать по избранному им пути и если дарование ему не изменит…» «Но почему оно мне может изменить?» — спрашивал себя Юджин. После закрытия выставки он с огромным удовлетворением услышал от мосье Шарля, что три его картины проданы: одна банкиру Генри Мак-Кенна за триста долларов, другая за пятьсот долларов — Айзеку Вертхейму (уличная сценка на Ист-Сайде, которой так восхищался мосье Шарль) и третья (три паровоза, въезжающие в железнодорожный парк) — тоже за пятьсот долларов — Роберту Уинчону, железнодорожному магнату, вице-президенту одной из крупнейших нью-йоркских компаний. Юджин никогда не слышал ни про мистера Мак-Кенна, ни про мистера Уинчона, но все уверяли его, что это люди с большими деньгами и вкусом. По совету Анджелы, он попросил мосье Шарля принять от него одну из картин в знак признательности за все, что тот для него сделал. Юджин сам не додумался бы до этого, — он был страшно непрактичен и безалаберен, но зато Анджела, та вот подумала и позаботилась, чтобы он это сделал. Мосье Шарль был очень польщен и выбрал этюд Грили-сквер, который он считал шедевром по колориту. Этот подарок скрепил их дружбу, и мосье Шарль стал всячески заботиться об интересах Юджина. Он предложил ему оставить на время три картины в выставочном зале его фирмы — уж он постарается приискать для них покупателя. А Юджин, прибавивший тысячу триста долларов к тысяче с лишним, остававшимися у него в банке от прежних сбережений, проникся уверенностью, что его карьера обеспечена, и решил, как рассчитывал раньше, съездить в Париж, по крайней мере на лето. Это путешествие, которое для Юджина было исключительным событием, знаменующим новую эру в его жизни, не потребовало больших приготовлений. За годы своего пребывания в Нью-Йорке он слышал от друзей больше рассказов о Париже,чем о каком-либо другом городе в мире. Парижские улицы, кварталы, музеи, театры, опера — все было знакомо ему до мелочей. Что стоит жизнь в Париже, какой выбрать маршрут, как лучше всего там устроиться, что осматривать, — как часто приходилось ему слышать об этом. А теперь он сам туда поедет. Анджела приняла на себя все хлопоты — изучала проспекты пароходных компаний, решала, какого размера чемоданы нужно купить, какие вещи взять в дорогу, позаботилась насчет билетов и разузнала цены в разных отелях и пансионах, в которых, возможно, придется жить. Она была так ошеломлена славой, неожиданно свалившейся на ее мужа, что с трудом отдавала себе отчет в происшедшем. — Знаешь, Юджин, что говорит мистер Байердет? — сказала она однажды, имея в виду пароходного агента, с которым неоднократно совещалась. — Он уверяет, что, если мы едем только на лето, нет никакого смысла брать с собой много вещей — разве что самое необходимое. Он говорит, что если понадобится, мы купим там что угодно из платья, и осенью я смогу привезти это сюда беспошлинно. Юджин одобрил эту мысль. Он подумал, что Анджеле доставит удовольствие походить по магазинам. Они решили ехать через Лондон, а на обратном пути сесть на пароход в Гавре. Десятого мая они выехали, через неделю были в Лондоне, а первого июня прибыли в Париж. Лондон произвел на Юджина большое впечатление. Он вовремя приехал туда: сезон туманов и холодов миновал, и город, купавшийся в золотистой дымке, мог кого угодно привести в восторг. Лондонские магазины не понравились Анджеле, она считала, что это «второй сорт». Ее также неприятно поразили условия жизни неимущих классов, обилие ужасающе бедных и нищенски одетых людей. И она и Юджин отметили тот любопытный факт, что все англичане на редкость одинаковы — одинаково одеваются, одинаково ходят, одинаково носят шляпы, одинаково держат в руках трости. Мужчины элегантные, подтянутые, произвели на Юджина хорошее впечатление. Женщины ему не понравились. Он нашел, что они неуклюжи, некрасивы и безвкусно одеты. Но какая разница во всем, едва они очутились в Париже! В Лондоне, не имея свободных средств (Юджин считал, что не может позволить себе дорогих столичных развлечений и комфорта) и не привезя с собой никаких рекомендательных писем, он был вынужден довольствоваться поверхностным знакомством с тем, что видит случайный путешественник, — кривые улицы, сутолока на перекрестках, Тауэр, виндзорский замок, старинные подворья юридических коллегий, Стрэнд, Пиккадилли, собор св. Павла и, конечно, Национальная галерея и Британский музей. Он побывал и в Южно-Кенсингтонском музее и в прочих сокровищницах, где хранятся шедевры искусства. Но главное впечатление, полученное им от Лондона, был консервативный дух, империализм, военщина. Он нашел Лондон серым, однообразным, менее характерным, чем Нью-Йорк, и даже менее живописным. Другое дело Париж. Этот город вечного праздника, город, пестрящий веселыми заманчивыми, свежими красками, напоминал ему человека, собравшегося на загородную прогулку. Сойдя на пристани в Кале, по дороге в Париж, а потом и в самом Париже Юджин все время чувствовал, насколько велика разница между Францией и Англией. Первая казалась юной, полной надежд, по-американски до смешливости веселой, вторая — серьезной, угрюмой и кислой. У Юджина было много рекомендательных писем от мосье Шарля, Хадсона Дьюла, Луи Диза, Леонарда Бейкера и других. Едва они узнали о его планах, как вызвались дать ему адреса своих друзей в Париже, которые могли быть ему полезны. Самое разумное, уверяли они его, если он не хочет обзаводиться собственной студией и желает овладеть французским языком, это — устроиться в какой-нибудь приятной французской семье; там он будет слышать только французскую речь и быстро освоится с ней. Если же этот план ему не улыбается, то лучше всего поселиться на Монмартре, где он без труда найдет прекрасную студию и встретит много американских и английских студентов. Некоторые из американцев, к которым у него были рекомендательные письма, жили в Париже постоянно. Как только он обзаведется небольшим кружком друзей, говорящих по-английски, все пойдет отлично. — Вы будете поражены, Витла, — сказал ему однажды Диза, — как превосходно французы понимают английский язык, если он сопровождается выразительной мимикой. Юджин хохотал, слушая рассказы Диза о его затруднениях и удачах. Но теперь он убедился, что Диза был прав. Жестикуляция очень помогала, и его в большинстве случаев понимали. Прожив несколько дней в отеле, Юджин и Анджела в конце концов сняли студию, которую рекомендовал им парижский представитель фирмы «Кельнер и сын» мосье Аркен. В студии этой, находившейся на третьем этаже и хорошо обставленной, жил американский художник Финли Вуд (Юджин вспомнил, что о нем когда-то упоминала Руби Кенни), на лето уезжавший из Парижа. Благодаря рекомендации мосье Шарля мосье Аркен приложил все старания устроить Юджина возможно удобнее, причем заявил, что платить он может по своему усмотрению, — скажем, франков сорок в месяц. Осмотрев студию, Юджин пришел в восторг. Она была расположена в глубине двора и окнами выходила в садик. Участок, на котором стоял дом, представлял собой небольшую возвышенность, отлого спускавшуюся к западу, и так как сплошная линия зданий в этом месте прерывалась, из окон открывался широкий вид на Париж, на силуэт Нотр-Дам и на устремленную ввысь Эйфелеву башню. Вечером, когда город загорался огнями, зрелище было волшебное. Возвратившись к себе, Юджин придвигал стул к своему любимому окну и наслаждался видом ночного Парижа, пока Анджела готовила чай с лимоном или со льдом или поджаривала что-нибудь на скорую руку. Она кормила Юджина традиционными американскими блюдами, вкладывая в это всю свою энергию и трудолюбие: сама ходила в ближайшие гастрономические магазины, овощные палатки, кондитерские, закупала нужные продукты в минимальных количествах, всегда выбирая все лучшее, и готовила с большой тщательностью. Анджела была отличной кулинаркой и любила, чтобы стол был красиво сервирован, чтобы все сверкало. Она не искала никаких знакомств, чувствуя себя вполне счастливой в обществе Юджина и считая, что и он должен быть так же счастлив с нею. У нее не было ни малейшего желания пойти куда-либо одной — она ходила в город только вместе с ним. Она подстерегала каждую его мысль, каждое движение, стараясь угадать малейшую его прихоть. Главной прелестью Парижа в глазах Юджина были колоритность и богатство вкуса, проявлявшиеся во всем. Ему не надоедало смотреть на низкорослых французских солдат в широченных красных штанах, голубых мундирах и красных кепи, или на полицейских в плащах и с саблями, или на кучеров, с видом благодушного превосходства восседавших на козлах своих фиакров. Сена, по которой в это время года оживленно шныряли лодки, сад Тюильри с его мраморными статуями, аккуратными дорожками и каменными скамьями, Булонский лес, Марсово поле, Трокадеро, Лувр, изумительные парижские улицы и музеи — все это производило на Юджина впечатление чудесного сна. — Да! — вырвалось у него однажды, когда он шел с Анджелой по набережной Сены в направлении Исси. — Для художника здесь поистине рай земной. Ты только вдохни, какой аромат (аромат, кстати, исходил от видневшейся в отдалении парфюмерной фабрики), взгляни на эту баржу! — Он прислонился к парапету. — Ах, как здесь хорошо! — вздохнул он. Обратно они возвращались в сумерки на открытом империале омнибуса. — После смерти я надеюсь попасть в Париж, — со вздохом сказал Юджин. — Лучшего рая мне не нужно. Однако спустя некоторое время пребывание в Париже, как и всякое затянувшееся удовольствие, потеряло для него часть своей прелести. Юджин чувствовал, что он мог бы поселиться здесь, если бы позволила ему работа. Но сейчас ему необходимо было вернуться в Америку. Вскоре Юджин стал замечать, что Анджела если не развилась духовно, то, во всяком случае, стала более уверенной в себе. Состояние робости, в котором она находилась в ту осень, когда впервые приехала в Нью-Йорк, и которое еще более усилилось, когда она окунулась в атмосферу искусства и очутилась среди странных друзей Юджина, уступило место уверенности, порожденной опытом. Убедившись, что Юджин всеми своими мыслями, чувствами и интересами живет в мире возвышенного, что его внимание всецело поглощают уличные толпы, типы людей, бульвары, здания и их силуэты на фоне неба, смешное и трогательное в жизни, — она целиком взяла на себя все дела хозяйственного порядка. Очень скоро ей стало ясно, что Юджин рад предоставить все заботы о своем благополучии кому угодно, лишь бы нашелся такой человек. Ему не доставляло ни малейшего удовольствия покупать что-нибудь для себя. Он терпеть не мог всякие домашние мелочи. Доставать билеты, искать что-нибудь в железнодорожном указателе, наводить справки, вступать в пререкания и что-то кому-то доказывать — все это вызывало у него чувство отвращения. — Послушай, Анджела, ты сама достанешь билеты, правда? — говорил он умоляющим голосом. Или же: — Поговори уж ты с ним. Мне сейчас некогда. Хорошо? Анджела спешила выполнить поручение, в чем бы оно ни заключалось, стремясь доказать, что она действительно полезна и необходима ему. Забравшись на крышу омнибуса, Юджин, как бывало в Нью-Йорке, все рисовал, рисовал и рисовал, — кебы, фиакры, пассажирские пароходики на Сене, характерные фигуры и лица в парках, садах, мюзик-холлах — словом, все, что ни попадалось на глаза. Он был неутомим. Он хотел только одного — чтобы его не слишком беспокоили, чтобы ему не мешали заниматься своим делом. Обыкновенно та же Анджела и расплачивалась всюду, где им приходилось побывать за день. Его бумажник был у нее, она распоряжалась всеми чеками, в которые они превратили свою наличность, вела строгую запись расходов, ходила по магазинам, покупала и платила. Юджину предоставлялась полная возможность смотреть на что ему угодно и думать о чем угодно. В этот первый период их брака Анджела возвела его на пьедестал, и Юджин не прочь был восседать на нем, скрестив ноги, как индийский божок. Только по ночам, когда его внимание не отвлекали посторонние звуки и впечатления, когда даже его искусство не стояло между ними преградой, когда она могла сжимать его в своих объятиях и его неугомонный дух смирялся под пьянящим действием ее страсти, — лишь тогда она чувствовала себя равной ему, действительно достойной его. Восторги, которыми они упивались во тьме или при мягком свете небольшого ночника, свисавшего на цепях с потолка над их широкой кроватью, или при свете зари, когда утренняя свежесть вливалась в окна вместе с щебетанием птиц, гнездившихся на единственном дереве их крошечного садика, — были с ее стороны проявлением и безоглядной щедрости и бездонного эгоизма. Она жадно впитала философию Юджина о наслаждении радостями жизни, поскольку это касалось их самих, и тем охотнее восприняла его взгляды, что они совпадали с ее собственными смутными воззрениями и пылкими порывами. Анджела взошла на брачный алтарь после многих лет самоотречения, после многих лет, проведенных в горьких сомнениях и тоске по замужеству, которое могло и вовсе миновать ее, и принесла с собою на брачное ложе всю накопившуюся у нее бурную страсть. Она была незнакома с этикой и физиологией брака (если не считать того, что позволялось ей, девственнице, знать). Рассказы приятельниц о вещах, которые они и сами знали лишь понаслышке, двусмысленные признания замужних подруг, советы старшей сестры (в каких выражениях они были преподаны — одному богу известно!) — все это нисколько не рассеяло невежества Анджелы. Поэтому сейчас, позабыв обо всем на свете, она с упоением познавала тайны брака, убежденная, что необузданное удовлетворение страсти — явление вполне естественное. Это было к тому же, как она постепенно обнаружила, универсальным средством против всяких расхождений во взглядах и характере, грозивших их душевному покою. С первых же дней их совместной жизни в студии на Вашингтон-сквер и особенно теперь, в Париже, они предавались нескончаемой оргии страсти, хотя это ни в коем случае не было потребностью их натур и еще меньше соответствовало тем требованиям, которые предъявляли Юджину его труд и творчество. Для Юджина Анджела была источником изумления и радости, и не столько, пожалуй, радости, сколько изумления. Она была, в известном смысле, элементарна. Юджин — нет. Он и в этом оставался художником, как и во всем другом, и пребывал неизменно в таком состоянии восторженности, которое физические силы, надорванные напряженной работой мозга, не могли питать без конца. Волнующая радость неизведанного, романтика приключения или, если хотите, интриги, раскрытие всего, что таится в женщине, — вот в сущности что составляло главную прелесть его романов или даже стимул, толкавший его на романы. Одержать победу над женщиной — прекрасно, но если вдуматься, то это борьба, в которую прежде всего вовлечен интеллект. Осуществить свои мечтания, добиться того, чтобы желанная женщина отдала себя всю целиком, — вот что неизменно увлекало в нем и чувство и воображение. Но все это напоминало головокружительную пропасть, над которой протянуты тончайшие серебряные нити, — и он знал красоту этой пропасти, но опасностей ее не подозревал. Он наслаждался плотской радостью, которую давала ему Анджела. Это было то, чего, как ему казалось, он сам хотел. Анджела же видела в своей способности удовлетворять его неистощимую как будто страсть не только выражение любви к нему, но и свой долг. Установив свой мольберт в новой студии, Юджин работал иногда с десяти утра до двенадцати, иногда с двух до пяти. В пасмурные дни они с Анджелой либо предпринимали всевозможные прогулки и поездки, либо шли осматривать музеи, картинные галереи или общественные здания. Часто они отправлялись бродить по рабочим кварталам или вдоль железнодорожного полотна. Юджина больше всего привлекали сумрачные фигуры бедняков, и он особенно тяготел к темам, говорившим о заботе и нужде. Он зарисовывал не только танцовщицу из мюзик-холла и эффектные фигуры апашей в кварталах, которые впоследствии так и стали называться кварталами апашей, не только участников пикника где-нибудь в Версале или Сен-Клу и пароходных пассажиров на Сене, но и рабочих при выходе из фабричных ворот, железнодорожных сторожей у шлагбаумов, рыночных торговцев, рынки ночью, уличных подметальщиков, газетчиков, цветочниц — всегда на фоне какой-нибудь яркой, своеобразной уличной сцены. Наиболее любопытные уголки города — башни, мосты, виды реки, фасады — служили фоном для его типов, суровых, живописных или трогательных. Он надеялся этими вещами заинтересовать Америку, показать новой выставкой не только силу и многогранность своего таланта, но и то, насколько он вырос, насколько окрепло его чувство цвета, его искусство тонкой психологической характеристики, его вкус в композиции и деталировке. Он не отдавал себе отчета в том, что его усилия могут оказаться тщетными, что его невоздержание может обескровить его талант, убить все краски в окружающем мире, притупить воображение, парализовать волю раздражительностью, помешать успеху. Он не имел понятия о том, как сильно отражается половая жизнь на трудоспособности человека, какой вред может причинить самому талантливому художнику злоупотребление в этой области — как под его влиянием искажается чувство цвета, ослабевает способность суждения о типическом, столь необходимая для правильного истолкования жизни, обрекаются на безнадежность все попытки чего-либо добиться, блекнут самые заветные цели и жизнь начинает казаться лишенной смысла, а смерть — избавлением.Глава 37
Лето прошло, а вместе с ним свежесть и новизна парижских впечатлений, хотя нельзя сказать, чтобы Париж утратил для Юджина свое очарование. Своеобразие жизни незнакомого ему народа, другие, по сравнению с его собственной страной, идеалы и вкусы, более снисходительное и человечное отношение к вопросам нравственности, более спокойное приятие ударов судьбы, человеческих слабостей и классовых различий, не говоря уже о разнице во внешнем облике, в одежде, жилье и развлечениях, — все это в равной мере удивляло и занимало его. Он мог без устали изучать европейскую архитектуру, сравнивая ее с американской, он отмечал терпимость французов, ту легкость, с какою они относятся к жизни, выслушивал нескончаемые рассуждения Анджелы о любви французских хозяек к чистоте, об их трудолюбии и бережливости, радовался, что здесь не заметно присущей американцам потребности всегда что-то делать. Анджелу поражали исключительная дешевизна стирки белья и ловкость, с какой их консьержка (которая верховодила всем кварталом и достаточно знала английский язык, чтобы объясняться с жилицей-американкой) справлялась со своей работой: и провизию сама закупала, и готовила, и шила, и принимала гостей. Здесь не знали ни изобилия продуктов, ни бессмысленного расходования их, столь характерного для Америки. Анджела и сама была бережлива, поэтому она очень подружилась с мадам Бургош и училась у нее, как лучше навести экономию и порядок в хозяйстве. — Странный ты человек, Анджела, — сказал ей однажды Юджин. — По-моему, тебе больше нравится сидеть внизу под лестницей и болтать с этой француженкой, чем бывать в обществе самых знаменитых художников и писателей. О чем ты можешь говорить с ней? — Да ни о чем особенном, — ответила Анджела, от которой не укрылся легкий намек на отсутствие у нее интереса к искусству. — Просто она умная женщина. И к тому же очень практичная. У мадам Бургош за полчаса скорее научишься разным хитростям экономии, чем у любой американской хозяйки за всю жизнь. А интересует она меня не больше, чем другие. Твои художественные натуры, насколько я могла наблюдать, только и умеют, что без толку носиться повсюду и разыгрывать из себя бог весть кого, хотя на самом деле ничего собой не представляют. Юджин услышал в ее словах обиду, вызванную его замечанием, которое было сделано не совсем в том духе, как она его восприняла. — Я вовсе не хотел сказать, что у нее нет своих достоинств, — начал он оправдываться. — Для всего нужен талант, надо полагать. Мадам Бургош, несомненно, производит впечатление неглупой женщины. А где ее муж? — Убит на войне, — с сокрушением ответила Анджела. — Ну что ж, ты, наверно, столькому научишься у нее, что в Нью-Йорке сможешь управлять целым отелем. Мне кажется, ты и без мадам Бургош недурно справлялась с нашим хозяйством. Юджин произнес этот комплимент с улыбкой. Ему хотелось отвлечь мысли Анджелы от искусства и художников. Он надеялся, что она почувствует или поймет, что он не хотел ее обидеть; но утихомирить ее было не так-то легко. — Ты, очевидно, считаешь меня полным ничтожеством, Юджин, — сказала она немного погодя. — Почему ты с таким презрением говоришь о моих беседах с мадам Бургош? Она далеко не скучный человек. Это исключительно умная женщина. Ты ее не знаешь, ты никогда не разговаривал с ней. Она говорит, что ей достаточно было взглянуть на тебя, и она сразу поняла, что ты совсем не такой, как другие. Ты напоминаешь ей какого-то мистера Дега, который когда-то жил здесь. Это правда был знаменитый художник, Юджин? — Был ли Дега великий художник? — воскликнул Юджин. — Еще бы! И он занимал эту студию? — Да, но только давно — лет пятнадцать назад. Юджин просиял от удовольствия. Это был серьезный комплимент, и теперь уж он не мог не проникнуться симпатией к мадам Бургош. Она, несомненно, умница, иначе бы ей и в голову не пришло такое сравнение. Анджела, не в первый раз добившись от него признания, что ее домовитость и хозяйственные способности играют такую же важную роль в этом мире, как и всякие другие дарования, успокоилась и развеселилась. Как мало влияет на человеческую натуру искусство, окружающие условия, перемена климата или места, подумал Юджин. Вот он в Париже, он материально неплохо обеспечен, достиг славы, или по крайней мере находится на пути к ней, а между тем они ссорятся с Анджелой из-за сущих пустяков, совсем как, бывало, дома, в Нью-Йорке, на Вашингтон-сквер. К концу сентября большинство парижских этюдов Юджина было уже в таком состоянии, что он мог закончить их где угодно. Холстов пятнадцать были совсем готовы, другие близки к завершению. Юджин решил, что лето у него не пропало даром. Он много работал, и результат его трудов был налицо — двадцать шесть полотен, нисколько не уступавших, по его мнению, написанным в Нью-Йорке. Они отняли у него меньше времени, но это объяснялось тем, что он стал увереннее в себе, увереннее в своих методах работы. Он с большой неохотой расставался со всем, что нашел в Париже, но уезжал с мыслью, что серия его парижских этюдов произведет на американцев такое же впечатление, как и нью-йоркские. Мосье Аркен, например, и многие другие, включая знакомых, к которым направили его Диза и Дьюла, были в восторге от них. Мосье Аркен выразил даже мысль, что на некоторые нашлись бы покупатели и во Франции. Юджин вернулся с Анджелой в Америку и, узнав, что может оставаться в старой студии до первого декабря, засел кончать работу к предстоящей выставке. Первые признаки, по которым Юджин стал догадываться, что с ним происходит что-то неладное (не считая все возраставших опасений насчет того, как примет американская публика его парижские этюды), заявили о себе осенью, когда ему начало казаться, — а может быть, это действительно было так, — что на него плохо действует кофе. Уже несколько лет как он избавился от старого своего недуга — желудочных недомоганий, но теперь болезнь стала постепенно возвращаться, и он жаловался Анджеле, что его мутит после еды, а кофе определенно вызывает у него тошноту. — Придется попробовать пить чай или что-нибудь другое, если это не прекратится, — сказал он. Анджела предложила перейти на шоколад, и он так и сделал. Но результаты получились ничуть не лучше, если не хуже. У Юджина начались нелады с работой. Не в состоянии добиться желанного эффекта, Юджин переделывал картину снова и снова, пока она не утрачивала всякое сходство с первоначальным замыслом, — и впадал в отчаяние. А когда ему уже казалось, что он достиг нужного эффекта, утро возвращало его к прежним сомнениям. — Ну вот, теперь получилось как будто хорошо, — обычно говорил он. Анджела вздыхала с облегчением, так как вместе с ним переживала его тревоги, его вспышки отчаяния и неверия в свои силы, но радость ее обыкновенно длилась недолго. Спустя несколько часов Анджела обнаруживала, что он снова работает над тем же полотном и что-нибудь переделывает. Он похудел, побледнел, и его опасения насчет будущего вскоре приняли явно болезненный характер. — Черт возьми! — сказал он однажды Анджеле. — Недоставало только, чтобы я слег. Меньше всего мне хочется сейчас болеть. Нужно как следует подготовиться к выставке, а потом ехать в Лондон. Стоит мне написать серию лондонских и чикагских видов вроде нью-йоркских, и репутация моя утвердится. Но если я свалюсь… — Ну что ты, Юджин, — прервала его Анджела. — Тебе это только так кажется. Вспомни, как много ты работал этим летом, как много ты работал прошлой зимой. Тебе необходим хороший отдых, вот что тебе нужно. Почему бы в самом деле не сделать передышки, когда все будет готово к выставке, и не позволить себе как следует отдохнуть? Денег у нас на некоторое время хватит. Мосье Шарль, возможно, продаст еще несколько старых картин, да найдутся покупатели и на новые, и тогда ты можешь не торопиться. Зачем тебе ехать весною в Лондон? Лучше всего отправляйся куда-нибудь побродить или поезжай на юг, или попросту поживи где-нибудь спокойно. Вот что тебе нужно. Юджин смутно догадывался, что нуждается не столько в отдыхе, сколько в душевном покое. Он не чувствовал усталости. Только нервы были возбуждены и донимали всякие сомнения и страхи. Его терзала бессонница, мучили кошмары, стало пошаливать сердце. В два часа ночи, когда в силу непонятных для человека причин в его организме происходят какие-то внутренние потрясения, он просыпался с чувством, словно летит в бездну. Сердце едва билось, и он нервно хватался за пульс. Иногда его бросало в холодный пот, и, чтобы прийти в себя, он вставал с постели и начинал ходить по комнате. Анджела в таких случаях тоже вставала и ходила вместе с ним. Как-то днем, стоя перед мольбертом, он вдруг почувствовал странную слабость: яркие круги поплыли у него перед глазами, в ушах зашумело, казалось, что его колют десятки тысяч иголок. Что-то странное происходило с его нервной системой, как будто у него сдал каждый нерв. В первый момент им овладел ужас, он вообразил, что сходит с ума, но никому не сказал ни слова. Он понял, что причина его расстройства — невоздержание, что единственное для него лекарство — воздержанность, полная или хотя бы частичная, что он, по всей вероятности, так измотался и физически и нравственно, что ему будет трудно восстановить свои силы, что его дарование художника находится под серьезной угрозой, и, следовательно, вся его жизнь может быть искалечена. Он стоял перед холстом с кистью в руке, погруженный в раздумье. Когда припадок миновал, он дрожащей рукой отложил кисть. Потом подошел к окну, вытер лоб, покрытый холодной испариной, и повернулся к шкафу, чтобы достать пальто. — Куда ты идешь? — спросила Анджела. — Немного прогуляться. Я скоро вернусь. Мне что-то не по себе. Она проводила его до двери и поцеловала, но на душе у нее было тревожно. «Как бы он не заболел, — подумала она. — Ему необходимо бросить работу».Глава 38
Так начался период, которому суждено было длиться пять-шесть лет, период, когда Юджин был сам не свой, чтобы не сказать больше. Он ни в коем случае не потерял рассудка, если считать, что признаками здравого ума является способность ясно рассуждать, умно острить, осмысленно спорить и читать. Но в глубине его души царил хаос, в нем боролись самые противоречивые мысли, чувства и ощущения. Обладая умом, склонным к самоанализу и рефлексии, он всю свою исключительную способность глубоко мыслить и переживать обратил теперь на самого себя и на свое душевное состояние, и, как всегда бывает, когда мы слишком близко заглядываем в тайны бытия, результатом было полное смятение чувств. Юджин давно уже пришел к заключению, что человек ровно ничего не знает. Ни в религии, ни в философии, ни в науке нельзя найти ответа на ту загадку, которая именуется жизнью. Вот крохотный, слабо мерцающий мирок человеческой мысли, а что за ним, над ним? В далях, не доступных для сильнейших телескопов, в бездонных пространствах мира виднеются звездные туманности. Что происходит там? Кто управляет их движением? И были ли когда-либо вычислены их орбиты? Жизнь представлялась ему отталкивающей, сумрачной тайной, жалким, полубессмысленным функционированием, бесцельно протекающим во мраке. Никто ничего не знает, — в том числе и творец мироздания, — а сам он, Юджин, и подавно. Взаимная вражда, жизнь, питающаяся смертью, открытое насилие — вот человеческое существование. Если человек изнемог и свалился у дороги, если судьба обделила его при распределении своих благ, если он не родился под заботливым крылышком фортуны, его ждет прозябание. Даже в то время, когда Юджин был полон сил, когда он преуспевал, жизнь представлялась ему довольно грустным зрелищем; а сейчас, когда ему грозило вынужденное безделье и полное крушение надежд, она внушала ему ужас. Ведь если талант изменит ему, что у него останется? Ничего! Жалкая, эфемерная репутация, которую он не в состоянии поддержать, полное безденежье, жена, о которой нужно заботиться, годы страданий, а затем — смерть. Пучина смерти! Стоило Юджину унестись мыслями к тому, что ждет человека за пределами жизни и мечтаний, и как страшно, как больно ему становилось! С одной стороны — жизнь, счастье, любовь и здоровье, с другой — смерть и небытие, бесконечное небытие. Юджин не сразу утратил всякую надежду, не сразу впал в отчаяние перед лицом этих грозных симптомов, хотя и видел, что все вокруг него рушится. Он месяцами пытался уверить себя, что это только временное состояние, что лекарства и врачи помогут ему. В газетах усиленно рекламировались всевозможные патентованные средства — очищающие кровь, восстанавливающие нервную систему, дающие питание мозговому веществу; все они, судя по объявлениям, обещали исцеление от той или иной болезни. И хотя Юджин с недоверием относился к патентованным лекарствам, он все же делал исключение для тонических средств, вернее, для одного определенного тонического средства. Врач, к которому он обратился, прописал ему покои и какое-то превосходное, как он уверял, укрепляющее снадобье. Он спросил Юджина, не страдает ли тот какой-нибудь изнурительной болезнью. Юджин сказал, что нет, но признался, что позволяет себе излишества в половой жизни. Врач, однако, не допускал и мысли, чтобы это могло, при отсутствии других причин, вызвать расстройство нервной системы. Его состояние, несомненно, связано с переутомлением, с душевной тревогой. Такие натуры, как Юджин, от рождения предрасположены к нервным срывам, и им необходимо соблюдать строжайший режим. Больному следует вести нормальный образ жизни, вовремя принимать пищу, спать возможно больше, ложиться в определенный час. Неплохо было бы заняться гимнастикой. Он может обзавестись гирями или другим гимнастическим снарядом — это быстро восстановит его здоровье. Юджин заявил Анджеле, что займется, пожалуй, гимнастикой, и записался в гимнастический клуб. Он стал принимать прописанное ему тоническое средство, много гулял с Анджелой и старался отвлечься от мысли, что находится в состоянии нервной депрессии. Но все это, в сущности, не приносило никакой пользы, так как его здоровье было сильно подорвано и ему предстояло пройти через все муки и весь ужас упадка сил, пока организм не возьмет свое. А между тем его отношения с Анджелой продолжали оставаться прежними, несмотря на все растущую уверенность Юджина, что это в какой-то мере вредит его здоровью. Но воздержаться было нелегко, и каждая новая попытка давалась все труднее и труднее. Он то и дело решал, что надо взять себя в руки, но это было лишь зароком пьяницы, который ищет для себя оправдания в постоянных обещаниях исправиться. Теперь, когда Юджин был на виду как художник и его имя приобрело некоторую известность среди живописцев, критиков и писателей, нет-нет да и проявлявших интерес к его работе, ему необходимо было приложить все старания, чтобы доказать публике, что его талант полностью сохранил свою силу. Когда выяснилось, что его ждет долгая полоса вынужденного безделья, Юджин был рад, что ему удалось еще до болезни почти закончить свои парижские этюды. К тому времени, как им овладела та странная нервная слабость, которая, по-видимому, являлась предвестницей настоящей болезни, он уже успел окончательно отделать двадцать два холста, и Анджела умолила его больше не прикасаться к ним. Огромным напряжением воли и без всякой уверенности в себе он довел до конца еще пять. Мосье Шарль время от времени заходил взглянуть на его полотна и очень лестно отзывался о них. Он далеко не был убежден, что они будут иметь такой же успех, как американские этюды, так как Париж был достаточно разработан в иллюстрациях и жанровых картинах. В новых вещах Юджина не было той свежести, какая отличала его виды Нью-Йорка, и выбор сюжетов был не так оригинален. Тем не менее мосье Шарль искренне говорил, что он в восторге от этюдов. Если они не подойдут для Нью-Йорка, можно будет впоследствии выставить их в Париже. Он выражал Юджину соболезнование по поводу его болезни и настойчиво уговаривал беречь себя. Юджину пришло в голову, что он родился под несчастливой звездой. Наслушавшись рассказов об астрологии и хиромантии, увлекаемый любопытством и безотчетным страхом, он однажды обратился к астрологу, и тот за небольшую мзду сообщил ему, что его ждет громкая слава не то в искусстве, не то в литературе, но что сейчас он входит в неблагоприятную полосу, которая продлится несколько лет. Услышав это, Юджин даже изменился в лице. Старый, словно замшелый джентльмен качал головой над своими астрологическими фолиантами. У него была белая грива, придававшая ему весьма почтенный вид, и совершенно белая борода, но жилет его носил следы пролитого кофе и был обсыпан табачным пеплом, а воротничок и манжеты казались серыми от грязи. — Звезды предвещают вам большие огорчения в возрасте от двадцати восьми до тридцати лет. После этого наступит длительный период благополучия. Приблизительно на тридцать восьмом или тридцать девятом году жизни вас снова ждут испытания, правда, не столь значительные, и вы с ними справитесь… по крайней мере похоже на то. Гороскоп показывает, что у вас чрезмерно чувствительная натура и сильно развитое воображение и что вы принимаете все близко к сердцу. Кроме того, у вас, видимо, больные почки. Не злоупотребляйте лекарствами; судя по гороскопу, у вас к ним склонность, но они вам впрок не пойдут. Вы будете женаты дважды, но детей я не вижу. Он долго еще бубнил что-то себе под нос, и Юджин вышел от него сильно расстроенный. Итак, даже звезды предвещают ему продолжительный период упадка, и в недалеком будущем его снова ждут неудачи. Правда, астролог говорил о периоде благополучия в возрасте между тридцатью двумя и тридцатью восемью годами. Что ж, и это утешительно. Кто же та вторая женщина, на которой ему предстоит жениться? А как же Анджела — умрет? В этот декабрьский день он долго бродил по улицам и все думал, думал. С тех пор как Анджела поселилась в Нью-Йорке, ее семья много слышала от нее об успехах Юджина. Каждую неделю одно, а то и два письма обходило всех ее родных. Адресовались эти письма Мариетте, но читали их и миссис Блю, и Джотем, и братья, и сестры. Таким образом, многочисленная родня была полностью в курсе дел молодых супругов и даже сверх того, потому что Анджела, описывая успехи своего мужа, не удовлетворялась голыми фактами. Она придавала своим описаниям восторженную окраску, не то чтобы сознательно привнесенную, но навеянную тем ореолом блеска и славы, которым Юджин был окружен в ее собственном воображении. У всех ее родных, и у Мариетты в особенности, сложилось убеждение, что жену такого талантливого человека ждут почет и полное благоденствие. Анджела подробнейшим образом описывала жизнь художников в нью-йоркских и парижских студиях, красоты Лондона и Парижа, всех знаменитостей, с которыми они встречались в Америке и за границей, — мосье Шарля, мосье Аркена, Айзека Вертхейма, Генри Томлинса, Люка Севираса и других. Не было ни одного званого обеда или завтрака, ни одного банкета или чая, который она не описала бы во всех подробностях, не жалея ярких красок. В конце концов Юджин превратился в глазах своих западных родичей в какого-то полубога. Никто не сомневался в его гениальности. Каждый готов был видеть в нем будущего богача или во всяком случае человека со средствами. Нечего и говорить, что все родственники звали Юджина и Анджелу домой погостить. Подумать только, что она вышла замуж за такого выдающегося человека! То же самое было и в семье Витла. Юджин не виделся с родителями со времени своей последней поездки в Блэквуд, но и они не оставались без вестей. Юджин был нерадивым сыном, и отчасти поэтому Анджела вменила себе в обязанности переписку с его матерью. Она очень жалеет, писала она миссис Витла, что до сих пор лишена удовольствия познакомиться с нею. Она очень любит Юджина и надеется быть ему хорошей женой, а его матери — доброй невесткой. Юджин ужасный лентяй по части писем, а потому она, Анджела, будет теперь писать за него и каждую неделю посылать его матери весточку. Она спрашивала, не соберутся ли мистер и миссис Витла как-нибудь навестить их. Это доставило бы им большую радость и Юджину принесло бы пользу. Она просила сообщить ей адрес Миртл (последняя переехала куда-то из Оттавы), и пусть им как-нибудь напишет Сильвия. К письму были приложены: фотография, изображавшая ее и Юджина, набросок студии, как-то сделанный Юджином, и другой, где она, Анджела, стоит у окна и задумчиво смотрит на улицу. Газетные репродукции его картин с первой выставки, статьи о его работе, критические отзывы — все это Анджела посылала и своим родственникам, и родным мужа, так что обе семьи были осведомлены обо всех их делах. Когда здоровье Юджина стало совсем плохо, Анджела начала задумываться над тем, как бы поэкономнее устроиться, чтобы иметь какие-то средства на случай, если Юджин совсем сляжет. Вот тут-то ей и пришло в голову, что было бы целесообразно поехать погостить домой. Правда, семья ее была небогата, но на жизнь вполне хватало. Мать Юджина тоже не переставала спрашивать в письмах, когда же они приедут хоть ненадолго; она не видела причин, почему бы Юджин не мог закончить свои картины в Александрии с таким же успехом, как в Нью-Йорке или в Париже. Юджин охотно согласился на это предложение, — ему пришло в голову вместо поездки в Лондон заняться сперва Чикаго. Он мог бы некоторое время провести с Анджелой в Блэквуде, а потом у своих родных. Их примут с распростертыми объятиями. Финансы их в то время были хоть и не совсем в плохом состоянии, но и далеко не в блестящем. Из тысячи трехсот долларов тысяча сто ушли на поездку за границу. Из остававшихся у него (вместе со старыми сбережениями) тысячи двухсот он успел истратить еще триста долларов. Но так как мосье Шарлю снова удалось продать две картины по четыреста долларов за каждую, то текущий счет Юджина вырос до тысячи семисот долларов. На эти деньги, однако, им предстояло жить до следующей продажи картин. Он каждый день надеялся услышать о каком-нибудь новом покупателе, но их что-то не было. Мало того, выставка, устроенная в январе, произвела далеко не такое впечатление, как он ожидал. Его полотна привлекали общее внимание: и критика и публика высказывали мнение, что Юджин становится популярен, — в противном случае, разве стал бы мосье Шарль так с ним возиться? Однако сам мосье Шарль находил, что парижские этюды не могут рассчитывать на такой же успех у американцев, как работы на американские темы. Возможно, говорил он, они встретят лучший прием во Франции. Юджин был удручен общим тоном отзывов, но это объяснялось больше его болезненным состоянием, чем какими-либо действительными причинами. Можно было еще попытать счастья в Париже, могли найтись покупатели и здесь. Но так как эти последние о себе не заявляли и так как в феврале Юджин уже не в состоянии был работать и необходимо было соблюдать строжайшую экономию, он решил принять приглашение своих родителей и родных Анджелы и провести некоторое время в Иллинойсе и Висконсине. Может быть, он за это время поправится. Он надеялся также, если позволит здоровье, поработать в Чикаго.Глава 39
Только укладывая вещи перед отъездом из студии на Вашингтон-сквер (которую им так и не пришлось освобождать, ибо мистер Декстер все еще не возвращался), Анджела впервые наткнулась на доказательство двоедушия Юджина. С присущей ему беспечностью во всем, что не имело отношения к его работе, Юджин положил все письма, полученные в свое время от Кристины Чэннинг, и единственное письмо от Руби Кенни в коробку из-под почтовой бумаги и сунул ее на дно сундука. Он давно успел забыть про эти письма, хотя у него осталось впечатление, что они лежат в таком месте, где никак не могут быть обнаружены. Когда Анджела принялась разбирать вещи в сундуке, она наткнулась на коробку, открыла ее и достала письма. В тот период Анджела жила только Юджином. Все ее помыслы, все ее чувства были целиком поглощены связывавшими их отношениями. Юджин и его дела — других интересов для нее не существовало. Она в недоумении посмотрела на письма, а потом открыла одно их них — со штемпелем Флоризеля. Оно было написано три года назад, в то самое лето, когда Анджела так нетерпеливо ждала приезда Юджина в Блэквуд. Начиналось оно довольно невинно: «Дорогой Ю.». Но дальнейшее его содержание говорило об очень интимной близости.«Я поехала сегодня утром взглянуть, не осталось ли каких-нибудь вещественных доказательств пребывания Дианы и Адониса в Аркадии. Ничего существенно важного я не нашла. Несколько шпилек, обломок перламутровой пуговицы от летней блузки, огрызок карандаша, которым некий гений делал наброски. Деревья, казалось, и понятия не имели о каких бы то ни было нимфах или дриадах. Трава не была помята, как будто никто никогда по ней и не ходил. Даже удивительно, как много могут знать деревья и как они умеют хранить тайну. Каково-то сейчас в жарком городе! Тоскуете ли Вы по мерному качанию некоего гамака? О, этот аромат листвы и росы! Не переутомляйте себя работой. Будущее лежит у Ваших ног, а жизненных сил у Вас, пожалуй, даже слишком много. Вам нужно побольше спокойствия, сэр. И значительно больше оптимизма. Шлю свои наилучшие пожелания»«Кто она, эта Диана?» — тотчас же заволновалась Анджела, так как, едва взяв письмо в руки, она сразу взглянула на подпись на другой странице; а прочитав первое письмо, стала с лихорадочной быстротой перебирать остальные, горя желанием узнать имя этой женщины. Но имени нигде не было. «Диана гор», «Дриада», «Лесная нимфа», «К.», «К. Ч.» — вот какие подписи следовали одна за другой, сбивая с толку, вызывая раздражение и ярость. Но наконец она набрела на имя незнакомки. Оно значилось под письмом из Балтиморы, в котором Юджина приглашали в Флоризель, — «Кристина». «А! — подумала Анджела. — Кристина! Вот как ее зовут!» Потом снова принялась за письма и стала читать их все подряд, в надежде найти ключ к разгадке — фамилию. Все они были написаны в одном и том же тоне, в этом, столь присущем студиям и столь презираемом Анджелой, вычурном, неестественном, непристойном, лицемерном, вульгарном и притворно-высокопарном тоне. Как возненавидела Анджела эту женщину! Она могла бы задушить ее, она размозжила бы ей голову об одно из тех деревьев, про которые та писала. Противная тварь. Как она смела! А Юджин — как он мог! Так вот она, награда за ее любовь! Вот чем он отвечал на ее преданность! В то самое время, когда она так терпеливо ждала его, он был в горах, у этой Дианы. А она еще упаковывает его сундук, словно рабыня какая-то. Он не любит ее по-настоящему, он, наверно, никогда по-настоящему ее не любил! Разумеется, не любил! Никогда не любил! Боже мой! И, со свойственной ее натуре страстностью, она театрально заломила руки, обезумев отнеистовства и чувства обиды. Но вдруг остановилась. Среди писем было одно, написанное другим почерком и на более простой бумаге. Подпись гласила: «Руби».Диана.
«Дорогой Юджин, уже несколько недель, как я получила твое письмо, но до сих пор не могла заставить себя ответить. Я знаю, что между нами все кончено, да иначе и не могло быть. Мне кажется, ты неспособен долго любить одну женщину. Ты прав, конечно, что тебе необходимо было ехать в Нью-Йорк, там тебя ждет более широкое поле деятельности. Все это так, но мне очень больно, что ты не пришел проститься. Все же мог бы зайти. Однако я ни в чем тебя не упрекаю, Юджин. В сущности, конец немногим отличается от того, что было между нами все последнее время. Я тебя любила, но я знаю, что так или иначе перенесу это и никогда не буду упрекать тебя. Пожалуйста, верни мне мои письма и фотографии. Теперь они тебе больше не нужны. Руби. Ночью я стояла у окна и смотрела на улицу. Луна сияла, ветер раскачивал голые деревья. Вдали, среди лугов, блестел пруд, и в нем отражалась луна. Он казался серебряным. О Юджин, лучше бы мне умереть!»Прочитав это письмо, Анджела вскочила, как и Юджин в свое время. Грустный тон его проник ей в сердце, она сама могла бы написать такое письмо. Руби! Кто она такая? Где он скрывал ее, когда она, Анджела, приезжала в Чикаго? Неужели это было в ту осень и зиму, когда она стала его невестой? Да, несомненно. Достаточно взглянуть на число. В ту осень он надел ей на палец бриллиантовое колечко. Он клялся ей в вечной любви. Он клялся, что во всем мире нет женщины, подобной ей. И в то же время, он по-видимому, ухаживал за этой женщиной, и, может быть, не только ухаживал. Боже! Неужели такие вещи бывают? Он твердил ей о своей любви и одновременно волочился за этой Руби! Он целовал и ласкал ее — и эту Руби! Случалось ли кому-нибудь попадать в такое положение? Подумать только, что он, Юджин Витла, мог так обмануть ее! Надо ли удивляться, что по приезде в Нью-Йорк он хотел отделаться от нее, точно так же, как от своей Руби! А Кристина! А эта Кристина! Где она сейчас? Кто она такая? Что она сейчас делает? Анджела готова была бежать к Юджину и бросить ему в лицо обвинение во всех его подлостях, но вспомнила, что его нет дома — он вышел пройтись. К тому же он болен, очень болен. Осмелится ли она упрекать его за эти преступные эпизоды прошлого? Анджела вернулась к раскрытому сундуку и села. Ее глаза смотрели холодно и жестко, но в них отражался страх и мучительная любовь. Ее лицо, которое в минуты спокойствия напоминало лик мадонны, заострилось и побледнело. По-видимому, думала она, Кристина бросила его, хотя, впрочем, кто знает, быть может, они продолжают тайком переписываться. При этой мысли Анджела встала. Нет, письма были давнишние. Вероятно, переписка прекратилась еще два года назад. А что было в его письмах? Любовные излияния? Нежные уверения вроде тех, какими он обольщал ее? О, это вероломство мужчин, эта лживость, это незнание никакой ответственности, долга! Взять ее отца — вот это совсем другой человек. Или ее братья — их слово свято. А она стала женой обманщика, который даже в дни самого пылкого увлечения изменял ей. И она позволила ему совратить ее, опозорить ее семью. Слезы хлынули у нее из глаз, горячие слезы, которые, казалось, жгли ей щеки. Но теперь он ее муж, и он болен, и ей придется примириться со своим положением. Да она и готова примириться, так как в конце концов она ведь любит его. Но, бог ты мой, какое мучение, сколько во всем этом притворства, бездушия, жестокости! Юджин вернулся домой лишь через несколько часов, и у Анджелы было вполне достаточно времени, чтобы обдумать свои действия. Веря безгранично в гениальность своего мужа, — чему способствовали и чужое мнение и ее собственная любовь к нему, — она могла думать лишь о том, чтобы излить на Юджина всю накопившуюся в ее душе желчь, излечить его от скверных наклонностей, пристыдить за его возмутительное прошлое, сделать так, чтобы он понял, как дурно он обошелся с ней и как должен об этом сожалеть. Ей хотелось, чтобы он раскаялся, глубоко раскаялся, чтобы он помучился; но она далеко не была уверена в том, что этого добьется. Он вечно парил в облаках, он так безразлично относился ко всему окружающему, он до такой степени был погружен в созерцание жизни, что трудно было заставить его думать о ней, Анджеле. Вот чего она ему не могла простить. У него были иные боги, которых он ставил выше ее, — богом было для него искусство, богом была природа, богом был человек как объект для живописи. Она не раз пеняла ему за последний год: — Ты не любишь меня. Не любишь! А он отвечал ей: — Ты ошибаешься, я тебя люблю. Но пойми же, Ангелочек, я не могу целыми днями болтать с тобой. У меня есть моя работа, я должен развивать свое дарование. Я не могу все время целовать тебя. — Ах, не в этом дело, не в этом дело! — горячо возражала она. — Просто ты меня не любишь так, как должен был бы любить. Видно, я тебе безразлична. Если бы ты любил меня, я бы это чувствовала. — Зачем ты это говоришь, Анджела! — отвечал он. — И к чему все это? Странная ты женщина, как я посмотрю. Ну, прошу тебя, будь благоразумна. Попробуй смотреть на вещи немного философски. Не можем мы любезничать с утра до ночи. — Любезничать! Вот как ты выражаешься! Вот как ты об этом думаешь! Словно это какая-то обязанность, которую ты должен выполнять! О, я ненавижу любовь! Ненавижу жизнь! Ненавижу философию! Лучше бы я умерла! — Ради бога, Анджела, перестань! Я не выношу этого! Я не в силах терпеть эти сцены! В этом нет ни капли здравого смысла. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю. Разве я этого не доказал? Зачем бы я иначе женился на тебе? Разве я обязан был жениться? — Боже мой! Боже мой! — продолжала она рыдать, ломая руки. — Нет, ты совсем меня не любишь! Нисколько не любишь! Так оно теперь и пойдет — все хуже и хуже, все меньше и меньше любви, пока ты наконец и смотреть на меня не захочешь! Ты возненавидишь меня! О боже, боже! Чувство, с которым она рисовала себе эту будущую беду, было понятно Юджину. В сущности, ее страх перед катастрофой, которая грозила опрокинуть утлую ладью ее счастья, был в достаточной мере обоснован. Вполне возможно, что его любви придет конец, тем более что и сейчас это не было любовью в истинном смысле слова, то есть страстным желанием духовной близости. Он, собственно, никогда не любил ее за ум или за душевную красоту. Теперь, размышляя над этим, он отдавал себе отчет, что между ними никогда не было того взаимопонимания, которое создается общностью взглядов и стремлений. Их близость зиждилась на чем-то подсознательном, на естественном влечении, идущем не от разума, не от духовного восприятия мира, а только от чувственности и желания, чисто физического желания — сильного, стихийного, неукротимого. И по какой-то причине он, как это ни странно, всегда испытывал к ней жалость. Она такая маленькая, она так мучается предчувствием несчастья, она так боится жизни и того, что жизнь может с нею сделать. Было бы жестоко разрушить все ее надежды и помыслы. Но вместе с тем ему было обидно, что он сам отдал себя в это рабство, сам подставил шею под это ярмо. Он мог бы гораздо лучше устроить свою жизнь. Он мог бы жениться на богатой женщине или на женщине с артистической душой, с философским складом ума вроде Кристины Чэннинг, которая была бы с ним спокойна и счастлива. Анджела никогда не будет с ним счастлива. И в самом деле, он не может восхищаться ею, носиться с нею так, как ей этого хочется. Даже в те минуты, когда Юджин старался успокоить ее, рассеять ее страхи, он внутренне соглашался с ней, что между ними далеко не все обстоит благополучно, и не переставал думать о том, насколько иначе могла бы сложиться его жизнь. — Нет, Анджела, вовсе этим не кончится, — говорил он ей в таких случаях. — Ну, полно плакать. Мы будем с тобой счастливы. Я всегда буду любить тебя нисколько не меньше, чем сейчас. И ты будешь любить меня. Разве этого недостаточно? Ну, перестань, развеселись! Не будь такой пессимисткой. Перестань, Анджела! Пожалуйста, прошу тебя! Анджела снова оживлялась. И опять на нее нападали тоска и страх. Это стало обычным явлением, и такой припадок мог разразиться совершенно неожиданно, подобно летней грозе. Анджела пыталась обмануть себя, поверить, что в Юджине говорит не только жалость, а и более сильное чувство. Но теперь когда она обнаружила эти письма, иллюзии ее рассеялись. Письма подтвердили ее подозрение, что Юджина привязывает к ней только жалость, и снова на нее нахлынуло то ощущение трагического разочарования и отчаяния, которое так часто овладевало ею. И надо же, чтобы это случилось как раз в такое время, когда Юджин особенно нуждался в ее внимании, заботливости, нежности, когда он находился в таком удрученном состоянии. Начать с ним ссору сейчас, выйти из себя, впасть в ярость и заставить его утешать ее — было опасно. Не такое у него было душевное состояние. Подобная сцена не пройдет ему даром. Юджина тянуло к жизнерадостным, беззаботным людям, общение с которыми позволило бы ему забыться, исцелило бы его. Он нередко заходил к Норме Уитмор, к Айседоре Крейн, с успехом выступавшей на сцене, к Гедде Андерсон, которая, хоть и была натурщицей, но обладала обаятельным умом и неистощимой веселостью, а порой и к Мириэм Финч. Мириэм была довольна, что Юджин приходит один. Это давало ей оружие против Анджелы, и она отнюдь не склонна была скрывать, что Юджин у нее бывает. Другие его приятельницы предполагали (хотя Юджин ничего им не говорил), что раз он приходит без жены, значит, не хочет, чтобы об этом было известно, и молчали. Они считали, что, женившись на Анджеле, он совершил ошибку и теперь одинок духовно и интеллектуально. Все они были очень огорчены и встревожены его болезнью. Как обидно, думали они, что здоровье подводит его именно в такой момент. Юджин пребывал в вечном страхе, как бы Анджела не проведала, что он навещает своих приятельниц. Он не хотел рассказывать ей об этом, так как она обиделась бы, что он не берет ее с собой, а вздумай он ее позвать, стала бы противиться, или попросила бы отложить посещение до другого раза, или начала бы задавать нелепые вопросы. Юджину приятно было чувствовать себя свободным и ходить куда вздумается, никому не докладываясь и не спрашиваясь. Он тосковал по своей прежней свободе, а теперь, томясь от вынужденного безделья, чувствовал себя особенно несчастным и ощущал потребность в развлечениях и непринужденной товарищеской беседе. Жизнь стала казаться ему мрачной и унылой. В тот день, возвращаясь домой и по обыкновению терзаясь страхами из-за своего здоровья, Юджин думал найти какое-то утешение в обществе Анджелы. Он пришел в час дня — время, установленное для второго завтрака, — и, увидев, что Анджела продолжает укладывать вещи, воскликнул: — Все еще возишься! Я вижу, ты любишь доводить дело до конца, когда за что-нибудь берешься. Настоящая маленькая труженица. Что, досталось тебе? — Н-нет, — протянула она. От Юджина не укрылся ее тон. Она не очень вынослива, подумал он, и эта укладка, по всей вероятности, сказалась на ее нервах. Хорошо еще, что вещей не так много, посуда, например, вся принадлежит владельцу студии. Все же Анджела, по-видимому, утомилась. — Ты устала? — спросил он. — Н-нет, — ответила она. — А вид у тебя утомленный, — сказал он, обнимая ее одной рукой за талию, а другой приподнимая ей подбородок. Лицо у нее было бледное, напряженное. — Усталость тут ни при чем, — ответила она трагическим тоном, отворачиваясь от него. — Только сердце болит. Вот здесь! — и она прижала руку к груди. — Ну, что опять случилось? — спросил Юджин, подозревая что-то неладное, хотя он при всем желании не мог бы догадаться, в чем дело. — У тебя что-то с сердцем? — Нет, не с сердцем, — ответила она. — У меня душа болит… Впрочем, какое это имеет для тебя значение. — Что-нибудь случилось, дорогая? — настаивал он, так как ему было жаль ее. Повышенная чувствительность Анджелы всегда волновала его. Может быть, это игра, а может, и нет. Может быть, у нее настоящее горе, а может быть, она сама его выдумала. Но так или иначе ей от этого не легче. — Ну, так как же, Анджела? — повторил он. — Видно, дело не только в усталости. А не лучше ли бросить работу и пойти куда-нибудь поесть? Ты немного встряхнешься. — Нет, я не в состоянии есть, — ответила она. — Работу я пока оставлю и приготовлю тебе завтрак, но сама есть не стану. — Но в чем же дело, дорогая? — не переставал допрашивать Юджин. — Я вижу, что-то случилось. Но что именно? Либо ты устала и больна, либо что-то стряслось. Может быть, я в чем-либо виноват? Посмотри на меня. Я, да? Анджела отворачивалась от него и не поднимала глаз. Она не знала, с чего начать, но ей хотелось заставить его мучиться — так же, как мучилась она сама. Он должен почувствовать свою вину, думала она; если в нем осталась хоть капля стыда, хоть капля жалости, он поймет, как он перед нею виноват. Сейчас, когда она узнала о его позорном прошлом, ее положение просто ужасно. Некому ее любить, и не к кому ей обратиться, — так круто изменилась вся ее жизнь. Ведь она теперь не та, что была раньше, она человек другого мира, особа с положением. Для своей семьи она уже чужая. Дни, проведенные с Юджином — в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, да и до замужества — в Чикаго и Блэквуде, совершенно изменили ее взгляды на жизнь. От прежних ее воззрений, как ей представлялось, не осталось и следа, теперь оказаться совсем покинутой, открыть, что тебя не любят по-настоящему и никогда в сущности не любили, что с тобой только играли, что ты была лишь куклой, забавой, — это было ужасно! — О боже! — вырвалось у нее каким-то криком. — Я не знаю, что мне делать! Я не знаю, что сказать! Я не знаю, что думать! Если б только я знала, как отнестись к этому! — Но в чем же дело? — взмолился, наконец, Юджин, отпуская ее. Теперь он думал не только о ней, но и о себе. Под действием этой пытки нервы у него напряглись до последней степени, голову как будто тисками сдавило. Руки дрожали. Раньше, когда он был здоров и нервы были в порядке, он обращал на такие сцены мало внимания. Но теперь, при его болезненном состоянии, когда его собственное сердце, как ему казалось, шалило, а нервы расстраивались из-за малейшего пустяка, это было выше его сил. — Почему ты молчишь? — настаивал он. — Ты знаешь, что я этого не выношу. А тем более в моем состоянии. Что случилось? Зачем эта сцена? Скажешь ты мне или нет? — Вот! — сказала Анджела, указывая пальцем на коробку с письмами, которую она поставила на подоконник. Она знала, что, увидев их, он сейчас же вспомнит и все поймет. Юджин посмотрел в указанном направлении. Он сразу узнал коробку. Растерянно он взял ее с окна, — это был удар прямо в лицо, и он встретил его безоружным. В памяти воскресли его отношения с Руби и с Кристиной, но уже не в том свете, в каком он их видел в свое время, а в том, в каком они могли представиться Анджеле. Что она о нем думает? Ведь он не переставал уверять ее в своей любви, не переставал говорить, что вполне счастлив и доволен жизнью с ней, что его нисколько не интересуют другие женщины, которые, как было известно Анджеле, весьма им интересовались и вызывали в ней безумную ревность, что он всегда любил только ее и никого, кроме нее. И вдруг откуда-то выплывают на свет эти письма, выдавая всю ложь его уверений и клятв, выставляя его тем трусом, подлецом и нравственным вором, каким он сам себя сознавал. Теперь, когда вышел наружу так долго спасавший его обман, когда нельзя было больше играть на неведении Анджелы, когда перед лицом неопровержимых доказательств с полной ясностью выступило его поведение, он беспомощно оглядывался, весь охваченный нервной дрожью, голова у него разламывалась от боли, — ему действительно не под силу были сейчас такие объяснения. И вот Анджела плачет. Она отошла от него и, прислонившись к камину, разрыдалась так, что, казалось, сердце ее должно разорваться. В этих рыданиях слышалось неподдельное горе, это были звуки, говорившие о чувстве невозвратимой утраты, безнадежности, отчаянии. Юджин не сводил глаз с коробки, спрашивая себя, как он мог быть таким ослом, чтобы оставить письма в сундуке, и зачем он вообще хранил их. — Мне, конечно, нечего сказать, — проговорил он наконец, медленно подходя к Анджеле. Сказать ему, правда, было нечего. Но ему было мучительно жаль ее — и жаль себя. — Ты все прочла? — с любопытством спросил он. Она утвердительно кивнула головой. — Собственно говоря, Кристину Чэннинг я не так уж и любил, — небрежным тоном заметил он. Он чувствовал, что надо что-то сказать, безразлично что, лишь бы облегчить горе Анджелы, и понимал, что в его распоряжении очень мало средств для этого. Хорошо, если ему удастся убедить ее хотя бы в том, что ничего серьезного в этих романах не было, что это были лишь простые увлечения. Но письмо Руби Кенни выдавало ее беззаветную любовь. О Руби говорить в таком тоне он не мог. Анджела ясно уловила имя Кристины Чэннинг, с тем чтобы уже никогда его не забыть. Она вспомнила теперь, что именно об этой женщине время от времени слышала из уст Юджина лестные отзывы. Он рассказывал знакомым, какой у нее прекрасный голос, как она эффектна на сцене, с каким чувством поет, какой глубиной отличаются ее взгляды на жизнь, как она хороша, и, наконец, что она когда-нибудь вернется на американскую сцену. И, оказывается, он был с нею в горах, он ухаживал за нею в то время, когда она, Анджела, терпеливо ждала его в Блэквуде. В мгновение вспыхнула вся накопившаяся в ней бешеная ревность, та самая ревность, которая уже заставила ее однажды принять твердое решение удержать Юджина наперекор всем, как ей казалось, лукавым замыслам, всем заговорам, которыми ее окружили. Нет, он не достанется им, этим отвратительным зазнайкам из студий, ни кому-либо из них в отдельности, ни всем вместе, — пусть только попробуют вырвать его у нее. Они обращались с нею самым бесстыдным образом с первого дня ее приезда в Нью-Йорк. Все они делают вид, что не замечают ее. Разумеется, они заходят к Юджину, а теперь, когда он стал знаменит, так и вертятся вокруг него, но что касается ее — о, до нее им нет никакого дела. Разве она этого не видит! Разве она не замечает, какими глазами они смотрят на нее, как они ее критикуют, осуждают! Она для них недостаточно умна! Она недостаточно сведуща в литературе и в искусстве. Но она столько же знает о жизни, сколько и они, а может быть, и больше, в тысячу раз больше! И только потому, что она не умеет ломаться, позировать и говорить напыщенно, они считают себя выше ее! И Юджин, несчастный, с ними заодно! Выше ее! Эти жалкие, завистливые бабы, скверные эгоистки, выскочки! Да ведь они нищие, большинство из них! Ведь их платья, если хорошенько присмотреться, — сплошное тряпье, кое-как скроенное из скверного материала, на живую нитку сметанное! А с каким важным видом они их носят! Но она им покажет! Она и сама в скором времени разоденется, как только у Юджина будут средства. Уже и сейчас она одета гораздо лучше, чем вначале, когда только приехала, а дай срок — она всех их заткнет за пояс. Эти противные злюки, мерзкие интриганки, лживые твари! Она им еще покажет! О-о! Как она их ненавидит! И она плакала, думая о том, как мог Юджин писать любовные письма этой отвратительной Кристине Чэннинг. Это тоже одна из таких, сразу видно по письмам. О-о! Как она ее ненавидит! Добраться бы до нее и отравить! Рыданья Анджелы больше говорили о жалости к себе, чем о гневе. Она в некотором смысле была беспомощна и сознавала это. Она не осмеливалась полностью открыть Юджину свои переживания. Она боялась его. Он мог ее бросить. Не так уж сильно он ее любит, чтобы стерпеть что угодно, — а может быть, любит? Вот это сомнение и было самым страшным, самым отчаянным, самым убийственным. Если бы она только знала, любит ли он ее! — Напрасно ты плачешь, Анджела, — с мольбою в голосе снова начал Юджин после тягостного молчания. — Ты, видно, бог весть что себе рисуешь. Я понимаю, что все это должно казаться очень некрасивым, но ведь я тогда еще не был женат. И не так уж я любил этих женщин, далеко не так, как ты воображаешь. Право, не любил. Ты можешь думать что угодно, но я правду говорю. — Не любил! — воскликнула Анджела, снова выходя из себя. — Не любил! Действительно, можно поверить, что ты их не любил, когда одна называет тебя своим дорогим мальчиком и Адонисом, а другая говорит, что хотела бы умереть! Попробуй после этого убедить кого-нибудь, что ты их не любил! А я сидела в Блэквуде и тосковала и ждала твоего приезда, а ты был в это время где-то в горах с другой женщиной. О, теперь я знаю, как ты меня любил! Какая же это любовь, раз ты мог бросить меня в Блэквуде, заставив ждать тебя и изнывать от тоски, в то время как сам блаженствовал в горах с этой женщиной! «Дорогой Ю.»! «Мой милый, дорогой мальчик», «Адонис»! Вот как ты меня любил, правда? Юджин беспомощно озирался вокруг. Горечь и ярость Анджелы изумляли и бесили его. Он не поверил бы, что она способна на такую страшную злобу, но в то же время прекрасно сознавал, что ей есть на что жаловаться. Только зачем так резко, чуть ли не грубо! Ведь он болен. Неужели она совершенно не считается с этим? — Уверяю тебя, что все это гораздо невиннее, чем ты воображаешь, — упрямо повторял он, и в голосе его впервые прозвучали нотки протеста и озлобления. — Мы с тобой не были тогда женаты. Кристина Чэннинг мне нравилась и Руби Кенни тоже. Но что из этого? Прошлого не воротишь. Чего ты хочешь от меня? Что, по-твоему, я должен сказать тебе? Что я должен сделать? — О! — захныкала Анджела, сразу меняя тон и от бессильной ярости обличительницы переходя к жалобной мольбе и жертвенному отчаянию. — И ты еще можешь спокойно стоять тут и спрашивать меня, что из этого? Что из этого? А я-то верила, что ты порядочный, честный человек! О, если бы я знала! Если бы только я знала раньше! Лучше бы мне было сто раз утопиться, чем вдруг очнуться и обнаружить, что ты меня никогда не любил! О боже! Что со мной будет! Что мне делать? — Но ведь я же люблю тебя, — уговаривал ее Юджин, готовый что угодно сказать или сделать, лишь бы только унять этот жестокий шторм. Как мог он быть таким разиней и так беспечно бросить письма! Бог ты мой! Какую кашу он теперь заварил! Почему он не спрятал письма где-нибудь вне дома? Почему не уничтожил их? Но ему хотелось сохранить письма Кристины, в них столько очарования. — Да, еще бы, любишь! — снова рассвирепела Анджела. — Вижу я, что это за любовь! Эти письма все доказывают! О боже, боже! Лучше смерть! — Послушай, Анджела, — сказал Юджин, теряя терпение. — Я отлично понимаю, что эти письма неприятно поразили тебя. Я не отрицаю, я ухаживал за мисс Кенни и за Кристиной Чэннинг, но ты сама видишь, я не настолько любил их, чтобы жениться. В противном случае я бы это сделал. Если бы я одну из них любил по-настоящему, я женился бы на ней. Но я любил тебя. Можешь мне верить или не верить, это как тебе угодно. Женился-то ведь я на тебе. Почему я это сделал? Что ты мне на это ответишь? Разве я был обязан? Почему же я так поступил? Разумеется, потому, что любил тебя. Что другое могло меня заставить? — То, что ты не мог добиться Кристины Чэннинг, — злобно отрезала Анджела, наугад делая вывод из фактов, имевшихся в ее распоряжении. — Вот что. Если бы ты мог, ты женился бы на ней. Это ясно. По ее письмам видно. — Ничего подобного по ее письмам не видно! — рассердился Юджин. — Я не мог добиться ее? Да я без всякого труда мог ее добиться. Но я не хотел этого. Если бы я пожелал, она вышла бы за меня замуж. Можешь не сомневаться! Юджин ненавидел себя за эту ложь, но чувствовал, что у него нет другого выхода. Ему не хотелось фигурировать в роли отвергнутого любовника. Он даже наполовину внушил себе, что действительно мог бы жениться на Кристине, если бы приложил все старания. — Так или иначе, — сказал он, — я не намерен об этом спорить. Факт тот, что я не женился ни на ней, ни на Руби Кенни. Ты можешь думать, что хочешь, но я-то ведь знаю. Они мне обе нравились, но я не женился ни на той, ни на другой. Я женился на тебе. Будь хоть сколько-нибудь справедлива. Я женился на тебе — значит, надо полагать, любил тебя. Ведь это ясно, не правда ли? Он даже себя почти убедил, что любил ее — хотя бы немного. — Знаю я, как ты меня любишь! — упиралась Анджела, сбитая с толку этим доводом, на котором Юджин так настаивал и который трудно было опровергнуть средствами логики. — Ты женился на мне потому, что не сумел отвертеться, только поэтому. О, я знаю! Я тебе вовсе не нравилась! Это ясно. Ты хотел жениться на другой. О боже, боже! — Что ты заладила, — жениться на другой! — возмутился Юджин. В голосе его слышался вызов. — На ком же, по-твоему, я хотел жениться? У меня было достаточно возможностей жениться, стоило мне только захотеть. Но я из всех выбрал тебя, вот и все. Хочешь верь, хочешь не верь. Я хотел жениться на тебе, и так и сделал. Не понимаю, на каком основании ты считаешь себя вправе оспаривать это. Все, что ты говоришь, сплошная нелепость, и ты это прекрасно знаешь. Анджела опять задумалась. Ведь он действительно на ней женился. Но почему он это сделал? Возможно, что, любя Кристину и Руби, он любил и ее. Как же она об этом не подумала? Очевидно, в том, что он говорит, есть доля правды, а не только желание обмануть ее. И, очевидно, она не слишком многого добьется, продолжая этот разговор. В Юджине заговорило упрямство, он начал изобретать доводы, увлекся спором. Она никогда еще не видела его таким. — О! — разрыдалась она, ища убежища от неподвластной ей логики в надежных и милых ее сердцу слезах. — Не знаю, что мне делать! Не знаю, что думать! Факт оставался фактом — Юджин поступил с нею дурно. Вся ее жизнь разбита. Но сколько в нем притягательной силы даже сейчас, когда он стоит перед ней точно школьник, растерянно озираясь по сторонам и то принимая вызывающий тон, то моля о снисхождении. Она не могла не чувствовать, что он, в сущности, вовсе не плохой человек. У него только одна слабость — он неравнодушен к красивым женщинам. А те так и норовят завладеть им. Возможно, он даже не виноват в этом. Но он обязан проявить раскаяние, и тогда вся эта история будет предана забвению. О прощении не может быть и речи. Она никогда не простит ему этого обмана. Идеал, который она создала себе, был навсегда и окончательно разрушен. Но она могла бы согласиться жить с ним и дальше, подвергнуть его испытанию. — Анджела, — сказал Юджин, видя, что она все еще рыдает, и чувствуя, что необходимо просить прощения, — почему ты не хочешь мне поверить? Неужели ты не простишь меня? Мне больно видеть, как ты плачешь. Было бы бессмысленно уверять, что я ни в чем не виноват. Вообще бессмысленно что-либо говорить, право. Ты мне все равно не поверишь. Я и не требую, чтобы ты мне верила. Но мне очень жаль, что так вышло. Этому, надеюсь, ты веришь? И, может быть, ты все-таки простишь меня? Анджела жадно слушала его, а мысли ее вертелись словно в каком-то заколдованном кругу, — в ней говорили отчаяние, обида, жажда мести, жалость к Юджину, страх потерять свое положение, желание завоевать и удержать его любовь, желание наказать его, желание сделать еще сотни противоречивых вещей. О, как было бы хорошо, если бы ничего этого не было! А тут еще его болезнь! Ведь он нуждается в ее внимании. — Неужели ты не простишь меня, Анджела? — тихо сказал Юджин, прикасаясь к ее руке. — Уверяю тебя, это никогда больше не повторится. Можешь ты мне поверить? Ну, полно, Анджела! Перестань плакать, прошу тебя. Анджела все еще колебалась, упиваясь своим безутешным горем. Она действительно не знала, что делать, что сказать. Быть может, он и в самом деле никогда больше не даст ей повода для огорчения. До сих пор, насколько ей было известно, он вел себя безукоризненно. Все же это было чудовищное открытие. Но тут Юджин улучил удобный момент и, воспользовавшись тем, что она и сама устала от слез и бурной ссоры и истосковалась по его жалости и ласке, быстро привлек ее к себе. Склонив голову на его плечо, она расплакалась еще неудержимей. Юджину было искренне жаль ее. Он чувствовал себя виноватым. Действительно, ему должно быть стыдно. Не следовало так поступать. — Мне очень жаль, — продолжал он шептать ей на ухо, — право, жаль. Может быть, ты простишь меня, Анджела? — Ах, я не знаю, как быть, — после маленькой паузы простонала Анджела. — Ну, прости меня, Анджела, — продолжал он уговаривать ее, заглядывая ей в глаза. Долго еще продолжались эти мольбы и чувствительные объяснения, пока наконец Анджела, совершенно измученная, не сказала «да». У Юджина от этой схватки нервы напряглись до крайности. Он побледнел, обессилел, он чувствовал, что теряет рассудок. «Еще несколько подобных сцен, — мелькнуло у него в голове, — и я окончательно сойду с ума». Тем не менее ему необходимо было пройти даже сейчас через весь ритуал нежностей и любовных ласк. Нелегко было вернуть Анджелу в ее обычное, нормальное состояние. «Скверная штука, — подумал Юджин, — это волокитство. И самому одни неприятности, да еще Анджела ревнует. Бог ты мой, какой она становится злой, сварливой, бешеной, если ее вывести из себя!» Он никогда не предполагал этого в ней. Может ли он любить ее, если она так ведет себя? Может ли жалеть ее? Ему вспомнилось, с какой язвительной насмешкой она утверждала, что Кристина отвергла его. Он испытывал ужасную усталость, он был взбудоражен, ему хотелось отдохнуть и поспать, а от него требовались ласки. Постепенно ему удалось привести Анджелу в более мирное расположение духа. Он продолжал ласкать Анджелу, и постепенно ему удалось вывести ее из состояния глубокой меланхолии. Но в душе она его не простила. Она только стала лучше понимать его. Не вернулось к ней и прежнее беззаботное счастье, — а только робкая надежда. И настороженность.
Глава 40
Весну, лето и осень Юджин и Анджела провели частью в Александрии, частью в Блэквуде. Болезнь и необходимость покинуть Нью-Йорк помешали Юджину пожать лучшие плоды своих успехов на поприще искусства: мосье Шарль и многие другие лица проявляли к нему большой интерес и охотно устраивали бы ему чествования и приемы. Он мог бы много бывать в обществе, но его нынешнее душевное состояние не располагало к этому. Он сделался чрезвычайно угрюм, часто заводил разговоры на самые грустные темы; жизнь представлялась ему в высшей степени печальной, а люди — все без исключения — дурными. Жадность, бесчестность, эгоизм, зависть, лицемерие, клевета, ненависть, воровство, прелюбодеяние, убийство, слабоумие, помешательство, душевная опустошенность — вот что занимало его мысли, да еще смерть и наступающее за нею тление. Ни в чем, казалось, не было просвета — повсюду он видел неистовство зла и смерти. Эти мысли, к которым присоединялись еще неприятности с Анджелой, сознание, что он не в силах работать и что его брак ошибка, страх перед смертью или сумасшествием привели к тому, что эта зима превратилась для него в сплошную пытку. Анджела, когда первый порыв бури улегся в ее душе, снова стала относиться к нему внимательно, но в ее поведении все же сквозило какое-то недоверие. Правда, она ничего не говорила, она согласилась не поминать старое, но Юджин чувствовал, что она ничего не забыла, что в душе она продолжает упрекать его, что она ждет новых проявлений его слабости и остается настороже, чтобы вовремя предупредить их. Весна, которая началась вскоре по их приезде в Александрию, принесла Юджину некоторое облегчение. Он решил временно оставить всякие попытки вернуться к работе, отказаться от мысли ехать в Лондон или в Чикаго и только отдыхать. Может быть, он и в самом деле просто устал? Правда, у него не было такого ощущения. Он не мог спать, не мог работать, но чувствовал себя достаточно бодрым, и только то, что к нему не возвращалась работоспособность, делало его несчастным. Все же он решил испробовать полный отдых. Может быть, это воскресит в нем его чудесный дар. А тем временем он не переставал думать о том, что дни уходят, — с какими бы он мог познакомиться интересными людьми, в скольких новых местах побывать! Ах, Лондон, Лондон! Как он мечтал его писать! Старики Витла были бесконечно рады, что их сын снова с ними. Люди простые и немудрящие, они никак не могли понять, почему так внезапно пошатнулось его здоровье. — Никогда в жизни Юджин не выглядел так скверно, — заметил жене Витла-отец в день приезда сына. — У него совсем ввалились глаза. Как ты думаешь, что бы это могло быть? — Что я могу сказать? — ответила ему жена, страшно огорченная состоянием своего мальчика. — Просто он переутомился. Немного отдохнет и поправится. Только смотри не проговорись, что замечаешь в нем что-то неладное. Делай вид, будто он вполне здоров. А что ты скажешь о его жене? — Она производит приятное впечатление, — ответил Витла. — И уж, конечно, любит его. Я, правду сказать, никогда не думал, что Юджин женится на женщине такого типа. Но ему, разумеется, виднее. В свое время, вероятно, никто не предполагал, что я женюсь на такой женщине, как ты, — шутя добавил он. — Да, это была действительно ошибка с твоей стороны, — в том же тоне ответила миссис Витла. — Но, между прочим, ты приложил немало усилий, чтобы совершить ее. — Я был молод! Молод! Не забывай этого. Я мало что понимал в то время. — Я бы сказала, что ты не многим больше понимаешь и сейчас, а? Он улыбнулся и ласково похлопал ее по плечу. — Ну что ж, остается покориться судьбе. Дела не поправишь, поздно. — Да, поздновато, — сказала жена. Юджину с Анджелой отвели его прежнюю комнату на втором этаже, откуда открывался красивый вид на двор и на тихую улицу, и они начали устраиваться, чтобы провести в этом доме, как надеялись старики Витла, немало мирных дней. Юджину было странно опять очутиться в Александрии, вновь увидеть этот мирный уголок, где он вырос, увидеть деревья, лужайку, гамак, уже несколько раз сменявшийся со времени его отъезда, но висевший все на том же месте. С удовольствием вспоминал он о маленьких озерах и речке, опоясывавшей город. Он мог удить рыбу, кататься на лодке, совершать приятные прогулки. Чтобы развлечься, он на первой же неделе отправился с удочкой к озеру, но было еще холодновато, и он решил пока что ограничиться прогулками. Однообразное времяпрепровождение, как правило, скоро приедается. Для человека с таким складом ума, как у Юджина, в Александрии было мало интересного. После Лондона и Парижа, после Чикаго и Нью-Йорка, тихие улицы родного города вызывали у него улыбку. Он отправился в редакцию «Морнинг Эппил», но и Джонас Лайл и Калеб Уильямс уехали — первый в Сент-Луис, а второй в Блюмингтон. Старый Бенджамин Берджес, свекор его сестры, был все тот же, разве только постарел. Он сообщил Юджину, что собирается на ближайших выборах выставить свою кандидатуру в конгресс — республиканская партия достаточно ему обязана и поддержит его. Его сын Генри, муж Сильвии, занимал теперь в местном банке должность казначея, работал все так же терпеливо и усердно, по воскресеньям ходил в церковь, время от времени ездил по делам в Чикаго и давал советы по вопросам мелкого кредита фермерам и торговцам. Он внимательно прочитывал те несколько журналов, посвященных банковскому делу, которые издавались в Америке, и, по-видимому, материально преуспевал. От Сильвии нельзя было много узнать о его делах. Прожив с мужем одиннадцать лет, она заразилась его необщительностью; Юджин невольно улыбался, глядя на этого человека, который, несмотря на свою молодость, был так расчетлив и себе на уме. Он был очень тихий, очень ограниченный и очень ревностно добивался всяких мелочей, из которых составляется то, что принято называть успехом. Подобно искусному краснодеревщику, он хлопотал над отдельными мелкими деталями, из которых в конечном итоге должно получиться прекрасное целое. Анджела с рвением взялась за хозяйство, хотя миссис Витла весьма неохотно согласилась уступить ей часть своих обязанностей. Анджела любила работать, и, пока миссис Витла мыла посуду после завтрака, она приводила в порядок дом. Она готовила для Юджина всевозможные печения и пирожки, если это удавалось сделать, не обижая миссис Витла, и вообще старалась снискать ее расположение. Хозяйство в доме велось скромное, примерно такое же, как у ее родителей в Блэквуде, кое в чем, пожалуй, даже скромнее. Но, так или иначе, это был родной дом Юджина, — с этим нельзя было не считаться. Надо заметить, однако, что между Анджелой и свекровью существовало некоторое расхождение во взглядах на жизнь и на то, как нужно жить. Миссис Витла смотрела на вещи проще и более терпимо. Все, что случалось в жизни, она принимала как должное, без излишних волнений, тогда как Анджела по натуре была склонна волноваться по всякому поводу. У обеих женщин был один общий, присущий многим людям недостаток: обе они не любили, чтобы им помогали в работе. Каждая предпочитала делать все самостоятельно и ни с кем не делить своих обязанностей; но так как обе всячески старались ужиться ради Юджина и ради сохранения мира в семье, то опасность разногласий была невелика, тем более, что каждая не лишена была такта. Все же в воздухе носилось ощущение, что не все вполне благополучно. Миссис Витла находила Анджелу немного черствой и эгоистичной, а та, со своей стороны, считала, что миссис Витла немного скрытна, или, быть может, застенчива, или же просто избегает сближения. Но на поверхности царило безоблачное спокойствие, и обе женщины рассыпались друг перед другом в бесконечных «разрешите мне это сделать» и «пожалуйста, прошу вас». Миссис Витла, будучи много старше Анджелы, с большим тактом и достоинством продолжала занимать свое руководящее место в семейном кругу. Для того чтобы целыми днями сидеть в кресле, валяться в гамаке, бродить по лесам и полям, предаваясь в одиночестве лени и созерцанию, и чувствовать себя при этом вполне счастливым, требуется известное предрасположение. Было время, когда Юджин воображал, что создан как раз для такого образа жизни, и того же мнения были его родители. Но теперь, заслышав зов славы, он уже не мог усидеть на месте. Именно сейчас ему нужны были не одиночество, не праздное созерцание, а разнообразие и смена впечатлений. Ему необходимо было иметь вокруг себя подходящее общество, людей жизнерадостных, восприимчивых и восторженных. Кое-что из этого было в Анджеле, когда ее не донимали никакие тревоги. Общество родителей, сестры и старых знакомых давало ему несколько больше, но они не могли проводить все свое время в беседах с ним и без конца уделять ему внимание. А кроме них, никого кругом не было. Александрия ничего не могла ему дать. Юджин бродил с Анджелой по длинным проселочным дорогам, катался на лодке, ловил рыбу, но все это не избавляло его от чувства одиночества. Он подолгу сидел на террасе или лежал в гамаке, перебирая в памяти все, что видел в Лондоне и в Париже, и мысленно представлял себя за работой. Собор св. Павла, окутанный туманной дымкой, набережная Темзы, Пикадилли, Блэкфрайерский мост, трущобы Уайтчепела и Ист-Энда — как хотелось ему сейчас быть подальше от Александрии и рисовать все это! Только бы иметь возможность писать. Он приспособил под студию отцовский сеновал, источником света служила ему дверь, выходившая на север. Там он пытался кое-что писать по памяти, но у него получалось не то, что он хотел. В нем укрепилось убеждение, — вернее, это была навязчивая мысль, — что ни одна его работа ему не удается. Сколько бы ни уверяли Анджела, мать, отец, мнения которых он порою спрашивал, что картина прекрасная, превосходна, — он не верил этому. Под влиянием все новых и новых мыслей он начинал переделывать, переделывать и снова переделывать, но в конце концов приходил в ярость от своего бессилия и предавался полному отчаянию, проникаясь жалостью к самому себе. «Нет, — говорил он, бросая кисть, — придется просто сидеть и ждать, пока это пройдет. В таком состоянии я ничего не могу сделать». И он уходил гулять, брался за книгу, катался по озеру, раскладывал пасьянс или слушал игру Анджелы на рояле, который отец его когда-то купил для Миртл. Но и тут он не переставал думать о своей болезни, о том, как много он теряет из-за нее, о том, что где-то в мире бьет ключом жизнь, а он — неизвестно когда поправится, да и поправится ли вообще. Он заводил разговор о поездке в Чикаго, чтобы там испытать свои силы, но Анджела каждый раз уговаривала его еще немного отдохнуть. Она обещала увезти его на лето в Блэквуд с тем, чтобы осенью вернуться в Александрию, или же поехать в Нью-Йорк, или пожить в Чикаго, одним словом, как ему будет угодно. Но сейчас ему необходим отдых. — К осени Юджин, наверно, поправится, — говорила Анджела его матери, — и тогда он решит, куда ехать — в Чикаго или в Лондон. Она очень гордилась возможностью говорить о том, куда они поедут и что будут делать.Глава 41
Если бы у Юджина в глубине души не шевелилась смутная надежда на какой-нибудь новый интересный роман, он окончательно затосковал бы. Но эта мысль никогда не оставляла его, подобно тому, как страдающего запоем не покидает мысль о вине. Только она и вливала в него бодрость и не давала впасть в полное отчаяние; только она и отвлекала его от горестного признания, что жизнь пошла прахом. Если бы ему встретилась девушка, красивая, веселая, пикантная, которая влюбилась бы в него, — вот было бы счастье! Но Анджела была вечно настороже, а кроме того, при его состоянии всякое новое увлечение грозило неприятными последствиями для его здоровья. И все же так сильна была эта иллюзия, этот животный магнетизм красоты, что стоило Юджину увидеть красивую девушку, родственную ему по темпераменту и наклонностям, как он терял над собою власть. Достаточно было призыва манящих глаз, достаточно взгляда на нежное, тонкое личико, говорившее о молодости и здоровье, — этом украшении всякой девушки, — и он был уже сам не свой. Словно очертания лицам сами по себе, независимо от того, кому оно принадлежало, гипнотически действовали на него. Арабы приписывали магическую силу слову «абракадабра». Для Юджина таким могуществом обладали линии женского лица и тела. Во время своего пребывания в Александрии, где они прожили с февраля по май, Юджин однажды познакомился у Сильвии с девушкой, которая произвела на него чрезвычайно сильное впечатление своей красотой, — она принадлежала к тому типу женщин, которыми он всегда восхищался, а кроме того, представляла собою в высшей степени удобный объект для флирта. Она была дочерью коммивояжера по имени Джордж Рот, потерявшего жену и жившего с сестрою в старом доме, окруженном тенистыми деревьями, на самом берегуЗеленого озера, неподалеку от того места, где Юджин когда-то пытался поцеловать свою первую любовь — Стеллу Эплтон. Ее звали Фридой. Она была необычайно хороша, не старше восемнадцати лет, с большими ясными голубыми глазами, густыми каштановыми волосами, с пышной, но очень изящной фигуркой. Она только что кончила школу в Александрии, но была уже совсем взрослой девушкой. Живая, цветущая, жизнерадостная, она обладала ясным природным умом, который не замедлил очаровать Юджина. Его всегда тянуло к людям бодрым и веселым от природы, а тем более теперь, при его болезненном состоянии. И сама девушка и ее приемная мать много слыхали про Юджина от его родителей и сестры, с которыми были хорошо знакомы и у которых часто бывали. Джордж Рот поселился в Александрии уже после того, как Юджин уехал в Чикаго; все свое время он проводил в разъездах, и Юджин никогда его не видел. Что касается Фриды, то в предыдущие его приезды в Александрию она была еще ребенком и не обращала внимания на мужчин, тогда как теперь, когда она стала почти взрослой, мысли ее были заняты только ими. Она не думала, что этот Витла может представлять для нее интерес, так как было известно, что он женат, но, поскольку он считался видным художником, ее любопытство было задето. В Александрии все знали, кто такой Юджин. Местные газеты писали о его блестящих успехах и как-то даже поместили его портрет. Фрида предполагала, что это мужчина лет сорока, суровый и сдержанный. А вместо этого увидела приветливого молодого человека двадцати девяти лет, изможденного, с глубоко запавшими глазами, но тем не менее очень привлекательного. Юджин — с одобрения Анджелы — по-прежнему небрежно повязывал галстук-бант, носил мягкие отложные воротнички, мягкую шляпу и коричневый вельветовый костюм с поясом, придававшим пиджаку вид охотничьей куртки; на одном из его пальцев красовался перстень из вороненой стали с каким-то затейливым рисунком. Руки у него были очень белые, с тонкими пальцами, лицо бледное. Фрида, румяная, беспечная, как бабочка, в прелестном платье из синего полотна, смеющаяся, несколько напуганная молвой о приезжем художнике, с первого взгляда остановила на себе его внимание. Она понравилась ему, как нравилась каждая молодая, здоровая, веселая девушка, которая попадалась ему на пути. Как ему хотелось снова быть свободным, чтобы без всяких опасений завести с нею оживленную, шутливую беседу. Она с первой же минуты, как показалось Юджину, проявила к нему расположение. Однако Юджин должен был соблюдать осторожность и сдерживаться в присутствии Анджелы и приемной матери Фриды. Дамы беседовали об искусстве; Сильвия и мисс Рот внимательно слушали Анджелу, описывавшую эксцентричность Юджина, его привычки и всякие забавные случаи из его жизни, служившие ей неисчерпаемым источником увлекательных повествований для простых смертных. Юджин в таких случаях обыкновенно сидел тут же в удобном кресле, с усталым, благодушным или безразличным видом, в зависимости от того, в каком он находился настроении. В этот вечер он особенно томился и чувствовал себя не в своей тарелке. Никто из присутствующих не интересовал его, кроме девушки, красивое лицо которой давало пищу его мечтам. Как хорошо было бы всегда иметь подле себя такое юное существо! Отчего женщины не остаются вечно молодыми? Пока дамы смеялись и разговаривали, Юджин взял лежавшую на столе книгу «Рыцари Круглого стола» Говарда Пайла с иллюстрациями, тепло и чуть грубовато изображавшими героев и героинь повествований о короле Артуре, и стал разглядывать величавые и вычурные фигуры этих персонажей. Сильвия купила эту книгу для своего семилетнего сына Джека, спавшего сейчас в спальне наверху. Фрида читала ее в детстве. Она бродила по комнате, не находя себе места, чувствуя, что ее тянет к Юджину, и выжидая удобного повода для разговора. Улыбка, с которой он иногда на нее поглядывал, покоряла ее. — Я когда-то читала это, — сказала она, увидев, что он рассматривает книгу. Каким-то образом она вдруг очутилась возле окна, неподалеку от Юджина, позади его кресла. Сперва она делала вид, будто смотрит на улицу, а потом завела с ним разговор. — Я прямо без ума была от всяких рыцарей и дам — сэр Ланселот, сэр Галахад, Тристрам, Гавейн, королева Гвиневера. — А вы знаете, кто такой сэр Бред? — спросил он лукаво. — И сэр Вред? Или сэр Вздор? Он смотрел на нее с веселой улыбкой. — Таких не существует! — расхохоталась Фрида, которую и удивили и рассмешили эти имена. — Не позволяйте ему дразнить вас, Фрида, — сказала Анджела; ей приятно было смотреть на жизнерадостную девушку, приятно, что ее веселость передалась и Юджину. Она не боялась простодушных девушек Запада, таких, как Фрида или ее собственная сестра Мариетта, считая, что они откровенней, простодушней, добрей тех женщин, которых она встречала в нью-йоркских студиях, и, уж конечно, не воображают себя лучше других. Здесь Анджела и сама была не прочь задать тон на правах столичной дамы. — Разумеется, существуют, — с серьезным видом сказал Юджин, обращаясь к Фриде. — Это герои новой книги о рыцарях Круглого стола. Разве вы не слыхали про нее? — Нет, не слыхала, — весело отвечала Фрида, — такой книги и на свете нет. Вы смеетесь надо мной. — Смеюсь? Что вы, я никогда бы себе этого не позволил. Книга существует. Она выпущена издательством «Харпер и братья» и называется «Новые рыцари Круглого стола». Просто она вам не попадалась, вот и все. Фрида, сбитая с толку, не знала, верить ему или нет. Она с детским любопытством смотрела на него, и этим еще больше нравилась Юджину. Как хотелось ему быть свободным, чтобы поцеловать эти прелестные румяные, наивно раскрытые губы! Анджела тоже не была уверена, правду он говорит или шутит. — Сэр Бред — знаменитый рыцарь, — продолжал он. — И сэр Вред тоже. В этой книге они неразлучные друзья. Что касается сэра Вздора и сэра Сора, а также леди Чушь… — Ох, перестань, Юджин! — смеясь воскликнула Анджела. — Вы только послушайте, мисс Рот, что он рассказывает Фриде. Но вы на него не обижайтесь, он всегда кого-нибудь дразнит. Почему вы так плохо воспитали его, Сильвия? — обратилась она к сестре Юджина. — Ах, и не спрашивайте! Мы никогда ничего не могли поделать с Юджином. Но, между прочим, я и не подозревала, что он такой шутник. — Они просто душки, — продолжал Юджин рассказывать Фриде, — все-таки напыщенные краснощекие леди и джентльмены. Юджин совсем очаровал Фриду. Какой он милый, приветливый. По-видимому, он так же молод душою и так же полон жизни, как она сама. Она сидела напротив него и смотрела в его смеющиеся глаза, а он не переставал поддразнивать ее то тем, то другим. Кто, например, ее поклонники? Как она кокетничает с ними? Сколько молодых людей выстраивается по воскресеньям у церкви в ожидании ее выхода? Он уже все о ней знает! — Держу пари, что они точь-в-точь солдаты на параде, — продолжал он. — Все в новеньких галстуках, с накрахмаленными платочками в кармашке, башмаки начищены до блеска… — Ха-ха-ха! — звонко рассмеялась Фрида. Это описание чрезвычайно понравилось ей. Она еще долго смеялась и шутила с ним, и дружба их была окончательно закреплена. Она решила, что Юджин очень славный.Глава 42
Юджину не нужно было искать случая для дальнейших встреч с Фридой, — это выходило само собой. Сарайчик на берегу озера, где хранилась единственная лодка семьи Витла, стоял у самой воды, и туда как раз спускалась усадьба Ротов. От дома можно было выйти к озеру либо тихим переулком, куда редко кто заглядывал, либо — с заднего крыльца — дорожкой, окаймленной густыми зарослями дикого винограда, скрывавшими идущего от посторонних взоров, в конце которой стояла старая деревянная скамья у самой воды. Когда у Юджина являлось желание покататься или половить рыбу, он приходил сюда за лодкой. Анджела раза два-три увязывалась за ним, но она не была большой любительницей гребли и рыбной ловли и легко отпускала его одного. К тому же мисс Рот, благоволившая к мистеру и миссис Витла, часто навещала их вместе с племянницей, и Фрида нет-нет, да и забегала в импровизированную студию Юджина посмотреть, как он работает. Обманутая ее молодостью и невинностью, Анджела не мешала этой дружбе, а Юджину только того и надо было. Он был очарован красотой девушки и мечтал полюбезничать с ней, не причиняя ей зла. Его забавляла мысль, что Фрида живет совсем близко от того места, где когда-то, зимним вечером, он объяснился в любви Стелле Эплтон. И чем-то она напоминала Стеллу, но только Фрида была мягче по натуре, она охотнее откликалась на его прихоти и настроения. Однажды, увидев, что Юджин пошел за лодкой, Фрида спустилась на берег и поздоровалась с ним. — Сегодня, я вижу, мы сверкаем совсем как яркая бабочка, — сказал он с улыбкой, любуясь ее свежим личиком и обращаясь к ней с той дружеской простотой, которая так пленяет молодежь. — Бабочки, надо полагать, не слишком утруждают себя, не правда ли? — Вы так думаете? — возразила Фрида. — Много вы знаете! — Разумеется, откуда мне знать, но, может быть, одна из этих бабочек расскажет мне — вы, например? Фрида улыбнулась. Она не знала, как отнестись к его словам, но Юджин чрезвычайно ей нравился. Она и представления не имела о том, как глубока и сложна его натура и сколько в нем порывистой ласковости и непостоянства. Этот красивый, улыбающийся, далеко еще не старый человек, такой остроумный и добродушный, стоявший у светло-зеленого озера и спускавший на воду лодку, казался ей таким жизнерадостным, таким беззаботным. В ее представлении он сливался со свежестью земли и яркой зеленью молодой травы, с глубокой синевой неба, с щебетанием птиц и даже со сверкающей рябью воды. — Одно я знаю — бабочки ничего не делают, — сказал он, показывая, что не хочет относиться к ней серьезно. — Они только пляшут на солнышке и веселятся. Вам никогда не приходилось говорить об этом с бабочками? Фрида в ответ только улыбнулась. Юджин столкнул лодку на воду, слегка придерживая ее за веревку, достал пару весел, кинул их в лодку и вскочил в нее сам. Потом он посмотрел на девушку и спросил: — Давно вы живете в Александрии? — Около восьми лет. — Вам здесь нравится? — Когда как. Далеко не всегда. Мне хотелось бы жить в Чикаго. О, какая прелесть! — воскликнула она, чуть задрав кверху свой очаровательный носик и принюхиваясь к доносившемуся из сада аромату цветов. — Да, чудесно. Герань, не правда ли? Она сейчас в полном цвету. Такие дни, как сегодня, сводят меня с ума. Он сел и вложил весла в уключины. — Ну, поеду попытаю счастья, — авось, кита поймаю. А вы не хотели бы поехать со мной ловить рыбу? — Очень хотела бы, — ответила Фрида. — Только тетя, наверно, меня не пустит. Я бы с удовольствием поехала. Это так интересно, когда рыба ловится. — Да, когда ловится! — рассмеялся Юджин. — Так и быть, я вам привезу небольшую симпатичную акулу, и непременно кусачую. Хотите? В Атлантическом океане водятся акулы, которые кусаются и тявкают. По ночам они вылезают из воды и лают по-собачьи. — Ха-ха-ха! — заливалась Фрида. — Вот забавно! Юджин стал медленно грести, направляя лодку на середину озера, а она крикнула ему вслед: — Смотрите же: не забудьте привезти мне рыбу! — Смотрите, будьте здесь к моему возвращению, тогда и получите ее, — ответил он. Он смотрел на ее фигурку, выделявшуюся на кружевном фоне весенней листвы, на старый дом, красиво расположенный на холме, на ласточек, круживших в утреннем небе. «Какая прелестная девушка, — думал он. — Она хороша и свежа, как цветок. Девичья красота — вот единственная в мире стоящая вещь!» Вскоре он вернулся, надеясь найти Фриду на берегу, но тетка услала ее куда-то с поручением. И Юджин почувствовал острое разочарование. После этого они встретились еще раз, когда Юджин вернулся с рыбной ловли, почти ничего не поймав, и Фрида подняла его на смех; в другой раз он издали увидел ее, когда она, вымыв голову, сидела на заднем крыльце и сушила волосы. Спустившись к нему, она остановилась под деревьями — обворожительная, с мокрыми волосами, словно наяда. У него было сильное желание обнять ее, но он не знал, как она к этому отнесется, и воздержался. Однажды она принесла ему в студию, по поручению миссис Витла, лепешку из остатков теста, поджаренную прямо на плите. — Когда Юджин был мальчиком, он обожал такие лепешки, — сказала ей миссис Витла. — Дайте я снесу ему! — весело воскликнула Фрида, обрадовавшись случаю, сулившему нечто интересное. — Что ж, это идея, — сказала ничего не подозревавшая Анджела. — Подождите, я положу ее на блюдце. Фрида схватила блюдце и побежала. Она застала Юджина у мольберта — он как-то странно уставился на свой холст, лицо его было мрачно. Но едва головка Фриды показалась в двери, это выражение исчезло, и на губах у него заиграла обычная ласковая улыбка. — Угадайте, что я вам принесла? — сказала девушка, прикрывая блюдце белым фартучком. — Земляники? — О нет! — Персиков со сливками? — Откуда быть сейчас персикам? — Из гастрономического магазина! — Попытайтесь в третий раз. — Слоеные пирожки? — Он был большим любителем всякой сдобы, и Анджела иногда пекла для него. — Опять не угадали. Ничего вы не получите! Он протянул руку, но она отступила. Он шагнул за нею, и она расхохоталась. — Нет, нет, теперь вы ничего не получите! Он схватил девушку за полную мягкую руку и притянул к себе. — Вы уверены? Их лица почти соприкасались. Она мгновение смотрела ему в глаза, затем опустила ресницы. У Юджина голова закружилась от ее красоты. Это было все то же старое волшебство. Он прижался губами к ее губам, и она с лихорадочной страстностью ответила на поцелуй. — А теперь нате, ешьте ваше гадкое тесто! — сказала она, со сконфуженным видом протягивая ему блюдце, едва он отпустил ее. Она была так взволнована, что не могла даже шутить. — Что сказала бы миссис Витла, если б увидела нас! — добавила она. Юджин замер и прислушался. Он боялся Анджелы. — Я с детства люблю эти лепешки, — сказал он непринужденным тоном. — Ваша мама как раз говорила об этом, — сказала Фрида, приходя немного в себя. — Дайте хоть взглянуть, что вы рисуете. — Она подошла и стала рядом, а он взял ее за руку. — Теперь мне пора идти, — добавила она тоном благоразумия. — Меня ждут. Юджин мысленно поразился рассудительности девушек, — по крайней мере тех, которые ему нравились. Оказывается, они умеют при известных обстоятельствах соблюдать осторожность. Он видел, что Фрида инстинктивно приготовилась защищать и его и себя. Казалось, ее не особенно ошеломило то, что с нею произошло. Пожалуй, она не прочь воспользоваться представившимся ей случаем. Юджин снова обнял ее. — Вы — и пирожок, и земляника, и персики со сливками! — сказал он. — Не надо! — сказала она. — Не надо! Мне нужно идти. — Она быстро сбежала с лестницы, бросив ему на прощание улыбку. Таким образом, в списке одержанных им побед прибавилось имя Фриды. Юджин серьезно задумался. Если бы Анджела увидела эту сцену, — какая разыгралась бы буря! Узнай она только, что тут происходит, как бы она стала беситься! Это было бы ужасно. Даже думать об этом не хотелось после недавней истории с письмами. Но, с другой стороны, блаженство, которое дают ласки юного существа, — разве не стоило заплатить за него любою ценой? Чувствовать, как обвиваются вокруг твоей шеи руки прелестной, жизнерадостной восемнадцатилетней девушки — чем не рискнешь ради этого! Закон общества гласил: одна жизнь — одна любовь. Может ли он согласиться с этим? Может ли одна женщина удовлетворить его? Могла ли бы навсегда удовлетворить его, скажем, Фрида, если бы она принадлежала ему? Он не находил ответа. У него не было желания думать об этом. Но какое наслаждение ходить по благоухающему саду! Ощущать розу у своих губ! Анджела долго не замечала этого увлечения. Бедняжка! Привыкнув целиком полагаться на условности, как она их понимала, она еще не догадывалась о том, что мир полон злых козней и интриг, ловушек, силков, волчьих ям. Жизненный путь добросовестной и преданной мужу жены должен быть прост и легок. Она не должна страдать из-за неуверенности в его любви, из-за его злосчастного характера, равнодушия или измены. Если она усердно работает, — Анджела же работала не щадя себя, — если она старается быть хорошей женою, экономной, услужливой, готовой в любую минуту жертвовать ради мужа своим спокойствием, своими прихотями, желаниями и вкусами, то как не рассчитывать на такое же отношение с его стороны? Анджела понятия не имела о двойной морали, и если бы ей стали об этом говорить, она не поверила бы. Родители внушили ей совершенно определенное представление о браке. Отец был верен ее матери. Отец Юджина был верен своей жене — это не подлежало сомнению. Ее зятья были верны ее сестрам, зятья Юджина были верны его сестрам. Как же может Юджин не быть верен ей? До сих пор, правда, у нее не было явных улик против него. Вполне возможно, что он был и останется ей верен. Он так и сказал ей. Но как объяснить его похождения до брака? Ужасно, что он способен был обмануть ее. Она никогда не забудет этого. Он гений — это несомненно. Весь мир ждет его слова. Он великий человек, которому подобает лишь общество великих людей, но если это невозможно, у него вообще не должно быть желания с кем-либо общаться. Смешно подумать, что он может волочиться за какими-то гусынями! Размышляя, Анджела приходила к выводу, что должна сделать все от нее зависящее, чтобы не допустить этого. Место Юджина, по ее мнению, было на престоле величия, а ее место — на ступеньках у его ног, в качестве преданного служки, размахивающего кадильницей славословий и восторгов. Проходили дни, и Юджин еще много раз виделся с Фридой, иногда невзначай, иногда преднамеренно. Как-то раз днем он сидел у сестры, когда Фрида пришла туда по поручению своей приемной матери за какой-то выкройкой. Она пробыла у них час с лишним, и Юджин раз десять улучил возможность поцеловать ее. И долго еще после ее ухода его преследовало воспоминание об ее прелестных глазах и улыбке. В другой раз, застав Фриду в сумерки близ лодочной пристани, он увлек ее в чащу дикого винограда и целовал там без помехи. Такие мимолетные тайные встречи происходили и в доме его родителей и в его студии на сеновале, куда девушка несколько раз поднималась, ссылаясь на его обещание нарисовать ее портрет. Анджеле это очень не нравилось, но она ничего не могла поделать. Фрида проявляла в любви то особенное терпение, которое свойственно в таких случаях женщинам и которого мужчина никогда не поймет. Она выжидала своего часа, пока Юджин придет и найдет ее, тогда как он, с присущей влюбленному мужчине ненасытностью, все время жаждал ее видеть. Он ревновал ее, когда она отправлялась на невинные прогулки со знакомыми молодыми людьми. То обстоятельство, что он не всегда мог ее видеть, было для него огромным лишением, а его брак с Анджелой казался ему катастрофой. Присутствие жены он теперь ощущал как помеху своей любви к Фриде и смотрел на Анджелу почти с ненавистью. Зачем он на ней женился? Если Фрида бывала поблизости, а он не имел возможности подойти к ней, он провожал каждое ее движение тоскующим, жадным взглядом. Ее чарующая красота причиняла ему страдание. А девушка и не догадывалась, какой всепожирающий огонь она зажгла в нем. Ничего неестественного не было в том, что они несколько раз, совершенно случайно, вместе возвращались с почты. В порядке вещей было и то, что мисс Анна Рот приглашала к обеду мистера Витла с женою и Юджина с Анджелой. Однажды, когда Фрида была в гостях в доме Витла, Анджеле показалось, что при ее появлении в гостиной девушка с какой-то странной поспешностью отошла от Юджина. Однако уверенности у нее не было. Фрида и раньше в ее присутствии позволяла себе с самым невинным лицом вертеться около Юджина. «Уж не волочится ли за ней Юджин?» — подумала Анджела, но у нее не было никаких доказательств. Она пробовала выследить их, но Юджин был так ловок, а Фрида так осторожна, что ей это не удавалось. Тем не менее перед отъездом из Александрии между супругами произошла сцена — со слезами, истерикой и бурными излияниями, во время которой Анджела обвиняла Юджина в ухаживании за Фридой, а он решительно отвергал ее обвинения. — Если бы не мое уважение к твоим родным, — заявила она, — я изобличила бы ее тут же, в твоем присутствии! И она не посмела бы отрицать! — Да ты с ума сошла! — возражал Юджин. — Я в жизни не видел такой ревнивой женщины! Боже мой! Неужели мне больше на женщин смотреть нельзя? Эта девочка! Что же мне, уж и не говорить с ней? — Говорить! Говорить! Знаю я, как ты с ней говоришь! Я это вижу! Я это чувствую! Боже, почему ты дал мне мужа, который обманывает меня! — Ах, перестань, пожалуйста! — рассердился Юджин. — Вечно ты подглядываешь за мной! Я шагу не могу ступить без твоего надзора! Ты думаешь, я не вижу? Ну что ж, следи, если тебе нравится! Много пользы это тебе принесет! Только смотри, как бы я действительно не дал тебе повода для ревности в самом скором времени! Надоело мне это! — Нет, вы только послушайте, как он со мной разговаривает! — простонала Анджела. — А мы всего год как женаты! Как ты только можешь, Юджин! Неужели у тебя нет ни жалости, ни стыда? Да еще здесь, в доме твоих родителей! О-о-о! Эти истерики бесили Юджина. Он не понимал, как можно так вести себя. Да, он беззастенчиво лгал ей насчет Фриды, но ведь Анджела ничего не знает (он не сомневался в том, что она ничего не знает). Все эти придирки вызваны исключительно подозрениями. А если она способна так вести себя на основании одних только подозрений, то чего же следовало ожидать, случись ей узнать правду? Однако Анджела все еще способна была слезами вызвать в нем жалость и раскаяние. При виде ее горя ему становилось стыдно за свое поведение — вернее, его огорчало, что он не может справиться с собой. Подозрения Анджелы положили конец его любовной идиллии. В глубине души он проклинал тот день, когда женился на ней, так как образ Фриды неотступно стоял перед ним и звал к любви, к страсти. В эти минуты жизнь казалась ему до ужаса печальной. Все прекрасное, что человек ищет и находит в мире, волею враждебного рока осуждено на гибель. Пепел истлевших роз — вот все, что могла предложить ему жизнь. Плоды мертвого моря, рассыпающиеся в прах при первом прикосновении! Ах, Фрида, Фрида! Ах, юность, юность! Неужели перед его глазами вечно будет сиять, подобно Святому Граалю, недостижимый идеал красоты? О жизнь! О смерть! Что же в конце концов лучше — пробуждение или сон? Если бы он мог беспрепятственно любить Фриду, тогда стоило бы жить, а без нее…Глава 43
Несомненной слабостью Юджина было то, что в каждом из своих новых увлечений он готов был видеть сущность и квинтэссенцию блаженства и, загораясь восторженным чувством, внушал себе, что именно здесь и нигде больше, именно в данном неповторимом образе заключен его идеал. Так он был влюблен в Стеллу, Маргарет, в Руби, Анджелу, Кристину, а теперь — в Фриду. И все же это ничему не научило его, разве только, что любовь — восхитительнейшее чувство. Порою он задумывался, пытаясь постичь, почему черты того или иного лица обладают таким волшебным очарованием. Поистине магнетическая сила таится иной раз в завитке волос, в белизне или покатости лба, в красивой форме носа или уха, в изгибе алых и свежих, как распустившаяся роза, губ. А щеки, подбородок, глаза в сочетании со всем этим, — откуда в них такие колдовские чары? Отдаваясь во власть этих чар, он обрекал себя на трагедии, но он меньше всего думал об этом. Весьма сомнительно, удавалось ли когда-нибудь человеческой воле самой побороть ту или иную слабость, — и способна ли она на это. Человеческие склонности — область чрезвычайно тонкая. Они заложены в самих клетках организма, в химических свойствах этих клеток. Тот, кто углубляется в тайны биологии, часто обнаруживает любопытные явления: некие формы микроскопической животной жизни существуют как бы для того, чтобы стать добычею других форм животной жизни, иными словами, в силу присущих им химических и физических свойств обречены на гибель. Так, у Калькинса читаем: «Некоторые простейшие, по-видимому, строго ограничены в выборе пищи. Туфлевидная парамеция (Paramecium) и колоколообразная вортицелла (Vorticella) питаются определенными видами бактерий, да и многие другие микроорганизмы, питающиеся более мелкими простейшими, обнаруживают ярко выраженное расположение лишь к определенным видам пищи. Я наблюдал за одним из таких микроскопических созданий (Actinobulos), лежавшим совершенно неподвижно, хотя сотни бактерий и мельчайших видов простейших натыкались на него. Но едва возле него оказывалась бактерия известного типа (Halteria grandinella), как оно выбрасывало вперед микроскопическую стрелу или «трохоцисту», прикрепленную к довольно длинному жгуту. Стрела неизменно попадала в цель, и после короткой борьбы жертва заглатывалась и пожиралась. Результаты многочисленных опытов показывают, что этот якобы свободный выбор пищи обусловлен неизбежным действием определенных законов химии и физики, которым не может не подчиняться организм того или иного индивидуума, как невозможно не подчиняться закону тяготения. Смертоносная стрела, о которой говорилось выше, реагирует только на один вид добычи, и притом с такою же непреодолимой силой, с какою железные опилки реагируют на притягательную силу магнита». Юджин ничего не знал об этих любопытных биологических опытах, но он подозревал, что влечения такого рода сильнее человеческой воли. Порою он думал, что должен бороться со своими инстинктами, а в другие минуты спрашивал себя: зачем это нужно? Если в них заключалось для него высшее благо и он, борясь с ними, терял его, — то что у него оставалось? Сознание собственной безупречности? Но это ничего не говорило ни уму, ни сердцу. Уважение сограждан? Но в большинстве своих сограждан он видел лишь гробы повапленные, что пользы ему от их лицемерного уважения? Так что же оставалось — справедливость по отношению к другим? Но других не касается или не должно касаться естественное влечение, которое может возникнуть между мужчиной и женщиной. Это их личное дело. Да и вообще-то в мире очень мало справедливости. Что же до его жены — верно, он дал ей слово, но дал его не по доброй воле. Как может человек клясться в верности до гроба и сдержать слово, когда в самой природе торжествуют эгоизм, вероломство, разрушительные силы и непостоянство? Подобно цинику Фальстафу, Юджин не раз задавался вопросом: «Может ли честь приставить новую ногу?» или, как лукавый Макиавелли, утверждал, что сила есть право. Он был убежден, что для успеха в этом мире нужна не добродетель, а расчет, а сам меньше кого-либо был способен на расчет. Конечно, в этих рассуждениях сказывалось анархическое проявление его эгоизма, но он приводил в свою защиту тот довод, что не он создал свой разум и свои чувства, как и все прочее. Однако хуже всего было то, что он хитрил, уверяя себя, будто ничего не берет силою, безоглядно. Он только принимает то, что дарит ему судьба-искусительница. Гипнотические состояния такого рода, подобно заразной болезни или лихорадке, имеют свое течение, свое начало, кризис и конец. Утверждают, будто любовь бессмертна, но это говорится не о плоти, не о лихорадке желания. Брачный союз двух душ, для которого, как писал Шекспир, нет никаких преград, это явление совсем другого порядка — здесь вопросы пола играют ничтожную роль. Дружба Дамона и Фития, о которых говорит древнегреческое предание, была союзом в лучшем смысле этого слова, хотя оба они были мужчины. Точно так же возможен и духовный союз между мужчиной и женщиной. И такой союз бессмертен, но лишь потому, что он отражает духовные идеалы человечества. Все другое — мимолетная иллюзия, которая рассеивается, как дым. Когда пришло время покинуть Александрию, к чему Юджин сам вначале стремился, у него не было ни малейшего желания уезжать, наоборот, предстоящая разлука причиняла ему страдания. Юджин видел, что любовь к нему Фриды превращается в неразрешимую проблему. Он все больше приходил к убеждению, что девушка не понимает и не может правильно разобраться ни в своих чувствах к нему, ни в его чувствах к ней. Их взаимное влечение лишено было той твердой опоры, которую дает сознание ответственности. Оно принадлежало к тому неосязаемому и невещественному миру, который соткан из солнечных лучей, сверкания воды, игры бликов в ярко освещенной комнате. Юджин был бы неспособен во имя одной лишь прихоти сознательно совратить девушку. Его чувства неизменно усложнялись более тонкими переживаниями: исканием духовного родства, поклонением красоте, а также предвидением всех мыслимых последствий, последствий не столько для себя, сколько для девушки, хотя себя он тоже не забывал. Если девушка была еще неопытна, а он не мог оказать ей покровительство, если он не мог жениться на ней или быть с ней неразлучно и поддерживать ее материально (тайно или открыто), если он не мог хранить их отношения в секрете от окружающего мира, — он склонен был колебаться. Он не решался на опрометчивые шаги как ради нее, так и ради самого себя. То обстоятельство, что он не мог жениться на Фриде, не мог бежать с нею, поскольку был болен и материально не обеспечен, что он жил в семейной обстановке, обязывавшей его вести себя осмотрительно, имело для него огромное значение. Все же и здесь могла произойти трагедия. Если бы Фрида по своей натуре была легкомысленна и своевольна; если бы Анджела не была так бдительна, так болезненно ревнива и не обезоруживала его своей беспомощностью; если бы мнение семьи и всего города не значило для него так много; если бы он был здоров и располагал большими средствами, он, вероятно, бросил бы Анджелу, увез бы Фриду куда-нибудь в Европу, — он мечтал очутиться с ней в Париже — и впоследствии ему пришлось бы иметь дело с разгневанным отцом, или же он постепенно пришел бы к заключению, что прелести Фриды вовсе не являются смыслом и целью его существования. А возможно, что случилось бы и то и другое. Джордж Рот, хоть и скромный коммивояжер, был человек решительный. Он вполне способен был убить соблазнителя дочери, нисколько не считаясь с его славой художника. Он обожал Фриду, в которой видел живой образ своей покойной жены, и безусловно был бы потрясен. Однако ничего подобного случиться не могло, так как Юджин не был склонен к опрометчивым поступкам. Он слишком много рассуждал. При известных условиях он мог бы проявить безрассудную смелость, но только не в теперешнем своем состоянии. Жизнь его не настолько была тягостна, чтобы вынуждать его к действию. Так или иначе, он не видел выхода. А потому в июне он вместе с Анджелой уехал в Блэквуд, внешне сохраняя полное безразличие, но чувствуя себя так, словно вся жизнь его пошла прахом. Естественно, что когда он очутился в Блэквуде, его охватило отвращение ко всему окружающему. Тут не было Фриды. Александрия, раньше казавшаяся скучнейшим в мире болотом, где люди не живут, а прозябают, вдруг стала рисоваться ему земным раем. Маленькие озера, тихие улицы, площадь со зданием суда, дом сестры, усадьба Фриды, родительский дом — все это он видел теперь в романтическом свете, в том ореоле, который создается чувством и который невозможен без иллюзий любви. Во всем и повсюду чудилось ему лицо Фриды, ее фигура, ее взгляд. Для него теперь ничего не существовало, кроме лучезарного образа девушки. Словно безотрадный, пустынный пейзаж вдруг озарился мягким светом полночной луны. А между тем Блэквуд был не менее красив, чем раньше, но только Юджин не в состоянии был это видеть. Его отношение к Анджеле изменилось, а вместе с ним изменилось и восприятие окружающего ее мира. Он отнюдь не считал, что ненавидит Анджелу. Она была та же, что и прежде, в этом не могло быть сомнений. Перемена была в нем самом. Он не мог одновременно без памяти любить двух женщин. Правда, было время, когда он питал нежные чувства к Анджеле и к Руби, к Анджеле и Кристине, но тогда им не владела такая любовная лихорадка, какую он переживал сейчас. Он не мог изгнать из сердца образ этой девушки. Минутами он чувствовал жалость к Анджеле. А иногда ненавидел ее за то, что она навязывает ему свое общество, за то, что она, как он говорил себе, ходит за ним по пятам. Боже милосердный! Если бы можно было как-нибудь отделаться от нее, не причинив ей зла! Если бы можно было высвободиться из этих тисков! Подумать только, что сейчас он мог быть с Фридой, они вместе гуляли бы где-нибудь, катались бы на лодке, он сжимал бы ее в своих объятиях! Никогда не забыть ему то утро, когда она впервые пришла к нему в его студию на сеновале, а как обворожительна она была в тот вечер, когда он впервые увидел ее в доме сестры. Что за отвратительная, в общем, штука жизнь! И вот, сидел ли Юджин в гамаке на ферме Блю, или качался на качелях, которые старый Джотем в свое время устроил для кавалеров Мариетты, или с книгой в руках грезил в тени дома, повсюду он ощущал тоску и одиночество, и у него была одна мечта — Фрида. Тем временем здоровье его, как и следовало ожидать, нисколько не улучшалось. Вместо того чтобы воздерживаться от плотских излишеств в своих отношениях с Анджелой, он по-прежнему предавался им. Казалось, любовь к Фриде должна была бы положить этому конец, но присутствие Анджелы, их до некоторой степени вынужденная близость, ее настойчивые притязания снова и снова разбивали тот защитный барьер, каким служила его неприязнь. Будь он один, он вел бы целомудренный образ жизни до той минуты, пока его не захватило бы какое-нибудь новое чувство. Но сейчас ему некуда было бежать — ни от Анджелы, ни от самого себя, и их отношения, порою вызывавшие в нем чуть ли не физическую тошноту, оставались прежними. Все родные его жены — а их было немало как на ферме Блю, так и в округе — были в восторге от приезда Юджина. Блестящий успех его первой выставки, о которой писали газеты, и то, что его популярность нисколько не пошатнулась после второй, — мосье Шарль сообщал, что вскоре в Париже состоится выставка его картин, — все это еще больше укрепило престиж Юджина в глазах всей семьи. Сама Анджела чувствовала себя в этой обстановке королевой; что же до Юджина, то ему предоставлялась привилегия всех гениев: он мог делать все, что ему заблагорассудится. Юджин был в центре внимания, впрочем, внешне это ни в чем не проявлялось, так как его четыре зятя — почтенные граждане Запада — ничем не обнаруживали, что считают его необыкновенным человеком. Он не принадлежал к знакомому им типу людей, — он не был ни банкиром, ни адвокатом, ни хлеботорговцем, ни агентом по продаже недвижимого имущества, но тем не менее они гордились им. Он был не такой, как все, но держал себя естественно, добродушно, скромно и склонен был выказывать гораздо больше интереса к их делам, чем испытывал в действительности. Часами он выслушивал подробнейшие отчеты об их деятельности, вникал в их политические, финансовые, хозяйственные и общественные интересы. Мир представлялся Юджину пестрой смесью характеров и нравов — его всегда интересовало, как живут другие люди. Он любил хороший анекдот и хотя сам редко рассказывал — был прекрасным слушателем. Глаза его блестели, и все лицо светилось от удовольствия, которое доставлял ему забавный рассказ. Несмотря на все это, на внимание, каким он был окружен, на сердечный прием, который ему оказывали родные Анджелы, и на то, что интерес к искусству в нем отнюдь не угас (в парижской выставке нашел свое завершение лишь первый, юношеский период его творчества), — Юджин остро ощущал, что катится под гору. С ним происходило что-то неладное, это было несомненно. Дела его шли все хуже и хуже. Правда, он мог еще надеяться на продажу нескольких картин (в Нью-Йорке не нашлось ни одного покупателя на его парижские этюды), но уверенности в этом не было никакой. Поездка на родину обошлась им в двести долларов из капитала в тысячу семьсот, и предстояли еще расходы осенью, если состоится его поездка в Чикаго. На полторы тысячи долларов он и года не проживет, этого едва ли хватит больше чем на шесть месяцев, а между тем ни писать при теперешнем своем состоянии, ни давать иллюстрации для журналов он был не в силах. Необходимо было возможно скорее продать несколько картин, — в противном случае он мог очутиться в очень тяжелом положении. Между тем Анджела, исполненная самых радужных надежд, внушенных ей их пребыванием в Нью-Йорке и Париже, снова начала находить радость в жизни, так как, по ее мнению, она в конце концов научилась справляться с Юджином. Возможно, что у него и наклевывался легкий флирт с Фридой (ничего серьезного быть не могло, иначе это от нее бы не укрылось), но ей удалось пресечь его в самом начале. Правда, Юджин был раздражителен, однако причиной этому были скорее всего сцены, которые она ему устраивала. Этим бурным вспышкам чувств, далеко не всегда преднамеренным, она придавала большое значение. Надо же заставить Юджина понять, что он женатый человек, что он не может заглядываться на девушек и волочиться за ними, как раньше. Анджела прекрасно сознавала, что Юджин несравненно моложе ее по темпераменту, что в нем еще много мальчишеского и это может оказаться для нее источником великих неприятностей, где бы они ни жили. Но если она будет следить за ним, если будет настойчиво требовать от него внимания, тогда все обойдется само собой. К тому же она отдавала должное его прекрасным качествам — красивой внешности, приветливым манерам, славе, таланту. Разве не приятно, бывая в обществе, называть себя «миссис Юджин Витла» и видеть, как оглядываются те, кому имя Юджина знакомо? Его друзья — это не простые обыватели, им восхищались большие люди, известные художники, да и обыкновенные, заурядные люди без всяких претензий, считали его милым, тактичным, способнейшим и достойнейшим человеком. В общем, он всюду пользовался симпатией. Чего же еще можно было желать? Анджела и не догадывалась об истинных чувствах Юджина. Жалость, сознание, что он несправедлив к жене, крепко засевшее в голове болезненное представление, что в мире царит несправедливость, желание по возможности щадить Анджелу — в крайнем случае обманывать, но отнюдь не оскорблять — все это вынуждало Юджина постоянно притворяться, будто он любит ее, делать вид, что ему с ней очень хорошо, и приписывать все свои настроения только потере работоспособности. Анджела была плохая отгадчица мыслей, да и переживания Юджина были иногда слишком сложны, чтобы она могла их понять. Она жила в воображаемом раю и, в сущности, строила свой дом на дремлющем вулкане. Юджин не поправлялся, и к осени в нем укрепилось убеждение, что самое лучшее для него — перебраться в Чикаго. Там, очевидно, вернется к нему утраченное здоровье. Блэквуд ему осточертел. Тенистая лужайка потеряла для него всякую прелесть. Маленькое озеро, речка, поля — все, что так восхищало его когда-то, теперь ему вконец прискучило. Правда, беседы со старым Джотемом, этим добрым и принципиальным, неизменно дружелюбным ко всем и всему человеком, по-прежнему доставляли ему удовольствие, а Мариетта развлекала его своим добродушным остроумием и неожиданной наблюдательностью. Но он не мог удовлетвориться разговорами с нормальными, трезвыми, уравновешенными людьми, пусть даже достойными и доброжелательными. Простая жизнь и будничные дела начинали вызывать в нем раздражение. Его тянуло в Лондон, в Париж, тянуло приняться за дела. Безделье становилось невыносимым. Не важно, что он не в состоянии работать. Он чувствовал, что должен попытаться. Эта оторванность от жизни действовала на него ужасающе. Шесть месяцев прожил Юджин в Чикаго и за это время не написал ни одной картины, которая удовлетворила бы его, которую он не «замучил» бы бесконечными переделками. Затем последовали три месяца в горах штата Тенниси, куда они поехали, потому что кто-то рассказал ему про чудодейственный источник в живописной долине, где весна изумительно хороша, а жизнь необычайно дешева. Четыре летних месяца они провели в горах на юге Кентукки, где царила вечная прохлада, а после этого пять месяцев в Билокси, в штате Миссисипи, на берегу Мексиканского залива, так как кто-то посоветовал Анджеле поехать на этот зимний курорт. За это время деньги Юджина (полторы тысячи долларов, остававшиеся у него при отъезде из Блэквуда, плюс сумма, вырученная от продажи в течение осени и зимы трех картин с парижской выставки, — двести долларов за одну, сто пятьдесят за другую и двести пятьдесят за третью, да еще двести пятьдесят долларов за нью-йорский вид, проданный мосье Шарлем несколькими месяцами позже) почти разошлись. У него оставалось пятьсот долларов, но так как старые картины больше не находили покупателей, а нового он ничего не написал, их материальное положение в смысле перспектив на будущее было очень тяжелым. Он мог бы, конечно, вернуться в Александрию и там прожить еще с полгода, почти ничего не тратя, но после истории с Фридой ни ему, ни Анджеле это не улыбалось. Анджела боялась Фриды и твердо решила не ехать в Александрию, пока там живет эта девушка. А Юджину было стыдно туда возвращаться, так как это открыло бы людям глаза на то, какой плачевный оборот приняли его дела. О Блэквуде не могло быть и речи. Они и без того достаточно долго жили на средства родителей Анджелы. Если он не поправится, ему придется окончательно отказаться от всякой мысли об искусстве, так как одними попытками создать что-то не проживешь. Юджину стало казаться, что он жертва какого-то дьявольского наваждения, ведь есть же люди, которых преследуют злобные силы, люди, родившиеся под несчастливой звездой, обреченные на горе и неудачи. Откуда мог знать нью-йоркский астролог, что ему предстоят четыре незадачливых года! Вот уже три года из этих четырех прошли. Почему чикагский хиромант, как и нью-йоркский астролог, предсказал, что ему предстоят два тяжелых периода и что, по всей вероятности, к середине жизни у него произойдет решительный перелом? Неужели человеческая жизнь подчинена каким-то таинственным влияниям? И что знают об этом философы-естествоиспытатели, те натуралисты, произведения которых он читал? В их книгах так много говорится о неизменных законах, управляющих вселенной, о незыблемых законах химии и физики, — почему же с помощью физики и химии нельзя объяснить его странный недуг? Или же раскрыть истинный смысл предсказаний астролога, а также тех примет и знамений, которые, как он заметил, обычно предшествуют каждой его удаче и неудаче? В последнее время,например, он стал замечать, что если у него дергается левый глаз, значит, его ждет ссора с кем-нибудь — и уж обязательно с Анджелой. Если он находил цент или вообще какую-нибудь монету, то ему предстояло получить деньги; каждому извещению о продаже его картин предшествовала находка какой-нибудь монеты. Как-то в Чикаго в страшный дождь он нашел цент на Стэйт-стрит и сразу же получил от мосье Шарля письмо, что в Париже за двести долларов продана его картина. В другой раз на пыльной дороге в штате Теннесси он поднял трехцентовую монету старой чеканки, и мосье Шарль вскоре сообщил, что один из его нью-йоркских видов продан за полтораста долларов. Был еще случай, когда на песчаном пляже в Билокси ему попался цент — и снова он получил уведомление о продаже картины. Странно, но факт. Юджин заметил также, что если в доме начинает скрипеть дверь, кто-нибудь обязательно заболеет, а если под окном завоет черная собака — кто-то умрет. Мать говорила ему об этой примете, и он сам проверил ее правильность на одном человеке в Билокси. Человек этот внезапно заболел, и вот откуда ни возьмись на улице появилась собака, черная собака, которая остановилась под его окном. И вскоре он умер. Юджин не поверил бы, если бы это не произошло у него на глазах — он сам видел и собаку, и объявление о смерти. Собака завыла в четыре часа пополудни, а к утру человека не стало. Юджин собственными глазами видел, как дверь обивали черным крепом. Анджела смеялась над его суеверием, но Юджин стоял на своем. «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».Глава 44
Близился момент, когда их средства должны были иссякнуть, и Юджину пришлось задуматься над тем, как жить дальше. От постоянной тревоги и чувства мрачной безнадежности он сильно исхудал, и взгляд у него стал бегающий, боязливый. Часами ходил он по комнате, размышляя о тайнах природы и ломая голову над тем, как выйти из положения; что станется с ним, скоро ли будет продана еще какая-нибудь картина, когда именно и будет ли вообще продана? Анджела, вначале полагавшая, что его болезнь — только временное недомогание, теперь стала понимать, что она принимает затяжной характер. Он не был болен физически — он ходил, ел и разговаривал совсем как нормальный человек, но он не мог работать и без конца изводил себя всякими тревогами. Анджела, как и Юджин, прекрасно видела, что их денежные дела из рук вон плохи, хотя он никогда не говорил с ней об этом. Ему было совестно признаться — после такого блестящего начала в Нью-Йорке, — что он боится краха. Как это глупо — при его-то даровании! Конечно, эта полоса пройдет, и пройдет скоро! Огромную услугу в этот период оказали Анджеле привитая ей в семье бережливость и врожденная расчетливость, — она делала покупки с величайшим разбором, выгадывая каждый цент. Она умела сама шить на себя, в чем Юджин убедился, когда впервые навестил ее в Блэквуде, и сама мастерила себе шляпки. В Нью-Йорке, когда Юджин стал хорошо зарабатывать, она мечтала о том, что будет заказывать наряды у лучших портних, но так и не собралась этим заняться. Как женщина благоразумная, она решила еще немного подождать, а когда здоровье Юджина пошатнулось, ей пришлось и вовсе распроститься с этой мечтой. Опасаясь, что буря, разразившаяся над ними, может затянуться, она принялась чинить, чистить, утюжить и переделывать все, что только возможно. Даже когда Юджин предлагал купить ей какую-нибудь обновку, она отказывалась. Ее удерживали опасения за будущее, страх перед трудностями, которые могли стать на его пути. Юджин это видел, хотя и не говорил ничего. От него не укрылось, что она живет в вечном страхе, проявляет огромное терпение, приносит ему в жертву все свои желания и прихоти, и он не мог не оценить этого. Слишком уж очевидно было, что она думает только о нем, только об его интересах. Она была его тенью, его alter ego[49], его служанкой, всем, чем бы он ни пожелал ее видеть. Он шутя называл ее «песик», потому что на Западе, в детстве, они называли так всякого, кто был на побегушках у других. Когда играли в мяч и кому-нибудь из играющих было лень бежать за мячом, говорил: «А ну, Вилли, сбегай за меня, песик». Анджела и была таким «песиком» для Юджина. За эти два года их странствований по разным штатам Юджин не давал Анджеле никаких поводов к ревности, потому что она всегда находилась с ним, была почти единственной его собеседницей, а также и потому, что они не засиживались подолгу на одном месте и не жили достаточно широко, чтобы он мог завязать где-нибудь интимную дружбу, грозившую катастрофой. Ему встречались девушки, которые привлекали его внимание, — как всегда привлекало все незаурядное, все юное и физически совершенное, — но не было случая познакомиться с ними. Они не посещали дома, куда он был вхож раньше, не вращались в тех кругах, где им прежде случалось бывать. Юджин мог только издали смотреть на этих юных красавиц. Трудно было ему мириться с цепями, которые налагал на него брак, и делать вид, будто у него чисто бескорыстный интерес к красоте, но он именно так должен был вести себя в присутствии Анджелы (как, впрочем, и в присутствии всех подобных ей рабов ходячей морали), так как малейшее внимание к какой-нибудь женщине встречало с ее стороны решительный отпор. Он должен был высказывать свое мнение в безличной форме и сдержанных выражениях. Стоило ему проявить хотя бы тень личного интереса или восхищения, как Анджела принималась критиковать его вкус и доказывать, насколько необоснованны его восторги. Если же он проявлял к какой-нибудь женщине особый интерес, она всячески старалась разнести его очередной идеал в пух и прах. Тут она не знала пощады, и ему было ясно, на чем зиждется ее критика. Он улыбался про себя, но ничего не говорил. Его даже восхищали героические усилия, которые она прилагала, чтобы настоять на своем, хотя каждая ее призрачная победа укрепляла железную решетку его клетки. Именно в этот период Юджин волей-неволей вынужден был оценить то терпение, ту беззаветную преданность, которую Анджела проявляла во всем, что касалось его материального благополучия. В ее глазах он, несомненно, был самым великим человеком на свете — несравненным художником, несравненным мыслителем, несравненным любовником, личностью, выдающейся во всех отношениях. То, что он ничего не зарабатывал, не играло для нее в то время большой роли. Будет же он опять зарабатывать! Ведь у нее оставался ореол его славы! Быть «миссис Юджин Витла» после всего, что их окружало в Нью-Йорке и в Париже, — могла ли она желать большего? Не важно, что теперь ей приходится беречь каждый цент и самой мастерить себе платья и шляпки, экономить, чинить, утюжить и переделывать! Через несколько лет, когда Юджин станет постарше, он излечится от своей нелепой влюбчивости, и тогда все пойдет хорошо. Да и сейчас он как будто любит ее, а это чего-нибудь да стоит. А Юдин, чувствуя себя одиноким, терзаясь страхами, не уверенный в себе, не уверенный в будущем, с благодарностью принимал ее нескончаемые заботы, чем и вводил ее в заблуждение. От кого еще мог он этого ожидать? — размышлял он. Кто был бы ему столь предан в такое время? Он готов был поверить, что способен снова полюбить Анджелу и не изменять ей, если б только удалось избежать интересных встреч. Если бы удалось подавить в себе это неукротимое влечение к другим женщинам, восторг перед их красотой, желание слышать похвалу из их уст. Эти мысли объяснялись прежде всего тем, что он был болен и одинок. Вернись к нему здоровье, улыбнись ему снова успех, о котором он так жадно мечтал, все пошло бы, как раньше. Он был капризен, как сама природа, изменчив, как хамелеон. Только две реальные ценности существовали для него, и им он оставался неизменно верен, как стрелка компаса, которая всегда показывает на север: красота окружающего мира, которой он восхищался и которую жаждал передать на полотне, и женская красота — вернее, красота девушки в восемнадцать лет. О, это пробуждение женского начала в восемнадцатилетней девушке! Ничто под солнцем, казалось ему, не может сравниться с ним. Оно напоминает первые весенние почки, цветы, раскрывающие свои венчики навстречу новому дню, аромат роз и росы, игру солнца на поверхности вод или игру бриллиантов. Этому он не способен был изменить. От этого он не мог отказаться. Это преследовало его подобно чудесному видению. И то, что очарование Стеллы, Руби, Анджелы, Кристины и Фриды, в котором на какой-то миг, частично или полностью, проглядывала эта красота, что очарование это было мимолетнее тени, не играло для него большой роли. Красота оставалась его светлой властительницей. Презреть ее, забыть — он не мог. Она неотступно стояла перед ним каждый час, каждую минуту. И хотя он называл себя глупцом, хотя говорил себе, что красота, как блуждающий огонек, приведет его к гибели, что он останется ни с чем, как последний нищий, — все же он не мог с собой совладать. Красота юности, красота восемнадцати лет! Без этого жизнь казалась скверной шуткой, участью ломовой лошади, отвратительной свалкой, где все вертится только вокруг пошлых материальных интересов (мебель, дома, вагоны, лавки) и все вовлечено в борьбу — ради чего же? Ради удовлетворения нужд каких-то жалких людишек? Да нет же! Чтобы воздвигнуть храм красоте? Да, разумеется, — но какой красоте? Красоте старости? Как глупо! Красоте средних лет? Бессмыслица! Красоте зрелости? Нет! Красоте юности? Да! Красоте восемнадцати лет. Именно так. Это была для него неопровержимая истина, доказанная всей мировой историей. Что же, как не красота и ее манящая сила, как не возникавшие из-за нее войны и совершающиеся ради нее преступления служило вечной темой для искусства, литературы, истории и поэзии? Он, Юджин, поклонялся красоте. Все прошлое мира подтверждало его правоту. Кто мог это отрицать?Глава 45
Из Билокси, где с наступлением лета жара сделалась невыносимой, Юджин решил ехать в Нью-Йорк. Деньги были на исходе, и необходимость толкала его на решительный шаг, хотя бы даже это привело к полной катастрофе. У Кельнера находился на хранении ряд картин еще от первой выставки и почти все холсты с выставки парижских работ (мосье Шарль любезно вызвался позаботиться о них). Парижские этюды расходились плохо. Идея Юджина заключалась в том, чтобы втихомолку от друзей и знакомых приехать в Нью-Йорк, снять комнату в каком-нибудь глухом переулке, либо в Джерси-Сити, либо в Бруклине, где он не рискует ни с кем встретиться, и забрать картины у мосье Шарля, — авось, ему удастся заинтересовать ими кого-нибудь из более мелких барышников и комиссионеров, про которых он не раз слышал, и те придут посмотреть его работы и уплатят ему за них наличными. А если из этого ничего не выйдет, можно попробовать снести их по одной в магазины и там продать. Он вспомнил, что в свое время Эбергарт Занг через Норму Уитмор приглашал его зайти. Юджин предполагал, что раз фирма «Кельнер и сын» проявила к нему такой интерес и газетные критики столь благосклонно отзывались о его работах, то мелкие торговцы рады будут иметь с ним дело. Разумеется, они купят у него все его работы. Как же иначе — ведь его картины превосходны, совершенно превосходны! Юджин забыл, а может быть, ничего и не знал о метафизической стороне успеха и неудачи. Он не отдавал себе отчета в том, что «каким человек мыслит себя, таков он и есть», и таким мыслит его весь мир, ибо важно не то, каков он на самом деле, а каким он себе представляется. Почему это так, мы не знаем, но что это чувство передается другим — неоспоримый факт. Душевное состояние Юджина, растерянного, беспомощного, запутавшегося во всяких сомнениях и страхах, — ладья, потерявшая руль и блуждающая во мраке, — словно по беспроволочному телеграфу передавалось всем, кто знал его или слыхал о нем. Когда выяснилось, что Юджин заболел и перестал работать, мосье Шарль был сперва удивлен и расстроен, а затем его интерес к молодому художнику стал заметно падать. Подобно всем способным и преуспевающим дельцам, мосье Шарль любил иметь дело с людьми сильными, в расцвете славы, в зените успеха. Малейшее отклонение от этой нормы сейчас же отмечалось им. Когда человеку грозил крах, — когда он заболевал и находился в состоянии апатии или же когда его воззрения подвергались ломке, — весьма прискорбно, конечно, но при таких обстоятельствах оставалось одно — уйти от него подальше. С людьми, потерпевшими крушение, опасно иметь дело. Это прежде всего бьет по карману. Темпл Бойл и Винсент Бирс, бывшие учителя Юджина, слыхавшие у себя в Чикаго о его славе, Люк Севирас, Уильям Мак-Кеннел, Орен Бенедикт, Хадсон Дьюла и многие другие не могли понять, что сталось с ним. Почему он больше не работает? Его давно не видели ни в одном из уголков Нью-Йорка, где встречаются любители искусства. Во время выставки его парижских работ носились слухи, что Юджин собирается в Лондон, где будет работать над такой же серией картин, но выставка его лондонских этюдов так и не состоялась. Весной, уезжая из Нью-Йорка, он говорил Смайту и Мак-Хью, что теперь, вероятно, займется Чикаго, но из этого тоже ничего не вышло. Иначе кто-нибудь видел бы его новые работы. Слухи были разноречивые: говорили, что Юджин очень разбогател, что дарование окончательно ему изменило и даже что рассудок его угас, — а потому в той части художественного мира, где его знали и где им интересовались, вскоре перестали и вспоминать о нем. «Очень жаль, — размышляли его соперники по ремеслу, — но одним серьезным конкурентом стало меньше». Что же касается друзей Юджина, то они жалели его, но утешались тем, что такова жизнь. Возможно, он еще поправится. А если нет — что ж… По мере того как проходило время — год, другой, третий, — память о его внезапном и блестящем успехе и последующем исчезновении превратилась в своего рода излюбленную легенду, поучительную притчу для молодых талантов. Как много обещал этот человек! Почему же дарование его иссякло? Иногда его имя упоминалось в разговоре или в печати, но сам он, можно сказать, умер для всех. К тому времени, когда Юджин решил поехать в Нью-Йорк, все его состояние заключалось в трехстах долларах, и из этой суммы он сто двадцать пять дал Анджеле, чтобы она могла вернуться в Блэквуд и жить там, пока он не устроит свои дела. После долгих споров они порешили, что это будет наилучший выход из положения. Трудно было сказать, чем Юджин займется, так как ни к живописи, ни к иллюстрированию журналов он вернуться не мог. Было бы неблагоразумно ехать обоим в Нью-Йорк с такими деньгами. У нее есть родной дом, где ее с радостью примут, — во всяком случае, на время. А он пока что один потягается с превратностями судьбы. Юджин не был в Нью-Йорке два с лишним года, два с лишним года он провел в скитаниях, и вид города произвел на него огромное впечатление. После гор Кентукки и Теннесси, после пустынного побережья Билокси он радовался возвращению в Нью-Йорк, в этот муравейник, где кишат миллионы людей, — в город, где неудачи и успех одного человека растворяются в необозримой толще жизни. Здесь строилась подземная железная дорога. Автомобиль, который всего лишь несколько лет назад робко начинал свою карьеру, теперь получил большое распространение. Повсюду встречались лимузины новых конструкций. Еще стоя на пристани в Джерси-Сити, Юджин мог заметить значительные перемены в открывшейся перед ним перспективе города, и достаточно было ему один раз пройтись по Двадцать третьей улице и по Седьмой авеню, как он увидел мир, менявшийся буквально на глазах, — грандиозные отели, многоэтажные жилые дома, оглушительный шум кичливой жизни, лепившей город по своему вкусу. На Юджина это подействовало угнетающе, — ведь когда-то он надеялся и сам стать частицей этого великолепия и блеска, и вот это ему не удалось и вряд ли удастся в будущем. Было сыро и холодно, весна еще только начиналась, и Юджин вынужден был купить себе легкое пальто. Своего единственного демисезонного он не захватил, а ничего другого у него не было. В конце концов этого требует приличие, рассуждал он. Из бережно хранимых ста семидесяти пяти долларов он истратил сорок на возвращение в Нью-Йорк, пятнадцать отдал за пальто, и теперь у него оставалось сто двадцать пять долларов, с которыми ему и предстояло сызнова начинать жизнь. Его сильно тревожила мысль о будущем, но какое-то подсознательное чувство говорило ему, что еще не все потеряно, что все еще образуется. Он снял дешевую комнату в довольно неприглядном районе западной части города на Двадцать четвертой улице, близ Одиннадцатой авеню, с единственной целью — держаться подальше от тех мест, где особенно кипит интеллектуальная жизнь, и по возможности избегать знакомых, пока не удастся стать на ноги. Это был старый, неприглядный кирпичный дом, стоявший среди таких же старых, неприглядных строений, вроде того, какой он изобразил однажды на картине. Впрочем, новое его жилище оказалось не таким уж плохим. Обитатели дома были люди бедные, но довольно интеллигентные. Юджин избрал именно это густозаселенное беднотой место, потому что здесь неподалеку протекала Нортривер, с ее оживленным пароходным движением, а так как перед его окном (единственным и выходящим на запад) тянулся ряд пустырей, служивших стоянкой для подвод, вся жизнь вокруг была перед ним как на ладони. За углом, на Двадцать третьей улице, в другом таком же ветхом доме, помещался сравнительно недорогой ресторан и пансион, где можно было поесть за двадцать пять центов. Жизнь окружающих людей совершенно не интересовала Юджина. Здесь все было жалко, убого и грязно, но он надеялся когда-нибудь выбраться отсюда. Никто из здешних жителей не знал его. А вместе с тем его новый адрес — «Западная сторона, Двадцать четвертая улица, дом 552» — звучал совсем неплохо. Это могло сойти за один из тех старых кварталов, которыми пестрит Нью-Йорк и в которых любят селиться художники. Сняв комнату у хозяйки-ирландки, жены портового весовщика, Юджин решил повидаться с мосье Шарлем. Он знал, что, несмотря на бедность и упадок сил, вид у него еще вполне приличный. На нем был хороший костюм, новое пальто, держался он бодро и решительно. Но, думая так, Юджин и не подозревал, что лицо у него изможденное и больное, а лихорадочный блеск глаз говорит о гложущей его душевной тревоге. Не доходя полквартала до конторы «Кельнер и сын» на Пятой авеню, Юджин остановился и задумался — стоит ли заходить и что сказать? Время от времени он писал мосье Шарлю, что здоровье его в скверном состоянии и что он не может работать, но неизменно добавлял при этом, что надеется скоро поправиться. И каждый раз он тревожно ждал ответа, который сообщил бы ему о продаже еще одной из его картин. Прошел год, затем два, теперь шел уже третий, а Юджин все еще был болен. Мосье Шарль испытующе посмотрит на него. Надо будет мужественно выдержать этот взгляд. Трудное это дело при теперешнем состоянии его нервов, но даже и сейчас в душе Юджина не угас еще какой-то задор. Он не сложил оружия и был уверен, что вернет себе милость судьбы. Наконец он собрал все свое мужество и вошел. Мосье Шарль радушно приветствовал его. — Как я рад! Я уже совсем потерял надежду увидеть вас в Нью-Йорке. Ну, как здоровье? Как поживает миссис Витла? Даже не верится, что прошло уже три года… Вы прекрасно выглядите. А ваша работа? Чувствуете себя в состоянии работать? В первый момент Юджину показалось, что мосье Шарль в самом деле находит, что у него прекрасный вид, тогда как этот наблюдательный и неглупый человек спрашивал себя, что могло быть причиной такой невероятной перемены. Юджин, казалось, постарел лет на восемь. Между бровями у него пролегли резкие складки, и во всем облике чувствовались усталость и апатия. И мосье Шарль думал про себя: «Этот человек, пожалуй, окончательно погиб для искусства. Он что-то утратил — как раз то, что я заметил в нем при первой встрече, — огонь и восторженность, которые он излучал, как дуговая лампа свет. Теперь у него такой вид, точно он ищет опоры, чтобы хоть как-то удержаться и не пойти ко дну. Он без слов взывает о снисхождении. Какая жалость!» Как это ни печально, но мосье Шарль считал, что в таких случаях ровно ничего нельзя сделать. Художнику, который сам себе не может помочь, помочь нельзя. Талант его угас. Самое разумное в таких случаях — прекратить всякие попытки, взяться за какой-нибудь другой труд и забыть об искусстве. Возможно, что он и поправится, но уверенности в этом нет никакой. Нервные расстройства принимают нередко хроническую форму. Юджин подметил кое-что из этого в поведении мосье Шарля. Он не мог бы сказать, что именно, но мосье Шарль казался более озабоченным, более осторожным и более чужим, чем раньше. Он был не то чтобы холоден, но сдержан, словно боялся, что его попросят о чем-то таком, чего он, при всем желании, сделать не может. — Насколько я вижу, парижские этюды не имели успеха ни здесь, ни там, — заметил Юджин небрежным тоном, словно речь шла о пустяках, но он так надеялся услышать в ответ что-нибудь утешительное. — Я думал, они будут лучше приняты. Но нельзя, конечно, рассчитывать, что удастся все продать. Зато нью-йоркские виды очень неплохо разошлись. — Да, очень неплохо, гораздо лучше, чем я ожидал. По правде сказать, я не надеялся, что нам удастся продать столько картин. В них было слишком много нового, и они выходили за рамки интересов широкой публики. Но вот парижские этюды оказались чужды американцам в совершенно другом смысле; я хочу сказать, что их нельзя причислить к тем произведениям жанровой живописи, которые приходят к нам из-за границы и все значение которых основано на мотивах общечеловеческого, а не местного характера, — я имею в виду их тематику, конечно. В глазах людей, способных разбираться в красках, композиции и замысле, ваши парижские этюды можно назвать шедеврами в истинном смысле этого слова, но рядовому любителю они, по-видимому, представлялись попросту сценками из парижской жизни. Вы понимаете, что я хочу сказать? Вот в этом-то смысле они и чужды американцам, тем более что Париж не новая тема для художников. Возможно, виды Лондона или Чикаго пришлись бы больше ко двору. Тем не менее вы можете с полным правом поздравить себя. Ваше творчество произвело впечатление и здесь и во Франции. Когда вы опять вернетесь к работе, вы убедитесь — я нисколько не сомневаюсь, — что длительный перерыв вам нимало не повредил. Он старался быть вежливым и внимательным, но был рад, когда Юджин ушел. Юджин вышел на улицу в самом безотрадном настроении. Теперь ему было ясно, как обстоит дело. Сейчас он вычеркнут из жизни, и остается только ждать.Глава 46
Юджин решил обратиться к владельцам художественных магазинов и попытаться продать им оставшиеся у него картины. А картин было довольно много. Если выручить за них приличную сумму, можно будет прожить на эти деньги изрядный срок — пока он снова не станет на ноги. Когда картины прибыли в его одинокую комнату и он с какой-то нерешительностью и грустью стал распаковывать и расставлять их, они показались ему превосходными. Неужели они не найдут себе покупателей, после того как критики приняли их так восторженно да и мосье Шарль высказал о них такое высокое мнение? Разумеется, их купят, их с руками оторвут. Но когда он стал приглядываться к витринам художественных магазинов, его постигло разочарование: здесь вовсе не так уж гонялись за картинами. Пусть его полотна и хороши, нельзя, однако, забывать, что художников много, и притом превосходных художников. Ему неудобно было обращаться в крупные магазины, так как его имя было связано с фирмой «Кельнер и сын». В более мелких у него, пожалуй, и возьмут что-нибудь, но не все, — может быть, один, в лучшем случае два этюда, да и то за гроши. Как зло посмеялась над ним судьба! Он, Юджин Витла, уже три года назад видевший себя на пороге благополучия, сидит сейчас в своей комнате, в каком-то темном переулке, и ломает голову над тем, откуда взять денег, чтобы перебиться лето, как сбыть картины, которые всего два года назад казались ему основой будущего благосостояния! Он решил обратиться к какому-нибудь комиссионеру средней руки, предложить ему зайти посмотреть его произведения, а в случае крайней нужды продать мелким барышникам часть картин за наличные. Так или иначе, он должен поскорее раздобыть денег. Нельзя же до бесконечности оставлять Анджелу в Блэквуде. Он зашел к Джейкобу Бергману, Анри Ларю и братьям Потль и спросил, не хотят ли они посмотреть его картины. Бергман, который сам управлял своим магазином, вспомнил Юджина — он был на обеих его выставках, — но не проявил особого энтузиазма; все же он полюбопытствовал, сколько холстов было продано и за какую цену, и Юджин ответил ему. — Что ж, принесите две-три картины и оставьте на комиссию. Ведь вы знаете, как эти дела делаются, — может, кому-нибудь и понравится. Трудно сказать заранее. Он добавил, что за комиссию берет двадцать пять процентов и в случае продажи даст Юджину знать. Прийти и посмотреть картины он отказался. Пусть Юджин выберет по своему вкусу. То же самое повторилось и у Анри Ларю и у братьев Потль, причем оказалось, что последние даже не слыхали про него. Они предложили ему показать что-нибудь из его работ. Юджин был не слишком оскорблен таким невежеством, — судя по тому, как шли дела, он понимал, что в дальнейшем можно еще и не того ожидать. Другим художественным магазинам он не решался доверить продажу своих картин, а таскать их по редакциям журналов (где можно было в случае удачи рассчитывать на сто двадцать пять и даже сто пятьдесят долларов за каждую) считал неудобным. Ему не хотелось, чтобы в журнально-художественном мире стало известно, в каком он положении. Хадсон Дьюла был его лучшим другом, но кто знает, заведует ли он еще художественным отделом журнала «Труф». (Между прочим, Дьюла действительно там больше не работал.) Оставался Ян Янсен и еще кое-кто, но они, несомненно, продолжают считать его преуспевающим художником. Таким образом, гордость создавала для Юджина дополнительные затруднения. Как же он будет существовать, если обращаться в журналы не хочет, а что-нибудь новое создать не в состоянии? Юджин решил походить по небольшим магазинам с одной какой-нибудь картиной, предлагая ее за наличные. Там, вероятно, никто не знает его, а картина может понравиться. Это позволит ему без большого ущерба для своего самолюбия согласиться на любую цену, какую ему предложат, если только она не будет совсем уж мизерной. В одно ясное майское утро он сделал такую попытку, и хотя она принесла известные результаты, прекрасный день был для Юджина совершенно испорчен. Захватив с собою один из нью-йоркских этюдов, он понес его в третьестепенный магазинчик, который как-то заметил на Шестой авеню. Не вдаваясь в объяснения, он спросил, не купят ли у него эту вещь. Владелец, маленький, смуглый человечек семитского происхождения, с любопытством посмотрел на художника, а затем на картину. Ему с первого же взгляда стало ясно, что человек этот в затруднительном положении и что ему до зарезу надо продать свой этюд. Он подумал, что может купить эту вещь за бесценок, но сомневался, стоит ли покупать. Сюжет картины был не слишком популярный — знаменитый ресторан на Шестой авеню, за аркой надземной железной дороги, — сквозь густую сетку дождя прорываются яркие полосы света. Много лет спустя один коллекционер из Канзас-Сити откопал эту картину на аукционе старой мебели и поместил ее среди своих шедевров. В это утро, однако, ее достоинства были не так очевидны. — У вас в окне, я вижу, иногда выставляются картины. Вы покупаете подлинники? — Случается, — равнодушно отозвался владелец. — Только не часто. Что у вас там? — У меня картина маслом, которую я не так давно написал. Я иногда занимаюсь этим. Может быть, посмотрите? Владелец магазина стоял возле Юджина с безразличным видом, пока тот развязывал тесемку, распаковывал полотно и ставил его перед ним. Картина произвела на него впечатление, но он подумал, что она едва ли придется по вкусу среднему покупателю. — Вряд ли я мог бы продать здесь это, — заметил он, пожимая плечами. — Вещь хорошая, но у нас очень небольшой спрос на картины. Будь это обыкновенный пейзаж, или марина, или женская головка… Вот женские головки лучше всего идут. А ваша — очень сомневаюсь, удастся ли мне сбыть ее. Оставьте на комиссию, если хотите. Может быть, кому-нибудь понравится. А покупать мне ее, пожалуй, не к чему. — А мне не к чему оставлять ее на комиссию, — с раздражением ответил Юджин. Оставить свою картину в какой-то лавочке, где-то в переулке, да еще на комиссию! Нет, на это он не согласен. Ему хотелось ответить резкостью, но он подавил в себе вспышку гнева и спросил: — А сколько бы вы дали за нее, если бы она вам подошла? — Гм, — владелец магазина задумчиво поджал губы, — долларов десять — не больше. Тут у нас нельзя запрашивать больших цен. Настоящий покупатель идет на Пятую авеню. Юджина передернуло. Десять долларов! Боже, какая унизительная сумма! Стоило приходить сюда! Уж лучше иметь дело с журналами и с большими магазинами. Но где они? К кому вообще обратиться? Где они, эти магазины, которые были бы лучше вот этой лавчонки, если не считать крупных фирм, куда он уже наведывался? Так не разумнее ли придержать полотна, а пока что взяться за какую-нибудь работу? Ведь у него всего тридцать пять холстов, и если отдавать их по такой цене, он за все выручит каких-нибудь триста пятьдесят долларов. Какой от них прок! Его настроение и эта последняя попытка говорили ему, что больше выручить не удастся. Ему будут предлагать долларов пятнадцать, а возможно, и того меньше, и в результате положение его нисколько не улучшится. И картины уйдут, и денег не будет. Надо найти работу и сохранить картины. Но чем заняться? Человеку в положении Юджина (ему исполнился тридцать один год, и он не имел никакого образования, кроме того, что сумел получить в процессе развития своего вкуса и таланта) было очень трудно приискать себе какую-нибудь работу. Главным препятствием было, конечно, нервное расстройство, которое сказывалось и на его внешности. Он производил впечатление растерянного, удрученного человека и уже тем самым был мало приемлем для всякого, кто хотел бы видеть своим служащим здорового, энергичного мужчину. Вдобавок весь его вид и манеры безошибочно выдавали в нем художника — изысканного, замкнутого и чувствительного. Временами он держался с надменной холодностью, особенно когда находился среди людей, казавшихся ему вульгарными, или таких, которые старались показать свое превосходство над ним. А главное, он не мог придумать ничего такого, чем ему хотелось бы заняться. Мысль вернуться к искусству не давала Юджину покоя; только оно и могло выручить его в этот критический период его жизни. Ему не раз приходило в голову, что было бы недурно устроиться заведующим художественным отделом в каком-нибудь журнале, — из него, пожалуй, вышел бы дельный редактор. Было время, когда ему казалось, что он мог бы заняться литературой, но с этим давно покончено. После фельетонов в Чикаго он ничего не писал, а в теперешнем состоянии ему нечего и думать об этом занятии — оно не для него. Какого труда стоило ему даже составить связное и разумное письмо Анджеле. Оглядываясь на свою жизнь в Чикаго, он вспомнил, что был когда-то инкассатором и возчиком в прачечной, и подумал, что мог бы, пожалуй, найти что-нибудь в этом роде. Почему не попытаться получить место вагоновожатого или конторщика в мануфактурном магазине? Регулярный рабочий день и постоянные обязанности могут оказать на него самое благотворное действие. Но как найти такую работу? Если бы Юджин не был в столь угнетенном состоянии, это было бы вовсе не трудно, так как физически он был достаточно крепок и мог справиться с любой несложной работой. Ему достаточно было просто и откровенно поговорить с мосье Шарлем или Айзеком Вертхеймом и, воспользовавшись их влиянием, приискать себе занятие, которое дало бы ему возможность перебиться. Но он был слишком щепетилен, а болезнь делала его к тому же застенчивым и робким. Мысль, что придется отказаться от искусства и работать в другой области, вызывала у него одно только желание — укрыться возможно дальше от людских глаз. Как может он со своей внешностью, со своей репутацией, со своими изысканными вкусами якшаться с вагоновожатыми, продавцами, железнодорожными рабочими и возчиками? Нет, это невозможно, это выше его сил. Да и работа такого рода для него — дело далекого прошлого, так по крайней мере ему казалось. Он покончил с нею раз навсегда еще в дни своей учебы в Институте искусств. Снова искать такую работу — да разве он способен на это? Целыми днями бродил он по улицам, а по возвращении домой бросался к мольберту, чтобы посмотреть, не вернулся ли к нему его дар, или писал длинные, бессвязные, взволнованные письма Анджеле. Это было поистине жалкое состояние. Иногда в припадке отчаяния Юджин хватал какую-нибудь картину и, исходив с ней немало миль, отдавал за десять-пятнадцать долларов. Единственное, что его спасало, — это ходьба, он чувствовал себя тогда лучше. Красота природы, кипучая человеческая деятельность занимали его и отвлекали от тяжких мыслей. Бывали вечера, когда он приходил домой с ощущением, что в нем произошла чудодейственная перемена, что дело идет на поправку; но это продолжалось недолго, а потом прежнее настроение овладевало им… Так провел он три месяца, беспомощно плывя по течению, пока не понял наконец, что время не ждет, осень и зима не за горами, а у него скоро не останется ни одного цента. В полном отчаянии Юджин сперва пытался найти место художественного редактора, но, побывав в трех журналах, очень скоро убедился, что такого рода места не раздаются направо и налево, да еще неопытным людям. Для этого надо было иметь определенный стаж, как и во всякой другой области, и предпочтение отдавалось тому, кто уже занимался такой работой где-нибудь в другом месте. Ни имя Юджина, ни его внешность, по-видимому, не производили никакого впечатления на джентльменов, к которым он обращался. Они слыхали о нем как об иллюстраторе и художнике, но его вид говорил о том, что место нужно ему лишь как временное прибежище для поправления расстроенного здоровья, а не для энергичной вдохновенной работы, и потому они не желали иметь с ним дела. Он решил попытать счастья в трех крупнейших книгоиздательствах, но там не оказалось вакансий. Надо сказать, что Юджин имел весьма слабое представление о сложности и ответственности редакторской работы, но сам он этого не понимал. Теперь оставались только мануфактурные магазины, городской трамвай и конторы по найму рабочих при крупных железных дорогах и фабриках. Он с сомнением смотрел на сахарные заводы, на табачные фабрики, на транспортные конторы, на товарные склады и гадал, удастся ли ему найти службу, хотя бы за десять долларов в неделю. В случае удачи (и если к тому же найдется покупатель на одну из его картин, выставленных у Джейкоба Бергмана, Анри Ларю и у братьев Потль) он как-нибудь обернется. Он может даже прожить на эти деньги вместе с Анджелой, если будет время от времени продавать этюд за десять-пятнадцать долларов. Сейчас комната и стол обходились ему в семь долларов в неделю, и ему стоило большого труда сохранить неприкосновенными те сто долларов, которые остались у него после первых затрат на обзаведение. Его пугала мысль, что, распродав все картины за бесценок, он впоследствии пожалеет об этом. Найти работу нелегко даже при самых благоприятных условиях, когда человек здоров, молод и честолюбив, а о том, как трудно найти ее при условиях неблагоприятных, не приходится и говорить. Представьте себе — если вы обладаете воображением — толпы людей в сорок, пятьдесят, сто человек, дожидающиеся у каждого бюро по найму, у каждого трамвайного парка (в те особые дни, когда принимаются и рассматриваются заявления), у каждого крупного магазина, фабрики, мастерской или конторы, где, согласно объявлению в газете, требуется тот или иной работник или работница. Сплошь и рядом, когда Юджин пробовал обращаться в такие места, оказывалось, что его уже опередила целая толпа людей, которые с любопытством разглядывали его и, очевидно, недоумевали, — неужели этот франт пришел искать работы? Они казались ему совсем не такими, как он сам. Здесь были люди почти без образования, хорошо знакомые с тяготами жизни, которые очерствили их сердца; молодые люди, вялые, жалкие, рано изжившие себя; люди, подобные ему самому, один вид которых говорил о том, что они знавали лучшие дни, и люди, на чьих лицах было написано, что они уже побывали во всяких переделках. Но больше всего смущало Юджина то, что среди чаявших работы он неизменно встречал жизнерадостных, энергичных юношей, лет девятнадцати, двадцати, таких, каким был он сам, когда впервые приехал в Чикаго. Они были всюду, куда бы он ни направился. Их присутствие каждый раз мешало ему открыть цель своего прихода. Он не мог заставить себя это сделать. Последнее мужество покидало его. Он понимал, что у него неподходящий вид для человека, ищущего работы. Стыд и смущение овладевали им. Он узнал, что эти люди встают в четыре часа утра, чтобы купить газету, и мчатся по адресу, указанному в объявлении, стремясь занять очередь поближе и обогнать других. Он узнал, например, что официанты, повара, служащие гостиниц часто дежурят всю ночь напролет и в два часа ночи, — будь то зимой или летом, в дождь или в снег, в зной или в стужу, — купив газету, спешат по адресам, указанным в объявлениях. Он узнал, что люди, ждущие в очереди, могут становиться насмешливыми, грубыми, воинственными, по мере того как прибытие все большего числа претендентов уменьшает их шансы на получение места. И такая погоня за работой идет непрерывно — и зимою, и летом, и в зной, и в стужу, и в дождь, и в снег. С видом безучастного зрителя Юджин, отойдя в сторонку, следил за толпой и слушал, как люди, измученные ожиданием или утратившие всякую надежду, отпускали непристойные шутки, кляли свою жизнь и судьбу и на чем свет ругали каких-то влиятельных лиц — всех вместе и порознь. Для него в его теперешнем состоянии это было жуткое зрелище, напоминавшее работу двух жерновов: эти люди представлялись ему мякиной, и сам он был на положении такой вот мякины или ему грозило стать ею. Жизнь перестала с ним церемониться. Он будет падать все ниже и ниже и, может быть, никогда уже не поднимется на поверхность. Мало кто из нас толком разбирается в том процессе расслоения, который делит людей на категории и классы, препятствуя свободному переходу отдельных лиц из одного класса в другой. Мы принимаем как нечто должное материальную среду, которую жизнь навязывает нашему темпераменту, нашим запросам и способностям. Священники, врачи, адвокаты, торговцы будто так и родятся с определенной склонностью к той или иной профессии, и то же самое можно сказать про конторского служащего, продавца, землекопа и дворника. У них свои житейские правила, свои объединения, свои классовые чувства. И хотя духовно люди разных профессий могут оказаться в близком родстве, физически они далеки друг от друга. После месяца, проведенного в поисках работы, Юджин узнал больше об этом расслоении общества на классы, чем когда-либо рассчитывал узнать. Он обнаружил, что многие профессии ему недоступны — одни в силу особенностей его темперамента, другие из-за недостатка физической сноровки, третьи вследствие неопытности, четвертые по возрасту и так далее. И те, кто отличался от него в том или другом отношении, а то и во всех, склонны были смотреть на него косо. Взгляд их, казалось, говорил: «Ты не такой, как мы. Зачем ты здесь?» Однажды Юджин подошел к толпе, дожидавшейся у ворот трамвайного парка, и с присущим ему видом превосходства спросил у одного из стоявших поближе рабочих, где находится контора. Этот вопрос стоил ему немалых внутренних усилий. — Уж не хочет ли и этот получить место кондуктора? Ты как думаешь? — услышал он чьи-то слова. Почему-то это замечание сразу убило всю его решимость. Он поднялся по деревянной лестнице в маленькую контору, где выдавались бланки для заявлений, но даже не отважился попросить такой бланк. Он сделал вид, будто ищет кого-то, и тотчас же вышел. В другой раз, ожидая своей очереди у кабинета управляющего мануфактурным магазином, он услышал замечание какого-то юнца: «Гляди-ка, кто в продавцы лезет!», — и холод пробежал по его телу. Трудно сказать, сколько еще продолжались бы эти бесцельные блуждания, если бы Юджин случайно не вспомнил, что кто-то из художников рассказывал ему, как один писатель, заболев нервным расстройством, обратился к президенту какой-то железнодорожной компании, и тот из уважения к его профессии пристроил его к разведывательной партии. Его отправили на какой-то отдаленный участок, и он работал там, получая ставку чернорабочего, пока не выздоровел. Юджин подумал, что вот и выход. Удивительно, как это раньше не пришло ему в голову. Ведь он тоже может обратиться с подобной просьбой, объяснив, что он художник, и его внешность подтвердит это. А так как он с полным правом может говорить о себе, как о человеке, временно выбывшем из строя по нездоровью, то у него, несомненно, много шансов на успех. Конечно, это не должность, которой он достоин, но все же работа; а поскольку она будет оплачиваться, — это лучше, чем копать грядки на ферме у отца Анджелы.Глава 47
Осуществить эту мысль и обратиться к президенту одной из нью-йоркских железнодорожных компаний не представляло больших трудностей. На следующее утро Юджин тщательно оделся и отправился в железнодорожное управление на Сорок второй улице; там он просмотрел список должностных лиц, вывешенный в одном из коридоров, и, узнав, что кабинет президента находится на третьем этаже, поднялся туда. Огромным напряжением воли заставив себя открыть дверь, он обнаружил, что попал всего лишь в приемную, где находился целый штат лиц, обслуживающих президента, к нему же самому доступ был только по вызову. — Поговорите с секретарем, если он не занят, — посоветовал Юджину клерк, повертев в руках его визитную карточку. В первый момент Юджин не знал, на что решиться, но затем подумал, что и секретарь, вероятно, в состоянии помочь ему. Он попросил передать свою карточку и сказал, что объяснит цель своего прихода только секретарю лично. Через несколько минут кто-то вышел к нему; это был один из младших секретарей — молодой человек лет двадцати восьми, полный, невысокого роста, любезный и, по-видимому, добродушный. — Чем могу быть полезным? — спросил он. Юджин уже сформулировал в уме свою просьбу, — ему хотелосьизложить ее просто и кратко. — Я желал бы повидать мистера Уилсона, чтобы узнать, не возьмет ли он меня чернорабочим на какой-нибудь участок своей дороги. Я художник по профессии, но сейчас страдаю неврастенией. Все врачи, к которым я обращался, советуют мне на некоторое время заняться простой физической работой. Я знаю, что мистер Уилсон помог таким образом одному писателю, мистеру Сэйвину, быть может, он не откажет и мне. Услышав имя Сэйвина, младший секретарь оживился. К счастью для Юджина, он читал одну из книг Сэйвина, к тому же подкупающая наружность просителя, его рассказ о больном писателе и несомненная искренность произвели на него впечатление. — Конторской работы вам не смогут предложить, это я точно знаю, — ответил он. — Такие места предоставляются только за выслугу лет. Но вы можете получить работу на каком-нибудь строительном участке, под руководством мастера. Трудно сказать что-нибудь определенное. Однако это очень тяжелый труд. Мистер Уилсон, конечно, не оставит вашей просьбы без внимания. Но я сильно сомневаюсь, — добавил он с сочувственной улыбкой, — достаточно ли вы крепки для такой работы. Кирка и лопата требуют изрядных сил. — Мне кажется, сейчас об этом не стоит беспокоиться, — сказал Юджин с усталой улыбкой. — Я попробую и посмотрю, может быть, она мне поможет. Боюсь, что в моем состоянии это единственное средство. — Он опасался, как бы младший секретарь не раздумал и не ответил категорическим отказом. — Можете вы подождать немного? — спросил тот, внимательно глядя на странного просителя; он решил, что перед ним важная персона, так как Юджин вызвался представить рекомендации от влиятельных лиц. — Разумеется, — сказал Юджин. Секретарь ушел и через полчаса вернулся с письмом в конверте. — По нашему мнению, — сказал он, не скрывая, что президент компании тут ни при чем и он говорит от себя и от имени старшего секретаря, согласившегося с ним, что Юджину надо помочь, — вам лучше всего обратиться в технический отдел. Мистер Хобсен, наш главный инженер, устроит вас. С этим письмом вы, я полагаю, получите то, о чем просите. Юджин воспрянул духом. Он посмотрел на конверт, увидел, что письмо адресовано мистеру Вудрафу Хобсену, главному инженеру, и, не теряя времени на чтение, горячо поблагодарил младшего секретаря и вышел. В вестибюле, в достаточном отдалении от кабинета президента, он вскрыл конверт и обнаружил, что в записке весьма бесцеремонно говорится о нем, как о «м-ре Юджине Витла — художнике временно потерявшем трудоспособность вследствие неврастении» и так далее, «желающем получить работу на каком-нибудь строительном участке. Секретариат президента ходатайствует об удовлетворении просьбы». Прочитав письмо, Юджин понял, что место ему обеспечено. И это навело его на любопытные мысли по поводу расслоения общества. Как чернорабочий он ничто, но, будучи художником, он может получить место чернорабочего. Следовательно, его дарование художника все же чего-нибудь да стоит. Оно дало ему возможность найти себе какое-то прибежище. Юджин с радостью за нее ухватился и несколько минут спустя вручил конверт младшему секретарю главного инженера. Он не был принят никем из заправил, но получил взамен другое письмо, адресованное мистеру Уильяму Хейверфорду, начальнику службы пути, малокровному джентльмену лет сорока, под началом которого, как Юджин узнал не далее чем через полчаса, работало тринадцать тысяч человек. Мистер Хейверфорд внимательно пробежал глазами письмо из конторы главного инженера. Он был очень удивлен странной просьбой Юджина и его внешним видом. Художники — люди странные. Вот, например, этот. В наружности Юджина он заметил какое-то сходство с самим собой. — Художник? — внимательно переспросил он. — И вы хотите поступить к нам чернорабочим? Он вперил в Юджина взгляд зорких, черных, как уголь, глаз, оживлявших его длинное грушевидное лицо. Юджин обратил внимание на его тонкие, белые пальцы и на копну темных волос над высоким бледным лбом. — Неврастения? Мне в последнее время часто приходится слышать о ней, но сам я никогда этой болезнью не страдал. Я нахожу, что когда нервы начинают пошаливать, очень полезно прибегнуть к гантелям. Вы, вероятно, знаете эти штуки? — Да, видел, — ответил Юджин. — Но моя болезнь, пожалуй, слишком серьезна, чтобы ее можно было вылечить такими средствами. Я много путешествовал, но и это не пошло мне на пользу. Мне, должно быть, полезно поработать физически, заняться делом, которое я обязан буду выполнять. Комнатная гимнастика тут не поможет. Вероятно, мне необходимо переменить обстановку. Буду чрезвычайно признателен, если вы возьмете меня на какую-нибудь должность. — Что ж, может быть, вы и правы, — мягко сказал мистер Хейверфорд. — Но только работа поденщика, как вы убедитесь, дело нелегкое. По правде говоря, я не уверен, что вы долго выдержите. Он подошел к карте под стеклом, на которой были изображены все участки железной дороги от Новой Англии до Чикаго и Сент-Луиса, и спокойно заметил: — Я могу вас направить куда угодно — в Пенсильванию, в Нью-Йорк, Огайо, Мичиган, Канаду. — Его палец неторопливо двигался по карте. — В моем распоряжении тринадцать тысяч человек, и они разбросаны чуть не по всей стране. Юджин с изумлением смотрел на него. Какой пост! Какая ответственность! Этот бледный смуглый человек сидит, как механик у распределительного щита, и управляет такой гигантской машиной. — У вас под началом целая армия, — просто сказал он, и мистер Хейверфорд улыбнулся в ответ своей бледной улыбкой. — Советую вам послушаться меня и не бросаться сразу на работу на строительном участке. Вы вряд ли способны сейчас на тяжелый труд. У нас есть тут, под самым городом, в Спионке, небольшая столярная мастерская, которая, по-моему, как нельзя лучше отвечает вашей цели. Она расположена на излучине у впадения одной небольшой речушки в Гудзон. Сейчас лето, и поставить вас на работу под палящим солнцем с партией итальянцев было бы, пожалуй, жестоко. Мой совет: отправляйтесь в Спионк. Там тоже будет достаточно трудно. После того как вы слегка закалитесь, я с удовольствием переброшу вас на другую работу, если вы пожелаете. Денежный вопрос, возможно, не играет для вас большой роли, но вы будете получать определенную плату — пятнадцать центов в час. Я дам вам письмо к мистеру Литлбрауну, инженеру участка, и он позаботится о том, чтобы вы получили соответствующее назначение. Юджин поблагодарил Хейверфорда. Мысленно он улыбнулся замечанию этого человека, что денежный вопрос не играет для него большой роли. Пожалуй, это и в самом деле разумное предложение. Спионк — недалеко от города. Да и по описанию маленькая столярная мастерская, расположенная у речной излучины, понравилась ему. Это место, как он обнаружил, ознакомившись с картами участка, находилось почти в черте города. При желании он может жить в Нью-Йорке, в худшем случае — на окраине его. Последовало новое письмо, на этот раз адресованное мистеру Генри С. Литлбрауну, высокому, хмурому человеку, которого Юджин разыскал два дня спустя в Йонкерсе, в конторе участка; тот, в свою очередь, написал распоряжение мистеру Джозефу Бруксу, начальнику строительства в Монт-Хейвене, а секретарь последнего снабдил Юджина письмом к мистеру Джеку Стиксу, старшему мастеру столярной мастерской в Спионке. В пятницу Юджин вручил его по назначению, и в ответ ему было сказано, что он должен явиться на работу в понедельник в семь утра. Итак, Юджин мог поздравить себя с должностью поденщика. Небольшая мастерская, о которой шла речь, была расположена в чрезвычайно живописном месте. Будь она построена по специальному заказу Юджина, и тогда нельзя было бы придумать ничего лучше. На небольшом мысе между рекой с одной стороны и железнодорожным полотном и маленькой речушкой (которую железная дорога пересекала выше по течению) — с другой стояло длинное приземистое двухэтажное строение с зеленой крышей, с красными стенами и огромным количеством окон, из которых открывался прекрасный вид на проходившие мимо яхты, пароходы и катера, на лодки, стоявшие у причала в небольшой тихой заводи, образуемой речкой. В воздухе звучала настоящая песня труда, так как мастерская была сплошь уставлена строгальными и токарными станками и тисками всевозможных размеров; огромный штат столяров изготовлял здесь столы, стулья, письменные столы — словом, всякую конторскую мебель, снабжая этими изделиями железнодорожные конторы и станции. На втором этаже перед каждым окном стояло по верстаку, а середину помещения занимало несколько машин — маленькая механическая ножовка, поперечная, ленточная и круглая пилы, строгальный станок и четыре или пять токарных. Внизу помещались машинное отделение, кузница, гигантский струг, большая ножовка и большая поперечная пила, склад и шкафы для инструментов. Во дворе высились штабеля лесоматериалов; здесь проходили рельсы, и дважды в день местный товарный поезд, так называемая «кукушка», останавливался чтобы сгрузить лес или принять готовую мебель и прочее. Направляясь к мастерской, чтобы предъявить письмо, Юджин остановился у невысокой аккуратной ограды, прислушиваясь к мелодичному гудению пил и любуясь красивой заводью. «Не может быть, чтобы работа здесь была так уж тяжела», — подумал он. Он видел столяров, выглядывавших из окон верхнего этажа, и двух рабочих в коричневых комбинезонах и свитерах, разгружавших платформу. Они несли на плечах огромные брусья, имевшие в поперечнике три дюйма на шесть. Неужели и ему предложат заняться этим? Едва ли. Мистер Хейверфорд совершенно определенно указывал в своем письме к мистеру Литлбрауну, что Юджина следует нагружать работой постепенно. Перетаскивание тяжелых брусьев представлялось ему не слишком подходящим началом, но письмо он все же передал. Предварительно он оглядел противоположный высокий берег с намерением присмотреть местечко, где он мог бы жить и питаться, но ничего подходящего не увидел. Живописные склоны берега были застроены особняками нью-йоркских богачей, предпочитавших жить за городом, и их не могло интересовать предложение новоиспеченного подсобного рабочего сдать ему на некоторое время комнату со столом. Юджину рисовался уже уютный домик и приятные люди, ибо, как это ни странно, удача с приисканием хотя бы и столь ничтожной работы внушила ему уверенность, что близится конец злополучной полосе в его жизни. Теперь он, очевидно, пойдет в гору. Вот только бы найти пристанище на лето в какой-нибудь тихой семье. Осенью, если его здоровье пойдет на поправку, — а он не сомневался, что так и будет, — он выпишет сюда Анджелу. Возможно, что к этому времени какая-нибудь из комиссионных фирм — братья Потль, Джейкоб Бергман или Анри Ларю — продаст что-нибудь. Полтораста или двести долларов вместе с его заработком дадут им возможность прожить вполне сносно. При изобретательности и бережливости Анджелы, не говоря уже о его собственном вкусе, можно любому уголку придать красивый и благоустроенный вид. Найти комнату было делом нелегким. Юджин по шпалам прошел до поселка, который виден был в отдалении из окон мастерской, и, не найдя ничего заманчивого в смысле месторасположения, вернулся в Спионк и прошел около полумили вверх по берегу речки. Эта разведка доставила ему огромное удовольствие: перед ним открылся полукруг хорошеньких коттеджей, раскинувшихся по склону холма, у подножия которого протекал серебристый ручей. Вдоль излучины реки тянулась дорога, а повыше — вторая. Юджину с первого взгляда стало ясно, что здесь царство преуспевающих средних буржуа, о чем свидетельствовали аккуратно подстриженные лужайки, яркие маркизы над окнами, цветы в синих, желтых и зеленых горшках на террасах и у дверей. Автомобиль, стоявший перед одним из домов, указывал на то, что местное население старается не отставать в своих вкусах от богачей, а летний ресторан по дороге в Нью-Йорк, у маленького моста через речку, говорил о том, что живописное расположение этого поселка не является тайной для любителей загородных прогулок. Ресторан был защищен от солнца тентами, а один из его балконов, уставленный столиками, висел прямо над водой. Юджина охватило желание поселиться в этой местности. Он бродил по поселку в прохладной тени деревьев, заглядывая то в один, то в другой дворик и думая о том, как хорошо было бы с помощью рекомендательного письма получить доступ к кому-нибудь из здешних обитателей. Эти люди должны были бы только радоваться присутствию в своей среде одаренного художника и утонченного человека. То обстоятельство, что он ради восстановления здоровья работает поденщиком на мебельной фабрике или на железной дороге, должно придать ему лишь особый интерес в их глазах. Бродя по поселку, Юджин увидел методистскую церковь своеобразной архитектуры, сложенную из красного кирпича и отделанную серыми каменными плитами. Пока он разглядывал цветную роспись высоких окон и четырехугольную, похожую на крепостную башенку, колокольню, у него мелькнула мысль — не обратиться ли к священнику? Он объяснит ему, чего хочет, покажет рекомендательные письма (Юджин захватил несколько старых писем от редакторов, издателей и художественных фирм) и подробно расскажет, зачем ему понадобилось сюда приехать. Его расстроенное здоровье и репутация художника должны расположить этого человека в его пользу, и тот, возможно, направит его к кому-нибудь, кто не прочь будет принять его к себе в дом. Было пять часов дня, когда он постучался в дверь пасторского домика; его проводили в кабинет пастора — большую комнату, тишину которой нарушало только жужжание мух на затененных шторами окнах. Через несколько минут вошел хозяин — высокий седой мужчина, одетый с суровой простотой и державшийся непринужденно, как человек, привыкший обращаться к большим собраниям. Он хотел уже спросить, чем может быть полезен Юджину, но тот предупредил его: — Вы меня, конечно, не знаете. Я здесь совершенно чужой. По профессии я художник, но с понедельника буду работать в Спионке в железнодорожной мастерской для восстановления своего здоровья. Я страдаю нервным расстройством и намерен временно заняться физическим трудом. Мне хотелось бы поселиться здесь в какой-нибудь приятной семье, и я подумал, что вы, вероятно, знаете кого-нибудь поблизости, кто согласился бы на время приютить меня. Я могу представить самые лучшие рекомендации. Поближе к мастерской ничего подходящего как будто нет. — Она стоит совсем на отлете, — ответил старый священник, внимательно вглядываясь в Юджина. — Я часто думал, как это рабочие соглашаются ездить так далеко. Никто из них здесь не живет. Он испытующе оглядел Юджина и, видимо, остался доволен полученным впечатлением. Судя по всему, это был скромный, серьезный, порядочный молодой человек; все выдавало в нем художника. Ему показалось весьма интересным, что тот избрал для излечения своих нервов такое радикальное средство, как труд поденщика. — Дайте-ка мне подумать, — продолжал он и, опустившись на стул, поднес руку к глазам. — Сейчас трудно что-нибудь сказать. Тут есть много семейств, в чьем доме нашлось бы для вас место, но я очень сомневаюсь, пожелают ли они вас принять. По правде говоря, я даже уверен, что не пожелают. Дайте-ка я еще подумаю. Юджин смотрел на его крупный орлиный нос, косматые седые брови и густые щетинистые седые волосы. Он мысленно уже зарисовывал и его самого, и письменный стол, и тонущие в полумраке стены, и всю уютную затененную комнату. — Нет, — медленно произнес священник, — я ничего не могу придумать. Есть тут одна дама — миссис Хиббердел. Живет она — сейчас соображу, — раз, два, три — десятый дом отсюда, если идти вверх. Недавно к ней переехал ее племянник, молодой человек, приблизительно ваших лет. Больше мне никто не приходит на память. Я далеко не уверен, что она согласится принять вас к себе, но с другой стороны, это вполне возможно. В доме у нее очень просторно. Одно время с ней жила дочь, но она, кажется, уехала. Как будто уехала. Он говорил так, точно думал вслух. При упоминании о дочери Юджин насторожился. После отъезда из Нью-Йорка он ни разу, если не считать Фриды, не имел случая хотя бы отвести душу в разговоре с какой-нибудь женщиной. С ним повсюду неизменно находилась Анджела. А со времени возвращения в Нью-Йорк он жил в таких отвратительных условиях, что ему было не до молодости, не до любви. В сущности, ему и сейчас не следовало бы помышлять об этом, но летний воздух, поселок, утопавший в тени деревьев, а главное — сознание, что у него есть работа, — пусть даже ничтожная, но все же работа, в которой он может быть уверен и которая, несомненно, облегчит его душевное состояние, — все это воскресило его интерес к жизни. Он не пропадет. Он еще поправится. Вот он уже нашел работу. Возможно, что, поселившись в этом доме, он встретит очаровательную девушку, которая его полюбит. Анджелы нет. Он один. Снова к нему вернулась свобода юных дней. Только бы выздороветь и начать работать! Юджин учтиво поблагодарил старого пастора и пошел в указанном направлении. Он узнал дом по описанию: веранда с двумя выступами в виде балкончиков, несколько красных качалок, две желтые жардиньерки у дверей, старый беленый забор и ворота. Он решительно подошел к двери и позвонил. Дверь открыла женщина лет пятидесяти пяти или шестидесяти, совершенно седая, с умным спокойным лицом и ясными голубыми глазами, в руке она держала книгу. Юджин изложил свою просьбу. Она выслушала его с большим интересом, внимательно его оглядывая. Это была интеллигентная женщина, много читавшая, и рассказ Юджина заинтересовал ее. Выслушав его, она сказала: — По правде сказать, я не собиралась сдавать комнату. Но я живу одна с племянником, а в доме свободно можно разместить еще дюжину человек. Я не хочу ничего решать без племянника, но приходите завтра утром, и я дам вам ответ. Мне лично ваше присутствие не помешает. Не знаете ли вы случайно художника по фамилии Диза? — Да, я хорошо его знаю, — ответил Юджин. — Это мой старый друг. — Он, кажется, дружен с моей дочерью. Вы где-нибудь еще справлялись насчет комнаты? — Нет, — ответил Юджин. — Тем лучше, — сказала она. Юджин принял намек к сведению. Значит, дочки здесь нет. Ну что ж, какое это имеет значение? Вид отсюда замечательный. По вечерам можно сидеть в качалке и любоваться рекой. Вечернее солнце, клонившееся к западу, золотило ее воды. Очертания холмов на другом берегу были величаво-безмятежны. Он будет работать поденщиком, хорошо спать и не задумываться над жизнью. Ему представляется возможность поправиться, — теперь у него для этого все условия. Поденщик! Как это оригинально, как красиво, интересно! Он чувствовал себя странствующим рыцарем, попавшим в новую, диковинную страну.Глава 48
Вопрос о комнате в доме миссис Хиббердел разрешился очень быстро. Племянник, молодой человек лет тридцати четырех, добродушный и неглупый, как позднее убедился Юджин, не возражал против того, чтобы пустить жильца. У Юджина создалось впечатление, что дом частично содержится на средства этого человека, хотя миссис Хиббердел и сама была, очевидно, состоятельной женщиной. Юджину отвели во втором этаже уютно обставленную комнату с ванной (ванных комнат было несколько) и предложили пользоваться столовой и гостиной. В доме были книги, рояль (на котором некому было играть), гамак, горничная с неограниченным кругом обязанностей, — словом, во всем чувствовалась атмосфера довольства и покоя. Миссис Хиббердел, много лет назад овдовевшая, обладала большим житейским опытом и кругозором и умела внушать к себе уважение. Она не выказывала особого любопытства и, насколько Юджин мог судить, была тактична и сдержанна. Это не мешало ей понимать шутку и самой шутить — лукаво и умно. Юджин при первом же знакомстве откровенно рассказал ей, что у него есть жена; она живет на Западе и приедет к нему, как только его здоровье немного поправится. Миссис Хиббердел беседовала с ним об искусстве, литературе и о жизни. Музыка, по-видимому, не входила в круг ее интересов, она была к ней равнодушна. Племянник ее, Дэвис Симпсон, был чужд и литературы, и искусства, а музыки совершенно не признавал. Он служил агентом по снабжению в одном универсальном магазине, был тщедушен, франтоват, чтобы не сказать фатоват, с худым лицом (но бодрым, а не изможденным), носил короткие черные усики и интересовался главным образом своим делом, бейсболом и всевозможными развлечениями. Юджину понравились его бесхитростность, прямодушие, доброта и учтивость. Он не отличался ни любопытством, ни навязчивостью, но любил затевать споры на общие темы и при этом довольно удачно острил. Его любимыми занятиями было разводить цветы и ловить рыбу. По утрам и вечерам он возился с цветочными грядками, составлявшими единственное украшение крошечного палисадника позади дома. После той бури, которая бушевала над головой Юджина последние три года, а особенно последние три месяца, он испытывал огромное удовольствие, очутившись в этой атмосфере доброжелательства и покоя. За квартиру спросили всего лишь восемь долларов в неделю, но он прекрасно понимал, что такого домашнего уюта нельзя получить ни за какие деньги. Прислуга заботилась о том, чтобы у него на туалетном столике всегда были свежие цветы. К его услугам была отдельная ванная, свежее постельное белье и полотенца, а по вечерам, сидя на балконе и любуясь рекой, он мог наслаждаться полным отдыхом, не опасаясь быть потревоженным, или же уходить в библиотеку и там читать. Завтрак и обед были для Юджина каждый раз источником подлинного наслаждения. Хотя он вставал без четверти шесть, чтобы успеть принять ванну, позавтракать и попасть к семи часам на работу, миссис Хиббердел к этому времени была уже на ногах. Она привыкла рано вставать. Юджину, при его постоянной усталости, трудно было понять это. Дэвис спускался к столу за несколько минут до ухода Юджина. У него всегда находилось несколько веселых слов, — хмуриться или сердиться было не в его характере. Дела его, каковы бы они ни были, по-видимому, нисколько его не отягощали. Миссис Хиббердел приветливо беседовала с Юджином о его работе, о всяких местных делах и обстоятельствах (поселок, в котором они жили, именовался Ривервуд), о новых событиях в политике, религии, науке и так далее. Иногда она упоминала о своей единственной дочери — она была замужем, жила в Нью-Йорке и время от времени навещала мать. Юджин был в восторге от того, что так удачно нашел себе жилище. Он надеялся понравиться этим людям, чтобы они не раскаивались в своем гостеприимстве, и это ему вполне удавалось. Беседуя о новом жильце, миссис Хиббердел и Дэвис сходились в том, что это милейший человек и что очень приятно иметь его в доме. В мастерской, где Юджин работал и где он попадал в совершенно другой мир, ему удалось создать для себя вполне сносную обстановку, хотя не все у него поначалу шло гладко. В первое утро, например, его поставили на работу с двумя рабочими, чрезвычайно недалекими, как ему показалось, людьми, которых на фабрике звали просто Джон и Билл. Юджину оба они представлялись машинами, — их движения скорее напоминали работу механизмов, чем проявление свободной человеческой воли. Оба были среднего роста (не более пяти футов девяти дюймов) и весили фунтов по ста восьмидесяти каждый. У того, что постарше, была круглая, невыразительная физиономия, весьма напоминавшая яйцо, и густые рыжеватые усы. Один глаз у него был стеклянный, на носу торчали очки, державшиеся на больших оттопыренных ушах с помощью неуклюжих стальных дужек. На голове красовалась старая коричневая шляпа, давно уже превратившаяся в какой-то блин. Звали его Билл Джеффордс, но он откликался также на прозвище «Одноглазый». Его товарищ, Джон — он же Джек — Данкен был одного роста с Биллом и такого же сложения, да и лицо у него было разве лишь чуть выразительнее и благообразнее. Юджину показалось, что он понятливее своего товарища, и даже понимает шутку, но в этом он ошибался. Что же до Джеффордса, то в отношении его такой ошибки даже и возникнуть не могло. Джек Стикс, старший мастер, высокий, угловатый, с рыжей гривой и рыжими усами, с бегающим взглядом голубых глаз и большими руками и ногами, предложил Юджину поработать с этой парой. Он считал, что чужаку здесь не место, и надеялся сразу же отпугнуть его тяжелой работой. Стикс поделился своими соображениями с другим мастером, под началом которого находилась партия чернорабочих-итальянцев, занятых в то утро на лесном складе. — Говорит, приехал к нам для поправления здоровья, — сказал Стикс. — Откуда он, понятия не имею. Мистер Брукс прислал его и велел поставить на работу. Любопытно, как он будет вести себя, если заставить его попотеть как следует. — Смотри только, чтобы он себе чего не повредил, — заметил другой. — На мой взгляд, силенок у него маловато. — Хватит на то, чтобы перетащить несколько брусьев. Если Джимми может их носить, так и он справится. Конечно, долго я его там держать не стану. Юджин ничего этого не знал, но, когда его окликнули: «Ну-ка, новичок, пойдем!» — и подвели к штабелям круглых неотесанных ясеневых колод, шести дюймов в диаметре и восьми футов длиною, мужество изменило ему. Эти колоды он должен был перетащить на второй этаж, а сколько штук, никто ему не говорил. — Снесете к Томсону и сложите там в углу. — угрюмо сказал ему Джеффордс. Юджин неумело взялся тонкими, белыми руками за одну из колод у самой середины. Он не знал, что обращаться с колодами надо так же умеючи, как и с кистью. Он попытался поднять ее, но не мог и только жестоко разодрал себе пальцы о грубую кору. — Раньше чем приниматься за такую работу, не мешает немного поучиться, — сказал Джек Данкен, стоявший рядом и пристально наблюдавший за ним. Джеффордс куда-то отлучился. — Да, я мало понимаю в этом деле, — сконфуженно признался Юджин, ожидая дальнейших наставлений. — Давайте я вам покажу, — сказал его новый товарищ. — Ведь и в этих делах нужна сноровка. Возьмите вот так, за самый конец, и поднимайте, пока не поставите колоду стоймя. Теперь наклонитесь и подставьте плечо под самую середину. Рубаха на плечах у вас подбита ватой? Надо подбить. А теперь вытяните правую руку вперед и положите на колоду. Вот и готово. Юджин выпрямился, увесистая колода легла ему на плечо, совершенно придавив его своей тяжестью. Казалось, она размозжит ему все мышцы; спина и ноги сразу заныли от боли. Он смело двинулся вперед, не подавая и виду, как ему больно, но не успел сделать и пятидесяти шагов, как боль превратилась в пытку. Тем не менее он прошел всю мастерскую, поднялся по лестнице и добрался до окна, где работал Томсон. На лбу у него выступил пот, в ушах стучало. Шатаясь, добрел он до машины и тяжело бросил свою ношу. — Что это ты делаешь? — раздался голос позади него. Это и был Томсон, работавший на токарном станке. — Разве не можешь опустить полегоньку? — Нет, не могу, — с раздражением ответил Юджин; лицо его от страшного напряжения покрылось горячим румянцем. Юджин был удивлен и взбешен тем, что его поставили на такую работу, особенно после уверений мистера Хейверфорда, что его чрезмерно нагружать не будут. Он сразу заподозрил заговор с целью выжить его. Он хотел добавить: «Они слишком тяжелы для меня, черт побери!» — но сдержался и побрел вниз, думая о том, удастся ли ему перетаскать все колоды. Тут он стал возиться со второй, надеясь что боль тем временем утихнет и он вновь соберется с силами. Наконец он поднял вторую колоду и, шатаясь, с трудом взобрался на второй этаж. Мастер поглядывал на него, но молчал. Его забавляли страдания Юджина. «Ничего ему от этого не станется, — размышлял он, — даже на пользу пойдет». — Когда он перенесет четыре штуки, отпусти его, — сказал он, однако, Томсону, чувствуя, что перебарщивать, пожалуй, не стоит. Томсон краешком глаза следил за Юджином, и от него не укрылись страдальческие гримасы на лице новичка, но он только ухмылялся. Когда на пол были сброшены четыре колоды, он сказал: «Пока хватит!» Юджин со вздохом облегчения сердито поплелся вниз. Как всегда нервный, мнительный и возбужденный, он уже вообразил, что станет здесь калекой. Не растянул ли он себе где-нибудь сухожилие, не лопнул ли у него какой-нибудь кровеносный сосуд? «Боже мой, я этого не вынесу, — подумал он. — Если работа и дальше будет такая, придется бросить. Хотел бы я знать, почему они со мной так обращаются? Ведь меня не для этого направили сюда». Ему уже рисовались дни и недели непосильного физического труда. Ничего хорошего из этого не выйдет. Он долго не выдержит. Но тут он представил себе, как опять ищет работу, и эта мысль вызвала страхи другого порядка. «Не надо так легко сдаваться, — убеждал он себя наперекор отчаянию. — Во всяком случае, нужно продержаться еще немного». В этот первый час испытаний Юджин, казалось, очутился между молотом и наковальней. Он медленно спустился во двор, чтобы разыскать Джеффордса и Данкена. Те были заняты погрузкой вагона — один, внутри, принимал материал, а другой снизу подавал. — Слезай, Билл, — сказал Джон, стоявший внизу. — Залезай ты туда, новичок. Как тебя звать? — Витла, — сказал Юджин. — А меня Данкен. Мы будем подавать материал, а ты складывай его. Юджин со страхом увидел, что ему опять предстоит ворочать тяжести — толстые брусья, предназначенные для какой-то стройки, — «четыре на четыре», как называли их рабочие. Но когда ему показали, как нужно действовать, он убедился, что это вовсе не так уж трудно. Существовали разные приемы, позволявшие двигать брусья и держать их в равновесии, не слишком напрягаясь при этом. К несчастью, Юджин, не позаботился запастись рукавицами и исцарапал себе все руки. Когда он остановился, чтобы вытащить занозу из большого пальца, Джеффордс, который опять поднялся наверх, спросил: — У тебя, что ж, нет рукавиц? — Я не думал об этом, — ответил Юджин. — Этак ты себе обдерешь руки. Может, Джозеф одолжит тебе свои на сегодня. Сходи попроси у него. — А где этот Джозеф? — спросил Юджин. — Там, в мастерской. Принимает на струге. Юджин не совсем понял это выражение. Он знал, что такое струг, он все утро прислушивался к его мощному гудению и видел, как с досок летели стружки, но что значит «принимать на струге»? — Где Джозеф? — спросил он строгальщика. Тот кивнул головой в сторону высокого, сутулого рабочего лет двадцати двух. Это был крупный, простоватый парень. Лицо у него было длинное и узкое, широкий рот, водянисто-голубые глаза, взлохмаченные каштановые волосы были густо посыпаны опилками. Фартуком ему служил большой кусок дерюги, подвязанный пеньковой веревкой. На голове торчал старый выцветший шерстяной картуз с длинным козырьком, защищавшим глаза от летевших ему в лицо стружек и опилок. Когда Юджин подошел к нему, он одной рукой прикрывал глаза. — Мне сказали на дворе, что у вас, может быть, найдется пара рукавиц для меня на сегодня, — просительно обратился к нему Юджин. — Я гружу колоды и все руки себе ободрал. Понимаете — забыл купить рукавицы. — Это можно, — благодушно ответил Джозеф, делая знак строгальщику, чтобы тот остановился. — Они у меня там в шкафчике. Знаю я эту работу. Мне тоже пришлось на ней помучаться. Когда я в первый раз сюда явился, они и с меня спустили стружку, как вот сейчас с вас. Но вы не обращайте внимания. Все образуется. Вы ведь здесь для поправки здоровья? Тут не всегда такая запарка, — бывает, что и совсем делать нечего. А потом опять, глядишь, работы подвалит. Что ж, это труд здоровый, должен вам сказать. Я почти никогда не болею. У нас тут воздух свежий и все такое. Продолжая приговаривать, он рылся в карманах под фартуком в поисках ключа; потом открыл шкафчик и, достав пару огромных старых желтых рукавиц, приветливо протянул их Юджину. Тот поблагодарил. Юджин с первого взгляда понравился ему, как и он Юджину. «Славный малый, — подумал Юджин, направляясь обратно к своему вагону. — Подумать только, с какой охотой он дал мне рукавицы. Прямо удивительно! Будь все люди так добры и расположены друг к другу, как этот паренек, до чего легко жилось бы на свете!» Юджин надел рукавицы и сразу убедился, что работать стало легче, так как теперь он мог крепко браться за брусья и доски, не испытывая ни малейшей боли. Он продолжал работу до полудня, когда раздался гудок, а затем, усевшись в стороне, приступил к своей одинокой трапезе. После часа его позвали носить стружки, корзину за корзиной, через кузнечный цех в машинное отделение, где стоял огромный ящик для стружек. К четырем часам дня Юджин успел уже разглядеть всех, с кем ему предстояло встречаться на работе. Кузнец Гарри Форнз — «деревенский кузнец»[50], как прозвал его позднее Юджин, Джимми Садз, его помощник («мальчик на побегушках», по определению Юджина), механик Джон Питерс, Малаки Демси, работавший на огромном строгальном станке, Джозеф Мьюз, целый штат плотников, слесарей, водопроводчиков, маляров, несколько краснодеревщиков, время от времени заходивших на нижний этаж, а также чернорабочие, то появлявшиеся, то снова исчезавшие, — все они с удивлением разглядывали Юджина. Юджин и сам изучал их с большим любопытством. Он всегда интересовался людьми. Особенный интерес возбудили в нем Гарри Форнз и Джимми Садз. Первый — низкорослый американец ирландского происхождения, широкоплечий, с огромными, словно вздутыми бицепсами и квадратным лицом, уверенностью в себе и силой напоминал титана в миниатюре. Он трудился с необычайным усердием, и оглушительные удары его молота далеко разносились по холмам и лощинам. Джимми Садз, его помощник, был такой же низкорослый, как он, грязный, весь какой-то искривленный и узловатый, точно старое дерево; желтые зубы торчали у него изо рта наподобие гнилых пней, уши топорщились, словно маленькие веера, глаза косили, но в лице его было столько благодушия, что безобразие его просто не замечалось. Его все любили, потому что это был честный, прямой человек, совершенно неспособный на лукавство. Пиджак у него был втрое шире его самого, брюки — вдвое, а башмаки он, по-видимому, приобрел у старьевщика. Зато Джимми обладал одним огромным достоинством — он был живописен. Юджин был очарован им, а тут он еще убедился, что Джимми Садз искренне верит, будто в окрестностях Буффало в штате Нью-Йорк можно охотиться на бизонов[51]. Кроме них, внимание Юджина привлек механик Джон Питерс. Он был неимоверно толст и поэтому получил прозвище «Джон-Бочка». Это был не человек, а слон в образе человеческом. Ростом шесть футов, он весил свыше трехсот фунтов. Когда он стоял в летние дни в жарком машинном отделении, скинув верхнюю рубаху и спустив подтяжки, весь в огромных складках жира, выпиравших сквозь тонкую нижнюю фуфайку, можно было подумать, что он невыносимо страдает. В действительности же это было совсем не так. Джон ко всему относился философски. Обычно он часами простаивал в тени, в дверях машинного отделения, и глядел на сверкающие воды реки, нет-нет да и приговаривая, что хорошо было бы не работать, а целый день полеживать да спать. — Эти молодчики, надо полагать, чувствуют себя недурно, вишь, сидят себе на палубе и раскуривают сигары, — сказал он однажды Юджину, когда мимо них проплыла нарядная яхта. — Еще бы! — отозвался Юджин. — Хо-хо-хо! Вот житье, так житье! Я бы тоже не прочь поплавать на такой яхте. Хо-хо-хо! Юджин весело расхохотался. — Да, это жизнь! — сказал он. — От этого никто бы не отказался. Малаки Демси, работавший на огромном струге, был унылый, неразговорчивый малый, что объяснялось полным отсутствием у него всяких мыслей. К тому же такая необыкновенная молчаливость была для Демси вернейшим средством избежать земных напастей. Подобно устрице, он прятался от всяких зол, наглухо закрывая створки своей раковины. Юджин очень скоро это понял и, случалось, подолгу смотрел на этого человека, думая о том, какое любопытное явление он собой представляет. Надо заметить, однако, что Юджин и сам представлял любопытное зрелище для окружающих — даже в большей мере, чем они для него. Он не был похож на простого рабочего, и никто никогда не смешал бы его с ними. Слишком высоко парили его мысли, слишком много проницательности и огня было в его взгляде. Он смеялся над собой в душе, когда корзинами носил стружки из строгальной, где они сыпались дождем и откуда, за отсутствием отсасывающей трубы, приходилось перетаскивать их на плечах в жаркое машинное отделение — в царство Джона-Бочки. Последний проникся большой симпатией к Юджину, но это было расположение такого рода, какое пес чувствует к своему хозяину. Мысли этого человека вертелись в узком кругу — паровая машина, садик, жена, дети и трубка. Это, да еще сон, составляло единственную его радость, его отдых, весь его мир.Глава 49
Прошло много дней — в общей сложности три месяца, — и за это время Южин получил совершенно новое представление о мире повседневного труда. Ему и раньше приходилось работать в подобных условиях, но его жизненный опыт в Чикаго был лишен того проникновения в глубь вещей, которое пришло к нему позднее. Раньше для него оставалась непонятной иерархия власти на земле да и во всей вселенной. Мир казался ему каким-то хаосом. Здесь же, встречая людей невежественных, стоящих на очень низком уровне развития, управляемых людьми более искушенными и подчас, как он подозревал, злонамеренными (впрочем, насчет этого у него не было полной уверенности), а главное, более сильными, подчинявшими слабых своей воле, — Юджин пришел к выводу, что и при этой системе существует возможность, хотя бы в самых грубых чертах, организовать жизнь более или менее удовлетворительно. Правда, и здесь шла борьба за первенство. Как и везде, люди стремились добиться тех привилегий и почестей, которые связаны с руководством и властью — пусть даже в таких мелочах, как укладка лесных материалов, строгание досок, изготовление столов и стульев, и ревниво отстаивали свое превосходство, но только это была ревность того рода, которая не мешает, а способствует достижению разумной цели. Все стремились делать работу осмысленно, не тупо. И гордились, при всем своем невежестве, тем, что было в них лучшего, а не худшего. Они могли жаловаться на свою работу, огрызаться друг на друга, огрызаться на своих начальников, но все это в конце концов объяснялось тем, что они не в состоянии были — или им не давали — выполнять работу более высокого порядка или осуществлять распоряжения более высокого разума. Каждый из них стремился делать свое дело возможно лучше, возможно совершеннее и добиться тех почестей и наград, какие влечет за собой выполняемая в совершенстве работа. Если же они не получали вознаграждения в соответствии с тем, как сами оценивали свой труд, это вызывало у них гнев, протест, ропот и обиду, но каждый из них по-своему, пусть ощупью и догадкой, стремился к осмысленной, разумной деятельности. Не так еще много времени прошло после того, как кончились его невзгоды, чтобы Юджин мог забыть о них; не было у него также уверенности в том, что дарование живописца вернется к нему. Все это нередко отражалось на его настроении, хотя он таил свои горести про себя. Только эта мысль, а с нею перспектива бедности и неизвестности страшила его: время шло, молодость уходила. Но когда Юджин не думал об этом, он производил впечатление довольного человека. Более того, он умел притворяться таким и тогда, когда на душе у него скребли кошки. Благодаря тому, что он не был постоянной частицей этого мира тяжелого труда, а также и потому, что ему нечего было бояться потерять место, предоставленное в виде особой любезности, он испытывал чувство превосходства над рабочими. Он старался не обнаруживать это чувство, а наоборот, всячески его скрывал, но ни сознание исключительности своего положения, ни безразличие ко всяким мелочам, волновавшим других, никогда не оставляли Юджина. Он бегал взад и вперед, таская корзины со стружками, шутил с «деревенским кузнецом», дружил с Джоном-Бочкой, с Малаки Демси, с коротышкой Джимми Садзом, одним словом, со всеми, кто готов был принять его дружбу. Однажды во время полуденного перерыва он взялся за карандаш и нарисовал Гарри Форнза у наковальни с поднятым молотом, его помощника Джимми Садза на заднем плане и горн, в котором пылал огонь. Форнз глянул через его плечо и едва поверил своим глазам. — Что это ты делаешь? — с удивлением спросил он. Юджин рисовал за столом, у окна, в которое струилось яркое солнце, и поглядывал на блестевшую вдали реку. Он уже поел — он успел обзавестись коробкой-бутербродницей и приносил с собой вкусные завтраки миссис Хиббердел — и, подкрепившись, сидел, лениво раздумывая о красоте пейзажа, о необычайности своего положения, о любопытных вещах, которые наблюдал в мастерской, — обо всем, что приходило ему в голову. — А вот увидишь, — благодушно ответил он, так как они с кузнецом были большие друзья. Кузнец продолжал смотреть с интересом и, наконец, воскликнул: — Ба, да ведь это я! Верно? — У-гу! — отозвался Юджин. — А куда ты эту штуку денешь, когда кончишь? — с жадным любопытством спросил кузнец. — Отдам тебе, а то что ж еще! — Да ну? Вот спасибо! — ответил восхищенный кузнец. — Женато как обрадуется! Ты ведь, говорят, художник? Я слыхал от ребят. А мне, знаешь, никогда не случалось видеть настоящего художника. Вот здорово, прямо замечательно. Вылитый я, верно? — Да, похож, — спокойно ответил Юджин, продолжая рисовать. Подошел помощник кузнеца. — Ты что делаешь? — спросил он. — Картину рисует, простофиля ты этакий, не видишь, что ли? — авторитетным тоном сообщил ему кузнец. — Ну, куда лезешь? Не мешай. — А кто ему мешает? — раздраженно отозвался помощник кузнеца. Джимми сразу стало ясно, что начальство пытается в этот исторический момент оттеснить его на задний план, но он твердо решил не поддаваться. Кузнец сердито глянул на него, но слишком уж интересно было следить за тем, как подвигается у Юджина работа, и он не стал настаивать, так что Джимми получил возможность подойти совсем близко и, в свою очередь, посмотреть. — Хо-хо-хо! Да ведь это никак вы? — с горячим любопытством спросил он кузнеца, указывая большим грязным пальцем на рисунок. — Не мешайся, — ответил тот высокомерно. — Конечно, я. Говорю, не налезай! — А это я? Хо-хо-хо! Вот здорово! И каким я здесь молодцом. А что, нет? Хо-хо-хо! Маленький помощник кузнеца радостно осклабился, рот его растянулся до ушей. Он необращал ни малейшего внимания на окрики начальства. — Если ты будешь хорошо вести себя, Джимми, — весело сказал Юджин, не отрываясь от работы, — я, пожалуй, и тебя как-нибудь нарисую, отдельно. — Ну? Неужели нарисуешь? Брось шутить! Нет, ей-богу, вот это будет дело! Хо-хо-хо, что ты скажешь на это? Небось, там на родине меня и не узнают. А уж как мне хотелось бы иметь такую штуку. Юджин улыбался. Кузнец был огорчен. Такое разделение почестей было ему не по душе. Но так или иначе, а его собственный портрет вышел прекрасно. И кузница тоже. Юджин продолжал работать, пока не раздался гудок. Когда захлопали передаточные ремни и загудели маховики, он встал. — Ну, вот и готово, Форнз, — сказал он. — Нравится? — Чего лучше, черт возьми! — ответил тот и понес набросок в свой шкафчик. Немного спустя он, однако, достал его оттуда и повесил на стене, против горна, чтобы все видели. Это было для него целое событие. Набросок Юджина тотчас же сделался темой самых оживленных обсуждений. Он, оказывается, художник, он умеет рисовать картины, — уже одно это было необычайной новостью. К тому же сходство разительное, — и Форнз, и Садз, и кузница вышли как живые. Всех разбирало любопытство и зависть. Все отказывались понимать, почему кузнецу такое предпочтение. Почему Юджин не нарисовал их сначала? И сейчас не предлагает нарисовать? Первым явился Джон-Бочка, которого Джимми Садз успел уже обо всем оповестить и привести лично. — Ну и ну! — воскликнул он, еще больше выкатив свои рачьи глаза. — Вот это класс, а? И как вы похожи, Форнз! Провалиться мне, если не похожи. А Садз-то! Убей меня бог, ежели это не Садз! Ведь это же ты, чучело! Как живой! Будь я проклят, коли вру! Вот здорово! Сберегите эту штуку, кузнец. — Я и сберегу, — гордо ответил тот. Джон-Бочка с сожалением вернулся к себе в машинное отделение. После него явился Джозеф Мьюз, сутулый и по-утиному качающий на ходу головой. — Нет, что вы скажете! — воскликнул он. — Вот красота! Да он рисует нисколько не хуже тех, которых во всяких там журналах печатают. Я иногда смотрю эти штуки. Прямо замечательно! Вы только поглядите на Садза, там, сзади. Ну, Садз, это тебе повезло, ей-ей! А теперь ему бы и нас нарисовать. Хуже мы, что ли? Чем вы можете перед нами похвастать, а? — Как же, станет он возиться с вами, рисовать всякий сброд! — добродушно ответил кузнец. — Он только стоящих людей рисует. Не забывай этого, Мьюз. Ему нужны настоящие ребята, каких не жаль и нарисовать, а не такие, как вы, несчастные строгальщики и пильщики! — Ну уж нет, не скажи, — презрительно отозвался Джозеф, в котором под действием этой перепалки заговорило чувство юмора. — Если он искал стоящих ребят, нечего было ходить сюда. Настоящие ребята там — снаружи. Не советую тебе забывать это, кузнец. И никогда я не видал, чтобы они водились в кузницах! — Эй, вы, потише! — крикнул Садз, занявший наблюдательный пост в дверях. — Старшой идет! Джозеф сделал вид, будто направляется в машинное отделение попить воды, а кузнец — будто ему необходимо раздуть пламя в горне. В мастерскую, не торопясь, вошел Джек Стикс. — Это кто рисовал? — спросил он, окинув взглядом помещение и заметив набросок на стене. — Мистер Витла, новичок, — почтительно ответил кузнец. — Здорово сделано, а? — сказал мастер довольным тоном. — Картина хоть куда. Выходит, он художник? — И мне думается, что так, — вкрадчиво сказал кузнец, всегда старавшийся ладить с начальством. Он подошел к мастеру и, став рядом, добавил: — Он эту штуку в перерыв за полчаса нарисовал. — Вишь ты! А ведь славно! — И мастер в раздумье пошел своей дорогой. Если Юджин умеет делать такие вещи, то зачем он здесь? Не иначе, как из-за расстроенного здоровья. И он, пожалуй, дружен с кем-нибудь из большого начальства. Надо быть с ним полюбезнее. До сих пор мастер относился к новичку с чувством опасливой подозрительности, этот человек был для него загадкой. Кто его знает, зачем он здесь — может, подослан за ним шпионить? Теперь же он подумал, что, вероятно, ошибался. — Не давайте новичку слишком тяжелой работы, — сказал он Биллу и Джону. — Он еще недостаточно окреп. Ведь его прислали к нам для поправки здоровья. Его распоряжение было выполнено, так как спорить с мастером не полагалось, но это откровенное заступничество было единственным, что могло повредить популярности Юджина. Рабочие не любили мастера. И Юджин пользовался бы большей симпатией, если бы мастер меньше благоволил к нему или был настроен определенно против него. Последовавшие за этим дни хотя и были тяжелыми для Юджина, все же принесли ему душевный покой; вскоре он обнаружил, что постоянно кипевшая здесь работа, в которой он нес свою долю участия, отражалась на нем благотворно. Впервые за многие годы он стал хорошо спать. По утрам, незадолго до семичасового гудка, он надевал свой синий рабочий комбинезон и фуфайку и до полудня, а потом с часу до шести таскал стружки и щепки, складывал пиломатериалы, помогая рабочим на дворе, грузил и разгружал вагоны и вместе с Джоном-Бочкой поддерживал огонь в топках. На голове у него была старая шляпа — миссис Хиббердел нашла ее в чулане, — мягкое коричневое сомбреро, немало перевидавшее на своем веку. Он напяливал ее на голову, лихо надвигая на одно ухо. У него были большие желтые рукавицы, которые он не снимал весь день, сильно изношенные и измятые, но вполне еще пригодные для работы в мастерской и на дворе. Он научился совсем неплохо расправляться с пиломатериалами, искусно складывал бревна, «принимал со струга», за которым стоял Малаки Демси, работал на механической ножовке и выполнял всякие другие поручения. Его энергия была неистощима, потому что он устал от дум и надеялся физическим трудом заглушить и преодолеть в себе мысли об утрате своего таланта, надеялся забыть о том, что не сможет больше писать, что его карьера художника загублена. Юджина самого удивляли и радовали сделанные им наброски, так как еще недавно первой его мыслью было бы, что ничего у него не выйдет. Благодаря живому интересу рабочих и выпавшим на его долю похвалам он сделал эти рисунки шутя, и, как ни странно, сам находил их удачными. Дома перед обедом он снимал рабочий комбинезон и, приняв холодный душ, надевал новый коричневый костюм, купленный в магазине готового платья; он решился истратить на него восемнадцать долларов, так как имел теперь верный заработок. Ему нелегко было отлучаться из мастерской за какой-нибудь покупкой, поскольку заработная плата (пятнадцать центов в час) полагалась только за фактически проработанное время. Свои картины он сдал на хранение в Нью-Йорке, но не мог съездить туда (или, вернее, не хотел терять время), чтобы заняться их продажей. Он узнал, что может отлучиться в любую минуту, не вызывая никаких расспросов, — придется только пожертвовать заработком, — но если ему хотелось сохранить плату, то для отпуска требовалась серьезная причина. Внешний вид его — вечером, по возвращении с работы в шесть тридцать, и в воскресные дни — был весьма привлекателен. Он производил впечатление человека воспитанного, чрезвычайно выдержанного и даже изысканного, а в тех случаях, когда ни с кем не разговаривал, — немного печального. Его грызла тоска и тревога, он чувствовал себя выбитым из колеи. Дома ему было скучно. Как и в Александрии, до встречи с Фридой, он тосковал по обществу молодых девушек. Где-то сейчас Фрида, думал он, что она делает? Не вышла ли замуж? Как жаль, если вышла. О, если бы жизнь послала ему такую девушку, как Фрида, — такую юную, прекрасную! Когда спускалась ночь, Юджин подолгу сидел, глядя на озаренную луною реку, — созерцание природы было его единственным утешением, — и мечтал. Как красиво все вокруг! Как прекрасна жизнь — и этот поселок, и деревья в летнем уборе, и мастерская, где он работает, и река, и Джозеф, и коротышка Джимми, и Джон-Бочка, и звезды. О, если бы снова начать писать, снова полюбить! Любить! Любить! Разве может что-нибудь сравниться с тем счастьем, какое приносит любовь! Весенний вечер, воздух, напоенный благоуханием, — как вот сегодня, — темные деревья, склонившие верхушки; или призрачные сумерки, пронизанные серебряными, зеленоватыми и оранжевыми бликами, ласковый шепот ветерка, отдаленное кваканье лягушек — и девушка. Боже мой! Что может быть прекраснее этого? И какое значение имеет все остальное? Девушка — ее нежные юные руки обвиваются вокруг вашей шеи, ее губы прижались к вашим губам в упоении чистой любви, ее глаза поблескивают во мраке, как два светлых озера! Так было еще совсем недавно с Фридой и когда-то с Анджелой. И как давно он пережил это со Стеллой! Милая, славная Стелла, как она была прелестна! А теперь он здесь, он болен и одинок, он женат на Анджеле, она скоро приедет, и… Он вставал, чтобы прогнать эти мысли, брался за книгу, расхаживал по террасе или шел спать. У него было тоскливо на душе, мучительно тоскливо. Где бы Юджин ни находился, для него существовала лишь одна радость — весенняя пора и любовь.Глава 50
В те дни, когда Юджин, живя словно в полусне, работал, мечтал, фантазировал, в Ривервуд приехала к матери Карлотта Уилсон — миссис Норман Уилсон, как ее называли в том мире, где она вращалась. Это была высокая брюнетка тридцати двух лет, красивая, изящная женщина английского типа, знавшая людей не только благодаря природному уму и ярко выраженному чувству юмора, но и на основании житейского опыта — иногда горького, показавшего ей и блеск жизни и ее изнанку. Начать хотя бы с того, что Карлотта была женою игрока, игрока-профессионала, одного из тех субъектов, которые, изображая джентльменов и действительно сходя за таковых, пользуются этим, чтобы беспощадно обирать своих неосторожных партнеров. Карлотта Хиббердел познакомилась с ним на скачках в Спрингфилде, куда приехала с отцом и матерью. Уилсон случайно был в этом городе по какому-то делу. Отец Карлотты, агент по продаже недвижимого имущества, одно время довольно преуспевавший, интересовался скаковыми лошадьми, и за его конюшней числилось несколько рекордов, правда, не мировых. Норман Уилсон тоже выдавал себя за агента по продаже недвижимости и довольно удачно провел несколько весьма крупных сделок с земельными участками, но главным его искусством и основой его благосостояния была игра. Ему были известны все возможности, какие предлагает город для азартных игр, он имел обширный круг знакомых, среди тех, кто увлекается игрой, — мужчин и женщин, как в Нью-Йорке, так и в других городах, — и его удача или искусство временами бывали поистине феноменальны. Но случалось, что его упорно преследовали неудачи. Были периоды, когда он мог позволить себе жить в самых роскошных квартирах, есть в лучших ресторанах, посещать самые дорогие загородные клубы и всячески развлекаться в обществе друзей. Но вдруг наступала полоса невезения, и Уилсон проигрывался в пух, но так как он упорно цеплялся за прежний образ жизни, то приходилось влезать в долги. Как и все игроки, он был до некоторой степени фаталистом и упрямо не сдавался, веря, что счастье вновь улыбнется ему. И так и случилось, потому что, когда положение становилось особенно затруднительным, его мозг начинал усиленно работать, и всегда находился какой-нибудь способ вывернуться. Система его заключалась в том, что он, как паук, плел паутину и ждал, пока в его сети не залетит какая-нибудь неосторожная муха. Когда Карлотта Хиббердел выходила за него замуж, она не знала за своим пылким возлюбленным ни этого редкого таланта, ни его тайной пагубной страсти. Как и все люди его типа, он был нежен, вкрадчив, настойчив и страстен. Было что-то кошачье в его манерах, и это, как магнит, влекло ее к нему. Она не могла понять его в то время — да в сущности не понимала и позднее. Распутные повадки, которые она стала замечать за ним — и не только по отношению к себе, но и по отношению к другим женщинам, — изумляли Карлотту и вызывали в ней чувство гадливости. Она убедилась, что он эгоист, самодур, что это черствый, скучный, ограниченный человек, недалекий во всем, что выходит за пределы его специфического мирка. Когда у него водились деньги, он не отказывал себе ни в чем, что в его глазах способствовало украшению жизни, но Карлотта обнаружила, к своему прискорбию, что у него на этот счет самые превратные понятия. В обращении с нею и с другими он был высокомерен и покровительственно-снисходителен. Его напыщенная речь временами приводила ее в бешенство, временами забавляла. И когда страсть прошла, Карлотта за всем его позерством разгадала низкие мотивы и поступки, и на смену влюбленности пришло равнодушие, а затем и отвращение. Она стояла достаточно высоко по своему умственному уровню, чтобы не вступать с ним в частые пререкания, и была настолько равнодушна к жизни в целом, что ничто не могло огорчить ее по-настоящему. Единственной ее мечтой был идеальный возлюбленный, а так как она горько разочаровалась в муже, то и стала осматриваться в поисках такого идеального мужчины. В доме у них бывали всякие люди — игроки, светские хлыщи, специалисты горного дела, биржевики. Иногда они приходили с женами, иногда без них. От этих людей, а также от мужа и благодаря собственным наблюдениям Карлотта узнала о всякого рода мошеннических проделках, неравных браках, любопытных случаях несходства характеров и половых извращений. Она была хороша, изящна, проста в обхождении, а потому открытым предложениям и намекам — прямым и косвенным — не было конца. Она давно уже к этому привыкла. Поскольку муж изменял ей с другими женщинами и не стеснялся это афишировать, она не видела оснований избегать других мужчин. Любовников она выбирала осторожно, с большим вкусом, начав после долгих колебаний с человека, который ей очень нравился. Она искала в мужчине чуткости и утонченности чувств в сочетании с некоторой одаренностью, которая возвышала бы его над другими, а таких людей найти было нелегко. Подробный перечень ее связей был бы здесь неуместен, но надо сказать, что они наложили на нее известный отпечаток. Внешне Карлотта почти ко всем и всему проявляла полное безразличие, хотя хороший анекдот или шутка всегда вызывали у нее искренний смех. Книги ее не интересовали, за исключением немногих романов реалистической школы, произведений совершенно особого порядка, о которых она говорила, что их следует издавать только для ограниченного круга читателей. Искусство — настоящее, высокое искусство — обладало для нее необычайно притягательной силой. Она восхищалась картинами Рембрандта, Франса Гальса, Корреджио и Тициана и — с меньшим разбором, скорее с точки зрения чувственности — любовалась нагими женщинами Кабанеля, Бугро и Жерома. В произведениях этих художников она видела действительность, украшенную богатым воображением. Люди вообще интересовали ее: странности их ума, их извращенные наклонности, лживость, увертки, притворство и страхи. Карлотта знала, что она женщина опасная, и двигалась тихо, по-кошачьи, с полуулыбкой на лице, несколько напоминавшей улыбку Моны Лизы, но меньше всего думала о себе — в ней было слишком много смелости. Вместе с тем она была снисходительна к чужим слабостям, великодушна до крайности и очень щедра. Когда ей говорили, что она чересчур далеко заходит в своей неразборчивости, она отвечала: — А почему бы и нет? Мне ли судить других? Ее теперешний приезд домой объяснялся тем, что между нею и мужем произошел разрыв. Он по каким-то соображениям должен был уехать в Чикаго, — главным образом потому, как подозревала Карлотта, что дальнейшее пребывание в Нью-Йорке было для него небезопасно. Но так как Карлотта и слышать не желала об этом городе, да и общество мужа ей претило, она отказалась сопровождать его. Он приходил в ярость, подозревая ее в неверности, но ничего не мог сделать. Карлотте он был совершенно безразличен. К тому же она располагала другими источниками материальных благ помимо него или же могла в любое время ими обзавестись. Уже несколько лет один богатый еврей не давал ей покоя, убеждая добиться развода и выйти за него замуж. Его автомобиль и состояние были к ее услугам. Но она удостаивала его лишь самых ничтожных милостей. Сплошь и рядом он вдруг звонил ей и спрашивал, нельзя ли приехать за ней на машине. У него их было три. Большинство его предложений она отклоняла с равнодушным видом. «К чему?» — был ее излюбленный ответ. Случалось, что и у ее мужа бывал собственный автомобиль. Она имела возможность пользоваться машиной, когда ей было угодно, одеваться, как ей нравилось, ее приглашали на интересные загородные прогулки. Миссис Хиббердел были прекрасно известны и не совсем обычные взгляды Карлотты, и ее семейные нелады, и ссоры, и склонность к флирту. Она всеми силами старалась сдержать дочь, заботясь о том, чтобы та сохранила за собой право добиться развода, а затем снова вышла замуж, на этот раз удачно. Норман Уилсон не хотел, однако, расстаться с ней по доброй воле, хотя было очевидно, что в их супружеском разладе он виноват больше, чем она. И если бы Карлотта скомпрометировала себя, пропала бы всякая надежда принудить его к разводу. Миссис Хиббердел подозревала, что дочь уже скомпрометировала себя, но трудно было сказать что-либо с уверенностью. Карлотта была слишком изворотлива. Во время семейных сцен муж не раз обвинял ее в измене, но эти обвинения объяснялись его ревнивым характером. На самом деле он ничего не знал. Карлотта слыхала про Юджина. Как художник он был ей неизвестен, но сдержанные упоминания матери о его присутствии в доме, то, что он был художником, а теперь работал простым рабочим для восстановления здоровья, — все это пробудило в ней интерес. Она предполагала на время отсутствия мужа отправиться в Нарагансет с компанией знакомых, но решила заехать сперва на несколько дней домой, чтобы составить себе мнение о Юджине. Узнав об этом решении, миссис Хиббердел почувствовала, что любопытство дочери задето, и, надеясь расхолодить ее, заметила как бы вскользь, что ее жилец, вероятно, скоро уедет, — к нему возвращается жена. Карлотта расслышала в этих словах желание воспротивиться ее планам и помешать ее знакомству с интересным человеком. Тем более решила она настоять на своем и поехать к матери. — У меня нет никакого желания ехать в Нарагансет, — заявила она. — Я устала. Норман меня совсем издергал. Я, пожалуй, приеду домой на недельку. — Хорошо, — сказала миссис Хиббердел. — Только, пожалуйста, веди себя осторожно. Этот мистер Витла, по-видимому, очень порядочный человек, и он любит свою жену. Так что не вздумай с ним кокетничать, а то я немедленно предложу ему съехать. — Ах, к чему эти разговоры! — раздраженно отозвалась Карлотта. — Будь хоть сколько-нибудь справедлива ко мне. Я вовсе не для того еду, чтобы знакомиться с ним. Я тебе говорю, я устала. Но если ты против, я не приеду. — Дело не в этом. Я, разумеется, буду тебе рада. Но ты ведь немножко знаешь себя. Как можешь ты добиться свободы, если не будешь осмотрительна? Ведь ты… — О боже мой, опять эти проповеди! — рассердилась Карлотта. — Что толку начинать все сначала? Мы уже тысячу раз обо всем переговорили, но что бы я ни сделала, куда бы ни поехала, ты непременно поднимаешь шум. Я тебе говорю, что еду домой только для того, чтобы отдохнуть и ничего больше. Почему ты всегда стараешься испортить мне настроение? — Но послушай, Карлотта, ведь ты сама прекрасно знаешь… — Ах, оставь, пожалуйста. Я не поеду! Ко всем чертям Ривервуд! Поеду в Нарагансет. Как мне надоели твои нравоучения! Миссис Хиббердел посмотрела на свою высокую, изящную, красивую дочь и, вопреки владевшему ею раздражению, залюбовалась этой прелестной женщиной. Будь она благоразумна и осторожна, какую блестящую роль играла бы она в обществе! Цвет ее лица напоминал старую, чуть розоватую слоновую кость, губы — сочную малину, в больших голубовато-серых, широко расставленных глазах было столько ласки и доброты… Какая жалость, что она с самого начала не вышла замуж за какого-нибудь солидного, достойного человека. Но быть связанной с этим игроком, — хотя они и жили на довольно широкую ногу, в роскошной квартире в западной части Сентрал-парка, — какое несчастье! И все же это лучше, чем бедность или позор, а ведь можно ожидать и того и другого, если Карлотта не будет осторожна. Миссис Хиббердел хотела, чтобы дочь приехала в Ривервуд, так как ее общество было ей приятно, но она хотела также, чтобы Карлотта прилично вела себя. Оставалось надеяться на Юджина. Судя по его манерам и речам, он, несомненно, человек очень тактичный. Миссис Хиббердел уехала в Ривервуд, и Карлотта, едва сгладилось впечатление от ссоры, последовала за матерью. Когда она приехала, Юджин был на работе, и она не видела, как он возвратился домой. На нем было его старое сомбреро, в одной руке он нес кожаную сумку для завтрака и весело размахивал ею. Он прошел прямо к себе, принял ванну, а затем, в ожидании обеда, вышел на террасу. Миссис Хиббердел находилась в своей комнате на третьем этаже, а «кузен Дэйв», как Карлотта называла Симпсона, копался в саду. Сгущались сумерки. Юджин сидел, погруженный в размышления о красоте окружающего мира, о своем одиночестве, о товарищах по работе, об Анджеле и о многом другом, когда решетчатая дверь отворилась и вошла Карлотта. На ней было домашнее платье из синего шелка в крапинку, с короткими рукавами, отделанными, как и ворот, суровым кружевом. Платье мягко обтягивало ее красивую фигуру, которая поражала своей пропорциональностью. Волосы, заплетенные в толстые косы, лежали на затылке, подхваченные коричневой сеткой с блестками. Вид у нее был задумчивый, держала она себя просто и казалась ко всему безучастной. Юджин встал. — Я, наверное, мешаю вам? Садитесь, пожалуйста, сюда. — Нет, благодарю вас. Я сяду здесь, в углу. Но разрешите мне сперва представиться, раз никого нет, кто бы это сделал за меня. Я — миссис Уилсон, дочь миссис Хиббердел. А вы — мистер Витла? — Да, я мистер Витла, — с улыбкой ответил Юджин. В первую минуту Карлотта не произвела на него особого впечатления. Она показалась ему очень милой и, по-видимому, неглупой, правда, немного старше того возраста, в каком женщины обычно интересовали его. Она села и стала глядеть на реку. Юджин снова молча опустился в качалку. У него не было желания разговаривать. Все же смотреть на эту женщину было приятно. Ее присутствие как бы осветило все вокруг. — Я с большим удовольствием приезжаю сюда, — решилась наконец Карлотта прервать молчание. — В городе невыносимо душно. Я думаю, немногие еще знают про это местечко. Оно как-то в стороне. — Мне здесь очень нравится, — сказал Юджин. — Я так отдыхаю. Что бы я стал делать, если б ваша матушка не приютила меня? При моем теперешнем занятии нелегко найти квартиру. — Я бы сказала, что вы избрали довольно утомительный способ для восстановления здоровья, — заметила она. — Черная работа — это, наверно, очень трудно. Вам она не в тягость? — Нисколько. Я доволен. Работа занятная и не такая уж трудная. Все это ново для меня и потому кажется легким. Мне нравится, что я поденщик, что я среди рабочих. Одно меня беспокоит — здоровье, оно в таком скверном состоянии. Ужасно неприятно болеть. — Еще бы! — ответила она. — Но, возможно, работа снова поставит вас на ноги. Все мы склонны преувеличивать наши невзгоды — со мной по крайней мере всегда так бывает. — Спасибо за утешение, — сказал он. Она не смотрела на него; он продолжал молча раскачиваться. Наконец гонг возвестил обед, миссис Хиббердел спустилась из своей комнаты, и все пошли в столовую. За обедом разговор зашел о работе Юджина, и тот со всеми подробностями стал описывать Джозефа, и Билла, и Джона-Бочку, и маленького Садза, и кузнеца Гарри Форнза. Карлотта слушала с большим вниманием, стараясь, однако, не показывать этого. Все в Юджине ей нравилось и казалось каким-то особенным — его худощавая фигура и тонкие руки, его темные волосы, черные глаза. Ей нравилось, что он утром одевается в платье рабочего, целый день проводит в мастерской и, несмотря на это, появляется к обеду в таком безукоризненном виде. У него были непринужденные манеры, а в движениях, как будто бы сонных, чувствовалась какая-то стремительная сила. Его присутствие вносило в дом живую струю. С первого же взгляда угадывалось, что он художник и, по всей вероятности, талантливый. Юджин ничего не говорил о своей профессии, он старательно избегал всяких разговоров на эту тему и только внимательно слушал. У Карлотты было ощущение, что он изучает ее и всех остальных, и от этого она становилась еще оживленнее. «Вот мужчина, с которым приятно было бы познакомиться поближе», — неоднократно мелькало у нее в голове. Карлотта жила в доме матери десять дней; но, несмотря на то что Юджин уже на третий день стал встречать ее не только за обедом (что было вполне естественно), но и за завтраком (что несколько его удивило), он не уделял ей большого внимания. Она была мила, бесспорно, но Юджин мечтал о женщине совсем иного типа. Он находил ее исключительно приятной и очень любезной собеседницей; его восхищали ее умение одеваться и ее красота, он присматривался к ней с большим интересом и думал о том, какой жизнью она живет. Из обрывков разговоров, которые ему приходилось слышать, он сделал вывод, что она довольно состоятельна. Были упоминания о квартире в западной части Сентрал-парка, где, по-видимому, велась крупная игра, об автомобильных прогулках, о ложах в театре и о людях, — очевидно, близких знакомых, — зарабатывавших большие деньги. Он слышал, как Карлотта рассказывала о горном инженере докторе Рауленде; о преуспевающем биржевике, держателе угольных акций Джералде Вудсе; о некоей миссис Хэйл, вложившей большой капитал в медные рудники и, должно быть, очень богатой. «Как это обидно, что Норман не может заняться чем-нибудь в этом роде», — расслышал он однажды слова Карлотты, обращенные к матери. Юджин понял, что Норманом зовут ее мужа и что он должен скоро вернуться. Поэтому он держался на расстоянии, испытывая к ней интерес, скорее похожий на любопытство, чем на что-либо другое. Миссис Уилсон, однако, не принадлежала к числу людей, которых легко обескуражить. Однажды вечером, сейчас же после обеда, к дому подкатил огромный красный лимузин, и Карлотта сказала как бы невзначай: — Мы собираемся на прогулку. Не хотите ли присоединиться к нам, мистер Витла? Юджину до этого еще не случалось ездить в автомобиле. — С большим удовольствием, — ответил он, так как при виде подъехавшей машины у него тотчас же мелькнула мысль о предстоящем ему тоскливом вечере в опустевшем доме. За рулем сидел шофер — представительная личность в желтом соломенном картузе и коричневом пыльнике, но миссис Уилсон сумела выкроить место и для Юджина. — Ты, дорогой, садись с шофером, — сказала она Симпсону и, последовав за матерью в машину, предложила Юджину сесть рядом. — В ящике, должно быть, есть еще кепи и плащ, — заметила она, обращаясь к шоферу. — Передайте, пожалуйста, мистеру Витла. Шофер достал тонкий полотняный плащ и соломенный картуз, и Юджин надел их. — Прекрасная вещь — автомобильная езда, правда? — приветливо обратилась Карлотта к Юджину. — Она так освежает. Если существует на свете отдых от земных забот, так это быстрая езда. — Мне еще не приходилось ездить на автомобиле, — просто сказал Юджин. Тон, каким он произнес эти слова, тронул Карлотту. Ей стало жаль его, — таким он выглядел одиноким и грустным. Его равнодушие к ней дразнило ее любопытство и задевало гордость. Почему он так мало обращает на нее внимания? В то время как машина, то в гору, то под гору, мчалась по узким дорогам, обсаженным тенистыми деревьями, Карлотта при свете звезд разглядывала Юджина. Лицо его было бледно и выражало задумчивость и безразличие. — Ох, уж эти серьезные мужчины! — пожурила она его. — Какой ужас быть философом! Юджин только улыбнулся. Вернувшись домой, все разошлись по своим комнатам, и Юджин решил спуститься в библиотеку за книгой. Проходя мимо спальни Карлотты, он увидел, что дверь раскрыта и Карлотта сидит, слегка откинувшись в глубоком кресле, положив ноги на стул, — платье ее немного приподнялось, и красивая ножка видна была до щиколотки. Она не шевельнулась, а только с ласковой улыбкой подняла на него глаза. — Разве вы еще не устали, что не ложитесь? — спросил он. — Не совсем еще, — ответила она. Он спустился вниз, зажег свет в библиотеке и стал просматривать корешки книг. Вдруг он услышал чьи-то шаги — Карлотта подошла к нему и тоже стала разглядывать книги. — Не хотите ли пива? — предложила она. — В леднике должно быть несколько бутылок. Я и не подумала, что вам, возможно, хочется пить. — Нет, мне не хочется, — сказал он. — Я вообще не пью. — Ну, вы не очень-то компанейский человек, — рассмеялась она. — В таком случае давайте пить пиво, — сказал он. Она принесла в столовую бутылки, швейцарский сыр и бисквиты и томно опустилась в одно из массивных кресел. — Если я не ошибаюсь, там в углу, на столике, должны быть папиросы. Он дал ей огня, и она с удовольствием затянулась. — Вам, наверно, скучно здесь, вдали от друзей и знакомых? — заговорила она первая. — О, я так долго болел, что не уверен, есть ли у меня еще друзья. Он рассказал ей кое-что о своей жизни, упомянул о своих воображаемых недугах — она внимательно слушала его. Когда в бутылке ничего не осталось, она спросила, не хочет ли он еще, но он отказался. Немного спустя он устало потянулся, и она вскочила. — Ваша матушка подумает, что мы тут устроили нечто вроде ночного кабачка, — сказал он. — Не беспокойтесь. Ее комната на третьем этаже, к тому же она вообще неважно слышит. А кузен Дэйв ничего не скажет. Он меня достаточно хорошо изучил и знает, что я привыкла поступать так, как мне нравится. Она придвинулась ближе к Юджину, но он, казалось, не замечал этого. Когда он направился к выходу, она погасила свет и последовала за ним по лестнице. «Либо он самый робкий человек на свете, либо самый холодный, — подумала Карлотта, но вслух она тихо сказала: — Спокойной ночи. Приятных сновидений, — и пошла к себе. Юджин отнесся к ней, как к доброму товарищу: он подумал, что ее манеры немного чересчур свободны для замужней женщины, но она, вероятно, достаточно осторожна. С ним она, по-видимому, просто любезна. Все это объяснялось тем, что Карлотта не очень интересовала его. Но на этом дело не кончилось. Однажды утром он проходил мимо ее двери, — миссис Хиббердел была уже внизу. Глазам Юджина неожиданно представилась нежная рука и обнаженное плечо — Карлотта лежала, откинувшись на подушку, по-видимому, и не подозревая, что дверь открыта. Красота этой идеальной по форме руки вызвала в Юджине чувственный трепет. В другой раз он увидел ее перед обедом, в тот момент, когда она застегивала ботинки. Юбка ее была поднята до колен, а плечи и руки обнажены — на ней был лишь корсет и сорочка. Она, казалось, не знала, что он находится поблизости. Однажды вечером после обеда он стал насвистывать какую-то мелодию. Карлотта подошла к роялю и начала подбирать аккомпанемент. В другой раз, когда он сидел на веранде и тихонько что-то напевал, она стала ему подпевать. Однажды в библиотеке он придвинул кресло к окну, возле которого стояла кушетка (миссис Хиббердел уже отправилась на покой), и Карлотта подошла и прилегла на нее. — Вы не возражаете, если я полежу здесь? — сказала она. — Я сегодня что-то устала. — Нисколько. Я вам очень рад. Мне скучно. Она смотрела на него с улыбкой. Он стал тихо напевать, она вторила ему. — Покажите мне вашу руку, — сказала она вдруг. — Я хочу узнать кое-что. Он протянул ей руку. Она стала перебирать его пальцы, явно искушая его. Но даже это его не пробудило. Вскоре она уехала дней на пять по каким-то делам, а когда вернулась, он очень обрадовался ей. Ему было скучно, и он понял теперь, что с Карлоттой в доме как-то светлее и веселее. Он с необычной сердечностью приветствовал ее. — Как я рад, что вы вернулись! — сказал он. — Уж будто рады? — ответила она. — Я вам не верю. — Почему? — Мало ли почему! У меня есть кое-какие приметы. Вы, по-моему, не очень любите женщин. — Я?! — Да, я думаю, что не любите. Она была очаровательна в зеленовато-сером шелковом платье. Юджин невольно залюбовался нежными очертаниями ее шеи и тем, как вьются ее волосы на затылке. Нос у нее был прямой, прекрасной формы, с тонкими чувственными ноздрями. Юджин последовал за нею в библиотеку, и они вместе вышли на террасу. Вскоре он вернулся в дом, — было уже десять часов, — и она вошла за ним. Дэйвис отправился к себе в комнату, миссис Хиббердел — к себе. — Я пожалуй, почитаю, — рассеянно сказал Юджин. — Ну вот еще что вздумали, — шутливо отозвалась она. — Никогда не занимайтесь чтением, когда можно заняться чем-нибудь другим. — Чем же, например? — Мало ли чем! Играть в карты, предсказывать судьбу, гадать по руке, пить пиво… Она капризно посмотрела на него. Он уселся в свое любимое кресло между кушеткой и окном. Карлотта подошла и бросилась на кушетку. — Поухаживайте за мной, дайте мне подушку, — приказала она. — С удовольствием, — ответил он. Он принес одну из подушек и приподнял ее голову, так как она не шевелилась. — Так хорошо? — спросил он. — Еще одну, пожалуйста. Он просунул руку ей под голову и приподнял ее. Она ухватилась за его свободную руку и, не выпуская, рассмеялась странным, возбужденным смехом. И Юджину вдруг открылся смысл всего, что она делала. Он уронил подушку и пристально посмотрел на Карлотту. Она отпустила его руку и откинулась назад, томная и улыбающаяся. Тогда он взял ее левую руку, потом правую, сел рядом и вдруг, склонившись, прижался губами к ее губам. Она закинула руки ему за шею, прильнула к нему всем телом, потом, отстраняясь, заглянула ему в глаза и облегченно вздохнула. — Вы любите меня? — пробормотал он. — Наконец-то, — со вздохом сказала она и снова привлекла его к себе.Глава 51
Карлотта Уилсон была прекрасна, обладала пылким темпераментом и тонкой изобретательностью, преодолевавшей любые преграды. Она задалась целью покорить Юджина. Во-первых, он ей очень нравился, а во-вторых, своим равнодушием раззадорил ее тщеславие и задел самолюбие. Впрочем, она искренне полюбила его и восхищалась им, гордясь своей победой, как ребенок новой игрушкой. Едва он обнял ее, по всему ее телу прошел жгучий трепет, и когда она позднее пришла к нему, она вся горела жаждой его ласк. Она осыпала его поцелуями, шепча ему на ухо слова страсти и любви. И Юджину, под действием вспыхнувшей страсти, казалось, что он никогда не встречал более прекрасной женщины. Он забыл и Фриду, и Анджелу, и свое одиночество, и то, что он должен соблюдать благоразумие, и целиком отдался тем радостям, которые дарил ему благосклонный случай. Карлотта была неутомима в своем внимании к нему. Едва она убедилась, что Юджин любит ее, — или воображает, что любит, — как вся ушла в свою страсть. Ее мысли были всецело заняты Юджином, и она не упускала ни малейшей возможности видеть его и быть с ним. Она неустанно сторожила его, помогая ему использовать для любви каждый удобный случай, проявляя необычайную находчивость. Она знала все привычки матери и кузена и могла с точностью до одной секунды определить, где они в данный момент находятся и через сколько времени дойдут до такой-то двери, до такого-то места. Она передвигалась бесшумно, каждый жест ее, каждый взгляд был многозначителен и красноречив. В течение месяца или около того она, буквально играя с огнем, ставила Юджина в самые рискованные положения, выпуская его из своих объятий лишь в самую последнюю минуту, целуя его беззвучно и быстро в самые неожиданные моменты и при самых неожиданных обстоятельствах. Исчезли ее усталая томность, ее кажущееся безразличие, она вся ожила, — но только, когда она была наедине с ним. В присутствии других она была, как всегда, холодна и равнодушна и даже старалась это подчеркнуть, решив держать свою мать и кузена в полном неведении, и артистически играла свою роль, делая вид, будто находит Юджина, правда, очень милым молодым человеком, но скучным и недостаточно светским. — Он, возможно, хороший художник, — говорила она матери, — но уж совсем не кавалер. В нем нет ни капли галантности. Миссис Хиббердел была очень рада. Прекрасно, — по крайней мере можно не опасаться никаких неприятностей. Она боялась Карлотты, боялась Юджина, но кажется, можно было не беспокоиться. В ее присутствии соблюдалась подчеркнутая вежливость, а временами ей даже казалось, что ее дочь и Юджин сторонятся друг друга. Миссис Хиббердел было бы очень неприятно уговаривать дочь не приезжать в родной дом, пока здесь находится Юджин, или просить его уехать. Правда, Карлотта не скрывала, что Юджин ей нравится, но это ничего не значит. Любая замужняя женщина могла бы это сказать. А между тем почти на глазах у миссис Хиббердел разыгрывался роман, который кого угодно мог бы привести в смущение. Она была бы поражена, если бы знала, что происходит в комнатах Карлотты и Юджина и даже в ванной. Они пользовались каждой минутой, когда оказывались не под надзором. Юджин охладел к своей работе. Было время, когда она нравилась ему. Он смотрел на нее как на полезную гимнастику, тем более что надеялся скоро избавиться от нее, если здоровье его быстро восстановится. Теперь же работа тяготила его, и ему жаль было отдавать ей столько времени. Карлотта имела в своем распоряжении чей-то автомобиль, а кроме того, могла позволить себе и нанять машину. Началось с того, что она стала назначать ему свидания вне дома, чтобы покататься вместе, и этим отрывала его от работы. — Разве ты обязан ходить на работу каждый день? — спросила она его как-то к концу воскресного дня, когда они были одни. Симпсон и миссис Хиббердел отправились на прогулку, и Юджин сидел у Карлотты, на втором этаже. Комната матери была на третьем. — Нет, не обязан, — ответил он, — но я не хочу терять свой заработок. Я получаю пятнадцать центов в час, и эти деньги мне нужны. Ты не должна забывать, что я сейчас работаю как простой рабочий. — Ах, оставь, — сказала она. — Что такое пятнадцать центов в час? Я дам тебе в десять раз больше, только будь со мной. — Ну нет, — сказал он. — Ничего ты мне не дашь. Так у нас ничего не выйдет. — Юджин, не говори глупостей! У меня сейчас много денег — больше, чем у тебя, во всяком случае. И эти деньги так или иначе уйдут. Все равно от них проку не будет, я могу тратить их на что угодно. Так почему же тебе не воспользоваться хотя бы частью? Ты потом мне вернешь. — Ну уж нет, — повторил Юджин. — Так у нас дело не пойдет. Я предпочитаю работать. А впрочем, дела мои совсем не так уж плохи. Возможно, мне удастся продать картину. В любой день может прийти сообщение о продаже. А что ты хотела предложить? — Поедем завтра кататься. Мама уезжает в Бруклин к тете Элле. У тебя в мастерской есть телефон? — Конечно, есть. Только я не советовал бы тебе звонить туда. — От одного раза ничего не станется. — Пожалуй, что и ничего. Но лучше нам этого не делать, во всяком случае не вводить в правило. Там народ очень строгий. Им приходится быть строгими. — Понимаю, — сказала Карлотта. — Ну ладно, не буду. Я просто думала, как бы это устроить. Но давай условимся. Ты знаешь верхнюю дорогу по ту сторону реки? — Знаю. — Так вот, иди завтра по этой дороге в час дня, а я догоню тебя на машине. Тебе можно будет на этот раз уйти? — Конечно, можно, — сказал Юджин, — я ведь только шутил. Я и денег могу раздобыть. Когда он устроился на работу, у него еще оставались от его сбережений сто долларов. До сих пор он отчаянно цеплялся за них, но теперь, когда положение его несколько прояснилось, он решил, что может, пожалуй, позволить себе потратить кое-что. По всем признакам он находился на пути к выздоровлению. Счастье снова возвращалось к нему. — Хорошо, в таком случае я вызову автомобиль. Ты ведь не прочь покататься? — Нет, — ответил он. — Я захвачу с собой новый костюм и переоденусь в мастерской. Она весело рассмеялась: его щепетильность и простодушие умиляли ее. — Ты мой принц, мой прекрасный принц из детской книжки! — воскликнула она и бросилась ему на шею. — Ты ангел небесный, мое божество! Ты даже не догадываешься, как долго я тебя ждала! Мой волшебник, мой принц! Я люблю тебя, люблю! Лучше тебя нет на свете. — А ты моя волшебница. Но оба мы с тобой нехорошие, и ты и я. Ты отступница, отщепенка, а я — мне даже страшно подумать, что я такое. — Это что еще за слово — отщепенка? — спросила Карлотта. — Я такого и не слыхала. — Отщепенка — это женщина, отвергнутая обществом, отбившаяся от стаи голубка. — Что ж, на меня похоже, — сказала Карлотта, вытягивая свои сильные, гладкие руки и задорно смеясь. — Не желаю я связываться ни с какой стаей! Ко всем чертям стаю. — Она заговорила нарочито вульгарным тоном. — Лучше мне улететь с моим волшебником. Он мне дороже всего на свете. Только я да ты, мой принц! Так, значит, я твоя любимая отщепенка? Ну, скажи, ты любишь голубок, отбившихся от стаи? — Это немыслимо! Ужасно! Ты невозможная женщина! — пытался остановить ее Юджин. Но она закрыла ему рот поцелуем. — Любишь, да? — Эту — люблю. Эту голубку — да, — отвечал он, нежно гладя ее лицо. — Как ты хороша, Карлотта, как ты прелестна! Какая ты изумительная женщина! Она бросилась ему на шею. — Кто бы я ни была, я твоя, мой волшебник. Можешь требовать от меня все, что угодно, делать со мною все, что захочешь. Ты сладкий дурман, Юджин, мой ненаглядный! Когда ты со мною, я не помню себя от счастья, я ничего не вижу и не слышу. Ты заставляешь меня забывать обо всем. С тобой я ни о чем не думаю! И мне дела нет ни до чего. О, почему ты не свободен? Почему и я не свободна? Уехали бы мы с тобой на необитаемый остров! О, черт возьми! Жизнь — это сплошное недоразумение, правда? Так давай же брать от нее все, что она может нам дать! Карлотта достаточно знала к этому времени о жизни Юджина, чтобы понимать его положение. Она знала, что он болен, хотя и не видела, в чем состоит его болезнь, но полагала, что причина ее в переутомлении. Ей было известно, что он беден, что у него ничего нет, если не считать нескольких картин, сданных на комиссию, но она не сомневалась, что к нему снова вернется дарование и он займет свое место в жизни. Знала она кое-что о его жене и очень радовалась, что ее здесь нет, ей хотелось бы, чтобыта никогда не приезжала. Карлотта побывала в Нью-Йорке, где путем расспросов в нескольких художественных магазинах узнала кое-что о карьере Юджина как художника, о том, какой это был многообещающий талант, и это еще больше подняло его в ее глазах. Она даже купила одну из его картин, выставленных у братьев Потль, предварительно расспросив Юджина, каким порядком картины сдаются на комиссию и как художник получает за них деньги за вычетом комиссионных. Она прямо заявила управляющему братьев Потль, что покупает картину для того, чтобы помочь художнику, и попросила поторопиться с отправкой чека. Будь Юджин один, этот чек в триста долларов послужил бы ему для того, чтобы выписать Анджелу. Теперь же он дал ему возможность весело проводить время в обществе Карлотты. Юджин не знал, что обязан ей этими деньгами, не знал и того, кому продана картина. Ему была сообщена вымышленная фамилия. Продажа картины до некоторой степени восстановила его веру в свою удачу. Если после столь долгого перерыва была продана картина — и за хорошую цену, — то будут проданы и другие. Последовавшие за этим дни протекали в восхитительном разнообразии. Утром Юджин уходил в своем старом рабочем костюме, с сумкой, в которой лежал завтрак, а Карлотта, стоя у окна, махала ему на прощанье; если же в этот день у него было назначено где-нибудь свидание с нею, он надевал новый костюм, рассчитывая, что рабочий комбинезон и фуфайка защитят одежду от грязи и пыли. Он работал целый день с Джоном и Биллом, или с Малаки Демси и Джозефом (они теперь спорили между собой из-за него), либо, уйдя из мастерской пораньше, уезжал куда-нибудь с Карлоттой на автомобиле, а вечером возвращался домой, где она встречала его как ни в чем не бывало. Она терпеливо дожидалась его возвращения, как жена дожидается мужа, и, как жена, заботливо следила за тем, не нужно ли ему чего-нибудь. В мастерской Малаки и Джозеф или Джон и Билл, а порою и кое-кто из столяров и плотников со второго этажа наперебой старались залучить к себе Юджина. Малаки и Джозеф жаловались, что им скоро нельзя будет работать, — вон какие горы навалило стружек, красивых стружек ясеня, желтой сосны и ореха, пахнущих смолою и ладаном и напоминающих девичьи кудри. А Джон с Биллом уверяли, что не справляются с работой и им нужна помощь — грузить вагоны. Даже механик Джон-Бочка — и тот пытался представить дело так, будто ему нужен кочегар, но это ему не удавалось. Главный мастер прекрасно понимал, в чем дело, но молчал и посылал Юджина работать то с одними, то с другими, смотря по тому, где, по его мнению, он будет полезнее. Юджин относился ко всему этому добродушно. Ему было все равно, где работать, нравилось и грузить вагоны, и складывать материалы, и помогать в строгальном цехе. Нравилось также стоять, держа корзину под мышкой, и беседовать с Джоном-Бочкой или с Гарри Форнзом — «валять с ними дурака», по его выражению. Куда бы он ни шел, вслед неслись шутки и дружелюбные остроты, и он не чувствовал усталости. По окончании работы он спешил домой по правому берегу речки, пока не доходил до тропинки, которая вела к улице, где стоял дом миссис Хиббердел. Часто он останавливался и подолгу глядел на тихую воду, по которой плыли соломинки и щепки, сравнивая ее как будто безмятежное течение со своей собственной тревожной жизнью. Изменчивость воды напоминала ему о коварстве природы. Как поразителен контраст между идиллическим спокойствием этого тихого берега и суматошной жизнью мастерской! Ну, а те, кто в ней работает?.. Что знает Малаки Демси о красоте природы? Джон Стикс смыслит в искусстве не больше, чем неотесанные колоды, которые он ворочает. А Джону-Бочке разве доступны те волнующие и сложные переживания, которые рождают в его, Юджина, душе любовь и красота! Все они живут словно на другой планете. А ниже по реке его ждала Карлотта, изящная, уверенная в себе, на все готовая, эта равнодушная к требованиям морали сибаритка, в известной степени представлявшая собою мир, который живет эксплуатацией чужого труда, и нисколько этим не смущенная. Когда он рассказывал ей про Джозефа Мьюза, который по вечерам относил сестре охапку щепок или досок, чтобы сэкономить на топливе, она только улыбалась. Если он говорил ей о нищете, в которой живут массы, она отвечала: «Расскажи что-нибудь повеселее, Юджин». Ей хотелось говорить и думать об искусстве, о роскоши, о любви, она упивалась красотой природы. В окрестностях Спионка были загородные рестораны, куда они отправлялись на машине, и, сидя там, потягивали крюшон или вино, а Карлотта вслух мечтала о том, что бы они стали делать, если бы оба были свободны. Карлотте часто приходили в голову мысли об Анджеле, а Юджина они не покидали ни на минуту, так как он не мог не чувствовать своей вины перед нею. Анджела была так терпелива и ласкова с ним все эти годы, она, как мать, ходила за ним, прислуживала ему, как раба. Совсем еще недавно он писал ей нежные письма, уверяя, что тоскует о ней. А теперь это снова умерло. Писать стало трудно. Что он ни скажет, все будет ложью, а лгать ему не хотелось. Ему ненавистна была мысль, что он лицемерит. Но если он перестанет писать, размышлял Юджин, Анджела будет ужасно мучиться и, того и гляди, приедет разыскивать его. Только с помощью писем, любовных клятв и объяснений, почему ей пока не стоит приезжать, ему удавалось удерживать ее в Блэквуде. Тем более это было необходимо теперь, когда он был так влюблен в Карлотту. Он отнюдь не обманывал себя надеждой, что когда-нибудь они смогут пожениться. Он знал, что не получит развода, так как для этого не было законных оснований. Да и совесть его, твердившая, что он несправедлив, помешала бы этому. Будущее Карлотты было тоже в высшей степени туманно. Норман Уилсон хотя и пренебрегал ею, однако не хотел окончательно ее терять. Он писал ей и грозил, что приедет в Нью-Йорк, если она не приедет к нему, хотя его несколько успокаивало то, что она находится у матери, где он считал ее в безопасности. Анджела просила Юджина разрешить ей приехать. Они как-нибудь проживут. Сколько бы он ни зарабатывал, с ней ему будет лучше, чем одному. Она представляла себе, что он живет в каком-нибудь неуютном пансионе, заброшенный и одинокий. Приезд Анджелы вынудил бы Юджина покинуть дом миссис Хиббердел, так как последняя дала ему понять, что их соглашение остается в силе только до приезда его жены, и таким образом наступил бы конец его роману с Карлоттой. Конец поездкам в рестораны и восхитительным обедам вдвоем на укромных террасах. Конец прогулкам в ее машине, которой она так ловко правила, прекрасно обходясь без шофера. Конец свиданиям под деревьями и у живописных ручейков, где он целовал и ласкал ее и где она нежилась в его объятиях. — Если бы мама нас видела! — шутила она. Или: — Как ты думаешь, узнали бы тебя Билл и Джон, если б увидели сейчас? А однажды она заметила: — Здесь лучше, чем в машинном отделении, не правда ли? — Ты ужасно испорченная женщина, — говорил он; и тогда она улыбалась своей загадочной улыбкой Моны Лизы. — Но ты ведь любишь испорченных женщин? Отбившиеся голубки — великолепная дичь. Согласно своей философии, она брала от жизни все, что жизнь могла дать ей.Глава 52
Такие отношения не могли длиться бесконечно. В самом зародыше их сидел червь. Юджин грустил. Иногда ему не удавалось скрыть свое уныние, и если Карлотта спрашивала, что с ним, он говорил: — Долго это не может тянуться. Скоро наступит конец. — Ты пессимист, Джини, — говорила она с укоризной, так как надеялась, что ей удастся оттянуть развязку на долгий срок. Юджин же был убежден, что никакое, даже самое тонкое притворство не обманет Анджелу. Очень уж хорошо она разгадывала его невысказанные чувства и настроения. Скоро она приедет, хочет он того или нет, и тогда всему конец. Однако непредвиденное стечение обстоятельств приблизило развязку и разлучило любовников еще до приезда Анджелы. Миссис Хиббердел все чаще и чаще стала задумываться над тем, почему Карлотта не только удовлетворена своим пребыванием у нее, но даже, кажется, хочет остаться и подольше. У нее была своя квартира в городе, по всей видимости, закрытая на лето, так как Карлотта собиралась на самые жаркие месяцы в Нарагансет. Но после знакомства с Юджином она решила время от времени пользоваться квартирой для свиданий с ним, хотя это было сопряжено с риском, поскольку Норман Уилсон мог в любую минуту вернуться. Тем не менее они с Юджином несколько раз заезжали туда, чем достигалась двойная цель — побыть без помехи вдвоем и ввести в заблуждение ее мать. Карлотта доказывала Юджину, что ей полезно на какое-то время уезжать из Ривервуда, — тогда ее пребывание там становится менее подозрительным и меньшей опасности подвергается их счастье. Поэтому она и пользовалась иногда квартирой. Но в то же время она не могла совсем покинуть Ривервуд, так как Юджину необходимо было находиться там утром и вечером. И все-таки в конце августа в душе миссис Хиббердел зародилось подозрение. Однажды Карлотта позвонила ей из города, что у нее болит голова и она не приедет. Миссис Хиббердел как раз собиралась в город за покупками и предупредила дочь, что вечером будет у нее. Подходя к Сентрал-парку, она заметила машину, где, как ей показалось, сидели Юджин и ее дочь. Правда, Юджин с утра ушел на работу, но уж очень похож был на него человек, которого она видела. Впрочем, утверждать, что это были именно они, она не могла бы. Когда она пришла к Карлотте, та оказалась дома, — она чувствовала себя лучше, но никуда не выходила. Миссис Хиббердел решила, что ошиблась. В Ривервуде ее комната помещалась на третьем этаже, и несколько раз, когда ей случалось спускаться за чем-нибудь в кухню, столовую или библиотеку (уже после того, как все расходились по своим комнатам), ей как будто слышались легкие шаги. Но она каждый раз успокаивала себя тем, что это игра воображения, так как, достигнув второго этажа, неизменно убеждалась, что он погружен в безмолвие и мрак. Все же она нередко задавала себе вопрос, не встречаются ли Юджин и Карлотта втихомолку. Раза два ей почудилось, будто в промежутках между завтраком и уходом Юджина на работу она слышит на втором этаже чей-то тихий разговор. Однако доказательств у нее не было. Казалось странным, что Карлотта так охотно встает по утрам, чтобы в половине седьмого завтракать вместе с Юджином, не говоря уже о том, что она так легко променяла Нарагансет на Ривервуд. Словом, достаточно было случая, чтобы подозрения миссис Хиббердел превратились в уверенность и чтобы она уличила Карлотту в самом бессовестном обмане. Этот случай не заставил себя долго ждать. Как-то в воскресенье утром Дэвис и миссис Хиббердел решили покататься на машине. Юджин тоже был приглашен, но отказался — Карлотта, услышав еще за несколько дней о приготовлениях к поездке, предупредила его и стала строить планы, как провести с ним весь день. Она посоветовала Юджину отговориться необходимостью поехать в город, чтобы кое-кого повидать, — сама же дала согласие, но в назначенный день притворилась, что плохо себя чувствует. Дэвис и миссис Хиббердел отправились на Лонг-Айленд. Прогулка была рассчитана на целый день. Но через час после отъезда что-то случилось с машиной, и, просидев два часа в ожидании починки, — достаточно долгий срок, чтобы расстроить всякие планы, — они на трамвае вернулись домой. Юджин, конечно, не ездил в город. Он был даже не одет, когда парадная дверь отворилась и миссис Хиббердел вошла в дом. — Карлотта! — позвала она дочь, остановившись на лестнице и ожидая, что та выглянет из своей комнаты, из гостиной или гардеробной, расположенной в передней части второго этажа, но Карлотта сидела у Юджина, а его дверь была видна с того места, где находилась миссис Хиббердел. Карлотта не рискнула отозваться. — Где ты? Карлотта! — снова позвала мать. Миссис Хиббердел собиралась уже поискать ее в кухне, но передумала и стала подниматься по лестнице, направляясь в гардеробную. Карлотте показалось, что мать вошла туда, и, воспользовавшись этим, она прошмыгнула в ванную, рядом с комнатой Юджина, но, очевидно, действовала недостаточно быстро. Ее мать не вошла в гардеробную, а только приоткрыла дверь и заглянула туда. Она не видела, как Карлотта выскользнула из комнаты Юджина, но видела, как та вошла в ванную, и заметила, что туалет дочери в полном беспорядке. А выйти она могла только из комнаты Юджина, ибо ее собственная спальня, между комнатой Юджина и гардеробной, находилась шагах в десяти от ванной. Было мало вероятно, чтобы Карлотта вышла оттуда — она не успела бы дойти до ванной, а кроме того, почему она тогда не отозвалась? Первой мыслью миссис Хиббердел было окликнуть дочь. Но потом она решила сделать вид, будто Карлотте удалась ее хитрость. Она была убеждена, что Юджин находится у себя, и действительно, через несколько минут услышала, как он предостерегающе кашлянул. — Карлотта, ты в ванной? — спокойно спросила она, заглянув сперва в комнату дочери. — Да, — послышался голос, в котором не чувствовалось уже никакого волнения. — У вас что-нибудь случилось с машиной? Они обменялись несколькими замечаниями через закрытую дверь, после чего миссис Хиббердел отправилась к себе. Она хотела обдумать положение, так как не на шутку разгневалась. Ведь речь шла не о проступке, совершенном добродетельной, достойной доверия дочерью. Никто не совращал Карлотту. Она была взрослая, замужняя и опытная женщина. Она знала жизнь так же хорошо, как и ее мать, а во многих отношениях и лучше. Разница между ними заключалась в том, что если мать руководилась соображениями морали и доводами, которые подсказывали ей здравый смысл и чувство приличия и самосохранения, то у дочери все это отсутствовало. А ведь Карлотте следовало быть осторожной: от этого зависело все ее будущее. Она должна была бы отнестись с уважением и к будущему Юджина, и к правам и интересам его жены, и к дому своей матери и ее принципам. Как это недостойно, что Карлотта все время лгала, притворяясь равнодушной, делая вид, будто уезжает куда-то, а сама, несомненно, давно уже находилась в связи с их жильцом. Миссис Хиббердел была возмущена не столько Юджином (правда, ее уважение к нему сильно поколебалось, хотя у художников ведь свои нравы!), сколько Карлоттой. Не может вести себя прилично! Как ей не стыдно, она должна была остерегаться такого человека, а не завлекать его. Вина целиком ложилась на Карлотту, и миссис Хиббердел твердо решила высказать ей все начистоту и немедленно положить конец этой злосчастной связи. На другой день утром (миссис Хиббердел решила молчать, пока Юджин и Дэвис не уйдут из дому) разразилась бурная и ожесточенная ссора. Миссис Хиббердел хотела объясниться с дочерью наедине, и стычка произошла вскоре после завтрака, когда мужчины ушли. Карлотта успела предупредить Юджина, что предстоят неприятности и что он ни в коем случае не должен ни в чем сознаваться, разве только она сама ему разрешит. Прислуга была на кухне и не могла ничего слышать, а миссис Хиббердел с дочерью находились в библиотеке, когда был дан первый выстрел. Карлотта была отчасти подготовлена к этому, предполагая, что мать замечала кое-что и раньше. Она встретила нападение с достоинством Цирцеи, так как подобные сцены не были для нее новостью. Ее собственный муж неоднократно изобличал ее в неверности и даже грозил ей физической расправой. Она была бледна, но спокойна. — Послушай, Карлотта, — решительным тоном начала ее мать, — я видела, что происходило здесь вчера утром, когда мы вернулись домой. Ты была в комнате мистера Витла и притом раздетая. Я видела, как ты вышла оттуда. Не вздумай, пожалуйста, отпираться. Я это видела. Неужели тебе не стыдно? Как ты могла так поступить после всех обещаний, что в моем доме будешь вести себя как следует? — Ты не видела, как я выходила из его комнаты, и меня в его комнате не было, — бесстыдно солгала Карлотта. Вся кровь отхлынула от ее лица, но она очень недурно разыгрывала благородное негодование. — Зачем же ты говоришь такие вещи? — Как? Ты еще смеешь отрицать, Карлотта Хиббердел? Ты еще смеешь лгать! Ты вышла из его комнаты! Ты знаешь, что это так, что ты была там! Ты знаешь, что я тебя видела! Я думала, ты по крайней мере постыдишься, — ведь ты ведешь себя как уличная девка. Ты поступила позорно, нагло в доме, где живет твоя мать. Неужели тебе не стыдно? Неужели в тебе не осталось ни капли совести? О Карлотта, я знаю, что ты скверная женщина, но зачем тебе понадобилось приезжать сюда и проделывать такие гадости здесь? Почему ты не могла оставить этого человека в покое? Он жил тут хорошо и тихо. Недостает еще, чтобы миссис Витла приехала и избила тебя до полусмерти! — Что за разговоры! — раздраженно воскликнула Карлотта. — Ты в конце концов действуешь мне на нервы. Это неправда, что ты видела. Вечно одна и та же история — какие-то подозрения! Всегда ты меня в чем-нибудь уличаешь. Ты меня не видела, и меня не было в его комнате. Напрасно ты поднимаешь такой шум! — Напрасно поднимаю шум? И ты смеешь это говорить, мерзкая женщина! Напрасно поднимаю шум! Да как у тебя духу хватает говорить это? Прямо не верится, что ты можешь так бесстыдно лгать мне в глаза! Я тебя видела, а ты осмеливаешься отрицать это! Миссис Хиббердел не видела, как ее дочь выходила из комнаты Юджина, но она была убеждена в своей правоте. Карлотта не сдавалась. — Ты меня не видела, — настаивала она. Миссис Хиббердел даже растерялась от такой наглости. У нее перехватило дыхание. — Карлотта! — воскликнула она. — Честное слово, я начинаю думать, что ты самая дурная женщина на свете! Мне трудно поверить, что ты моя дочь, — до того ты бесстыдна! И весь ужас в том, что ты действуешь с расчетом. Ты знаешь, что делаешь, ты все обдумала. Ты испорчена до мозга костей! Ты всегда добиваешься своего. Так и сейчас. Ты поставила себе целью завлечь этого человека и ни перед чем не останавливаешься. Ты понятия не имеешь ни о стыде, ни о гордости, ни о порядочности, ни о чести, ни об уважении ко мне или к кому-нибудь другому. Ты этого человека не любишь. Ты прекрасно знаешь, что не любишь. Если бы ты его любила, ты никогда не опозорила бы так ни его, ни меня, ни себя. Ты попросту вступила в новую постыдную связь, потому что тебе так захотелось. А теперь, когда тебя поймали чуть ли не на месте преступления, ты надеешься взять наглостью. Ты скверная женщина, Карлотта, ты самая низкая женщина на свете, хоть ты и моя дочь. — Все это неправда, — ответила Карлотта. — Ты говоришь только для того, чтобы слушать себя. — Нет, это правда, — накинулась на нее мать, — и ты знаешь, что это правда. Ты жалуешься на Нормана. А он в жизни не совершил бы такого низкого поступка. Пусть он игрок, пусть он безнравственный, эгоистичный человек, равнодушный к интересам других. Ну, а ты? Как можешь ты стоять тут и уверять меня, что ты лучше его? Ха! Если б у тебя была хоть капля стыда, все это было бы не так ужасно, но ты его совершенно лишена. Ты просто мерзкая, скверная женщина, больше ничего! — Как ты можешь так говорить, мама? — спокойно возразила Карлотта. — Ты поднимаешь шум, а ведь у тебя нет ничего, кроме подозрений. Ты не видела меня. Даже если я и была там, ты меня не видела, а на самом деле я там и не была. Ты подняла бурю просто потому, что тебе так захотелось. Мистер Витла мне нравится, я его нахожу очень милым, но он меня мало интересует, и я ровно ничего плохого ему не сделала. Можешь выгнать его из дома, если тебе угодно. Это совершенно меня не касается. Ты нападаешь на меня, по обыкновению, без всяких оснований. Карлотта в упор смотрела на мать. Она не была особенно взволнована. История, несомненно, вышла скверная, но Карлотта думала не столько об этом, сколько о том, как глупо было так попасться. Мать знает теперь наверняка, хотя она, Карлотта, будет отпираться. Конец всему их летнему роману! Таких удобств у них уже больше не будет. Юджину предстоят неприятности — придется переезжать в другое место. Мать может наговорить ему бог знает что. Карлотта считала себя гораздо лучше Нормана, потому что не водила компании с такими людьми, как он. И она не груба, не тупа, не жестока, она не употребляет грязных выражений, не проповедует грязных теорий, как Норман. Пусть она лжет, пусть хитрит, но ведь она никому не причиняет зла. Ею попросту руководит страсть, и она смело идет к любви, добиваясь счастья. «Неужели я дурная женщина?» — не раз спрашивала она себя. Так утверждала ее мать. Что ж, отчасти это, пожалуй, правда. Но мать просто вспылила, она не думает того, что говорит. Она опомнится. В то же время Карлотта не собиралась признавать справедливость обвинений, которые предъявила ей мать, и уступить без борьбы. Среди этих обвинений были совершенно нестерпимые, совершенно непростительные. — Карлотта Хиббердел, ты самое бесстыдное создание, какое я когда-либо встречала в жизни! Ты возмутительная лгунья! Как ты смеешь смотреть мне в глаза и говорить бог весть что, когда ты знаешь, что я права? Зачем ты еще увеличиваешь свою вину ложью? О Карлотта, какой позор! Неужели ты совсем лишена чувства чести? Как ты можешь так лгать? Как ты можешь? — Я не лгу, — заявила Карлотта, — и я бы очень хотела, чтобы ты прекратила этот шум. Ты меня не видела. Ты прекрасно знаешь, что не видела. Я вышла из своей комнаты, а ты была в гардеробной, — зачем же ты так говоришь? Ты меня не видела. Но допустим, что я лгунья. Я твоя дочь. Пусть я дурная женщина! Я не сама себя сделала такой! Ну, а уж в данном случае я нисколько не дурная женщина. Но какова бы я ни была, я дошла до этого не по своей вине. Жизнь у меня была не очень-то сладкая!.. Зачем ты затеваешь этот глупый скандал? У тебя нет никаких оснований, кроме подозрений. Тебе непременно нужно устраивать сцены. Меня нисколько не интересует твое мнение обо мне. Но в данном случае я ни в чем не виновата, ты можешь думать про меня, что угодно. А тебе должно быть стыдно обвинять меня в том, в чем ты сама не уверена. Она подошла к окну и выглянула в сад. Миссис Хиббердел покачала головой. Подобная наглость была выше ее понимания. Но как это похоже на Карлотту! Она пошла и в мать и в отца. Оба они, если их раззадорить, становились своевольными и упрямыми. Но вместе с тем миссис Хиббердел жалела дочь, так как Карлотта была неглупая женщина. Очень уж ей не повезло в жизни! — Я все-таки думаю, что тебе стыдно, Карлотта, независимо от того, сознаешься ты или нет, — продолжала она. — Правда остается правдой, и, наверно, тебе сейчас неприятно. Ты была в его комнате. Но не будем больше спорить. Ты сама затеяла это и добилась своего. А теперь послушай, что я тебе скажу. Ты сегодня же вернешься в город, а мистер Витла уедет отсюда, как только подыщет себе комнату. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы прекратить эту позорную связь. Если ничего не поможет, я напишу его жене, а заодно и Норману. Ты оставишь этого человека в покое. Ты не имеешь права становиться между ним и его женой. Это безнравственно, и только порочная, бессовестная женщина способна на такой поступок. Я ему ни слова не скажу, но он уедет отсюда, и ты тоже. Когда все это кончится, ты можешь вернуться, если захочешь. Мне стыдно за тебя! Мне стыдно за себя! Если бы я не щадила своих собственных чувств и чувств Дэвиса, я бы еще вчера выгнала вас обоих из этого дома. И ты это знаешь. Только уважение к самой себе заставило меня действовать так мягко. А он — какая низость — после всего внимания, которое я ему оказала! Но все-таки его я не столько виню, сколько тебя, он на тебя и смотреть не стал бы, если бы ты не заставила его. Моя родная дочь! В моем доме! И не стыдно тебе! Разговор еще долго продолжался в том же духе — бесконечные перепевы все одних и тех же гневных обвинений. Юджин — дурной человек, Карлотта — низкая женщина. И миссис Хиббердел никогда бы этому не поверила, если бы не видела собственными глазами. Если Карлотта не исправится, она расскажет все Норману, — и так снова и снова, угроза за угрозой. — А теперь, — заявила она, наконец, — ты уложишь вещи и сегодня же уедешь к себе домой. Я не хочу, чтобы ты оставалась здесь хотя бы один лишний день. — Нет, я не уеду, — дерзко ответила Карлотта, перебирая в уме то, что было сказано. Все это очень мучительно, но сейчас она не уедет. — Я уеду завтра утром. Я не могу так быстро уложиться. Не говоря о том, что уже поздно. Я не позволю, чтобы меня выгоняли, как служанку! Миссис Хиббердел застонала, но вынуждена была уступить. Карлотту не заставишь сделать что-нибудь против воли. Молодая женщина отправилась к себе, и вскоре до слуха матери донеслось ее пение. Миссис Хиббердел покачала головой. Какой человек! Мудрено ли, что Юджин поддался соблазну! Ни один мужчина не устоял бы.Глава 53
Последствия этой сцены не замедлили сказаться. За обедом миссис Хиббердел объявила в присутствии Карлотты и Дэвиса, что собирается закрыть дом, и даже в очень скором времени. Они с Карлоттой поедут в Нарагансет на весь сентябрь и часть октября. Юджин, которого Карлотта успела предупредить, принял это известие с вежливым изумлением. Он очень сожалеет. Он провел в этом доме столько хороших дней. Миссис Хиббердел не могла быть уверенной, сказала ли ему что-нибудь Карлотта, — у него было такое невинное выражение лица, — но она все же предполагала, что дочь говорила с ним и что он, как и Карлотта, притворяется. Племяннику она еще раньше сообщила о своем отъезде, не вдаваясь в объяснения. Симпсон догадывался о мотивах: от него не укрылось, что между Юджином и Карлоттой что-то происходит. Он не видел в этом большой беды, так как Карлотта была женщина светская, независимая и к тому же «славный малый». Она всегда хорошо к нему относилась. У него не было ни малейшего желания ставить ей палки в колеса. И Юджин ему нравился. Однажды в разговоре с Карлоттой он шутя сказал: — Ну что ж, руки у него почти такие же длинные, как у Нормана, — хотя, возможно, не совсем. — Иди ты к черту! — последовал учтивый ответ. Вечером разразилась гроза, прекрасная, ослепительная летняя гроза. Юджин вышел на террасу полюбовался ею. Пришла и Карлотта. — Итак, мой волшебник, — сказала она под раскаты грома, — здесь все кончено. Но ты не унывай. Я с тобой буду видеться, куда бы ты ни уехал. Но как здесь было хорошо! Какое счастье было жить с тобой рядом! Только не вешай голову. Мама говорит, что напишет твоей жене, но я не думаю, чтобы она решилась это сделать. Если она будет уверена, что я веду себя паинькой, она этого не сделает. Придется как-нибудь обмануть ее. Но все это очень обидно. Я люблю тебя безумно, Джини! Теперь, когда им грозила опасность расстаться, Юджин особенно восторгался Карлоттой. Он узнал ее так близко, наблюдал при столь различных обстоятельствах, что был без ума не только от ее красоты, но и от ее душевных качеств. Одна из слабостей Юджина заключалась в том, что он склонен был видеть в людях, которые ему нравились, гораздо больше достоинств, чем у них было в действительности. Он облекал их всей романтикой своих грез, наделял своими собственными душевными качествами. Этим он, конечно, льстил их тщеславию, пробуждал их веру в себя, — под его влиянием им начинало казаться, что они обладают такими силами и дарованиями, какие им раньше и не снились. Так было с Маргарет и Руби, с Анджелой и Кристиной, так было и с Карлоттой. Благодаря Юджину они вырастали в собственных глазах. И сейчас, глядя на Карлотту, он испытывал жгучую боль — это была такая спокойная, милая, такая умная и уверенная в себе женщина. В эти тяжелые дни она была для него огромным утешением. — Цирцея! — воскликнул он. — Как обидно! Как жаль! Мне так больно терять тебя. — Ты и не потеряешь меня, — ответила она. — Об этом не может быть и речи. Я тебя не отпущу. Я тебя нашла, и теперь ты мой. Все это пустяки! Мы придумаем, где встречаться. Постарайся, если можешь, снять комнату в доме, где есть телефон. Когда ты собираешься переехать? — Сейчас же, — ответил Юджин. — Я завтра утром отпрошусь с работы и буду искать комнату. — Бедный Юджин, — сочувственно сказала она. — Как это грустно. Но не горюй. Все уладится. Карлотта по-прежнему отказывалась принимать в расчет Анджелу. Она полагала, что если даже та и приедет, — а Юджин говорил, что ждет ее скоро, — можно будет как-нибудь устроиться. Юджин будет немного и с нею, Карлоттой. Она не променяет его ни на кого на свете. Уже к полудню следующего дня Юджин нашел себе комнату. Прожив в этой местности много времени, он заранее составил план, куда обратиться. Здесь была еще одна церковь, а кроме того, библиотека и почта, и тут же жил кассир железнодорожной станции. Юджин прежде всего отправился к начальнику почты и узнал, что поблизости живут две семьи, одна из них — гражданского инженера, где его, наверно, примут. В семье этого инженера он в конце концов и поселился. Место было не такое живописное, но все же очень приятное, и комната была хорошая, и кормили недурно. Он предупредил хозяев, что, вероятно, вселяется к ним не надолго, так как скоро к нему приедет жена. Письма Анджелы становились все более и более настойчивыми. Собрав свои вещи, Юджин почтительно распрощался. После его ухода миссис Хиббердел, конечно, передумала закрывать дом, а Карлотта вернулась в свою квартиру в Нью-Йорке. Она не только связалась с Юджином по телефону, но прислала ему письмо с посыльным, и на другой же день после его переселения они встретились в загородной гостинице. Она уже собиралась снять отдельную квартиру для их встреч, когда Юджин сообщил ей, что Анджела выехала в Нью-Йорк и сейчас ничего нельзя предпринимать. Семь месяцев, которые прошли с момента их расставания в Билокси, были тоскливым временем для Анджелы. Она вконец измучилась от постоянных тревог, так как воображала, что Юджин страдает от одиночества, и глубоко сожалела, что вообще рассталась с ним. Она могла бы с таким же успехом быть при нем. Уже после его отъезда она сообразила, что могла занять несколько сот долларов у кого-нибудь из братьев, чтобы вместе с Юджином вести борьбу за восстановление его здоровья. Едва он уехал, как она стала думать, что сделала большую ошибку, отпустив мужа одного: ведь при его впечатлительности он мог еще кем-нибудь увлечься. Впрочем, он находился в таком состоянии, что, по ее мнению, не способен был думать ни о чем, кроме своего здоровья. К тому же его отношение к ней в последнее время говорило о сильной привязанности и, до некоторой степени, о зависимости от нее. Все его письма после отъезда были исключительно нежны, он жаловался на их вынужденную разлуку и высказывал надежду, что скоро они снова будут вместе. Его жалобы на одиночество вынудили ее наконец принять решение, и она написала ему, что приедет, хочет он этого или нет. Ее приезд, в сущности, не вносил больших изменений в жизнь Юджина, если не считать того, что он опять внутренне охладел к ней, что у него был новый идеал и только одно желание — быть с Карлоттой. Ее богатство, туалеты, ее привычки к комфорту и роскоши, о какой Юджин раньше и мечтать не смел, беспечность, с какою она тратила деньги (поездки на автомобиле, шампанское и самые дорогие блюда воспринимались ею как обыденные вещи), — все это слепило и чаровало его. «Странно, — думал он, — что такая необыкновенная женщина могла полюбить меня». А наряду с этим ее пренебрежение предрассудками, ее презрение к условностям, ее жизненный опыт, интерес к литературе и искусству делали Карлотту полной противоположностью Анджеле, и она казалась Юджину исключительно сильной и яркой натурой. Ему хотелось быть свободным, чтобы полностью насладиться ее любовью. Таково было положение, когда ясным сентябрьским субботним днем в Спионк приехала Анджела. Она очень стосковалась по Юджину. Измученная тревогой, она примчалась к нему, чтобы делить с ним его невзгоды, каковы бы они ни были. Она думала только о том, что он болен, угнетен и одинок. Все его письма выражали печаль и безнадежность, так как он не осмеливался, конечно, писать о том, какое наслаждение давало ему общество Карлотты. Чтобы удержать жену в Блэквуде, он вынужден был притворяться, будто главным препятствием к ее приезду служит отсутствие денег. Мысль о том, что он тратит (а к моменту приезда Анджелы почти истратил) те триста долларов, которые принесла ему продажа картины, очень угнетала его. Его мучила совесть, и сильно мучила, но это забывалось при свидании с Карлоттой или при чтении писем от Анджелы. «Я, право, не знаю, что со мной творится, — говорил он себе. — Наверно, я дурной человек. Хорошо еще, что никто не догадывается, какой я на самом деле». Одна из особенностей Юджина, на которую следует тут же указать и которая поможет нам пролить свет на мотивы его поведения, заключалась в том, что в душе его шла непрестанная борьба, вызываемая особой способностью к анализу, вернее к самоанализу, — когда он словно сам себя выворачивал наизнанку, чтобы заглянуть в свою душу и разобраться в себе. Если ничто другое его не отвлекало, он то и дело приподымал завесу со своих тайных чувств и помышлений, как приподнимают крышку колодца, чтобы заглянуть в глубину. И то, что он видел там, было не особенно привлекательно и приводило его в немалое смущение: это был не тот безупречный, точный, как часы, механизм, на который можно было бы положиться во всех случаях жизни. Те нравственные качества, которые Юджин открывал в себе, ни в коей мере не соответствовали общепринятому идеалу мужчины. Наблюдения над людьми привели его к выводу, что нормальный человек честен, и если один отличается высокой нравственностью по самой своей натуре, то другим руководит чувство долга. А бывает, что эти добродетели, не говоря уже о многих других, сочетаются в одном. Таким, например, был отец Анджелы. Таким был, по-видимому, мосье Шарль. Близко зная Джерри Мэтьюза, Филиппа Шотмейера, Питера Мак-Хью и Джозефа Смайта, Юджин полагал, что все они люди очень порядочные и принципиальные в вопросах морали. И у них, конечно, бывают минуты искушения, но они, очевидно, умеют ему противостоять. Уильям Хейверфорд, начальник службы пути, и Генри Литлбраун, начальник одного из участков этой гигантской железной дороги, производили на него впечатление людей, которые всегда верны долгу и законам общежития и которые непрерывно и тяжело трудятся, — иначе они не достигли бы своего теперешнего положения. Да и вся эта железнодорожная система, работу которой он имел возможность видеть со своего скромного наблюдательного поста, представлялась ему ярким примером того, насколько необходимы для человека чувство долга и твердость характера. Служащие железнодорожной компании не имели права болеть, они должны были являться на свои места точно, секунда в секунду, и честно исполнять свои обязанности, так как малейшее нарушение порядка грозило бедствием. Большинство этих людей — кондукторы, машинисты, кочегары, начальники участков — добились своих более чем скромных должностей в результате тяжелого многолетнего труда. Другие, более одаренные или более удачливые, становились начальниками дорог, главными инспекторами, директорами и их помощниками. И все они неуклонно карабкались вверх, последовательные в своем чувстве долга, неутомимые в своем усердии, точные, рассудительные. А он? Юджин заглядывал в колодец своей души и не видел ничего, кроме неверных, изменчивых течений. Там царил густой мрак. Ему, например, незнакомо чувство чести, говорил он себе, разве лишь в денежных вопросах, — почему он честен в денежных вопросах, он и сам не знал. Он не правдив. Он аморален. Любовь к красоте, которая ни на мгновение не покидала его, казалась ему важнее всего на свете, но выходило, что в погоне за нею он действовал наперекор веками установленному порядку. Он убедился, что люди, как правило, держатся невысокого мнения о человеке, который только и думает, что о женщинах. Над отдельной провинностью могут посмеяться, могут отнестись к ней с сочувственным снисхождением, даже найти ей оправдание, но с человеком, подпавшим полностью под власть этого порока, обычно просто не желают иметь дела. Один такой эпизод, привлекший к себе внимание Юджина, разыгрался совсем недавно в железнодорожном депо в Спионке. Работавший там механик бросил жену и ушел к какой-то красотке из Уайт-Плейнс, за что был немедленно уволен. Оказалось, между прочим, что это с ним не впервые и что каждый раз его увольняли, но затем прощали. И эта единственная слабость создала ему дурную славу среди товарищей-железнодорожников — такую же, в сущности, какую мог заслужить, скажем, отпетый пьяница. Однажды в разговоре с Юджином Джон-Бочка дал довольно меткое определение этому человеку. «Эд Бауэре, — сказал он, — готов отдать душу дьяволу за любую шкуру», — последнее слово употреблялось в этих местах по отношению к дурным женщинам. Все, казалось, презирали Бауэрса, и сам он как будто презирал себя. Когда его восстановили на работе, у него был вид побитой собаки, а между тем, если бы не эта слабость, он был бы на хорошем счету в депо. Теперь же все считали, что он человек пропащий. На основании этого Юджин доказывал себе, что и он человек пропащий, что и ему несдобровать, если так будет продолжаться дальше. Этот порок был равносилен воровству и пьянству, против него восставал весь мир. Юджину даже казалось, что он часто идет рука об руку с воровством и пьянством и что все такие люди — «одного поля ягода». Вот и он предан этому пороку, и он не больше, чем Эд Бауэре, способен побороть его в себе. Неважно, что женщины, которых он выбирал, исключительно красивы и обаятельны. Все равно он не должен их желать! У него жена. Он дал торжественный обет любить и лелеять ее, во всяком случае он прошел через этот обряд, — и вот извольте, волочится теперь за Карлоттой, как раньше волочился за Кристиной и Руби! И разве он не ищет постоянно именно таких женщин? Разумеется, ищет. Разве не лучше было бы, если б он добивался богатства, почета и честного имени, добродетели, стремился к нравственной непогрешимости? Конечно, лучше. Именно на этом пути ждут его, при его таланте, почет и успех, а он то и дело сворачивает в сторону. Единственным препятствием для него служит совесть, совесть, не подчиняющаяся велениям холодного себялюбия. «Позор!» — стыдил себя Юджин и упрекал в малодушии, в неспособности бороться с соблазном красоты. Вот какие мысли приходили ему в голову в минуты трезвого самоанализа. Но двойственность натуры Юджина заключалась в том, что он умел направлять прожектор своего ума и в другую сторону, словно гигантским белым лучом прорезая и небеса и бездны. Тогда ему открывалось неисповедимое коварство и очевидная несправедливость природы. Он не мог не видеть, что большие рыбы пожирают маленьких, что сильные угнетают слабых, что ворам, взяточникам и убийцам во многих случаях разрешается беспрепятственно паразитировать на теле общества. Далеко не всегда добродетель вознаграждается, — обычно ей приходится очень туго. А порок, как мы видим, часто процветает, и еще вопрос, будет ли он когда-нибудь наказан. Карлотта, например, в это не верила. Она не считала свои отношения с Юджином греховными. Это еще вилами по воде писано, говорила она, кто прав, а кто виноват, и уверяла, что у него гипертрофия совести. «Я не считаю, что это дурно, — сказала она ему однажды, — многое, вероятно, зависит от того, какое человек получил воспитание». В обществе, очевидно, существует какая-то система, но, очевидно опять-таки, эта система себя не оправдывает. Только для глупцов сдерживающим началом служит религия, — ведь в ней все построено на плутовстве, вымогательстве и лжи. Честность — похвальное качество, но с ней в жизни далеко не уйдешь. Все кричат о нравственности, но большинство либо забывает о ней, либо просто ее игнорирует. Зачем же мучиться? Думай лучше о своем здоровье! Не поддавайся укорам совести! Так советовала Карлотта, и Юджин соглашался с нею. Других устраивает принцип выживания наиболее приспособленных — чего же ему изводить себя? Ведь он — талант! Так Юджина бросало из стороны в сторону, и в таком-то настроении — погруженным в печальные мысли — нашла его Анджела, когда приехала в Ривервуд. Временами он забывался и делался очень весел, но он страшно исхудал, глаза у него ввалились, и Анджела вообразила, что до такого состояния его довели переутомление и душевная тревога. Зачем она оставила его одного? Бедный Юджин! Она отчаянно держалась за те деньги, которые он дал ей, и большую часть их привезла с собой, чтобы сейчас же истратить на него. Ее очень беспокоило его здоровье и душевное состояние, она сама готова была взяться за любую работу, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить его жизнь. Ей казалось, что судьба ужасно несправедлива к Юджину, и когда в первую ночь он уснул рядом с нею, она долго лежала без сна и плакала. Бедный Юджин! Подумать только, какие испытания посылает ему судьба. Но, как бы там ни было, где может, она избавит его от страданий. Она постарается создать ему уют и сделать его настолько счастливым, насколько это в ее силах. И Анджела тут же принялась подыскивать хорошую квартирку или две-три комнаты, где им было бы спокойно и где она могла бы сама для него готовить. Вероятно, без нее он плохо питался. Надо создать ему возможно лучшие условия, надо, чтобы он всегда видел ее сильной и бодрой, быть может, ему передастся частица ее мужества, и он начнет поправляться. И она энергично взялась за дело, не переставая в то же время любовно ухаживать за Юджином, так как была убеждена, что в этом он особенно нуждается. Анджела и не представляла себе, каким фарсом все это ему казалось. Каким негодяем он представлялся себе! А между тем ему вовсе не хотелось быть негодяем — разбить все ее иллюзии и бросить ее на произвол судьбы. Эта двойная жизнь была так мучительна! Он не мог не признавать, что Анджела во многих отношениях лучше Карлотты. Однако Карлотта обладала более широким кругозором, в ней было больше утонченности. Это была светская львица, королева — лукавая, убийственно расчетливая, но все же королева. А вот Анджела больше подходила под общепринятое определение «хорошей женщины» — честная, энергичная, предприимчивая, готовая во всем подчиниться традициям и условностям своего времени. Юджин знал, что общественное мнение было бы всецело на ее стороне, а Карлотту оно осудило бы, но все же его больше влекло к Карлотте. Ах, если б можно было сохранить и ту и другую! Вот было бы прекрасно! — думал Юджин.Глава 54
Однако в действительности все обстояло далеко не так просто и мило, как хотелось бы Юджину. Анджела была бдительна до крайности, она по-прежнему стояла на страже долга и добропорядочности и как зеницу ока оберегала те привилегии и почести,которые по праву принадлежали ей как жене одаренного художника, правда временно потерявшего трудоспособность, но все же человека с большим будущим. Она обманывала себя надеждой, что невзгоды, свалившиеся на голову Юджина, закалили его и развили его практические способности, научили заботиться о себе, возбудили в нем инстинкт самозащиты и бережливость. Хорошо, что он сумел прожить на такой небольшой заработок, думала она. Но она добьется большего, они будут делать сбережения. Она откажется от своей мечты о роскошной студии и приемах и, каков бы ни был их доход, немедленно начнет откладывать деньги, хотя бы немного, — пусть даже только десять центов в неделю. Если Юджин, трудясь каждый день, в состоянии заработать лишь девять долларов в неделю, — они будут жить на эти деньги. Юджин сказал ей, что у него осталось еще девяносто семь долларов из тех ста, которые он привез с собой, и их она решила немедленно положить в банк. Но он ни словом не обмолвился ни о проданной картине, ни о том, что промотал вырученные за нее деньги. Они будут класть в банк все, что принесет им продажа его картин в будущем, пока он опять не станет на ноги. В самое ближайшее время — как только у них заведутся деньги — они купят домик, чтобы не платить за квартиру. Часть их сбережений (очень незначительную) можно лишь в крайнем случае расходовать на одежду, но, вообще говоря, они к этим деньгам не будут прикасаться. Анджела и сейчас нуждалась кое в чем из платья, но решила, что с этим можно подождать. К девяноста семи долларам Юджина она прибавила те двести двадцать восемь, которые привезла с собой, и эта сумма в триста двадцать пять долларов была немедленно положена в Ривервудский банк. Пустив в ход всю свою энергию и красноречие, Анджела нашла четыре комнатки в доме одного мебельного фабриканта. Тут раньше жила его дочь, вышедшая замуж, и владельцы готовы были сдать квартиру художнику с женой почти даром — в сравнении с ее действительной стоимостью, так как это был красивый особняк, стоявший на живописной лужайке. Хозяева спросили с них двенадцать долларов в месяц. Миссис Дизнес, жена фабриканта, была так очарована Анджелой, что распорядилась специально для нее переделать небольшую спальню во втором этаже с прилегавшей к ней ванной под кухню и поставить там газовую плиту. Анджела немедленно начала хозяйничать, применяясь к своему скудному бюджету. Пришлось купить кое-что из мебели, так как квартирка не была полностью обставлена, но Анджела порыскала по лавкам старьевщиков в Нью-Йорке, обошла все универсальные магазины, побывала на аукционах, и ей удалось дешево купить несколько вещей, подходящих к предоставленной им мебели — кровати, туалету и столам в гостиной и столовой. Занавески для окон в ванной и в кухне она сама накроила, вышила и повесила. Отправившись на склад, где хранились непроданные картины Юджина, которые он не сдал на комиссию, она привезла оттуда семь полотен и развесила их в гостиной и в столовой. Затем она занялась гардеробом Юджина, особенно его бельем и носками, и скоро привела в порядок весь его скудный запас платья и белья. Она покупала на местном рынке хорошие овощи и немного мяса и готовила превосходные жаркое, рагу и вкусные омлеты с мясным соусом, на французский лад. Все ее искусство хозяйки было пущено в ход, чтобы квартира имела красивый и опрятный вид, чтобы стол (при очень небольших расходах) был обилен и разнообразен, чтобы не только можно было жить на девять долларов в неделю, но еще откладывать доллар на текущий счет в банке. У нее была маленькая коричневая копилка в форме кувшинчика, рассчитанная на пятнадцать долларов мелочью и открывавшаяся лишь тогда, когда кувшинчик наполнялся до краев, и Анджела добросовестно старалась опустить туда возможно больше монет. Она задалась целью восстановить положение мужа в обществе, — на этот раз прочно, — и твердо решила, что добьется своего. С другой стороны, хорошенько поразмыслив, а также посоветовавшись кое с кем, Анджела пришла к заключению, что как для нее самой, так и для Юджина вредны половые излишества. Какая-то женщина — еще в Блэквуде — указала ей на случай прогрессивного паралича, явившийся результатом невоздержанности; Анджела узнала также, что это влечет за собой и другие нервные заболевания. Возможно, что такая же история произошла и с Юджином. Она твердо решила спасти его от него самого. За себя она не беспокоилась, но у Юджина такая хрупкая и чувствительная натура. Между тем Юджин горевал о потерянной свободе и болезненно переживал эту столь резкую перемену в своем образе жизни. Он видел, что Анджела всем довольна — главным образом потому, что, как ей казалось, он проводит все дни благонравно, в тяжелом труде. Она и не подозревала о существовании Карлотты. В ее представлении они начинали новую трудовую жизнь, простую и идиллическую, стремясь к одной цели — к его, а следовательно, и ее, успеху. Юджин был преисполнен всяческого уважения к такой программе, но лишь в теории, применительно к другим. Сам же он — художник, а жизнь художника не укладывается в обычные рамки человеческого поведения: он должен пользоваться интеллектуальной свободой, правом бывать где угодно и общаться с кем угодно. Для Юджина брачный договор был ненавистным ярмом, исключавшим всякую возможность наслаждаться жизнью, и вот теперь, после короткой передышки, когда он пользовался свободой, это ярмо снова тяжело ложится ему на шею. Растаяли, как дым, прекрасные мечты о счастье, недавно еще такие реальные, — надежда жить с Карлоттой, легко и свободно встречаться с нею в том мире, где она вращалась. Неколебимое убеждение Анджелы, что он будет работать каждый день и еженедельно приносить домой девять долларов (вернее, месячное жалованье из этого расчета), заставили его припрятать небольшую сумму, оставшуюся от трехсот долларов, с тем чтобы пополнять дефицит в заработке, который могли вызвать его отлучки из мастерской. У него уже не было возможности видеться с Карлоттой по вечерам, и для встреч с нею приходилось по нескольку раз в неделю отлучаться днем или утром. Он уходил из дому по обыкновению без четверти семь утра, в своем обычном городском костюме (во избежание расспросов он сказал Анджеле, что надевает рабочий костюм в мастерской), и потом либо шел, либо не шел в мастерскую. Неподалеку от нее он садился на трамвай, быстро доставлявший его в город, и там катался или гулял с Карлоттой. Оба они не переставали думать о том, что это сопряжено с риском, но тем не менее продолжали встречаться. Как назло — а может быть, и к счастью — Норман Уилсон вернулся из Чикаго, и Карлотта должна была рассчитывать каждый свой шаг. Но ее это мало беспокоило. Больше всего она доверяла автомобилю — она всегда могла нанять где-нибудь машину, которая увозила их из тех мест, где их могли увидеть. Это была сложная жизнь, напряженная и опасная. В ней не было покоя, ибо нет покоя и счастья в обмане. Жгучая радость неизменно сменялась мучительным раскаянием. Все было против них — мать Карлотты, Норман Уилсон и Анджела, не говоря уже о собственной совести. Известно, однако, что такое положение не может длиться долго. Оно порочно в самом своем существе. Нам кажется, что если мы скрываем свои поступки, то они скрыты и от людских глаз и тем самым как бы не существуют, — но это неверно. Они неотъемлемая часть нас самих и, вопреки всем нашим уловкам, рано или поздно выступают наружу. Как тут не согласиться с учением браминов о психическом теле, которое все видит и само видимо даже тогда, когда, как нам кажется, все окутано густым мраком. Нет никакой другой гипотезы, которой можно было бы объяснить явление интуиции. А между тем интуиция свойственна очень многим людям, и они часто ссылаются на свою уверенность в чем-либо, хотя сами не могут сказать, откуда она у них. Анджела обладала такой интуицией во всем, что касалось Юджина. Под влиянием своей любви к нему она терзалась смутными страхами задолго до того, как что-нибудь случалось. Все время разлуки с ним ее неотступно преследовала мысль, что ей надо было бы находиться подле него. А теперь, когда они были вместе, когда прошло первое возбуждение, вызванное встречей и устройством новой жизни, она почуяла что-то недоброе. Юджина как будто подменили. Он был совсем не тот, каким она помнила его последнее время перед разлукой. Все его отношение к ней, несмотря на внешние проявления любви, говорило об отчужденности и озабоченности. Юджин ничего не умел скрывать. Временами, особенно когда они оставались вдвоем, он погружался в свои мысли. Ему было скучно, его томила любовная тоска, ибо Карлотта, занятая теперь семейными делами, уже не могла так часто видеться с ним. К тому же с приближением осени ему все больше и больше надоедала мастерская. Из-за сырой погоды и легких заморозков приходилось закрывать все окна, и это существенно меняло картину: пропадала та атмосфера романтичности, которая так очаровала Юджина, когда он впервые пришел сюда. Он не мог уже отправляться по вечерам на прогулку вдоль берега ручья, чтобы очутиться в объятиях Карлотты. Утратило для него всю прелесть новизны и общение с Джоном-Бочкой, Джозефом Мьюзом, Малаки Демси и коротышкой Садзом. Юджин начинал понимать, что эти люди — в сущности самые обыкновенные рабочие, которых возмущает, что им платят не более пятнадцати или семнадцати с половиной центов в час, которые завидуют друг другу и тем, кто занимает более высокое положение, — короче говоря, что они наделены всеми присущими человеку слабостями. Появление Юджина в мастерской вначале послужило для них некоторым развлечением, но теперь в его странностях не было уже ничего нового. Они тоже начинали видеть в нем самого обыкновенного человека. Правда, он был художник, но его поступки и стремления не так уж отличались от поступков и стремлений простых смертных. Работа в такой мастерской, как и во всяком другом предприятии, где люди в силу обстоятельств вынуждены трудиться бок о бок и в хорошую и в плохую погоду, когда им весело и когда грустно, легко может стать — и действительно часто становится — сущим адом. Человеческая натура — это тонкий механизм, реагирующий на малейшее раздражение и редко действующий сообразно с разумом. Она не столько подчинена правилам этики и законам логики, сколько настроениям и темпераменту. Юджину, с его наблюдательностью, нетрудно было заметить, что рабочие приходили в мастерскую, волоча за собой груз домашних неприятностей, скрытых недомоганий и всяческих невзгод, но они считали, что причиной всех их горестей является не их собственное состояние, а то, что творится вокруг. Сердитый взгляд вызывал сердитый взгляд, на грубый вопрос следовал грубый ответ. Иногда между отдельными рабочими устанавливались неприязненные отношения только из-за того, что кто-то давным-давно сделал какое-то резкое замечание. Юджину казалось, что, создавая атмосферу веселости и неизменного — хотя бы и притворного — благодушия, он как бы способствовал смягчению и умиротворению их нравов. Но это было лишь относительно верно. Его веселость порой так же раздражала тех, кто не был весело настроен, как его выводила из себя их грубость. Поэтому у него возникло сильное желание скорее поправиться и уйти из мастерской или по крайней мере переменить работу, так как здесь он уже не ожидал для себя ничего хорошего. Его присутствие всем приелось. Его способность развлекать людей, его обаяние точно исчезли. Все это делало положение Юджина, не говоря уже о неусыпном надзоре Анджелы, достаточно неприятным. Но судьбе было угодно, чтобы оно стало еще хуже. Наблюдая за Юджином и стараясь разгадать его настроение, Анджела стала что-то подозревать, что именно, она сама не знала. Он уже не любил ее, как раньше. В его ласках ощущался какой-то холодок, которого не было, когда он расставался с нею. Что случилось? — спрашивала она себя. Объясняется ли это разлукой или, может быть, чем-то другим? Однажды, когда он вернулся, проведя день в обществе Карлотты, и, здороваясь с Анджелой, обнял ее, она серьезно спросила: — Ты действительно любишь меня, котик? — Ты ведь знаешь, что люблю, — сказал он, но это прозвучало неубедительно, так как он не испытывал к ней никакого чувства. От прежнего пыла и следа не осталось; было лишь сочувствие к Анджеле, жалость и какая-то обида за нее, — вот что она получает за все свои жертвы! — Нет, не любишь, — ответила она, уловив в его тоне неискренность. Голос ее прозвучал печально, а в глазах выразилось безысходное отчаяние, в которое она так легко впадала. — Да ты что, Ангелочек, конечно, люблю! — настаивал он. — Почему ты вдруг спрашиваешь? Что случилось? Он испугался: уж не прослышала ли она о чем-нибудь, не видела ли чего, не это ли скрывается за ее вопросом? — Ничего не случилось, — ответила она. — Только ты меня не любишь. Я не знаю, в чем дело. Я ничего не могу объяснить. Но я это чувствую — вот здесь, — добавила она, приложив руку к сердцу. Жест был искренний, естественный, какой-то совсем детский. Юджину стало больно. — Полно, полно! Не говори так, — взмолился он. — Ты знаешь, что я тебя люблю. Зачем эти мрачные мысли! Я тебя люблю, — разве ты не чувствуешь? — И он поцеловал ее. — Нет, нет, — твердила Анджела. — Ты меня не любишь. О боже мой! Если б ты только знал, до чего мне больно! Юджин опасался, как бы за этим не последовала обычная истерика, но этого не случилось. Анджела поборола себя, так как у нее не было серьезных оснований подозревать его, и принялась хлопотать об обеде. Настроение ее, однако, продолжало оставаться угнетенным, и Юджин тревожился. Что, если она когда-нибудь узнает? Проходили дни. Карлотта изредка звонила Юджину в мастерскую, так как там, где он жил, не было телефона, а если бы даже и был, она не рискнула бы звонить домой. Она посылала ему заказные письма «до востребования» на имя Генри Кингсленда в Спионке. Никто не знал там Юджина, и он без труда получал эти послания, обычно составленные в очень осторожных выражениях и говорившие о ближайшем свидании. В них давались самые туманные и таинственные указания места встречи, понятные только ему. Так, например, Карлотта писала: «Если я не приеду в четверг в два часа, тогда в пятницу в то же время, а если не в пятницу, то в субботу. В случае невозможности выехать дам знать срочным заказным письмом». Так оно и шло. Однажды около полудня Юджин пошел в Спионк на почту узнать, нет ли ему письма, так как накануне Карлотта не могла с ним встретиться и передала по телефону, что напишет. Он получил письмо и, пробежав глазами заключавшиеся в нем несколько слов, хотел было по обыкновению разорвать его и выбросить. Однако обращение: «О, Джини!» и подпись «Испепеленная роза» так живо напомнили ему его любовницу, что ему жалко было расстаться с письмом. Он решил оставить его у себя еще на некоторое время — хотя бы на несколько часов. Ведь даже попадись оно кому-нибудь на глаза, все равно никто ничего не поймет. «Мост. В среду. Два». Речь шла о мосте через реку Гарлем близ Морис-Хайтс. Юджин пришел на свидание, как было указано, но по роковой случайности забыл о письме и вспомнил только, когда уже входил к себе в дом. Вынув письмо из кармана, он быстро разорвал его на несколько частей и, сунув обрывки в жилетный карман, пошел наверх, намереваясь выбросить их при первой возможности. Между тем Анджела, впервые за все время их пребывания в Ривервуде, решила часов около шести пойти по направлению к мастерской, чтобы встретить Юджина, когда он будет возвращаться. Она столько раз слышала от него о том, как красива река и какое наслаждение утром и вечером идти по берегу. Ему так нравилось любоваться зеркальной гладью воды и нависшими над ней деревьями. Анджела уже несколько раз гуляла с ним там по воскресеньям. В этот вечер она думала о том, каким это будет для него приятным сюрпризом; прежде чем выйти из дому, она все приготовила, и Юджину не придется долго дожидаться ужина. Неподалеку от мастерской она услышала гудок и, притаившись за кустами, окаймлявшими дорогу со стороны реки, стала ждать, с намерением выскочить и испугать Юджина, как только он покажется. Но Юджин не шел. Человек сорок или пятьдесят рабочих прошли мимо нее, подобные цепочке черных муравьев, и так как Юджин все не показывался, Анджела направилась к воротам, которые Джозеф Мьюз, исполнявший после гудка обязанности привратника, уже собирался запереть. — Скажите, мистер Витла здесь? — спросила Анджела, глядя на него через решетку. Юджин так точно описал ей Джозефа, что она сразу узнала его. — Нет, мэм, — отвечал Джозеф, пораженный этим видением, так как красивые женщины не часто появлялись у ворот мастерской. — Он ушел уже часа четыре или пять тому назад. Если я не ошибаюсь, еще в час дня. Сегодня он не работал с нами. Он был занят на дворе. — А вы не знаете, куда он пошел? — спросила Анджела, изумленная этой новостью. Юджин не говорил ей, что собирается куда-то. Где же он мог быть? — Нет, мэм, не знаю, — с готовностью ответил Джозеф. — Он нередко так уходит, — довольно часто, мэм. Жена звонит ему по телефону… э-э… не вы ли будете его жена? — Да, я, — сказала Анджела, уже не думая о том, что говорит. Юджин часто уходит? Она первый раз об этом слышит! Жена звонит ему по телефону! Неужели опять какая-то женщина! В этот миг в Анджеле пробудились все ее былые подозрения, ревность, страхи, и она стала спрашивать себя, как она раньше не догадывалась. Ну, конечно, этим и объясняется равнодушие Юджина! Этим и объясняется его рассеянный вид. Он думал не о ней, негодяй! Он думал о ком-то другом! Все же нельзя знать, — ведь у нее нет никаких доказательств. С помощью двух-трех дипломатично заданных вопросов она выяснила, что никто в мастерской не видел его жены. Просто он куда-то уходил. И какая-то женщина звонила ему по телефону… Анджела направилась домой, теряясь в догадках. Юджина еще не было, — он часто запаздывал, объясняя это тем, что задержался по дороге, чтобы полюбоваться рекой. Это было вполне естественно для художника. Анджела поднялась наверх, сняла соломенную шляпу с большими полями и повесила ее в шкаф, а затем направилась в кухню дожидаться возвращения мужа. Опыт совместной жизни с ним и знание своего собственного характера привели ее к решению на этот раз схитрить. Она подождет, пока он сам не заговорит, она сделает вид, будто не выходила из дому. Она спросит его, много ли он работал в этот день, чтобы убедиться, скажет ли он ей о своей отлучке с фабрики. Тогда ей станет ясно, как он проводит время, обманывает ее или нет. Юджин поднялся по лестнице в отличном расположении духа, но озабоченный мыслью о том, что нужно выбросить обрывки письма. Однако случая для этого ему не представилось, так как Анджела встретила его при входе. — У тебя был сегодня тяжелый день? — спросила она, мысленно отметив, что сам он ничего не говорит о своей отлучке с работы. — Нет, не особенно. А разве у меня усталый вид? — Нет, — ответила она с затаенной горечью. Ей хотелось убедиться, насколько изощренно и обдуманно он будет лгать. — Я просто боялась, что ты много работал. Ты сегодня тоже останавливался по дороге полюбоваться рекой? — Да, — без запинки отвечал Юджин. — Там очень хорошо. Никогда не надоедает смотреть. Особенно теперь, когда лучи солнца падают на желтеющие листья. Это напоминает витражи в окнах храма. Услышав это, Анджела чуть не закричала: «Зачем ты лжешь, Юджин?» — так как характер у нее был вспыльчивый и временами она совершенно теряла самообладание. Но она сдержалась. Ей хотелось выведать побольше. Как это сделать, она еще не знала, но время поможет — надо только выждать. Юджин направился в ванную, поздравляя себя с тем, что так легко отделался и избежал долгих расспросов. Но мысль о клочках письма, все еще лежавших в жилетном кармане, вытеснила из его памяти это минутное чувство успокоения, — впрочем, не надолго. Он повесил пиджак и жилет на крючок и направился в спальню за чистым воротничком и галстуком. Пока он находился там, Анджела проскользнула в ванную. Она всегда уделяла много внимания платью Юджина, чистила, гладила, чинила, но сегодня ею руководили другие мотивы. Она быстро обшарила все его карманы и обнаружила обрывки письма; тогда она сняла пиджак и жилет с вешалки, будто бы для того, чтобы вычистить на них какие-то пятна. В этот момент Юджин спохватился. Он поспешно вышел из спальни, но письмо было уже в руках у Анджелы, и она с любопытством рассматривала его. — Что это такое? — спросила Анджела, вся насторожившись; она учуяла в этих клочках новое доказательство измены мужа. Зачем было Юджину хранить в кармане разорванное письмо? В последнее время ее не покидало предчувствие беды. Все в муже казалось ей подозрительным. И вот теперь правда выплывала наружу. — Ничего, — сказал он, слегка нервничая. — Какая-то записка. Брось ее в корзину. От Анджелы не укрылось что-то странное в его голосе и поведении. Ее поразил его виноватый взгляд. Что-то тут неладно! Его беспокоят эти бумажки. Может быть, в них ответ на мучившую ее загадку? Возможно, в них имя той женщины? У нее мелькнула мысль сложить эти клочки, но она тут же решила, что надо проявить полное спокойствие. Так будет лучше. Нужно потерпеть сейчас, чтобы больше разузнать потом. Она кинула бумажки в корзину, решив позднее, на досуге, сложить их. Юджин заметил, что она колеблется и словно что-то заподозрила. Он испугался, — ведь она может что-то предпринять? — но что?.. Когда обрывки бумаги полетели в корзину, он вздохнул с облегчением, но не успокоился. Если бы можно было сжечь их! Он считал мало вероятным, что Анджела вздумает их складывать, но ему было страшно. Он все что угодно отдал бы сейчас, лишь бы этого не случилось, и ругал себя за глупейшую сентиментальность, которая завела его в такую ловушку.Глава 55
Анджела не стала терять ни минуты. Едва Юджин прошел в ванную, она быстро схватила обрывки, кинула на их место другие, похожие, и начала собирать письмо, разложив его на гладильной доске. Это не представляло большой трудности, так как клочки были крупные. На одном, треугольном, обрывке она прочла: «О Джини!», на другом «мост», а на третьем — «роза». Достаточно было взгляда, чтобы убедиться, что это любовная записка, и все ее нервы напряглись от сознания важности сделанного ею открытия. Значит, у Юджина кто-то есть? Не этим ли объясняется его холодность, его притворная ласковость? Не потому ли он не хотел, чтобы она приезжала? Боже мой, неужели конца не будет ее пыткам? С белым, как мел, лицом, судорожно сжимая в руках предательские клочки бумаги, она быстро прошла в гостиную и снова занялась письмом, решив довести дело до конца. На это не потребовалось много времени. В минуту письмо было сложено, и тогда Анджела прочла все. Любовное послание! От какой-то развратной твари! Ну, конечно. За всем этим крылась какая-то таинственная женщина. «Испепеленная роза»! Будь она проклята, эта искусительница, эта воровка чужой любви, эта сирена, притягивающая, завлекающая мужчин взглядом своих змеиных глаз. А Юджин! Пес! Негодяй! Подлый трус! Изменник! Неужели же он вовсе лишен всякой порядочности, душевной доброты и чувства благодарности? Так поступить с ней в награду за все ее долготерпение, за все страдания и жертвы. Писать, что он болен и одинок, что он не может предложить ей приехать, и в то же время волочиться за другой! «Испепеленная роза»! Будь она трижды проклята! Пусть господь поразит ее смертью за то, что она так бесстыдно, так бессовестно похитила священную собственность другой женщины! Анджела в отчаянии ломала руки. Она была вне себя. В ее красивой головке теснились ярость, ненависть, зависть, горе, обида и звериная жажда мести. О, если бы она могла добраться до нее! Если бы она могла бросить Юджину в лицо все, что она о нем думает! Если б она могла застать их вместе и убить обоих! С каким наслаждением она закатила бы пощечину этой шлюхе! Она вырвала бы ей все волосы, она выцарапала бы ей глаза! Что-то в Анджеле напоминало дикую кошку, когда при мысли о той в глазах ее вспыхивало неукротимое бешенство. Очутись она лицом к лицу с Карлоттой, она способна была бы пытать ее каленым железом, вырвать у нее язык, исхлестать ее так, чтобы на ней живого места не осталось. Она превратилась в тигрицу, глаза ее горели, алые губы были влажны. Она убьет ее! Убьет! Видит бог, она убила бы ее, если б могла найти, а заодно и Юджина и себя! Да, да, убила бы! Лучше смерть, чем такая мука! В тысячу раз лучше умереть, лежать мертвой рядом с трупами этой подлой женщины и обманщика-мужа, чем так страдать! Она не заслужила этого. За что бог посылает ей такие испытания? Почему она должна ежечасно исходить кровью из-за своей жертвенной любви? Разве не была она преданной женой? Разве не принесла она на алтарь любви нежность, долготерпение, забвение себя, самопожертвование и добродетель? Чего еще может бог требовать от нее? Чего еще может желать мужчина? Разве не заботилась она о Юджине, и о здоровом и о больном? Она отказывала себе в платьях, она лишила себя общества, она целых семь месяцев проторчала в Блэквуде, пока он здесь растрачивал свое здоровье и время на любовь и разврат. Так-то она вознаграждена! И в Чикаго, и в Теннесси, и в Миссисипи — разве не ухаживала она за ним, разве не просиживала с ним ночи, не ходила с ним по комнате, когда он нервничал, не утешала его, когда им овладевал страх перед нищетой и крушением его карьеры? И вот после бесконечных месяцев терпеливого ожидания она снова страдает, снова покинута. О непостижимая жестокость мужского сердца! Подумать только, что человек может быть таким подлым, таким неблагодарным! Подумать только, что черноглазый Юджин с его мягкими волосами и обаятельной улыбкой оказался изменником, хитрецом, негодяем! Неужели он действительно такой, как это видно по письму? Возможно ли, что он так жесток, так эгоистичен? Не сон ли это? Ах, боже мой, нет, это не сон! Это мучительная, горькая действительность… И виновник всех ее страданий сидит в ванной и спокойно бреется! На мгновенье у нее мелькнула мысль пойти к Юджину и дать ему пощечину. Ей казалось, что она могла бы вырвать его сердце, зарезать его живьем. Но едва она представила себе Юджина, залитого кровью, мертвого, как ужаснулась своим мыслям. Нет, нет! Этого она не сделает! О нет! Только не его… Но все же… все же… «Господи, добраться бы мне до этой женщины! — думала она. — Я убью ее! Убью!» Буря бешенства и возмущения еще клокотала в ее груди, когда в ванной щелкнула ручка двери и Юджин вышел оттуда в брюках, ботинках и в нижней сорочке, чтобы взять чистую рубашку. Он все еще сильно нервничал из-за письма, обрывки которого были брошены в корзину, но, заглянув в кухню и убедившись, что они лежат на месте, немного успокоился. Анджелы в кухне не было. Как только он узнает, где она, он вернется и заберет эти обрывки. Он направился в спальню, но по пути заглянул в гостиную. Анджела стояла у окна и, по-видимому, дожидалась его. Возможно, в конце концов, что она вовсе не так подозрительна. Всему виною его воображение. Он слишком нервничает, слишком сильно реагирует на всякие пустяки. Ну вот, если удастся, он сейчас соберет обрывки и выбросит их. Лучше, чтобы они не попадались Анджеле на глаза. Он проскользнул на кухню, быстро схватил горстку бумажек, швырнул за окно, и они разлетелись в воздухе. У него сразу отлегло от сердца. Теперь уж он никогда не принесет домой ни одного письма, можете быть уверены! Очень уж ему не везет. Когда в ванной щелкнула дверная ручка, это сразу отрезвило Анджелу. Злоба душила ее, сердце учащенно билось, все ее существо было потрясено до основания, и, однако, она понимала, что ей нужно время. Прежде всего она должна разузнать, кто эта женщина. Нужно найти ее. Юджин ничего не должен подозревать. Где она сейчас? Что это за мост? Где они встречаются? Где она живет? Почему, спрашивала себя Анджела, не может она постичь этого усилием ума? Почему ее не озарит догадка, не посетит чудесное откровение? Если б только знать! Через несколько минут Юджин вошел в столовую, чисто выбритый, с улыбкой на лице. Его душевное и умственное равновесие было почти восстановлено. Письма нет. Анджела никогда не узнает о нем. Она могла что-то подозревать, но грозившая ему вспышка ревности пресечена в корне. Он подошел к ней, чтобы обнять ее, но она быстро увернулась под предлогом, что ей нужно пойти за сахаром. Он не настаивал на своей попытке быть ласковым — вольному воля! — и, усевшись за маленький столик, накрытый белоснежной скатертью и уставленный аппетитными блюдами, стал дожидаться Анджелы. День выдался очень хороший — было начало октября, — Юджин любовался игрою лучей заходящего солнца на желтых и красных листьях. Дворик был очарователен. Маленькая квартирка, несмотря на бедность ее обитателей, выглядела так уютно! На Анджеле было изящное домашнее платье — коричневое с зеленым. Его прикрывал темно-синий передничек. Она была очень бледна и как-то рассеянна, но Юджин сначала даже не заметил этого, такое он чувствовал облегчение. — Ты очень устала, Анджела? — участливо спросил он наконец. — Да, — ответила она. — Я что-то нездорова сегодня. — Что ты делала? Гладила? — Да. Гладила и убирала. Сегодня занялась буфетом. — Тебе не следовало бы так много делать сразу, — продолжал он. — Ты недостаточно крепка. Работаешь, как ломовая лошадь, а сил у тебя не больше, чем у жеребенка. Зачем ты так утомляешь себя? — Да я и не буду, когда все приведу в порядок, — ответила она. Она отчаянно боролась с собой, чтобы скрыть свои настоящие чувства. Никогда еще не терпела она такой нравственной пытки. Когда-то в нью-йоркской студии, обнаружив те письма, она думала, что сильно страдает, но разве могло это сравниться с тем, что она переживала сейчас? Что значила по сравнению с этим ее ревность к Фриде? Что значили ее одиночество и тоска в Блэквуде, горе и тревоги, вызванные его болезнью? Ничего, ровно ничего. Вот это действительно измена. Теперь у нее в руках все улики. Эта особа где-то здесь, совсем близко. Он обманывал ее, Анджелу, после стольких лет супружеской жизни, когда они делили вместе и горе и радость. Возможно, что он встречался с этой женщиной даже сегодня, вчера, позавчера. На письме не было числа. Неужели это родственница миссис Хиббердел? Юджин как-то упоминал, что у нее есть замужняя дочь, но никогда не говорил, что она живет в Ривервуде. Но если бы она жила у миссис Хиббердел, зачем бы он стал переезжать? Нет, тогда он не переехал бы. Может быть, это его последняя квартирная хозяйка? Нет, та чересчур проста. Анджела видела ее. Юджин не мог бы увлечься ею. Только бы узнать кто! «Испепеленная роза»! Красные круги поплыли у нее перед глазами. Но не имело смысла поднимать сейчас бурю. Лучше сохранить спокойствие. Если бы она могла хоть поделиться с кем-нибудь, поговорить со священником или с близкой подругой! Можно обратиться в сыскное агентство. Там помогут. Сыщик легко выследит эту парочку. Сделать так? Но это стоит денег, а они сейчас очень бедны. Ха! С какой стати будет она тревожиться из-за того, что они бедны, чинить и перешивать платья, отказывать себе в шляпке, в приличной обуви — чтобы он растрачивал себя и свое время на какую-то бесстыжую девку? Будь у него деньги, он тратил бы их на нее. Хотя, правда, он отдал ей, Анджеле, почти все, что привез с собой в Нью-Йорк. Чем это объяснить? Пока Анджела предавалась этим размышлениям, Юджин сидел против нее и ел с большим аппетитом. Если бы история с письмом не разрешилась так благополучно, ему было бы не до еды. Но сейчас у него было легко на душе. Анджела сказала, что не голодна и есть не будет. Она пододвигала ему хлеб, масло, картофельную запеканку и чай, и он с удовольствием пил и закусывал. — Я все думаю о том, как бы развязаться с этой мастерской, — дружелюбно сказал он, прерывая тягостное молчание. — Почему? — машинально спросила Анджела. — Наскучило мне там. Товарищи по работе меня больше не интересуют. Надоели они мне. Я думаю, что мистер Хейверфорд переведет меня, если я ему напишу. Он обещал. Я предпочел бы работать с какой-нибудь артелью на открытом воздухе. Когда фабрику законопатят на зиму, там будет страшно тоскливо. — Что ж, пожалуй, это лучше, если тебе там надоело. Я знаю, у тебя уж такой характер, тебе нужна перемена обстановки. Почему же ты не напишешь мистеру Хейверфорду? — Я напишу, — ответил он. Однако он не стал этим заниматься. Он прошел в гостиную и зажег газовый рожок, почитал газету, потом книгу, потом его сморила усталость, и он начал зевать. Немного спустя вошла Анджела, бледная и измученная. Она принесла рабочую корзинку с носками, нуждавшимися в штопке, и приступила к работе, но мысль, что она делает это для Юджина, была ей нестерпима. Она отложила носки в сторону и принялась за юбку, которую шила для себя. Юджин некоторое время следил за нею сонным взглядом, изучая и соразмеряя глазом художника линии ее лица. «У нее очень правильные черты», — решил он. А затем обратил внимание на игру света в ее волосах — это придавало им своеобразный отлив — и подумал, удалось ли бы ему передать это масляными красками. Писать при искусственном освещении труднее, чем при дневном. Тени — чрезвычайно коварная штука. Наконец он встал. — Ну, пора на боковую, — сказал он. — Устал что-то. А завтра вставать в шесть. Эта поденная работа мне осточертела. Хоть бы она уж кончилась! Анджела не решалась заговорить, она еще недостаточно владела собой. У нее так наболело в душе, что казалось, она закричит, если только откроет рот. Юджин направился к двери, бросив на ходу: «Ты скоро?» Она молча кивнула. Когда он вышел, словно плотину прорвало, — слезы хлынули жгучим потоком. Она плакала не столько от горя, сколько от ярости и сознания своего бессилия. Она убежала на балкончик и там рыдала в одиночестве, а вокруг нее задумчиво мерцали ночные огни. После первой вспышки горя сердце ее окаменело и слезы иссякли, так как не в ее характере было зря проливать слезы, когда ею владело бешенство. Она вытерла глаза, и на ее мертвенно-бледном лице снова застыло отчаяние. «Пес, негодяй, злодей, зверь!» — проносилось у нее в голове. Как могла она полюбить его? Как может она любить его сейчас? О, сколько в жизни ужаса, несправедливости, жестокости, позора! Подумать только, что ей суждено быть втоптанной в грязь вместе с таким человеком! Какая обида! Какой срам! Если это и есть так называемое искусство, то пропади оно пропадом! Но как бы она ни ненавидела Юджина, как бы ни ненавидела эту распутницу, эту «испепеленную розу», она все же любила его. Тут она была беспомощна. Это было сильнее ее. О, какая мука сгорать одновременно на двух кострах! Почему бог не пошлет ей смерти? Как хорошо было бы умереть!Глава 56
Муки, причиняемые любовью, по праву могут называться муками ада. После описанного случая Анджела непрестанно следила за Юджином, потихоньку кралась за ним по берегу реки и даже не стеснялась бежать следом, как только он удалялся шагов на восемьдесят от дома. Она сторожила у Ривервудского моста и в час дня и в шесть часов вечера, ожидая, что быть может, когда-нибудь Юджин и его любовница встретятся там. Но, по счастью, Карлотте понадобилось дней на десять уехать с мужем из Нью-Йорка, и Юджину не грозила никакая опасность. Раза два, стосковавшись по прежней жизни, он съездил в Нью-Йорк — побродить по наиболее оживленным улицам, где Анджела, которая отправлялась за ним, немедленно теряла его след. Он, однако, ничего предосудительного не делал, а только ходил по улицам, раздумывая о том, где-то сейчас Мириэм Финч, Кристина Чэннинг и Норма Уитмор, помнят ли они его и чем объясняют его исчезновение. Из всех своих старых знакомых он лишь однажды видел Норму Уитмор, вскоре после возвращения в Нью-Йорк. Он наплел ей что-то весьма невразумительное о своей болезни, сказал, что намерен приступить к работе, и выразил желание навестить ее. Но в общем Юджин старался избегать таких встреч, боясь, что ему придется объяснять, почему он не может работать. Мириэм Финч даже слегка злорадствовала по поводу крушения его карьеры; она не могла простить ему небрежного, как ей казалось, отношения к ней. Кристина Чэннинг, как узнал Юджин, пела в оперном театре, — он как-то прочел в газете объявление, где ее имя было напечатано крупным шрифтом. В ноябре она должна была выступать в «Богеме» и в «Риголетто». Кристина стала настоящей оперной дивой, которая заботилась только о своих сценических успехах. В одном Юджину посчастливилось — ему удалось переменить работу. Как-то, придя в мастерскую, он увидел там новое лицо. Это был десятник Тимоти Диган, ирландец; под его началом находилось человек двадцать поденщиков-итальянцев, которых он называл не иначе, как «морские свинки». Юджину он сразу понравился. Диган был среднего роста, коренастый, с толстой шеей и веселым румяным лицом; у него были проницательные, хитрые серые глазки, жесткие, коротко остриженные седые волосы и щетинистые усы. Его прислали в Спионк поставить в машинном отделении фундамент под динамо-машину, которая должна была питать фабрику энергией на случай ночных работ. Следом за ним прибыл вагон с инструментом, досками, тачками, лотками для известкового раствора, кирками и лопатами. Юджина рассмешил и поразил повелительный и грубый тон его приказаний. — Ну-ка, живее, Мэтт! Пошевеливайся, Джимми! Тащи лопаты! Тащи кирки! — доносились его окрики. — Песку давайте сюда! Щебню! А где же цемент? Где цемент, я вас спрашиваю? Мне нужен цемент, черт возьми! Чем вы все заняты, хотел бы я знать? А ну-ка, поживее! Давайте его сюда! — Вот кто умеет командовать, — заметил Юджин стоявшему рядом Джону-Бочке. — Еще бы, — ответил тот. Едва начались окрики, Юджин мысленно обозвал ирландца «хамом». Немного спустя, однако, он заметил в глазах Дигана лукавый огонек; тот стоял на пороге и с вызывающим видом посматривал по сторонам. Во взгляде его не было и намека на злобу; начальственный пыл вызывался лишь срочностью работы — этим объяснялась его видимая самоуверенность и напористость. — Ну и фрукт же вы! — сказал ему немного погодя Юджин и расхохотался. — Ха! Ха! Ха! — передразнил его Диган. — Поработайте, как работают мои люди, а тогда и смейтесь. — Я не над ними смеюсь, а над вами, — ответил Юджин. — Ну и смейтесь! — сказал Диган. — А мне, думаете, не смешно на вас смотреть? Юджин снова расхохотался. Ирландец решил, что это и в самом деле смешно, и тоже расхохотался. Юджин похлопал его по могучей спине, и они сразу стали друзьями. Дигану потребовалось не много времени, чтобы выведать у Джона-Бочки, как Юджин попал сюда и что делает. — Художник? — воскликнул он. — Тогда ему полезнее быть на свежем воздухе, чем сидеть тут взаперти. И хватает же нахальства у парня — еще смеется надо мной. — По-моему, он и сам предпочел бы свежий воздух. — Пусть тогда идет ко мне. Он славно поработал бы с моими морскими свинками. Покряхтел бы так несколько месяцев, небось, сразу стал бы человеком, — и он указал рукой на Анджело Эспозито, месившего лопатой глину. Джон-Бочка счел своим долгом передать эти слова Юджину. Он не думал, чтобы Юджину улыбалось работать с «морскими свинками», но с Диганом они, пожалуй, споются. Юджин увидел в этом счастливый случай. Диган ему нравился. — Не согласитесь ли вы принять на работу художника, который нуждается в поправлении здоровья? — шутливым тоном спросил Юджин. Вероятнее всего, Диган откажет ему, но это не имело значения. Почему не попытаться! — Отчего же! — И мне придется работать вместе с итальянцами? — Найдется для вас достаточно работы и без кирки и лопаты — разве что сами захотите. Ясно, что это не работа для белого человека. — А они кто, по-вашему, Диган? Разве не белые? — Ну, ясно, нет. — А кто же они в таком случае? Ведь и не черные? — Да уж известно, черномазые. — Так это же не негры. — Ну и не белые, черт возьми! Стоит только посмотреть на них, каждый скажет. Юджин улыбнулся. Он сразу оценил, какой чисто ирландской невозмутимостью должен обладать этот человек, чтобы искренне прийти к такому заключению. И порождено оно вовсе не злобой. Диган и не думает презирать этих итальянцев. Он любит своих рабочих, — но все же они для него не белые. Он не знает в точности, кто они, но только не белые. Несколько секунд спустя он уже снова командовал: «Подымай выше! Подымай выше! Опускай! Опускай!» — и, казалось, горел одним желанием — выжать последние силы из этих горемык, тогда как на самом деле работа была вовсе не такая уж тяжелая. Выкрикивая свои приказания, он даже не смотрел на рабочих, да и они мало обращали на него внимания. Время от времени среди его окриков слышалось: «А ну-ка, Мэтт!», сказанное таким мягким тоном, какого нельзя было и ожидать от него. Юджину все стало ясно. Он «раскусил» Дигана. — Если вы не против, я попрошу, пожалуй, мистера Хейверфорда перевести меня к вам, — сказал он к концу дня, когда Диган стал стягивать с себя рабочий комбинезон, а итальянцы принялись укладывать инструменты и материал. — Ясно, — сказал Диган, на которого имя всемогущего Хейверфорда произвело должное впечатление. Если Юджин надеется добиться перевода через посредство такого замечательного и недосягаемого лица, то он, должно быть, и сам необыкновенный человек. — Валите ко мне. Я с удовольствием приму вас. Достаточно, если вы будете заполнять мои требования и накладные, присматривать за рабочими в мое отсутствие и… э-э… одним словом, работы хватит. Юджин улыбнулся. Перспектива была заманчивая. Джон-Бочка еще утром рассказал ему, что Диган разъезжает взад и вперед по всему пути между Пикскиллом (на главной линии), Чэтемом, Маунт-Киско (на боковой ветке) и Нью-Йорком. Он прокладывал дренажные трубы, возводил кирпичные фундаменты, строил колодцы, угольные ямы и даже небольшие здания, — все, что угодно, все, что только можно было требовать от способного каменщика-десятника, — и был вполне доволен и счастлив своей работой. Юджин имел возможность лично убедиться в этом. Дигана окружала здоровая атмосфера. Он действовал как укрепляющее лекарство, и его живительная сила передавалась больному, измученному интеллигенту. В этот вечер, возвращаясь домой к Анджеле, Юджин думал о том, как забавна и романтична будет его новая работа. Эта перемена была ему по душе. Ему хотелось рассказать Анджеле про Дигана — посмешить ее. Увы! Его ждал совершенно не располагающий к этому прием. Дело в том, что Анджела, все еще находясь под впечатлением своего недавнего открытия, не в состоянии была больше владеть собой. Если до сих пор она покорно выслушивала измышления Юджина, зная, что всеэто ложь, то, наконец, терпение ее иссякло. Слежка ни к чему не привела, а перемена места работы должна была только затруднить ее наблюдения. Кто теперь уследит за Юджином, когда он и сам не будет знать, куда и когда его пошлют? Он будет работать то здесь, то там, — где придется. Соображения собственной безопасности вместе с чувством вины заставили Юджина быть особенно внимательным к Анджеле во всем, что не требовало от него больших усилий. Когда он давал себе труд подумать, он испытывал стыд, жгучий стыд. Подобно пьянице, он находился всецело во власти своей слабости — так, пожалуй, можно было бы наилучшим образом охарактеризовать его поведение. Он ласково обнимал Анджелу, так как при виде ее осунувшегося лица боялся, что она вот-вот заболеет. Ему представлялось, что она страдает от тревоги за него, от переутомления или от какого-то надвигающегося недуга. Несмотря на то что Юджин изменял Анджеле, он чувствовал к ней глубокое сострадание. Он по достоинству ценил ее превосходные качества — честность, бережливость, преданную и самоотверженную любовь. Ему жаль было ее мечты о простом, бесхитростном счастье с ним, так мало совместимом с его стремлением к свободе. Он знал, что от той любви, которой она от него требовала, не могло быть и речи — и все же временами сожалел об этом, очень сожалел. Иногда он незаметно наблюдал за Анджелой, восхищаясь ее красивой фигуркой, удивляясь ее трудолюбию, терпению, той бодрости, с какой она переносила лишения и невзгоды, и искренне огорчался, что судьба не отнеслась к ней милостивее и не послала ей другого мужа. Все это приводило к тому, что Юджину невыносимо было видеть страдания Анджелы. Когда она казалась ему больной, его неудержимо тянуло к ней. Ему хотелось спросить, как она себя чувствует, ободрить ее теплым словом и лаской, которые — он знал это — так много значили для нее. В этот вечер он обратил внимание на ее застывшее, измученное лицо и не удержался от настойчивых расспросов. — Что с тобой творится в последнее время? У тебя такой утомленный вид. Ты не здорова? У тебя что-нибудь болит? — Да нет, ничего, — устало ответила она. — Но ведь я вижу, что это не так, — настаивал он. — Не может быть, чтобы ты себя хорошо чувствовала. Что у тебя болит? Ты на себя не похожа. Почему ты не хочешь мне сказать, дорогая? Что с тобой? Именно потому, что Анджела упорно молчала, он решил, что все дело в физическом недомогании. Душевные страдания она не умела долго скрывать. — Разве тебя это интересует? — осторожно спросила Анджела, нарушая добровольно взятый на себя обет молчания. Она думала о том, что Юджин и эта женщина (кто бы она ни была) в заговоре против нее, что они решили извести ее, и им это удается. В ее голосе, который за минуту до того выражал усталую покорность судьбе, зазвучала плохо скрытая жалоба и обида, и Юджин заметил это. Еще раньше чем она успела что-нибудь добавить, он спросил: — А почему бы мне не интересоваться и почему ты так говоришь? Что еще стряслось? Анджела, в сущности, не собиралась продолжать. Ответ вырвался у нее невольно — очень уж сочувственный был у него тон. Да, жалость к ней у него осталась. И это только усиливало ее душевную боль и гнев. Но больше всего расстроили ее эти, последние, расспросы. — Что тебе за дело до меня? — со слезами спросила она. — Ведь я тебя не нужна. Ты меня не любишь. Ты только делаешь вид, что жалеешь меня, когда я чуть хуже выгляжу, — вот и все. А любить ты меня не любишь. Если бы можно было, ты бы с удовольствием от меня избавился. Это так ясно. — Что с тобой! Что ты говоришь? — воскликнул он, пораженный. Неужели она что-нибудь узнала? Так ли уж бесследно прошел инцидент с разорванным письмом? Может быть, ей кто-нибудь рассказал про Карлотту? Он сразу растерялся, но все же решил играть свою роль до конца. — Ты знаешь, что я тебя люблю, — сказал он. — Как ты можешь так говорить? — Нет, не любишь. И знаешь, что не любишь! — вспыхнула она. — Зачем эта ложь? Ты меня не любишь! Не тронь меня! Не подходи ко мне близко! Как мне опротивело твое лицемерие! О! Она выпрямилась и сжала руки так, что ногти вонзились в ладони. При первых ее словах Юджин успокаивающим жестом положил ей руку на плечо, и Анджела невольно он него отшатнулась. Он отступил, удивленный, встревоженный, чуть обиженный. С ее яростью было легче справиться, чем с ее горем, хотя, по правде говоря, его тяготило и то и другое. — Да что с тобой? — спросил он с невинным видом. — Что я еще такое сделал? — Ты лучше спросил бы, чего ты не сделал! Ты — пес! Ты — трус! — разразилась Анджела. — Заставить меня сидеть в Блэквуде, пока ты здесь волочился за какой-то бесстыжей женщиной! Не отрицай! Не смей отрицать! — это было сказано в ответ на протестующее движение Юджина. — Я все знаю! Я знаю больше, чем хотела бы знать! Я знаю, как ты себя вел, знаю все твои проделки. Ты тут путался с какой-то низкой, подлой, мерзкой тварью, а я сидела в Блэквуде и изнывала от тоски — вот что ты делал! «Дорогая Анджела», «Дорогой Ангелочек», «Моя мадонна»! Ха-ха! А как ты ее называл интересно знать? Лживый, лицемерный трус! Какие прозвища у тебя для нее, лицемер, животное, лжец! Я знаю твои дела! О, я хорошо их знаю! Зачем только я родилась на свет? Зачем? Зачем? Голос ее сорвался. Юджин стоял как громом пораженный, он потерял всякую способность соображать. Он не знал, что сказать, что делать. Он совершенно не представлял себе, на чем она строит свои обвинения. Очевидно, ей известно гораздо больше, чем содержалось в той записке, которую он разорвал. Записки она не видела, в этом он был уверен, а впрочем, может быть, и видела? Уж не вынула ли она из корзинки обрывки письма, пока он был в ванной, а потом снова бросила их туда? Вполне возможно. В тот вечер она очень скверно выглядела. Что она знает? От кого она получила эти сведения? От миссис Хиббердел? От Карлотты? Быть не может! Уж не виделась ли она с ней? Но где? Когда? — Ты сама не знаешь, что говоришь, — вяло протянул он, главным образом чтобы выиграть время. — Ты совсем с ума сошла! Что тебе взбрело на ум, хотел бы я знать! Ничего подобного не было! — Да неужели? — накинулась на него Анджела. — Ты, значит, не встречался с нею у мостов, в загородных гостиницах, в трамвае? Лжец! Ты не называл ее «испепеленной розой», «речной нимфой», «божеством»? — Анджела сама придумывала эпитеты и места их свиданий. — Ты, должно быть, давал ей те же ласковые прозвища, что и Кристине Чэннинг? Ей это, наверное, нравилось, этой подлой потаскухе! А ты, ты все время меня обманывал, притворялся, будто жалеешь меня, будто ты одинок, огорчен, что я не могу приехать! Очень тебе нужно было знать, как я жила, о чем думала, как страдала! О, до чего же я ненавижу тебя, подлый трус! Ненавижу ее! Как я была бы рада, если б с вами случилось что-нибудь ужасное! Только бы мне добраться до нее, я убила бы ее, убила бы вас обоих, а потом себя! Убила бы! О, если бы мне умереть! Если б я только могла умереть. По мере того как Анджела говорила, Юджину открывалась вся глубина его падения. Он видел, как жестоко оскорбил ее, какой подлостью представлялись ей его измены. Да, скверная это штука — бегать за другими женщинами. Это всегда кончается вот такой бурей, и приходится выслушивать самые ужасные оскорбления, даже не имея права возражать. Он слышал, что подобные истории случались с другими, но никогда не думал, что это может случиться с ним. А хуже всего было то, что он действительно виноват и заслужил ее упреки, — это унижало его в собственных глазах, унижало и его и ее, поскольку ей приходилось вести с ним такую борьбу. Зачем он это делал? Зачем ставил ее в такое положение? Это убивало его гордость, то чувство, без которого человек не решается смотреть в лицо окружающим. Зачем он позволяет себе впутываться в такие истории? Разве он действительно любит Карлотту? Так ли сильна в нем жажда наслаждений, чтобы из-за нее переносить подобные оскорбления? Какая гадкая сцена! И чем она кончится? Все его нервы были напряжены, голову словно тисками сдавило. Если бы он мог побороть в себе тяготение к другим женщинам и оставаться верным Анджеле, — но какой ужасной казалась ему эта мысль! Ограничить свои желания одной Анджелой? Нет, это невозможно! Все это проносилось у него в голове, пока он стоял и ждал, чтобы буря немного утихла. Страшная пытка, но даже она не могла привести его к полному раскаянию. — Что пользы устраивать такие сцены, Анджела? — мрачно произнес он, выслушав ее до конца. — Вовсе это не так ужасно, как тебе кажется. И я не лжец и не пес. Ты, по-видимому, прочла письмо, которое я кинул в корзину. Когда же это ты успела? Его мучил вопрос, что она знает. Что она намерена предпринять по отношению к нему и к Карлотте? К чему она, собственно, ведет? — Когда я успела? Какое это имеет значение? Какое право ты имеешь меня спрашивать? Где эта женщина, вот что я хочу знать. Я хочу найти ее! Хочу посмотреть ей в глаза! Хочу сказать ей в лицо, что она гнусная тварь! Я ей покажу, как красть чужих мужей! Я ее убью! Убью! И тебя убью! Слышишь? Убью тебя! Она двинулась на него с вызовом в пылающих глазах. Юджин был поражен. Он еще никогда не видел женщины в таком бешенстве. В этом было что-то ошеломляющее, что-то прекрасное, что-то напоминающее сильную грозу и сверкание молний. Анджела, оказывается, способна метать громы. Он этого не знал. Это поднимало ее в его глазах, придавало ей новое очарование, так как сила всегда прекрасна, в чем бы она ни выражалась. Анджела была такая маленькая, но такая суровая, решительная. Он увидел ее с совершенно новой стороны и невольно залюбовался ею, хотя и был уязвлен ее оскорблениями. — Нет, нет, Анджела, — сказал он мягко, движимый искренним желанием облегчить ее горе. — Ты на это не способна. Ты не могла бы. — Нет, могла бы! Могла бы! — воскликнула она. — Я убью и ее и тебя! Но тут гнев ее достиг своей высшей точки и наступил перелом. Теплота и сочувствие в обращении Юджина переполнили чашу. Терпеливое молчание, с которым он выслушивал ее упреки, искреннее сожаление, что он не может или не хочет ничего с этим поделать (она читала это на его лице), та непосредственность, с какой он, вопреки всему, продолжал верить, что она любит его, — все это было выше ее сил. Она с таким же успехом могла бы пробить лбом каменную стену. Она может убить его и эту женщину, кто бы она ни была, но этим не изменит его отношения к ней. А между тем ей только это и нужно. Душераздирающие рыдания вырвались у нее из груди, сотрясая все ее тело, как тростинку. Она уронила руки на кухонный стол, припала к ним головой и, упав на колени, рыдала, рыдала без конца. Юджин растерянно стоял над ней и думал о том, что это он разрушил ее мечту. Как это ужасно! Она права, он — лжец, он — пес, он — негодяй. Бедная маленькая Анджела! Но все равно, сделанного не воротишь. Чем он может помочь ей! Можно ли вообще чем-нибудь помочь в таких случаях? Нет, конечно. Она сражена горем, сердце ее разбито. На земле нет исцеления от этого. Священники отпускают грехи тем, кто преступил закон, но кто исцелит раны сердца? — Анджела, — ласково окликнул он ее. — Анджела! Прости. Не плачь, Анджела, не надо плакать. Но она не слышала его. Она ничего не слышала. В безысходном отчаянии она продолжала судорожно рыдать, и ее изящная, хрупкая фигурка, казалось, вот-вот сломится под тяжестью горя.Глава 57
Но на этот раз Юджин не дал чувству жалости увлечь себя. При подобных обстоятельствах у мужчины всегда есть возможность заключить в объятия жертву своей жестокости, нашептывая ей участливые или покаянные слова. Другое дело — истинная доброта и раскаяние, которые влекут за собою исправление. Но для этого требуется полное бескорыстие и умение закрыть глаза на зло, причиняемое тебе. Юджин не принадлежал к числу тех, кого может исправить зрелище чьих-то страданий. Он глубоко сочувствовал Анджеле. Он остро переживал вместе с ней ее горе, но не настолько, чтобы отрешиться от своего, как ему казалось, законного права наслаждаться всем прекрасным. Что плохого, спрашивал он себя, в том, что он тайно обменивался ласковыми взглядами и нежными излияниями с Карлоттой или с какой-нибудь другой женщиной, которая нравилась ему и которой нравился он? Неужели такая близость — в самом деле зло? Он не тратил на Карлотту денег, принадлежащих по праву Анджеле — разве что какие-то гроши. Он не помышлял о женитьбе на ней, и она не рассчитывала выйти за него замуж — да это и невозможно было бы. Он только хотел наслаждаться ее обществом. Какое же зло причинял он этим Анджеле? Ровно никакого — если бы она ничего не узнала. Другое дело, когда она знает, — это, конечно, очень печально и для нее и для него. Но если бы роли переменились и Анджела вела себя так, как он по отношению к ней, это его нисколько не огорчало бы. Рассуждая таким образом, Юджин одно упускал из виду: что он не любил Анджелу, а она любила его. Такие доводы напоминают кружение белки в колесе. Да это собственно и не доводы. Это анархия чувств и ощущений. Здесь не видно желания найти какой-то выход. Сцены повторялись, за первым припадком бешенства и горя последовали другие, но уже менее сильные. Проявление всякого чувства только однажды достигает своей высшей точки. Далее это уже лишь отголоски затихающего грома, сверкание зарниц. Анджела обличала Юджина во всех его недостатках и дурных наклонностях, а он только смотрел на нее своим мрачным взглядом и время от времени вставлял: «Да ничего подобного! Ты знаешь, что я вовсе не такой уж дурной человек». Или: «Зачем ты меня оскорбляешь? Ведь это все неправда». Или: «Зачем ты так говоришь?» — А затем, что это так, и ты знаешь, что это так! — отвечала Анджела. — Послушай, Анджела, — сказал ей как-то Юджин, стараясь воздействовать на нее логикой, — какой тебе смысл так меня унижать? Ну что толку, что ты бранишь меня всякими словами? Ты хочешь, чтобы я тебя любил, да? Ведь все дело в этом? Ничего другого тебе не нужно? Но разве ты заставишь любить себя тем, что будешь оскорблять меня? Если я не могу любить — значит, не могу. Зачем же эти ссоры? Анджела слушала его с поникшей головой; она понимала, что ее ярость бесполезна или почти бесполезна. Он в выгодном положении. Она любит его. В этом все несчастье. И подумать только, что никакие слезы, никакие мольбы, никакой гнев не помогут ей! Его может вернуть к ней только чувство, в котором он не волен. В этом крылась горькая правда, которую Анджела, хоть и смутно, начинала сознавать. Сидя с опущенными на колени руками, бледная, осунувшаяся, она сказала ему однажды, глядя в пол: — Не знаю, что и делать! Может быть, мне лучше уйти от тебя. Если б только не мои родные! Для них брак — святыня. Они по натуре своей постоянные и порядочные люди. Вероятно, человек должен родиться на свет с такими качествами — приобрести их нельзя. Для этого его нужно совершенно переделать. Юджин прекрасно знал, что она не уйдет от него. Прозвучавшая в ее последних словах высокомерная нотка, — правда, невольная, — вызвала у него улыбку. Подумать только — ему предлагают взять за образец родных Анджелы! — Но только куда девать себя, не знаю, — продолжала она. — К своим в Блэквуд я не могу вернуться. Я не хочу там жить. Делать я ничего не умею, разве что детей обучать, но об этом мне и думать не хочется. Если б я могла научиться хотя бы стенографии или счетоводству. Она говорила так, раздумывая вслух, обращаясь больше к себе, чем к нему. Она действительно не знала, как быть. Юджин слушал, опустив голову; ему тяжело было думать, что Анджела окажется выброшенной из своего дома, что ей придется работать где-нибудь конторщицей или секретаршей. Он вовсе не хотел обрекать ее на такую жизнь. Он предпочел бы, чтоб она осталась с ним, конечно, на приемлемых для него условиях, — ведь водится же так у мормонов[52]. Какое одиночество ждет Анджелу, если она уйдет от него! Нет, это не для нее. Не для нее, домовитой и заботливой жены, черствый мир дельцов и торгашей. Ему хотелось бы уверить ее, что в дальнейшем у нее не будет поводов для таких огорчений, уверить искренне, — но с таким же успехом больной мог бы взяться за труд, доступный только человеку здоровому и сильному. У Юджина путались мысли, и только одно он знал ясно — если он попытается поступить как должно, ему это, возможно, и удастся, но сам он будет несчастлив. И он предпочитал не принимать никаких решений, полагаясь во всем на волю судьбы. Как Юджин задумал, так и получилось. Он действительно перешел под начало Дигана и, работая с ним, пережил много любопытного. Когда Диган заявил ему в свое время, что готов взять его к себе, Юджин написал Хейверфорду почтительное письмо, в котором просил перевести его на другую работу, и немедленно получил ответ, что его желание удовлетворено. Хейверфорд сохранил о Юджине самое лучшее воспоминание. Осведомляясь о здоровье мистера Витла, он выражал надежду, что тот находится на пути к выздоровлению. Начальник строительного отдела как раз запрашивал о дельном помощнике для Дигана, у которого были вечные недоразумения из-за отчетности, и Хейверфорд считал молодого художника вполне подходящим кандидатом для этой должности. В результате Диган получил приказ принять к себе на работу Юджина, а Юджину, согласно другому распоряжению за подписью начальника строительного отдела, было предложено явиться к Дигану. Юджин застал его за постройкой угольной ямы под зданием железнодорожного депо в Фордс-Сентре. Диган, по обыкновению, метал громы и молнии, но Юджина он встретил широкой, довольной улыбкой. — А! Вот и вы! Ну что ж, как раз вовремя. Я сейчас же направлю вас в контору. Юджин рассмеялся. — Ясно, — сказал он. Диган стоял в только что вырытом котловане; от его одежды пахло свежей землей. В руках у него были отвес и ватерпас. Отложив их в сторону, он прошел с Юджином к станционному перекрытию, вытащил из кармана старого серого пиджака грязное, измятое письмо, осторожно развернул его толстыми, заскорузлыми пальцами и с возмущенным видом поднял в вытянутой руке. — Поезжайте в Вудлон, — приказал он, — разыщите для меня болты, их там должен быть целый бочонок. Распишитесь в получении и вышлите мне их сюда. Потом отправляйтесь в контору и отвезите им эту накладную. — Он снова стал шарить в карманах и достал еще одну измятую бумажку. — Вот еще канитель! — воскликнул он, глядя на нее с возмущением. — С ума они там все посходили, что ли! Вечно пристают ко мне с этими накладными. Можно, черт возьми, подумать, что я их украсть собираюсь! Что, я их слопаю? Накладные, накладные! С утра до вечера накладные! Кому это нужно? Этакая ерунда! Лицо его еще больше побагровело и выражало возмущение. Юджину стало ясно, что Диган чем-то нарушил железнодорожные правила и получил за это взбучку, или же, как говорят дорожники, ему «хвост накрутили». Он был крайне возмущен и бушевал во весь размах своего ирландского темперамента. — Ладно, — сказал Юджин. — Все будет в порядке. Предоставьте это мне. Диган начал понемногу успокаиваться. Наконец-то у него толковый помощник. Расставаясь с Юджином, он не преминул, однако, метнуть в свое начальство последнюю молнию. — Вы им там скажите, что я распишусь за болты только тогда, когда получу их, и ни в коем случае не раньше! — прогудел он. Юджин рассмеялся. Он заранее знал, что не станет передавать слов Дигана, но рад был дать ему возможность отвести душу. С большим рвением приступил он к новой работе, довольный возможностью быть на воздухе, наслаждаться сиянием солнца и совершать короткие поездки взад и вперед по всей дороге. Это было восхитительно. Теперь дело пойдет на поправку, он был уверен в этом. Юджин поехал в Вудлон и расписался в получении болтов. Затем он зашел в контору и познакомился с управляющим, которому лично передал накладную, и тот объяснил ему, в чем главное затруднение Дигана. Оказалось, что нужно ежемесячно заполнять до двадцати пяти отчетных бланков, не говоря уже о бесконечных накладных, на которых надо расписываться при получении материалов. Будь то целая секция мостовой фермы, или один болт, или фунт замазки, — все равно нужно было расписываться в получении. Достаточно было умело настрочить отчет о своей работе, чтобы снискать расположение управляющего конторой. (Что работа производилась надлежащим образом, это разумелось само собой.) И вот эти-то отчеты никак не давались Дигану, несмотря на то, что в составлении их ему порою помогали и жена и все трое детей — мальчик и две девочки. Он постоянно попадал в беду. — Боже ты мой! — воскликнул управляющий конторой, когда Юджин сказал ему, что, по мнению Дигана, болты могли преспокойно лежать на станции, пока они ему не понадобятся, а тогда он и расписался бы в их получении. — Вот так так! — он даже за голову схватился от огорчения. — Пусть они лежат там, пока ему не понадобятся — слыхали? Ну, а как мне быть с моей отчетностью? Я-то должен иметь эти накладные! Вы скажите Дигану, что он обязан это понимать, он не первый день работает на железной дороге. Передайте ему от моего имени категорическое требование расписываться на соответствующем бланке за все, что ему выдано, как только его уведомят, что материал для него выписан. Я настаиваю на этом без всяких оговорок. Чтобы немедленно являлся за материалом. Обалдеть можно! И пусть берется за ум, пока не поздно, не то ему несдобровать! Я больше не стану этого терпеть. Уж вы помогите ему. Ведь с меня-то требуют отчет. Юджин сказал, что поможет Дигану. Это была работа как раз по нем. Он чувствовал, что будет ему полезен. Он снимет с него часть забот. Время шло. Стало холоднее, и хотя сначала новые обязанности казались Юджину интересными, постепенно, как это всегда бывает, они начали ему надоедать. Приятно было, конечно, в хорошую погоду стоять под деревьями у источника или ручейка, где прокладывался мостик или строился колодец, питавший соседнюю водокачку, и любоваться окружающим пейзажем. Но когда похолодало, все это потеряло свою прелесть. Диган по-прежнему оставался интересным объектом для изучения. Этот человек не переставал со всеми препираться. Вся его неутомимая, хотя и ограниченная узкими рамками деятельность проходила среди досок, тачек, щебня, цемента и состояла лишь в стройке — без той радости, которую дает пользование плодами своих усилий. Едва успев достроить и отделать что-нибудь, Диган со своими рабочими перекочевывал в другое место, где им снова предстояло рыть и копать. Глядя на развороченную землю, на кучи желтоватой глины, на чумазых итальянцев (достаточно чистых душою, но выпачканных в земле и скрюченных от работы), Юджин размышлял о том, долго ли еще он сможет это выдержать. Подумать только, что он, именно он, должен работать здесь с Диганом и с его «морскими свинками»! Временами он чувствовал себя всеми покинутым, до ужаса одиноким и несчастным. Он тосковал по Карлотте, тосковал по студии художника, по благоустроенной, культурной жизни. Судьба обошлась с ним несправедливо, но он бессилен; он не обладает способностью «делать деньги». Приблизительно в это время Дигану была поручена постройка довольно большого четырехэтажного здания для мастерской, в двести футов по фасаду и столько же в глубину. Диган получил эту работу главным образом потому, что благодаря Юджину все узнали, какой он работник. Юджин быстро и точно составлял все его отчеты и докладные записки, и начальство строительного участка, наконец, оценило своего десятника по заслугам. Диган был в восторге от этого нового ответственного поручения, предвкушая возможность отличиться. — Как только мы начнем строить этот домик, Юджин, мой мальчик, для нас наступят славные деньки! — восклицал он. — Это вам не дренажная труба и не угольная яма! Вот подождите, пусть явятся каменщики, тогда вы кое-что увидите. Юджин был очень доволен, что их работа заслужила такое признание, но для него в ней, конечно, не было никакого будущего. Он чувствовал себя одиноким и грустил. Кроме того, Анджела не переставала жаловаться, — и совершенно справедливо, — что слишком уж тяжела их жизнь. Для чего все это, что это ей даст? Сам он, вероятно, поправит свое здоровье и к нему вернется дарование, — пережитая встряска и перемена образа жизни, по-видимому, действительно вели к тому, — а что будет с нею? Юджин ее не любит. Если он снова станет на ноги, то, очевидно, лишь для того, чтобы бросить ее. В лучшем случае он даст ей средства и положение в обществе, — но разве это ее утешит? Ей нужна любовь, его любовь. А этого не было, или, вернее, была лишь тень любви. После недавней памятной сцены Юджин решил не выказывать Анджеле чувств, которых он к ней не питал, и это еще ухудшило их отношения. Анджела верила, что он по-своему привязан к ней, но эта привязанность шла от рассудка, не от сердца. Ему было жаль ее. Жаль! Как ненавистна была ей мысль о жалости! Если он ничего больше не способен ей дать, то что же, кроме горя, принесет ей будущее? Как ни странно, подозрительность Анджелы в этот период до такой степени обострила все ее чувства и восприятия, что она почти безошибочно могла сказать, — не имея на то никаких данных, — что вот сейчас Юджин у Карлотты или возвращается от нее. Когда он вечерами приходил домой, что-то в его поведении (не говоря уж об излучаемых мозгом волнах, которые передавались от него Анджеле, когда он бывал у Карлотты) мгновенно подсказывало ей, где он был и что делал. Она иногда спрашивала его об этом, и он небрежно отвечал: «Да так, ездил в Уайт-Плейнс». Или «Был в Скарборо». Но почти каждый раз, когда он на самом деле был с Карлоттой, она вся вспыхивала и кричала: — Ну конечно! Знаю я, где ты был! Ты опять виделся с этой подлой тварью! О, господь еще покарает ее! И тебе тоже не миновать наказания! Погоди, увидишь! При этом слезы ручьем лились у нее из глаз, и она жестоко кляла его. Юджин испытывал чуть ли не священный ужас перед этими необъяснимыми доказательствами ее всеведения. Он не понимал, как могла Анджела знать или хотя бы с такой уверенностью подозревать что-то. Он до известной степени увлекался спиритуалистическими теориями и учением о подсознательном мышлении. Он верил в существование у человека некоего подсознательного «я», которое обладает способностью воспринимать окружающее и передавать свои впечатления дальше, и предполагал, что сознанию Анджелы сигналы эти передаются в виде смутных страхов и подозрений. Но если все непостижимые силы природы ополчились на него, то как может он продолжать подобный образ жизни, да еще и наслаждаться им? Очевидно, так нельзя. Он будет когда-нибудь жестоко наказан за это. Его страшила мысль, что существует какой-то закон возмездия, воздающий злом за зло. Правда, немало преступлений и пороков остается ненаказанными, но многое, надо полагать, сурово карается, доказательством чему могут служить такие явления, как самоубийство, преждевременная смерть и потеря рассудка. Так ли это? Неужели избежать расплаты за грехи можно, только воздерживаясь от них? Юджин много размышлял над этим. Что касается возврата к материальной обеспеченности, то дело это было отнюдь не легкое. За несколько лет Юджин так отошел от искусства, от журналов, редакций, выставок, художественных магазинов и галерей, что ему представлялось почти невозможным снова вернуться туда. Вдобавок, он сомневался в своих силах. У него накопилось много набросков — типы рабочих и улицы в Спионке, Диган с его артелью, Карлотта, Анджела, но он знал, что все это вещи невысокого качества, что в них недостает той мощи, той выразительности, какими когда-то отличались его работы. Придется, думал он, сначала испробовать силы на журнальном поприще, если только удастся завязать отношения в этом мире, — поработать в каком-нибудь захудалом журнальчике, пока не почувствуешь себя способным на что-то большее. Но у него не было уверенности, что для него найдется даже такая работа. Серьезный душевный надлом вселил в Юджина страх перед жизнью, внушил ему потребность в моральной поддержке такой женщины, как Карлотта, или даже в еще более надежной и крепкой опоре, и предстоящие поиски работы пугали его. Обязанности, которые он выполнял сейчас, не оставляли ему ни одной свободной минуты. Но он понимал, что с этой жизнью надо покончить. Он устало думал обо всем этом, поглощенный желанием добиться чего-то лучшего, и в конце концов все-таки набрался смелости и распростился с железной дорогой, обеспечив себе сначала другую работу.Глава 58
Только по истечении изрядного срока, видя, как Анджела ведет почти безнадежную борьбу, чтобы жить на его заработок да еще кое-что откладывать, Юджин взялся за ум и стал серьезно искать более подходящую работу. Все это время он внимательно присматривался к Анджеле и наблюдал, как упорно и настойчиво, невзирая на все трудности и лишения, выполняла она все, что требовалось по дому. Она готовила, убирала, ходила за покупками; перешивала свои старые платья так, чтобы они возможно дольше служили и выглядели к тому же модными; сама мастерила себе шляпки — одним словом, делала все, что было в ее силах, стремясь к тому, чтобы денег, лежавших в банке, хватило, пока Юджин не станет на ноги. Она охотно мирилась с тем, что он брал из этих денег, чтобы одеться, тогда как сама не соглашалась ни цента израсходовать на себя. Она жила надеждой на лучшее. Очевидно, когда-нибудь Юджин поймет, как она нужна ему. Впрочем, она не верила, что их прежние отношения вернутся. Ей никогда не забыть прошлого, да и он не забудет. Роман Юджина с Карлоттой, под давлением различных неблагоприятных обстоятельств, медленно близился к концу. Эта связь не могла противостоять бурям, обрушившимся на нее с самого ее возникновения. Во-первых, мать Карлотты осторожно дала понять зятю, что у него есть все основания не оставлять жену надолго одну, и это сильно связывало Карлотту. При этом миссис Хиббердел не переставала упрекать дочь в распущенности — примерно так же, как Анджела Юджина, — и Карлотте все время приходилось отбиваться. Она была настолько прижата к стене, что не рискнула снять отдельную квартиру, а Юджин ни за что не хотел брать у нее деньги, чтобы оплачивать дорогостоящие посещения загородных ресторанов и отелей. Карлотта надеялась, что у него когда-нибудь снова появится своя студия и она будет видеться с ним, как со знаменитостью, в его родной стихии. Так было бы во всех отношениях лучше. Промежутки между их свиданиями, когда-то приносившими обоим столько радости, все увеличивались, и Юджин мирился с этим, хотя и не без сожаления. Если честно признаться, то после недавно пережитого недуга его романтические наклонности представлялись ему в плачевном свете. Ему казалось, что он начинает понимать, к чему они ведут. Богатства он таким образом, безусловно, не наживет, — Юджин все больше убеждался в том, что судьбы мира находятся в руках людей, чье счастье состоит в труде. Тунеядцы, как правило, теряют все, в том числе и уважение своих сограждан. Распутные люди быстро изнашиваются и сами себя позорят своими нездоровыми и недостойными наклонностями. Женщины и мужчины, живущие невоздержанно, оказываются рабами своей болезненной чувственности, и всякое здоровое общество если не выбрасывает их за борт, то игнорирует. Если хочешь достигнуть богатства, ты должен быть сильным, энергичным, решительным, воздержанным — да и сохранить богатство можно только с помощью этих качеств. Нельзя давать себе волю, в противном случае человек становится таким, каким был сейчас он, Юджин, — развинченным, угрюмым, больным душевно и физически. Итак, пройдя через любовные увлечения и нужду, через болезнь и унижения, Юджин стал ясно понимать одно — если он хочет добиться успеха, он должен вести себя благоразумно. Улыбается ли ему такая жизнь? Этого он не мог сказать. Но у него нет другого выхода, как это ни печально, — а раз так, он постарается сделать все, что возможно. Задача трудная, но жизненно важная. Надо сказать, что Юджин все еще сохранял подчеркнуто артистическую наружность и манеры, которые он усвоил в дни юности. Но теперь он стал подозревать, что это придает ему нелепый и слегка несовременный вид. В последнее время он стал замечать, что некоторые художники, из наиболее преуспевающих, внешне ничем не отличались от обыкновенных дельцов. Это объясняется тем, решил Юджин, что они живут в реальном мире, а не витают в эмпиреях. Мысль эта заставила его последовать их примеру: он отказался от свободно повязанных галстуков и небрежной прически и придал своей внешности строгую простоту. Он продолжал носить мягкие шляпы, считая, что они ему больше к лицу, но во всем остальном предпочел расстаться с артистическими замашками. Работая у Дигана, он понял, что такое настоящий тяжелый и честный труд. Диган был простым рабочим. В нем не было ничего романтического, он и слыхом не слыхивал ни о какой романтике. Лопаты, кирки, раствор и опалубка — вот что составляло его жизнь, и он никогда не жаловался. Юджину запомнилось, как однажды он посочувствовал Дигану: десятник ежедневно вставал в четыре утра, чтобы поспеть к поезду, доставлявшему его на работу к семи часам. Но темнота и холод ничего не значили для Дигана. — Ясно, а как же иначе, — отозвался он с обычной усмешкой. — Надо же вовремя быть на месте. Никто не будет мне платить за то, что я валяюсь в постели. Если бы вам пришлось с годик вставать так каждое утро, вы бы человеком сделались. — Едва ли, — поддразнил его Юджин. — Уж поверьте, — настаивал на своем Диган. — За один год. Будьте покойны, я вижу, что вы за фрукт. Юджину было неприятно слышать подобные замечания, но все же он принимал их к сведению. Диган имел обыкновение делать окружающим весьма полезные внушения касательно труда и воздержанности, причем это выходило у него совершенно не намеренно. Просто эти два свойства — трудолюбие и умеренность — составляли его сущность. Однажды Юджин отправился на Типографскую площадь в надежде, что, может быть, у него хватит смелости зайти в редакцию какой-нибудь газеты и предложить свои услуги. Там он неожиданно наткнулся на Хадсона Дьюлу, которого не видел уже много лет. Дьюла очень обрадовался ему. — Ба! Да это Витла! — воскликнул он, пораженный невероятной худобой и бледностью Юджина. — Где же вы столько времени пропадали? Ужасно рад вас видеть. Что вы поделывали? Зайдемте к Гану, закусим, и вы мне все расскажете. — Я был болен, Дьюла, — откровенно сказал Юджин. — У меня было очень серьезное нервное расстройство, и, чтобы переменить обстановку, я работал на железной дороге. Я обращался ко всяким специалистам, но они мне не помогли. Тогда я решил взяться за труд чернорабочего и посмотреть, что из этого выйдет. Я совершенно выбился из колеи и вот четвертый год только и занимаюсь тем, что привожу себя в норму. Но теперь я, по-видимому, на пути к выздоровлению. Собираюсь в ближайшие дни уйти с железной дороги и вернуться к живописи. Мне кажется, что я опять могу писать. — Не странно ли? — задумчиво произнес Дьюла. — Я на днях как раз думал о вас и спрашивал себя, куда это вы могли запропаститься. Должен вам сказать, что я переменил род занятий. «Труф» приказал долго жить, и я занялся литографским делом. Я состою младшим компаньоном в одной фирме на Бонд-стрит и работаю в ней управляющим. Буду очень рад, если вы как-нибудь заглянете ко мне. — Непременно зайду, — сказал Юджин. — А теперь насчет ваших нервов, — продолжал Дьюла, когда они вошли в ресторан. — У меня есть зять, с которым произошла такая же штука. Он и сейчас все бегает по врачам. Я ему расскажу про вас. Вид у вас совсем неплохой. — Я чувствую себя значительно лучше, — сказал Юджин, — да, значительно лучше, хотя мне пришлось довольно тяжко. Но я уверен, что снова вернусь к жизни и буду теперь осторожнее. Я переутомился тогда с первыми картинами. — Должен сказать, что в своем роде это были лучшие вещи, какие мне когда-либо попадались у наших художников, — сказал Дьюла. — Если помните, я был на обеих ваших выставках. Они были великолепны. А что же сталось с вашими полотнами? — Некоторые были проданы, остальные я сдал на хранение, — ответил Юджин. — Странно, — сказал Дьюла. — Я готов был биться об заклад, что они все будут проданы. В них было столько нового и яркого. Вы должны крепко взять себя в руки и больше не сдаваться. Вас ожидает большое будущее. — Ну уж, право, не знаю, — пессимистически отозвался Юджин. — Заслужить известность — конечно, вещь хорошая, но прожить на это, как вы сами знаете, невозможно. На живопись у нас в Америке не слишком большой спрос. Большинство моих работ остались непроданными. Любой бакалейщик, переезжающий с места на место со своим фургоном, куда обеспеченнее самого лучшего нашего художника. — Ну, дело не так уж плохо, — с улыбкой заметил Дьюла. — Художник все-таки не лавочник. У него совершенно иной взгляд на вещи. Духовно он живет в другом мире. Да и материально можно устроиться совсем недурно, — главное, прожить, а что вам еще нужно? Зато перед вами открыты все двери. Художник пользуется тем, чего никогда не добиться лавочнику, — почетом; он служит обществу мерилом всех достоинств — сейчас или в будущем. Если бы я обладал вашим талантом, я никогда не стал бы завидовать мяснику или булочнику. Ведь вас знает теперь каждый, во всяком случае каждый хороший живописец. Вам остается только работать дальше и добиваться большего. А зарабатывать мало ли чем можно. — Чем, например? — спросил Юджин. — Как чем? Пишите панно, займитесь стенной росписью. Я только на днях говорил кому-то, что бостонская публичная библиотека совершила большую ошибку, не поручив вам часть работы по росписи стен. Вы могли бы создать для них прекрасные вещи. — Вы, я вижу, еще верите в меня, — растроганно сказал Юджин. После стольких тоскливых дней слова Дьюлы были подобны теплу, исходящему от яркого пламени. Значит, его не забыли. Значит, он на что-то годен. — Помните Орена Бенедикта? Вы, кажется, знали его по Чикаго, не правда ли? — спросил Дьюла. — Конечно, — ответил Юджин. — Я работал вместе с ним. — Он сейчас в газете «Уорлд», заведует художественным отделом, совсем недавно перешел туда. И когда Юджин удивился, заметив, что вот как меняются времена, Дьюла вдруг добавил: — А ведь это мысль! Вы говорите, что собираетесь расстаться с железной дорогой. Почему бы вам не устроиться у Бенедикта и не поработать немного тушью, чтобы набить руку? Это вам очень пригодилось бы. А он, я уверен, с радостью возьмет вас. Дьюла догадывался, что финансы Юджина в плохом состоянии, и хотел дать ему возможность без большой затраты сил заняться работой, которая постепенно привела бы его назад, к настоящей живописи. Он любил Юджина и очень хотел помочь ему. С удовольствием вспоминал он, что первый поместил в журнале цветную репродукцию его этюда. — Мысль неплохая, — сказал Юджин, — я и сам подумывал заняться чем-нибудь таким, если удастся. Я зайду к нему, может быть, даже сегодня. Это было бы как раз то, что мне сейчас нужно, — небольшая практика, ведь я совсем отстал. — Хотите, я ему позвоню, — любезно предложил Дьюла. — Мы с ним большие приятели. Он спрашивал на днях, не могу ли я рекомендовать ему одного или двух действительно сильных художников. Обождите минутку. Дьюла вышел, и Юджин откинулся на спинку стула. Возможно ли, что его возвращение к жизни совершится так легко и просто? Ему мерещились всякие трудности. И вот счастливый случай обещает избавить его от всех страданий. — Он сказал: «Разумеется!» — воскликнул Дьюла, возвращаясь на свое место. — «Пусть сейчас же зайдет». Советую вам сегодня же повидаться с ним. Это будет самое лучшее. А когда устроитесь, навестите меня. Где вы сейчас обитаете? Юджин дал ему свой адрес. — Ах, да, ведь вы женаты, — сказал Дьюла, когда Юджин сообщил ему, что они с Анджелой занимают крохотную квартирку. — Как поживает миссис Витла? Я ее помню, очаровательная женщина. А мы с миссис Дьюла снимаем квартиру на площади Грэмерси. Вы не знали, что я женился? Да, представьте. Приходите к нам с супругой. Вы нас очень обрадуете. Мы будем ждать вас к обеду, надо только договориться о дне. Юджин был очень доволен. Он думал о том, как рада будет Анджела. За эти годы они совершенно отошли от общества художников. Юджин поспешил к Бенедикту, и тот встретил его как старого приятеля. Они не были раньше особенно близки, но всегда хорошо относились друг к другу. Бенедикт слышал про болезнь Юджина. — Вот что я вам скажу, — сказал он, когда кончился обмен приветствиями и воспоминаниями, — много я платить не могу — пятьдесят долларов здесь считается высоким окладом, а у меня сейчас только одно вакантное место на двадцать пять долларов в неделю. Если хотите попробовать свои силы, вы можете его получить. Временами у нас бывает гонка, но этого вы, кажется, не боитесь. Когда я наведу здесь порядок, у меня, возможно, найдется для вас и что-нибудь получше. — Неважно, — весело отозвался Юджин, — я и этим доволен. (Он действительно был очень доволен.) А что касается спешки, то это меня не пугает. Даже приятно, для разнообразия. Бенедикт на прощание дружески пожал ему руку. Он рад был заполучить Юджина, так как знал, чего от него можно ожидать. — Вот только мне едва ли удастся приступить к работе раньше понедельника. Я должен предупредить об уходе за несколько дней. Можно будет подождать? — У меня нашлись бы для вас дела и раньше, но уж так и быть — в понедельник так в понедельник, — ответил Бенедикт, и они тепло распрощались. Юджин поспешил домой. Ему не терпелось рассказать обо всем Анджеле — ведь это намного скрасит их суровую жизнь. Конечно, не особенно приятно снова начинать карьеру с газетного иллюстратора на жалованье в двадцать пять долларов в неделю, но ничего не поделаешь, — это лучше, чем ничего. По крайней мере это поставит его на ноги. Он был уверен, что в самом скором времени добьется чего-нибудь получше. С работой он вполне справится, в этом он не сомневался, а остальное пока неважно. Разве мало ударов было нанесено его гордости? Все же это неизмеримо лучше, чем работать поденщиком. Он быстро взбежал по лестнице в свою тесную квартирку и, увидев Анджелу у плиты, крикнул: — Ну, хватит с нас, кажется, железной дороги. — Что случилось? — испугалась Анджела. — Ничего не случилось, — ответил он. — Я нашел лучшую работу. — Какую? — Иллюстратором в «Уорлде». — Когда же ты это придумал? — спросила она, просияв, так как их тяжелое материальное положение страшно угнетало ее. — Сегодня, и с понедельника уже приступаю к работе. Двадцать пять долларов в неделю — это не то, чтодевять, неправда ли? — Еще бы! — улыбнулась Анджела, и слезы радости брызнули у нее из глаз. Юджин понимал, чем были вызваны эти слезы. Он всячески хотел избежать сейчас неприятных воспоминаний. — Не плачь, — сказал он. — Все будет хорошо. — О, я так надеюсь! — пробормотала Анджела, и когда она прижалась к его груди, он ласково погладил ее по голове. — Ну-ну, полно! Гляди веселей, слышишь? Теперь мы заживем на славу! Анджела улыбнулась сквозь слезы и живо принялась накрывать на стол. — Вот уж действительно хорошие новости, — смеясь, заговорила она немного спустя. — Но мы все-таки еще долго будем тратить не больше, чем сейчас. Надо отложить немного денег, чтобы снова не очутиться в таком тяжелом положении. — Об этом не может быть и речи, — весело отозвался Юджин, — если только я еще не совсем забыл свое ремесло. — И он направился в крохотную комнатку, которая служила ему и для работы, и для отдыха, и для приема гостей, и, развернув газету, принялся насвистывать. Он был так взволнован, что почти забыл про свои огорчения с Карлоттой и вообще про всякие любовные дела. Он снова пойдет в гору и будет счастливо жить с Анджелой. Он станет художником, или дельцом, или еще кем-нибудь. Взять, например, Хадсона Дьюлу. У него своя литография и квартира на площади Грэмерси. Мог бы жить так кто-либо из художников, которых знает он, Юджин? Едва ли. Надо будет об этом подумать. Да и об искусстве вообще. Все это надо хорошенько взвесить. Может быть, удастся получить место художественного редактора, заняться литографским делом или еще чем-нибудь? Работая на железной дороге, Юджин не раз подумывал о том, что из него вышел бы недурной начальник строительства, если бы он мог целиком этому отдаться. И Анджела задумалась над тем, что сулит ей перемена в их жизни. Бросит ли Юджин свои дурные повадки? Хватит ли у него характера медленно, но верно продвигаться в гору? Ведь он уже не мальчик. Пора бы ему позаботиться о том, чтобы занять прочное место в жизни, если он вообще надеется чего-нибудь достигнуть. Ее любовь к нему была уже не та, что раньше, негодование и неприязнь отравляли ее временами, но все же Анджела знала, что он нуждается в ее помощи. Бедный Юджин, если бы только судьба не покарала его этой слабостью! Но, может быть, он преодолеет ее? — думала Анджела.Глава 59
Работа в художественном отделе газеты «Уорлд» ничем не отличалась от той, какая у Юджина была лет десять назад в Чикаго. Но, несмотря на весь его опыт, ему сейчас приходилось не легче, чем тогда, а пожалуй, даже и труднее, так как работа не удовлетворяла его, и он чувствовал себя не на месте. Теперь у него появилось желание найти что-нибудь такое, что приносило бы ему вознаграждение в соответствии с его способностями. Сидеть вместе с какими-то мальчишками (были там и люди одних с ним лет и старше его, но не в этом дело) казалось ему унизительным. Он считал, что Бенедикт мог бы отнестись с большим уважением к его таланту и не предлагать ему такое маленькое жалованье. Но в то же время Юджин был благодарен и за это. Он энергично принялся выполнять то, что ему поручали, и поражал своего начальника быстротой, с какою разрабатывал каждую тему, проявляя при этом необыкновенную изобретательность. На следующий же день он изумил Бенедикта прекрасной фантазией на тему «Черная смерть» — рисунок должен был идти в воскресном номере к статье об опасностях современных эпидемий. Мистер Бенедикт сразу понял, что ему не удастся удержать Юджина на таком жалованье. Он сделал большую ошибку, назначив ему для начала столь скромную плату, но он боялся, что после серьезной болезни талант Юджина сильно пострадал. Будучи новичком в газетном деле, Бенедикт не знал, как трудно потом добиться повышения жалованья для своих подчиненных: чтобы исхлопотать кому-нибудь прибавку в десять долларов, нужно было долго спорить и убеждать заведующего финансовым отделом, а о том, чтобы удвоить или утроить оклад (как в данном случае требовала справедливость), не могло быть и речи. Раньше шести месяцев нельзя было и надеяться на прибавку — таковы были твердые установки главной администрации, но в отношении Юджина это было, конечно, смешно и несправедливо. И все же, поскольку Юджин был болен, он мирился с этой работой, надеясь добиться лучших условий, как только к нему вернутся силы и у него появятся некоторые сбережения. Анджелу, конечно, радовала перемена в их жизни. Она так долго страдала, так долго ничего не видела впереди, кроме новых невзгод и горя, что для нее было большим утешением ходить по вторникам в банк (Юджин получал жалованье в понедельник) и откладывать по десять долларов про черный день. Они решили, что могут позволить себе тратить шесть долларов в неделю на одежду (в которой оба очень нуждались) и на кое-какие развлечения. Юджин иногда приглашал к обеду кого-нибудь из товарищей по службе и, в свою очередь, получал приглашения вместе с Анджелой. Они уже столько времени обходились без нового платья, без друзей, почти не бывали в театре — нигде! Теперь в их жизни наметился поворот. А вскоре они стали встречаться и с прежними знакомыми, тем более что у Юджина появилось свободное время. Прошло полгода, в течение которых Юджин тянул лямку в газете; и вот опять, как прежде на железной дороге, им овладело беспокойство, и наконец наступил момент, когда он почувствовал, что больше ни одной минуты не выдержит такой жизни. Жалованье ему повысили сперва до тридцати пяти, а затем до пятидесяти долларов, но работа казалась до ужаса скучной и с точки зрения искусства насквозь фальшивой. Единственные ощутимые ее результаты заключались в том, что впервые в жизни он получал твердый, хотя и скромный оклад, которого вполне хватало на жизнь, да еще в том, что голова его была всегда занята мыслями о работе и на размышления о себе не оставалось времени. Он работал в огромной комнате с людьми, наделенными чрезвычайно острым чувством юмора, предприимчивыми и смело предъявлявшими к жизни свои требования. Они так же, как и Юджин, мечтали о роскоши и богатстве, с той лишь разницей, что у них было больше веры в себя и зачастую больше той уравновешенности, которую дает идеальное здоровье. Вначале они готовы были заподозрить Юджина в зазнайстве, но постепенно полюбили его — все без исключения. У него была такая подкупающая улыбка, и он больше чем кто-либо умел ценить шутку, а это привлекало к нему всякого, кто мог рассказать хороший анекдот. «Это надо рассказать Витле», — то и дело слышалось в редакции, и Юджин постоянно кого-нибудь выслушивал. Он приходил домой завтракать то с одним, то с другим приятелем, а то и сразу с тремя или четырьмя, и скоро у Анджелы появилась обязанность дважды, а иногда и трижды в неделю принимать у себя друзей Юджина. Она часто протестовала, и из-за этого происходили ссоры, так как у них не было горничной, и она считала, что Юджин перегружает этими приемами их скромный бюджет. Она хотела, чтобы гости приходили, как принято, по уговору и приглашению, но все чаще случалось так, что Юджин, придя домой, весело кричал ей с порога, что с ним Ирвинг Нелсон, или Генри Хейр, или Джордж Бирс, и только потом, улучив минуту, нервно спрашивал: «Ничего, что я их привел?» Анджела в таких случаях отвечала: «Ну конечно, милости прошу!», — но лишь в присутствии гостей. Когда же они оставались одни, следовали упреки, и слезы, и категорические заявления, что она этого не потерпит. — Ну, ладно, я больше не буду, — виноватым голосом говорил Юджин. — Я просто забыл. Однако он хотел, чтобы Анджела наняла горничную и позволила ему приглашать кого угодно. Ему было так приятно сознание, что он снова живет в кругу друзей и что их становится все больше. Когда Юджину окончательно надоела низкооплачиваемая работа в «Уорлде», он узнал об одном деле, обещавшем гораздо большие возможности в смысле карьеры. Ему не раз приходилось слышать то от одного, то от другого знакомого, какую роль начинает играть искусство в области рекламы. Он прочел несколько статей на эту тему в каком-то второстепенном журнале и время от времени видел любопытные и подчас прекрасно выполненные серии реклам, которые разные фирмы одна за другой стали помещать в периодических изданиях с целью более широкого распространения какого-нибудь продукта. Разглядывая их, Юджин думал, что мог бы создать хорошую серию реклам на любую тему, и задавался вопросом, кто этим ведает. Однажды вечером, возвращаясь с работы вместе с Бенедиктом, он заговорил с ним об этом. — Видите ли, насколько мне известно, — сказал Бенедикт, — это дело с огромным будущим. В Чикаго есть некий Салджерьян, американский сириец, — то есть отец его был сирийцем, а сам он родился здесь, так вот он создал колоссальное предприятие, снабжая крупные корпорации художественной рекламой. Он выпустил, например, знаменитую серию «Молли Мэгайр», рекламирующую жидкость для выведения пятен. Не думаю, чтобы он сам непосредственно что-нибудь делал. Он приглашает для этой цели художников, и, как я понимаю, на него работают наши крупнейшие силы. Он берет за такую рекламу большие деньги. Этим делом занимаются также и некоторые рекламные агентства. Одно из них я знаю. Компания «Саммерфилд» создала у себя специально для этой цели большой художественный отдел. Там постоянно работает от пятнадцати до восемнадцати художников, а иногда и больше. По-моему, есть очень удачные работы. Помните, например, серию реклам «Корно»? Бенедикт имел в виду пищевой продукт, который некая фирма рекомендовала американцам к завтраку, — она поместила в печати одну за другой десять прекрасно выполненных и остроумных картинок. — Помню, — ответил Юджин. — Ну вот они как раз и выпущены компанией «Саммерфилд». Юджин подумал, что это должно быть исключительно интересное дело. Реклама интересовала его еще в те времена, когда он в Александрии работал наборщиком. Мысль о том, чтобы заняться чем-нибудь подобным, завладела его воображением. Это было самое новое из всего, с чем он сталкивался за последнее время. Может быть, здесь таились и для него какие-то возможности. Картины его оставались непроданными. Приступить к работе над новой серией полотен у него не хватало духу. Если бы ему удалось заработать сперва немного денег, тысяч десять, скажем, чтобы иметь шестьсот — семьсот долларов годового дохода, он, пожалуй, рискнул бы заняться искусством. Слишком уж он настрадался; бедность до такой степени страшила его, что сейчас ему хотелось одного — добиться постоянного заработка или твердого годового дохода. Как раз в то время, когда Юджин упорно думал об этом, к нему заглянул один художник, который раньше работал в «Уорлде», а теперь перешел в другую газету. Это был молодой человек по имени Моргенбау — Адольф Моргенбау, — очень полюбивший Юджина и восхищавшийся его талантом. Моргенбау горел желанием сообщить Юджину важную новость: по дошедшим до него слухам, в художественном отделе компании «Саммерфилд» намечается смена руководства. Он думал, на основании некоторых соображений, что Юджину небезынтересно будет узнать об этом. Моргенбау всегда считал, что Юджину не место в газете. Это не соответствовало ни его уму, ни призванию. Что-то подсказывало молодому человеку, что Юджину предстоит блестящее будущее, и, движимый этой догадкой, он хотел как-нибудь помочь ему и тем завоевать его расположение. — Мне нужно кое-что рассказать вам, мистер Витла, — сказал он. — Выкладывайте, я слушаю вас, — улыбнулся Юджин. — Вы пойдете завтракать? — Непременно, пошли вместе! Они отправились завтракать, и Моргенбау сообщил Юджину о том, что слышал. Компания «Саммерфилд» только что уволила (а может быть, отпустила или не сумела удержать) своего заведующего художественным отделом, чрезвычайно способного человека, по имени Фримен, и теперь ищет ему преемника. — Почему бы вам не предложить свои услуги? — сказал в заключение Моргенбау. — Вы вполне могли бы справиться с этой работой. То, что вы сейчас делаете, как раз подошло бы для прекрасных реклам. И, кроме того, вы умеете обращаться с людьми. Вас все любят, например, здесь, в газете, вся молодежь любит вас. Почему бы вам не повидаться с мистером Саммерфилдом? Его агентство помещается на Тридцать четвертой улице. Возможно, вы окажетесь для него подходящим работником и получите в свое ведение целый отдел. Юджин смотрел на Моргенбау и спрашивал себя, что могло ему внушить такую мысль. Он решил немедленно позвонить Дьюле и посоветоваться. Дьюла ответил, что лично он Саммерфилда не знает, но что у них есть общие знакомые. — Вот что я вам посоветую, Юджин, — сказал он. — Повидайтесь с Бейкером Бейтсом из компании «Сатина». Это на углу Бродвея и Четвертой улицы. У нас крупные дела с этой фирмой, а у нее крупные дела с Саммерфилдом. Я вам сейчас пришлю с рассыльным рекомендательное письмо, которое вы захватите с собой, а затем позвоню Бейтсу, и он, вероятно, согласится поговорить с Саммерфилдом. Конечно, он захочет раньше повидать вас. Юджин горячо поблагодарил и стал с нетерпением ждать письма. Он попросил Бенедикта отпустить его и отправился к мистера Бейкеру Бейтсу. Последний, достаточно наслышавшись о Юджине от Дьюлы, встретил его очень приветливо. Дьюла рассказал ему, что у Юджина редкостный талант, что сейчас он переживает тяжелый период, но тем не менее прекрасно справляется с работой и будет еще лучше делать свое дело на новом месте, поскольку оно больше ему подходит. На Бейтса произвела очень хорошее впечатление внешность Юджина, так как тот давно сменил костюм «свободного художника» на более солидный. Юджин показался ему человеком способным и, вне всякого сомнения, очень приятным. — Я поговорю с мистером Саммерфилдом, — сказал он, — но на вашем месте я не стал бы возлагать на это слишком большие надежды. Он человек трудный, и лучше всего не показывать вида, что вам очень хочется поступить к нему. Надо сделать так, чтобы он сам обратился к вам. Подождем до завтра. Я встречусь с ним по другому делу, а за завтраком расспрошу, что, и как, и кого он имеет в виду на это место — если он имеет кого-нибудь в виду. Если вакансия действительно открыта, я скажу ему про вас. А дальше видно будет. Юджин расстался с ним, горячо поблагодарив. Он шел и думал, что Дьюла всегда приносит ему счастье. Не кто иной, как Дьюла, в свое время поместил в журнале его первое крупное произведение. Картинами, репродукции которых печатались в его журнале, Юджин завоевал расположение мосье Шарля. Благодаря Дьюле он получил свою теперешнюю работу. Уж не получит ли он, с его легкой руки, и это место? Возвращаясь в трамвае на работу, Юджин встретил косого парнишку. Кто-то недавно сказал ему, что косоглазые мужчины приносят счастье, а косоглазые женщины — несчастье. Трепет радостного предчувствия пробежал по его телу. Ну, конечно, он получит работу у Саммерфилда и, если это сбудется, окончательно уверует в приметы. Они и раньше оправдывались, но это будет настоящей проверкой. Юджин с веселым видом уставился на мальчика, а тот в ответ выпучил на него глаза и широко улыбнулся. «Ну, все в порядке, — подумал Юджин. — Место за мной!» Все же он не был в этом уверен.Глава 60
«Рекламное агентство Саммерфилда», президентом которого был Дэниел К. Саммерфилд, представляло собою нередко встречающееся в деловом мире явление — некое выражение или даже воплощение одной недюжинной личности. Идеи, темперамент и энергия мистера Дэниела К. Саммерфилда — вот в сущности чем определялась и исчерпывалась деятельность его рекламного агентства. Правда, этот человек содержал огромный штат — агенты по сбору объявлений, составители реклам, финансовые работники, художники, стенографистки, счетоводы и т. д., — но все они были в своем роде эманацией или излучением личности Дэниела К. Саммерфилда. Это был подвижный человек маленького роста, черноглазый и черноусый, с оливковым цветом лица и ровным рядом красивых (хоть и смахивающих порой на волчьи) белых зубов, выдававших его алчную, ненасытную натуру. Мистер Саммерфилд поднялся к богатству — или по крайней мере благосостоянию — из глубочайшей бедности, и при этом способом самым элементарным: собственными усилиями. В штате, где он родился — в Алабаме — семью его, те немногие, кому она была известна, причисляли к «белой голи». Отец его был нерадивым полунищим хлопководом-арендатором, снимавшим с акра разве что один бушель. Он плелся за тощим мулом, еле державшимся на ногах от старости и усталости, по бороздам своего еще более тощего поля и вечно жаловался на боль в груди. Его медленно точила чахотка, или это только так казалось ему, — не важно, ибо суть дела от этого не меняется. Вдобавок он страдал солитером, хотя этот паразитический возбудитель неизлечимой усталости еще не был в те времена открыт и не получил еще имени. Дэниел Кристофер, его старший сын, не получил почти никакого образования, так как семи лет от роду был отдан на хлопчатобумажную фабрику. И тем не менее очень скоро оказался главой и разумом своей семьи. В течение четырех лет он работал на фабрике, а потом благодаря своей исключительной смышлености получил место в типографии викхемской газеты «Юнион», где так понравился своему тугодуму-хозяину, что в конце концов сделался главным мастером наборной, а затем и управляющим. В то время он ничего еще не понимал ни в типографском, ни в издательском деле, но тот небольшой опыт, который он получил в газете, раскрыл ему глаза. Он сразу сообразил, что представляет собою газетное дело, и решил им заняться. Позже, когда он подрос, он обратил внимание на то, как мало людей разбирается в рекламном деле, и решил, что именно он призван навести здесь порядок. Мечтая о широком поприще, на котором можно было бы по-настоящему развернуться, он немедленно приступил к подготовке, читал по возможности все, что было когда-либо написано о рекламе, и учился искусству показывать вещи с самой выгодной стороны и писать о них так, чтобы это запечатлевалось в памяти. Он прошел такую жизненную школу, как вечные драки со своими подчиненными (однажды он сбил рабочего с ног ударом тяжелого гаечного ключа), постоянные пререкания с отцом и матерью, когда он говорил им в лицо, что они ничего не стоят и что для них же было бы лучше поучиться у него уму-разуму. Он ссорился с младшими братьями, стараясь подчинить их себе, и ему удалось достичь этого в отношении самого младшего — главным образом, по той простой причине, что тот глупо и безоглядно к нему привязался. Этого младшего брата он впоследствии взял к себе в рекламное дело. Он ревностно копил гроши, которые зарабатывал, часть их вложил в расширение газеты «Юнион» и, кроме того, купил своему отцу ферму в восемь акров и сам же показал ему, как ее надо эксплуатировать; но в конце концов решил податься в Нью-Йорк и связаться там с каким-нибудь крупным рекламным концерном, в котором можно почерпнуть полезные сведения по единственному интересовавшему его вопросу. К тому времени он был уже женат и привез с собой в Нью-Йорк молодую жену-южанку. Вскоре Саммерфилд поступил в одну крупную фирму агентом по сбору объявлений и быстро пошел в гору. Он всегда мило улыбался, был вкрадчив и настойчив и так умел очаровать клиента, что заказы сами шли к нему в руки. Он сделался «столпом» фирмы, и Альфред Кукмэн, ее владелец и управляющий, стал подумывать, как бы удержать Саммерфилда у себя. Но ни один человек, ни одна фирма не могли удержать надолго Дэниела К. Саммерфилда, стоило ему только понять, что он способен на большее. За два года он овладел всем, чему мог научить его Альфред Кукмэн, и еще многим, чему последний не мог его научить. Он знал своих клиентов и их требования и недостатки в работе фирмы Кукмэна. Он предугадал появление художественной рекламы на товары первой необходимости и решил заняться именно этой отраслью. Для этого нужно было основать агентство, которое сумело бы дать своим заказчикам такую действенную и эффектную рекламу, чтобы всякий, кому она будет по карману, получал он нее значительную выгоду. В то время когда Юджин впервые услыхал о фирме Саммерфилда, она существовала уже шесть лет и дело быстро росло. Это было крупное предприятие, приносившее большие доходы и отличавшееся той же энергией и напористостью, что и сам его владелец. Когда вопрос касался судьбы отдельного человека, Дэниел К. Саммерфилд не знал пощады. Он изучил биографию Наполеона и пришел к выводу, что жизнь отдельного человека ровно ничего не стоит. В деловых отношениях жалость представлялась ему чем-то совершенно неуместным. Всякие разговоры о чувстве он считал глупой болтовней. Важно лишь нанимать нужных людей, платить им возможно меньше, выжимать из них все соки и немедленно гнать тех, кто в результате напряженной работы обнаруживает малейшие признаки изношенности. За пять лет у него перебывало пять заведующих художественным отделом; он нанимал и, как он выражался, гнал взашей бесконечное множество агентов по сбору объявлений, составителей реклам, бухгалтеров, стенографисток, художников, выбрасывая за дверь всякого, кто выказывал малейшие признаки неспособности или нерадивости. Огромный зал на первом этаже, занятый его конторой, мог бы по праву считаться образцом чистоты и порядка, — если хотите, даже красоты, с коммерческой точки зрения, — но это были чистота, порядок и красота бездушной, хорошо налаженной и хорошо смазанной машины. Дэниел К. Саммерфилд был в сущности и сам такой машиной, — он давным-давно решил, что именно таким и нужно быть, если не хочешь потерпеть поражение в жизни, оказаться в дураках и стать жертвой мошенников. Он считал, что это делает ему честь. Мистер Бейкер Бейтс, отправившийся по просьбе Хадсона Дьюлы позондировать почву насчет вакансии, о которой ходили слухи (и которая действительно имелась), попал к мистеру Саммерфилду в чрезвычайно благоприятную минуту, — тот как раз вел переговоры насчет двух очень крупных заказов, выполнение которых должно было потребовать известной фантазии и вкуса. А он как на грех лишился своего заведующего художественным отделом из-за размолвки, вышедшей у них в связи с выполнением одного старого контракта. Правда, во многих случаях — можно даже сказать, в большинстве случаев — его клиенты сами знали, что они хотят сказать и как они хотят это выразить, но все же далеко не всегда. Обычно они охотно прислушивались ко всяким советам, исправлениям и переделкам, а в ряде случаев, когда речь шла о крупном заказе, целиком препоручали его агентству Саммерфилда на его просвещенное усмотрение. Поэтому фирме необходимо было иметь людей, достаточно сведущих и в изготовлении реклам и в том, как и где их разместить. И как раз в изготовлении реклам очень важно было участие способного заведующего художественным отделом. Как уже говорилось, Саммерфилд за пять лет сменил пятерых заведующих художественным отделом. И всякий раз он применял чисто наполеоновский метод, бросая в прорыв человека со свежим, неутомленным воображением, а едва тот обнаруживал малейшие признаки усталости, преспокойно вышвыривал его вон. Этот метод работы не допускал никакой жалости или угрызений совести. «Я нанимаю хороших работников и плачу им хорошие деньги, — было любимым доводом Саммерфилда. — Почему же мне не ожидать хороших результатов?» Если же он бывал расстроен или взбешен какой-нибудь неудачей, он умел выражаться и по-другому: «Будь они прокляты, эти безмозглые маляры! Чего от них ждать? Кроме своих жалких идеек насчет того, как что должно выглядеть, они ровно ничего не понимают! Они ничего не смыслят в жизни! В этом они, черт их побери, просто дети малые! С какой же стати считаться с их мнением? Кому какое дело до них? Они у меня вот где сидят!» Мистер Дэниел К. Саммерфилд очень любил прибегать к крепким словечкам, но это было у него скорее скверной привычкой, чем проявлением злобного характера; однако портрет его был бы неполон без некоторых образчиков его излюбленных выражений. Когда Юджин впервые услышал об агентстве Саммерфилда, хозяин этой фирмы как раз думал о том, как ему быть с двумя новыми контрактами, о которых говорилось выше. Заинтересованные фирмы с нетерпением ждали его предложений. Одна из них ставила себе целью распространение по всей стране сахара новой марки, другая — ознакомление Америки и других стран с несколькими сортами французских духов, сбыт которых в значительной степени зависел от того, насколько заманчиво они будут преподнесены непосвященным. Духи предполагалось рекламировать не только в Соединенных Штатах и Канаде, но и в Мексике. В обоих случаях получение контрактов зависело от того, одобрят ли клиенты представленные Саммерфилдом эскизы газетной, трамвайной и уличной реклам. Дело было нелегкое, но оно могло принести в конечном итоге тысяч двести дохода, и мистеру Саммерфилду, естественно, было весьма желательно, чтобы человек, который возглавит его художественный отдел, обладал большой энергией и талантом, даже гением, если возможно, и своими идеями помог бы ему пожать золотой урожай. Найти подходящего человека было, конечно, трудно. Последний, кто занимал эту должность, удовлетворял его не вполне. Человек солидный, с большим чувством собственного достоинства, он был вдумчив, внимателен и обладал большим вкусом и пониманием того, какими способами, применительно к обстоятельствам, можно внедрить в сознание публики те или иные несложные идеи; единственно, чего ему недоставало, это полета фантазии. В сущности ни один из тех, кто когда-либо занимал пост заведующего художественным отделом, не удовлетворял мистера Саммерфилда. Все они, по его мнению, были «слабачки», «шарлатаны», «мошенники», «мыльные пузыри» — иначе он и не называл их. А между тем требования к ним предъявлялись огромные. Всякий раз, когда мистер Саммерфилд старался создать рынок для какого-нибудь товара, он ставил перед их изобретательностью ряд труднейших задач, добиваясь бесчисленных предложений фирме относительно того, как привлечь внимание потребителя к выпускаемой ею продукции. Иногда это был легко запоминающийся и броский текст, вроде: «Как Вам Нравится Новое Мыло?» Или: «Вы Видели Сорезду? — Она Красная». Иногда цель достигалась изображением на плакате, с соответствующей объяснительной надписью, руки, пальца, рта или глаза. Когда речь шла о сугубо прозаическом продукте, нужно было дать столь же прозаическое изображение, сделанное четко, ярко, привлекательно. В большинстве случаев, однако, требовалось нечто совершенно оригинальное, так как, согласно теории мистера Саммерфилда, его рекламы должны были не только бросаться в глаза, но и запечатлеваться в памяти, доводя до сознания зрителя факты, к которым он уже не мог оставаться равнодушным. Это был поединок с одной из наименее изученных и весьма интересных сторон человеческой психики. Последний заведующий художественным отделом, Олдер Фримен, оказался по-своему весьма полезен мистеру Саммерфилду. Он окружил себя одаренными художниками — людьми, которые временно переживали тяжелую полосу и так же, как Юджин, мирились с подобной службой, — и из них настояниями, лестью, наглядным примером и всякими другими средствами он выколачивал немало интересных идей. Их рабочий день был с девяти до половины шестого, оклад они получали скудный — от восемнадцати до тридцати пяти долларов (только настоящие мастера своего дела получали изредка пятьдесят-шестьдесят) и были загружены до крайности. Их труд учитывался по специальной шкале, показывавшей, сколько каждый из них выработал за неделю и во что фирма оценивает его услуги. Идеи, которые они разрабатывали, принадлежали большей частью заведующему художественным отделом или же самому мистеру Саммерфилду, хотя зачастую они и сами выдвигали интересные предложения. Но заведующий художественным отделом в известной мере нес личную ответственность за должное выполнение работы, за время, на нее потраченное, и за неудачи. Он не мог показать хозяину рисунок, плохо осуществлявший хорошую идею, или же предложить ему плохую идею, когда требовалось нечто исключительное, — тогда бы он долго не удержался на своем месте. Мистер Дэниел К. Саммерфилд был слишком хитер и слишком требователен. Энергия его была неистощима. По его мнению, обязанность заведующего художественным отделом состояла в том, чтобы давать хорошие идеи для хороших рисунков и заботиться о быстром и безупречном их выполнении. Все, что не соответствовало этим требованиям, мистер Саммерфилд объявлял безнадежным браком и при этом не стеснялся в выражениях. Иначе говоря, он временами бывал нестерпимо груб. — На кой черт нужна мне такая мазня! — кричал он Фримену. — Да я мог бы добиться больших результатов от последнего мусорщика. Нет, вы только взгляните на руки этой женщины! Посмотрите на ее уши! Кто согласится принять такую вещь! Это мертвечина! Дрянь! Что за бараны у вас работают, хотел бы я знать? Если «Рекламное агентство Саммерфилда» не может дать ничего лучшего, мне остается только закрыть лавочку. Ведь не пройдет и шести недель, как мы станем всеобщим посмешищем! Вы, Фримен, лучше не пытайтесь подсовывать мне такой хлам! Вы сами должны понимать, что наши клиенты не потерпят ничего подобного. Проснитесь, Фримен! Я плачу вам пять тысяч в год. Каким же образом, по вашему мнению, окупятся мои затраты при таких порядках? Вы попросту выбрасываете мои деньги на ветер. Вы зря тратите время, если позволяете кому-то рисовать подобные вещи, черт возьми! Заведующий художественной частью, кто бы он ни был, постепенно приучившись к грубому обращению, обычно смиренно выслушивал эти оскорбительные тирады. Проработав у Саммерфилда известный срок, он оказывался в роли человека, продавшегося в рабство: он привыкал к комфорту, который давало ему его жалованье, комфорту, о каком он раньше, возможно, и не мечтал, и ему уже казалось, что иначе он не умеет жить. Где еще мог он надеяться получить за свою работу пять тысяч долларов в год? Как сможет он существовать, привыкнув жить на широкую ногу, если потеряет это место? Художественных отделов, которые нуждались бы в заведующих, было не так уж много; люди, могущие с успехом занять этот пост, не такая уж редкость. Если человек этот вообще способен был думать и если он не был гением, отмеченным свыше, невозмутимым в сознании своего высокого дарования, — ему оставалось только волноваться, мучиться, покорно склонять голову и терпеть. Большинство людей при подобных обстоятельствах именно так и поступают. Они крепко думают раньше, чем бросить в лицо своим притеснителям хотя бы ничтожную часть выслушанных от них оскорблений и грубостей. К тому же нельзя забывать, что в предъявляемых им упреках обычно есть и какая-то доля правды. Такие встряски полезны людям, они толкают их на путь совершенствования Мистер Саммерфилд это знал. Он знал также, под каким гнетом нужды и вечного страха живет большинство его подчиненных, а может быть, и все. И его нисколько не мучили угрызения совести, когда он прибегал к этому оружию, как сильный человек, пускающий в ход дубину. Он и сам прожил нелегкую жизнь и ни в ком не встречал сочувствия. А кроме того, он считал, что если хочешь преуспеть, нельзя поддаваться состраданию. Лучше смотреть фактам в лицо, иметь дело с исключительно способными людьми, без колебания освобождаться от всех, кто не знает своего дела в совершенстве, и идти по линии наименьшего сопротивления, только когда сталкиваешься с более сильным противником. Пусть люди строят всевозможные иллюзии хоть до второго пришествия, но дела следует вести именно так, и именно так он и предпочитал их вести. Эти деловые принципы, утвердившиеся в фирме Саммерфилда, были неизвестны Юджину. Мысль о работе в ней была подана ему так внезапно, что ему некогда было раздумывать; но, будь даже у него время, ничего от этого не изменилось бы. Жизненный опыт научил Юджина, как учит всякого, что слухам и пересудам доверять не следует. Узнав про это место, он тотчас же решил предложить свои услуги и надеялся, что его возьмут. Бейкер Бейтс на следующий же день заговорил о нем с мистером Саммерфилдом во время завтрака. — Кстати, — сказал он (это было совсем не кстати, так как он только что обсуждал с мистером Саммерфилдом вопрос о том, каковы шансы на распространение его продукции в Южной Америке), — вам случайно не требуется заведующий художественным отделом? — Всяко бывает, — осторожно ответил мистер Саммерфилд, считавший, что мистер Бейкер Бейтс очень мало разбирается в том, что должен представлять собой заведующий художественным отделом, да и вообще в этой стороне рекламного дела. Возможно, мелькнула у него мысль, Бейтс слышал о его затруднениях и намерен подсунуть ему кого-нибудь из своих друзей — человека, ничего, конечно, в этом не смыслящего. — А почему это вас интересует? — Видите ли, я только что говорил с Хадсоном Дьюлой, управляющим литографией, и он мне рассказал про одного человека, который работает в «Уорлде» и мог бы вам быть очень полезен. Я немного знаю его. Он несколько лет назад написал ряд прекрасных видов Нью-Йорка и Парижа. Дьюла говорит, что это были замечательные вещи. — Молодой? — прервал его Саммерфилд, что-то мысленно прикидывая. — Да, относительно, — лет тридцать, тридцать два. — И он хочет заведовать художественным отделом? А чем он сейчас занимается? — Он работает в «Уорлде», но, насколько я понимаю, собирается уходить оттуда. Помнится, вы в прошлом году говорили, что ищете такого человека, вот я и подумал, что это может вас заинтересовать. — А как он попал в «Уорлд»? — Он, кажется, болел и теперь постепенно становится на ноги. Это объяснение показалось Саммерфилду достаточно правдоподобным. — Как его зовут? — спросил он. — Витла, Юджин Витла. Несколько лет назад в одной из художественных галерей была выставка его картин. — Боюсь я этих настоящих знаменитых художников, — брюзгливо сказал Саммерфилд. — Они обычно до того помешаны на своем искусстве, что с ними невозможно сговориться. Для моей работы нужен человек с трезвым, практическим умом. Не дурак и не рохля. Он должен быть хорошим начальником, хорошим администратором. Одного таланта к живописи недостаточно. Хотя, конечно, у него должен быть и талант, по крайней мере, в чужой работе он должен уметь разобраться. Ну что ж, пришлите его ко мне, если вы его знаете. Я не прочь поговорить с ним. Мне, возможно, скоро понадобится такой работник. Я подумываю о кое-каких изменениях в штате. — Если увижу, пошлю, — сказал Бейкер безразличным тоном и больше уже не заводил разговора на эту тему. На Саммерфилда, однако, имя Юджина произвело известное впечатление. Где он слышал его? Оно наверняка ему знакомо. Пожалуй, надо бы разузнать про этого Витлу. — Когда будете посылать его ко мне, дайте ему рекомендательное письмо, — поспешил он добавить, пока Бейтс не забыл об их разговоре. — Столько народу пытается пролезть ко мне, что я могу и забыть. Бейкер сразу понял, что Саммерфилду очень хочется повидать его протеже. Он в тот же день продиктовал стенографистке рекомендательное письмо и отправил его Юджину. «Насколько я могу судить, — писал он, — мистер Саммерфилд склонен принять Вас для переговоров. Я бы советовал Вам повидаться с ним, если Вас это интересует. Предъявите прилагаемое письмо. Преданный Вам и проч.». Юджин с изумлением взглянул на письмо и вдруг почувствовал, что может заранее предсказать исход дела. Судьба благоприятствует ему. Он получит это место. Странная штука жизнь! Вот он сидит в «Уорлде» и работает за пятьдесят долларов в неделю, и вдруг, прямо с неба, сваливается на него место заведующего художественным отделом, то есть то, о чем он мечтал годами. Он решил немедленно позвонить мистеру Дэниелу Саммерфилду, чтобы сказать ему о письме мистера Бейкера Бейтса и спросить, когда тот может его принять. Но затем подумал, что не стоит зря тратить время, а лучше прямо пойти и предъявить письмо. В три часа дня он получил от Бенедикта разрешение отлучиться с работы до пяти, а в половине четвертого был уже в приемной «Рекламного агентства» и с нетерпением ожидал разрешения войти в кабинет его главы.Глава 61
Когда мистеру Дэниелу К. Саммерфилду доложили о Юджине, он не был занят ничем особенно спешным, но решил, по своему обыкновению, заставить просителя подождать. И Юджин ждал целый час, после чего один из клерков сообщил ему, что, к сожалению, неотложные дела задержали мистера Саммерфилда, и он не может принять его сегодня. Он будет рад, однако, видеть его завтра в двенадцать часов. На следующий день Юджин был, наконец, допущен к мистеру Саммерфилду и с первого взгляда понравился ему. «Малый с головой, — подумал тот, откидываясь в кресле и уставившись на Юджина, — и, кажется, не робкого десятка. Молод, глаза открыты настежь, быстро соображает, приятен на вид. Возможно, что я нашел, наконец, человека, из которого выйдет хороший заведующий художественным отделом». Он улыбнулся, — мистер Саммерфилд всегда был очень мил при первом знакомстве, и особенно к людям, желавшим поступить к нему на работу. — Садитесь! Садитесь! — пригласил он Юджина, и тот сел, охватив взглядом дорогие обои на стенах, большой мягкий светло-коричневый ковер на полу и письменный стол красного дерева, покрытый толстым стеклом и уставленный всякими принадлежностями из серебра, слоновой кости и бронзы. Мистер Саммерфилд показался ему чрезвычайно проницательным и энергичным человеком; внешне он чем-то напоминал японскую резную фигурку из твердого и гладкого дерева. — Ну-с, а теперь расскажите мне подробно о себе, — начал Саммерфилд. — Откуда вы? Кто вы? Чем занимались раньше? — Полегче, полегче! — непринужденно и добродушно ответил Юджин. — К чему такая спешка? Моя жизнь не бог весть как сложна. Биография у меня простая и короткая, как у всякого бедняка. Ее можно рассказать в двух словах. Саммерфилд несколько опешил от этой резкости, вызванной в сущности его же собственным тоном, однако ничуть не рассердился. В этом было что-то для него новое. Проситель нисколько не робел и, по-видимому, даже не волновался. «Чудаковат, — подумал он, — но в меру. Очевидно, человек, видавший виды. Держит себя свободно и не злой». — Ну, я вас слушаю, — сказал он, улыбнувшись. Ему очень понравилось, что Юджин не торопится. У этого человека было чувство юмора, а такой черты Саммерфилд до сих пор не встречал в заведующих художественным отделом. Насколько он мог припомнить, ни у одного из предшественников этого кандидата не было ни крупицы юмора. — Итак, я художник, — начал Юджин, — работаю в «Уорлде». Надеюсь, это не будет поставлено мне в минус. — Не будет, — сказал мистер Саммерфилд. — И я хочу заведовать художественным отделом, так как думаю, что из меня выйдет хороший заведующий. — Почему вы так думаете? — спросил Саммерфилд, любезно осклабившись. — Видите ли, я люблю руководить людьми, — или так по крайней мере мне кажется. И умею завоевывать их расположение. — Вы в этом уверены? — Да, уверен. Во-вторых, та мелкая работа, которую я сейчас выполняю, не соответствует моим познаниям и опыту в области искусства. Я способен на гораздо большее. — Это мне тоже нравится, — одобрил Саммерфилд. Слушая Юджина, он думал о том, что человек этот очень привлекателен, немного, пожалуй, бледен и чересчур худощав для роли энергичного начальника, но, может быть, это только кажется. Волосы у него слишком длинные. И манеры, возможно, немного развязны. Но все же он ничего. Зачем только он носит мягкую шляпу? Почему художники непременно носят мягкие шляпы, во всяком случае большинство художников? Это придает им такой комичный и неделовой вид. — Сколько вы получаете сейчас, если дозволено будет спросить? — Меньше, чем я заслуживаю, — ответил Юджин. — Всего пятьдесят долларов в неделю. Но я согласился на это, так как рассматривал свою работу как средство для поправления здоровья. У меня было несколько лет назад сильное нервное расстройство. Теперь мне много лучше, и я не хочу оставаться на этой работе. Заведование же художественным отделом — мое призвание, так по крайней мере мне кажется. И вот я здесь, к вашим услугам. — Вы хотите сказать, что раньше никогда не заведовали отделом? — спросил Саммерфилд. — Никогда. — Понимаете ли вы что-нибудь в рекламном деле? — Когда-то мне казалось, что понимаю. — Давно это было? — Когда я работал в газете «Морнинг Эппил» в Александрии, штат Иллинойс. Саммерфилд не мог удержаться от улыбки. — Это, надо полагать, такой же крупный орган, как и викхемская «Юнион»? И, надо полагать, с такой же обширной сферой влияния? — О, с гораздо большей, с гораздо большей, — невозмутимо отозвался Юджин. — Из всех провинциальных газет к югу от Сангамона александрийская «Морнинг Эппил» выходила самым большим тиражом. — Понятно, понятно, — шутливым тоном согласился Саммерфилд. — То же самое можно сказать и про «Юнион». Но как же случилось, что вы разуверились в своем призвании к рекламе? — Во-первых, я стал немного старше, — сказал Юджин. — А затем я решил, что мне суждено сделаться великим художником. Я приехал в Нью-Йорк и в горячке растерял все свои идеи относительно рекламы. — Понимаю. — Но, хвала небу, я опять нашел их, — теперь они у меня всегда при себе. И вот я здесь. — Знаете, Витла, откровенно говоря, вы на обыкновенного и вполне надежного заведующего художественным отделом мало похожи. Но, возможно, что вы и справитесь. Если исходить из утвердившихся у нас здесь вкусов, вы, пожалуй, недостаточно «брызжете талантом». Все же я не прочь пойти на отчаянный риск. Вероятно, — как это всегда случалось, — я буду потом раскаиваться, но я так часто раскаивался, что пора мне уже привыкнуть к этому. Все мое тело покрыто болячками от укусов ос, которых я принимал за пчел. Но предположим, что вы получите в свое ведение настоящий, в натуральную величину художественный отдел, — что, по-вашему, можете вы с ним сделать? Юджин подумал, раньше чем ответить. Эта пикировка забавляла его. Он чувствовал, что теперь, поговорив с ним, Саммерфилд его возьмет. — Прежде всего я получил бы жалованье, а затем позаботился бы о том, чтобы допуск ко мне в кабинет был обставлен должным образом, — чтобы каждый, кто захочет меня видеть, думал, что я английский король… А потом уж… — Я действительно был вчера занят, — извиняющимся тоном вставил Саммерфилд. — Нисколько в этом не сомневаюсь, — весело ответил Юджин. — И, наконец, если бы меняхорошенько попросили, я снизошел бы до того, чтобы немного поработать. Эта манера разговаривать и раздражала и забавляла Саммерфилда. Он любил людей с характером. С человеком, который не трусит, даже в том случае, когда не знает по-настоящему, как взяться за дело, можно будет сговориться. А у Юджина был, очевидно, изрядный запас знаний. К тому же его манера говорить и вести себя была сродни саркастическому и полушутливому тону самого Саммерфилда. В устах Юджина насмешка звучала значительно мягче, чем в его собственных, но это был тот же веселый, подтрунивающий тон. Он решил, что Юджин ему подходит. Во всяком случае испытать его нужно, и немедленно. — Вот что я вам скажу, Витла, — сказал он наконец. — Я не знаю, справитесь вы с этим делом или нет, — весьма вероятно, что не справитесь, — но у вас есть, по-видимому, кое-какие идеи или они могут возникнуть под моим руководством, и я, пожалуй, дам вам возможность показать себя. Заметьте, однако, что большой уверенности в успехе у меня нет. Личные симпатии обычно роковым образом подводят меня. Но как бы там ни было, вы здесь, вы мне нравитесь, никого другого у меня нет на примете, так что… — Благодарю, — сказал Юджин. — Не благодарите. Вам предстоит тяжелая работа, если я решусь вас взять. Это не детская забава. Однако не мешает вам, пожалуй, пойти со мной и взглянуть на нашу контору. — И он повел Юджина в огромный главный зал, где в это время находилась лишь часть служащих (перерыв на завтрак еще не кончился), но по всему видно было, какое это внушительное предприятие. — Здесь работает семьдесят два человека — стенографистки, счетоводы, агенты по сбору объявлений, составители реклам и коммерческие консультанты, — заметил он, сопровождая свои слова небрежным жестом, и двинулся дальше по направлению к художественному отделу, расположенному в другом корпусе, окна которого выходили на север и восток. — А вот это интересующий вас отдел, — сказал он, распахивая дверь в комнату, в которой стояло тридцать два рабочих стола и столько же мольбертов. Большинство художников ушло завтракать. Юджин был изумлен. — Неужели вы столько народу держите? — спросил он, чрезвычайно заинтересованный. — От двадцати до двадцати пяти человек постоянно, а иногда и больше, — ответил Саммерфилд. — Часть работы мы отдаем на сторону. Все зависит от степени загруженности. — И сколько вы, как правило, платите? — Это, видите ли, смотря кому. Вам я думаю положить для начала семьдесят пять долларов в неделю, если мы договоримся. Если вы оправдаете мои надежды, я через три месяца повышу ваш оклад до ста долларов в неделю. А дальше видно будет. Другие столько не получают. Это вам подтвердит управляющий конторой. Юджин понял, что Саммерфилд увиливает от прямого ответа, и слегка сощурил глаза. Все же здесь перед ним открывались большие возможности. Семьдесят пять долларов много лучше, чем пятьдесят, тем более что в дальнейшем эта сумма может увеличиться. Он будет сам себе хозяин, человек с весом. Он не мог не испытать горделивого трепета при виде комнаты, которую показал ему Саммерфилд, заметив, что здесь, если они договорятся, будет его кабинет. В ней стоял огромный письменный стол полированного дуба и несколько обитых кожей стульев. На стенах были развешаны эскизы, на полу лежал прекрасный ковер. — Вот где вы будете работать, если поступите к нам, — повторил Саммерфилд. Юджин огляделся по сторонам. Действительно, в его жизни наступил просвет. Как ему получить это место? От чего это зависело? Мысли его забежали далеко вперед, и он уже представлял себе, какие это внесет изменения в их домашний быт: у Анджелы будет хорошая квартира, она сможет лучше одеваться, расширится круг их знакомств и развлечений, они избавятся от вечных забот о будущем. Ясно, что такое место скоро повлечет за собой и текущий счет в банке. — Большой у вас оборот? — полюбопытствовал Юджин. — Как сказать, — миллионов около двух в год. — И вы делаете эскизы к каждой рекламе? — Обязательно. И не один, а иногда шесть, а то и восемь. Все зависит от заведующего художественным отделом. Если он работает как следует, он сберегает мне немало денег. Юджин понял, что это намек. — Что сталось с моим предшественником? — спросил он, заметив, что на двери еще значится имя Олдера Фримена. — Он сам уволился, — сказал Саммерфилд, — вернее, он понял, что его ждет, и предпочел уйти подобру-поздорову. Он никуда не годился. Слюнтяй, каких мало. Такую работу мне подсовывал, что просто смешно, — некоторые вещи приходилось переделывать по восемь, по девять раз! Так вот какие трудности, какие обиды и нарекания ждут его здесь! Саммерфилд — черствый человек, это ясно. Пусть он сейчас смеется и шутит, но рука его будет давить на всякого, кто займет у него пост заведующего. На мгновенье у Юджина шевельнулась мысль, что ему не справиться, что лучше даже не пытаться, но затем он подумал: «А почему бы и нет? Ведь я же ничем не рискую. В случае неудачи у меня всегда останется мое искусство». — Итак, все ясно, — сказал он. — Если я провалюсь, меня, надо полагать, ждет дверь? — О нет, далеко не так просто — мусорный ящик, — усмехнулся Саммерфилд. Юджин обратил внимание, как он лязгнул при этом зубами, словно норовистая лошадь; этот человек, казалось, излучал энергию. Ответ Саммерфилда заставил его вздрогнуть. Он вступал в атмосферу беспощадной борьбы. Здесь ему придется драться за жизнь, это ясно. — Ну вот, — продолжал Саммерфилд, когда они, не торопясь, возвращались в его кабинет. — Мы могли бы с вами сделать следующее. У меня есть на руках два предложения — одно от парфюмерной компании «Сэнд», другое от Американской сахарной компании. Обе фирмы согласны заключить со мной крупные контракты, если мне удастся представить им подходящие идеи для реклам. Компания «Сэнд» ждет от меня образцов этикеток для флаконов, газетных объявлений, афиш, трамвайных плакатов и тому подобного. А сахарозаводчики хотят распространять свой товар небольшими пакетами, — сахарный песок, пудру, кубики, шестигранники. Им нужны эскизы пакетов и этикеток, плакатов и прочего. Вся суть в том, чтобы при минимальных размерах реклам дать максимум оригинальности, простоты и эффекта. В таких вещах, надо вам сказать, я завишу от того, что скажет мой заведующий художественным отделом. Я вовсе не требую, чтобы он все делал сам. Напротив, я во всякое время здесь и рад помочь ему. У меня в отделе коммерческой консультации сидят ребята, каждый просто кладезь новых идей, но заведующий художественным отделом должен нам помогать. Он-то и должен обладать вкусом и облекать в окончательную форму поданные ему мысли. Я предложил бы вам разработать эти две темы, — посмотрим, что у вас получится. Принесите мне эскизы. Если они придутся мне по вкусу и я увижу, что вы подошли к делу правильно, место за вами. Если же нет, вы этого места не получите и ничем не пострадаете. Идет? — Идет, — отозвался Юджин. — Можете посмотреть вот это, — сказал Саммерфилд, подавая ему кипу каталогов, проспектов и брошюрок. — Возьмите с собой, а потом вернете. Юджин встал. — Мне понадобится на это дня два-три, — сказал он. — Задача для меня новая. Я не уверен, конечно, но думаю, что дам вам несколько хороших идей. Так или иначе, я попробую. — Валяйте несите, — сказал Саммерфилд. — И чем больше, тем лучше. Принесете, тогда поговорим. Пока у меня тут есть человек — помощник Фримена, временно заведующий отделом. Желаю успеха! — и он небрежно помахал ему на прощанье. Юджин ушел. Впервые в жизни встречал он такого человека — черствого, холодного, практичного! Для Юджина это было в новинку. Он был поражен — главным образом вследствие неопытности. Ему не приходилось еще вступать в поединок с деловым миром, в который вынужден вступать всякий, кто пускается в крупную игру. Этот человек уже разбередил ему душу, внушил ему сознание величия его нового дела, заставил поверить, что мирное царство искусства — глухое захолустье, где люди осуждены на прозябание. Все, кто вершит большие дела, кто находится в первых рядах, это бойцы, как Саммерфилд, — простые дети земли, беспощадные, надменные, хладнокровные. Если бы он, Юджин, мог стать таким! Если бы он умел быть сильным, властным, дерзким! Не колебаться, не отступать, а стоять, не дрогнув перед целым миром, и подчинять себе людей. О, какие горизонты открывались перед ним!Глава 62
Эскизы рекламы для товаров «М. Сэнд и К°» и Американской сахарной компании, которые Юджин представил своему будущему патрону, были очень своеобразны. Как уже говорилось, Юджин обладал богатой, искрящейся фантазией, и, когда он был здоров, идеи так и теснились в его голове и без всяких усилий принимали зримую форму. Мистеру Саммерфилду требовались трамвайные плакаты, афиши и газетные объявления всевозможных размеров, и от Юджина он ожидал не столько текста или подбора шрифтов, сколько художественной выдумки и яркости исполнения. В каждом отдельном случае надо было довести до сознания покупателя одну определенную мысль — с помощью яркого, обращающего на себя внимание рисунка или эскиза. Юджин отправился домой и сначала взялся за рекламу для сахара. Он ничего не сказал Анджеле о цели своей работы, чтобы потом не разочаровать ее, а сделал вид, будто занялся набросками просто так, для собственного удовольствия, но с тем, чтобы потом за небольшую плату предложить их какой-нибудь компании. При свете рабочей лампы под зеленым абажуром он рисовал руки, захватившие квадратные кусочки сахара серебряными или золотыми щипчиками или просто пальцами; сахарницы, до краев наполненные блестящими кристалликами сахарного песку; синюю с золотом чашку и шестигранный кусочек сахара на белоснежной скатерти и многое другое в том же роде. Работа подвигалась быстро и легко, и когда на одну эту тему у Юджина набралось штук тридцать пять набросков, он переключил свое внимание на парфюмерию. Сначала его смутило то, что он не знает флаконов, выпускаемых компанией, но потом он сам придумал оригинальные образчики флаконов — некоторые из них были впоследствии приняты фирмой для производства. Он набросал для собственного развлечения несколько эскизов коробочек с этикетками, а затем сделал ряд композиций — например: коробка, флакон, изящный носовой платок и белая женская ручка. После этого мысли его обратились к производству парфюмерии, к разведению и сбору цветов; он старался представить себе типы мужчин и девушек, занятых этой работой, и на другой день поспешил в Центральную публичную библиотеку, надеясь найти там книгу или журнал по этому вопросу. Отыскав все, что ему было нужно, а вдобавок несколько статей о выращивании сахарного тростника и о сахароварении, подсказавших ему кое-какие мысли, Юджин решил поместить в правом верхнем или левом нижнем углу каждого эскиза изящный флакон духов или красивый пакетик сахара, а в центре изобразить какой-нибудь момент производственного процесса. Он стал припоминать, кто из художников мог бы осуществить его идеи; ему нужны были шрифтовики, жанристы, талантливые колористы, которых можно было бы пригласить за небольшую плату. Он вспомнил о Джерри Мэтьюзе, работавшем когда-то в чикагской газете «Глоб», — где-то он сейчас? о Филиппе Шотмейере, — под его руководством из Шотмейера вышел бы прекрасный работник, ведь он блестящий шрифтовик; о Генри Хейре, который работал в «Уорлде», — Юджин нередко беседовал с ним на тему о рекламе и афишах. Вспомнился Юджину и молодой Моргенбау, большой мастер по части изображения человеческих фигур, надеявшийся к тому же, что Юджин даст ему возможность показать себя, и еще человек восемь — десять, чью работу он знал по журналам, — самых первоклассных специалистов своего дела. Он решил сперва посмотреть, чего можно добиться с тем штатом, который был налицо, а затем часть работников уволить и быстро заполнить свободные вакансии, чтобы таким образом сколотить хорошую рабочую группу. Уже при первом соприкосновении с Саммерфилдом он воспринял кое-что от беспощадности, присущей этому неугомонному человеку, и был готов проявить ее по отношению к своим подчиненным. Все то, что сулило успех, всегда увлекало Юджина, и сейчас надежда выбиться из отчаянной нужды, от которой он так настрадался, обострила его способности. За два дня у него набралась внушительная папка эскизов и рисунков, которую он вполне мог показать своему будущему патрону, и Юджин предстал перед ним, почти уверенный в успехе. Мистер Саммерфилд углубился в просмотр его эскизов и вскоре стал обнаруживать признаки оживления. — Да, знаете ли, — соизволил он наконец сказать, — материал не скучный. Если вы будете продолжать в том же духе, пять тысяч в год вам обеспечены. Конечно, вы еще новичок в этом деле, но уже сумели уловить самую суть. И он уселся рядом с Юджином, чтобы показать ему, какие усовершенствования можно внести в его идеи — с практической точки зрения. — А теперь, профессор, — сказал он, окончательно придя к заключению, что Юджин именно и есть нужный ему человек, — мы можем считать, что договорились. Мне совершенно ясно: в вас есть то, что мне нужно. Некоторые из ваших идей превосходны. Я не знаю, конечно, как вы покажете себя в качестве начальника, но пока можете занять кресло в том кабинете, и давайте сразу же приступим к делу. От всей души желаю вам удачи. Энергии у вас, кажется, достаточно. Юджин затрепетал от радости. Вот этого-то он и ждал. Не сдержанного одобрения, а восторженной похвалы. Он заслужил ее. Он всегда был уверен, что может ее добиться. Людей как-то, независимо от их воли, влекло к нему. Теперь он уже стал привыкать, начал относиться к этому, как к чему-то вполне естественному. Если бы не болезнь — проклятая неудача! — о, как высоко бы он уже взлетел! Он потерял пять лет, в сущности он и сейчас еще не вполне здоров, но, слава богу, с каждым днем ему становится лучше, и он приложит все усилия к тому, чтобы держать себя в узде. Этого требует от него жизнь. Вместе с Саммерфилдом он вошел в комнату, где работали художники, и был им всем представлен. Мистер Дэйвис — мистер Витла, мистер Харт — мистер Витла, мистер Клеменс — мистер Витла, — и так далее. Вскоре каждому было известно, кто он такой. После этого Саммерфилд провел его в следующий зал и представил заведующим различных отделов — управляющему конторой, устанавливавшему гонорар художникам, бухгалтеру, выплачивавшему жалованье, заведующему отделом составления реклам, заведующему отделом коммерческой консультации, а также единственной женщине, возглавлявшей бюро стенографии и машинописи. Юджина покоробила вульгарность этих людей. Ему, привыкшему вращаться среди художников и литераторов, они показались грубыми, жадными, — точно рыбы, готовые проглотить друг друга. В них не чувствовалось никакого воспитания. В их внешности и манерах сквозила неумеренная алчность. Особенно раздражал его ярко-красный галстук и желтые ботинки одного агента по сбору объявлений. Приказчичьи замашки и костюмы бесили его. «К дьяволу весь этот сброд!» — думал он, хотя каждого, с кем его знакомили, дарил улыбкой и говорил, что будет счастлив с ним работать. Наконец процедура представления была окончена, и Юджин вернулся в свой отдел, чтобы приступить к работе, которая захлестывала здесь все бурным, взбаламученным потоком. Художники, с которыми ему предстояло работать, производили, правда, более приятное впечатление. Юджин подозревал, что и они, возможно, явились жертвами расстроенного здоровья или житейских неудач и работают здесь по необходимости. Он вызвал к себе мистера Дэйвиса, которого Саммерфилд представил ему как его будущего помощника, и попросил рассказать, что и как у них делается. — У вас есть график работы? — спросил он товарищеским тоном. — Да, сэр, — ответил его новый помощник. — Покажите мне, будьте добры. Дэйвис принес журнал и познакомил Юджина с системой работы. Каждый заказ поступал под своим номером, и на карточке записывалось время его поступления, фамилия художника, которому поручена работа, время, потраченное на ее выполнение, и так далее. Если один художник тратил на работу два часа, а другой, к которому она переходила, — четыре, то в журнале делалась пометка. Если первый рисунок был забракован и приходилось приступать к той же теме вторично, это тоже заносилось в журнал. Записи отмечали все: и недочеты и ошибки, а также быстрое выполнение и удачи. Юджин сразу увидел перед собой цель — позаботиться о том, чтобы люди, работающие под его началом, делали поменьше ошибок. Ознакомившись подробно с журналом заказов, он встал и прошел в мастерскую, где трудились художники. Ему хотелось познакомиться с манерой и методом каждого из них. Одни работали над рекламой для фирм готового платья, другие делали этикетки для мясных консервов, третьи готовили серию плакатов для железнодорожных компаний и так далее. Юджин с любезным видом склонялся над работой каждого из них, так как ему хотелось завоевать дружбу и доверие своих подчиненных. Ему было по опыту известно, какой впечатлительный народ художники и как легко их пленить теплым, товарищеским отношением. Он возлагал большие надежды на свои мягкие, приветливые манеры. Наклоняясь то к одному, то к другому, Юджин спрашивал каждого, что он хотел выразить, сколько времени должна занять та или иная работа, а в тех случаях, когда художник находился в затруднении, советовал, что следовало бы, по его мнению, сделать. Он далеко не был уверен в себе, так как это была новая для него область, но надеялся ею овладеть. Как приятно чувствовать себя начальником, — если только дело пойдет успешно. Он надеялся, что с его помощью эти люди лучше проявят себя, он заставит их хорошо работать и тем повысит и их заработок и свой собственный. Он во что бы то ни стало должен много зарабатывать, — пять тысяч, как было сказано, ни в коем случае не меньше. — По-моему, это у вас хорошо задумано, — заметил он бледному, болезненному на вид художнику, в котором угадывался большой талант. Художника, которого звали Диллон, подкупили ласковые, дружеские интонации в голосе Юджина и его внешность, хотя он далеко еще не решил, нравится или не нравится ему новый начальник. Ходили слухи, — об этом позаботился Саммерфилд, — будто перед этим человеком в свое время открывалась блестящая карьера. Диллон посмотрел на Юджина и улыбнулся. — Вы находите? — спросил он. — Убежден, — ободряющим тоном сказал Юджин. — Попробуйте-ка дать синее пятно вот здесь, рядом с желтым. Может, вам понравится. Художник последовал его указанию и, сощурившись, стал рассматривать эскиз. — А правда, сейчас много лучше! — заметил он таким тоном, точно эта мысль принадлежала ему самому. — Много лучше, — сказал Юджин. — Очень удачная мысль. И почему-то у Диллона осталось ощущение, будто он и вправду сам это придумал. Не прошло и двадцати минут, как весь отдел единогласно пришел к выводу, что новый начальник, по-видимому, очень милый человек и, пожалуй, оправдывает свое назначение. Он казался таким уверенным в своих силах. Они и не подозревали, как взволнован был Юджин, как ему хотелось взять скорее дело в свои руки и добиться ощутимых результатов. Со страхом думал он о той минуте, когда придется вступить в борьбу с чем-нибудь нежелательным. Так, за работой, проходили дни и недели; Юджин становился все увереннее и почти освоился со своей должностью, хотя прекрасно понимал, что путь, на который он вступил, не усыпан розами. Он обнаружил, что атмосфера в этом предприятии царит грозовая, — это объяснялось тем, что Саммерфилд, по собственному его выражению, был «на месте» во всякое время, всегда энергичный и напористый. Он приезжал в контору из верхней части города, где он жил, без десяти девять утра и проводил в ней почти весь день — до половины седьмого, до семи, а то и до восьми и даже десяти часов вечера. У него была привычка, не считаясь ни с чем, задерживать до поздней ночи служащих, работавших над интересовавшими его заказами, а иногда он переносил совещание к себе домой, несмотря на то что люди еще не обедали, и сам он их к обеду не приглашал. Он часами вел переговоры с заказчиками, пока не приходило время закрывать контору, и только тогда собирал к себе измученных сотрудников, не успевших уйти домой, и начинал с ними какое-нибудь важное и чрезвычайное длительное совещание по поводу новых заказов. Когда что-нибудь выходило не так, он впадал в бешенство, сыпал проклятиями, безумствовал, и нередко дело кончалось увольнением того, кто был вовсе ни при чем. Он без конца устраивал утомительные и безалаберно-шумные совещания, на которых грубые окрики и колкости так и сыпались на головы сотрудников, ибо Саммерфилд не питал ни малейшего уважения ни к способностям, ни к достоинству своих подчиненных. Все они для него были машинами, и притом машинами никуда не годными. Ни одно их предложение не принималось, если только оно не было чем-то совершенно новым или же, как в случае с Юджином, если человек не обнаруживал исключительного таланта. Саммерфилду было трудно понять Юджина, так как он никогда раньше не встречал людей такого сорта. Он зорко присматривался к нему, как и ко всем другим своим служащим, стараясь найти какой-нибудь изъян в его работе. Что-то дьявольское было в сверкающем пристальном взгляде этого человека. Он постоянно с остервенением жевал сигару, весь дергался, то и дело вскакивал и принимался расхаживать по кабинету или перебирал вещи на столе, давая выход своей беспокойной, неукротимой энергии. — Ну-ка, профессор, — говорил он, когда Юджин входил к нему в кабинет и спокойно и скромно садился где-нибудь в углу, — нам предстоит сегодня решить очень важный вопрос. Я хочу знать ваше мнение по такому-то и такому-то делу, — и он принимался излагать его. Юджин напрягал свой мозг, стараясь что-то придумать, но Саммерфилд не допускал размышлений. — Ну-ка, профессор! Ну-ка! — восклицал он. Юджин раздраженно пожимал плечами. Эта манера разговаривать сбивала его с толку, и он воспринимал ее как унижение. — Очнитесь, профессор! — не унимался Саммерфилд, давно избравший своим постоянным орудием тычки и понукания. Юджин вежливо высказывал свое мнение, мысленно посылая Саммерфилда ко всем чертям, но этим дело не ограничивалось. Нисколько не стесняясь присутствием подчиненных — составителей реклам, агентов по сбору объявлений, коммерческих консультантов, а порой и одного или двух художников, работающих над обсуждаемой темой, Саммерфилд восклицал: «Бог ты мой! Что за бездарное предложение!» Или: «Неужели вы, профессор, ничего умнее не могли придумать?» Или: «Да у меня самого наберется десяток куда более удачных предложений». В лучшем случае он удостаивал заметить: «Ну что ж, в этом, пожалуй, что-то есть», хотя позднее, с глазу на глаз, он, случалось, высказывал свое полное удовлетворение. Прежние заслуги в его глазах ничего не стоили, — это было Юджину совершенно ясно. Недостаточно было целый день ковать для него золото и серебро, — он и на следующий день требовал золота и серебра, да еще в большем количестве. Алчности его не было предела, не было предела и жестокости, с какой он выжимал из своих подчиненных последние соки. Не было предела всеотравляющему, тлетворному действию идеи чистогана, которую он проповедовал. Он сам показывал пример, как должно без конца донимать и выматывать людей, и этого же требовал от своих подчиненных. В результате его контора превратилась в зверинец, в притон головорезов, воров и грабителей, нахалов с пудовыми кулаками, где каждый открыто и нагло преследовал только свои интересы, плюя на весь остальной мир.Глава 63
Время между тем шло, и хотя в агентстве Саммерфилда с приходом Юджина мало что изменилось, в его личной жизни наступило заметное улучшение. Главное, Анджела несколько успокоилась. Страдания, которые еще недавно причинял ей Юджин своим бездушным отношением, стали постепенно утихать, так как она видела, что он много работает и ведет себя вполне благоразумно. Впрочем, она еще не вполне доверяла ему. Она далеко не была убеждена, что он окончательно порвал с Карлоттой Уилсон (личность которой так и осталась для нее тайной), но все, казалось, подтверждало это. В аптекарском магазине под их квартирой был телефон; Анджела звонила Юджину в контору в разные часы дня, и он всегда оказывался на месте. Он находил теперь время бывать с ней в театре и не обнаруживал желания избегать ее общества. Однажды Юджин откровенно сказал, что не намерен больше притворяться, будто еще любит ее, хотя по-прежнему питает к ней добрые чувства, — и это очень испугало Анджелу. Несмотря на все ее озлобление, на все страдания, Юджин был ей дорог, и она не теряла надежды, что когда-нибудь его любовь вернется — должна вернуться. Анджела решила играть роль любящей жены, независимо от их истинных отношений, и, если он не возражал, обнимала его, целовала и всячески хлопотала вокруг него, как будто ничего и не было. Юджин не мог понять этого. Неужели она еще любит его! Ему казалось, что Анджела должна питать к нему ненависть, ибо долгая разлука с Карлоттой и тяжелый упорный труд отрезвили его, он начал понимать, какое жестокое, незаслуженное горе причинил жене, и хотел искупить свою вину. Он не любил ее и считал, что любовь уже никогда не вернется, но вполне готов был вести себя благоразумно, приложить все старания к тому, чтобы побольше зарабатывать, ходить с ней в театр, создать круг знакомых, возобновив и старые знакомства, — словом, делать все, что, казалось ему, могло заменить Анджеле его любовь. Мало-помалу он приходил к убеждению, что на свете не существует честного и более или менее благополучного разрешения сердечных дел. У большинства людей, насколько он мог судить, брачная жизнь складывалась неудачно. Он не знал никого, кто не ошибся в выборе спутника жизни! Он, вероятно, не более других. Пусть пока все идет, как идет. Сейчас ему нужно постараться заработать немного денег и восстановить свою репутацию. Быть может, когда-нибудь судьба улыбнется ему. Материальное положение Юджина — еще до его ухода из газеты — значительно улучшилось. Путем упорной экономии, позволяя себе только самые необходимые расходы, Анджела сумела отложить свыше тысячи долларов, а затем эта сумма возросла до трех тысяч. Теперь они немного ослабили узду, стали лучше одеваться, бывали в гостях и регулярно принимали у себя. Их маленькая квартирка, в которой они продолжали жить, не вмещала больше трех-четырех человек гостей. Анджела считала даже, что хорошо принять она может только двоих. Но это не мешало Юджину то и дело приглашать к себе кого-нибудь. Постепенно возобновились некоторые старые связи, в том числе с Хадсоном Дьюлой, Джерри Мэтьюзом (жившим теперь в Нью-Йорке), Вильямом Мак-Коннелом и Филиппом Шотмейером. Мак-Хью и Смайта не было в городе: первый уехал на этюды в Нова-Скотию, второй работал в Чикаго. Что же касается старого круга знакомых из художественного мира, а также социалистов и радикалов, то Юджин по возможности избегал их. Где были Мириэм Финч и Норма Уитмор, он понятия не имел, зато о Кристине Чэннинг слышал очень часто — она выступала в Большой опере, и он видел в газетах и на афишах ее портреты. У него прибавилось и много новых знакомых, вроде Адольфа Моргенбау, — преимущественно молодых художников-иллюстраторов, которые льнули к Юджину и считали себя в некотором роде его учениками. Время от времени приезжали родственники Анджелы, и среди них Дэвид Блю, новоиспеченный младший лейтенант американской армии во всем блеске своего офицерского положения и ранга. Бывали и приятельницы Анджелы, но они очень мало интересовали Юджина: миссис Десмас, жена мебельного фабриканта из Ривервуда, у которой они в свое время снимали комнаты; миссис Вертхайм, жена мультимиллионера, с которым их познакомил мосье Шарль; миссис Линк, когда-то приезжавшая вместе с Мариеттой в старую студию Юджина на Вашингтон-сквер, а теперь жившая с мужем, армейским капитаном, в форте Гамильтон в Бруклине, и, наконец, миссис Юргенс, соседка. Покуда они были бедны, Анджела возобновляла знакомства осторожно, но когда у них завелись деньги, она решила, что может несколько удовлетворить свое желание развлечься и хоть отчасти скрасить свое одиночество. Она мечтала установить крепкие связи в обществе ради Юджина, но не представляла себе, как за это взяться. Когда вопрос о поступлении Юджина в рекламное агентство Саммерфилда окончательно решился, для Анджелы это было большим сюрпризом. Она была рада, что если уж Юджину пришлось на время оставить высокое искусство, условия его новой, практической деятельности складываются так благоприятно: он будет сам начальником, а не подчиненным. Она давным-давно решила в душе, что он никогда не добьется успеха в деловом мире, и теперь с любопытством, хотя и без большой веры, наблюдала за тем, как он идет в гору. Надо откладывать деньги — таков был ее девиз. Придется, конечно, переехать на другую квартиру, однако не следует расходовать больше, чем необходимо. Она все оттягивала переезд, пока Саммерфилд, заглянув к ним, не высказал по этому поводу своего мнения дельца и коммерсанта. Саммерфилд высоко ставил художественное дарование Юджина. Он давно уже собирался посмотреть его работы, и, когда Юджин сказал ему, что часть их еще выставлена у братьев Потль, Джейкоба Бергмана и Анри Ларю, он решил зайти туда, но все откладывал. Однажды вечером, после закрытия конторы, Саммерфилд с Юджином ехали в поезде надземной железной дороги, и Саммерфилд, будучи благодушно настроен, решил заехать к Юджину и посмотреть его полотна. Юджину это было вовсе не по душе. Его огорчала необходимость показать Саммерфилду их убогую квартирку. Он пытался уговорить его зайти лучше к братьям Потль, где была выставлена одна из его картин, но Саммерфилд об этом и слышать не желал. — Мне не хотелось показывать вам мою квартиру, — извиняющимся тоном сказал Юджин, когда они стали подниматься по лестнице пятиэтажного дома. — Мы скоро отсюда переедем. Я поселился здесь, когда работал на железной дороге. Саммерфилд огляделся кругом. Это был бедный район; в двух кварталах от дома проходил канал. Неподалеку, с восточной стороны, тянулись черные угольные склады, а с северной простирался пустырь, к которому прилегал железнодорожный парк. — О, это не играет роли, — сказал он, по обыкновению подходя к вопросу прямо и практично. — Мне-то все равно, но вам, Витла, не должно быть безразлично, где вы живете. Я держусь того мнения, что деньги нужно тратить, что каждый должен их тратить. Экономия ни к чему хорошему не приводит. Раскошеливайся! — вот мое правило. Я давно уже пришел к этому. Перебирайтесь отсюда поскорее, как только представится случай, и окружите себя дельными людьми. Юджин подумал, что легко это говорить человеку, который преуспевает и которому все удается, но вместе с тем решил, что в этих словах есть доля правды. Саммерфилд посмотрел картины. Они понравились ему, понравилась и Анджела, хотя он не мог понять, как это Юджин выбрал себе такую жену. Она производила впечатление тихой, домовитой женщины. А в Юджине было много от богемы, хотя теперь, под воздействием Саммерфилда, он стал больше похож на клубмена. Мягкую фетровую шляпу давно сменил жесткий котелок, а костюм был самого что ни есть трезвого, делового покроя, благодаря чему Юджина можно было принять скорее за молодого коммерсанта, чем за художника. Саммерфилд пригласил к себе супругов на обед, но у них обедать отказался и отправился домой. В скором времени, следуя его совету, они перебрались на другую квартиру. У них накопилось четыре тысячи долларов, и Анджела рассчитала, что если Юджин и впредь будет получать такое жалованье, они могут увеличить свои расходы до двух с половиной тысяч долларов в год, а то и до трех. Она настаивала, чтобы Юджин откладывал ежегодно две тысячи, на тот случай, если он когда-нибудь решит опять вернуться к искусству. В субботу, после его работы, и в воскресные дни они занимались поисками и, наконец, нашли на Западной стороне Сентрал-парка чудесную квартиру с окнами прямо в парк, в которой им, судя по всему, будет удобно и жить и принимать гостей. В квартире была большая столовая и гостиная, причем достаточно было вынести стол, чтобы соединить обе комнаты в одну. Затем было три спальни, одну из которых Анджела превратила в гардеробную, прекрасная ванная, удобная кухня с просторной кладовой и квадратная передняя, которая могла служить приемной. В доме было множество стенных шкафов, газ и электричество, лифт, обслуживаемый лифтером в красивой ливрее, и телефонный коммутатор. Как сильно отличалась эта квартира от той, откуда они выехали, где был длинный темный коридор, крутые, неудобные лестницы, был, правда, газ, но телефона не было. И район тут несравненно лучше. По улице то и дело сновали автомобили, в парке гуляла солидная публика, особенно по воскресеньям, и люди, с которыми здесь приходилось сталкиваться, относились к вам либо с вежливым безразличием, либо с подобострастной предупредительностью. — Дело ясное, — сказал Юджин, когда они разместились в новой квартире, — мы начинаем новую жизнь. Он отделал квартиру заново, в светлых, ярко-синих и голубых тонах, обставил гостиную и столовую мебелью под розовое дерево, купил несколько хороших картин, которые давно присмотрел на различных выставках, и повесил их вперемежку со своими собственными, а стандартную люстру заменил хрустальной. Книг у них накопилось как раз столько, чтобы заполнить красивый белый шкаф. Для спальни была куплена мебель светлого клена и белые эмалированные кровати, и вся квартира приняла элегантный и уютный вид. Они приобрели рояль, а также столовый и кофейный сервизы из гавиландского фарфора. Затем появились ковры, занавеси и портьеры, развешиванием которых руководила Анджела. Итак, они обосновались на новом месте и зажили новой и сравнительно приятной жизнью. Анджела не простила Юджину его давнишние прегрешения, а тем более его откровенную резкость в последнем памятном случае, но это вовсе не значило, что она все время попрекала его прошлым. И теперь еще происходили иногда сцены, так сказать, отголоски пронесшейся бури. Но денег у них было достаточно, возобновились старые знакомства, и Анджела не намерена была ссориться с мужем. Юджин был внимателен к ней. Он очень много работал. Зачем же упрекать его? Вечером он садился у окна, выходившего в парк, и до полуночи корпел над набросками и проектами реклам. К семи часам утра он бывал уже одет, в восемь тридцать являлся в контору, в час или немного позже шел завтракать и только к восьми или девяти вечера возвращался домой. Иногда Анджела ворчала на него за это, порою бранила Саммерфилда, называя его бездушным зверем, но разве могла она затевать ссоры, когда у них была такая очаровательная квартира и Юджин так быстро продвигался? Ведь он трудился столько же для себя, сколько и для нее. Ему лично ничего не было нужно. Деньги его, по-видимому, совсем не интересовали. Он только работал и работал. Ей даже делалось жаль его. — Еще бы Саммерфилду не любить тебя! — сказала она однажды мужу отчасти в виде комплимента, отчасти досадуя на Саммерфилда, так много требовавшего от него. — Ему выгодно тебя держать. Я в жизни не видела, чтобы человек столько работал! Неужели у тебя не бывает желания передохнуть? — Не беспокойся обо мне, Анджела, — отвечал он. — Я должен работать. И я ничего не имею против. Это куда лучше, чем бродить по улицам и ломать голову над тем, как быть дальше. И он снова углублялся в работу. Анджела качала головой. Бедный Юджин! Вот уж действительно кто заслуживает награды за упорный труд. К тому же он опять стал таким милым, остепенился. Должно быть, это все возраст. Он еще, может быть, станет великим человеком.Глава 64
Настало, однако, время, когда вечная гонка, интриги и постоянные ссоры начали раздражать Юджина, и он почувствовал, что долго не выдержит такого напряжения. В конце концов он по натуре был художником, а вовсе не финансовым гением. Он был слишком нервным, слишком неуравновешенным человеком. Надругательство над справедливостью, искренностью, красотой и человеческими чувствами, происходившее на его глазах, сначала удивило его, потом некоторое время забавляло и наконец стало возмущать. Жизнь, с которой сорваны все покровы иллюзий и обмана, представляет собой малопривлекательное зрелище. Беспощадный, неугомонный, придирчивый характер Саммерфилда служил примером для всех его служащих, и напрасно было бы ждать от них доброго отношения, справедливости или хотя бы элементарной вежливости. Чуть ли не с первых дней Юджин убедился, что сослуживцы (правда, не его подчиненные, а остальной персонал) смотрят на него как на человека, который долго не продержится на своем месте. Его не любили — и потому, что Саммерфилд проявлял к нему расположение, и за его манеры, так резко отличавшиеся от принятых здесь. Правда, благоволение Саммерфилда никогда не отражалось на его требовательности в деловых вопросах, но это не спасало Юджина от общей неприязни. Были и такие, что невзлюбили его потому, что он был настоящим художником, держался отчужденно и не мог скрыть своего пренебрежения к ним. Большинство служащих представлялись ему жалкими марионетками — вторым, третьим или четвертым изданием Саммерфилда или копией с него. Все они подражали властным замашкам и резкому тону хозяина. Словно дети, повторяли они его язвительные замечания и остроты и, верные его системе, выжимали из своих подчиненных последние соки. Юджин был в достаточной степени философом, чтобы относиться к этому с известным юмором. Но ведь в конце концов его положение зависело от его работы и достигнутых результатов, и ему было крайне обидно, что он не мог ни от кого ждать не только услуги, но даже простой учтивости. Не проходило дня, чтоб заведующие другими отделами не врывались в его кабинет с требованием немедленной сдачи того или другого заказа. Художники жаловались на низкую оплату, а управляющий конторой кричал о перерасходах и уверял, что если Юджин кое-что и делает для повышения качества работы и быстроты ее выполнения, то уж слишком он расточителен. Другие бранили его в глаза и жаловались патрону, что некоторые рекламы разработаны отвратительно, что тот или иной заказ задерживается, что Юджин слишком медлителен и ни с чем не хочет считаться. Саммерфилд, следивший за Юджином, знал, что во всем этом очень мало правды, но он слишком любил натравливать служащих друг на друга и разжигать страсти, считая, что дело от этого только выигрывает, — и не находил нужным вмешиваться. Вскоре Юджина стали обвинять в том, что он систематически задерживает заказы, что у него в отделе некомпетентные люди (это, кстати, соответствовало истине), что он слишком медленно работает и вообще ведет себя свободным художником. Юджин сносил все спокойно, так как хорошо помнил свою недавнюю бедность, но он твердо решил рано или поздно дать бой. Он уже не был — вернее, не хотел быть — вялым, малодушным мечтателем, как когда-то. Он задумал дать отпор своим врагам, — и начал осуществлять это решение. — Помните, Витла, — сказал ему как-то Саммерфилд, — в этом отделе за все спросится с вас. За все неудачи отвечать будете вы. Не допускайте промахов. Не позволяйте никому клеветать на вас. И не вздумайте бегать ко мне с жалобами. От меня вы помощи не получите. Столько бездушия было в этой программе, что против нее хотелось бороться. Теперь, думал он, жизнь его закалила, и он стал совсем другим человеком, он тоже, если придется, не пожалеет и не даст спуску. — Провались они все к дьяволу! — крикнул он однажды Саммерфилду после страшного скандала по поводу задержки заказа, когда какой-то служащий, настроенный против него, пытался его очернить. — Все, что здесь сейчас утверждали, — ложь! Я работаю не хуже, а лучше других. Этот тип, — указал он на своего противника, — просто подкапывается под меня. В следующий раз, когда он явится ко мне в кабинет и начнет разнюхивать, я выгоню его вон! Он бессовестный враль, и вы это отлично знаете. Все это выдумка с начала до конца, вы прекрасно это понимаете. — Молодец, Витла! — похвалил его Саммерфилд, восхищенный тем, что Юджин оказался способен на такой отпор. — Вы начинаете просыпаться! Теперь вы далеко пойдете. Вы человек неглупый, но если вы будете с этой сворой миндальничать, она вас живьем сожрет. И я не смогу вам ничем помочь. Все они ни черта не стоят. Я здесь ни одному человеку не верю, будь они все прокляты! Так бывало не раз. Юджин усмехался про себя. Удастся ли ему когда-нибудь свыкнуться с этой обстановкой? Сумеет ли он ужиться с этими жалкими, наглыми щенками, которые так и норовят вцепиться вам в икры? Очевидно, Саммерфилда такие работники устраивают, но ему они не по душе. Может быть, это и в самом деле остроумнейшая система руководства, но он, Юджин, держится иного мнения. Для него это своего рода отражение взглядов и темперамента мистера Дэниела К. Саммерфилда — и только. Человеческая натура, надо полагать, лучше. Удивительно, как жизненная удача заживляет старые раны, прикрывает трещины словно густым плющом и создает иллюзию безмятежного счастья там, где притаились страдания и душевная усталость. Так было и у Анджелы с Юджином, — они снова жили вместе, к ним стали постепенно возвращаться старые друзья, и внешне они были так счастливы, будто никакая буря не проносилась над ними и не омрачала их благополучного плавания. Несмотря на все неприятности, Юджин очень увлекался работой. Ему льстила роль главы отдела, где трудилось два десятка человек, приятно было сидеть за своим красивым письменным столом, слышать подобострастное обращение подчиненных и получать время от времени приглашения от Саммерфилда, который по-прежнему к нему благоволил. Работа была трудная, но зато она приносила ему больше материальных благ, чем любое его прежнее занятие. Анджела, казалось, тоже успокоилась — впервые за много лет ей не надо было думать о деньгах, муж ее снова становился на ноги. Старые друзья заходили все чаще, появились и новые. Им были теперь доступны летние и зимние поездки на взморье и обеды с тремя-четырьмя приглашенными. Они наняли горничную. Обед под личным наблюдением Анджелы подавался с большой помпой. Ей было лестно слышать то, что говорилось о Юджине в ее присутствии; в художественных кругах, с которыми они теперь опять соприкасались, считали, что успехом своих реклам Саммерфилд в значительной мере обязан таланту ее мужа. Юджину нестыдно было теперь сказать, где он работает, — он получал хороший оклад и заведовал целым отделом. Некоторые его рекламы имели шумный успех и принесли рекламодателям огромные барыши. Сначала знатоки, а вслед за ними и широкая публика стали интересоваться, кто автор этих удачных работ. За все шесть лет своего существования агентство Саммерфилда не могло похвастать такими успехами. А сейчас они столь быстро следовали один за другим, что это открывало новую страницу в истории фирмы. Саммерфилд, как стали поговаривать в конторе, начал коситься на Юджина, так как не в его характере было терпеть рядом человека, который затмевал его. Тем более что Юджин, имея на пять тысяч долларов сбережений в двух банках, обстановку, стоившую не менее двух с половиной тысяч, да еще страховой полис в десять тысяч долларов на имя Анджелы, держал себя весьма независимо. Он уже не боялся за будущее. Это замечала Анджела. Это замечал и Саммерфилд. Он находил, что Юджин слишком уж явно подчеркивает свое превосходство художника. У него выработался резкий, повелительный, чуть ли не диктаторский тон. Сколько Саммерфилд ни старался, ему так и не удавалось подавить его. Наоборот, он окреп, возмужал и развился. Этот тощий, бледный художник в мягкой фетровой шляпе приобрел солидность, и теперь в своем котелке, щегольском костюме и галстуке с булавкой по последней моде, с экзотическим перстнем на среднем пальце больше походил на дельца, чем на художника. Характер Юджина в общем мало изменился, но кое-какие перемены были уже налицо, — в нем не осталось и следа прежней робости. Он начинал понимать, что обладает весьма разносторонними способностями, и это сознание давало ему все больше уверенности в себе. Пять тысяч долларов сбережений, к которым ежемесячно прибавлялось долларов двести или триста, плюс нараставшие на них четыре процента годовых, внушали ему веру в свои силы. Юджин позволял себе теперь подшучивать над самим Саммерфилдом, так как не сомневался, что всегда найдет место в каком-нибудь другом рекламном агентстве. Ему однажды передали, что компания «Альфред Кукмэн» (где его патрон когда-то проходил курс обучения) намеревается предложить ему работу и что компания «Твайн-Кембл», самое крупное из существующих рекламных агентств, тоже интересуется им. Художники его отдела, в большинстве своем люди очень ему преданные, так как он успешно руководил ими и добился для них лучшей оплаты, всячески раздували его славу. Они готовы были приписать его заслугам все успехи фирмы Саммерфилда, хотя это далеко не соответствовало истине. Целый ряд оригинальных замыслов, возможно даже большинство, исходил от Юджина, но наброски просматривал и «доводил» Саммерфилд, обрабатывал отдел текстов, проверяли заказчики и так далее до тех пор, пока не вносились те существенные изменения, которые и приводили наконец к успеху. Безусловно, во всем этом большая заслуга принадлежала Юджину. Его замыслы вдохновляли и заражали других. Он оживил деятельность компании «Саммерфилд» уже самим своим появлением, но он был отнюдь не единственным, на ком зиждилась работа, и отлично понимал это сам. Юджин отнюдь не страдал самомнением и чванством — просто он стал увереннее в себе, спокойнее, добродушнее, его уже не так легко было вывести из равновесия; но и это раздражало Саммерфилда. Ему нужен был человек, который бы его боялся, и, понимая, что Юджин может от него ускользнуть, когда окончательно встанет на ноги, он стал подумывать, как бы помешать его неожиданному бегству или дискредитировать его, чтобы он ничего не выгадал при уходе. Ни тот, ни другой не выказывали открытой неприязни друг к другу и ничем не обнаруживали своих истинных чувств, но, тем не менее, дело обстояло так. То, что Саммерфилд задумал, было не легко осуществить, тем более в отношении Юджина. Последний постепенно завоевывал популярность в деловых кругах и держался все более и более независимо. Рекламодатели — крупные фабриканты, которым случалось знакомиться с ним, проявляли к нему большой интерес. Они, конечно, еще не знали ему истинную цену, но угадывали в его таланте большую силу. Один из них, видный финансист (бывший сенатор Кенион С. Уинфилд из Бруклина), занимавшийся операциями с недвижимым имуществом, встретил как-то Юджина в кабинете у Саммерфилда и позже, когда они отправились вдвоем завтракать, спросил: — У вас тут служит один очень интересный человек, — Витла, кажется. Откуда он? — Откуда-то с Запада, — уклончиво ответил Саммерфилд. — Право, толком не знаю. У меня перебывало столько заведующих художественным отделом, что я всех не упомню. Уинфилд уловил в тоне собеседника нотку враждебности и пренебрежения к своему подчиненному. — Он показался мне очень способным человеком, — заметил он, намереваясь кончить на этом разговор. — Да, да, он способный, — отозвался Саммерфилд. — Но, как и у всех художников, у него ветер в голове. Это самый ненадежный народ на свете. На них нельзя ни в чем положиться. Сегодня он клад, а завтра — глядишь, ничего не стоит. С ними прямо, как с детьми, приходится возиться. Такой, случается, встанет с левой ноги и уже ни на что не способен. Уинфилд подумал, что в этом есть доля правды. Художники, как правило, никуда не годятся в деловом отношении. Все же он сохранил о Юджине приятное воспоминание. В том же духе Саммерфилд отзывался о Юджине и в конторе и в других местах. В беседах с подчиненными он начал поговаривать, что Юджин, в сущности, не справляется со своим делом и что придется, видно, с ним расстаться. Это, конечно, очень печально, но все художники, даже лучшие из них, хороши лишь до поры до времени и скоро выдыхаются. Он и сам, мол, не может понять, чем это объяснить, но это факт. Ни один из них еще не оправдал его надежд. Таким путем Саммерфилд хотел подчеркнуть собственные неисчерпаемые способности и доказать, что Юджин не такая уж крупная фигура. Все, кто хоть сколько-нибудь знал Юджина, не верили этому. Однако сотрудникам конторы стало ясно, что Юджина ждет отставка. Он был слишком талантлив, слишком любил повелевать, и все понимали, что такому сотруднику не ужиться в предприятии, где существует полное единовластие. Это брожение умов сильно мешало работе. Кое-кто из сотрудников Юджина склонен был перейти на сторону неприятеля. Время шло. Резко изменившееся отношение Саммерфилда не мешало Юджину все больше вырастать в собственных глазах. Он еще не потерял головы, однако день ото дня становился все увереннее в себе. Работа с художниками помогла ему возобновить прежние связи с такими людьми, как Луи Диза, мосье Шарль, Люк Севирас и многие другие. Все они знали теперь, что он делает, и удивлялись, почему он не возвращается к настоящей живописи. Мосье Шарль негодовал. «Это большая ошибка с его стороны», — говорил он. Он всегда утверждал, что дезертирство Витлы — незаменимая потеря для американского искусства. Как ни странно, но одна из картин Юджина была продана весной, уже после его поступления к Саммерфилду, и еще одна — зимою того же года. За каждую он получил по двести пятьдесят долларов, причем одна была продана братьями Потль, а другая Джейкобом Бергманом. Эти сделки и полученные от обеих фирм предложения выставить взамен проданных другие его полотна сильно подбодрили Юджина, по крайней мере он знал, что в случае чего прокормится живописью и как-нибудь не пропадет. И вот настал день, когда Юджин получил приглашение для переговоров от мистера Альфреда Кукмэна, владельца издательства, в котором работал когда-то Саммерфилд. Переговоры ни к чему не привели, так как Кукмэн не намеревался платить больше шести тысяч, а Саммерфилд обещал Юджину, что со временем доведет его оклад до десяти тысяч, если он останется у него работать. К тому же Юджин считал неудобным уйти сейчас; останавливало его и то, что Кукмэн не имел в деловом мире ни того веса, ни того престижа, каких достиг в то время Саммерфилд. Действительно заманчивое предложение пришло полгода спустя, когда одно из филадельфийских издательств, стремясь поднять тираж своего еженедельника, начало подыскивать заведующего отделом рекламы. Это издательство имело обыкновение привлекать молодые силы, причем преимуществом пользовался тот кандидат, который уже как-то зарекомендовал себя и сумел к тому же произвести выгодное впечатление на владельца фирмы. Следует заметить, что Юджин имел так же мало опыта в заведовании отделом рекламы, как и в заведовании художественным отделом. Но, проработав у Саммерфилда почти два года, он стал неплохо разбираться в вопросах рекламы, а люди, с которыми он соприкасался, приписывали ему даже больше того, что он знал. Юджин до некоторой степени постиг организацию дела у Саммерфилда, понял, как тот расставляет силы, поручая одному одну часть работы, другому — другую. Участвуя в совещаниях и консультациях, он имел возможность изучить, чего хотят клиенты, как они представляют себе рекламирование своего товара и какие требования предъявляют к тексту. Он понял, что решающими факторами являются новизна, убедительность и красота оформления, и ему так часто приходилось переделывать работу сообразно с этими требованиями, что теперь он хорошо знал, как это делается. В вопросах о комиссионных, скидках, долгосрочных договорах и тому подобном он чувствовал себя как дома. Ему не раз приходило в голову, что он мог бы с успехом открыть свое собственное маленькое агентство, попадись ему честный и способный заведующий коммерческой частью или компаньон. Но такой человек все не попадался, и Юджин спокойно выжидал. В филадельфийском издательстве Кэлвина слышали о Юджине. В поисках нужного человека основатель фирмы Обадия Кэлвин внимательно знакомился с кандидатами, которых рекомендовали ему всевозможные агентства в Чикаго, Сент-Луисе, Балтиморе, Бостоне и Нью-Йорке, но еще ни на ком не остановился. Он никогда не спешил принимать решение и с гордостью говорил, что, сделав однажды выбор, может быть уверен в хороших результатах. О Юджине он узнал уже после долгих поисков. Как-то он встретил в филадельфийском «Юнион-клубе» одного агента, с которым у него были крупные дела, и тот между прочим спросил: — Говорят, вы ищете заведующего рекламным отделом для вашего еженедельника? — Совершенно верно, — сказал Кэлвин. — Мне на днях рассказывали про человека, который, кажется, подошел бы вам. Он работает в Нью-Йорке, у Саммерфилда. Это агентство, как вы, может быть, заметили, выпустило в последнее время много превосходных реклам. — Да, кажется, я видел некоторые из них, — сказал Кэлвин. — Не помню точно, как его зовут, — не то Витла, не то Гитла, что-то в этом роде. Так вот, он там работает, и, по слухам, очень дельный человек. Не скажу вам, какую должность он занимает. Вы можете справиться. — Благодарю вас, я так и сделаю, — сказал Кэлвин. Он действительно был благодарен своему собеседнику, так как ни один кандидат, о которых ему говорили до сих пор, полностью его не удовлетворял. Кэлвин, человек уже старый, обладал исключительной способностью угадывать в людях дарование и наряду с энергией ценил в них образование и вкус. Он был ревностный христианин и возглавлял целый ряд печатных изданий так называемого «христианского», — иначе говоря, заведомо консервативного направления. Вернувшись к себе в контору, он посоветовался со своим компаньоном мистером Фредериксом, имевшим в предприятии небольшую долю, и попросил его навести справки о рекомендованном ему лице. Фредерикс так и сделал. Он позвонил в Нью-Йорк Кукмэну, и тот, обрадовавшись случаю насолить своему бывшему служащему Саммерфилду, лишив его лучшего сотрудника, ответил Фредериксу, что, по его мнению, Юджин очень талантливый человек, быть может, самый талантливый из всей работающей в этой области молодежи. Пожалуй, он именно тот, кто нужен издательству «Кэлвин», — человек деловой и с инициативой. — Я и сам хотел взять его к себе, — сказал Кукмэн. — Он с выдумкой, сразу видно. Результатом этого разговора и было неофициальное письмо, адресованное мистеру Витле, в котором мистер Фредерикс спрашивал, не найдет ли он возможным побывать в Филадельфии в ближайшую субботу к концу дня, чтобы обсудить важное деловое предложение, которое издательство «Кэлвин» намерено ему сделать. Уже по самому бланку, на котором было написано письмо, Юджин заключил, что речь идет о чем-то очень серьезном, и рассказал Анджеле. У той заблестели глаза. — По-моему, непременно поезжай, — сказала она. — Они, по-видимому, предложат тебе место коммерческого директора, заведующего художественным отделом или что-нибудь в этом роде. Ты получишь не меньше, чем здесь, а ведь мистер Саммерфилд возмутительно с тобой обращается. Ты работаешь на него, как каторжник, а он так и не повысил тебе оклада, хотя обещал. Вероятно, нам придется расстаться с Нью-Йорком, ну что ж, не беда — ведь это только на время. Ведь ты не собираешься посвятить рекламе всю жизнь. Ты бросишь ее, как только мы обеспечим себя приличным и твердым доходом. Надо сказать, что в последнее время, когда у Анджелы завелись деньги, а впереди вставал соблазн еще большего богатства, она уже не мечтала так горячо, как прежде, о возвращении Юджина к карьере художника. Приятно было заезжать в лучшие магазины и заказывать себе платья и шляпки по сезону или же летом, в субботу, по окончании занятий, совершать с Юджином поездки в Атлантик-Сити, на Спринг-Лейк или Шелтер-Айленд. — Да, я тоже думаю, что надо поехать, — сказал Юджин и в соответствующем духе ответил мистеру Фредериксу. Последний встретил его в собственном автомобиле на Центральном филадельфийском вокзале и отвез в свой загородный дом в районе Хаверфорда. По дороге он занимал его разговором о чем угодно — о погоде, о местности, по которой они проезжали, о текущих событиях, о работе Юджина и о том, насколько она интересна, — но только не о деле. Они приехали как раз к обеду, и пока ожидали приглашения к столу, мистер Обадия Кэлвин случайно заглянул к своему компаньону, якобы с целью поговорить с ним по делу, а в действительности, чтобы, не выдавая своих намерений, посмотреть на Юджина. Их познакомили, и они обменялись сердечным рукопожатием. За столом он перекинулся с Юджином несколькими словами, хотя ни разу не заикнулся о деле, и Юджин стал недоумевать, зачем его пригласили. Он догадывался, что Кэлвин, который, как ему было известно, являлся президентом компании, пришел поглядеть на него. После обеда мистер Кэлвин распрощался, и только тогда Юджин увидел, что мистер Фредерикс готов наконец приступить к переговорам. — Дело, по которому я пригласил вас сюда, касается нашего еженедельника, а также отдела рекламы в нашем издательстве. Видите ли, мы издаем популярный журнал и рассчитываем в будущем значительно увеличить его тираж. Мистеру Кэлвину необходим человек, который взял бы на себя руководство отделом рекламы. Мы уже давно подыскиваем подходящего кандидата. Несколько лиц называли нам ваше имя, и у меня есть основание предполагать, что мистер Кэлвин был бы доволен, если бы вы согласились взяться за это дело. Он очень кстати заглянул сегодня ко мне. Теперь он видел вас, так что, если я назову ему вашу кандидатуру, он будет знать, о ком идет речь. Мне думается, что наша фирма, как вы и сами убедитесь, будет для вас прекрасным полем деятельности. Мы не преследуем грошовой экономии. Нам известно, что всякое дело обязано своим успехом людям, на которых оно держится, и мы не прочь платить хорошим работникам хорошие деньги. Я не знаю, сколько вы получаете сейчас, и, признаться, мне до этого мало дела. Если наше предложение вас заинтересует, я поговорю с мистером Кэлвином, и если, опять-таки, мне удастся заинтересовать его, я сведу вас с ним для окончательных переговоров. Что касается оклада, вам беспокоиться нечего, мы вас не обидим. Мистер Кэлвин не мелочный человек. Коль скоро ему кто-нибудь понравится, а вы, насколько я могу судить, произвели на него благоприятное впечатление, — он никогда не станет скупиться. А там уж ваше дело дать согласие или нет. Но я еще ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь остался недоволен предложенным у нас жалованьем. Юджин слушал с величайшим удовольствием. Радостная дрожь пронизывала его. Вот оно — предложение, которое он давно жаждал услышать! Сейчас он получает пять тысяч. Ему предлагали шесть, а мистер Кэлвин едва ли предложит меньше семи или восьми, если не все десять. А уж семь с половиной можно просить, не стесняясь. — Признаюсь, — сказал он простодушно, — ваше предложение звучит заманчиво. Правда, работа несколько отличается от той, какую я выполняю сейчас, но думаю, что я с ней справлюсь. Конечно, все дело в том, какие условия вы мне предложите. У меня нет оснований жаловаться на мою теперешнюю службу. Я только недавно устроился в Нью-Йорке и вовсе не горю желанием его покинуть. Но я не возражаю и против того, чтобы перейти к вам. Договором я с мистером Саммерфилдом не связан. Он не пожелал заключить его со мной. — Мы тоже не склонны связывать себя договором с нашими сотрудниками, — сказал мистер Фредерикс. — Тем более что, как вам известно, это не является надежной гарантией. Но если вы настаиваете, мы не постоим за этим. Как вы смотрите на то, чтобы сегодня же переговорить с мистером Кэлвином? Он живет недалеко отсюда. Юджин предполагал, что свидание с мистером Кэлвином произойдет значительно позднее; но мистер Фредерикс тут же позвонил своему патрону и обстоятельнейшим образом (как будто это и в самом деле было необходимо) стал объяснять, что, как мистеру Кэлвину известно, он давно уже подыскивает человека для заведования отделом рекламы, но найти подходящего кандидата довольно трудно. — Я сейчас беседовал с мистером Витлой, с которым вы сегодня познакомились у меня, и рассказал ему про наш еженедельник. Из разговора с ним я вынес впечатление, что он, пожалуй, как раз тот человек, который нам нужен. И я подумал, не пожелаете ли вы с ним переговорить. По-видимому, мистер Кэлвин ответил согласием, так как немедленно была подана машина, и они отправились к президенту издательства, жившему на расстоянии приблизительно мили. По дороге Юджин размышлял об открывавшихся перед ним перспективах. Правда, разговоры о работе в знаменитом издательстве «Кэлвин» были пока довольно туманны, но вместе с тем все это было так грандиозно, так много обещало! Неужели он действительно расстанется с Саммерфилдом, да еще при таких благоприятных обстоятельствах? Это казалось сном. В доме, стоявшем, на обширной лужайке, было темно, светились только окна библиотеки, в которой мистер Кэлвин и принял их. Переговоры возобновились. Мистер Кэлвин был седой, как лунь, небольшого роста, с необыкновенно маленькими руками и ногами, очень тихий, но с живым, проницательным взглядом. Его спокойствие вызывало представление о гладкой поверхности озера в безветренную погоду. Он очень рад, сказал мистер Кэлвин, произнося слова медленно и негромко, что мистер Витла и мистер Фредерикс уже имели возможность побеседовать. Ему кое-что говорили о Юджине, — правда, немного. Он желал бы узнать поподробнее мнение мистера Витлы насчет современных тенденций в рекламном деле, как он смотрит на некоторые новшества в этой области, и так далее. — Так вы не прочь поработать у нас? — сухо заметил он к концу разговора, словно Юджин приехал в Филадельфию по своей инициативе. — Я, пожалуй, ничего не имел бы против — при известных условиях. — А каковы эти условия? — Я предпочел бы, мистер Кэлвин, услышать, что вы мне предложите. Право же, я не стремлюсь менять службу. Мне и там совсем не плохо. — Что ж, вы кажетесь мне вполне подходящим кандидатом, — ответил мистер Кэлвин. — Вы обладаете теми качествами, которые нужны в нашем деле. Скажем так: восемь тысяч первый год, а если результаты вашей работы будут удовлетворительны, я через год повышу вам оклад до десяти тысяч. А дальше видно будет. «Восемь тысяч! Через год десять! — пронеслось в голове Юджина. — Должность заведующего отделом рекламы в таком крупном издательстве. Да, это большой скачок». — Что ж, это не так плохо, — сказал он после минутного раздумья. — Я, пожалуй, готов принять ваши условия. — Я был уверен, что вы согласитесь, — со скупой усмешкой сказал мистер Кэлвин. — Что касается деталей, то договоритесь с мистером Фредериксом. Ну, желаю успехов. — И он дружески пожал ему руку. Сидя в машине, уносившей их к дому мистера Фредерикса, который пригласил его переночевать у себя, Юджин с трудом верил, что все это происходит наяву. Восемь тысяч в год! Неужели из него в конце концов выйдет не художник, а крупный делец? Конечно, может быть, дело еще и сорвется, но все же как странно все изменилось! Восемь тысяч уже в этом году! Десять тысяч, если он справится! А там двенадцать, пятнадцать, восемнадцать тысяч… Он слышал о таких окладах в рекламном деле. А кроме того, он может получать изрядный доход со сбережений, если вложит их в выгодное предприятие. Он уже мысленно рисовал себе квартиру в Нью-Йорке на Риверсайд-Драйв и даже загородный дом, так как едва ли приятно будет все время оставаться в городе. Может быть, и собственный автомобиль, рояль для Анджелы, мебель в стиле шератон или чиппендейл, друзья, слава — что значит по сравнению со всем этим карьера художника! Разве зарабатывает кто-нибудь из знакомых живописцев столько, сколько зарабатывает он уже сейчас? Зачем же непременно быть живописцем?.. Разве художники достигают чего-нибудь? Разве признание грядущих поколений даст ему возможность разъезжать сейчас в автомобиле? Правда, Дьюла говорит, что художник, будь он даже беден, на голову выше толпы. Юджин усмехнулся, вспомнив эти слова. Ко всем чертям бедность! Ко всем дьяволам грядущие поколения! Он хочет жить сейчас, в этой жизни, а не в памяти потомства!Глава 65
Даже самый блестящий пост не всегда избавляет от известных трудностей, так как большие преимущества обычно связаны с большой ответственностью. Юджин, однако, с легким сердцем готовился занять новую должность, зная, что она едва ли будет труднее той, которую он оставляет. Да, работать у Саммерфилда было дьявольски тяжело. Этот человек делал все возможное, чтобы мелкими придирками, требованиями все новых вариантов, пристрастными и грубыми замечаниями сломить добродушие Юджина и заставить его почувствовать, что без его, Саммерфилда, советов и помощи ему нечего и думать справиться со своим делом. Но, поступая таким образом, Саммерфилд только содействовал выявлению и развитию способностей Юджина. Его вера в собственные силы, хладнокровие «под огнем», умение трудиться не покладая рук, даже когда душа не лежит к работе, только развились и окрепли. — Ну что ж, желаю вам успеха, Витла, — сказал мистер Саммерфилд, когда Юджин по возвращении сообщил ему, что уходит и считает своим долгом заблаговременно предупредить об этом. — Вам незачем считаться со мной. Я не хочу вас задерживать, раз вы собрались уходить. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Продолжительные расставания не в моем вкусе. Толку от них никакого. Если угодно, можете сегодня же бросать работу. Я найду кого-нибудь на ваше место. Юджин почувствовал себя задетым. Но он улыбнулся и сказал сердечным тоном: — Если нужно, я могу остаться еще некоторое время. Я вовсе не хочу, чтоб это как-то отразилось на ваших делах. — Нет, нет! Это нисколько не отразится на моих делах. Скатертью дорога и желаю удачи! «Вот сатана!» — подумал Юджин, но пожал ему руку и выразил своим сожаления. Саммерфилд только усмехнулся в ответ. Юджин быстро закончил дела и ушел. «Слава богу, — говорил он себе, выходя из конторы, — наконец-то я выбрался из этого ада!» Но позднее он понял, что Саммерфилд оказал ему огромную услугу, заставляя давать максимум того, на что он способен, — этого до сих пор еще никто от него не добивался. Служба у Саммерфилда повлияла на характер Юджина и на его отношение к жизни, она отразилась даже на его внешности. От его робости и нервозности не осталось и следа. Теперь он производил впечатление скорее даже смелого и решительного человека. Он перестал бояться мелких жизненных трудностей — его ладью так долго трепали штормы, что небольшие бури как в настоящем, так и в будущем уже не пугали его. Этим он был обязан Саммерфилду. В издательстве «Кэлвин» были совсем другие порядки. Здесь царили относительный мир и тишина. Кэлвину не пришлось добиваться успеха в жизни, попирая маленьких людей, изводя их булавочными уколами. Это был крупный делец, чьи начинания благодаря своим масштабам и новизне сами прокладывали себе дорогу, а заодно несли вперед и его. Он считал, что к работе нужно привлекать честных и значительных людей, самых значительных и честных, каких только можно найти. Он и в Юджине видел это значительное — очевидно, в его стремлении к совершенству. Формальности, связанные с переходом на новую работу, были быстро закончены, и Юджин вступил в свои владения, предшествуемый слухами о том, что новый босс в высшей степени приятный человек. Главный редактор, Таунсенд Миллер, дружески приветствовал его, и так же сердечно он был встречен своими подчиненными. У Юджина дыхание захватывало при мысли, что отныне он, новичок в области рекламы, берет на себя ответственность за работу пятнадцати способных и опытнейших людей. И это в одной только Филадельфии, не считая еще восьми человек в чикагском филиале да многочисленных агентов в различных частях Америки — на Дальнем Западе, на Юге, а также на северо-западе Канады. Сфера его деятельности на новой службе была куда более обширная, чем у Саммерфилда. Сущность его работы заключалась в том, чтобы, зорко следя за работой промышленности, делать интересные предложения преуспевающим дельцам и фабрикантам, еще не пробовавшим рекламировать свою продукцию на страницах «Норс-Америкен», и заключать с ними одинаково выгодные для обеих сторон договоры, с тем чтобы завоевать расположение клиентов и не утратить его. Все это не представляло особенных трудностей, поскольку «Норс-Америкен» благодаря оригинальности и новизне самого типа издания очень нравился публике — журнал выходил уже полумиллионным тиражом, и тираж этот все возрастал. В большинстве случаев, как вскоре обнаружил Юджин, агентам мистера Кэлвина не представляло труда убедить рекламодателя, что предложение, которое ему делается, заслуживает внимания. Если прибавить к этому изобретательность Юджина по части новых методов рекламирования, его способность очаровывать людей и умение соблазнять своими планами самых упрямых дельцов, а также увлекать и вдохновлять своих сотрудников, то можно было не сомневаться в его успехе на новом посту и даже не просто в успехе, а в триумфе. Юджину и Анджеле, казалось, предстояла жизнь, исполненная довольства и комфорта. Без особых затруднений и не вызывая почти никакого недовольства, Юджину удалось перестроить свой штат так, что люди, работавшие под его началом, полностью удовлетворяли его. К нему перешли и некоторые сотрудники Саммерфилда. Он выписал их из Нью-Йорка, так как считал, что может привить им тот дух содружества и взаимопонимания, которого добивался Кэлвин. Правда, нельзя сказать, что Юджин достигал на своем новом поприще таких результатов, как Саммерфилд, который к тому же имел в своем распоряжении куда более ограниченные ресурсы. Но издательство «Кэлвин» было богатой фирмой, не требовавшей и не ожидавшей от своих служащих таких отчаянных усилий, какие приходилось с самого начала и по сей день требовать компании «Саммерфилд». Деловая этика в издательстве стояла высоко. Здесь все строилось на доверии и честности, на справедливой оплате труда и добросовестном выполнении обязанностей. Юджин нравился Кэлвину, и приблизительно через год после его поступления у Кэлвина был с ним знаменательный разговор. Слова старого издателя крепко запали в душу его молодого подчиненного и принесли ему немалую пользу. Этот человек ясно видел, в чем сила и слабость Юджина. Однажды он заметил Фредериксу: — Мне особенно нравится в этом человеке его изобретательный ум. Всегда у него наготове какая-нибудь идея, — я не знаю никого, в ком было бы так развито чувство нового. Его воображение неистощимо. Надо только сдерживать его, чтобы он не зарывался и не брался за невыполнимое. В остальном я им доволен. Фредерикс был согласен с ним. И ему их новый служащий внушал симпатию. Он всячески старался помочь Юджину, но перед тем стояли задачи, которые требовали самостоятельного разрешения. И когда пришло время повысить ему жалованье, Кэлвин сказал: — Я имел возможность наблюдать вашу работу в течение года, и я сдержу свое обещание увеличить вам оклад. Вы прекрасный работник. У вас много прекрасных качеств, которые я могу только приветствовать в человеке, занимающем ваше место, — но есть также и недостатки. Мне не хотелось бы обижать вас, но в роли хозяина своего предприятия я подобен отцу, возглавляющему большую семью, а мои помощники — это мои сыновья. Я обязан интересоваться ими, раз они заинтересованы во мне. Так вот я хочу сказать, что вы хорошо справляетесь с работой, и даже очень хорошо. Но у вас есть один недостаток, который может причинить вам большие неприятности. Вы чересчур увлекаетесь, вы, я бы сказал, не даете себе достаточно труда подумать. Идей у вас — хоть отбавляй! Они роятся у вас в голове, словно пчелы в улье, но вы порою выпускаете их на волю все сразу, и они приводят в смятение и вас самих и всех, кто с вами соприкасается. Вы были бы еще более ценным работником, если бы… я не скажу, если б у вас было меньше идей, — но если бы вы держали их в узде. Вы слишком много хотите сделать зараз. Умерьте свой пыл. Не торопитесь. Времени у вас достаточно. Вы еще молоды. Думайте! Если у вас бывают сомнения, приходите посоветоваться со мной, — я опытнее вас и постараюсь вам помочь. Юджин улыбнулся и сказал: — Вероятно, вы правы. — Да, я прав, — сказал Кэлвин. — А теперь мне хочется коснуться вопроса более интимного свойства и повторяю, прошу на меня не обижаться, мною руководят только самые добрые побуждения. Если я хоть сколько-нибудь разбираюсь в людях, — а я позволю себе думать, что это так, — ваша главная слабость (заметьте, у меня нет никаких фактических доказательств, ни единого) заключается, мне кажется, не столько даже в любви к женщинам, сколько вообще в любви к роскоши, а женщины всегда составляют одну из главных статей роскоши. Юджин слегка покраснел от смущения и досады; он считал, что за время пребывания у Кэлвина, да и вообще после ривервудского эпизода, вел себя безупречно. — Признайтесь, вас удивляет, почему я это говорю. Но я, видите ли, вырастил двух сыновей. Оба они умерли, один из них был немного похож на вас. В вас так много кипучей энергии, что ее с избытком хватает не только на деловые замыслы, но и на то, чтобы со вкусом одеваться, наслаждаться жизненными благами, придумывать развлечения и заводить знакомства. Будьте осторожны в выборе друзей. Старайтесь иметь дело с людьми положительными, консервативными. Возможно, вам это меньше улыбается, но, с точки зрения практической, это в ваших интересах. Если только мои наблюдения и моя интуиция не обманывают меня, вы принадлежите к людям, способным до самозабвения увлечься призраками — красотой, женщинами, театрами. Я отнюдь не придерживаюсь аскетических взглядов, но для вас женщины представляют большую опасность — пока, во всяком случае. По правде сказать, я не вижу в вас задатков настоящего, трезвого дельца, но вы прекрасный помощник. Не скрою, у меня, кажется, еще не было на этой должности никого, кто мог бы сравниться с вами, и едва ли будет. Вы человек недюжинный, но именно талант делает вас в некотором роде гадательной величиной. Вы стоите сейчас на пороге вашей карьеры. Эти дополнительные две тысячи в год откроют перед вами новые возможности. Смотрите же, не увлекайтесь. Не поддавайтесь на посулы ловких людей. Держитесь подальше от легкомысленных женщин. Вы женаты и, я хочу надеяться ради вашего же блага, любите свою жену. Но если даже и нет, делайте вид, что любите, и оставайтесь в границах общепринятого. Остерегайтесь скандала — поскольку это касается вашей службы у меня, скандал будет иметь для вас роковые последствия. Мне не раз приходилось расставаться с прекрасными работниками, потому что деньги вскружили им голову и они наделали глупостей — из-за какой-нибудь женщины или просто из-за женщин вообще. Пусть этого не случится с вами. Вы мне симпатичны. Я бы хотел, чтобы вы преуспели в жизни. Держите же себя в руках, если можете. Будьте благоразумны. Не действуйте сгоряча. Это лучший совет, какой я могу вам дать. А засим желаю успехов! Мистер Кэлвин жестом показал, что разговор окончен, и Юджин поднялся. Он недоумевал, как этот человек мог так глубоко заглянуть в его душу. Все, что он сказал, была правда, и Юджин знал это. Каким-то образом мистер Кэлвин сумел прочитать его самые затаенные чувства и мысли. Недаром он стоял во главе такого большого предприятия. Люди были для него открытой книгой. Юджин вернулся к себе в кабинет, решив принять к сведению преподанный урок. Он всегда должен сохранять трезвую голову. «Я, кажется, сам давно мог прийти к такому выводу — мало ли била меня жизнь», — пронеслось у него в голове, и больше он об этом не думал. Весь тот год, как и следующий, когда оклад его повысился до двенадцати тысяч, Юджин процветал. Он очень сдружился с Миллером. У Миллера бывали хорошие мысли по части рекламы, а у Юджина оформительские и издательские идеи. Они охотно появлялись повсюду вместе и получили прозвище «сынки Кэлвина» и «блистательные близнецы». У Миллера Юджин научился играть в гольф (хотя ему плохо давалась эта наука, и он так и не стал хорошим игроком), а также в теннис. Он играл вместе с миссис Миллер, Анджелой и Таунсендом на своем теннисном корте или у них. Вместе они совершали частые прогулки верхом и в автомобиле. Во время танцев, которые он очень полюбил, на званых обедах и вечерах Юджин знакомился с интересными молодыми женщинами. Обе супружеские пары получали частые приглашения, но Юджин вскоре убедился, — так же, как и Миллер и его жена, — что светские женщины определенного типа больше интересуются им, чем Анджелой. «О, Витла — умница!» — восторгались дамы. На Анджелу эти восторги не распространялись, а нередко добавлялось даже, что ее нельзя и сравнить с мужем. Она, конечно, очень милая и достойная женщина и все такое, но «Знаете, что я вам скажу, дорогая, с ней так трудно; она какая-то вялая — ни рыба, ни мясо». В этот период Анджела впервые серьезно задумалась над тем, что на Юджина может отрезвляюще подействовать рождение ребенка. Хотя они давно уже могли бы позволить себе иметь детей и хотя Юджину, при его увлекающейся натуре, полезно было бы взвалить на плечи какой-то дополнительный груз, до сих пор Анджела не решалась подвергнуть себя этому испытанию. Надо сказать, что она не только страшилась забот и тревог, с которыми (благодаря опыту с племянниками) связывалось у нее представление о детях, но еще и очень опасалась за исход родов. От своей матери она слыхала, будто уже в раннем детстве можно сказать, будет ли девочка хорошей и здоровой матерью или нет и будут ли у нее вообще дети. У Анджелы, как говорила ее мать, детей не будет. Анджела склонна была верить этому предсказанию (хотя никогда не сообщала о нем Юджину) и в то же время принимала все меры, чтобы не иметь детей. Теперь, однако, прожив с Юджином столько лет, она видела, в какую сторону направлены его мысли и какое влияние оказывает на него материальное благополучие, и это наводило ее на мысль о ребенке (конечно, если это не будет связано с большими жертвами и опасностью для жизни), как о средстве держать мужа в руках и влиять на него. Может быть, он полюбит ребенка. Во всяком случае, у него появится чувство ответственности. Поскольку все окружающие будут ждать от него благоразумного поведения, он постарается соответственно и вести себя, — ведь он сейчас так на виду! Анджела долго и со всех сторон обдумывала этот вопрос, но из страха перед всякими трудностями не принимала никакого решения. Она внимательно прислушивалась к разговорам знакомых женщин и приходила к выводу, что с ее стороны, пожалуй, было ошибкой не иметь детей, по крайней мере одного или двух, и что она, вероятно, могла бы быть матерью, если бы захотела. Некая миссис Санифор, довольно часто бывавшая у нее в Филадельфии (они познакомились у Миллеров), уверяла Анджелу, что ей рано отказываться от надежды стать матерью, хоть она и пропустила лучшее время для первых родов. Миссис Санифор знала много таких случаев. — На вашем месте, миссис Витла, я поговорила бы с врачом, — посоветовала она ей однажды. — Он вам скажет. Я убеждена, что вы можете родить. Медицина теперь знает много способов, облегчающих роды, — диета, гимнастика. Хорошо бы вам побывать у моего врача. Анджела решила, что последует этому совету, — из любопытства, да и вообще на всякий случай когда-нибудь в будущем. И эскулап, осмотревший ее, сказал, что, по его мнению, она может родить. Придется, конечно, подчиниться строгому режиму и с помощью гимнастики и массажа хотя бы отчасти восстановить эластичность мышц. Во всем остальном она здоровая и нормальная женщина, и ей нечего опасаться каких-то сверхъестественных страданий. Это очень обрадовало и успокоило Анджелу. У нее в руках появилось оружие против ее господина, цепь, которой она могла привязать его. Она не хотела решаться на это немедленно. Вопрос был слишком серьезный. Нужно было подумать. Но ей приятно было сознание, что это в ее власти. Разве только Юджин образумится… Работая в агентстве Саммерфилда, а потом в Филадельфии, в издательстве «Кэлвин», Юджин, несмотря на высокий, с каждым годом возраставший оклад, не сделал в сущности больших сбережений. Анджела позаботилась о том, чтобы вложить часть их капитала в акции Пенсильванской железной дороги, казавшиеся ей достаточно надежными, а также в участок земли (в Верхнем Монтклере, штат Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка) размером двести на двести футов, где они при желании могли когда-нибудь поселиться. Деловые связи Юджина влекли за собой неизбежные траты; кроме того, приходилось ежегодно платить членские взносы (расход, им дотоле неизвестный) в целый ряд клубов, куда он был принят, — «Болтусрол гольф-клуб», «Ийр теннис-клуб», «Филадельфийский загородный клуб» и другие. Необходимость иметь скромный автомобиль — конечно, не пятиместный — была совершенно очевидна. Однако кратковременный опыт с собственной машиной послужил Юджину хорошим уроком. Выяснилось, что содержание автомобиля обходится непомерно дорого. Бесконечные починки, жалованье шоферу и, наконец, авария, во время которой сильно пострадал внешний вид автомобиля, быстро заставили Юджина отказаться от этого вида собственности. В случае надобности можно пользоваться и такси. Таким образом, с этим символом роскоши было покончено. Любопытно отметить, что в тот период они заметно отдалились от своих родственников на Западе. Юджин уже почти два года не бывал на родине, а что касается Анджелы, то она после переезда в Филадельфию видела из всей своей семьи только брата Дэвида. Осенью, на третьем году их пребывания в Филадельфии, скончалась ее мать, и Анджела ненадолго съездила в Блэквуд. Весной следующего года умер отец Юджина. Миртл переехала в Нью-Йорк, ее муж служил теперь представителем одной провинциальной мебельной фирмы, содержавшей здесь постоянную выставку. Она захворала сильным нервным расстройством и, как слышал Юджин, увлеклась «христианской наукой». Генри Берджес, муж Сильвии, стал директором банка, в котором работал уже много лет, а когда старик Берджес внезапно умер, он продал кому-то его газету. Мариетта писала, что приедет в будущем году, пусть Юджин найдет ей богатого жениха. Но Анджела по секрету сообщила мужу, что ее сестра помолвлена на сей раз окончательно и выходит замуж за крупного лесопромышленника из Висконсина. Все старые знакомые были в восторге от удачи Юджина, хотя очень жалели, что он отказался от карьеры художника. Его успех в области рекламного дела привлекал внимание; говорили, что он влиятельное лицо в редакции «Норс-Америкен». Итак, он процветал.Глава 66
Однако самое лестное предложение было сделано Юджину осенью, на третьем году его работы в Филадельфии, и случилось это совершенно для него неожиданно, когда он совсем уже свыкся с мыслью, что обрел прочное пристанище, и прекрасно чувствовал себя среди своих сослуживцев. В то время не только в издательском деле, но и в других отраслях промышленности часто случалось, что люди, занимавшие сколько-нибудь видные административные должности, выдвигались на посты еще гораздо более видные и ответственные. Большинство крупных предприятий, которые ранее управлялись своими основателями, теперь переходили в руки наследников, пайщиков или акционеров, причем лишь очень немногие из этих новых владельцев имели хоть какое-то понятие о деле, которым призваны были управлять. Хайрем С. Колфакс не был издателем по призванию. Контрольный пакет акций компании «Суинтон-Скадер-Дэйвис» достался ему в результате одной из тех финансовых комбинаций, которые нередко отдают овец отнюдь не самым опытным и внимательным пастырям. Колфакс был достаточно энергичным человеком, и любое его предприятие оказывалось доходным, так как в крайнем случае он умел выгодно сбыть его с рук. Иными словами, это был финансист. Отец его, разбогатевший мыловар из Новой Англии, набравшийся радикальных идей, решил заняться пропагандой таких популярных в то время доктрин, как теория единого земельного налога Генри Джорджа, социализм и тому подобное. Эти идеи он всеми способами пытался пропагандировать, но, не будучи ни опытным оратором, ни опытным публицистом, а всего лишь опытным дельцом и мыслящим человеком, успеха не имел. Неудачи эти очень огорчали его. Было время, когда он подумывал купить или даже основать газету в Бостоне, но, познакомившись с делом поближе, убедился, что коммерческая газета — весьма рискованное предприятие. Тогда он принялся субсидировать небольшие еженедельники, которые должны были распространять его взгляды, однако это давало ничтожные результаты. Его интерес к журнальному миру привлек к нему внимание Мартина У. Дэйвиса, одного из компаньонов фирмы «Суинтон-Скадер-Дэйвис», чья торговая марка на книгах, журналах и еженедельниках была известна в стране не менее, чем марка Оксфорда на английской Библии. Компания «Суинтон-Скадер-Дэйвис» находилась в тяжелом финансовомположении. Издательство по разным причинам пришло в полный упадок. Джона Джейкоба Суинтона и Оуэна Б. Скадера, людей, по-настоящему преданных книжному и журнальному делу, давным-давно не было в живых. Мистер Дэйвис пытался вести дело разумно и честно, в интересах многочисленных наследников, но разум и честность приносили мало пользы, так как не могли заменить знаний и опыта, которых у него не было. В издательстве было достаточно редакторов, рецензентов, критиков, заведующих производством и редакциями, коммерческих директоров, агентов по распространению книг и так далее, из которых каждый в отдельности мог бы отлично справиться со своей частью работы, но в целом они с ней не справлялись и только переводили много денег. Большой ежемесячник, пользовавшийся широкой популярностью, находился в ведении старика, просидевшего в редакторском кресле чуть ли не сорок лет. Еженедельником руководил неопытный юнец, молодой человек двадцати девяти лет. Еще один журнал — приключенческий — был в ведении другого молодого человека, двадцати шести лет, а критический ежемесячник выпускало несколько авторитетных критиков, работавших на постоянном жалованье. Книгоиздательство делилось на отделы: юношеский, прозы, научный, учебный и так далее, и каждый из них имел самостоятельного заведующего. Обязанностью мистера Дэйвиса было следить за тем, чтобы редакции возглавлялись компетентными лицами и чтобы все эти люди работали согласованно под его руководством. Но он не обладал ни достаточным умом, ни достаточной энергией для этой роли. Он был стар и бросался от одного метода руководства к другому. В издательстве тем временем создавались различные клики и группировки. Самой влиятельной была группировка, возглавляемая Флоренсом Дж. Уайтом, ирландцем по происхождению, который в качестве коммерческого директора (хотя фактически он занимал пост директора-распорядителя, подчиненного только Дэйвису) заведовал производственным отделом и типографиями и распоряжался огромными суммами, выделенными на бумагу, краски, печатание и распространение. Это Уайт, с одобрения Дэйвиса, устанавливал ассигнования на бумагу, краски, набор, печатание и жалованье служащим. Это Уайт через посредство своего подручного — заведующего типографией — утверждал график сдачи в производство журналов и книг, и от него зависело, будут ли работы выполнены в срок или нет. Это Уайт через другого преданного ему заведующего держал под наблюдением экспедицию и склады и благодаря исключительным административным способностям угрожал захватить в свои руки также отделы рекламы и распространения. Большой недостаток Уайта (впрочем, характерный для всякого ставленника Дэйвиса) заключался в том, что он не только ничего не понимал в искусстве, литературе и науке, но и не интересовался этим, — его занимало исключительно производство. Он так быстро поднялся по административной лестнице, что его жалованье сильно отставало от очутившейся в его руках власти. Дэйвис, его патрон, тоже не имел никаких других средств, кроме пая в издательстве, весьма, надо сказать, обесцененного. Некомпетентное руководство редакциями привело к тому, что качество книг и журналов становилось все хуже, и дело шло к полному краху. Надо было что-то предпринять, так как за последние три года не удавалось добиться положительного баланса. Тогда-то и был призван на помощь Маршал П. Колфакс — отец Хайрема Колфакса. Колфакс-старший был известен как человек, интересовавшийся всякими левыми идеями, а значит, также и литературой, и обладавший к тому же крупным состоянием. По слухам, у него было от шести до восьми миллионов долларов. Предложение, которое сделал ему Дэйвис, сводилось к следующему: Колфакс приобретает у наследников все акции, за исключением части, принадлежащей лично Дэйвису, то есть приблизительно шестьдесят пять процентов всего акционерного капитала, вступает в дело на правах директора-распорядителя и реорганизует его по своему усмотрению. Дэйвис был стар. Он мечтал сложить с себя ответственность за издательство и к тому же не хотел рисковать собственным капиталом. Он, как и все, понимал, что в дело необходимо влить новые соки. Нельзя было доводить фирму до провала — ее репутация была бы утрачена навсегда. У Уайта не было денег, а кроме того, он был для Дэйвиса новым и чуждым явлением. Дэйвис не умел оценить ни честолюбивых стремлений своего помощника, ни его незаурядных способностей. Это был для него человек из другого мира. Ему претила напористость Уайта — вот почему, размышляя о том, как быть с издательством, он меньше всего принимал в расчет Уайта. Состоялся ряд совещаний. Старик Колфакс был очень польщен сделанным ему предложением. У него было три сына, из которых мыловарением интересовался только один. Двое младших, Эдвард и Хайрем, знать ничего не хотели о мыле. Старик думал, что предложение Дэйвиса может открыть поле деятельности для одного из них, а то и для обоих, но скорее всего, очевидно, для Хайрема, обладавшего более разносторонними интересами, хотя больше всего его занимали финансы. Кроме того, издаваемые фирмой книги и журналы могли явиться проводниками его излюбленных идей, а это сильно подняло бы его личный престиж. Он занялся тщательным изучением положения фирмы, использовав для этого в качестве ревизора и уполномоченного своего сына Хайрема, в финансовые способности которого очень верил. Убедившись, что акции компании можно приобрести в рассрочку и по очень сходной цене (за полтора миллиона долларов, при реальной стоимости в три миллиона), он поставил условие, что Хайрем получит пост директора-распорядителя и президента компании, и стал думать о том, что можно сделать с этим предприятием. В предстоявшей реорганизации Флоренс Дж. Уайт увидел выгодный для себя случай выдвинуться и не преминул воспользоваться им. С первого же взгляда ему стало ясно, что Хайрему понадобятся некоторые сведения и большая помощь и что он, вероятно, по достоинству вознаградит того, кто окажет ему содействие. Уайт прекрасно видел, в чем состоят главные недостатки дела — отсутствие сведущего руководства в редакциях, склока и грызня между сотрудниками и неумелое финансовое управление. Он отлично знал, в чьих руках находятся акции и как можно запугать акционеров, чтобы заставить их продать свои паи по дешевке. Уайт с большим рвением работал для Хайрема, потому что тот ему нравился, и Хайрем платил ему тем же. — Вы просто гениально провели эту операцию, Уайт, — сказал ему однажды Хайрем. — Вы, можно сказать, передали мне дело прямо в руки. Я этого не забуду. — Ладно, — сказал Уайт. — Я заинтересован в том, чтобы во главе фирмы стал наконец настоящий хозяин. — Когда я сделаюсь президентом, вы будете вице-президентом, а это значит двадцать пять тысяч в год. (Сейчас Уайт получал двенадцать тысяч.) — Когда я сделаюсь вице-резидентом, ваши интересы будут надежно охраняться, — угрюмо ответил Уайт. Уайт, детина шести футов ростом, худой, долговязый, был дикарь, с трудом выражавший свои мысли. Колфакс был маленький, живой, стремительный, о таком человеке говорят, что он может горы сдвинуть. Предприимчивый, честолюбивый и во многих отношениях блестящий человек, он мечтал занять руководящее положение в обществе, но не знал еще, как этого достичь. Они крепко пожали друг другу руки. Через три месяца Колфакс был избран директором-распорядителем и президентом компании, а Флоренс Дж. Уайт — ее вице-президентом. Уайт стоял за то, чтобы сразу освободиться от всех старых сотрудников и влить в дело свежие силы. Колфакс же предпочитал действовать не спеша, с оглядкой, пока ему самому не станет ясно, чего он хочет. На первых порах были уволены лишь двое стариков — заведующие отделами распространения и рекламы. Шесть месяцев спустя, когда Хайрем и Уайт еще были заняты реорганизацией дела и подысканием новых людей, Колфакс-старшний скончался, и издательство «Суинтон-Скадер-Дэйвис» — вернее, принадлежащий умершему контрольный пакет акций — перешло по наследству к Хайрему. Заняв президентское кресло, доставшееся ему чисто случайно, Колфакс-младший оказался полным хозяином издательства и стал думать, как бы превратить его в золотое дно, а Флоренс Дж. Уайт сделался его правой рукой и верным союзником. Колфакс уже три года стоял во главе компании «Суинтон-Скадер-Дэйвис», которую намеревался превратить в корпорацию под названием «Юнайтед мэгэзин», когда он впервые услышал про Юджина. К этому времени он успел провести ряд реформ, частью радикальных, частью половинчатых и осторожных. Он пригласил нового заведующего отделом рекламы, которым был уже недоволен, и произвел некоторые изменения в художественном отделе и в редакциях, — главным образом, впрочем, по совету других и преимущественно Уайта, а не по собственной инициативе. Мартин У. Дэйвис ушел на покой. Он был стар и немощен, и ему вовсе не улыбалось оставаться в издательстве на положении мебели. Только такие люди, как редакторы «Нейшнл ревью», «Суинтон мэгэзин» и «Скадер уикли», и пользовались еще некоторым влиянием, но их голос, конечно, имел ничтожное значение по сравнению с авторитетом Хайрема Колфакса и его ближайшего помощника. С приходом Флоренса Уайта в издательстве установилась атмосфера взаимной вражды и недоверия. Уайт провел тяжелое детство в бруклинской трущобе, и ему были ненавистны высокомерие и самомнение многочисленных редакторов и литературных работников издательства. Как истый ирландец, он был недурной организатор и ловкий дипломат, но особенно сильна была в нем жажда власти. Удачный ход, с помощью которого он добился расположения Хайрема Колфакса в ту пору, когда колоссальное предприятие переходило из одних рук в другие, пробудил в нем беспредельное честолюбие. Он хотел не только официально, но и на деле управлять издательством от имени Колфакса, подбирая по своему усмотрению редакторов, заведующих отделами и их помощников. Однако, на его беду, у Колфакса, при полном отсутствии интереса к деталям дела, был свой конек — люди. Как и Обадия Кэлвин, Глава издательства «Кэлвин» (теперь, между прочим, его единственный крупный конкурент), Колфакс гордился умением подбирать людей. Его главная забота заключалась в том, чтобы найти еще одного крупного работника вроде Флоренса Уайта, который возглавил бы художественный и книжный отделы, — не с точки зрения производственной и коммерческой, а человека всесторонне развитого, с большой инициативой, который сумел бы заручиться содействием писателей, редакторов, ученых и окружить себя способными помощниками. Тогда успех был бы обеспечен. Он считал, — и не без оснований, — что в издательском деле вполне возможно разделить эти функции: Уайт должен обеспечить производство, сбыт и снабжение, а тот, другой, кто бы он ни был, — поднять литературный и художественный престиж издательства. Вскоре вся Америка убедится, что под его руководством старая фирма снова достигла прежней популярности и процветания. Колфаксу хотелось заслужить имя лучшего издателя своего времени, а потом уже с достоинством удалиться от дел или посвятить себя другим финансовым операциям, более отвечающим его вкусам. Надо сказать, что он очень мало знал Флоренса Дж. Уайта, который был мастер лицемерить и притворяться. Уайта не увлекал тот план, которому Колфакс придавал такое значение. Он не был в состоянии справиться с делами, требовавшими определенных знаний и широкого кругозора, и тем не менее хотел быть королем, подчиненным только императору, силой, руководящей троном, и не намерен был добровольно делить с кем-либо власть. Держа в своем ведении типографию, он имел возможность доставлять большие неприятности всякому, кто был ему не по нутру. Гранки задерживались, пропадали рукописи, к редакциям предъявлялись постоянные претензии из-за невыполнения графика и так далее, до бесконечности. Помимо всего прочего, Уайт был большой охотник копаться в интимной жизни своих сослуживцев, и стоило ему обнаружить в прошлом своего противника малейшее пятно, как факт этот таинственным образом всплывал на поверхность, причем в самый неблагоприятный для жертвы момент. От всех своих подчиненных он требовал абсолютной преданности. Если человек не догадывался действовать в интересах Уайта, его вскоре под тем или иным предлогом увольняли, хотя бы он был безукоризненным работником. Заведующие редакциями, не уверенные в своих силах и чуявшие, куда дует ветер, заискивали перед ним. Те, кто нравился Уайту и был его послушным орудием, процветали. Зато те, кто был у него в немилости, вечно должны были оправдываться перед Колфаксом либо бегать к нему с жалобами. А тот понятия не имел о коварстве своего помощника и готов был считать этих людей плохими работниками. Колфакс все еще надеялся найти такую фигуру из кругов, близких к искусству, которая могла бы разделить руководство с Уайтом, когда он впервые услышал про Юджина. До сих пор он еще не набрел на такого человека, так как все, кто внушал ему уважение и кого он считал достойным занять этот пост, имели свои собственные предприятия. Он вел переговоры то с одним, то с другим, но безуспешно. А тут как раз потребовалось найти человека на освободившееся место заведующего отделом рекламы, и притом такого, который мог бы поставить дело по-настоящему. Колфакс начал расспрашивать сведущих в этой области людей. Кроме того, он стал присматриваться к специалистам рекламного дела, работающим в других предприятиях, и вскоре услышал о Юджине Витле. Рассказывали, что Витла достиг блестящих результатов и пользуется большой популярностью среди своих сотрудников. Два дельца, не сговариваясь друг, с другом, хвалили Колфаксу Юджина как исключительно способного человека. Третий рассказал ему про успехи Юджина у Саммерфилда, а с помощью четвертого, знакомого Юджина, пригласившего однажды их обоих позавтракать в «Харвард-клуб», Колфакс получил возможность встретиться с ним, не выдавая своих намерений. Не зная, кто такой Колфакс, вернее, зная о нем лишь то, что этот человек занимает пост президента в конкурирующем предприятии, Юджин держался свободно и просто. Он никогда не ломался, всегда готов был учиться у всякого, кто мог его чему-нибудь научить, и приветливо относился к людям. — Так вы, значит, «Суинтон-Скадер-Дэйвис»? — сказал он, знакомясь с Колфаксом. — Не иначе как эта троица основательно усохла, чтобы уместиться в вас одном; но сила, надо полагать, осталась все та же! — Вот уж не знаю, не знаю! — сказал Колфакс, охотно откликаясь на шутливый тон Юджина: он никогда не отказывался принять вызов. — Суинтон и Скадер, говорят, оба были могучего сложения. Но вам-то уж, наверно, не на что жаловаться, если только ваши силы соответствуют вашему росту. — Да я и не жалуюсь, только бы меня оставили в покое, — сказал Юджин. — Но меня беспокоят мелкие людишки, очень уж они все хитрющие. Колфакс радостно закудахтал. Ему понравилась внешность Юджина, его приятные манеры — непринужденные, спокойные — и умные глаза. Да и вся повадка этого Витлы отвечала его собственной неукратимой энергии, в нем не было излишней мягкости и уступчивости. — Так это вы, значит, заведующий отделом рекламы в «Норс-Америкен»? Как же им удалось так привязать вас к себе? — Они меня не привязывали, — ответил Юджин. — Я сам дался им в руки. А чтоб я не ворочался, они придавили меня хорошим, жирным жалованьем. Ничто другое не заставило бы меня сидеть смирно. Он самодовольно усмехнулся. — Ну что ж, дорогой мой юноша, ребра они вам не обломали, и что-то не видно, чтоб у вас впали бока. Ха-ха-ха-ха! Не впали ведь? Ха-ха-ха! Юджин с интересом смотрел на этого маленького человека. Он был поражен его острым, пытливым взглядом. Какая разница между ним и Кэлвином, — тот, пожалуй, не больше его ростом, но такой степенный, тихий, и так полон достоинства. Крикливый, неугомонный Колфакс, казалось, был насыщен электрической энергией. Он весь был как на шарнирах. «Точно у него под тонким слоем кожи голые электрические провода, — подумал Юджин. — Стремительный, как молния». — Дела у вас там, как видно, идут недурно, — продолжал Колфакс. — Мне приходится иногда о вас слышать. Не много, правда, не много! Самую малость! Но ничего плохого, нет, ничего плохого. — Надеюсь, — небрежно отозвался Юджин. Он еще не понимал, почему Колфакс так интересуется им. Этот человек разглядывал его, словно скаковую лошадь. Глаза их время от времени встречались, и Юджин замечал во взгляде Колфакса лукавый, но приветливый огонек. — Ну, так в чем дело? — спросил его наконец Юджин. — Дайте подумать, дорогой мой юноша! Дайте подумать, — ответил тот, и больше Юджин ничего от него не добился. Но вскоре после этой странной встречи, хорошо запомнившейся Юджину, Колфакс письмом пригласил его к себе в Нью-Йорк. «Очень прошу Вас уведомить меня, — писал он, — когда Вы намерены побывать в Нью-Йорке. Я буду рад Вас видеть у себя к обеду. Нам с Вами стоило бы познакомиться поближе и поговорить по душам». Письмо было написано на бланке корпорации «Юнайтед мэгэзинс», недавно организованной вместо компании «Суинтон-Скадер-Дэйвис», и на штампе значилось: «Секретариат президента». Юджин решил, что за этим кроется что-то серьезное. Уж не собирается ли Колфакс сделать ему какое-то предложение? Что ж, тем лучше. Правда, ему и сейчас неплохо и он привязан к мистеру Кэлвину, да и вообще ему нравится окружающая обстановка. Но так как всякое деловое предложение является очевидным признанием ваших заслуг, Юджин готов был его выслушать. На крайний случай это поможет ему еще больше укрепиться у Кэлвина. Он придумал повод для поездки в Нью-Йорк, но сначала ознакомил с содержанием письма Анджелу, которая отнеслась к нему с холодным любопытством. Он рассказал ей, какое внимание проявил к нему Колфакс при встрече, и высказал предположение, что его, очевидно, пригласят на службу в «Юнайтед мэгэзинс». — Особенно меня туда не тянет, — сказал Юджин, — но любопытно узнать, в чем дело. Анджела посоветовала ему оставить письмо без внимания. — Это, конечно, крупная фирма, — сказала она, — но нисколько не крупнее, чем издательство мистера Кэлвина, который относится к тебе очень хорошо. Я бы на твоем месте не стала делать ничего такого, что может ему не понравиться. Юджин задумался над ее словами. Совет казался благоразумным, но его разбирало любопытство. — Ни в какие переговоры я вступать не стану, — сказал он. — Но интересно, что он мне скажет. Он в тот же вечер написал Колфаксу, что будет в Нью-Йорке двадцатого числа и с большим удовольствием принимает его приглашение к обеду. Первое же свидание Юджина с Колфаксом заложило основу для их последующей дружбы. Так же, как и Саммерфилд, Колфакс обладал темпераментом, родственным Юджину, но в смысле способности управлять людьми он стоял несравненно выше Саммерфилда. В доме Колфакса Юджину был оказан исключительно сердечный прием. Колфакс пригласил его зайти в контору и оттуда повез к себе домой. Его новый, только что отстроенный особняк с облицованным белым мрамором фасадом, с огромными чугунными воротами и внушительным подъездом, украшенным небольшими пальмами и карликовыми кедрами, был расположен в верхней части Пятой авеню. Юджин сразу убедился, что этот человек живет в той напряженной атмосфере коммерческого и финансового соперничества, которое придает жизни в Нью-Йорке такую остроту. Во всем доме чувствовался суровый, холодный порядок и погоня за блеском, сдерживаемая лишь тем чувством меры, которое диктуется знанием господствующих вкусов и моды. Автомобиль у Колфакса был тоже новый и очень большой, самой последней марки — темно-синяя громада с бесшумным, как у швейной машины, ходом. Им открыл дверь лакей шести футов ростом, в панталонах до колен и во фраке. В комнатах прислуживал безмолвный, почтительный и внимательный японец. Юджин был представлен миссис Колфакс, грациозной женщине с несколько наигранными манерами. Немного позднее горничная-француженка привела двух детей — мальчика и девочку. Юджин успел уже привыкнуть к роскоши во всех ее видах, и этот дом не слишком поразил его по сравнению с многими другими, где ему приходилось бывать. Но, во всяком случае, он принадлежал к числу наилучших. Колфакс держал себя дома очень просто. Он небрежно кинул пальто лакею, подбросил поочередно в воздух обоих детей, а жену, которая была чуть выше его, звонко чмокнул в щеку, воскликнув: — Ну как, понравилось, Сита? (Как узнал впоследствии Юджин, это было уменьшительное от Сесилия.) Познакомься с мистером Витлой. Он художник, заведующий художественным отделом, специалист по рекламному делу, и… — …в высшей степени скромный человек, — с улыбкой закончил Юджин, — далеко не такой ужасный, каким он может вам показаться. Характеристика, данная мне вашим супругом, сильно раздута. Миссис Колфакс ласково улыбнулась. — Я готова сейчас же скинуть добрую половину, — отозвалась она. — А позднее, вероятно, и остальное. Может быть, мы пройдем в библиотеку? Обмениваясь шутками, они поднялись наверх. Все, что Юджин видел, было ему по душе. Миссис Колфакс вскоре извинилась и вышла, и Колфакс завел разговор на общие темы. — Теперь я покажу вам свой дом, — сказал он, — а после обеда побеседуем о деле. Вы очень интересуете меня, не стану скрывать от вас. — И вы интересуете меня, Колфакс, — весело отозвался Юджин. — Вы мне нравитесь. — Убежден, что нравлюсь вам не больше, чем вы мне, — ответил тот.Глава 67
Вечер, проведенный в этом доме, доставил Юджину большое удовольствие, но его немало смутило то, что Колфакс хочет уговорить его бросить работу у Кэлвина и перейти к нему. — Дело у вас там прекрасное, — говорил он, — но разве может оно сравниться с тем предприятием, которое мы сейчас создаем? Какое значение имеют ваши два журнала по сравнению с нашими семью? У вас только один действительно ходкий журнал — тот, где вы работаете, — но вы совсем не издаете книг! А у нас семь журналов, которые прекрасно расходятся, плюс книгоиздательство, не уступающее никакому другому в Америке. Вы это знаете. Если бы прежнее руководство не развалилось окончательно, дело вообще никогда не попало бы в мои руки. Я приведу вам, Витла, один маленький факт, касающийся нашего предприятия, и он покажет вам, что там творилось до моего появления. На одну только краску эти чудаки расходовали лишних двадцать тысяч долларов в год. Они выпускали сотни никому не нужных книг, которые не окупали даже стоимости печатания, не говоря уже о расходах на бумагу, клише, набор и распространение. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что таким образом ежегодно вылетало в трубу свыше ста тысяч долларов. Тиражи журналов падали. Там и до сих пор народ еле-еле раскачивается. Вот мне и нужны люди. В сущности, мне нужен один человек, который со временем взял бы на себя обязанности главного редактора и добился бы настоящих результатов. Это должен быть человек, умеющий управлять другими. Если мне удастся найти такое лицо, я отдам в его ведение и отдел рекламы, — так как он, по существу, составляет одно целое с литературным и художественным отделами. Все зависит от того, найду ли я нужного человека. Он многозначительно посмотрел на Юджина, который внимательно слушал, рассеянно водя пальцем по верхней губе. — Да, — задумчиво произнес Юджин. — Прекрасная должность. А кого вы на нее прочите? — Пока никого, — во всяком случае, никого, в ком я был бы совершенно уверен. У меня есть на примете один человек, который, пожалуй, мог бы занять этот пост, ознакомившись сначала с нашим предприятием и изучив его нужды. Это нелегкий пост. Он требует воображения, такта и умения критически разбираться в материале. Человек этот должен быть вице-Колфаксом, так сказать, поскольку сам я не могу всю жизнь заниматься этим издательством. Не могу и не хочу. Меня интересуют более важные вещи. И мне нужен работник, который со временем стал бы в этих отделах моим вторым «я», который сумел бы спеться с Флоренсом Уайтом и всем издательским персоналом и упорно проводил бы свою линию в порученной ему области. Я хочу создать, так сказать, комитет из двух человек, причем каждый должен править безраздельно в своей области. — Это звучит очень интересно, — задумчиво сказал Юджин. — Кто же ваш кандидат? — Как я вам говорил, он, по-моему, еще не совсем доспел, но уже близок к этому, и он — самый подходящий человек. Кстати, он здесь, налицо. Я имею в виду вас, Витла. — Нет, — спокойно произнес Юджин. — Да, вас! — повторил Колфакс. — Вы мне льстите, — сказал Юджин и сделал движение рукой, словно отводя от себя непрошеный комплимент. — Я далеко не уверен, что я тот, кто вам нужен. — Да, да, именно тот, надо только, чтоб и сами вы так думали! — горячо сказал Колфакс. — Счастье не станет попусту стучаться в дверь своего избранника. И я не могу поверить, чтобы вы его не впустили, раз оно постучалось в вашу дверь. Поймите, что для начала мы будем платить восемнадцать тысяч в год за одно только заведование рекламой. Юджин выпрямился в кресле. Сейчас он получает двенадцать тысяч. Может ли он позволить себе пренебречь таким предложением? В состоянии ли компания «Кэлвин» дать ему такое жалованье? Правда, ему платят неплохо. Но сможет ли компания «Кэлвин» обещать ему что-либо подобное? — Я вам больше скажу, — продолжал Колфакс. — Общий контроль над всем предприятием, пост директора издательства, который я намереваюсь создать и который вы займете, как только почувствуете себя в силах, повлечет за собой оклад в двадцать пять тысяч долларов в год. И этого, между прочим, вам пришлось бы ждать недолго. Юджин молчал и думал. Предложение, сделанное так горячо и решительно, взволновало и испугало его. Это было нечто грандиозное — полный контроль над литературным, художественным и рекламным отделами такого крупного предприятия, как «Юнайтед мэгэзинс»! Кто такой этот Уайт? Что он собой представляет? Можно ли будет с ним ужиться? А этот человек, что сидит напротив, — такой настойчивый, живой, целеустремленный! Требования его будут огромны. И опять же он, Юджин, так сработался с Таунсендом Миллером, так привык к руководству Кэлвина. Как много нового узнал он из одних только бесед с этими более опытными людьми, в совместной с ними работе над издательскими планами. Сейчас он хорошо представляет себе, что такое хроника, обзорная статья, дающая анализ и прогноз событий общегосударственного значения, и что такое «смесь», сенсационный рассказ, биографический очерк. Кэлвин научил его, как определяются мастера своего дела. Конечно, о многом он и сам догадывался, но лишь там, в Филадельфии, на совещаниях с Миллером и Кэлвином, он всем этим овладел. Вместе с Миллером он фактически руководил небольшим художественным отделом издательства, что не требовало от него особой затраты энергии. Так неужели он не справится с этой, пусть и более обширной задачей? Если он откажется, на это место найдется, конечно, кто-нибудь другой. Неужели же тот, другой, много талантливее его? — Я вовсе не требую, чтобы вы действовали сгоряча, — успокаивающим тоном сказал Колфакс после короткой паузы, заметив, что Юджин серьезно взвешивает в уме все «за» и «против» и что дилемма перед ним встала нелегкая. — Я понимаю ваши сомнения. Вы работаете прекрасно. К вам хорошо относятся, что, впрочем, вполне естественно. Вам не хочется уходить. Ну что же, подумайте хорошенько. Вам представляется единственный в своем роде случай. Так или иначе, вы мне нравитесь, и я считаю вас именно тем человеком, который справился бы с этой задачей. Заходите ко мне завтра в контору, и я ознакомлю вас с нашим предприятием. Я хочу, чтобы вы увидели, каковы наши возможности. Едва ли вы представляете себе масштаб дела. — Нет, почему же, вполне представляю, — улыбнувшись, ответил Юджин. — Ваше предложение, конечно, очень заманчиво. Но сейчас я не могу ничего сказать. Нужно подумать. Дайте мне время. Если разрешите, я сообщу вам ответ немного погодя. — Думайте, сколько хотите! Думайте, сколько хотите, мой дорогой! — воскликнул Колфакс. — Я подожду. Это не так уж к спеху. Такие дела не делаются в одну минуту. Когда вы решите, дайте мне знать, а теперь не поехать ли нам в театр — что вы скажете? Была подана машина, и к ним присоединилась миссис Колфакс со своей гостьей, мисс Джинир. Они прекрасно провели время. В антрактах Юджин умело поддерживал веселую и занимательную беседу, а после театра вся компания отправилась к «Шерри» ужинать. Переночевав у Колфакса, Юджин на другое утро побывал вместе с ним в издательстве и в полдень уехал в Филадельфию. У него буквально голова шла кругом от всего, что он увидел и услышал. Колфакс — большой человек, думал он, это в некоторых отношениях значительно более крупная величина, чем Кэлвин. Он более энергичен, более предприимчив, и он моложе. Ему нечего бояться краха. Он слишком богат для этого. Колфакс добьется успеха со своей корпорацией, большого успеха, и, приняв это предложение, он, Юджин, разделит с ним этот успех. Это было бы замечательно! Это не то, что работать в предприятии, которое своим расцветом обязано кому-то другому. Неужели же отклонить такое предложение? Жизнь в Нью-Йорке, работа, неразрывно связанная с искусством и литературой, крупный административный пост, видное положение в обществе, известность, деньги — все это манило его к себе. Ведь при окладе в восемнадцать или двадцать пять тысяч долларов он сможет поселиться в прекрасной квартире-студии, хотя бы даже на Риверсайд-Драйв, устраивать блестящие приемы, иметь собственную машину, не беспокоясь о связанных с нею расходах. Анджела перестанет наконец думать об экономии. Это предел того, чего можно достигнуть, оставаясь служащим. А дальше можно будет подумать и о доле в предприятии или же о собственном деле. Какими далекими казались ему сейчас дни, когда он юношей бродил по улицам того же Нью-Йорка в поисках угла за три доллара в неделю, или когда он, нищий художник, обивал пороги магазинов, чтобы сбыть свои картины по десять — пятнадцать долларов за штуку. Боже мой, какие забавные штуки выкидывает иногда судьба! Разговор с женой только усилил его колебания: хоть Анджела и была приятно удивлена предложением Колфакса, все же она опасалась, как бы Юджин не промахнулся, покинув нынешнего своего хозяина. Ведь Кэлвин так хорошо относится к нему. Правда, он не поддерживал с ним близкого знакомства, но Юджин и Анджела бывали у него на торжественных приемах, и Юджин рассказывал, что Кэлвин не раз давал ему отеческие советы. Он не придирался к служащим и всегда был справедлив и снисходителен. — Он прекрасно ко мне относится, — говорил Юджин Анджеле за завтраком, — да и все они там любят меня. Просто не знаю, как от них уйти. Но все же чем больше я думаю, тем для меня яснее, что у Кэлвина дело никогда не приобретет такого размаха, как в «Юнайтед мэгэзинс». Они издают и журналы и книги. А у Кэлвина ничего этого нет и не будет. Кэлвин слишком стар. Кроме того, корпорация Колфакса — в Нью-Йорке, и это для меня один из главных плюсов. Мне бы хотелось снова поселиться в Нью-Йорке. А тебе? — Это было бы прекрасно, — сказала Анджела: она с первых же дней невзлюбила Филадельфию, считая, что это глухая провинция по сравнению с Нью-Йорком и Парижем. Только хороший оклад Юджина и жизненные блага, которыми они пользовались, заставляли ее мириться с пребыванием здесь. — Почему бы тебе не переговорить с мистером Кэлвином и не рассказать ему об этом предложении? — придумала она. — Когда он узнает, он, возможно, положит тебе такое жалованье, что ты предпочтешь остаться. — Ну нет, — ответил Юджин. — Может, он немного и повысит мне оклад, но платить двадцать пять тысяч в год ему не по силам. Да и не за что платить мне такие деньги. Это может позволить себе только такое предприятие, как «Юнайтед мэгэзинс». В нашем издательстве нет ни одного человека, который получал бы столько, — разве что Фредерикс. Да я и не могу здесь рассчитывать ни на что другое. В редакторском кресле крепко сидит Миллер. И так в сущности и должно быть. Он прекрасно знает свое дело. Предложение Колфакса открывает мне новое поле деятельности. Я вовсе не желаю оставаться всю жизнь заведующим отделом рекламы. — И я тоже не хотела бы этого, Юджин, — вздохнула Анджела. — Прямо стыдно, что ты не можешь бросить все эти дела и посвятить себя искусству. Я ни минуты не сомневаюсь, что ты многого достиг бы, если бы занялся живописью. Нервы твои теперь в порядке. Вопрос лишь в том, чтобы некоторое время жить скромнее и дать тебе возможность работать. Я убеждена, что ты далеко бы пошел. — Искусство уже не так влечет меня, как когда-то, — ответил Юджин. — Слишком хорошо нам жилось последнее время и я узнал, что такое настоящая жизнь. Разве я мог бы иметь двенадцать тысяч долларов в год, если бы оставался художником? Будь у меня тысяч сто или двести сбережений, тогда другое дело. Но у нас их нет. У нас только и есть, что акции Пенсильванской железной дороги да несколько стальных акций и два земельных участка в Монтклере, и то налоги по ним съедают уйму денег. Как только вернемся в Нью-Йорк, надо будет что-нибудь на них построить, и если мы сами не захотим там жить, сдадим их в аренду. Брось я сейчас службу, у нас не будет ничего, кроме двух тысяч дохода и того, что я в состоянии заработать, а как жить на это? Анджела подумала, что им действительно пришлось бы распроститься с привольной, беспечной жизнью, которую они теперь вели. Быть женой выдающегося художника, конечно, очень приятно, но даст ли это ей возможность заказывать такие завтраки, как тот, за которым они сидели? Будет ли у них такая квартира и так много друзей? Искусство — великая вещь, но смогут ли они позволить себе такие прогулки на машине, как теперь? Сможет ли она так хорошо одеваться? Чтобы иметь разнообразные туалеты — для дома, для улицы, утренние и вечерние, — нужны большие деньги. Расходы в тридцать пять — сорок долларов на шляпку, как правило, не входят в бюджет жены художника. Согласна ли она вернуться к скромной жизни во имя его искусства? Не лучше ли, чтобы Юджин поступил к мистеру Колфаксу и проработал у него какое-то время, получая двадцать пять тысяч долларов в год, а потом уже бросил службу? — Поговори все-таки с мистером Кэлвином, — снова посоветовала она. — Так или иначе, тебе придется это сделать. Послушай, что он скажет. А потом сам реши, как поступить. Юджин сначала колебался, но, поразмыслив, пришел к заключению, что именно так и нужно сделать. Вскоре после этого, встретив мистера Кэлвина на этаже, где помещались редакции, он обратился к нему: — Не могли бы вы, мистер Кэлвин, уделить мне несколько минуть по личному делу? Я был бы вам очень признателен. — Пожалуйста. Хоть сейчас, — ответил тот. — Зайдемте ко мне. — Мистер Кэлвин, — начал Юджин, когда они вошли в кабинет президента компании и он закрыл за собой дверь. — Я получил предложение, о котором должен поговорить с вами. Предложение чрезвычайно заманчивое, оно совсем выбило меня из колеи. Мне очень хотелось бы посоветоваться с вами, — я считаю это своим долгом. — В чем же дело? — с участливым вниманием спросил Кэлвин. — Мистер Колфакс, президент «Юнайтед мэгэзинс», недавно предложил мне перейти к нему на службу. Он обещает мне для начала восемнадцать тысяч в год, как заведующему отделом рекламы, с тем, что позднее я возьму на себя руководство и художественным отделом и редакциями, а тогда он увеличит мне жалованье до двадцати пяти тысяч долларов. Это будет, как он говорит, пост директора издательства. Я серьезно обдумал это предложение, так как я ведал рекламой и художественным отделом у вас и у Саммерфилда и кое-что понимаю в книжно-журнальном деле. Я знаю, что работа ответственная, но полагаю, что мог бы справиться. Мистер Кэлвин внимательно выслушал его. Он понимал, в чем заключается план Колфакса, и одобрял его. Мысль была хорошая, но для этого требовался исключительный работник. Был ли Юджин таким работником? В этом Кэлвин сомневался, хотя и допускал такую возможность. Колфакс, думал он, человек с огромными способностями — пусть он новичок в издательском мире, но, во всяком случае, это крупный делец. Если он найдет нужного ему человека, он, пожалуй, добьется больших результатов. Возможно, что Юджин с первого взгляда ему понравился: у него многообещающая внешность, он подтянутый, энергичный, с живым умом и свежими взглядами. К тому же его успех здесь, в этом издательстве, придает этому молодому человеку большую цену в глазах Колфакса, чем он того заслуживает. Витла — хороший, даже прекрасный работник, но только под чьим-нибудь руководством. Хватит ли у Колфакса терпения, интереса и внимания, чтобы работать с ним и понимать его? — Так, так, давайте хорошенько подумаем, Витла, — тихо произнес он. — Предложение лестное. Было бы, конечно, глупо не отнестись к нему со всей серьезностью. Знаете ли вы что-нибудь о том, как поставлено там дело? — Нет, не знаю, — ответил Юджин, — если не считать того, что я мельком уловил из короткой беседы с мистером Колфаксом. — А вы хорошо знаете мистера Колфакса как человека? — Очень мало. Я только дважды встречался с ним. Он энергичный, живой, с большой инициативой, насколько я понимаю, он очень богат, — кто-то говорил мне, что у него три или четыре миллиона. Кэлвин пренебрежительно махнул рукой. — Он вам нравится? — Я затрудняюсь вам на это ответить. Он меня очень интересует. Жизнь так и кипит в нем. Могу только сказать, что первое впечатление было хорошее. — И он хочет со временем поручить вам руководство всеми журналами и книгоиздательством? — Так по крайней мере он говорил, — сказал Юджин. — Я бы на вашем месте не торопился взвалить на себя такую ответственность. Я бы сначала постарался убедиться, что хорошо знаю дело. Не забывайте, Витла, что заведовать одним отделом под чьим-либо руководством, да еще при сочувственном отношении и внимании руководящего вами лица — совсем не то, что брать на себя ответственность за четыре или пять отделов, не имея над собой никого, кроме человека, который сам ждет от вас разумных указаний. Колфакс, насколько я знаю, не издатель ни по склонности, ни по образованию, ни по опыту. Он финансист. Если вы примете его предложение, он захочет, чтобы вы говорили ему, как и что нужно делать. Вы окажитесь перед очень трудной задачей, разве только вы обладаете большими познаниями в издательском деле. Мне вовсе не хочется, чтобы вы думали, будто я рад окатить вас холодной водой. В вас говорит естественное стремление продвинуться в жизни. Растите, если можете. Уверяю вас, что, вздумай вы уходить, никто из ваших знакомых не пожелает вам счастья более искренне, чем я. Я только просил бы вас тщательно все взвесить. Здесь вы себя чувствуете прочно, насколько может себя прочно чувствовать человек, если он должным образом ведет себя, если он отдает работе все свои способности и энергию. Вполне естественно, что после сделанного вам предложения вы вправе ожидать повышения оклада, и я охотно пойду на это. Вы, верно, и сами догадываетесь, что я намеревался несколько повысить ваш оклад в январе. Так вот, я вам заявляю, что если вы пожелаете остаться у нас, вы будете получать четырнадцать тысяч долларов, и, возможно, шестнадцать тысяч через год-полтора. Я не хочу перегружать ваш отдел накладными расходами, в которых не вижу необходимости. Я бы сказал, что шестнадцать тысяч долларов будет, пожалуй, слишком высокой платой, но вы прекрасный работник, и я охотно буду вам столько платить. Вам остается решить, какое предложение надежнее и больше вам по вкусу — мое или Колфакса. У него вы сейчас же начнете получать восемнадцать тысяч, у меня — шестнадцать, и то не раньше чем через год. У него перед вами откроются блестящие перспективы, на какие вы никогда не сможете рассчитывать здесь. Но, с другой стороны, вы должны помнить, что и трудности вам предстоят там несравненно большие. Меня вы теперь немного знаете. Что же касается мистера Колфакса (не подумайте, что я хочу сказать про него что-либо дурное, у меня и в мыслях этого нет), то вам еще нужно его узнать. Мой вам совет — хорошенько подумайте, прежде чем действовать. Разузнайте получше, как там обстоят дела, до того как принять предложение. «Юнайтед мэгэзинс» — крупное предприятие. Я нисколько не сомневаюсь, что под руководством мистера Колфакса его ждет блестящее будущее. Он способный человек. Если надумаете уйти, зайдите ко мне и сообщите, и могу вас уверить, что мы расстанемся друзьями. Если же вы решите остаться, мое предложение насчет вашего нового оклада немедленно вступит в силу. Собственно говоря, я согласен даже дать указание мистеру Фредериксу перевести вас на новый оклад задним числом, и вы сможете тогда сказать, что получали здесь столько-то. Вам это не повредит. И все у нас останется, как было. Я знаю, что неразумно пытаться удержать человека, которому обещают более выгодные условия, — именно поэтому я и предлагаю вам на этот год только четырнадцать тысяч. Мне нужна уверенность в том, что вы и сами тверды в своем желании остаться. Понятно? Он улыбнулся Юджину. Юджин встал. — Понятно, — сказал он, — и вы, мистер Кэлвин, лучший человек, какого я когда-либо встречал. На такое отношение, как ваше, я нигде не могу рассчитывать. Для меня было огромным удовольствием и большой честью работать у вас. Если я решу остаться, то лишь потому, что действительно захочу остаться, и потому, что я дорожу вашей дружбой. — Ну что ж, это приятно слышать, — спокойно сказал Кэлвин, — и я очень ценю ваши слова. Но пусть ваши дружеские чувства или благодарность не удерживают вас от шага, который вы, по вашему мнению, должны сделать. Примите предложение мистера Колфакса, если оно вам по душе. Я нисколько не буду на вас в претензии. Мне будет очень жаль, но это к делу не относится. Жизнь требует, чтобы мы постоянно приспосабливались к новым обстоятельствам, каждый опытный делец это знает. Он пожал протянутую ему Юджином руку. — Желаю вам успехов, — сказал он. Это было его любимое выражение.Глава 68
После длительных колебаний Юджин принял предложение «Юнайтед мэгэзинс» и расстался с мистером Кэлвином. Произошло это так: однажды он получил от Колфакса письмо, в котором тот спрашивал, к какому решению он пришел. Чем больше Юджин обдумывал сделанное ему предложение, тем более соблазнительным оно ему представлялось. Колфакс строил в самом сердце делового района Нью-Йорка, близЮнион-сквер, огромное здание в восемнадцать этажей, в котором должны были разместиться все отделы. Когда Юджин обедал у Колфакса, тот сказал ему, что шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый этажи будут отведены целиком под книгоиздательство, редакции журналов, отдел распространения, а также художественный и рекламный. Он попросил Юджина посоветовать, как лучше расположить отделы, и тот с обычной легкостью набросал на клочке бумаги примерный план. Редакции и художественный отдел он поместил на самом верху, предназначив для директора издательства, кто бы он ни был, одну из центральных комнат, с окнами на запад, откуда открывался великолепный вид на Нью-Йорк от Юнион-сквер до Гудзона. Для отдела рекламы и части редакционных помещений он отвел семнадцатый этаж, а отдел распространения с примыкающей к нему регистратурой, экспедицией и картотеками поместил на шестнадцатом. Кабинеты президента и его заместителя он предложил отделать в старофламандской гамме цветов, которая давно его привлекала, — ее зеленые, темно-синие, густокрасные и матово-черные тона должны были резко контрастировать с белым снопом дневного света. — Делать, так уж делать как следует, — сказал он Колфаксу. — Почти все издательские кабинеты, какие мне приходилось видеть, напоминают бараки. Роскошь в помещениях редакций, а также художественного и рекламного отделов будет способствовать успеху вашей компании. Это в сущности та же реклама. Рассуждая таким образом, Юджин вспомнил теорию Саммерфилда, что чуть ли не самое важное для предприятия — это его внешний вид, говорящий о процветании. Колфакс согласился и сказал, что Юджин окажет ему большую любезность, если заедет взглянуть на строительство, когда придет время. — У меня работают два хороших архитектора, — пояснил он, — но в вопросе убранства кабинетов я больше доверяю вашему вкусу. И когда Юджин наедине с собою обсуждал этот последний категорический запрос о его решении, он не переставал думать о том, как будут выглядеть эти этажи, как богато они будут отделаны. Со временем, если все пойдет хорошо, он сделает свой кабинет самым роскошным во всем здании. И он, Юджин Витла, будет, не считая Колфакса, самой видной фигурой в этом колоссальном предприятии. Мотивы подобного рода должны занимать последнее место в расчетах делового человека, но для Юджина они имели первостепенное значение. Это объяснялось тем, что он был не дельцом, а художником и оставался художником в душе, хотя и долго вращался в коммерческом мире. Мысли об ожидающей его должности и высоком общественном положении заставляли его забывать о связанной с этим огромной ответственности. Он понимал, что Колфакс — жесткий человек, более жесткий, чем даже Саммерфилд, так как он меньше говорил и больше делал. Но это не очень его тревожило. Он слишком верил в свои силы, в то, что сумеет постоять за себя при любых условиях. Анджела, собственно говоря, не противилась этой перемене, хотя по свойственной ей нерешительности все чего-то опасалась и не торопилась одобрить решение Юджина. Если он добьется успеха, это будет огромная победа, но что, если он просчитается! — Колфакс безгранично верит в меня, — сказал ей Юджин. — Он убежден, что я справлюсь, а такая вера сама по себе — большая поддержка. Так или иначе, мне хочется попробовать. Попытка не пытка. Если я увижу, что руководить издательством мне не по силам, ограничусь рекламой. — Ну что ж, — отвечала Анджела. — Я, право, не знаю, что тебе посоветовать. Здесь, у Кэлвина, к тебе так хорошо относились… — Попробую, — решительно сказал Юджин. — Риск — благородное дело. — И он в тот же день сообщил о своем решении Кэлвину. Тот серьезно посмотрел на него, и взгляд его проницательных серых глаз говорил, что он всесторонне взвешивает этот вопрос. — Ну что ж, Юджин, вы берете на себя большую ответственность. Дело это трудное. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Мне жаль, что вы покидаете нас. Прощайте. Он чувствовал, что Юджин делает ошибку, что в его интересах было бы остаться еще некоторое время на старом месте, но убеждать его было бесполезно. Это только заставило бы молодого человека возомнить о себе и осложнило бы их дальнейшие отношения. Кэлвин довольно много слышал в последнее время о Колфаксе и полагал, что Юджину будет трудно сработаться с ним. Говорили, что его симпатии и антипатии носят случайный характер и не выдерживают испытания временем. По общему мнению, Колфаксу для успешного руководства таким крупным предприятием не хватало человечности. И надо сказать, что это мнение было правильным. Колфакс был тверд, как кремень, но те, кому он благоволил, видели перед собою улыбающегося, любезного человека. Его главной чертой было честолюбие, а его тщеславие не знало границ. Он надеялся добиться огромного успеха в жизни, желал, чтобы на него смотрели, как на выдающегося финансиста, и старался окружить себя сильными людьми. Именно таким сильным человеком и показался Колфаксу Юджин, и, когда от последнего пришло письмо, в котором он сообщал, что согласен, но хотел бы предварительно кое о чем переговорить, Колфакс подбросил в воздух котелок, хлопнул по плечу своего подручного Уайта и воскликнул: — Ура, Флорри! Вот когда я залучил работничка для нашей корпорации! Или я ничего не понимаю в людях, или этот человек для нас находка. Он еще молод, но это ничего не значит. Красотой он нас с вами, конечно, забьет, но мы это как-нибудь стерпим. Верно? Уайт изобразил на лице радость, которой отнюдь не испытывал. Он видел на своем веку много редакторов и специалистов по рекламе и считал, что это легковесные люди: их тщеславие удовлетворяется пустой игрушкой, которой их забавляют или которой они сами себя тешат. Витла, по-видимому, принадлежит именно к такой категории людей. Однако, если бы в корпорации появился настоящий знаток издательского дела, это невыгодно отразилось бы на нем, Уайте. Такой человек попытался бы, пожалуй, ущемить его авторитет или по меньшей мере разделить его с ним. Это ни в коем случае не устраивало честолюбивого Уайта, ибо значило бы, что кто-то захочет стать ему поперек дороги, а ведь он надеялся когда-нибудь править здесь единолично. Почему Колфакс так настаивает, чтобы власть в корпорации была поделена? Уж не потому ли, что немного его боится? Очевидно, так, решил Уайт. И надо признать, что он был недалек от истины. «Флорри — прекрасный помощник, — рассуждал Колфакс, — но ему необходимо противопоставить человека большой культуры и умственного превосходства, человека с качествами, перед которыми преклоняется мир». Он хотел, чтобы эта культура и это умственное превосходство привлекли читателей к его журналам и книгам и, следовательно, способствовали увеличению их тиражей. Эти два человека будут дополнять друг друга и сдерживать. Таким образом, одна сторона дела не будет перевешивать другую. А управлять этой упряжкой должен он, Колфакс, тот, кто их обоих выбрал, чьи идеи они проводят в жизнь, с чьим мнением обязаны считаться. Весь торговый и финансовый мир должен знать, что без него они ничто. Что же касается Юджина и Уайта, то каждый из них считал, что другой будет играть второстепенную роль, а сам, он, подчиненный одному только Колфаксу, станет столпом и украшением фирмы. Юджин был убежден, что в предприятие Колфакса только тогда можно будет вдохнуть новую жизнь, когда на первое место в нем будут поставлены художественно-интеллектуальные задачи. Уайт же был убежден, что без здравого коммерческого руководства предприятию грозит крах и что на это и должен быть сделан упор. За деньги можно купить лучшие умы. Колфакс представил Уайту своего нового помощника в то утро, когда последний явился, чтобы приступить к работе, так как во время предыдущих его посещений Уайт отсутствовал. Они внимательно посмотрели друг на друга, но ни тот, ни другой не торопились с окончательными выводами, так как оба были люди не глупые. Уайт показался Юджину занятным типом — долговязый, жилистый, держится вызывающе; в нем угадывался бывший уличный заправила, приобретший с годами внешнее подобие джентльмена, Юджин же произвел на Уайта впечатление нервного, утонченного человека, типичного представителя литературной и художественной богемы, обладающего, однако, необычайно гибким умом и энергией, редко встречающейся у людей этой категории. В нем чувствовалась немалая сила, но и некоторая неуравновешенность. Уайт не сомневался, что сможет в крайнем случае выжить его из концерна, — если не удастся сделать из него послушное орудие своей воли. Однако это будет нелегко — Витла пользуется поддержкой Колфакса, у него установившаяся репутация. Присутствие этого человека беспокоило Уайта. Он смотрел на него и думал: действительно ли Колфакс передаст в его руки управление литературным, художественным и рекламным отделами, или же он останется попросту заведующим отделом рекламы, в качестве какового явился сюда? Колфакс пригласил его пока только на эту должность. — Вот рекомендую, Флорри, — сказал Колфакс, представляя Юджина. — Тот самый, о ком я вам говорил. Витла — мистер Уайт. Уайт — мистер Витла. Вам предстоит теперь работать вместе на благо нашего издательства. Ну, что вы скажете друг о друге? Юджин уже раньше отметил грубоватую фамильярность, которой Колфакс явно бравировал. Этот человек, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости придерживаться известных рамок в житейском обиходе. — Нет, черт меня побери! — продолжал Колфакс, ударяя кулаком правой руки по ладони левой. — Если только я не ошибаюсь, наше дело теперь на мази. Давайте, Уайт, пройдемся по этажам и представим его. Уайт важной поступью направился к двери. — С удовольствием, — сказал он. «С этим трудно будет иметь дело», — решил он про себя. Колфакс чувствовал себя на седьмом небе, — ему были свойственны такие порывы; ведь, ухаживая за Юджином, он только упивался собственным величием. Он шел впереди, крупными шагами (несмотря на свой маленький рост), и это тоже свидетельствовало о хорошем расположении духа. Говорил он громко, давая всем понять, что он, Хайрем Колфакс, здесь и преисполнен сил, как и подобает хозяину такого огромного предприятия. В припадке раздражения или когда кто-нибудь ему перечил, он способен был впадать в безудержную ярость и визжать, как женщина, но Юджин еще не знал этого. — Это только один из этажей, занятых типографией, — сказал Колфакс, распахивая дверь в помещение, наполненное оглушительным грохотом гигантских печатных машин. — Мальчик, где Додсон? Позови-ка Додсона! Скажи, чтоб шел сюда! Додсон — старший мастер нашей типографии, — добавил он, поворачиваясь к Юджину, когда работавший у машины ученик помчался искать своего начальника. — Я вам говорил, кажется, что у нас тридцать таких машин. Типография занимает еще четыре этажа. — Да, говорили, — отозвался Юджин. — Действительно огромное предприятие. Я только теперь начинаю понимать, как безграничны возможности такого дела. — Вот именно — безграничны! Все зависит от того, как у вас работает вот это, — и Колфакс постучал пальцем по лбу Юджина. — Если вы как следует справитесь со своим делом, а он со своим, — он повернулся к Уайту, — тогда возможностям этого издательства и в самом деле не будет границ. Поживем — увидим! К ним торопливым шагом подошел Додсон, хитрый и проницательный приспешник Уайта, и с любопытством оглядел Юджина. — Додсон, это — мистер Витла, новый заведующий отделом рекламы. Он должен помочь нам покрывать те непроизводительные расходы, в которые вы меня тут вводите. Витла, это — мистер Додсон, заведующий типографией. Юджин и Додсон пожали друг другу руки. Юджин решил, что разговаривает с какой-то мелкой сошкой, и не уделил этому человечку никакого внимания. Додсон обиделся в душе, но не подал и виду. Он был всецело предан Уайту и чувствовал себя под его крылышком в полной безопасности. Затем они прошли в наборный цех, где целая армия наборщиков возилась у касс и линотипов. Здесь их подобострастно приветствовал маленький толстенький мастер в зеленом полосатом фартуке, сшитом точно из матрацного тика. Присутствие начальства явно нервировало его, и когда Юджин протянул ему руку, он спрятал свою за спину. — Она у меня слишком грязная, — сказал он. — Разрешите считать, что вы ее пожали. Снова объяснения и снова восторженные восклицания по поводу колоссальных масштабов дела. Затем последовал отдел распространения, начальник которого, высокий смуглый мужчина, исподлобья оглядел Юджина, гадая про себя, какое место этот человек займет в деле и какую позицию надо будет занять по отношению к нему. Дома он говорил жене, что Уайт «повсюду тычет нос», и неизвестно, чем это кончится. До него доходили слухи, будто скоро явится новый человек, который возглавит сразу несколько отделов. Так уж не этот ли? Наконец начался обход редакторов, с презрением наблюдавших за триумфальным шествием администрации, так как Колфакс и Уайт в их глазах были грубыми, неотесанными выскочками, всячески афишировавшими свое превосходство. Колфакс любил покричать и разговаривал со всеми свысока. Уайт был черств, злобен и недоступен никаким доводам. Редакторы в душе ненавидели их обоих, но из повиновения не выходили. Страх потерять место держал их в рабской покорности. — Это мистер Марчвуд, — заметил Колфакс пренебрежительно, — редактор «Интернейшнл Ревью». Он считает, что издает замечательный журнал, но мы в этом далеко не уверены. Юджину стало неприятно за Марчвуда. Тот производил впечатление спокойного, серьезного человека, знающего свое дело. — Очевидно, качество журнала определяется у вас только числом подписчиков, — просто отозвался тот, угадывая в улыбке Юджина сочувствие. — И только, и только! — Возможно, что и так, — вставил Юджин. — Но было бы неплохо приучить публику читать хорошие вещи так же охотно, как она читает всякую дрянь. Попытаться во всяком случае стоило бы. Мистер Марчвуд улыбнулся. В этой атмосфере злобной придирчивости слова Юджина прозвучали дружеским участием. — Да, предприятие у вас большое, — сказал Юджин, когда они наконец вернулись в кабинет президента. — Так разрешите мне приступить к работе, и посмотрим, что удастся сделать. — Желаю удачи, дорогой! Всяческих успехов! — провозгласил Колфакс. — Я возлагаю на вас большие надежды, вы это знаете. — Только не слишком большие, — возразил Юджин. — Не забывайте, что я один, а дело огромное. — Знаю, знаю! Но именно этот один мне и нужен — один, поняли? — Понял, понял, — рассмеялся Юджин. — Не унывайте! Я уверен, что мы кое-чего добьемся. — Замечательный парень! — сказал Колфакс Уайту, когда Юджин ушел. — Он сделан из настоящего теста — запомните мои слова, на него можно положиться. У него голова на месте. Ну, Флорри, если только я не ошибаюсь, теперь у нас пойдет работа. Уайт улыбнулся угрюмо, чуть цинично. Он далеко не был в этом уверен. Новичок, возможно, и дельный малый, но что-то уж чересчур независим, в нем слишком сильно сказывается художник. Такой не может быть надежным, преданным работником. Он, конечно, не побежит к нему, Уайту, за советом и, надо ожидать, наделает ошибок. Зарвется. Что же ему пока предпринять, чтобы отразить это покушение на его власть? Развенчать молодца? Разумеется! Впрочем, нечего беспокоиться. Он непременно наделает ошибок. Уайт был уверен в этом.Глава 69
Первые дни после их вторичного возвращения в Нью-Йорк были для Анджелы исполнены радостных надежд. Как это непохоже на ее возвращение сюда к больному мужу, к жизни без всяких перспектив, после семи месяцев тоскливого одиночества! Забыв о прежних сомнениях, она рисовала себе блестящее будущее, видное положение в обществе, достаток. Юджин стал теперь важной персоной. Карьера его совершенно ясно определилась и почти не вызывала опасений. У них были изрядные сбережения в банке. Общая сумма их ценных бумах, дававших в среднем около семи процентов дохода, составляла капитал в тридцать тысяч долларов. Были у них и два земельных участка в Монтклере размером двести футов на двести, стоимость которых, по слухам, все возрастала. Юджин оценивал их приблизительно в шесть тысяч долларов. Он поговаривал о том, чтобы в дальнейшем вкладывать сбережения в бумаги, приносящие более высокий процент, или поместить их в какое-нибудь надежное коммерческое предприятие. А когда — немного погодя — наступит подходящий момент, он, вероятно, бросит издательское дело и вернется к своему искусству. Возможность эта с каждым днем становилась все реальнее. Квартира-студия, которую они выбрали себе в Нью-Йорке, находилась в новом, роскошно отделанном доме на Риверсайд-Драйв близ Семьдесят девятой улицы, где Юджин давно мечтал поселиться, — дом этот был специально приспособлен под студии. Риверсайд-Драйв — район всевозможных выставок (и всеете с тем одна из главных артерий города), с его атмосферой аристократического парка, с великолепной панорамой величавого Гудзона и изумительными закатами — всегда манил к себе Юджина. Когда он впервые приехал в Нью-Йорк, для него было наслаждением бродить здесь, наблюдая поток элегантных экипажей, кативших по направлению к могиле Гранта. Сколько раз, бывало, сидел он днем на этой самой скамье — или чуть подальше — и смотрел, как беззаботные всадники и амазонки веселыми кавалькадами проносились мимо, раскланивались со знакомыми, снисходительно и свысока разговаривали со сторожами и метельщиками парка и лениво любовались рекой. Каким недоступным представлялся ему этот мир! Только миллионеры могут жить в нем, думал Юджин, — так мало понимал он тогда, к каким неожиданностям приводят финансовые махинации. Эти элегантные мужчины в рединготах и бриджах, эти грациозные женщины в черных шляпках, в длинных черных амазонках и желтых перчатках, с изящными короткими хлыстиками, больше похожими на тросточки, — восхищали его. В те времена ему представлялось, что прогулки в парке верхом — привилегия высшей знати. Много воды утекло с тех пор и многое успел Юджин узнать, но эта улица по-прежнему казалась ему средоточием элегантности и роскоши столичной жизни, и именно здесь ему хотелось жить. После долгих обсуждений Анджела была уполномочена приступить к поискам квартиры в девять — одиннадцать комнат, с двумя или более ванными, стоимостью от трех до трех с половиной тысяч в год. И действительно ей попалась превосходная квартира из девяти комнат с двумя ванными, с прекрасной студией — сорок футов на двадцать два и восемнадцать футов в высоту — за три тысячи двести долларов, — плата не слишком высокая при тех средствах, которыми они теперь располагали. Комнаты были прекрасно отделаны старым английским дубом с резьбой в стиле XV века. Что же касается обивки стен, то это оставлялось на усмотрение съемщика, к его услугам было все, что он пожелает, — гобелены, шелк и прочее. Юджин выбрал для своей студии зеленовато-коричневые гобелены, на которых были изображены старинные рейнские замки, а для остальных комнат — голубые или коричневые шелка. Он осуществил также свою давнишнюю мечту, приобретя большое распятие темного дуба с фигурой истекающего кровью Христа, которое поставил в углу, между двух гигантских восковых свечей в высоких массивных канделябрах. Когда зажигали свечи, погасив все другие огни, их колеблющийся свет придавал веселому сборищу гостей своеобразное очарование. Один угол занимал огромный рояль старого английского дуба, а рядом с ним стоял великолепный нотный шкафчик французской работы. В студии были стулья с высокими резными спинками, резной мольберт, на котором стояла одна из лучших картин Юджина, а на черном мраморном пьедестале красовался желтый бюст Нерона, похотливое лицо которого, с явными признаками вырождения, злобно улыбалось миру. Комнату освещали два золоченых канделябра на северной стене в одиннадцать рожков каждый. Из широких двойных окон во всю вышину стен открывался вид на запад — на Гудзон. Одно из них выходило на каменный балкончик, где помещались четыре стула и откуда, с высоты девяти этажей, можно было любоваться набережной. Летом над балкончиком натягивался тент. По ту сторону спокойных вод реки торчали трубы и высилась громада какого-то завода, на рейде всегда стояли суда — военные корабли, грузовые пароходы и парусники, а вверх и вниз по течению сновали взад и вперед бесчисленные мелкие суденышки, за которыми так приятно было следить взглядом и в ясную и в пасмурную погоду. Это была прелестная, хорошо отделанная квартира, и мебель, которую они привезли с собой из Филадельфии, почти вся отлично с ней гармонировала. В эту тихую гавань и причалили они, чтобы насладиться плодами долгой борьбы и относительной победы, приближавшей их наконец к желанной цели — к прочному и нерушимому достатку, которого не могли бы поколебать самые тяжелые удары судьбы. Юджин был счастлив, что добился для себя и для Анджелы той роскоши, комфорта и видного положения, о которых он так долго мечтал. Многие из нас отчетливо представляют себе в мечтах убранство замка, который они когда-нибудь построят, но редко кому выпадает счастье увидеть эти мечты осуществленными. Мы с большим вкусом и знанием дела выбираем картины, и занавеси, и слуг. И вот для Юджина это стало реальностью.Глава 70
Дела издательства во всем, что касалось рекламы, производства и сбыта, вовсе не находились в таком печальном положении, чтобы с помощью такта, деловой сметки и усердной работы нельзя было надеяться их поправить. С приходом Флоренса Уайта в коммерческой и финансовой стороне дела наметился поворот к лучшему. Правда, Уайт не имел представления о том, что такое злободневная статья, интересная книга или ходкое художественное издание, но он обнаруживал исключительную сметливость, когда речь шла о производстве, снабжении, сбыте и умелом руководстве рабочей силой с точки зрения ее стоимости и эффективности; это и сделало его влиятельным человеком и заставляло с ним считаться. Нанимая людей, он с первого взгляда видел, насколько работник сведущ в своем деле. Он знал, где какие книги могут найти сбыт, закупал бумагу огромными партиями и по самой выгодной цене и умел свести к минимуму типографские и прочие накладные расходы. Ни один цент не тратился нерационально. Он умел использовать машины до их предельной мощности — с помощью графиков, в значительной мере снижавших непроизводительную трату энергии, и при минимальном количестве обслуживающего персонала. У него были вечные конфликты с профессиональными союзами, так как последние протестовали против его жестких методов, исключавших всякий параллелизм в работе и тем самым сокращавших число занятых рабочих. Он правил железной рукой и был несдержан, непристойно груб и циничен в обращении с представителями профсоюзов, — там его боялись, но и считались с ним. Хуже обстояло дело с рекламой, и это объяснялось тем, что журналы, которым отдел рекламы должен был поставлять клиентов, находились на крайне низком уровне. Они были оторваны от жизни, они не умели опережать мысли и настроения своего времени, и читающая публика в поисках духовной пищи должна была обращаться к другим источникам. Когда-то эти журналы выходили большим тиражом и пользовались популярностью. Это было в ранние дни их существования, когда первые их издатели и редакторы были в расцвете сил. А потом наступила усталость, безразличие, начался разброд. Лишь с приходом к власти Колфакса появилась надежда на оживление. Как уже говорилось, он стремился подобрать для каждого участка работы энергичных людей, но прежде всего искал такого человека, который указал бы ему, как управлять этими энергичными людьми, коль скоро он их заполучит. От кого будут исходить идеи, которые могли бы приковать внимание читающей публики к тому или другому журналу? Кто привлечет к его книжному издательству крупных, признанных писателей? Кто вызовет в людях, руководящих отделами, то воодушевление, которое обеспечит издательству всеобщее признание и материальный успех? Возможно, что Юджин и окажется тем человеком, которого он надеялся найти, — но когда это еще будет? Теперь, имея Юджина в своем распоряжении, Колфаксу хотелось подтолкнуть его и поторопить. Юджину не понадобилось много времени, чтобы оценить истинное положение вещей в издательстве. Его сотрудники, которых он созвал на совещание, все в один голос жаловались на падение тиражей. — Говорите что угодно, мистер Витла, — мрачно заявил один из них, — но все дело в тиражах. Нужно поднять престиж наших журналов. Промышленники прекрасно знают, когда реклама дает результаты. Мы все время гонимся за новыми клиентами, но не можем их удержать. Нет, не можем. Нас подводят журналы. Что прикажете делать? — Я вам скажу, что мы сделаем, — спокойно ответил Юджин. — Мы прежде всего постараемся подтянуть журналы. Насколько мне известно, кое-какие шаги в этом направлении уже предприняты. Журналы постепенно улучшаются. Производственный отдел, кстати, находится в прекрасном состоянии. В скором времени хорошо заработают и редакции. Но я хочу, чтобы вы, друзья мои, и при существующих условиях проявили всю энергию, на какую только способны. Я приложу все усилия к тому, чтобы не производить никаких перемен в штатах этого отдела. Я научу вас, каждого в отдельности, как добиваться цели. Мне бы хотелось, чтобы вы прониклись сознанием, что наше предприятие — самое крупное в мире и что мы в силах преодолеть все препятствия на нашем пути. Посмотрите на мистера Колфакса! Неужели вы думаете, что этот человек способен потерпеть поражение? Мы — может быть, но он — никогда! Сотрудникам нравилось и обращение Юджина и его решительный тон. Его вера в их способности льстила им, и не понадобилось и десяти дней, как он полностью завоевал их уважение. Он брал с собой домой, вернее в гостиницу, где они с Анджелой временно поселились, все новые номера журналов и внимательно знакомился с ними. Он приносил с собой только что вышедшие книги и просил Анджелу прочитать их. Он старался представить себе, каким должно быть лицо каждого журнала, кто тот человек, который вдохнет в них силу и жизнь, и где его найти. Вдруг ему пришел на ум подходящий кандидат в редакторы журнала приключений. Этот человек, с которым Юджин был знаком уже много лет, добился значительных успехов, работая в воскресном приложении одной газеты. Его звали Джек Безина. Он начал свою деятельность писателем левого направления, но потом угомонился и стал ловким журналистом. За последние годы Юджин несколько раз встречался с ним, и каждый раз тот удивлял его своими смелыми и разумными суждениями о жизни. Однажды в разговоре Юджин сказал: — А знаете, Джек, вам следовало бы издавать свой собственный журнал. — И буду издавать, и буду! — последовал ответ. И вот теперь, занявшись подбором людей, Юджин подумал о Безине, как о человеке, которого стоило привлечь в журнал, так как нынешнего редактора он находил уж слишком вялым. Для еженедельника нужен был человек вроде Таунсенда Миллера, но где найти такого! У нынешнего редактора бывали интересные идеи, однако он недостаточно принимал во внимание требования широкого читателя. Юджин заходил к редакторам различных журналов, якобы для того, чтобы познакомиться с ними, а на самом деле, чтобы приглядеться к их работе, но ни один из них не удовлетворял его. Убедившись в том, что его собственный отдел не нуждается в его неотступном внимании, он однажды сказал Колфаксу: — Хуже всего у нас работают редакции. Я как следует познакомился с моим отделом, и он, как я убедился, не настолько безнадежен, чтобы нельзя было наладить работу. О журналах этого не скажешь. Я бы хотел, чтобы вы мне разрешили произвести кое-какие перемены, — безотносительно к вопросу о моем окладе. У вас там совсем не те люди, какие вам нужны. Я постараюсь действовать не слишком круто, но считаю, что замена кое-кого из редакторов делу не повредит. — Все это мне известно! — сказал Колфакс. — Давно известно! Но что же вы предлагаете? — Да просто привлечь лучших работников, — ответил Юджин. — Новых сотрудников с новыми идеями. Это, возможно, приведет на первых порах к некоторым лишним расходам, но в конечном итоге они окупятся, и с избытком. — Вы правы! Вы правы! — с воодушевлением воскликнул Колфакс. — Я давно жду, чтобы кто-нибудь, с чьим мнением можно и стоит считаться, пришел и сказал мне то, что я услышал от вас. Можете хоть сейчас взять руководство в свои руки, с моей стороны возражений не будет. И одновременно вы начнете получать обещанный оклад. Но позвольте вам сказать кое-что. Вы приступаете к делу, облеченный всеми полномочиями. Так не вздумайте же оступиться, расшибить себе нос, выдохнуться или наделать ошибок. Если что-нибудь подобное случится, — помоги вам бог! Я вас живьем проглочу! Я хороший хозяин, Витла, я готов сколько угодно платить хорошему работнику — в пределах благоразумия, конечно, — но если я вижу, что человек морочит меня или делает не то, что следует, тогда я не знаю пощады!.. Я человек простой и того, кто так поступит со мною, я пошлю к… (он непечатно выругался). Вот все, что я могу сказать о себе. Теперь мы понимаем друг друга. Юджин в изумлении смотрел на своего собеседника. Уже не в первый раз ловил он в глазах Колфакса этот жесткий, холодный блеск. От него, казалось, исходил электрический ток, в его взгляде было что-то сатанинское. — Нечто в этом роде мне однажды уже было сказано, — ответил Юджин, вспомнив Саммерфилда и его слова насчет мусорного ящика. Он никак не ожидал, что чуть ли не на другой же день после его вступления в должность с ним будут говорить таким холодным, таким безапелляционным тоном. Но факт остается фактом — он здесь и отступления быть не может. В эту минуту он пожалел, что ушел от Кэлвина. — Я нисколько не боюсь ответственности, — сухо продолжал он. — Я не собираюсь ни оступаться, ни расшибать себе нос, ни делать ошибок, — если это будет в моих силах. А если это все-таки случится, я не приду к вам жаловаться. — Ну что ж, мое дело было предупредить вас, — ответил Колфакс, снова добродушно улыбаясь. Холодный блеск в его глазах погас. — И то, что я вам сказал, вызвано самыми благими побуждениями. Я окажу вам поддержку всем своим авторитетом и властью, но если вы сорветесь, один лишь бог поможет вам, — я не помогу. Он вернулся к своим занятиям, а Юджин отправился наверх. У него было такое ощущение, словно его облачили в красную мантию кардинала и в то же время занесли над ним топор. Придется обдумывать каждый шаг. Придется действовать с оглядкой, но тем не менее — действовать. Вся власть отдана в его руки, все полномочия. Он может сию минуту отправиться наверх и уволить любого служащего, и Колфакс поддержит его, — но уволенного надо заменить другим. И нужно сделать это быстро и с пользой для дела. Да, должность серьезная — почетная, но нелегкая. Прежде всего Юджин вызвал Безину. Они уже давно не виделись, но бланк корпорации, в углу которого значилось «Секретариат директора издательства», возымел действие. Довести таким образом до всеобщего сведения — а ведь здесь работало немало опытнейших литераторов, — что он — директор издательства, было довольно смело, но это нисколько не смущало Юджина. Надо же когда-нибудь начать, а эти бланки уже в процессе их изготовления лучше всякого приказа оповестят сотрудников, что он взял бразды правления в свои руки. Весть эта, точно степной пожар, распространилась по всему зданию, так как в секретариате Юджина было достаточно народа (начиная с его стенографисток), чтобы разнести ее. Редакторы и их помощники недоумевали, что бы это могло значить, но не задавали вопросов, разве только в разговорах между собой. Никакого приказа не последовало. На таком же бланке Юджин написал письмо Адольфу Моргенбау, который прекрасно зарекомендовал себя, когда был его помощником у Саммерфилда, а теперь занимал пост заведующего художественным отделом журнала «Сфир», с каждым днем приобретавшего все большую популярность. Юджин решил, что Моргенбау вполне может взять на себя заведование всей художественной частью под его, Юджина, руководством, и он не ошибся. Моргенбау успел приобрести значительный опыт; он показал себя человеком большой инициативы и ума. Ему было чрезвычайно приятно снова работать вместе со своим старым шефом. Юджин расспросил также различных специалистов рекламного дела, художников и писателей, кого они считают наиболее энергичными людьми в издательском деле, и пригласил этих лиц для переговоров. Они стали приходить к нему один за другим, так как по городу разнеслась весть, что Витла вернулся в Нью-Йорк и взял на себя руководство в «Юнайтед мэгэзинс» не только отделом рекламы, но и редакциями. Вскоре это стало известно всем, кто имел какое-либо касательство к искусству, литературе, рекламе и редакторской работе. Люди, знавшие Юджина в прошлом, не верили своим ушам. Откуда у него такие таланты? Вскоре Юджин сказал Колфаксу, что настало время сообщить всем сотрудникам о его новом назначении. — Я достаточно присмотрелся к делу, — сказал он, — и составил мнение о том, как нужно действовать. В кабинет президента были вызваны редакторы журналов, заведующие отделами и крупные работники книгоиздательства, и Колфакс заявил, что желает сделать сообщение, касающееся всех собравшихся. — Делами издательства будет руководить теперь мистер Витла, которого вы здесь видите. Я предоставляю ему самые широкие полномочия, так как убедился, что он разбирается в деле лучше, чем я, и хочу, чтобы впредь вы обращались к нему за советом и руководством, как до сих пор обращались ко мне. Мистер Уайт будет по-прежнему заниматься вопросами производства и сбыта. Мистер Уайт и мистер Витла будут работать рука об руку. Вот и все, что я хотел вам сказать. Сотрудники разошлись, и Юджин вернулся в свой кабинет. Он решил прежде всего найти специалиста по рекламе, который мог бы выполнять его указания и вести дело не хуже его. Потратив довольно много времени на поиски такого человека, он наконец нашел его в лице одного из служащих компании «Рикерт», о котором слышал в прошлом как об исключительно дельном работнике. Картер Хейз, энергичный мужчина тридцати двух лет, горевший желанием выдвинуться, охотно принял это предложение, так как увидел в нем большие возможности. Лично к Юджину он не чувствовал особой симпатии, считая, что этого человека переоценили, но все же решил поработать у него. Юджин положил ему десять тысяч долларов в год и, наладив таким образом работу рекламного отдела, все внимание сосредоточил на своих новых обязанностях. И редакторская работа и издательское дело были для Юджина с точки зрения организаторской совершенно новой областью. Он разбирался в них много хуже, чем в вопросах искусства и рекламы, и с самого начала допустил ряд ошибок. Первая заключалась в предвзятом мнении, будто все сотрудники издательства так или иначе требуют замены просто потому, что неудовлетворительны самые журналы, тогда как на самом деле в издательстве был целый ряд превосходных работников. Задавленные неблагоприятными условиями работы, они ожидали только малейшего признания своих заслуг, чтобы развернуться. Вторая его ошибка заключалась в том, что, не зная, какой линии придерживаться в отношении того или другого издания, он не желал прислушиваться к голосу тех, кто мог бы дать ему разумный совет. Ему следовало бы действовать исподволь, изучать своих ближайших помощников, знакомиться с их методами работы и помогать им тактичным советом. Вместо этого он решил произвести коренную ломку и приступил к ней, даже не успев как следует оглядеться. Марчвуд, редактор «Интернейшнл ревью», был уволен, так же как и Гейлер, редактор еженедельника. К редактированию журнала приключений был привлечен Безина. Надо сказать, что ни в одном предприятии такого рода нельзя добиться больших успехов сразу — нужны недели и даже месяцы, чтобы стали заметны какие-то сдвиги. И вот вместо того, чтобы всю ответственность за тот или иной отдел возложить на своих помощников и предоставить им полную самостоятельность, лишь время от времени делая свои указания, Юджин старался вникать во все сам. Это было нелегко, и временами он запутывался. Ему нужно было еще многому учиться. Зато у него возникало много интересных предложений по самым разнообразным вопросам, и это не замедлило дать свои результаты. Журналы заметно изменились к лучшему. Как только вышли первые номера, на которых сказалось влияние Юджина и его нового штата, они тотчас же подверглись самому тщательному изучению со стороны Колфакса и Уайта. Особенно Уайту не терпелось знать, в чем заключаются эти новшества, и, если он не в состоянии был судить сам, то к его услугам было мнение других. Почти все отзывы были положительные — к великому его разочарованию, так как он надеялся, что именно журналы дадут материал для критики нового директора. На Колфакса большое впечатление произвела решительность Юджина и легкость, с какою тот принимал на себя огромную ответственность, и он все больше восхищался им. К тому же общество Юджина доставляло ему удовольствие, и по окончании работы он частенько приглашал его к себе обедать. В отличие от Кэлвина он в таких случаях обычно не упоминал об Анджеле, так как, познакомившись с нею, не почувствовал к ней интереса. «Очень милая женщина, — решил он, — но без блеска, не то что муж». К тому же миссис Колфакс отозвалась о ней пренебрежительно. Колфакс от души жалел, что Юджин не холост. Время шло. По мере того как Юджин ближе знакомился с делом, он становился все увереннее и спокойнее. Всякий, кто когда-либо занимал сколько-нибудь важный административный пост, знает, как легко, при наличии необходимых знаний и таланта, привлекать к себе на службу энергичных и способных людей. Родственные души тянутся друг к другу, и тот, кто хочет добиться в этом мире признания своих способностей, естественно рад видеть в человеке, занимающем высокий пост, своего соратника и собрата. Работники рекламного дела, художники, редакторы, критики, писатели и все те, кто понимал и ценил Юджина, видя в нем своего человека, лавиной устремились к нему, — их было столько, что вскоре он стал направлять просителей к заведующим отделами. Постепенно обстоятельства приучили его в известной степени полагаться на своих помощников, а раз начав, он уже склонен был впасть в противоположную крайность и стал слишком полагаться на них. Особенное доверие внушал ему своей деловитостью Картер Хейз, заведующий отделом рекламы, и Юджин полностью препоручил ему всю практическую часть работы, знакомясь только с его планами и приходя на помощь советом в затруднительных случаях. Тот ценил это, так как был чрезвычайно самолюбив, но подобное отношение отнюдь не зародило в нем чувства преданности. Он видел в Юджине человека, случайно попавшего на такой крупный пост, и считал, что он чужд рекламному делу. Хейз надеялся, что в недалеком будущем в издательстве произойдут перемены, и тогда он станет полноправным заведующим отделом рекламы и будет иметь дело непосредственно с Колфаксом и Уайтом, на которых он и решил делать ставку как на лиц, имеющих финансовый интерес в предприятии. Были у Хейза единомышленники и в других отделах. Существенным недостатком Юджина было то, что он не умел добиться преданности своих помощников. Он воодушевлял их, подсказывал им полезные мысли, но они, как правило, использовали его замыслы в своих собственных интересах, стараясь поскорее выдвинуться и стать независимыми. Оттого, что Юджин не был ни горд, ни высокомерен, ни придирчив, с ним вскоре переставали считаться. Люди, которых он выбирал (а он обладал даром отыскивать исключительно способных работников, порою значительно превосходивших его в своей области), скоро начинали видеть в нем не столько начальника, сколько удачливого соперника, который стал им поперек дороги. Он производил впечатление на редкость добродушного, на редкость мягкого человека. Иногда он, правда, давал себе труд поставить кого-нибудь из них на место, но в общем отношение сотрудников мало его трогало. Дело шло хорошо, журналы завоевывали популярность, отделы рекламы и распространения достигли заметных успехов, и жизнь Юджина, казалось, стала приближаться к полному расцвету. Случались бури, бывали затруднения, но все это не носило серьезного характера. В трудные минуты Колфакс всегда готов был дать ему совет, да и Уайт неизменно выражал к нему дружеские чувства, которых отнюдь не испытывал.Глава 71
Опасность положения заключалась в том, что жизнь слишком баловала теперь Юджина, доставляя ему больше власти, довольства и роскоши, чем он когда-либо имел, и это превращало его в восточного властелина не только среди его многочисленных подчиненных, но и в собственном доме. Анджела, с величайшим интересом следившая за всеми перипетиями его карьеры, уверовала, наконец, в его гениальность и в то, что ему суждено достигнуть вершин в искусстве, или литературе, или в финансовом мире, если не во всех трех сферах сразу. Она по-прежнему строго наблюдала за его нравственностью, будучи больше чем когда-либо убеждена, что достигнуть тех головокружительных высот, к которым Юджин поднимался так быстро, можно, только соблюдая величайшую осмотрительность. Ведь люди следят за каждым его шагом. Пусть они раболепствуют, от этого они не менее опасны. В его положении надо быть в высшей степени осторожным, все тщательно обдумывать — и как одеться, и что сказать, и как вести себя. — Да не шуми ты из-за всяких пустяков, — отвечал ей обычно Юджин. — Оставь меня, ради бога, в покое! И они начинали ссориться, так как Анджела твердо решила направлять его жизнь по надлежащему руслу, даже вопреки его желаниям. Солидные люди из различных кругов общества — художники, литераторы, филантропы, коммерсанты — стали искать знакомства с Юджином, во-первых, потому, что он был человек широких и разносторонних интересов, во-вторых (и это было много важнее) — потому, что он стоял у источника земных благ. Всегда и во всех слоях общества находятся люди, которые стараются чего-то добиться с помощью счастливцев; есть и другие, которые стремятся стать спутниками восходящего светила, чтобы сверкать его отраженным светом, — эти две категории и составляют обычно свиту баловня судьбы. У Юджина была своя свита из мужчин и женщин, стоявших на одном с ним уровне или ниже, которые горячо жали ему руку и льстивовосклицали: «Директор «Юнайтед мэгэзинс»? Очень, очень приятно!» Особенно ласково улыбались женщины, обнажая ровные белые зубки и с грустью отмечая, что все красивые и преуспевающие мужчины женаты.В июле того же года, когда супруги переехали из Филадельфии в Нью-Йорк, издательство перебралось в новое здание, и Юджин водворился в кабинете, превосходившем по роскоши все помещения, в каких ему когда-либо приходилось работать. Некий ловкий сотрудник, желая снискать расположение нового директора, предложил устроить сбор и купить цветы. Кабинет, отделанный в светлых голубых и золотистых тонах и обставленный мебелью розового дерева (чтобы комната выделялась из общей декоративной системы и производила большее впечатление), был весь уставлен букетами роз, душистого горошка и гвоздики в прелестных вазах всевозможных форм, расцветок и стилей. Цветы стояли на огромном письменном столе, покрытом толстым зеркальным стеклом, сквозь которое блестело полированное дерево. В первое же утро Юджин устроил импровизированный прием, и по этому случаю его навестили Колфакс и Уайт, ознакомившиеся предварительно со своими собственными кабинетами. Недели три спустя состоялся грандиозный вечер с участием виднейших представителей столичного общества, и приглашенные — художники, писатели, редакторы, издатели, публицисты и специалисты рекламного дела — увидели Юджина во всем блеске. Вместе с Колфаксом и Уайтом он играл роль хозяина. Неискушенные юнцы издали восхищались новым директором и недоумевали, как он сумел взлететь так высоко. Карьера его была поистине молниеносна. Казалось невероятным, чтобы человек, начавший жизнь художником, был так высоко вознесен фортуной и теперь в качестве главы одного из крупнейших издательств вершил судьбы литературы и искусства. Но не меньшим ореолом был окружен Юджин у себя дома; здесь он чувствовал себя таким же властелином, как в своем служебном кабинете. Даже когда они оставались с Анджелой вдвоем (что случалось не слишком часто, так как они отдавали много времени приемам), он казался ей теперь другим человеком. Правда, она давно привыкла думать о нем как о человеке, который со временем займет выдающееся место в мире искусства. Но Юджин — одна из виднейших фигур коммерческой жизни столицы, Юджин — представитель крупнейшего нью-йоркского издательства, Юджин — с собственным автомобилем и лакеем, Юджин, завтракающий в самых фешенебельных ресторанах и клубах и всегда находящийся в обществе значительных людей, — это совсем другое дело. Она уже далеко не была так уверена в себе и в душе начинала сомневаться в своей власти над ним. И теперь еще, случилось, они ссорились из-за пустяков, но Анджела не обнаруживала былой готовности затевать такие ссоры. Ей казалось, что Юджин уже совсем не тот, что он стал еще более непроницаем. Ее по-прежнему беспокоила мысль, что он может сделать какой-нибудь промах и все потерять, что злой рок, недоброжелательство, зависть, без которых не обходится, очевидно, жизнь и которые налетают внезапно, как разрушительный ураган, могут повредить ему. Юджин, по-видимому, был совершенно спокоен, хотя порою, задумываясь о своем будущем, он испытывал тревогу; ведь он не состоял в издательстве пайщиком и так же зависел от Колфакса, как любой мальчишка-рассыльный, разве что без него не так легко было обойтись. Но пока что он работал хорошо, и Колфакс был им доволен. Правда, его удивляло, что производственные графики систематически нарушаются и что срываются все сроки выпуска журналов, но у Уайта всегда находилось этому оправдание. Колфакс приглашал Юджина к себе на дачу или в свой охотничий домик в горах, они катались вместе на его яхте или удили рыбу. Беседы с молодым художником, видимо, доставляли ему удовольствие, но Анджелу он приглашал редко — почти никогда. Он, очевидно, не считал это нужным. А Юджин не решался дать ему понять, что его поведение оскорбительно, хоть и ежился внутренне при мысли о том, как смотрит на это Анджела. Колфакс не отпускал Юджина ни на шаг. Только и слышно было: «Где вы пропадаете, дорогой?» — он, казалось, минуты не мог без него обойтись. — Что ж, мой милый, — говорил он, оглядывая его с ног до головы, точно перед ним была чистокровная лошадь или породистая собака, — вид у вас прекрасный. Работа, очевидно, идет вам на пользу. Не таким вы были, когда в первый раз приезжали ко мне, — и он щупал материю, из которой был сшит последний костюм Юджина, высказывал свое мнение о его галстуке или булавке, или замечал, что обувь у него несколько не дотягивает до совершенства. Колфакс ухаживал за своей «находкой», как ухаживают за чистокровным рысаком. Он постоянно рассказывал Юджину всякие подробности из жизни избранного общества, наставлял его насчет того, где бывать и что смотреть, словно Юджин был совершенным невеждой. — Кстати, когда мы в пятницу поедем к миссис Сэвидж, захватите с собой тракстонский чемодан — вы видели их? Они сейчас в большой моде. А есть у вас лондонское пальто? Обязательно заведите. В этих домах слуги все ваши вещи пересмотрят и сделают соответствующее заключение. И не забудьте: каждому по два доллара чаевых, а дворецкому — пять. Этот тон был чрезвычайно неприятен Юджину, как неприятно было, что Колфакс игнорирует Анджелу, но он не осмеливался возражать. Он видел, что Колфакс изменчив в своих симпатиях, что он может так же возненавидеть, как и полюбить, и что середины для него не существует: Сейчас Юджин был любимцем. Собираясь куда-нибудь на воскресенье, Колфакс говорил Юджину: — Я пришлю за вами машину ровно в два (как будто у того не было своего автомобиля). Смотрите же, будьте готовы. В назначенный день ровно в два огромный синий лимузин Колфакса подкатывал к дому, лакей Юджина выносил чемоданы, принадлежности для гольфа и тенниса и всякие мелочи, которые могли понадобиться его хозяину, и машина уезжала. Иногда Анджела оставалась дома, порою же, когда Юджину удавалось это устроить, он брал ее с собой; но он убедился, что лучше соблюдать такт и мириться с пренебрежением, выказываемым его жене. Он всячески старался успокоить ее. Отчасти ему было жаль Анджелу, но, с другой стороны, он чувствовал, что Колфакс в известной мере прав, делая между ними различие. Анджела не совсем подходила к тому обществу, где стал вращаться Юджин. Люди там были суше, дипломатичнее, чем Анджела, они лучше владели собой. Не по ней были эти искусственные манеры и интонации, эта наигранность чувств, и вряд ли она когда-нибудь их усвоит. На самом деле Анджела была не менее — если не более — изящна и мила, чем многие представительницы «четырехсот семейств», но она не обладала ни бойкостью ума, ни плоским и пошлым самодовольством или развязной самоуверенностью тех, кто блистает в высшем свете. А Юджин легко подражал их манерам, независимо от своих истинных чувств. — О, это не важно, — говорила в таких случаях Анджела. — Ведь ты так поступаешь из деловых соображений. Но все же это обижало ее, и даже очень. Анджела чувствовала себя в таких случаях оплеванной. Но делать было нечего. Колфакс подбирал угодное ему общество, ничем не стесняясь. Он считал, что Юджин годится для светской жизни, а Анджела — нет, и, не задумываясь, подчеркивал это различие. Таким образом, Юджин познакомился с интересным явлением в жизни привилегированных кругов: он узнал, что здесь нередко принимают одного из супругов, но не принимают другого, и это считается в порядке вещей. — Это, кажется, Берквуд, — сказал однажды при нем некий молодой щеголь, отзываясь об одном филадельфийце. — И зачем только его приглашают? Жена у него очаровательная. Но сам он совершенно невозможен. В другой раз в Нью-Йорке он был свидетелем того, как дочь хозяйки, узнав о приходе дамы, муж которой сидел тут же за столом, спросила мать: — Кто ее пригласил? — Я, право, не знаю, — отвечала та. — Только не я. Вероятно, явилась по собственному желанию. — Надо же быть такой бесцеремонной! — пробормотала дочь. Когда эта женщина вошла, Юджин понял, в чем дело. Она была некрасива и неумело и безвкусно одета. Юджина поразило такое отношение, однако отчасти он его понимал. Но ведь этого нельзя сказать об Анджеле. Она хороша собой, стройна, изящна. Единственное, чего ей не хватает, это томно-пресыщенного выражения. Ну что ж, очень жаль. У себя дома и в своем кругу он старался вознаградить ее за это приемами, которые раз от разу становились все более блестящими. Вначале, когда они только приехали из Филадельфии, Юджин просто приглашал к обеду несколько человек — обычно старых друзей, — так как еще не слишком был уверен в себе и не знал, кто пожелает прийти и поздравить его с новыми успехами. Он и сейчас не возгордился, сохранив теплое чувство к тем, кого знал в молодости. Правда, теперь как-то само собой получалось, что он сходился главным образом с богатыми, видными людьми. Но он по-прежнему любил своих скромных друзей, которые были дороги ему и в память о минувших днях, и просто сами по себе. Многие приходили занять денег — в прежние времена Юджин часто завязывал дружбу с такими людьми, из которых выходят вечные неудачники. Но главным образом их привлекала его слава. Юджин был близко знаком с большинством своих выдающихся современников, видных деятелей искусства и литературы, и в их обществе проводил много приятных часов. За его столом можно было встретить художников, издателей, оперных певиц, актеров и драматургов. Его видный пост, его квартира, расположенная в таком прекрасном месте, и радушное гостеприимство — все это завербовывало ему друзей. Он любил подчеркнуть, что нисколько не изменился, что ценит людей простых, милых, безыскусных, что именно это и есть великие люди, и сам не сознавал при этом, каким разборчивым стал в знакомствах. Его тянуло к людям богатым, с именем, к людям красивым, сильным и одаренным, — другие его уже не интересовали. Он их почти не замечал. Разве только, чтобы пожалеть или подать милостыню. Тому, кто никогда не знал перехода от бедности к роскоши, от неприглядного серенького существования к изысканной светской жизни, трудно и представить себе, до какой степени эти новые впечатления покоряют и очаровывают неопытную душу, заново перекрашивая весь мир. Жизнь, кажется, только и делает, что создает новые обольщения и совершенствует иллюзии. Собственно говоря, все в жизни — иллюзия и обольщение, кроме разве той первичной субстанции или принципа, который лежит в основе мироздания. Таким обольщением является жизненная гармония для тех, кто знал в жизни одну лишь борьбу, а людям, которые всегда жили в бедности, роскошь представляется прекрасной мечтой. Юджин, благоговевший перед красотой и ценивший все то изощренное и совершенное, что способен создать изобретательный ум человека, всецело подпал под обаяние более утонченного мира, который теперь его окружал и влиянию которого он незаметно для себя все больше поддавался. Он необычайно быстро усваивал все новое, на чем останавливался его глаз или что давало особенное удовлетворение его эмоциональной натуре. Ему уже казалось, что он всегда жил этой жизнью избранных, неотъемлемыми атрибутами которой были загородные дома, роскошные особняки, городские и загородные клубы, дорогие отели, туристские гостиницы, автомобили, курорты, красивые женщины, изысканные манеры, требовательный и тонкий вкус и общая слаженность и гармония. Вот где был тот истинный рай, то воплощение материального и духовного совершенства, о котором мечтал мир и к которому он постоянно стремился, изнывая от тяжелого труда, беспорядка, убожества мысли, душевного разлада, взаимного непонимания и всяческих неустройств, представляющих удел человека на земле. Здесь, казалось, не знали болезней, усталости, расшатанного здоровья, превратностей судьбы. Все, что вызывает беспокойство, что вносит разлад, все, что есть неприглядного в человеческом существовании, тщательно скрывалось, и глаз видел только красоту, здоровье и силу. По мере того как Юджин достигал новых ступеней благосостояния, его все больше поражало, с какой готовностью и рвением сама жизнь как будто поощряет здесь пристрастие к роскоши. Он увидел столько незнакомого и увлекательного для него как для художника — великолепные загородные виллы, содержавшиеся в образцовом порядке, загородные клубы, отели и приморские курорты на лоне неподражаемо живописной природы. Он узнал, как безупречно организованы все виды спорта, развлечений и путешествий для избранных, узнал, что есть тысячи людей, которые этому посвящают всю жизнь. Правда, такая беззаботная жизнь была ему не по карману, но он получил возможность проводить в этих удовольствиях хотя бы свой досуг и мечтал о том, что когда-нибудь ему можно будет совсем не работать. Он знал, что прогулки на яхте и в автомобиле, игра в гольф, рыбная ловля, охота, теннис или поло являются единственным занятием многих богачей и что среди них числятся даже рекордсмены. Карты, танцы, банкеты, просто безделье — вот все, что, казалось, наполняло целые дни множества его знакомых. Юджин мог только восхищаться такой жизнью, как мимолетным зрелищем, но и это было неплохо, — раньше ему даже одним глазом нельзя было на это взглянуть. Он начинал понимать, как организован мир, каких высот достигает богатство, в каких пучинах тонет бедность. От унизительной бедности до вершин благополучия — какое расстояние! Анджела не поспевала за Юджином в этих его внутренних блужданиях. Правда, она одевалась теперь только у лучших портних, покупала прелестные шляпки и самую дорогую обувь, разъезжала в наемных экипажах и в автомобиле своего мужа, но воспринимала она все иначе, нежели он. Эта жизнь представлялась ей сном наяву, счастьем, нахлынувшим так внезапно и в таком изобилии, что в долговечность его не верилось. Она не могла отрешиться от мысли, что Юджин в сущности и не издатель, и не редактор, и не финансист, а только художник и художником останется. Возможно, что его случайная профессия даст ему богатство, и славу, и деньги, но когда-нибудь он все это бросит и вернется к искусству. Свои сбережения он вкладывал в верные предприятия, — по крайней мере ей они казались верными, — и эти ценные бумаги, преимущественно такие, которые всегда можно было превратить в наличность, представлялись ей надежным обеспечением на будущее, гарантией душевного покоя. Но откладывали они немного. У них уходило на жизнь около восьми тысяч в год, и расходы не только не уменьшались, а постоянно росли. Юджин становился все более расточительным. — Не слишком ли часто мы устраиваем приемы? — пыталась однажды запротестовать Анджела. Но он только беспечно отмахнулся, сказав: — Мне нельзя иначе, раз я занимаю такой пост. Наши приемы создают мне престиж. Люди в моем положении вынуждены это делать. В конце концов у Юджина стали бывать действительно выдающиеся люди, самые блестящие представители различных кругов и профессий. Они ели за его столом, пили его вина, завидовали его богатству и мечтали занять его место. Между тем Анджела и Юджин не только не сближались духовно, а, наоборот, отдалялись друг от друга. Анджела ничего не забыла, она так и не простила Юджину его ужасной измены и не верила, что он окончательно излечился от своих гедонистических наклонностей. В их доме бывало много красивых женщин, для которых Анджела устраивала то чай, то завтрак или вечерний прием. С помощью Юджина затевались интересные вечера, так как ему не стоило никакого труда собрать у себя талантливых музыкантов, актеров, литераторов и художников. Среди его знакомых было много мужчин и женщин, которые умели делать с присутствующих моментальные наброски карандашом или углем, показывать фокусы, выступать с имитациями, петь, танцевать, играть, декламировать, рассказывать смешные анекдоты. Он настаивал на том, чтобы приглашения рассылались только признанным красавицам, так как ему не доставляло никакого удовольствия смотреть на уродин, и, как ни странно, находились десятки женщин, которые не только были необычайно красивы, но к тому же и пели, танцевали, играли на сцене, сочиняли романсы, рассказы и драмы. Почти все они были прекрасными собеседницами, их нетрудно было развлекать, — вернее, они сами себя развлекали. Излюбленным номером Юджина, по его собственному выражению, было втиснуть человек пятнадцать — двадцать в три-четыре машины и в три утра, после званого вечера, отправиться в загородный ресторан завтракать и любоваться восходом солнца. Такой пустяк, как семьдесят пять долларов за автомобили или тридцать пять долларов за завтрак, нисколько его не смущал. Какое это ни с чем не сравнимое удовольствие — достать кошелек и вынуть четыре, пять или шесть десятидолларовых бумажек, зная, что такой расход тебе нипочем: ведь будут еще деньги, и из того же источника. Юджин мог в любое время послать к кассиру за пятьюстами или тысячей долларов. Он всегда имел при себе от ста пятидесяти до двухсот долларов наличными, не говоря уже о чековой книжке, и чаще всего расплачивался чеками. Ему было приятно доказывать себе, что его имя всем известно, и его действительно все знали. «Юджин Витла! Юджин Витла! Еще бы! Замечательно милый человек!» Или: «Это просто изумительно, как ему удалось так высоко взлететь!» Или: «Я был вчера у Витлы. Смею вас уверить, что вы в жизни не видали такой очаровательной квартиры! Просто чудо! Какой у них там замечательный вид!» Люди делились друг с другом впечатлениями о значительных лицах, которых приглашал Юджин, о знаменитостях, которых можно встретить в его доме, о красивых женщинах и о чудесной панораме, открывавшейся из его окон. «А миссис Витла — какая милая женщина!» Но во всех этих разговорах было немало пренебрежения и зависти, а в отзывах о миссис Витла обычно недоставало тепла. Она не считалась такой обаятельной личностью, как ее супруг, хотя мнения на этот счет расходились. Те, кто искал в людях ум, лоск, остроумие, непринужденность обхождения, превозносили Юджина и далеко не так симпатизировали Анджеле. Те же, кто ценил в человеке положительность, искренность, постоянство и такие безыскусственные добродетели, как преданность и трудолюбие, восхищались Анджелой. Всем было ясно, что она — верная слуга своего мужа, что она перед ним преклоняется. «Очаровательная маленькая женщина, совсем в домашнем вкусе. Непонятно, как он мог на ней жениться. Они так не похожи друг на друга. И все-таки между ними, кажется, много общего. Странно, не правда ли?»
Глава 72
В те дни, когда Юджин приближался к вершине своего успеха, на его пути снова появился Кенион С. Уинфилд, — Уинфилд, бывший сенатор штата Нью-Йорк, президент Лонгайлендской компании недвижимых имуществ, основатель новых поселков, скупщик земельных участков, финансист, художник, человек, близкий Юджину по типу и темпераменту. В обществе много говорили о его необыкновенных операциях с земельными участками. Высокого роста, худощавый, с черными волосами и в меру крючковатым носом, Уинфилд был любезен, умен, преисполнен чувства собственного достоинства и неиссякаемого оптимизма. В свои сорок восемь лет он мог служить прекрасным примером светского человека, обладающего инициативой, пылким воображением и организаторскими способностями — вместе с изрядной долей хладнокровия и здравого смысла, необходимых для того, чтобы удержаться на ногах в мире, где идет борьба не на жизнь, а на смерть. Он не был великим человеком, но так близко подходил под это определение, что многие обманывались на его счет. Его черные глаза, глубоко сидевшие в орбитах, сверкали каким-то странным блеском, в них даже чудился красноватый огонек. Бледный, с чуть впалыми щеками, он смахивал на салонного Мефистофеля, но в нем не было ничего дьявольского в обычном смысле этого слова, — в нем жила душа артиста, гибкая, изворотливая, проницательная. Его система заключалась в том, чтобы, снискав расположение людей с деньгами, вытягивать у них те огромные суммы, которые нужны были ему для осуществления проектов, вернее, фантазий, рождавшихся у него беспрестанно. Эти фантазии всегда значительно превосходили емкость его бумажника: но в них было столько прелести, что люди увлекались и вместе с Уинфилдом строили воздушные замки. Уинфилд был прежде всего спекулянтом недвижимым имуществом, а затем — мечтателем и прожектером. Прожекты его заключались в том, чтобы строить близ города уютные поселки, где хорошенькие коттеджи, гладко вымощенные, обсаженные тенистыми деревьями улицы, канализация, газ, электричество, удобное железнодорожное сообщение, трамвай и прочие атрибуты цивилизации создавали бы идеальные условия жизни для преуспевающих горожан. Такой поселок должен был стать прибежищем для избранных, местом приятным и спокойным, достаточно уединенным и в то же время неразрывно связанным с сердцем Нью-Йорка — города, которым Уинфилд горячо восхищался. Он родился и вырос в Бруклине и был политиком, оратором, страховым агентом, подрядчиком и так далее. Ему удалось создать целый ряд пригородных поселков — Уинфилд, Санисайд, Руритания, Вязы — на площади в сорок, пятьдесят, сто и двести акров, которые с помощью «Ч.Д.» (как он сокращенно именовал чужие деньги) он разбил на кварталы, засадил деревьями, кое-где распланировал скверы и проложил бетонные тротуары, закрепив единство своего архитектурного замысла множеством ограничительных правил. Всякий, кто приезжал присмотреть себе участок в одном из усовершенствованных поселков Уинфилда, неизменно обнаруживал, что самый лучший участок, расположенный в центре всяческих благоустройств по последнему слову науки и техники, отведен под великолепный особняк, который мистер Кенион С. Уинфилд собирается строить лично для себя. Надо ли говорить, что эти особняки так никогда и не были построены. Покупателям рассказывали, что мистер Уинфилд объездил весь мир, видел на своем веку много красивых мест, но выбрал Уинфилд, или Санисайд, или Руританию, или Вязы, как единственный уголок на земном шаре, где он желал бы провести остаток своих дней. Когда Юджин встретился с Уинфилдом, тот строил планы создания нового курорта Минета-Уотер на берегу залива Грейвсенд. Это был самый грандиозный из всех его честолюбивых замыслов. Уинфилд пользовался поддержкой целого ряда бруклинских политиков и финансистов, на глазах у которых он успешно провел несколько мелких операций с участками в десять, двадцать и тридцать акров, получив от трехсот до четырехсот процентов прибыли. Но, несмотря на все эти удачи, дело подвигалось медленно. Сейчас у Уинфилда было триста или четыреста тысяч долларов собственных денег, и это давало ему новое, доселе незнакомое в финансовых делах чувство свободы, внушая мысль, что он может достичь чего угодно. У него было множество всяких знакомых — адвокатов, банковских служащих, врачей и коммерсантов, — представителей «беспечных классов», как он их называл. Каждый имел немного свободных денег, которые он мог вложить в какое-нибудь дело, и Уинфилду удавалось вовлечь в свои спекуляции сотни состоятельных людей. Самые обширные его прожекты, однако, не были еще осуществлены. Так, его воображению рисовалась целая система товарных складов и транспортных контор на берегу Джамэйка-Бей, — эта идея должна была принести ему миллионы. Он мечтал также создать великолепный курорт, но проект этот был, собственно говоря, еще не вполне ему ясен. Газеты пестрели его объявлениями, его плакаты с названиями новых поселков были расклеены по всему Лонг-Айленду. Юджин впервые познакомился с Уинфилдом, когда работал у Саммерфилда, а на этот раз они встретились в доме некоего В.В.Уилибрэнда на северном побережье Лонг-Айленда, близ Хемпстеда. Юджин отправился туда однажды в субботу вечером по приглашению миссис Уилибрэнд, с которой познакомился где-то на балу. Ей понравилась его веселая, оживленная манера держаться, и она позвала его к себе. Уинфилд также заехал туда на своей машине. — Да, да, я вас хорошо помню, — любезно сказал Уинфилд. — Мне рассказывали, что вы работаете в «Юнайтед мэгэзинс», — одном из наиболее процветающих наших издательств. Я хорошо знаю мистера Колфакса. У нас как-то вышел о вас разговор с Саммерфилдом. Занятный человек и, между прочим, необыкновенно способный. Вы тогда изготовили ему серию реклам для сахарозаводчиков, или их готовили под вашим руководством. Признаюсь, я позаимствовал идею ваших рисунков, когда рекламировал Руританию. Может быть, заметили? Вы, однако, преуспели с тех пор. Я пытался тогда разъяснить Саммерфилду, что в вашем лице он приобрел исключительного работника, но он и слушать не хотел. Этот человек живет только для себя, он не понимает, что значит работать с кем-нибудь на равных основаниях. Юджин улыбнулся при воспоминании о Саммерфилде. — Да, способный человек, — просто сказал он. — Я многим обязан ему. Это понравилось Уинфилду. Он ждал, что его собеседник будет ругать Саммерфилда. Его приятно поразило добродушие Юджина и его умное, выразительное лицо. Он подумал, что если ему понадобится рекламировать какой-нибудь из своих крупных проектов, он обратится к Витле или к тому, кто делал эскизы для сахарозаводчиков, — вот кто даст ему правильную идею. Родство душ — странное явление. Оно легко соединяет людей помимо их сознания и воли. Несколько минут спустя Юджин и Уинфилд уже сидели рядом на веранде, смотрели на простиравшийся перед ними зеленый лес, на широкую лагуну, испещренную белыми парусами, на видневшийся вдали берег Коннектикута и беседовали — в самых общих чертах — о сделках с недвижимостью, о ценах на землю и о том, какие результаты дают финансовые операции в этой области. Юджин нравился Уинфилду, а тот с интересом разглядывал бледное лицо собеседника, его тонкие, очень белые руки и серый костюм из мягкой шерсти. Вид этого человека вполне соответствовал его репутации, вернее даже превосходил ее. Юджин видел и Руританию и Вязы. Не бог весть что, конечно, но все-таки, пожалуй, недурны. Как раз то, что требуется для людей среднего достатка, — подумал он тогда. — Вам, вероятно, доставляет удовольствие работать над планом нового поселка? — заметил Юджин во время беседы. — Взять девственный кусок земли и превратить его в улицы и дома, должно быть, страшно увлекательная штука. Планировать улицы и делать наброски домов применительно к той или другой категории застройщиков — это как раз по мне. Я иногда жалею, что не родился архитектором. — Да, это большое удовольствие, — ответил Уинфилд. — Если бы работа состояла только в этом! Но, к сожалению, главное — финансовая сторона. Нужно добывать деньги для приобретения земли и на благоустройство. Если благоустройство не ограничивается самым необходимым, оно стоит очень дорого. И, в сущности говоря, вы не можете ожидать больших прибылей с помещенного капитала, пока строительство не доведено до конца. А когда вы все закончили, опять нужно ждать. Если вы застроили участки, остерегайтесь сдавать дома внаем; как только вы это сделаете, вам уже не удастся продать их, как новые. Кроме того, благоустройство на уровне современных требований вызывает увеличение налогов. Опять же, если вы продали участок и покупателю почему-либо не нравится ваш план, он может построить дом, который уничтожит эффект всего целого. Ведь никто вам не позволит обусловить в контракте все архитектурные особенности; вы можете только предусмотреть минимальную сумму, которая должна быть израсходована на дом и материалы, из которых он будет строиться. Понятия о красоте у всех разные, тем более что вкусы со временем меняются. А иногда целый город, вроде, скажем, Нью-Йорка, может вдруг прийти к заключению, что он хочет расти на запад, тогда как вы все расчеты построили на том, что он будет расти на восток. Тут приходится, как видите, многое принимать в соображение. — Все это звучит убедительно, — сказал Юджин. — Но не кажется ли вам, что если правильный замысел правильно преподнести, то это привлечет как раз тех людей, какие вам нужны? Разве в самом замысле не содержатся все условия? — Да, да, это так, — не задумываясь, ответил Уинфилд. — Если посвятить делу достаточно внимания, то можно добиться своего. Беда лишь в том, что тут легко перемудрить. Мне случалось видеть, что попытки достигнуть совершенства ровно ни к чему не приводили. Люди со вкусом, традициями и деньгами не селятся, как правило, в новых пригородах. Обычно приходится иметь дело с теми, кто разбогател недавно. Немало также людей среднего достатка готовы до крайности напрячься, лишь бы жить в лучших условиях, но они далеко не всегда знают, что им нужно. Итак, если у человека есть деньги, это еще вовсе не значит, что у него достаточно вкуса и что он в состоянии схватить вашу мысль; а если у него есть вкус, то у него нет денег. Он и рад бы следовать вашим советам, но не имеет возможности. Человек в моем положении — это художник, учитель, духовник и финансист в одном лице. Когда пускаешься в серьезные операции с недвижимостью, приходится быть и тем, и другим, и третьим. Мне часто везло, но бывали и неудачи. Поселок Уинфилд — одна из крупнейших неудач. Мне сейчас и думать о нем противно. — Моя давнишняя мечта — разработать проект приморского курорта или дачного поселка, — задумчиво сказал Юджин. — Мне пришлось за свою жизнь побывать на двух-трех заграничных курортах. И я убедился, что у нас ни один не удовлетворяет современным требованиям — во всяком случае из ближайших к Нью-Йорку. А возможности изумительные. То, что создано до сих пор, ужасно. Никакого плана, ни одной красивой детали! — Это и мое мнение, — сказал Уинфилд. — Я уже много лет об этом думаю. Такой курорт вполне можно построить, и, при правильной постановке дела, успех был бы грандиозный. Хотя тем, кто взялся бы за эту затею, пришлось бы долго ждать своих денег. — Зато именно тут можно создать нечто подлинно значительное! — подхватил Юджин. — Никто, по-видимому, не отдает себе отчета в том, какой красоты можно достигнуть. Уинфилд ничего больше не сказал, но мысль эта крепко засела у него в голове. Он мечтал о таком приморском курорте, который был бы в своем роде совершенством и прославил бы имя своего основателя. Если у Юджина есть это представление об истинно прекрасном, его советы могут пригодиться. Во всяком случае, когда придет время, с ним можно будет посоветоваться. Вероятно, он даже захочет вложить в дело немного денег. Подобный проект потребует миллионов, но и каждый доллар пригодится. К тому же у Юджина могут возникнуть и другие идеи, которые принесут прибыль и ему самому и Уинфилду. Об этом стоило подумать. Так они расстались, и, хотя до новой встречи прошли недели и месяцы, они не забыли друг друга.Часть III. БУНТ
Глава 73
С миссис Эмили Дэйл Юджин познакомился в то время, когда успех его достиг наивысшей точки. Миссис Дэйл — необычайно умная и красивая женщина, на редкость сохранившаяся для своих тридцати восьми лет, родом из богатой и довольно известной нью-йоркской семьи голландского происхождения — была вдовой крупного банкира, погибшего во время автомобильной катастрофы в окрестностях Парижа задолго до описываемых событий. У нее было четверо детей — Сюзанна, восемнадцати лет, Кинрой — пятнадцати, Адель — двенадцати и Нинет — девяти. Такая большая семья нисколько не мешала ей играть видную роль в обществе, — она сохранила все свое женское обаяние и утонченную светскость. Высокая, изящная, с гибкой фигурой и копной темных волос, причесанных так, чтобы возможно лучше подчеркнуть красоту ее лица, она казалась безмятежно спокойной, хотя и не утратила способности к глубоким переживаниям. В ее обращении чувствовалась изысканная любезность и хорошее воспитание, а в тоне — снисходительное превосходство, которое так свойственно людям, выросшим в обеспеченной, привилегированной среде. Миссис Дэйл отнюдь не считала себя страстной натурой, хотя и не отрицала, что хочет нравиться и блистать. Живая и наблюдательная, она искренне любила искусство и литературу и сама немного писала, но на первое место ставила свое положение в обществе. Юджина познакомил с нею Колфакс. От Колфакса же он узнал, что она была несчастлива в замужестве, — если не считать материальной стороны этого брака, — и что смерть мужа не была для нее непоправимой утратой. Тот же Колфакс рассказал ему, что она прекрасная мать и прилагает все усилия к тому, чтобы воспитать своих детей в полном соответствии с их положением и возможностями. Муж ее не мог похвалиться происхождением, зато она происходит из самого избранного круга. Она блистает в обществе, ее повсюду приглашают, и она часто принимает у себя, отдавая предпочтение молодым людям не только перед стариками, но и перед людьми своего возраста. Вокруг нее всегда увиваются искатели богатых невест, видящие в ее красоте, богатстве и связях ключ к успеху в обществе. У миссис Дэйл было несколько домов в разных местах — один в Морристауне, штат Нью-Джерси, другой — на Стейтен-Айленде, в самом его фешенебельном районе Граймс-Хилл, третий — в Нью-Йорке, на Шестьдесят седьмой улице близ Пятой авеню (ко времени ее знакомства с Юджином он был сдан в долгосрочную аренду), и, наконец, дача в Леноксе в штате Массачусетс, которая обычно тоже сдавалась в аренду. Вскоре после того, как состоялось их знакомство, дом в Морристауне был закрыт, и лето семья проводила в Леноксе. Зимой миссис Дэйл предпочитала жить на Стейтен-Айленде, в своем фамильном особняке на холмах Граймс-Хилл, откуда открывался великолепный вид на залив и нью-йоркскую гавань. На севере гуманной грядой тянулись менее высокие здания Манхэттена. На востоке зыбилось море, то голубое, то серое, то свинцовое. На западе виднелся Килл-ван-Кал с многочисленными судами и склоны Орендж-Хиллс. В яхт-клубе Томкинсвилла у миссис Дэйл была своя моторная лодка, которой пользовался Кинрой, а в ее городском гараже стояло несколько автомобилей. Она держала верховых лошадей, в доме у нее было четверо постоянных слуг — словом, в ее распоряжении были все те преимущества и удобства, из которых состоит жизнь беспечных богачей. Две ее младшие дочки учились в фешенебельном пансионе в Территауне, а сын Кинрой готовился в Гарвардский университет. Старшая дочь Сюзанна жила теперь дома с матерью; она только что вышла из пансиона и уже начала выезжать. Было что-то свое, особенное в этой цветущей девушке, то порывистой, то мечтательно безразличной, с улыбкой, подобной дыханию ветерка, оживляющего поверхность вод. Большие голубовато-серые глаза Сюзанны, румяные, красиво очерченные губы и еще по-детски округлое розовое личико в ореоле пышных русых волос были полны неизъяснимого очарования, а ее девичий стан дышал и невинностью и сладострастием. Смех ее напоминал журчанье ручья, — а она часто и заразительно смеялась, потому что радовалась каждой шутке. Это была одна из тех от природы мудрых, но еще не вполне сложившихся поэтических натур, которые в невинности своей сердцем угадывают глубочайшие тайны жизни; они вырываются на простор жизни, такие же прекрасные и — увы! — такие же хрупкие, как легкокрылая бабочка, выпорхнувшая из куколки на утренней заре. Юджин впервые увидел Сюзанну много времени спустя после знакомства с ее матерью, но, увидев, был поражен ее красотой. Жизнь подчас лепит свои загадки из грубой глины, одним взглядом двенадцатилетней девочки вдохновляя великого Данте. Она может быка сделать богом, и обожествить ибиса или жука, и воздвигнуть алтарь золотому идолу, которому толпа будет поклоняться. Парадокс? Да, парадокс. В Сюзанне за незрелой, но уже близкой к совершенству красотой скрывалось детски поэтическое, туманное представление о мире. Это было существо столь юное, с душою столь ищущей, что невольно возникал вопрос — неужели в такой оболочке таится трагедия? Вы скажете — безрассудное дитя? Нет, не совсем так, но такая мечтательность, такая аморфность представлений при первом опрометчивом шаге грозили серьезной бедой. Ведь щедро одаренная природой и судьбой, она несла в себе опасность, соблазн, хотя и совершенно бессознательный. Если бы настоящий художник задумал написать портрет Сюзанны, воплотив в нем гармонию ее души и тела, он изобразил бы ее стоящей на вершине горы в развевающихся по ветру прозрачных, облепивших ее одеждах, со взглядом, устремленным к далеким холмам или на падающую звезду. Жизнь была полна для Сюзанны неразгаданных тайн. Ее сознание было подобно облачной дымке, сквозь которую пробивается утреннее солнце, окрашивая все вокруг в розовые и золотистые тона, подобно раковинам-жемчужницам тропических морей, чуждым творческого замысла, но таящим в себе совершенство и красоту. Мечты! Мечты об облаках, о вечерней заре, о ярких красках, о звуках, — мечты, которые прозаический мир постарается потом осквернить. То, что Данте видел в Беатриче, Абеляр — в Элоизе, Ромео — в Джульетте, то же мечтательный юноша мог увидеть и в ней и, подобно им, пасть жертвой рока. Юджин познакомился с миссис Дэйл в субботу вечером в одном доме на Лонг-Айленде, и они сразу подружились. Их представил друг другу Колфакс; его резкая прямолинейная шутка с первых же слов рассеяла все иллюзии, какие могли возникнуть у миссис Дэйл насчет семейного положения Юджина. — Не советую вам на него заглядываться! — смеясь сказал он. — Мистер Витла женат. — Что ж, тем приятнее, — с легким смехом ответила она, протягивая Юджину руку. — Я рад, что и бедного женатого человека еще где-то ценят, — подхватил шутку Юджин. — Вы должны радоваться, — ответила миссис Дэйл. — Ведь в этом ваша свобода и защита. Подумайте, в какой вы безопасности! — Понимаю, понимаю, — сказал Юджин. — Иными словами, все стрелы госпожи судьбы минуют меня? — Да, и вам ничто не угрожает! Он предложил ей руку, и они вместе вышли на террасу. В этот день миссис Дэйл немного скучала. Гости надолго засели за карты — и пожилые дамы, и молодые девушки играли с одинаковым увлечением. Юджин не был особенно силен в бридже да и вообще мало соображал в картах, а миссис Дэйл и вовсе была к ним равнодушна. — Я пыталась подбить публику на автомобильную прогулку, но ничего не вышло, — пожаловалась она. — Сегодня все одержимы лихорадкой стяжательства. Может быть, и вы такой алчный? — Такой же, смею вас уверить, но я плохой игрок. Моя алчность в том и выражается, что я держусь подальше от ломберного стола. Это у меня своего рода способ копить деньги. На днях, представьте, этот негодяй Фарадэй обчистил меня и еще двоих партнеров на четыреста долларов! Удивительно, право, как некоторым людям везет! Стоит им только взглянуть на колоду или осенить ее какими-то таинственными знаками, и эти проклятые карты сами складываются в выгодные для них комбинации. Право же, это преступление, которое следовало бы карать по всей строгости уголовного кодекса, — особенно, когда обыгрывают меня. Меня, безобиднейшего представителя семейства двуногих, не играющих в бридж! — Бедненький, как вас напугали. Ну, и не надо вам играть. Давайте сядем. Здесь никто не станет на вас покушаться. Они уселись в зеленые камышовые кресла, и слуга предложил им кофе. Миссис Дэйл взяла чашку. Разговор после бриджа перешел на светских знакомых — был обсужден некто Бристоу, преуспевающий фабрикант чемоданов, с него перескочили на путешествия, а с путешествий — на искателей богатых невест, с которыми миссис Дэйл случалось иметь дело. Автомобильная прогулка все же состоялась по требованию других гостей. Но Юджина вполне удовлетворяло общество этой женщины, и он остался с ней. Они говорили о книгах, об искусстве, о журналах, о том, как делаются состояния и создаются репутации. Миссис Дэйл была особенно любезна с Юджином, потому что он мог оказать ей некоторые услуги на литературном поприще. Прощаясь, она спросила его: — Где вы живете в Нью-Йорке? — В данное время на Риверсайд-Драйв, — ответил он. — Приезжайте как-нибудь ко мне вместе с миссис Витла на воскресенье. У нас обычно собирается несколько человек, — места в доме достаточно. Если хотите, я назначу вам день. — Благодарю вас. Мы будем очень рады. Я уверен, что моей жене это доставит большое удовольствие. Дней десять спустя миссис Дэйл послала Анджеле приглашение, и таким образом завязалось светское знакомство. Миссис Дэйл нашла Анджелу безусловно приятной женщиной, какую бы роль она ни играла в свете. Во время своего первого посещения Юджин и Анджела не видели ни Сюзанны, ни кого другого из детей миссис Дэйл, так как их не было дома. Юджин восхищался открывавшимся из окон видом, и было ясно, что он рассчитывает на вторичное приглашение. Миссис Дэйл ничего лучшего и не желала. Юджин нравился ей и сам по себе, хотя прежде всего ее привлекало то, что он занимает крупный издательский пост. Ей очень хотелось печататься, а она слышала от многих, что Юджин — восходящее светило в этом мире. Дружеские отношения с ним могли оказаться ей на руку, если бы пришлось иметь дело с кем-нибудь из его редакторов, и она всячески подчеркивала свое расположение к нему. Он был приглашен еще и еще раз — вместе в Анджелой, — и между ними, казалось, стало завязываться, или во всяком случае могло завязаться, нечто более содержательное, чем простое знакомство встречающихся в обществе людей. Спустя полгода после первой встречи Юджина с миссис Дэйл Анджела устраивала прием, и Юджин, помогая ей составить список приглашенных, предложил, чтобы конфеты и печенье разносили две очень хорошенькие девушки, часто бывавшие у них, — Флоренс Рил, дочь известного писателя, и Марджори Мак-Теннен, дочь видного издателя. Барышни были и красивы и талантливы — одна пела, другая рисовала. Анджела кстати вспомнила, что видела на городской квартире у миссис Дэйл фотографию Сюзанны, — красота девушки и очарование ее юности произвели на нее большое впечатление. — Как ты думаешь, — сказала она Юджину, — не разрешит ли нам миссис Дэйл пригласить на помощь Сюзанну? Мы, правда, ни разу не видели ее, но это не важно, — так она легче со всеми познакомится. Я уверена, что это доставит ей удовольствие, — ведь у нас будет много интересных людей. — Что ж, мысль неплохая, — одобрительно отозвался Юджин. Он видел портрет Сюзанны, и девушка понравилась ему, но не более. Он всегда считал фотографии самым бездарным жульничеством и всегда принимал их с поправкой. Анджела написала миссис Дэйл, и та дала согласие, она и сама выразила готовность приехать. Она и раньше бывала у Витла и находила, что это очень приятный дом. В день приема Анджела попросила Юджинавернуться пораньше. — Я знаю, тебе не слишком улыбается роль гостеприимного хозяина, но будут мистер Гудрич и Фредерик Эллан (один из немногих друзей, питавших искренне расположение к Юджину). Артуро Скальчеро споет нам, а Бонавита сыграет. Скальчеро, иначе Артур Скалджер, был уроженец Порт-Джервиса в штате Нью-Джерси; после кратковременного пребывания в Италии он изменил свою фамилию на итальянский лад, считая, что это повысит его шансы на успех. Бонавита же был настоящий испанец, пианист, пользовавшийся некоторой известностью. Он всегда охотно отзывался на приглашения Юджина. — По правде говоря, меня это не очень прельщает, но я приеду, — сказал Юджин. Эти званые чаи и приемы в сущности тяготили его, и он предпочел бы провести вечер на службе, где у него было достаточно дела. Тем не менее он рано ушел из издательства и в половине шестого уже входил в гостиную. Здесь царило большое оживление: Флоренс Рил только что кончила петь. Как многие молодые девушки, честолюбивые мечтательницы, наделенные темпераментом и воображением, она чувствовала интерес к Юджину, угадывая в его улыбке что-то близкое и родственное. — О, мистер Витла! — воскликнула она. — Вы пришли, когда я уже спела! А мне так хотелось, чтобы вы меня послушали! — Не огорчайтесь, Флори, — фамильярным тоном отозвался Юджин, не выпуская ее руки и ласково глядя ей в глаза. — Вы еще раз повторите — специально для меня. Кое-что я все-таки успел услышать, поднимаясь в лифте. А! Миссис Дэйл! — Он выпустил руку девушки. — Как я рад вас видеть! Вот мило! Артуро Скальчеро! Здорово, Скалджер, старый морж! Где это вы раздобыли свое итальянское имя? Бонавита! Вот чудесно! Надеюсь, вы нам сыграете? Я опоздал? Как жаль! Марджори Мак-Теннен! Вы сегодня очаровательны! Если бы миссис Витла не видела нас, я бы вас расцеловал! И какая восхитительная шляпка! А, Фредерик Эллан! Вы тут на кого заглядываетесь? Ладно, ладно, я все вижу! И миссис Шенк у нас? Очень рад! Анджела, почему ты мне не сказала, что будет миссис Шенк? Я бы примчался домой в три часа. Здороваясь с гостями, он прошел в глубину просторной студии. Здесь у сверкающего серебром чайного стола стояла молодая цветущая девушка, с прелестным овалом лица и свежими, полураскрытыми в улыбке губами. Ее русые волосы были стянуты вокруг лба серебряной лентой, из-под которой выбивались легкие завитки. Юджин обратил внимание на ее полные красивые руки. Она держалась очень прямо и вместе с тем непринужденно, в глазах ее светился чуть насмешливый огонек. Белое с розовой каймой платье красиво облегало девичью фигуру. — Я, конечно, вас не знаю, — начал Юджин, — но сейчас попробую угадать. Это… это… Сюзанна Дэйл! Правда? — Да, вы угадали, — отвечала она смеясь. — Можно предложить вам чашку чаю, мистер Витла? Я догадалась, что вы мистер Витла, по описанию мама и по тому, как вы со всеми разговариваете. — А как же я со всеми разговариваю, разрешите узнать? — Это не так просто объяснить. Я знаю, но не нахожу нужного слова. Фамильярно — вот, по-моему, как. Сколько вам сахару — один кусок или два? — Лучше три. Помнится, ваша матушка говорила, что вы поете или играете? — Не верьте всему, что говорит про меня мама. Она вам много чего расскажет, — ха-ха! Даже смешно — это я-то играю! Мой учитель говорит, что ему хочется бить меня по пальцам. О боже! (Она залилась смехом.) И это я пою! Вот потеха! Юджин внимательно изучал хорошенькое личико девушки. Ее губы, нос и глаза были очаровательны. Как она прелестна! Он любовался линиями ее рта, округлостью щек и подбородка. Изящный нос правильной формы, чуть широкий и не нервный, уши маленькие, глаза большие, широко расставленные, высокий, наполовину закрытый завитками лоб. На лице у нее было несколько веснушек, а на подбородке — чуть заметная ямочка. — Кто это разрешил вам так смеяться? — сказал Юджин с притворным негодованием. — Смотрите, как бы вам не пришлось отвечать за свой смех. Во-первых, он противоречит уставу этой обители. Здесь никому никогда не разрешается смеяться, а тем более девицам, разливающим чай. Чай, как правильно выразился Эпиктет, требует самого внимательного отношения. Разливательницы чая пользуются некоторой привилегией — им дозволено изредка улыбаться, — но никогда ни за что и ни при каких обстоятельствах… Губы Сюзанны уже начали складываться в восхитительную улыбку, предвещавшую новый взрыв смеха. — Что тут происходит, Витла? — спросил подошедший к ним Скалджер. — Почему вы здесь застряли? — Чай, сын мой, — ответил Юджин. — Не выпьете ли со мной чашку? — С удовольствием. — Представьте, мистер Скалджер, мистер Витла хочет убедить меня, что мне нельзя смеяться, — пожаловалась Сюзанна, протягивая Скалджеру чашку чаю. — Можно только улыбаться. — Губы ее раскрылись, и она весело расхохоталась. Юджин невольно рассмеялся вместе с ней. — Мама (она каждый раз произносила «мама») уверяет, что я вечно хихикаю! Меня, наверно, прогонят отсюда, правда? Она снова повернулась к Юджину и посмотрела на него своими большими смеющимися глазами. — Допускаются, конечно, исключения, — сказал он, — и я готов, пожалуй, сделать одно, но ни в коем случае не больше! — А зачем одно? — лукаво улыбаясь, спросила она. — Ах, только ради того, чтобы услышать естественный смех, — протянул он чуть жалобно. — Чтобы услышать настоящий беззаботный смех. Вы умеете смеяться беззаботно? Она снова расхохоталась, и он уже собирался сказать, что у нее смех действительно беззаботный, но тут Анджела позвала его слушать Флоренс Рил, которая опять собиралась петь, специально для него. Юджин нехотя отошел от мисс Дэйл, мысленно сравнивая ее с яркой мейсенской статуэткой. Она казалась ему изменчивой в своем совершенстве, как весенний вечер, нежной, трепетной и пленительной, как отдаленная музыка, звучащая в ночи над водой. Он подошел к роялю и, отдавшись чувству легкой грусти, стал слушать романс «Летний ветер веет, веет» в прекрасном исполнении Флоренс Рил. Юджин слушал и думал о Сюзанне. Его взгляд невольно обращался в ее сторону. Он разговаривал с миссис Дэйл, с Генриеттой Тенмон, с Люком Севирасом, с мистером и миссис Дьюла, с Паялеем Стояном (который был теперь специальным корреспондентом какой-то газеты) и с другими, а сам ни на минуту не забывал о ней. Как она прелестна! Как очаровательна! Если бы еще хоть раз в жизни насладиться любовью такой девушки! Гости начали разъезжаться, Анджела и Юджин провожали их. Поскольку Сюзанна все еще была занята исполнением своих обязанностей, миссис Дэйл тоже задержалась, продолжая беседовать с Артуром Скалджером. Юджин ходил из студии в переднюю и обратно, поглядывая украдкой на Сюзанну, скромно стоявшую у самовара и чашек. Давно не видел он такого молодого и свежего существа. Она напоминала ему только что распустившуюся белую водяную лилию. Она была свежа, как ветка цветущей яблони, как первая сочная весенняя травка. Глаза ее были ясны, как прозрачный ключ, а кожа — белее слоновой кости. Ее не коснулись еще ни усталость, ни забота, ни черные мысли, — все в ней говорило о здоровье и счастье. «Какое лицо!» — восторгался он, издали наблюдая за ней. — Трудно себе представить более прелестное создание. Она сверкает, как солнечный луч. Перед его глазами встал образ Фриды Рот, а из далекого-далекого прошлого вынырнуло воспоминание о Стелле Эплтон. Молодость, молодость! Что в этом мире может быть прекраснее и желаннее? Что может сравниться с нею? После пыльных грязных улиц, после печального зрелища старости и увядания (морщинки у глаз, складки кожи на шее, массаж, румяна, пудра) вдруг — настоящая молодость, не только тела, но и души, — глаза, улыбка, голос, движения — все молодое. Такое чудо невозможно изобразить на полотне! Кто мог бы на это отважиться? Кому это удавалось? Юджин пожимал гостям руки, кланялся, деланно улыбался, смеялся, шутил, но думал неотступно об одном — о чуде, каким была молодость и красота Сюзанны Дэйл. — О чем это ты замечтался? — спросила Анджела, подходя к мужу, который уселся в качалку у окна и при свете догорающей зари следил за игрой серебристо-серых и фиолетовых бликов на поверхности воды. В воздухе носились запоздалые чайки. Огромная фабрика на противоположном берегу выбрасывала из высоких труб спирали черного дыма. В ее стоглазой стене замерцали огоньки. Едва на соседней башне пробило шесть, раздался пронзительный рев сирены. Стоял конец февраля, и день был холодный. — Да так, смотрю в окно. Красиво, — устало ответил он. Анджела не поверила ему. Какая-то смутная тревога закралась ей в душу, но прошло то время, когда они могли ссориться из-за того, о чем Юджин думал. Слишком уж богато и беспечно им жилось. И все же ее мучило беспокойство. Для Сюзанны Дэйл эта встреча прошла в сущности незаметно. Мистер Витла очень милый, приятный и красивый мужчина, а миссис Витла очень мила и моложава. — Мама, ты смотрела из окна квартиры мистера Витлы? — Да, детка, смотрела. — Правда, чудный вид? — Прекрасный! — А тебе, мама, не хотелось бы жить на Риверсайд-Драйв? — Возможно, мы когда-нибудь там и поселимся. Миссис Дэйл задумалась. Да, Юджин интересный мужчина — молодой, блестящий, талантливый. Какую ошибку совершают молодые люди, когда так рано женятся. Вот вам преуспевающий человек, он принят в высшем обществе, у него привлекательная внешность, весь мир, можно сказать, открыт перед ним, а он женат на женщине, которая хоть и очень мила, но все же никак ему не пара. «Ну что ж? — подумала она. — Такова жизнь. Стоит ли над этим задумываться? Каждый живет, как может». Она решила, что недурно было бы написать на эту тему рассказ и попросить Юджина напечатать его в одном из своих журналов.Глава 74
Пока происходили эти события, дела «Юнайтед мэгэзинс» неуклонно улучшались. Уже к концу первого года Юджин справился со многими трудностями как в рекламе, так и в издательском деле, и теперь они больше не беспокоили его, а к концу второго года предприятие было, можно сказать, на верном пути к расцвету. Юджин приобрел в издательстве такое большое влияние, что в огромном доме, где работало свыше тысячи человек, все знали его в лицо. Перед ним лебезили и расстилались почти так же, как перед Колфаксом и Уайтом, хотя последний, по мере того как улучшалось общее положение дел, становился все более властной и внушительной фигурой. Этот человек, получавший двадцать пять тысяч в год и имевший звание вице-президента, боялся, как бы новый директор не забрал себе всю власть. Его крайне раздражала самоуверенность Юджина, так как тому действительно недоставало такта и, вместо того чтобы держаться скромно, он склонен был подчеркивать свои заслуги. Он то и дело сообщал Колфаксу о своих новых успехах, не смущаясь присутствием Уайта, которого попросту не замечал. То он заполучил видного автора, то раздобыл новую рукопись для того или иного журнала, то придумал остроумный способ улучшения работы отделов или же заключил новый прибыльный контракт на изготовление реклам. Стоило ему появиться в кабинете президента, как он становился предметом всеобщего внимания — его хвалили, поздравляли, так как он вел дело энергично, и Колфакс это понимал. Уайт едва переносил его. — Ну, какой еще подвиг удалось вам совершить? — весело спросил его однажды Колфакс в присутствии Уайта; он знал, что Юджин, как ребенок, любит похвалу и что над ним можно слегка подшутить. Уайт скрыл свое бешенство за притворной улыбкой. — Подвигов особенных нет, но Хейз добился договора с консервной компанией Хамонд. Это значит, что в будущем году издательство получит лишних восемнадцать тысяч долларов. Пригодится, не правда ли? — Молодчина Хейз! Черт возьми, Витла, я начинаю думать, что он, пожалуй, больше вашего смыслит в рекламе. Конечно, откопали его вы, никто не отрицает, но этот малый знает свое дело. Если бы с вами что-нибудь случилось, я непременно удержал бы его у себя. Уайт сделал вид, будто ничего не слышит, но обрадовался и про себя решил оказывать Хейзу покровительство. У Юджина вытянулось лицо; неожиданный интерес к успехам его помощника — в пику ему — подействовал на него, как ушат холодной воды. Не очень это приятно, когда вам противопоставляют ваших помощников и умаляют вашу собственную роль. Разве не он разыскал всех этих людей и вдохнул жизнь в предприятие? Уж не собирается ли Колфакс отвернуться от него? — Ну что ж, — невозмутимо ответил он. — Что это вы надулись? — как ни в чем не бывало спросил Колфакс. — А-а, понимаю! Но я вовсе не в упрек вам говорю. Разумеется, вы нашли этого человека. Я только довожу до вашего сведения, что, случись с вами что-нибудь, я никуда не отпущу Хейза. Юджин почувствовал в этих словах скрытый намек. Это было равносильно предупреждению, что он не имеет права увольнять Хейза. Колфакс не сказал этого, но такой напрашивался вывод. И Юджин вышел из кабинета, думая о том, какой неблагоприятный оборот принимает дело. Ведь если он будет подбирать толковых работников без права их увольнять, в какое положение попадет он сам, вздумай они повести себя вызывающе? Стоит им только пронюхать о таком настроении высшего начальства, — что вполне возможно благодаря Уайту, — и они набросятся на него, как львы на укротителя! Да, все это было весьма неожиданно и неприятно. Надо сказать, что раньше подобная мысль не пришла бы Колфаксу в голову, так как Юджин был его любимцем. Но постоянные злонамеренные предупреждения и намеки Уайта принесли свои плоды. Успехи, достигнутые Юджином в реорганизации издательства, бесили Уайта. Он считал, что Юджина вознесли не по заслугам, а главное — в ущерб другим работникам. Необходимо положить этому конец. Колфакс одно время был так увлечен Юджином, что не уделял должного внимания Уайту, и тот отнюдь не согласен был с этим мириться. Несомненно, человек, который умеет подбирать хороших работников и способен вдохнуть в дело новую жизнь, — ценная находка, но как же насчет него самого, Уайта? Он знал, что Колфакс подозрителен и ревнив по натуре. Вряд ли он допустит, чтобы кто-нибудь из служащих затмил его своим авторитетом. До сих пор у Колфакса и не возникало таких опасений. Но Уайт решил заронить в него это подозрение и пробудить ревность. Он видел, что хозяин его в общем не питает большого интереса к издательскому делу, хотя, познакомившись с ним ближе и убедившись, что оно обещает быть доходным, он уже не жалел, что связался с этим делом. Его жене тоже нравилось, что знакомые постоянно расспрашивают о делах издательства, о новых журналах, книгах, художественных альбомах. Правда, издание книг было далеко не таким прибыльным делом, как производство мыла, или теплого белья, или, скажем, железнодорожные акции, с которыми имя Колфакса было особенно тесно связано, но зато оно было более почетным, и миссис Колфакс хотелось, чтобы издательство находилось в непосредственном ведении ее мужа и делало ему честь. В поисках оружия, которым можно было бы сразить Юджина, Уайт учитывал все это. Он несколько раз осторожно заговаривал с Колфаксом на эту тему и заметил, как у того сразу начинают раздуваться ноздри. Если бы ему удалось заручиться доверием редакционных работников так, чтобы они при всякой надобности обращались к нему, а не к Юджину, он потом с помощью Колфакса забрал бы в руки и самого главного директора. Он унизил бы его, сломил, доказал ему, что он, Уайт, является той силой, которая стоит за троном. — Что вы скажете насчет Витлы? — спрашивал его иногда Колфакс, и Уайт пользовался всяким удобным случаем, чтобы разжечь в хозяине ревность. — Что ж, он способный малый, — говорил он, по-видимому, вполне искренне, — каждому ясно, что он недурно управляется со своими отделами. Но вам, по-моему, не следовало бы упускать из виду его честолюбие. Он из тех людей, у которых голова кружится от власти. Не забывайте, что для своего поста он еще очень молод. (Уайт был на восемь лет старше Юджина.) Эти художники и литераторы все на один лад. У них нет настоящей практической жилки. Если ими руководить как следует, они могут быть прекрасными помощниками, и вы с ними чего угодно добьетесь. Но, повторяю, нужно знать, как с ними обращаться, и крепко держать их в руках. Этот парень, насколько я мог его раскусить, как раз такой человек, какой нам нужен. Он нашел дельных работников и добился, не спорю, кое-каких результатов, но с него нельзя спускать глаз, а то он способен в один прекрасный день разогнать всех своих людей или же взять да и уйти вместе с ними. На вашем месте я бы этого не допустил. Пускай подбирает служащих, какие, по вашему мнению, годятся для дела, а уж потом я постарался бы удержать их. Конечно, начальник должен пользоваться авторитетом, но есть же какие-то границы. По-моему, вы даете ему слишком много воли. Колфаксу это мнение казалось искренним и убедительным, и он мысленно отдавал должное проницательности Уайта, так как при всем своем расположении к Юджину, в обществе которого он много бывал, Колфакс не вполне доверял ему. Он часто думал, что в Юджине слишком много внешнего блеска, и подозревал его в некоторой беспечности и легкомыслии. Под видом помощи Юджину Уайт старался, не вмешиваясь фактически, давать Колфаксу советы, касавшиеся то отдела рекламы, то отдела распространения. Он пытался даже высказывать свои соображения (одному богу известно, откуда он их брал!) насчет руководства журналами и выпуска книг и, передавая их неизменно через Колфакса, принимал все меры к тому, чтобы начальники отделов знали, от кого они исходят. Его тактика заключалась в том, чтобы сперва обсудить какую-нибудь пришедшую ему в голову мысль с Хейзом или Гилмором (заведующим отделом распространения), или с кем-либо из редакторов, а потом устроить так, чтобы эта идея попала в отдел уже как распоряжение, исходящее от Юджина. Последний так стремился добиться хороших результатов, что простодушно принимал к сведению все разумные советы, и ему долго и в голову не приходило, что его разыгрывают. Подчиненные Юджина стали, однако, понимать, что тут что-то неладно, так как все знали, что Уайт — подголосок Колфакса и между ним и Юджином нет полного единодушия. Они решили, что Юджин вынужден считаться с Уайтом, и вскоре в отделах укрепилось мнение, что Юджин и Уайт не могут ужиться друг с другом, но что Уайт сильнее и Юджину несдобровать. Было бы утомительно рассказывать о бесчисленных интригах и происках, представляющих изнанку жизни всякого предприятия, — каждый, кто когда-либо работал в небольшом или большом учреждении, достаточно знаком с этим. Юджин не был дипломатом. Он понятия не имел о коварстве, с каким Уайт и прочие, родственные ему по духу и наклонностям люди представляли в неверном свете все, что касалось его работы. Уайт невзлюбил Юджина и поставил себе целью сломить его влияние. Прошло немного времени, и некоторые редакторы стали обнаруживать, что любая их попытка добиться чего-либо от типографии наталкивается на затруднения, а когда они жаловались, всегда выходило, будто всему виной их собственная беспорядочность или скверный характер. Случалось, что в отделе рекламы сотрудники допускали ошибки в передаче фактов или в оформлении, и, как ни странно, эти ошибки непременно выходили наружу. Юджин заметил, что его работники быстро преодолевают всякие трудности, если обращаются к Уайту, а когда они прибегают к нему, ничего не получается. Вместо того чтобы закрывать глаза на эти мелкие неприятности и заниматься своим делом, Юджин тратил время на стычки и жалобы, и это лишь выставляло его в невыгодном свете как руководителя, не способного сохранять мир и порядок в своем ведомстве. Уайт был неизменно любезен, невозмутим, всегда готов дать убедительные объяснения. — Возможно, он просто не умеет ладить с этой публикой, — говорил он Колфаксу, и если кого-нибудь увольняли, это принималось как доказательство слабости руководства. Иногда Колфакс, по совету Уайта, просил Юджина быть осторожнее, но тот уже ясно понимал, что происходит, и не сомневался в том, кто стоит за спиной патрона. Он даже собирался раскрыть игру Уайта и привлечь его к ответу в присутствии Колфакса, но потом махнул рукой на эту затею, поскольку у него не было явных улик. Уайт же умел внушить Колфаксу, что он все делает в интересах Юджина. Решительное сражение откладывалось. Тем временем Юджин, по этой ли причине, или, вернее, потому, что он не рассчитывал долго удержаться на своем посту, так как не имел пая в предприятии Колфакса и не мог приобрести его, стал сильно задумываться над предложением, которое сделал ему Кенион Уинфилд, не забывший о молодом издателе после их памятной беседы в доме Уилибрэндов на Лонг-Айленде. Уинфилд часто вспоминал о Юджине в связи со своим новым планом, который заключался в том, чтобы на южном побережье Лонг-Айленда, километрах в тридцати пяти от Нью-Йорка, создать первоклассный курорт. Этот курорт по своим санаториям и отелям должен был превзойти Палм-Бич и Атлантик-Сити и явить, в непосредственной близости от Нью-Йорка, такое воплощение красоты и роскоши, чтобы толпы праздных богачей и преуспевающих спекулянтов устремились туда со всех других курортов. Уинфилд много размышлял об этом, но не разработал еще проекта, который удовлетворял бы его полностью; и ему пришла мысль, что Юджин мог бы заинтересоваться этим как художник. К сожалению, план этот словно был создан для того, чтобы увлечь Юджина, хотя он и так был занят по горло. Ничто не вдохновляло его так, как художественное сочетание роскоши и красоты. Подобный курорт, построенный действительно на широкую ногу, с отелями, клубами, павильонами, с участками для застройки, с деревянной или каменной набережной вдоль пляжа, а возможно, и с игорным домом, превосходящим Монте-Карло, должен был, как представлялось Юджину, рано или поздно возникнуть в окрестностях Нью-Йорка. Они с Анджелой не раз бывали в таких местах, как Палм-Бич, Олд-Пойнт-Комфорт, Вирджиния-Хот-Спрингс, Ньюпорт, Шелтер-Айленд, Атлантик-Сити и Таксидо, и эти поездки чрезвычайно расширили его представление о том, что такое красота и роскошь. Ему нравилась внутренняя отделка отеля «Чемберлен» в Олд-Пойнт-Комфорт и «Роял-Понсиана» в Палм-Бич. Он с интересом присматривался к отелям в Атлантик-Сити и в других местах, изучая черты новой архитектуры, и мысленно представлял себе участок на побережье Атлантического океана, скажем, близ залива Грейвсенд, где наряду с обширным пляжем имелись бы живописные островки, каналы или речки. Здесь можно было бы построить два-три больших отеля и проложить прекрасную аллею — по новому образцу, параллельно берегу. Вокруг постепенно вырос бы великолепный приморский город, в котором земельные участки продавались бы по такой цене, что они были бы доступны только избранным. Он рисовал себе нечто необычайно эффектное, что привлекло бы внимание представителей веселящегося общества, с которыми он недавно познакомился. Надо только оповестить их, что такое место существует, что оно очень живописно, что стоимость пребывания в нем исключает приток простых смертных, и они тысячами хлынут туда. «Самое прибыльное дело — это роскошь, надо только знать, кому и как преподнести ее», — сказал ему однажды Колфакс, и Юджин был с ним согласен. Все, что он видел за последнее время, подтверждало это. Люди не жалели миллионов для удовлетворения своих прихотей. Ему случалось видеть сады, лужайки, павильоны и беседки, стоившие тысячи, сотни тысяч долларов, и притом в таких местах, где некому было ими любоваться. В Сент-Луисе он видел мавзолей, построенный по образцу индийской гробницы Тадж-Махал и окруженный лужайкой, под которой на известной глубине были проложены трубы парового отопления, чтобы там круглый год могли произрастать тропические растения. Ему никогда и не снилось, что наступит день, когда он будет причастен к подобной затее, но по своему характеру он, как никто другой, способен был ею увлечься. Проект, который Уинфилд дружески изложил ему, был довольно прост. Уинфилд слышал, что Юджин недурно зарабатывает, что он получает в год двадцать пять тысяч долларов, если не больше, что у него есть недвижимость и надежные ценные бумаги, и ему пришло в голову, что он, пожалуй, не прочь будет вложить некоторую сумму в какую-нибудь сделку с землей, обещающую со временем большую прибыль. Мысль Уинфилда сводилась к следующему: он организует компанию под названием «Строительная компания Синее море» с капиталом в десять миллионов долларов, из которых тысяч двести или триста как основной капитал должны быть депонированы в банке. Исходя из этой наличности, компания выпускает акции на сумму в миллион долларов. Это значит, что всякий, кто вносит сто долларов, получает три акции основных и две привилегированных, по сто долларов каждая, из восьми процентов годовых. Но таким положение останется лишь до тех пор, пока не будет покрыт основной капитал в двести тысяч долларов. После этого за каждые сто долларов акционер получит только две акции основных и одну привилегированную, пока компания не будет располагать наличным капиталом в миллион долларов. А затем уж акции начнут котироваться по своей номинальной стоимости или же выше, в зависимости от обстоятельств. На первоначальную сумму в двести тысяч долларов предполагалось купить пустующий участок — наполовину болото, наполовину остров — на побережье Атлантического океана, у залива Грейвсенд (участок принадлежал самому Уинфилду), где на протяжении трех миль тянулся прекрасный песчаный пляж. Это позволяло Уинфилду развязаться с имуществом, стоившим тысяч шестьдесят и не находившим покупателя, а в то же время давало ему в новой корпорации прекрасный пай. Чтобы полностью обеспечить свои интересы, он намеревался заложить в банке как самый участок, так и все то, что компания позднее на нем построит. В западном конце участка была красивая бухта, не глубокая, но открывавшая доступ к целому ряду рукавов и лагун, окружавших девять островков. Если эти каналы хорошенько расчистить, по ним могут ходить яхты и другие мелкие суда. Попутно Уинфилду пришло в голову, что ил и песок, вычерпанные из водоемов, можно будет использовать для осушения болот между островками и сушей и получить таким образом ценный участок сухой земли. Оставалось выработать схему застройки, и об этом-то Уинфилд и хотел поговорить с Юджином.Глава 75
Они быстро столковались. Не успел Уинфилд произнести и десяти слов, как Юджин начал угадывать его мысли. — Мне этот участок немного знаком, — сказал он, рассматривая маленькую контурную карту, заготовленную Уинфилдом. — Я ездил туда с Колфаксом и еще с кем-то — охотиться на уток. Прекрасное место, что и говорить. Сколько за него просят? — Видите ли, участок, собственно говоря, принадлежит мне, — сказал Уинфилд. — Пять лет тому назад, когда он представлял собою сплошное непролазное болото, я уплатил за него шестьдесят тысяч долларов. Никаких работ там с тех пор не производилось. Теперь он стоит двести тысяч, и за эту сумму я и передам его новой компании, а чтобы обеспечить себя, заложу в банке. После этого компания может делать с ним что угодно, хотя я в качестве ее президента буду, конечно, руководить этим делом. Если вы хотите составить себе состояние и если у вас есть свободные пятьдесят тысяч, — пользуйтесь случаем. За пять лет участок вырос в цене с шестидесяти тысяч до двухсот. Сколько же, по-вашему, он будет лет через десять, при тех темпах, какими растет Нью-Йорк? В Нью-Йорке чуть ли не четыре миллиона жителей, и можно смело сказать, что через двадцать пять лет в нем будет четырнадцать — пятнадцать миллионов населения на территории диаметром в двадцать пять миль. Конечно, до моего участка по прямой — тридцать две мили, но какое это имеет значение? Лонгайлендская железнодорожная компания с радостью проведет туда ветку, и таким образом участок окажется на расстоянии какого-нибудь часа езды от города. Вы только представьте — один из лучших пляжей на побережье Атлантического океана в часе езды от Нью-Йорка! Я думаю, что мне удастся заинтересовать моим проектом мистера Уилтси, президента Лонгайлендской железной дороги, и он вложит в дело значительный капитал. Аналогичное предложение я делаю и вам, так как очень ценю ваше мнение в вопросах художественной планировки и рекламы. Вы можете согласиться или отказаться, но, прежде чем принять решение, поедемте посмотреть участок. В общей сложности — в ценных бумагах, в недвижимом имуществе и банковских вкладах — у Юджина было около пятидесяти тысяч твердого, надежного капитала, которым он мог при желании распорядиться. Он был убежден, что предложение Уинфилда — одна из тех редчайших удач, которая, сумей он ею воспользоваться, сделает его богатым человеком. Но вместе с тем пятьдесят тысяч — это пятьдесят тысяч, и сейчас они у него в руках. А с другой стороны, как только дело пойдет на лад, ему не придется больше беспокоиться, удержится ли он у Колфакса, и думать о том, как сохранить свое теперешнее положение. Нельзя, конечно, сказать заранее, что может принести подобное помещение капитала. Сам Уинфилд, по его словам, рассчитывал нажить на этой спекуляции от шести до восьми миллионов долларов. Он собирался заручиться акциями отелей, казино и других предприятий нового курорта. Ясно, что через некоторое время, когда вся территория у Грейвсендского залива будет осушена и приведена в порядок, участки в сто на сто футов (а меньше продавать не предполагалось) будут стоить от трех до пятнадцати тысяч. Кроме того, там есть островки, которые можно будет сдавать под клубы или дачи, — это тоже принесет немалый доход. А арендная плата с яхт-клубов! Ведь вся земля будет принадлежать компании. — Будь у меня достаточно собственных денег, я сам взялся бы за эксплуатацию участка, — сказал Уинфилд. — Но я хочу, чтобы работы велись в гигантских масштабах, а для этого у меня нет средств. Я хочу создать нечто такое, что будет памятником и мне и всем, кто будет связан с этим предприятием. Я готов идти на одинаковый риск с другими и, чтобы доказать это, намерен приобрести возможно больше акций, из того расчета, о котором я вам говорил, — пять акций за одну. И вы и всякий другой можете сделать то же самое. Ну, каково ваше мнение? — Проект грандиозный, — сказал Юджин. — У меня такое чувство, словно вдруг сбылась мечта, которую я незаметно для себя вынашивал годами. Мне просто не верится, что это правда, но вместе с тем я понимаю, что это так и что вы добьетесь всего, о чем говорите. Нужно, однако, быть чрезвычайно осторожным при планировке участка. Вам достался счастливый жребий, который выпадает на долю человека лишь раз в жизни. Ради бога, не наделайте ошибок. Пусть у нас будет хоть один по-настоящему красивый курорт. — Как раз моя мысль, — ответил Уинфилд, — потому-то я и обратился к вам. Я хочу, чтобы вы вошли в это предприятие, так как очень рассчитываю на ваш вкус и фантазию. Вы поможете мне разработать план и организовать рекламу. Они еще долго обсуждали проект во всех подробностях, и в конце концов Юджину, несмотря на все его опасения, начало казаться, что его заветные мечты близки к осуществлению. Пятьдесят тысяч долларов, вложенные в это дело, дадут ему две с половиной тысячи акций — полторы тысячи основных и тысячу привилегированных, — номинальная стоимость которых, гарантированная этим прекрасным участком, равна двумстам пятидесяти тысячам. Подумать только! Двести пятьдесят тысяч! Четверть миллиона. И эта сумма будет все расти. Да так он без труда выйдет в миллионеры! Его способности тоже найдут себе применение, — Уинфилду очень хотелось привлечь его к разработке проекта, и тогда Юджин не только завяжет отношения с крупнейшими агентствами по продаже недвижимого имущества, но и придет в соприкосновение с многими финансистами — людьми, которые несомненно заинтересуются этим делом. Уинфилд называл архитекторов, подрядчиков, железнодорожных магнатов и президентов строительных компаний, которые с радостью войдут пайщиками в его предприятие, зная, какие выгоды оно сулит. Он также говорил, что надо будет пустить в ход все знакомства и связи, чтобы избавить компанию от лишних расходов, исчисляющихся миллионами. Взять хотя бы предполагаемую ветку Лонгайлендской железной дороги, — она обойдется дороге в двести тысяч, а компании ничего не будет стоить и в то же время даст возможность тысячам туристов посетить курорт, как только он будет готов принять их. То же относится и к отелям, которые в свою очередь внесут оживление в деловую жизнь курорта. «Компании Синее море» придется лишь сдавать в аренду земельные участки. Крупные концерны будут сами строить отели, сообразуясь, однако, с правилами и планами, выработанными компанией. Больших расходов потребует лишь прокладка улиц, канализация, освещение, водопровод, зеленые насаждения и набережная в сто футов шириною, с гранитным парапетом — лучшая набережная в мире. Но все эти виды благоустройства можно будет вводить не сразу, а постепенно. Юджин слушал как зачарованный. Он видел перед собой грандиозные перспективы. — Я сейчас ничего не могу сказать, — осторожно ответил он. — Вы рисуете увлекательную картину, но у меня, пожалуй, не хватит средств. Мне нужно хорошенько подумать. А пока я с удовольствием поеду с вами и посмотрю участок. Уинфилд видел, что Юджин пленился его идеей. Когда проект будет разработан до конца, его нетрудно будет завербовать. Юджин, вероятно, захочет построить себе дачу в новом курорте и выезжать туда на лето. Он заинтересует проектом своих многочисленных знакомых. Уинфилд расстался с ним, уверенный, что положил хорошее начало, и он не ошибался. Юджин обсудил вопрос с Анджелой — единственным человеком, с которым он в таких случаях советовался, — но она, как и всегда, не сказала ни да, ни нет и только выразила ему свои сомнения, не высказываясь ни за, ни против. Анджела была очень осторожна, но в делах разбиралась плохо. Она ничего не могла ему посоветовать. До сих пор все начинания Юджина приводили к хорошим результатам. Он, по-видимому, делал блестящую карьеру, но лишь как ценный помощник, а не как прирожденный руководитель. — Решай сам, Юджин, — сказала она наконец. — Я не знаю. Все это звучит соблазнительно. Конечно, ты не вечно же будешь работать у мистера Колфакса. И если, как ты говоришь, там начинают под тебя подкапываться, то лучше заранее создать себе возможность для отступления. Ведь у нас и сейчас хватило бы на жизнь, если бы ты захотел опять заняться живописью. — Живопись! — с улыбкой произнес Юджин. — Бедная моя живопись! Много я сделал, чтобы развить свой талант! — Куда тебе еще развивать его? Он у тебя и так есть. Я не могу себе простить, что позволила тебе бросить искусство. Конечно, мы живем лучше, но разве можно сравнить твою работу с тем, что ты делал раньше. Что толку — если не говорить о материальной стороне дела, — что ты стал преуспевающим издателем? Ты пользовался не меньшим, если не большим уважением, когда впервые вступил в коммерческий мир. Да и теперь ты больше известен как Юджин Витла — художник, чем как Юджин Витла — издатель. Юджин чувствовал, что она права. Его картины и сейчас служили ему верой и правдой. Слава его росла. Полотна, которые он продавал когда-то по двести и четыреста долларов, стоили теперь от трех до четырех тысяч, и цены на них все повышались. Владельцы художественных салонов нередко спрашивали его, неужели он окончательно забросил живопись. Да и в обществе к нему то и дело обращались с вопросом. «Почему вы не пишете?»; «Не стыдно вам отказываться от искусства?», «О, ваши картины — я их никогда не забуду!» — Сударыня, — с торжественным видом отвечал на это Юджин, — никогда мои картины не дадут мне того, что дает руководство журналами. Искусство — прекрасная вещь, и я готов допустить, что я — талантливый художник. Но мой талант оказался для меня плохой опорой, и только забросив его, я узнал, что значит жить хорошо. Печально, но факт. Если бы я мог надеяться, что труд художника даст мне хотя бы половину тех земных благ, какими я пользуюсь сейчас, если бы я не боялся, что мне скоро придется слоняться по улицам с картиной под мышкой, в надежде продать ее за бесценок, — я с удовольствием вернулся бы к живописи. Но вся беда в том, что общество у нас с удовольствием взирает на чудаков, приносящих себя в жертву на алтарь искусства и литературы, считая, что так им и надо. Хватит! Не желаю. Вот и все. — Как это обидно, как обидно, — сокрушалась его собеседница, но Юджин был не слишком огорчен. Миссис Дэйл тоже пожурила его, — она видела его картины, еще больше слышала о них. — Погодите, погодите, — снисходительно отвечал ей Юджин. — Еще придет время! Теперь проект создания курорта, казалось, расчищал дорогу для всего. Если он войдет в это дело, ему, по всей вероятности, со временем поручат и какую-нибудь официальную роль. Да и все возрастающая прибыль с двухсот пятидесяти тысяч тоже что-нибудь да значит. Впереди была независимость, свобода! Вот когда он сможет и писать и путешествовать — словом, делать все, что ему заблагорассудится. После двух поездок в автомобиле к ближайшему доступному месту на участке Уинфилда и после тщательного изучения островков и пляжа Юджин разработал проект строительства, включавший четыре отеля разных размеров, ресторан и казино с залом для танцев, игорный дом по образцу Монте-Карло, летний театр, павильон для оркестра, три очаровательные пристани, яхт-клубы со стоянками для моторных лодок, а также разбивку парка, где аллеи расходились бы радиусами от центра и пересекались другими, расположенными по кольцу. План предусматривал и создание великолепной эспланады, на которой должны были расположиться четыре отеля, набережной (в три мили длиной для начала), постройку железнодорожной станции и разбивку участков под пять тысяч дач — ценою от пяти до пятнадцати тысяч долларов каждый. Острова отводились под частные резиденции, под клубы и под парки. Один из отелей должен был стоять у самой бухты, над которой предполагалось построить открытый ресторан. Отсюда ступеньки должны были вести к самой воде, так что останется лишь поставить ногу в гондолу или катер, и вас увезут на один из островов слушать музыку. Здесь должно было найти себе место все, что только могли пожелать люди с деньгами. План должен был осуществляться постепенно, но так, чтобы каждый шаг обеспечивал успех следующего. Юджин медлил с вступлением в это грандиозное дело до тех пор, пока вместе с ним не набралось десяти человек, обязавшихся взять на пятьдесят тысяч долларов акций каждый. В числе их был мистер Уилтси, президент Лонгайлендской железной дороги, мистер Кенион Уинфилд и Милтон Уилибрэнд, богатый человек, видный представитель избранного общества, в доме которого Юджин познакомился с Уинфилдом. «Компания Синее море» была превращена в акционерное предприятие, и акции были распределены между пайщиками пакетами по десять тысяч долларов, реализуемыми в несколько сроков (причем каждый срок устанавливался по общему соглашению и в зависимости от произведенных работ), а деньги были депонированы в банке. Уже спустя два года после первого разговора с Уинфилдом на руках у Юджина оказалась внушительная пачка тисненных золотом акций «Компании недвижимых имуществ Синее море», строившей приморский курорт, который широко рекламировался и, по словам заинтересованных лиц, обещал стать лучшим курортом в мире. Судя по тому, что на них значилось, эти акции представляли двести пятьдесят тысяч долларов, и потенциально они этого стоили. Разглядывая их и отдавая должное предприимчивости и дальновидности мистера Уинфилда и его компаньонов, Юджин и Анджела с уверенностью думали о том дне, когда эти ценные бумаги действительно поднимутся до своей номинальной стоимости, а может быть, и значительно выше.Глава 76
Все это время, пока Юджин был занят планами Уинфилда и своими взаимоотношениями с «Компанией Синее море», он чаще и с возрастающим интересом думал о Сюзанне Дэйл, которая крепко запомнилась ему с первой же встречи. Только через полтора месяца довелось ему снова увидеть Сюзанну на балу, который миссис Дэйл давала для дочери. Вместе с Юджином была приглашена и Анджела. В противоположность многим миссис Дэйл не делала оскорбительного различия между супругами. Анджела не блистала в свете, но она была достойной, порядочной женщиной, самоотверженной и преданной женой. На самом деле Юджин больше интересовал миссис Дэйл — прежде всего потому, что у них было много общего в характере, а кроме того, он был блестящий человек и пользовался большим успехом. Ей нравилось, что он так просто смотрит на жизнь, нравилась его уверенность в том, что талант должен открыть перед ним все двери. Он, очевидно, считал себя не хуже других, а пожалуй, даже и лучше. Она слышала отовсюду, что он быстро выдвигается на издательском поприще и участвует еще во многих предприятиях, к числу которых принадлежит и проект создания первоклассного курорта. Уинфилд был личным другом миссис Дэйл, но он никогда не пытался втянуть ее в свои спекуляции. Правда, как-то раз он посулил ей, что когда-нибудь купит у нее земельные владения на Стейтен-Айленде и разобьет их на участки для застройки. Это была одна из причин ее расположения к нему. В день бала Юджин с Анджелой отправились в Дэйлвью в своем автомобиле. Юджин всегда восхищался этой местностью, она вызывала в нем ощущение величия и простора, какие редко можно испытать в окрестностях Нью-Йорка. Стояла зима, вечер выдался морозный и ясный. Большой дом с застекленными террасами был ярко освещен. Там собралось уже многочисленное общество мужчин и женщин, которых Юджин встречал и раньше, а также много незнакомой молодежи. Ему пришлось представлять Анджеле своих друзей, и при этом он снова ощутил всю бессмысленность, нелепость своего брака. Анджела была очень мила, но совсем не похожа на этих женщин, державшихся с таким апломбом. В них было что-то величественное, не говоря уже об ослепительной красоте и жизненной умудренности, и когда контраст оказывался слишком уж разительным, Юджин с отчаянием думал, что его брак с Анджелой был роковой ошибкой. Зачем он сделал эту глупость? Он мог в свое время напрямик сказать Анджеле, что не женится на ней, и тем дело и кончилось бы. Он забывал при этом, что сам не мог разобраться в обуревавших его противоречивых чувствах. Но как бы там ни было, он ощущал себя глубоко несчастным. Ведь будь он сейчас холостым человеком, его жизнь только еще начиналась бы! В этотвечер, расхаживая по залу, он радовался свободе, хотя и кратковременной. К счастью для него, то один, то другой из гостей брал на себя труд занимать Анджелу. Это избавляло Юджина от необходимости неотлучно быть при ней, так как, если он не уделял ей достаточно внимания или же другие мало интересовались ею, она осыпала его дома упреками. Она жаловалась, что его невнимание к ней всем бросается в глаза. Раз никто не хочет занимать ее, его долг не оставлять ее одну. Юджин всем своим существом восставал против такой обязанности, но не знал, как от нее избавиться. Анджела часто говорила, что если он и сделал ошибку, женившись на ней, то теперь поздно жалеть. Это ясно всякому порядочному человеку. Сейчас, на балу, Юджин с интересом приглядывался к молодым женщинам и поражался — сколько среди них красавиц. Он думал о том, какого полного расцвета — физического и душевного — достигают девушки в восемнадцать лет. По своим вкусам, проницательности и зрелости они годятся в подруги любому мужчине, даже сорокалетнему. Некоторые из них казались Юджину особенно привлекательными — они были такие свежие, такие цветущие, в их жилах струился огонь честолюбия и желания. Прекрасные девушки, настоящие цветы, розы — бледные и яркие. И подумать только, что для него время любви прошло, прошло безвозвратно! Откуда-то с верхнего этажа спустилась в залу Сюзанна с подругами, и его, как и в первый раз, поразила ее простота и непосредственность, искренность и сердечность ее обращения. Русые волосы, стянутые широкой голубой лентой в тон глаз, хорошо оттеняли свежесть ее лица. На ней было воздушное нежно-розовое платье, перехваченное в талии лентой и украшенное цветами, а ножки были обуты в мягкие белые сандалии. — А, мистер Витла! — весело сказала она и, протягивая ему свою белую гибкую руку, сперва грациозным движением подняла ее на уровень глаз. Ее румяные губы расцвели в радостной улыбке, обнажив ровные белые зубы. В широко открытых глазах — какими Юджин и запомнил их — светилось безотчетное наивное удивление. «Посмотрел бы я, — думал Юджин, — какие розы, обрызганные утренней росой, могли бы выдержать сравнение с девушкой в полном цвету. Нет ничего прекраснее женщины в семнадцать-восемнадцать лет». — Да, вы не ошиблись — мистер Витла, — ответил он, весь сияя от радости. — А я уж думал, вы меня забыли. Бог ты мой, как мы сегодня обворожительны! Когда я гляжу на вас, мне вспоминаются розы, свежесрезанные цветы, витражи старинного собора, ларчики с драгоценностями и… и… и… Он сделал вид, будто подыскивает слова, и комически поднял глаза к потолку. Сюзанна рассмеялась: как и Юджин, она умела ценить шутку. Сравнение с розами, драгоценностями и цветными стеклами показалось ей необыкновенно смешным. — Боже мой, какой ассортимент! — расхохоталась она. — Я бы с удовольствием стала всем, что вы сейчас назвали, а тем более драгоценностями. Мама не разрешает мне их носить. Она не дает мне даже брошки! — Мама у вас просто злючка, — сказал Юджин убежденным тоном. — Придется нам поговорить с ней. Но она, должно быть, знает, что вы не нуждаетесь в них. В вашем распоряжении кое-что не хуже и даже лучше любых драгоценностей. Но оставим эту тему, хорошо? Сюзанна испугалась было, что Юджин начнет расточать ей комплименты, и ей очень понравилось, что он так просто оборвал разговор. Ее немного смущала мысль, что он такой важный и одаренный человек, но неудержимо влекла к себе его веселость и простота. — А знаете, мистер Витла, я начинаю думать, что вам доставляет удовольствие дразнить людей, — сказала она. — О, что вы! — возразил Юджин. — Нет, нет! Это на меня не похоже. Да разве я посмею! Дразнить людей! Боже упаси! Я всегда подхожу к людям с трагическим и серьезным видом и выкладываю им самую горькую, самую ужасную правду. С ними нельзя иначе. Им это нужно. Чем больше правды я им говорю, тем лучше себя чувствую и тем больше они меня ценят. Первую половину этой комической тирады Сюзанна выслушала с любопытством, удивленно раскрыв глаза. Потом на лице ее мелькнула улыбка, и наконец она расхохоталась. — Ха-ха-ха! О боже, как вы смешно говорите! Ее смех звучал, словно переливчатое журчание ручейка, но Юджин грозно нахмурился. — Это еще что такое? — сказал он. — Прошу вас не шутить со мной. Помните, смеяться не дозволено. Маленьким девочкам не полагается такая вольность. Красота требует серьезности. Никогда не улыбайтесь. Ведите себя чинно. Сделайте умное лицо. А потому… и посему… и так далее и тому подобное. Он строго поднял палец, и Сюзанна застыла на месте. Он не сводил с нее взгляда, тайно любуясь ее точеным подбородком, носом и изящными очертаниями рта, а она смотрела на него и не знала, что думать. Он был такой странный, похожий и на мальчика и на придирчивого, грозного наставника. — Вы меня даже испугали, — сказала она. — Полноте, полноте, что вы! Я пошутил! Сеанс окончен. Можете смеяться и дышать. Будете сегодня танцевать со мной? — Конечно, буду, если вы меня пригласите. Кстати, я вспомнила — у нас есть карточки для танцев. Вы взяли себе? — Нет. — Тогда пойдемте, они, кажется, вон там. Она повела его в первую гостиную, и Юджин взял у лакея, стоявшего в дверях, две карточки. — Можно мне пожадничать? — спросил он, приготовившись писать. Сюзанна промолчала. — Если я запишу за собой третий, шестой и десятый танцы, это не будет слишком много? — Н-нет, — нерешительно ответила Сюзанна. Он записал танцы и на своей и на ее карточках, после чего они вернулись в большой зал, где толпились многочисленные гости. — Вы не забудете, что обещали мне эти танцы? — Нет, конечно, — ответила она, — ни в коем случае. — Вы прелесть. А вот и ваша мама. Так помните, вы никогда, никогда не должны смеяться. Это не полагается. Сюзанна отошла от него в недоумении. Шутки этого человека, такого жизнерадостного и самоуверенного, нравились ей. Он, казалось, относился к ней, как к маленькой девочке, не то что молодые люди, которые в ее присутствии напускали на себя томный вид и притворялись безнадежно влюбленными. С этим человеком можно было весело провести время, не рискуя произвести дурное впечатление и навлечь на себя гнев мама. Кстати, и мама он тоже нравился. Вскоре, однако, она забыла про него в оживленной болтовне с другими гостями. А Юджин думал о том, что за непонятная сила влечет его к этой девушке. Что же это в самом деле? Он встречал за последние годы сотни очаровательных созданий, но почему-то только она… Невзирая на молодость и наивность, в ней угадывалась большая сила, какое-то уверенное спокойствие, позволявшее ей бесстрашно смотреть на жизнь и не видеть вокруг ничего дурного. Да, несомненно, все дело в этом, — отчасти, во всяком случае, — потому что немалую роль играла, конечно, и ее необычайная красота. Но главное — в пазах ее светилась отважная вера в жизнь. Она чувствовалась в ее смехе, в ее настроении. Казалось, ничто не могло испугать эту девушку. Бал начался после десяти, Юджин танцевал и с Анджелой, и с миссис Дэйл, и с миссис Стивенс, и с миссис Уилли. Когда начался третий танец, он отправился искать Сюзанну и нашел ее в обществе подруги и двух светских щеголей. — Мой танец, разрешите напомнить, — улыбаясь, сказал он. Она засмеялась и мягким движением протянула ему руки, даже не подозревая, как она очаровательна в этот миг. У нее была манера слегка откидывать голову назад, и это придавало особую прелесть красивой линии ее шеи. Она прямо и открыто смотрела в глаза Юджину, отвечая улыбкой на его улыбку. И когда они начали танцевать, у него было такое чувство, точно он танцует первый раз в жизни. Ему вспомнились слова какого-то поэта, воспевавшего поэзию танца. Как это верно! Как верно! Эта девушка танцевала чудесно, восхитительно, ее танец был как песня, свободно льющаяся из горла. Легко, как ветерок, двигалась она под звуки музыки, доносившейся откуда-то из-за цветочных кадок. И Юджин, точно под каким-то гипнозом, всецело отдался этим чарам. Он забыл обо всем на свете, кроме чудесного видения, которое держал в своих объятиях, кроме его прелести. Ничто не могло сравниться с этим ощущением. Ничего подобного он еще не испытывал. В этом была радость, неземной восторг, ни с чем не сравнимое ощущение гармонии. Он был весь во власти этих чувств, когда музыка внезапно, как ему показалось, смолкла. Сюзанна с любопытством заглянула ему в глаза. — Вы любите танцевать, правда? — спросила она. — Да, люблю, но танцую неважно. — О, нет, нет! Вы танцуете необыкновенно легко. — Это благодаря вам, — просто сказал он. — В вас живет душа танца. А я танцую не лучше других. — Нет, нет! — повторила она и, взяв его под руку, направилась к стулу. — А вот и Кинрой! Следующий танец я обещала ему. Юджин чуть не со злобой посмотрел на ее брата. И зачем только ее отнимают у него! Кинрой был красивый мальчик, очень похожий на Сюзанну. — Ну что ж, придется уступить. Ничего не поделаешь. Он отошел от нее и стал нетерпеливо дожидаться шестого и десятого танцев. Он говорил себе, что это бессмысленное, безнадежное увлечение. Она очень молода и к тому же тщательно ограждена всякими условностями и барьерами, — ведь к этому в сущности и сводится воспитание молодой девушки из общества. Что же до него, то он не в том возрасте, когда мог бы представлять для нее интерес, тем более что и его держат в плену тысячи условностей и тысячи интересов. Между ними не может быть ничего общего, и все-таки его тянуло к ней, тянуло к маленькому глотку того божественного напитка, каким является иллюзия. Пусть он женат, пусть между ними большая разница в возрасте, но несколько минут в ее обществе, возможность подразнить ее были для него счастьем. А ощущение, которое вызвал в нем танец, это ощущение идеальной гармонии и красоты, — разве испытал он в жизни что-либо подобное? Бал близился к концу. В час ночи Юджин и Анджела уехали домой. Анджела развлекалась в обществе молодого офицера из форта Уодсворт, знавшего ее брата Дэвида, и осталась очень довольна вечером. По дороге она расхваливала миссис Дэйл, восхищаясь ее приветливостью и гостеприимством, а о Сюзанне сказала, что та была на редкость хороша сегодня и весела. Но Юджин выслушал ее довольно безучастно, не желая показывать, что Сюзанна интересует его больше, чем кто-либо другой. — Да, она очень милая девушка, — сказал он. — Довольно хорошенькая. Впрочем, в ее возрасте все девушки хороши. Мне нравится подтрунивать над ними. «Неужели он окончательно остепенился?» — подумала Анджела. Он стал гораздо спокойнее и разумнее говорить о женщинах. Возможно, его излечила работа и связанная с нею ответственность. И все-таки Анджела была уверена, что красота некоторых женщин не оставляет его равнодушным. Прошло пять недель, и Юджин случайно встретил мать и дочь на Пятой авеню, когда они выходили из антикварной лавки. Миссис Дэйл объяснила, что они заходили справиться, не возьмутся ли там починить старинное кресло. Юджину и Сюзанне удалось обменяться лишь несколькими шутками. Спустя месяц он снова встретил их в доме Брентвуда Хэдли в Вестчестере. Наступила весна, и Сюзанна и ее мать увлекались верховой ездой. Юджин приехал в субботу с тем, чтобы остаться на воскресенье. Он встретил Сюзанну в тот момент, когда она возвращалась с прогулки, — в амазонке, разрумянившаяся и очень оживленная. Ветер растрепал на висках ее волосы. — А, здравствуйте, — воскликнула она, как всегда, с какой-то милой непринужденностью протягивая ему высоко поднятую руку. — В последний раз мы виделись с вами на Пятой авеню, не правда ли? Мама, помнится, хлопотала насчет починки кресла. Ха-ха-ха! Она где-то еще далеко. Я обогнала ее на несколько миль. Вы надолго? — Только на сегодня и на завтра. Он смотрел на нее, стараясь казаться веселым и беспечным. — Миссис Витла с вами? — Нет, она не могла приехать, у нас гостит ее родственник. — О, я должна немедленно принять ванну! — сказала его очаровательница и побежала дальше, бросив на ходу: — Мы еще, вероятно, увидимся до обеда. Юджин вздохнул. Час спустя она появилась в легком, открытом кисейном платье с черной шелковой ленточкой вокруг шеи. Проходя мимо столика, на котором лежали журналы, она захватила один и вышла на террасу, где, кроме Юджина, никого не было. Ему приятно было, что она так непринужденно и по-дружески с ним держится. Юджин нравился Сюзанне ровно настолько, чтобы она могла чувствовать себя в его обществе легко и свободно, и сейчас, увидев его, она не убежала, а подошла. — Вот вы где! — сказала она, усаживаясь в кресло, стоявшее неподалеку от него. — Да, вот я где, — ответил он и по обыкновению принялся подшучивать над нею, не зная, как вести себя с нею иначе. Она весело отвечала ему, тон Юджина забавлял ее. Его юмор ей очень нравился. — Знаете, мистер Витла, — сказала она вскоре, — я больше не буду смеяться вашим шуткам. Ведь, в сущности, все они по моему адресу. — Вот это-то и хорошо, — возразил он. — Неужели вы хотите, чтобы они были по моему адресу? Это были бы невеселые шутки! Она рассмеялась, а он улыбнулся. Они смотрели на золотые лучи вечернего солнца, пронизывающие молодую кленовую рощицу. Весна только еще начиналась, на деревьях распускались почки. — Какой прекрасный вечер! — сказал он. — Да, — воскликнула она, и голос ее прозвучал мелодично и задушевно. Впервые Юджин расслышал в нем нотки глубокой искренности. — Вы любите природу? — спросил он. — Я? Я эти дни прямо не нагляжусь на деревья! У меня бывает иногда странное ощущение, мистер Витла. Будто я не живое существо, а только звук или солнечный зайчик на листве. Юджин внимательно посмотрел на нее. Это сравнение поразило его, как поразила бы всякая интересная черта в любом человеке. Ему хотелось постичь душу этой девушки. Неужели она так глубоко мыслит, так тонко чувствует? И столько в ней первозданной поэтичности, что природа имеет для нее такое значение? Неужели красота этой девушки есть только отблеск, отражение еще более чудесной души? — Ах, вот как? — удивился он. — Да, — тихо сказала она. Он снова посмотрел на нее, и она ответила ему серьезным взглядом. — Почему вы так смотрите на меня? — спросила она. — А почему вы говорите такие странные вещи? — Что же особенного я сказала? — Вы, пожалуй, сами себя не понимаете, Сюзанна. Впрочем, не будем говорить об этом. Хотите пройтись? До обеда еще целый час. Мне хочется посмотреть, что там, за этой рощей. Они пошли по узенькой тропинке, терявшейся в густой траве, под ветками, на которых наливались зеленые почки. Тропинка привела их к ограде, а за ней открывался зеленый, усеянный камнями луг, где паслись коровы. — Ах, весна, весна! — воскликнул Юджин. И Сюзанна тотчас же отозвалась: — Знаете, мистер Витла, мне кажется, у нас с вами много общего. Я чувствую сейчас то же, что и вы. — Как вы можете знать, что я чувствую? — А по звуку вашего голоса. — В самом деле? — Конечно. Почему же нет? — Сюзанна, вы необыкновенная девушка, — задумчиво произнес он. — Мне просто трудно вас понять. — Что вы! Разве я не такая, как все? — Нет, вы совсем, совсем особенная, — сказал он. — По крайней мере мне так кажется. Такой, как вы, я еще не встречал.Глава 77
После этого разговора у Сюзанны зародилось подозрение, что мистер Витла (как она всегда мысленно называла его) относится к ней не только «очень мило». Он был так ласков, так задумчив и вместе с тем так весел в ее присутствии. Казалось, жизнь бьет в нем ключом. У него, по-видимому, никогда не было причин чувствовать себя угнетенным, как это случалось временами с нею, когда она оставалась одна. Одевался он безукоризненно, и мать рассказывала ей, что он занят очень важными делами. Однажды, когда они сидели за столом в Дэйлвью, разговор зашел о Юджине, и миссис Дэйл отозвалась о нем очень сердечно. — Он самый симпатичный из всех, кто у нас бывает, — вставил Кинрой. — Никакого сравнения с этим дубиной Вудвордом. Он имел в виду преданного поклонника миссис Дэйл, приблизительно одних лет с Юджином. — А миссис Витла — престранное маленькое существо, — подхватила Сюзанна. — Как мало общего между нею и мистером Витла! Он такой веселый, душа нараспашку, а она всегда прячется в свою раковину. Как ты думаешь, мама, она одних с ним лет? — Едва ли, — сказала миссис Дэйл, которую ввела в заблуждение моложавость Анджелы. — А почему ты спрашиваешь? — Просто так, — ответила Сюзанна, испытывавшая какой-то смутный интерес ко всему, что касалось Юджина. Они виделись после этого еще несколько раз, причем одну из встреч устроил Юджин, уговоривший Анджелу пригласить Сюзанну с матерью на весенний бал, который они давали у себя в студии. Другая встреча произошла в доме у Уилибрэндов, куда были приглашены супруги Витла и миссис Дэйл с дочерью. Юджин бывал всюду с Анджелой, а Сюзанна выезжала в сопровождении матери. И если им удавалось поговорить, то это были лишь шутливые, мимолетные беседы — «для вида», во время которых Юджин неизменно притворялся веселым. Сюзанна не угадывала под этой веселостью глубокого раздумья и затаенной тоски. Так продолжалось до июля, когда Анджела, которую Юджин повез на несколько дней на взморье, внезапно слегла. Она легко простужалась, у нее постоянно болело горло, и эти симптомы, которые врачи приписывают скрытой форме ревматизма, в конце концов действительно вылились в эту болезнь. Врачи утверждали также, что у нее сердце не в порядке, и это в сочетании с серьезным приступом ревматизма надолго уложило ее в постель. Юджин пригласил сиделку и вызвал Мариетту. Он попросил Миртл, жившую теперь в Нью-Йорке, взять в свои руки уход за Анджелой и временно, до приезда Мариетты, присмотреть за его домом. Под ее наблюдением все в доме шло довольно гладко. Между прочим, Миртл, будучи поклонницей «христианской науки» и ее методов лечения, которое она проверила на себе (она недавно излечилась от продолжительного нервного расстройства), настаивала на том, чтобы Юджин пригласил к больной какого-нибудь практикующего лекаря из этой секты, но Юджин и слышать об этом не хотел. Он нисколько не сочувствовал увлечению Миртл и считал, что Анджела больше всего нуждается в помощи обыкновенного врача. Позвали опытного специалиста, и тот заявил, что Анджела должна полтора-два месяца провести в постели. — Весь ее организм расшатан ревматизмом, — сказал он. — Положение очень серьезное. Но полный покой и постоянный уход и наблюдение поставят ее на ноги. Юджин был очень огорчен. Ему тяжело было видеть страдания Анджелы. Но вместе с тем болезнь нисколько не изменила его отношения к ней. Да он и не видел причин к этому. Ведь болезнь не внесла никакой перемены в ее взгляды. Их отношения опекунши и беспокойного питомца оставались все теми же. Балы и приемы прекратились, и Юджин стал проводить все вечера дома. Он присматривал за сиделкой и хотел всякий раз слышать мнение врача. Работы у него было по горло: ему приходилось много читать, давать консультации, и люди, нуждавшиеся в его совете, часто приходили вечерами к нему домой. Друзья и знакомые заезжали выразить соболезнование или присылали сочувственные письма — и среди них миссис Дэйл и Сюзанна. Миссис Дэйл проявляла к семейству Витла особенно много внимания, так как Юджин собирался в скором времени напечатать ее первый роман. Она присылала цветы, часто заезжала сама и предлагала помощь Сюзанны на тот случай, если не явится сиделка или же Миртл не сможет прийти. Она спрашивала, не хочет ли Анджела, чтобы Сюзанна приходила почитать ей. Это были любезные предложения, и делались они без всякой задней мысли. Вначале Сюзанна посещала их только вместе с матерью, но болезнь Анджелы затянулась, и она стала приезжать одна. Юджин целый месяц стойко переносил удушливую жару городской квартиры, лишь бы повидаться с девушкой. Но как-то миссис Дэйл предложила ему провести у них за городом субботу и воскресенье. Это недалеко. Можно все время сноситься с Нью-Йорком по телефону. Он немного отдохнет. Несмотря на то, что Анджела не раз предлагала ему съездить куда-нибудь на взморье, хотя бы дня на два, Юджин отказывался под предлогом, что ему не хочется ехать одному. В действительности же он все больше и больше увлекался Сюзанной и хотел быть только там, где мог увидеться с нею. Приглашение миссис Дэйл обрадовало его; однако раз он до сих пор притворялся, надо было притворяться и дальше. Но миссис Дэйл настаивала. Анджела поддерживала ее. Миртл тоже считала, что он должен поехать. И однажды в пятницу после обеда Юджин отправился в Дэйлвью на своей машине, которую затем отослал обратно в город. Сюзанна куда-то ушла, и он вышел на террасу полюбоваться великолепной панорамой залива. Кинрой с товарищем и двумя девушками играли в теннис. Юджин пошел посмотреть на их игру, и в это время вернулась разрумянившаяся после прогулки Сюзанна. Она заходила к кому-то из соседей. При виде ее Юджин почувствовал, как напряглись все его нервы, его охватил восторг, и девушка, казалось, испытывала ответное волнение. Она была очень весела, и смех ее звучал заразительно. — У них уже составилась партия, — сказала она Юджину. — Давайте возьмем ракетки и сыграем друг против друга. — Я должен вас предупредить, что играю скверно. — Но уж, наверно, не хуже меня! Я такой плохой игрок, что Кинрой отказывается играть со мной в паре. Ха-ха-ха! — Ну, если так… — беззаботным тоном произнес Юджин, и они отправились за ракетками. Они прошли на второй корт и здесь оказались совершенно одни. Каждый удачный удар служил поводом для взаимных комплиментов, каждый промах вызывал взрыв смеха или шутку. Юджин пожирал девушку глазами, и она, сама того не сознавая, тоже не сводила с него больших сияющих глаз. Она не понимала, почему ей так хорошо. Словно в нее вселился неукротимый дух веселья. Впоследствии она признавалась ему, что чувствовала в тот день огромную радость, какой-то необъяснимый восторг, и всей душой отдавалась игре, — и в то же время ее томил безотчетный страх. Юджину она казалась обворожительной. Играла она действительно плохо, но это было ему совершенно безразлично. Движения ее были прелестны. Миссис Дэйл давно уже восхищалась душевной молодостью Юджина. И сейчас, наблюдая за ним из окна, она говорила себе, что он еще совсем мальчик. Юджин и Сюзанна представляли очаровательную пару. У нее мелькнула мысль, что, будь он холост, он был бы неплохой партией для ее дочери. Хорошо, что он такой благоразумный, трезвый в своих взглядах и милый человек, — он держится с Сюзанной совсем как опекун. И расположение, которое Сюзанна чувствует к нему, можно считать признаком здоровой натуры. После обеда Кинрой предложил своим друзьям и Сюзанне пойти потанцевать в клуб, расположенный неподалеку от форта на берегу залива. При мысли, что Сюзанна уйдет и оставит его одного, Юджин приуныл, и миссис Дэйл, заметив это, предложила ехать всем вместе. Сама она не была большой любительницей танцев, но у Сюзанны не было кавалера, — Кинрой с товарищем все свое внимание уделяли гостившим у них девушкам. Вся компания села в машину и поехала в клуб; увешанный китайскими фонариками, он утопал в полумраке. Из зала доносилась тихая музыка. — Ну, вы идите танцевать, — сказала миссис Дэйл Сюзанне, — а я посижу здесь и полюбуюсь заливом. Дверь открыта, и мне будет видно, как вы танцуете. Юджин подал Сюзанне руку, и в следующую минуту они уже кружились в танце. Какое-то безумие сразу охватило их. Не произнося ни слова и даже не обменявшись взглядом, они прижались друг к другу и танцевали в каком-то упоении. — Боже, как красиво! — воскликнула Сюзанна, когда, проносясь мимо открытой настежь двери, они увидели далеко в заливе ярко освещенную шхуну, беззвучно плывущую мимо. Ее единственный огромный парус утопал в глубокой тени; она приближалась неслышно, словно призрак. — Вам нравятся такие картины? — спросил Юджин. — Ну еще бы! — Она дрожала в его объятиях, как натянутая струна. — У меня от них дух захватывает. Смотрите, какая прелесть! Юджин подавил вздох. Теперь он понял. Никогда еще его душа художника не встречала такой родственной души, до такой степени исполненной чувства прекрасного. Жажда красоты, которая томила его, жила и в ней и влекла ее к нему. Разница была лишь в том, что ее душе драгоценной оправой служили юность, красота и обаяние чистоты, и это вызывало в нем благоговейный трепет. Казалось немыслимым, чтобы она полюбила его. Ее глаза, ее лицо — как они его пленяли! Его толкала к ней неодолимая сила, и такое же неодолимое влечение было у нее к нему. Юджин весь день находился во власти этого чувства, и теперь оно окончательно завладело им. Он прижал девушку к груди, и она, послушная каждому его движению, вся трепеща, отдалась его объятию. Ему хотелось воскликнуть: «О Сюзанна, Сюзанна!» — но он боялся. Стоит ему произнести слово, и он спугнет ее. Она не догадывалась, что все это означает. — Знаете, — сказал он, когда музыка смолкла, — я не пойму, что со мной. Меня словно опоили каким-то дурманом, я чувствую себя мальчишкой. — О, если бы они играли, не переставая! — только и ответила Сюзанна, и они вместе вышли на темную террасу, над которой мерцали бесчисленные звезды. — Ну, как? — спросила миссис Дэйл. — По-видимому, вы не разделяете моего увлечения танцами? — спокойным голосом спросил Юджин, опускаясь рядом с ней на стул. — Думаю, что нет, судя по тому, какое удовольствие они вам доставляют. Я смотрела, как вы сейчас танцевали. Вы прекрасная пара. Кинрой, попроси, пожалуйста, чтобы нам принесли мороженого. Сюзанна незаметно ускользнула и присоединилась к друзьям брата. Она стала весело болтать с ними, чувствуя, что Юджин не спускает с нее глаз, вся во власти его присутствия и обаяния. Она пыталась разобраться в том, что с ней происходит, но почему-то ей это не удавалось. Опять заиграла музыка, из приличия Юджин дал ей потанцевать с товарищем брата. Следующий танец принадлежал ему, а потом они опять танцевали вместе, так как и Кинрой и его приятели заявили, что хотят отдохнуть. Юджин и Сюзанна продолжали танцевать, охваченные все возрастающим восторгом, не находившим выхода в словах, если не считать особенной интонации, сквозившей в тех редких, ничего не значащих фразах, которыми они обменивались. Зато говорили их руки, когда соприкасались, говорили взгляды. Сюзанной владели робость и страх. Ее пугало сознание того, что она делает, ей было страшно, как бы у Юджина не вырвалось неосторожное слово, но хотелось, чтобы эта радость длилась вечно. В перерыве между двумя танцами, когда она стояла у перил террасы, глядя вниз, на темную воду, он подошел к ней, и наклонившись, сказал: — Какая изумительная ночь! — Да, чудесная! — отозвалась она, отводя от него взгляд. — Вы когда-нибудь задумывались над тайной жизни? — Конечно. Очень часто. — Но ведь вы так еще молоды! — вырвалось у Юджина с затаенной страстностью. — А иногда мне совсем не хочется думать, — вздохнула она. — Почему? — Не знаю, право. Не могу вам объяснить. У меня нет для этого слов. Не знаю. В трогательной простоте ее ответа таился для него глубокий и важный смысл. Ведь это так понятно, что истинно богатая душа не находит нужных слов, особенно когда она еще молода и не располагает достаточным земным лексиконом. Он вспомнил слова Вордсворта о том, что мы «славою венчанные приходим сюда». Но откуда? В ее душе, должно быть, много мудрости, почему бы иначе его так влекло к ней? О, сколько трогательно-прекрасного в ее немоте! Они вернулись из клуба в автомобиле, и поздно ночью, когда Юджин вышел на террасу и сел покурить, чтобы успокоить свой воспаленный мозг, между ними произошла еще одна встреча. Ночь была удушливо-жаркая, и только здесь, на холме, дул прохладный ветерок. В заливе и дальше, в открытом море, виднелось много судов — крохотные мерцающие огоньки, — а в небе горели мириады звезд. «Смотри, как свод небесный весь выложен миллионами кружков из золота блестящего…»[53] — вспомнилось ему. Отворилась дверь, и на террасу из библиотеки вышла Сюзанна. Юджин не ожидал еще раз увидеть ее; она тоже удивилась. Красота ночи выманила ее на террасу. — Сюзанна, — сказал он, едва дверь открылась. Она посмотрела на него, застыв в нерешительности, ее прелестное белое личико светилось во мраке. — Здесь так красиво! Идите сюда, садитесь. — Нет, — сказала она. — Мне нельзя. Но действительно, как чудесно! — Она растерянно оглянулась по сторонам, потом посмотрела на него. — Ах, какой ветерок! — Она откинула голову назад, жадно вдыхая воздух. — У меня в ушах все еще звучит музыка, — сказал Юджин, подходя к ней. — Я не могу забыть сегодняшний вечер. Он говорил тихо, почти шепотом. Сигару он кинул прочь. Голос Сюзанны звучал глухо. Она посмотрела на него, глубоко вздохнула и снова откинула голову так, что видна была ее прелестная шея. — Ах! — со вздохом вырвалось у нее. — Давайте потанцуем еще, — сказал он и, взяв ее правую руку, обнял девушку за талию. Она не отшатнулась, а только смотрела на него не то рассеянным, не то завороженным взглядом. — Без музыки? — спросила она. Ее охватила дрожь. — Вы сами музыка! — ответил он, задыхаясь от волнения. Они отошли влево, к той части террасы, где не было окон и где никто не мог их видеть. Юджин крепко прижал к себе девушку, глядя ей в глаза, но не смея сказать того, что было у него на душе. Они сперва двигались бесшумно, а потом из груди Сюзанны вырвался тот переливчатый нежный смех, который так очаровал Юджина при первом их знакомстве. — Что о нас подумали бы! — сказала она. Они подошли к балюстраде. Он все еще держал руку Сюзанны, но теперь она ее высвободила. Юджин отдавал себе отчет в страшной опасности. Он чувствовал, что рискует испортить свои блаженно-легкие отношения с ней. Наконец он сказал: — Может, нам лучше разойтись? — Да, — ответила она. — Мама очень огорчится, если узнает. Она первая направилась к двери. — Спокойной ночи! — шепнула она. — Спокойной ночи! — ответил он, вздохнув. Юджин вернулся к своему креслу и стал думать о том, что он делает. Риск был колоссальный. Продолжать ли? Перед ним встал образ Сюзанны — ее прелестное, как цветок, лицо, ее гибкое тело, ее непередаваемая грация и красота. Нет, пожалуй, не следует. Но какая это утрата! Как обидно дать бесследно промелькнуть подобному очарованию. Возможно ли, чтобы в этой юной головке обитали такие сложные мысли и чувства! Никогда, никогда в жизни не встречал он такой девушки. Ни в ком не видел он столько прелести. Она вызывала представление о весеннем лесе, о полевых цветах. О, если бы жизнь вняла его мольбам и подарила ему это создание. — О Сюзанна, Сюзанна! — шептал он про себя, наслаждаясь звуками ее имени. В четвертый или пятый раз в жизни Юджину казалось, что он страстно, отчаянно, безумно влюблен.Глава 78
Вспышка чувства в Юджине и эта неожиданная душевная близость полностью изменили его отношение к жизни. К нему вернулась молодость. Несмотря на свои успехи в деловом мире, он все эти годы не переставал грустить о том, что время проходит, что с каждым днем, с каждым часом надвигается старость, — а чего в сущности он достиг? Чем больше он всматривался в жизнь сквозь призму своего опыта, тем больше убеждался в бессмысленности всяких усилий. Что в сущности дает человеку успех? Неужели он стремится только к тому, чтобы приобретать дома, землю, красивые вещи и друзей? Существует ли в жизни истинная дружба и что приносит она с собой? Глубокое удовлетворение? Да, но только в единичных случаях, а в общем — какая горькая насмешка скрыта в этом слове, как часто дружба связана с тонким расчетом, с эгоистическими целями, со всякими происками! Ведь большей частью заводишь дружбу с теми, кто равен тебе по положению. Близкий друг — да есть ли такой? Долго ли считал бы он своим другом человека, которому не повезло в жизни? Общество делится на группы, и каждая живет по известным законам, придерживается в своем поведении известных правил, пользуется известной степенью влияния и уважения. Колфакс — его друг до поры до времени. То же самое можно сказать про Уинфилда. Сотни людей вокруг него, по-видимому, почитают за счастье пожать ему руку, — но чем это вызвано? Его славой? Разумеется. Его талантом? Не иначе. Отношение к нему друзей измеряется его собственной силой и влиянием и больше ничем. Что касается любви… В сущности, что дала ему любовь до сих пор? Оглядываясь на свое прошлое, Юджин приходил к заключению, что во всех его романах преобладающую роль играла грубая чувственность. Разве мог он сказать, что когда-нибудь любил по-настоящему? Уж, конечно, не Маргарет Даф, и не Руби Кенни, и не Анджелу, — хотя его чувство к ней было ближе всего к истинной любви, — и не Кристину Чэннинг. Все эти женщины ему очень нравились, нравилась и Карлотта Уилсон, но любил ли он которую-нибудь из них? Ни в коем случае. Анджела, говорил он себе, воспользовалась его жалостью. Он женился на ней из чувства долга и прошел весь жизненный путь, так и не познав любви. Но вот в его жизнь вошла Сюзанна Дэйл, совершенная душой и телом, и он без ума от нее. Это действительно любовь, а не грубая чувственность. Ему хотелось быть с нею, держать ее руки, целовать ее губы, ловить ее улыбку — и больше ничего. Конечно, и тело ее прекрасно. Рано или поздно страсть заявит о себе, но сейчас он был очарован ее внешним обаянием и красотой ее души. Сердце Юджина разрывалось при мысли, что он лишен возможности быть постоянно с нею, хотя ничто не давало ему надежды, что ему удастся когда-нибудь ее добиться. Размышляя о своей жизни, он испытывал ужас и отвращение. Подумать только, что, познав этот единственный час неземного блаженства, он вынужден снова возвратиться в будничный мир! На службе его дела тоже шли неважно. Вместо того чтобы улучшаться, они день ото дня становились все хуже. Занятый другим, — главным образом планами «Компании Синее море», — Юджин все больше охладевал к своим обязанностям в издательстве. Правда, он посадил, где только можно было, надежных людей, но те, укрепившись на своем посту, очень мало считались с ним в работе, тем более что и Юджин не уделял им особого внимания. Уайт и Колфакс с многими из них сносились непосредственно. Некоторые работники, как, например, заведующий отделом рекламы Хейз, заведующий отделом распространения, редакторы «Интернейшнл ревью» и книжного отдела, оказались очень способными людьми, и как-то сама собой установилась молчаливая договоренность, что, хотя Юджин и нанял их, уволить их он не может. Колфакс и Уайт начинали понимать, что Юджин, умевший блестяще подбирать людей, сам не способен заниматься повседневной работой. Он не мог заставить себя сосредоточиться на практических вопросах. Будь он хозяином, как Колфакс, или ловким, практичным исполнителем вроде Уайта, он мог бы почитать себя в безопасности; но он был прирожденный вожак, вернее организатор, и, не сумев с самого начала взять руководство в свои руки, стал беспомощным и бесполезным теперь, когда начальный период работы кончился. Находились люди, которые лучше его умели разрешать отдельные вопросы. Колфакс успел изучить своих сотрудников и доверял им. В отсутствие Юджина — а он отсутствовал все чаще и чаще, по мере того как крепло его положение и возрастал его интерес к предприятию Уинфилда, — работники редакций стали обращаться за советом к Колфаксу, а если его не было, то и к Уайту. Тот принимал их с распростертыми объятиями. Помощники Юджина, рассуждая о своем начальнике, выражали мнение, что, проведя организацию — или, вернее, реорганизацию — дела, он тем исчерпал свою задачу. В свое время ему, может быть, и стоило платить двадцать пять тысяч долларов, но такой оклад уже не оправдывает себя, когда человек, выполнив свою миссию, только и делает, что сидит в кресле и смотрит в потолок. Уайт не переставал внушать Колфаксу, что в делах коммерческих Юджин совершеннейший ноль. «Он пытается взять на себя то, что вы могли бы делать гораздо лучше. Не забудьте, что вы многому научились с тех пор, как стали издателем, — так же, как и он. Но вы вошли в суть дела, а он — нет. Его помощники больше считаются с вами, чем с ним». Колфаксу доставляло удовольствие это слушать. Юджин был ему приятен, но еще приятнее было сознавать, что дело его на верном пути. Мысль о том, что кто-нибудь из его сотрудников может настолько упрочиться в издательстве, что станет в нем незаменимым, крайне беспокоила Колфакса, а он предвидел такую опасность в те дни, когда Юджин только что приступил к работе и быстро шел в гору. Уж очень авторитетно он держался. Юджин считал, что должен импонировать Колфаксу и что добиться этого можно именно таким путем, наряду, конечно, с безупречной работой. Но Колфакса это вскоре стало раздражать, так как он и сам был воплощенным тщеславием и рядом с собой не терпел других богов. Уайт, напротив, раболепствовал перед своим патроном и всегда ограничивался смиренными советами. Разница была огромная. Положение Юджина с каждым днем становилось все более шатким. Пока это еще ни в чем не проявлялось, но чувствовалось всеми. Если бы он не увлекался посторонними делами, давал себе труд вникать во все мелочи и не терял тесного контакта с Колфаксом и своими подчиненными, многое можно было бы еще спасти. Но Юджин все больше и больше пренебрегал делом, и это не могло не отразиться плачевно на его служебном положении. Сначала его отвлекали дела «Компании Синее море», перед которой открывались самые блестящие перспективы. Это был один из тех проектов, осуществление которых требует многих лет, но по началу судить об этом было еще трудно. Напротив, казалось, что успехи налицо. В первый же год, после того как в дело был вложен значительный капитал, на участке произвели большие осушительные работы, благодаря чему во многих местах вода исчезла и позади главного пляжа появилась длинная полоса суши, где можно было строить отели и клубы. Началось сооружение деревянной набережной по плану, выработанному Юджином и одобренному, с небольшими изменениями, специально приглашенным архитектором. Было частично закончено строительство прекрасного здания под обширное казино с рестораном и дансингом, сочетавшее в себе три стиля — мавританский, испанский и старомиссионерский. По инициативе Юджина в проект строительства была внесена одна эффектная деталь: все здания курорта должны были быть выдержаны в красных, белых, голубых, желтых и зеленых тонах и в смелых, но простых линиях. Стены зданий предполагалось выкрасить в белый и желтый цвета, переплеты окон — в зеленый, крыши, портики, карнизы, фундамент и ступеньки — в красный, желтый, зеленый и голубой. И внутри зданий и на прилегавших к ним дворах намечалось соорудить круглые итальянские бассейны. Все отели — разных размеров — должны были представлять собой по стилю американские варианты испанской «Джиральды». Для насаждений были выбраны ели и высокие пирамидальные тополя. Что касается железной дороги, то она уже прокладывалась, как и обещал мистер Уинфилд; кроме того, строился вокзал в испанском стиле — поистине прекрасное сооружение. По всем признакам курорт «Синее море» должен был стать тем, чем надеялся видеть его Уинфилд, — лучшим морским курортом Америки. Быстрое продвижение работ так увлекло Юджина — до появления Сюзанны, — что он уделял им больше внимания, чем мог себе позволить. Как и в первое время у Саммерфилда, он просиживал ночи над эскизами внутреннего и внешнего оформления зданий, над фасадами и лужайками, над всякого рода сооружениями на островках и так далее. Он часто ездил с Уинфилдом и его архитектором смотреть, как подвигается работа, а также посещал денежных тузов, которых надеялся заинтересовать будущим курортом. Он набрасывал эскизы реклам и планы брошюр, делая зарисовки, и придумывал к ним тексты. Но потом появилась Сюзанна, и Юджин забыл все на свете. Ее образ неотступно стоял перед ним и днем и ночью. Она занимала его мысли и в издательстве и дома, и во сне и наяву. Им овладела лихорадка, ни на минуту не отпускавшая его. Когда он снова ее увидит? Когда? Когда? Она рисовалась ему такой, какой запомнилась во время танцев в яхт-клубе и на качелях в Дэйлвью. Его терзала неистовая мучительная тоска; как безумец, одержимый одним желанием, одной мыслью, он нигде не находил покоя. Однажды, вскоре после танцев в яхт-клубе, Сюзанна вместе с матерью приехала навестить Анджелу. Юджин улучил минутку, чтобы обменяться с девушкой несколькими словами, — это было в шестом часу, и он уже вернулся домой. Сюзанна смотрела на него, как зачарованная, не зная, что и думать. Он стал жадно расспрашивать ее, где она была, куда собирается ехать. — Мы завтра едем к Бентвуду Хэдли, — сказала она. — Пробудем там неделю, а может быть, и больше. — Вы обо мне часто вспоминали, Сюзанна? — Да, да! Только не нужно говорить об этом, мистер Витла. Нет, нет, не надо. Я не знаю, что и думать. — А если бы я приехал к Хэдли, вы были бы рады? — Ну, конечно, — нерешительно ответила она. — Но вы не приезжайте. К концу недели Юджин был уже там. Устроить это было легче легкого. «Я безумно устал, — написал он миссис Хэдли. — Почему Вы не пригласите меня к себе?» «Приезжайте», — гласил телеграфный ответ, и он поехал. На этот раз его ждала большая удача, чем когда-либо. В момент его приезда Сюзанна каталась верхом, но как сообщила Юджину хозяйка дома, в близлежащем загородном клубе устраивался в этот вечер бал, и Сюзанна собиралась туда вместе с другими гостями. Миссис Дэйл тоже решила поехать и пригласила Юджина. Он ухватился за это предложение, так как знал, что сможет танцевать с владычицей своих дум. Когда все направлялись к столу, он встретился с Сюзанной в вестибюле. — Я тоже еду на бал, — сказал он возбужденно. — Приберегите для меня несколько танцев. — Хорошо, — ответила она, замирая от волнения. Они отправились на бал, и он записал за собою на ее карточке пять танцев. — Только будем осторожны, — умоляющим голосом сказала она. — Мама это не понравится. Из этих слов он понял, что ей все ясно и что отныне она — его сообщница. Но зачем он искушает ее? И зачем она поддается искушению? — Наконец-то! — прошептал он, обхватив рукой ее талию, когда они закружились в первом танце. — Я так ждал этой минуты. Она не ответила. — Посмотрите на меня, Сюзанна, — попросил он. — Не могу, — сказала она. — Прошу вас, посмотрите на меня, — продолжал он умолять. — Один раз! Посмотрите мне в глаза. — Нет, нет, — шептала она. — Я не могу! — Сюзанна, я без ума от вас! Я, кажется, совсем потерял рассудок. Я не знаю, что со мной. Ваше лицо, как цветок. Ваши глаза — что мне сказать о ваших глазах? Взгляните на меня! — Нет, — противилась она. — Эти дни, что я не видел вас, показались мне вечностью! Я считал минуты. Сюзанна, я кажусь вам глупцом? — Нет. — Все считают меня умным и способным человеком, даже блестящим. Но вы, вы — самое совершенное существо, какое я когда-либо встречал. Я думаю о вас и днем и ночью. Я мог бы без конца писать вас. Благодаря вам я вновь обрел свое искусство. Если я буду жив, я напишу с вас сто портретов. Вы когда-нибудь видели портрет возлюбленной Россетти? — Нет. — Он написал с нее сто портретов. А я напишу с вас тысячу! Она подняла глаза и посмотрела на него робко, с изумлением, завороженная его страстью, и встретила его обжигающий взгляд. — О, посмотрите на меня еще раз! — прошептал он, когда она опустила глаза под этим пылающим взором. — Не могу, — умоляла она. — Нет, можете. Один только раз. Она снова подняла глаза, и обоим показалось, будто их души слились воедино. У Юджина закружилась голова. Сюзанна пошатнулась. — Вы любите меня, Сюзанна? — спросил он. — Не знаю, — ответила она, вся дрожа. — Вы меня любите? — Не спрашивайте меня сейчас. Музыка смолкла. Сюзанна исчезла. Он увидел ее лишь много времени спустя; она спряталась от него, чтобы прийти в себя. Словно буря пронеслась над ней, всколыхнув все ее существо. Она испытывала страх, тревогу, растерянность и радостное волнение. Она вернулась в зал и опять танцевала с Юджином, но была уже значительно спокойнее. А затем они вышли на балкон, и там ему удалось шепнуть ей несколько слов. — Пожалуйста, не надо, — остановила она его. — Мне кажется, на нас смотрят. Он оставил ее одну, но в автомобиле, по дороге домой, шепнул ей: — Я буду на западной террасе. Вы придете? — Не знаю. Постараюсь. Когда все в доме стихло, Юджин, медленно направился к назначенному месту и стал ждать Сюзанну. Постепенно в огромном доме замерли последние звуки. Пробило час, потом половина второго, и было уже около двух часов, когда дверь отворилась и на террасу выскользнула прелестная фигурка Сюзанны. Она еще не сняла бального платья, на голове у нее был кружевной шарф. — Я так боюсь, — прошептала она. — Я сама не понимаю, что делаю. Вы уверены, что нас никто не увидит? — Пойдемте по тропинке на луг. Они пошли по дорожке, по которой уже шли однажды, когда встретились здесь ранней весной. Низко в небе висел желтый серп месяца, казавшийся в этот поздний час особенно большим. — Помните, как мы были здесь весной? — Помню. — Я тогда любил вас. А вы? — Нет. Они шли под деревьями, он держал ее руку в своей. — Какая ночь! Какая ночь! — воскликнул он, не в силах сдержать томившее его чувство. Они вышли на поляну. В воздухе чувствовалось августовская сухость. Теплая ночь дышала страстью. Где-то гудел жук, что-то похрустывало, неясные шорохи наполняли тьму. Квакнула лягушка, а может быть, это был хриплый голос сонной птицы. — Сюзанна, — сказал наконец Юджин, когда тропинка кончилась и они остановились на опушке, залитой ярким лунным светом. — Сюзанна, — повторил он, обнимая ее. — Нет, — сказала она, — не надо. — Посмотрите на меня, Сюзанна, — молил он. — Я хочу вам сказать, как я люблю вас. Я не нахожу слов. Смешно пытаться передать мои чувства словами. Скажите, что вы любите меня, Сюзанна. Скажите скорей. Я люблю вас безумно! Скажите, Сюзанна! — Нет, нет, я не могу! — ответила она. — Поцелуйте меня. — Нет. Он привлек ее к себе и насильно поднял ее голову за подбородок. — Откройте глаза, Сюзанна. О, боже! Какое счастье! Теперь я мог бы умереть! Большего блаженства в жизни не может быть! Мой цветок! Моя фея! Мое божество! Вы само совершенство! И подумать только, что вы любите меня! Он стал жадно целовать ее. — Поцелуйте меня, Сюзанна! Скажите, что вы любите меня. Скажите, Сюзанна! Как я люблю ваше имя! Шепните, что вы любите меня. — Нет. — Но ведь вы любите меня? — Нет. — Посмотрите на меня, Сюзанна. Умоляю вас, взгляните на меня. — Да, да, да! Люблю! — с рыданием вырвалось у нее вдруг, и она обвила руками его шею. — Люблю, люблю! — Не плачьте, Сюзанна, не плачьте, родная! Я совсем потерял голову, я люблю вас! Теперь поцелуйте меня, один только раз. За вашу любовь я готов отдать душу. Поцелуйте меня! Он прижался губами к ее губам, но она в ужасе вырвалась из его объятий. — Мне страшно! — воскликнула она. — Боже, что мне делать? Я боюсь! Ради бога, не надо! У меня такой ужас в душе! Что мне делать! Отпустите меня! Она побелела и, вся дрожа, ломала пальцы. Юджин ласково притронулся к ее руке. — Успокойтесь, Сюзанна, — сказал он. — Я больше не скажу ни слова. Вы ничего дурного не сделали. Я напугал вас. Мы сейчас пойдем домой. Успокойтесь. Вам нечего бояться. Видя ее явный испуг, он сделал над собой усилие, и они направились к роще. Чтобы еще больше успокоить ее, он достал из кармана портсигар, как будто намереваясь закурить, но, убедившись, что она успокоилась, положил сигару обратно. — Ну, прошло, дорогая? — спросил он нежно. — Да, но вернемтесь домой. — Слушайте, Сюзанна. Я пойду с вами только до конца рощи. А дальше идите одна. Я буду стоять на опушке, пока вы не подойдете к дому. — Хорошо — сказала она успокоенная. — И вы правда любите меня, Сюзанна? — Да, да, люблю, но не говорите об этом. Только не сейчас. Не то вы снова меня напугаете. Идемте домой. Они медленно двинулись дальше. Потом Юджин сказал: — Только один поцелуй, дорогая, на прощанье. Только один. Жизнь снова открылась передо мной. Вы мой добрый гений. Вы сделали из меня другого человека. У меня такое чувство, будто я никогда раньше не жил. О, какое это дивное ощущение! Какое счастье узнать это, перемениться, как переменился я! Вы заново создали меня, вы вернули мне мое искусство! Теперь я опять могу работать. Я напишу ваш портрет. Он вряд ли понимал, что говорит. Ему казалось, что, охваченный каким-то пророческим порывом, он внезапно открыл самого себя. Сюзанна приняла его поцелуй, но была так испугана, так возбуждена, что у нее прерывалось дыхание. Какие-то новые, незнакомые чувства теснили ей грудь. В сущности, она не понимала, о чем он говорит. — Завтра на опушке рощи, — сказал он. — Завтра. Пусть вам снятся золотые сны. А я никогда уже не буду знать покоя без вашей любви. Со страстью, тоскою, мукой и восторгом следил он за ее удалявшейся фигуркой, пока она, словно призрак, не растаяла за черной, безмолвной дверью.Глава 79
Невозможно, даже в таком подробном описании, как наше, передать всю необычайную сложность, всю красоту и весь ужас тех чувств, которые овладели Юджином, а потом передались и Сюзанне, когда любовь захватила его целиком. Миссис Дэйл принадлежала к числу самых близких светских друзей Юджина. С первого же дня их знакомства она стала его убежденной поклонницей, всюду отзываясь о нем как о блестящем издателе и редакторе, художнике с большим дарованием, интересном собеседнике, порядочнейшем и приятнейшем человеке. Из неоднократных бесед с нею Юджин знал, что миссис Дэйл души не чает в старшей дочери. Она говорила ему о том, как трудно в наши дни воспитать светскую молодую девушку, сохранив в ней чистоту души и безыскусственность, и он даже обсуждал с нею этот вопрос. Она призналась ему, что считает нужным предоставить Сюзанне полную свободу в той мере, в какой это совместимо с хорошим воспитанием и здравыми понятиями. Она не стремилась развивать в дочери излишнюю смелость и самоуверенность, но вместе с тем хотела видеть ее естественной и правдивой. Сюзанна, как миссис Дэйл убедилась на основании долгих наблюдений и частых откровенных бесед с нею, была честной и искренней натурой. Миссис Дэйл не совсем понимала свою дочь — ни одна мать не понимает до конца своего ребенка, — но считала, что достаточно разбирается в ее душе, и видела в ней задатки сильной воли и больших способностей, — как у ее покойного отца, — а также естественное тяготение ко всему, что есть в жизни хорошего и достойного. Были ли у нее какие-нибудь таланты? На этот вопрос миссис Дэйл не могла дать определенного ответа. В Сюзанне чувствовалось смутное стремление к чему-то, имевшему очень мало общего с развлечениями так называемого высшего общества. Ее нисколько не интересовали молодые люди и девушки, с которыми она встречалась. Она любила ездить в гости, но и тут ее больше всего прельщали прогулки верхом или в автомобиле. К азартным играм ее не тянуло. Салонные разговоры забавляли ее, но не больше. Ее влекло к интересным людям, она любила хорошие книги и картины. Она видела полотна Юджина, и они произвели на нее большое впечатление. Она зачитывалась стихами — но все это не мешало ей любить и понимать шутку. Чья-нибудь неожиданная неловкость могла вызвать у нее приступ безудержного смеха, и она всегда с удовольствием читала юмористические приложения к газете. Она внимательно присматривалась к людям, не исключая и собственной матери, и ей постепенно становилось ясно, — пожалуй, яснее, чем даже самой миссис Дэйл, — какими мотивами та руководствуется в своем отношении к ней. Если строго разобраться, то Сюзанна была одареннее матери, но ее способности были иного свойства. Ей не хватало еще уравновешенности и широкого умственного кругозора, но зато ее поэтическая натура сильнее откликалась на все окружающее, а суждения говорили о богатой фантазии и тонком своеобразии вкуса. Своей собственной волнующей красоты Сюзанна не замечала или не хотела замечать. Она знала, что хороша собой, что мужчины теряют голову из-за нее, но это ее почти не трогало. «Охота им так глупо себя вести», — думала она. Сама она ничего не делала, чтобы привлечь к себе поклонников, наоборот, избегала всего, что было похоже на флирт. Мать со всею откровенностью предупредила ее, как легко увлекаются мужчины, как мало им можно верить и как нужно следить за каждым своим взглядом, каждым жестом. И Сюзанна жила весело и беспечно, никому не причиняя зла, стараясь не вызывать ни в ком безнадежной любви и порой задумываясь над тем, что принесет ей будущее. А потом появился Юджин. С его появлением, хотя она едва ли сознавала это, в жизни Сюзанны наступила новая полоса. Она встречала немало мужчин в обществе, но все те, кто принадлежал к особо избранному кругу, казались ей невыносимо скучными. Мать не раз говорила Сюзанне, как для нее важно найти себе богатого жениха с положением, но каков он будет как человек, это оставалось для Сюзанны загадкой. В типичных представителях «высшего» круга она не видела ничего «высокого». Ей приходилось встречать знаменитых богачей и отпрысков влиятельных фамилий, но в них было так мало человеческого, что для нее они просто не существовали. Почти все они представлялись ее поэтической натуре холодными, самовлюбленными и насквозь фальшивыми. Существовали, разумеется, люди действительно выдающиеся, о которых писали газеты, — финансисты, политические деятели, писатели, ученые, издатели, но, насколько понимала Сюзанна, мало кто из них был принят в высшем обществе, огромному большинству из них доступ туда был закрыт. Кое-кого из них она знала, но в большинстве случаев это были старики или же люди, настолько ушедшие в себя, что они не обращали на нее ни малейшего внимания. А Юджин появился на ее пути, окруженный славой талантливого, выдающегося человека, и к тому же он был молод. Он обладал красивой внешностью, был непринужденно весел и умел смеяться от души. Вначале Сюзанне даже не верилось, чтобы человек, столь молодой на вид, у которого не сходила с лица улыбка, мог занимать такое положение, как рассказывала ее мама. Впоследствии, узнав Юджина ближе, она решила, что его мало назвать одаренным. Казалось, он способен справиться с любой задачей, за какую бы ни взялся. Однажды она вместе с матерью зашла к нему в издательство, и ее поразило огромное, отделанное с большим вкусом здание и роскошно обставленный кабинет Юджина. Для нее он был самым замечательным из всех знакомых молодых мужчин. А потом началось пылкое ухаживание, когда каждая встреча приносила столько света и радости… А потом… Юджина мучил вопрос, как быть дальше. После того памятного вечера перед ним встала во весь рост проблема всей его жизни. Он был женат и занимал значительное положение в обществе — более значительное, чем когда-либо. Он был тесно связан с Колфаксом, так тесно, что боялся его, ибо Колфакс, хотя и позволял себе шалости на стороне (как это было известно Юджину), тем не менее строго придерживался условностей. Он не допускал даже мысли, что подобные интрижки могут хоть в какой-то степени отразиться на его семейной жизни. Уинфилд тоже никогда не нарушал законов приличия. У него была любовница, но он, очевидно, раз и навсегда указал ей ее место. Юджин видел эту женщину на открытии нового казино и был поражен ее красотой. Она была эффектна, смела, элегантна. Глядя на нее, Юджин подумал о том, наступит ли время, когда и для него возможна будет подобная связь. Столько женатых людей поступали так. Отважится ли он когда-нибудь на такую попытку? Теперь, однако, взгляды его резко переменились. Если до сих пор он мечтал о любовной связи, которая напоминала бы отношения Уинфилда с мисс де Кальб (так звали любовницу предприимчивого финансиста) и удовлетворила бы томившую его тоску по чему-то новому, прекрасному, — по женщине, в которой сочетались бы друг и возлюбленная, — то после встречи с Сюзанной он утратил всякий интерес к подобным вещам. Ему хотелось так изменить, переделать свою жизнь, чтобы иметь подле себя Сюзанну, одну лишь Сюзанну. Сюзанна! Сюзанна! Прекрасный сон! Но как добиться ее? Как убрать из своей жизни все, кроме ее близости? С ней он готов был прожить целый век. Да, да, целый век! О, какое видение, какая мечта! В воскресенье, последовавшее за танцами в загородном клубе, Юджину удалось провести с Сюзанной весь день. Это произошло наполовину случайно, наполовину по безмолвному соглашению, так как если повод для их свидания и возник случайно, то оба постарались воспользоваться случаем и сделали это молча, не договариваясь, почти бессознательно. Если б их так сильно не тянуло друг к другу, ничего бы не было. Но так или иначе, новое свидание доставило им огромное наслаждение. Дело в том, что у миссис Дэйл на другой день после бала разыгралась мигрень. Кинрой предложил своим друзьям отправиться для разнообразия на Саут-Бич — самый жалкий, самый голый и неказистый пляж на всем побережье Стэйтен-Айленд, — и миссис Дэйл позволила Сюзанне поехать с ними, при условии, что Юджин согласится сопровождать ее. Она вполне доверяла ему как спутнику и наставнику. Юджин ответил, что поедет с удовольствием. Он только и мечтал оказаться где-нибудь наедине с Сюзанной и надеялся, очутившись на пляже, улучить для этого удобную минуту, но старался не выдать себя. Была вызвана машина, которая доставила их к месту, откуда открывалась невзрачная панорама взморья. Шофера отпустили домой, условились, собираясь обратно, вызвать его по телефону. Вся компания двинулась по деревянным мостикам, тянувшимся вдоль пляжа, но почти тотчас же разбилась на группы. Юджин с Сюзанной сперва остановились пострелять в тире. Затем они забавлялись бросанием колец. Юджин радовался каждой возможности смотреть на свою возлюбленную, видеть ее прелестное личико, ловить ее улыбку, слышать ее сладостный голос. Одно ее кольцо попало в цель. Каждое ее движение было совершенно, каждый взгляд вызывал в нем трепет наслаждения. Юджин чувствовал себя в раю, ничего общего не имевшем с той жалкой действительностью, которая их окружала. Покатавшись на «чертовом колесе», они пошли по мостикам дальше. Волнение Юджина передалось Сюзанне, и в ней умолк голос благоразумия, который несомненно посоветовал бы ей бежать. Нужна была какая-то встряска, какой-то внезапный толчок, чтобы она увидела, куда ее несет течение, но этого не случилось. Они очутились у нового дансинга, где танцевали несколько официанток со своими кавалерами, и Юджин предложил смеха ради зайти туда. Снова они танцевали вместе, и, хотя окружающая обстановка была самая жалкая, а музыка отвратительная, Юджин чувствовал себя на седьмом небе. — Давайте убежим от остальных, поедем в Терра-Марин, — предложил Юджин, вспомнив, что немного южнее на побережье есть отель. — Там очень хорошо. А здесь такое убожество… — Где это? — спросила Сюзанна. — Милях в трех отсюда, к югу. Мы можем даже пройти пешком. Но, окинув взглядом раскаленный пляж, от тут же бросил эту мысль. — А по-моему, останемся, — сказала Сюзанна. — Здесь все такое жалкое, что в этом есть своя прелесть. Мне интересно видеть, как эти люди веселятся. — Нет, уж очень здесь скверно, — повторил Юджин. — Как бы мне хотелось иметь ваш здоровый взгляд на вещи. Впрочем, если не хотите, не поедем. Сюзанна в задумчивости молчала. Убежать с ним? Но их будут искать. Остальные, наверно, и так удивляются, куда они запропастились. А впрочем, это не важно. Ее мать вполне спокойна, когда она с Юджином. Можно пойти. — Хорошо, — сказала она наконец, — мне все равно, пойдемте. — А что подумают остальные? — нерешительно заметил он. — Им это совершенно безразлично, — сказала девушка. — Когда они захотят вернуться домой, они вызовут машину. Ведь они знают, что я с вами. И они знают, что я тоже могу вызвать машину, когда захочу. Мама не рассердится. Они пошли на вокзал, чтобы поездом доехать до следующей станции. Юджин был счастлив, что проведет целый день вдвоем с Сюзанной. Он не думал ни об Анджеле, оставшейся дома, ни о том, как отнесется к этому миссис Дэйл. Ничего не случится. В их приключении не было ничего предосудительного. Они сели в поезд и немного спустя очутились в другом мире — на террасе гостиницы, выходившей на набережную. Во дворе гостиницы стояло множество машин, в которых приехали такие же, как Юджин с Сюзанной, любители поразвлечься. Перед гостиницей раскинулась огромная лужайка, на которой высились качели под полосатыми красно-зелено-голубыми тентами, а вдали виднелась пристань, где стояли на якоре маленькие белые катера. Море было гладкое, как зеркало; в отдалении проходили гигантские пароходы, за которыми тянулись пушистые султаны дыма. Солнце ярко пылало, но на террасе, где официанты разносили напитки и всевозможные блюда, было прохладно. На эстраде пел негритянский квартет. Сюзанна и Юджин сперва посидели в креслах, любуясь прекрасным видом, а потом спустились вниз к качелям. Не задумываясь, без слов тянулись они друг к другу, точно под действием какого-то колдовства, уносившего их далеко от реальной жизни. Сидя напротив Юджина на качелях, Сюзанна смотрела на него, — они улыбались или обменивались ничего не значащими шутками, ни словом не выдавая волновавших их чувств. — Такого дня еще не было в моей жизни, — произнес наконец Юджин с тоской и страстью. — Посмотрите на этот пароход там, вдали. Он кажется совсем игрушечным. — Да, — ответила Сюзанна. Она дышала неровно, голос ее дрожал. — Чудесно. — Ваши волосы — вы не можете себе представить, как вы хороши сейчас на фоне моря. — Прошу вас, не говорите обо мне, — взмолилась она. — Воображаю, какая я лохматая! Мне еще в поезде ветром растрепало волосы. Надо бы разыскать горничную и пойти в дамскую комнату. — Не уходите, — сказал Юджин. — Не покидайте меня. Здесь так хорошо. — Я не уйду. Я могла бы сидеть так целую вечность. Вот как сейчас — вы тут, а я тут. — Вы читали «Оду греческой вазе»?[54] — Да. — Помните эти строки: «Прекрасный юноша, зачем бежишь…» — Да, да! — с чувством откликнулась она.Любовник пламенный, вотще твои порывы —
Она недостижима, хоть близка.
Но тем утешься, что пребудет на века
Твоя любовь и эта красота.
Глава 80
Зайдя так далеко и завладев этим чудеснейшим цветком, Юджин думал только о том, как бы сохранить его для себя. Казалось, с плеч у него свалилась вся тяжесть прожитых лет. Снова любить! Завоевать любовь этого чудного, совершенного создания! Просто не верилось, что судьба могла оказаться такой благосклонной и подарить ему такое счастье. Чем в сущности объяснить, что за последние годы он поднимался все выше и выше? После тяжелых дней в Ривервуде он одерживал одну победу за другой. Работа в газете «Уорлд», у Саммерфилда, у Кэлвина, в журнальном издательстве, встреча с Уинфилдом, прекрасная квартира в парке, — неужели боги стали милостивы к нему! Что все это значило? Почему судьба вдруг послала ему славу, богатство и Сюзанну в придачу? Бывают ли на свете такие чудеса? И к чему это все приводит? Может быть, судьба будет благоприятствовать ему и в том, чтобы освободиться от Анджелы, — или же… Мысль об Анджеле все эти дни была для него мучительна. Он в сущности не питал к ней неприязни — ни теперь, ни раньше. За долгие годы совместной жизни они научились понимать друг друга, и их внутренняя связь настолько окрепла, что во многих отношениях лучшего нельзя было бы желать. После истории в Ривервуде Анджела решила, что уже не любит Юджина, как раньше, что она не в силах его любить, так как он слишком эгоистичен. Но это был самообман. Она любила его, и даже больше, чем себя, в том смысле, что готова была всем ради него жертвовать. Но с другой стороны, ее любовь была эгоистичной, она требовала, чтобы и он в свою очередь всем жертвовал ради нее. А Юджин нисколько не был к этому расположен, — опять-таки ни теперь, ни раньше. Он считал, что его жизнь не может уложиться в тесные рамки брака. Ему нужна была свобода, которая позволила бы ему делать все что угодно, сближаться с кем угодно, но он боялся Анджелы, боялся общественного мнения и отчасти боялся самого себя, то есть того, к чему могла его привести неограниченная свобода. Он жалел Анджелу, зная, что если он так или иначе расстанется с ней, она будет страдать, — но в то же время жалел и себя. За все эти годы непрерывного карабкания вверх красота ни на миг не утрачивала для него своей притягательной силы. Не странно ли, как иногда все в жизни складывается таким образом, чтобы скорее привести к развязке! Словно трагедии, подобно растениям и цветам, таятся в крошечном семени, и какие-то силы, помогая их внезапному росту, доводят их до роковой зрелости. Жизнь иных людей — это розы, расцветшие в преисподней и горящие всеми огнями ада. Начать с того, что Юджин стал очень рассеян; он не мог сосредоточиться ни на делах издательства, ни на планах строительной компании, ни на положении в своем собственном доме, где лежала больная Анджела. На следующее утро после поездки в Саут-Бич, во время которой Сюзанна проявила такую странную молчаливость, ему удалось пробыть с ней несколько минут наедине на террасе в Дэйлвью. Она не казалась удрученной — во всяком случае, это не бросалось в глаза, — но в ней чувствовалась непривычная серьезность, свидетельствовавшая о том, что в душе ее происходит какая-то сложная работа. Когда она вышла к нему, чтобы сообщить, что уезжает в Территаун вместе с матерью и несколькими друзьями, ее большие глаза смотрели на него открыто и честно. — Я должна ехать, — сказала она. — Мама договорилась по телефону. — Значит, я вас больше не увижу здесь? — Нет. — Вы меня любите, Сюзанна? — Да, да, — ответила она и как-то понуро отошла в дальний угол террасы, где никто не мог их видеть. Он бесшумно последовал за нею. — Поцелуйте меня, — сказал он. Она испуганно и растерянно ответила на его поцелуй, тотчас же отвернулась и быстро пошла прочь. А он смотрел ей вслед, любуясь ее твердой, пружинистой походкой. Она была много ниже его ростом, хотя не такая маленькая, как Анджела, — крепкого сложения, с хорошо развитой фигурой. И душа у нее, должно быть, смелая, способная на подвиги, исполненная мужества и решимости, подумал Юджин. Когда она станет постарше, это будет сильная женщина, умеющая бесстрашно и последовательно мыслить. Юджин не видел ее после этого дней десять и дошел до полного отчаяния. Его больше не удовлетворяли редкие, случайные встречи с Сюзанной. А вдруг она осенью уедет из Нью-Йорка, что будет тогда с ним? Если ее мать что-нибудь узнает, она увезет ее в Европу, и Сюзанна, вероятно, забудет его. Ужасно! Нет, пока этого не случилось, они должны бежать. Он превратит все свое состояние в наличность и увезет ее куда-нибудь. Жизнь без Сюзанны для него немыслима. Он должен добиться ее — любой ценой. Какое ему дело до Колфакса и его журналов! Работа опостылела ему. Пусть Анджела забирает себе все акции строительной компании, если ему не удастся выгодно продать их. А если удастся, он постарается обеспечить ее из вырученной суммы. У него есть немного денег наличными — несколько тысяч долларов. Эта сумма да то, что он заработает кистью, — ведь он еще может работать! — даст им возможность прожить. Они уедут в Англию или во Францию. Если Сюзанна любит его, — а он был уверен, что это так, — они будут счастливы. Пропади она пропадом, его старая жизнь! Какая тоска — жить без любви! Так размышлял Юджин вначале. Впоследствии его взгляды несколько изменились, но это произошло после того, как он снова поговорил с Сюзанной. Добиться свидания с ней оказалось нелегко. В конце концов в порыве отчаяния он позвонил по телефону в Дэйлвью и спросил, дома ли мисс Дэйл. К аппарату подошел слуга, и на его вопрос, о ком доложить, Юджин назвал имя одного молодого человека, знакомого Сюзанны. Когда она взяла трубку, он сказал: — Вы меня хорошо слышите, Сюзанна? — Да. — Вы узнали мой голос? — Да. — Не называйте меня по имени, хорошо? — Хорошо. — Сюзанна, я схожу с ума. Вот уже десять дней, как я вас не вижу! Вы еще долго пробудете в городе? — Не знаю. Вероятно. — Если кто-нибудь войдет, Сюзанна, просто повесьте трубку, и я буду знать, в чем дело. — Хорошо. — А вы не могли бы выйти ко мне, если бы я подъехал на машине к какому-нибудь месту близ вашего дома? — Не знаю. — О Сюзанна! — Я не уверена, но постараюсь. В котором часу? — Вы знаете дорогу к старому форту у Хрустального озера, неподалеку от вас? — Да. — Помните, по этой дороге есть холодильник? — Да. — Вы могли бы прийти туда? — В котором часу? — Завтра в одиннадцать утра или сегодня в два или в три. — Лучше сегодня в два. — Как я вам благодарен, Сюзанна! Так или иначе, я буду ждать. — Хорошо. До свидания. И она повесила трубку. Юджин был счастлив, что его попытка окончилась так удачно, и в первый момент не задумался над тем, как искусно Сюзанна вела разговор. Позднее он понял, сколько в ней смелости, если она способна так быстро принимать решения, — ведь вся эта история давалась ей нелегко. Любовь Юджина была для нее чем-то совершенно новым, а ее положение — очень рискованным. И тем не менее, когда он назвал ее и она так неожиданно услышала его голос, она не обнаружила ни малейшего признака растерянности. Голос ее звучал ровно и твердо, тверже, чем голос Юджина, который был возбужден и нервничал. Она с первых же слов, не колеблясь, поняла его и охотно пошла на хитрость. Так ли она наивна, как кажется? И да, и нет. Просто она умная девушка, решил он, и при всей ее бесхитростности и честности ум сразу подсказал ей, что делать. В тот же день, в два часа, Юджин был в условленном месте. Своему секретарю он сказал, что едет для деловых переговоров с одним известным писателем, у которого хочет получить рукопись, а сам, взяв закрытую машину, отправился на свидание. Попросив шофера ездить взад и вперед по дороге, он вышел из машины и присел под деревом, откуда ему хорошо видна была вся дорога. Вскоре показалась Сюзанна, свежая, как весеннее утро, в элегантном светло-сиреневом костюме. Большая мягкая шляпа с длинными перьями, в тон платью, необычайно шла ей. Она приближалась спокойной, грациозной походкой, но, когда Юджин взглянул ей в глаза, он прочел в них затаенную тревогу. — Наконец-то! — радостно воскликнул он вставая. — Идемте сюда! Моя машина недалеко — не лучше ли нам сесть в нее, как вы думаете? Она закрытая. А то нас могут увидеть. Сколько времени в вашем распоряжении? Он обнял ее стал жадно целовать, пока она объясняла, что им надо торопиться. Она сказала дома, что идет за книгой в библиотеку, в которой ее мать состояла попечительницей, и должна вернуться в половине четвертого, самое позднее — в четыре. — О, мы успеем поговорить! — весело сказал он. — А вот и машина. Давайте сядем. Он осторожно огляделся кругом, окликнул шофера, и, когда машина подъехала, они быстро сели в нее. — Перт-Амбой, — сказал Юджин, и шофер дал полный ход. Теперь им нечего было беспокоиться. Юджин приспустил шторы и обнял Сюзанну. — Сюзанна, — сказал он, — я не видел вас целую вечность! Как бесконечно тянулось время! Вы меня любите? — Да, люблю, вы это знаете. — Но как же нам быть дальше, Сюзанна? Вы скоро уезжаете? Я должен видеть вас чаще. — Не знаю, — ответила она. — Мама не говорила мне о своих планах. Известно только, что она осенью собирается в Ленокс. — Ну вот! — устало вырвалось у Юджина. — Послушайте, мистер Витла, — задумчиво сказала Сюзанна. — Ведь вы понимаете, что мы подвергаем себя страшному риску. Вдруг об этом узнают миссис Витла или мама? Это будет ужасно! — Да, да, — сказал Юджин. — Конечно, мне не следовало бы так поступать. Но я безумно люблю вас, Сюзанна. Я не знаю, что со мной. Я знаю только, что люблю вас, люблю, люблю! Он прижал ее к себе и осыпал страстными поцелуями. — Как вы хороши! Как вы прекрасны! Цветок мой, ангел, божество! — И он прильнул к ее губам долгим безмолвным поцелуем, между тем как автомобиль мчался вперед. — Но как же нам быть? — спросила она, широко раскрывая глаза. — Ведь это так неосторожно! Я как раз думала об этом утром, когда вы позвонили. — Вы уже начинаете жалеть, Сюзанна? — Нет. — Вы любите меня? — Вы знаете, что люблю. — Тогда помогите мне найти выход. — Я бы рада была… Но послушайте, мистер Витла… Выслушайте меня. Вот что я хочу вам сказать… Она говорила серьезным тоном, который казался ему милым и забавным. — Я готов выслушать все, что вы мне скажете, моя детка. Но только не называйте меня «мистер Витла». Зовите меня по имени, хорошо? — Ну, хорошо. А теперь послушайте меня, мистер… мистер… Юджин. — Нет, просто Юджин. Ну, скажите: Юджин. — Теперь выслушайте меня, мистер… Слушайте, Юджин, — заставила она себя, наконец, выговорить, и он тотчас же закрыл ей рот поцелуем. — Вот так, — сказал он. — Да слушайте же, — продолжала она настойчиво. — Знаете ли вы, что мама страшно рассердится, если узнает? — Да что вы! — шутливым тоном прервал ее Юджин. Сюзанна как будто не слышала. — Нам нужно быть очень осторожными. Мама такого прекрасного мнения о вас — ей и в голову не приходит ничего дурного. Она как раз сегодня утром говорила про вас. — Что же она говорила? — Да так… Какой вы симпатичный и способный человек. — Не может быть, — снова шутливо отозвался Юджин. — Да. А миссис Витла, мне кажется, хорошо относится ко мне. Мы можем иногда видеться у вас, но нужно держаться осторожно. И сегодня нам нельзя долго быть вместе. Мне о многом надо подумать. У меня столько всяких мыслей… Юджин улыбнулся. Как непосредственна эта девушка, как наивна! — Какие же это мысли, Сюзанна? — полюбопытствовал он. Его очень интересовало, что происходит в ее юной душе, казавшейся ему такой нетронутой, такой чудесной. Радостно было видеть в этом прекрасном создании столько чуткости и преданной любви и вместе с тем такую вдумчивость и серьезность. Она была для него восхитительной игрушкой и в то же время вызывала в нем благоговейный восторг, какой испытываешь, глядя на бесценную вазу. — Я хочу разобраться в том, что делаю. Это необходимо. Иногда мне кажется, что все так ужасно, а вместе с тем… — А вместе с тем? — повторил Юджин нетерпеливо. — А вместе с тем я не могу понять, что в этом дурного, раз мне этого хочется… раз я люблю вас. Юджин с возрастающим интересом смотрел на нее. Эта попытка честно разобраться в жизни, особенно в связи с таким трудным, рискованным положением, изумляла его. До сих пор он считал Сюзанну беспечным ребенком, хоть и полным смутных, дремлющих сил. А она, оказывается, пытается разрешить одну из самых трудных задач, какие только бывают, и, по-видимому, с большей смелостью и прямотой, чем он. Где же страх, что владел ею всего десять дней назад? Какие новые мысли зародились в этой головке? — Странная вы девушка, — сказал он. — Но почему же? — Потому что странная. Я и не подозревал, что вы способны задаваться такими серьезными вопросами. Я полагал, что все это дело будущего. Но скажите, к какому вы пришли заключению? — Вы читали «Анну Каренину»? — задумчиво спросила она. — Да, читал, — ответил он, удивленный тем, что она уже знакома с этим произведением. — Что вы думаете об этой книге? — Там показано, что происходит с людьми, которые осмеливаются бросить вызов условностям, — довольно небрежно ответил он, продолжая удивляться ее уму. — И вы думаете, всегда так бывает? — Нет, я вовсе этого не думаю. Люди очень часто отказываются считаться с общественными предрассудками и добиваются своего. Впрочем, не знаю. По-видимому, бывает и так и этак. Одним удается, другим нет. Если человек достаточно настойчив или достаточно умен, он одерживает верх, в противном же случае покоряется обстоятельствам. Но почему вы об этом спрашиваете? — Видите ли, — сказала Сюзанна, не поднимая глаз, — я думала, что такой конец вовсе не обязателен, вы не находите? Ведь может быть и совсем наоборот? — Да, может, — задумчиво ответил он, спрашивая себя, действительно ли это так. — А иначе плата за счастье была бы слишком высока, — продолжала она. — Оно того не стоит. — Вы хотите сказать, — произнес Юджин, глядя на нее в упор, — вы хотите сказать, что способны были бы пойти на это? У него мелькнула мысль, что она готова принести себя в жертву ради него. Что-то в ее задумчивости и глубокой сосредоточенности навело его на эту мысль. Сюзанна отвернулась к окошку и кивнула головой. — Да, — серьезно сказала она, — если бы это можно было устроить. Почему бы и нет? Я не вижу причины. Лицо ее в эту минуту было прекрасно. Юджин не понимал, во сне это или наяву. Сюзанна так рассуждает! Сюзанна читала «Анну Каренину» и философствует! Сюзанна строит теории на основе жизни и книг, да еще невзирая на то, что история Анны Карениной целиком говорит против нее! Что за чудеса! — Знаете, Юджин, — продолжала она после небольшой паузы. — Я думаю, мама не стала бы возражать. Она вас уважает. Она это не раз говорила… К тому же она часто высказывалась в этом духе про других… Она считает, что замуж надо выходить только по любви. И что не обязательно вступать в брак, — все зависит от взаимного согласия. Ведь мы могли бы, если бы захотели, просто жить вместе… Юджин и сам слышал критические рассуждения миссис Дэйл о браке, но не придавал большого значения ее философической болтовне. Так же безответственно и бойко рассуждала она и на социальные темы. Он не знал, конечно, о чем она говорила с дочерью, но не допускал, чтобы она стала внушать ей мало-мальски радикальные взгляды. — Не придавайте большого значения тому, что говорит ваша матушка, Сюзанна, — сказал он, любуясь ее прелестным личиком. — Она сама этому не верит. И уж во всяком случае она не станет применять свои теории к вам. Это слова, не больше. Если бы она думала, что с вами может случиться что-либо подобное, она заговорила бы иначе. — Нет, едва ли, — задумчиво ответила Сюзанна. — Видите ли, мне кажется, что я знаю мама лучше, чем она сама. Она считает меня ребенком, но мне часто удается заставить ее поступить по-моему. Это уже не раз бывало. Юджин в изумлении смотрел на Сюзанну. Он не верил своим ушам. Эта девушка так рано и так серьезно задумывается над такими вопросами! И неужели у нее более сильный характер, чем у матери? — Сюзанна, — сказал он, — ради бога, будьте осторожны в том, что вы говорите и делаете. Не затевайте необдуманно никаких опасных разговоров. Это плохо кончится. Я люблю вас, но мы должны действовать осмотрительно. Если миссис Витла что-нибудь узнает, она сойдет с ума. Ваша мама при малейшем подозрении увезет вас в Европу, и только я вас и видел. — О, нет, мама этого не сделает, — решительно ответила Сюзанна. — Я знаю ее лучше, чем вы думаете. Уверяю вас, я имею на нее влияние. Я убедилась в этом. — Она тряхнула своей очаровательной головкой, и Юджин потерял способность трезво рассуждать. Глядя на нее, он не в состоянии был спокойно думать. — Сюзанна, — сказал он, привлекая ее к себе, — вы очаровательны, бесподобны, вы сама женственность! И подумать только, что вы способны так судить о жизни, вы, Сюзанна! — А почему бы и нет? — спросила она, в недоумении поднимая брови. — Почему это вас удивляет? — Да, разумеется, все мы задумываемся над жизнью, но далеко не так серьезно, моя радость. — Но ведь теперь мы обязаны думать серьезно, — просто сказала она. — Да, теперь мы обязаны думать серьезно. И вы действительно согласились бы поселиться со мной, если бы я снял отдельную студию? Сейчас мне ничего другого не приходит в голову… — Согласилась бы, если бы знала, как это устроить. Мама такая странная. Она все следит за мной. Считает меня ребенком. А ведь вы знаете, что я не ребенок. Я иногда ее не понимаю, — говорит одно, а делает совсем другое. Я лично предпочла бы не говорить, а делать. Как вы находите? Он молчал. — Но все же я надеюсь, что мне удастся все уладить. Предоставьте мне действовать, хорошо? — И если вам удастся, вы придете ко мне? — О, да, да! — пылко воскликнула она и вдруг повернулась к нему и сжала его лицо в своих ладонях, мечтательно заглядывая ему в глаза. — Но мы должны быть осторожны, — предостерег он ее. — Никаких необдуманных поступков! — Обещаю, — сказала Сюзанна. — И я тоже, — сказал Юджин. Оба на время умолкли. Он не спускал с нее глаз. — Я могла бы ближе сойтись с миссис Витла, — сказала она немного погодя. — Она ко мне хорошо относится, не правда ли? — Да, — ответил Юджин. — Мама ничего не имеет против того, чтобы я бывала у вас, и я могла бы заранее предупреждать вас. — Чудесно. Так и сделайте, — сказал Юджин. — Смотрите же, не забудьте. Вы еще помните, за кого я выдал себя сегодня, когда звонил вам? — Да, помню, — сказала она. — А знаете, мистер Витла, то есть Юджин, я ведь так и думала, что вы позвоните. — Неужели? — с улыбкой сказал он. — Да, думала. — Вы придаете мне мужества, Сюзанна, — сказал он, прижимая ее к груди. — В вас столько веры, столько решительности! Жизнь еще не коснулась вас. — Когда я не с вами, я далеко не такая храбрая. Мне приходят в голову ужасные мысли. Даже страшно становится. — Но вы не должны бояться, моя радость, вы так нужны мне! Если б вы знали, как вы мне нужны! Она посмотрела на него и в первый раз провела рукой по его волосам. — Знаете, Юджин, в вас еще много мальчишеского. — Неужели? — сказал он, польщенный. — Да, а иначе я не могла бы так любить вас. Он снова привлек ее к себе и стал осыпать поцелуями. — Нельзя ли нам почаще совершать такие прогулки? — спросил он. — Да, если мы не уедем. — Можно мне звонить вам, — я буду называть чужую фамилию. — Я думаю, что можно. — Давайте подберем себе псевдонимы, специально для телефонных разговоров. Вы будете Дженни Линд, а я Эллан По. А потом ониснова предались пылким ласкам, пока не пришло время возвращаться. О работе в эту, вторую, половину дня уже не могло быть и речи.Глава 81
За этим последовал ряд свиданий, сопряженных с большими трудностями и опасностью; они губительно сказывались на душевном покое Юджина, на появившемся у него столь недавно чувстве ответственности — моральной и деловой, отвлекая его от цели, к которой он так упорно стремился, притупляя его интерес к издательскому и литературному миру, которому он был столь многим обязан. Но свидания эти были полны для него такого острого блаженства, что они тысячу раз вознаграждали его за все ухищрения, к которым приходилось прибегать, за все его безумие. Иногда он приезжал на машине и ждал Сюзанну у холодильника, иногда она по телефону или запиской сообщала ему в издательство, что приедет в город. Однажды, когда у него была полная уверенность, что они никого не встретят, он повез ее в машине на строящийся курорт, посоветовав на всякий случай надеть густую вуаль, которую можно было в любой момент опустить на лицо. В другой раз — вернее, несколько раз — она приходила на Риверсайд-Драйв, якобы с целью проведать миссис Витла, но в действительности ради свидания с ним. Сюзанна не питала антипатии к Анджеле, но не чувствовала к ней и привязанности. Она находила ее довольно интересной женщиной, но считала, что она не пара Юджину. Юджин никогда не жаловался ей, что несчастлив в браке, и только говорил, что не любит жену. Теперь он любит ее, Сюзанну, одну ее. Дальнейшие отношения Юджина и Сюзанны должны были осложниться еще одним исключительно важным обстоятельством, о котором он пока еще ничего не знал. Дело в том, что Анджела, с громадным удовлетворением следившая за деловой карьерой Юджина и со страхом и недоверием — за его успехами в обществе, решилась наконец на тот прыжок в неизвестность, каким для нее и для Юджина был ребенок. Она надеялась, что появление ребенка упорядочит жизнь Юджина, пробудит в нем чувство ответственности, научит его находить радость не только в светских развлечениях и в чарах юных красавиц. Она не забыла совета, данного ей еще в Филадельфии миссис Санифор и ее врачом, и не переставала думать о том, как подействовало бы на Юджина появление в их жизни ребенка. Юджин нуждался в какой-то точке опоры. Его положение в обществе было еще слишком неустойчивым, да и на него самого было трудно положиться. Ребенок — она надеялась, что это будет девочка, так как маленькие девочки всегда приводили его в умиление, — заставит его остепениться. Если бы родилась девочка! Месяца за два до своей болезни, как раз в то время, когда Юджин незаметно для нее начал увлекаться Сюзанной, она перестала соблюдать предосторожности, — вернее, совершенно отказалась от них, и с некоторых пор у нее возникли подозрения, что ее страхи или надежды, или то и другое вместе, начинают сбываться. Но нагрянувшая вскоре болезнь, отразившаяся вдобавок и на сердце, мешала ей особенно радоваться своему новому состоянию. Ее тревожили мысли об исходе, о том, как примет это известие Юджин. Он никогда не выражал желания иметь ребенка, и она ничего ему не говорила, так как хотела сначала убедиться сама. Если окажется, что она ошиблась, он будет отговаривать ее от дальнейших попыток, а если она права, ему останется лишь примириться. Как все женщины в таком положении, Анджела тосковала по сочувствию и вниманию и особенно остро замечала, насколько все интересы Юджина направлены в сторону того мира, к которому она не была причастна. От нее не ускользнул его интерес к Сюзанне, но она не слишком тревожилась, зная, что миссис Дэйл бдительно следит за дочерью. Времена меняются. За последний год Юджин стал все больше выезжать один. Ребенок ей поможет. Давно пора завести ребенка. Когда Сюзанна начала бывать у них вместе с матерью, Анджела приняла это спокойно. Но во время ее болезни девушка несколько раз заезжала одна, когда Юджин бывал дома, и Анджела стала бояться, как бы между ними что-нибудь не возникло. Сюзанна была так очаровательна. Однажды, когда Анджела, погруженная в раздумье, лежала в своей комнате, — Сюзанна оставила ее на минутку и вышла в студию, — она услыхала, как Юджин шутит с девушкой и громко смеется. Переливчатый смех Сюзанны звучал так заразительно. Конечно, Юджину не стоило никакого труда рассмешить девушку, но Анджеле почудились какие-то необычные нотки в интонациях его голоса и в ее смехе. Когда Сюзанна приезжала, Юджин каждый раз вызывался отвезти ее домой. Все это наводило Анджелу на размышления. Она начала уже поправляться после болезни, и Юджин пригласил знаменитого тенора, славившегося своим репертуаром, дать концерт в его доме. Он познакомился с ним в Бруклине, на вечере, к которому имел какое-то касательство Уинфилд. Юджин разослал довольно много приглашений, между прочим миссис Дэйл, Сюзанне и Кинрою. Но миссис Дэйл не могла приехать, а потому Сюзанна, которой нужно было на другое утро, в воскресенье, быть по делу в городе, решила переночевать у них. Юджин был в восторге. Он незадолго до этого завел альбом, в котором делал по памяти зарисовки Сюзанны, и надеялся показать их ей. Кроме того, он хотел, чтобы она послушала прекрасного тенора. Компания собралась интересная. Кинрой довольно рано привез Сюзанну, а сам вскоре уехал. Поздоровавшись с Анджелой, Сюзанна вышла с Юджином на каменный балкончик, с которого открывался вид на реку. Юджин тихонько шептал ей о своей любви; когда никто не видел, он брал ее руку и украдкой целовал. Скоро начали съезжаться приглашенные, и наконец появился тенор. Сиделка и Юджин помогли Анджеле дойти до студии, где она, заняв место среди гостей, стала с увлечением слушать певца. Сюзанна и Юджин, захваченные красотой музыки, обменивались пылкими взглядами, которые так много говорят влюбленным. Юджину лицо Сюзанны представлялось каким-то магическим цветком. Ему трудно было хотя бы на миг отвести от нее взгляд. Тенор кончил петь, и гости разъехались. Анджела не сразу пришла в себя; она сидела в кресле и плакала, — так взволновала ее красота «Лесного царя». Затем она вернулась к себе в спальню. Сюзанна отправилась в отведенную ей комнату. Вскоре она вышла, чтобы пожелать миссис Витла спокойной ночи, а потом хотела пройти обратно к себе. Но в студии ее поджидал Юджин. Он схватил ее в объятия и молча стал целовать. Они делали вид, будто перебрасываются незначащими замечаниями, и он предложил ей выйти посидеть на балконе, полюбоваться рекой в лунном свете. — Не надо, — сказала Сюзанна, когда в темноте он прижал ее к себе. — Она может войти. — Нет, нет, — горячо уверял он. Они прислушались, но все было тихо. Юджин заговорил о чем-то, не переставая гладить прекрасную обнаженную руку Сюзанны. Красота девушки, очарование ночи, опьянение музыкой — все это сводило его с ума. Невзирая на протесты Сюзанны, он обнял ее, и в это мгновение в противоположном конце студии показалась в дверях Анджела. Прятаться было поздно, — она все видела. Сюзанна едва успела вскочить, как Анджела быстрыми шагами направилась к балкону. Задыхаясь от ярости и ни на минуту не забывая о своем состоянии, сознавая, что над нею нависла страшная катастрофа, она все же чувствовала себя еще слишком слабой, чтобы устроить скандал или открыть все. Снова, казалось, рушился весь ее мир; увлеченная своими планами, она, несмотря на подозрения, была в сущности далека от мысли, что Юджин опять способен ей изменить. Правда, она пришла сюда с целью захватить его врасплох, но втайне надеялась и даже была уверена, что ничего не увидит. И что же? Вот они стоят друг против друга: эта красивая девушка, жертва вероломного обольстителя, сама она, Анджела, запутавшаяся в сетях своих планов и надежд, и, наконец, он, Юджин, трепещущий и пристыженный, смиренно ожидающий позорного конца своей нелепой связи, которую она пресечет в самом корне. Анджела не собиралась делать Сюзанну свидетельницей супружеской сцены, но страшная обида за себя, стыд за Юджина, невольная жалость к самой девушке и желание соблюсти приличия, теперь уже не столько ради себя, сколько ради ребенка, вызвали в ней былую ярость и вместе с тем заставили ее взять себя в руки. Случись это шесть лет назад, она дала бы волю своему гневу. Но время научило ее сдержанности. Она понимала, что грубость тут не поможет. — Сюзанна, — сказала она и, выпрямившись, остановилась в полумраке комнаты, слабо озаренной луной, — Сюзанна, как вы могли так поступить? Я была о вас лучшего мнения. Лицо Анджелы, исхудавшее от продолжительной болезни и постоянной тревоги в связи с ее положением, все еще было красиво какой-то особенной, духовной красотой. На ней был бледно-желтый кружевной пеньюар в белых цветах, а длинные волосы, которые сиделка заплела в две косы, придавали ей сходство с Гретхен, как называл ее когда-то Юджин. Руки у нее были тонкие, белые, красивые, усталое от страданий лицо напоминало изображение скорбящей богоматери. — Почему же? Почему? — воскликнула Сюзанна, страшно испуганная и потрясенная и все же готовая грудью встать на защиту того, что целиком владело ею. — Я люблю его, миссис Витла. Потому я так и поступаю. — О нет, вы его не любите, вы только воображаете, что любите, как воображали многие женщины до вас, Сюзанна! — произнесла Анджела ледяным тоном, не забывая ни на мгновение о будущем ребенке. (О, почему она не сказала ему раньше!) — Какой стыд! И это в моем доме! Вы — молодая, невинная девушка, какой вас все считают! Что сказала бы ваша матушка, если бы я сейчас позвонила ей по телефону и рассказала все? Или ваш брат? Вы ведь знали, что Юджин женатый человек. Я могла бы еще простить вам, если бы вы этого не знали, если бы вы не были знакомы со мной, если бы не пользовались моим гостеприимством. Что же касается его, мне не о чем с ним говорить. Это случается уже не впервые, Сюзанна. У него было много женщин до вас. Много будет и после. Этим я расплачиваюсь за то, что вышла замуж за так называемого талантливого человека. Не думайте, Сюзанна, что вы сообщаете мне что-то новое, когда говорите, что любите его. Для меня это старая песня. Я уже не раз слышала ее от других женщин. Вы у него не первая и не последняя. Сюзанна посмотрела на Юджина растерянным, беспомощным взглядом, как бы спрашивая, неужели все это правда? Безжалостные обвинения Анджелы вызвали в Юджине злобу, но вначале он колебался, не зная, как вести себя. В первое мгновение у него даже мелькнула мысль, не лучше ли отказаться от Сюзанны и снова вернуться к старой жизни, как бы тосклива она ни была. Но прелестное личико девушки и резкий обличающий голос Анджелы заставили его принять решение. — Анджела, — начал он, приходя в себя под пытливым взглядом Сюзанны, — зачем ты это говоришь? Ты великолепно знаешь, что все это неправда. Была одна только женщина, и я расскажу про нее Сюзанне. И было несколько до моей женитьбы, я расскажу ей и про них. Все эти годы, — и ты это знаешь, — моя жизнь была пуста. Эта квартира для меня та же клетка. Любви между нами давно уже нет, — по крайней мере с моей стороны, ты и это знаешь. Ты тоже не раз признавалась, что больше не любишь меня. Я не обманывал Сюзанну. Я рад, что могу ей сказать, какие у нас с тобой отношения. — Какие отношения! Какие отношения! — гневно воскликнула Анджела, на мгновение теряя власть над собой. — Ты, может быть, расскажешь ей, каким ты был прекрасным, преданным мужем? Расскажешь, как честно вел себя, как сдержал слово, данное перед алтарем? Расскажешь, как я трудилась и всем для тебя жертвовала все эти годы? И как ты отплачивал мне такими вот историями, как эта? Но больше всего, Сюзанна, мне жаль вас, — продолжала Анджела, мучительно думая о том, сказать ли Юджину о своем положении, и опасаясь, что он не поверит ей, так как слишком уж это отдавало дешевой мелодрамой. — Вы просто глупая девочка, обольщенная опытным мужчиной, который некоторое время будет воображать, что любит вас, обманывая и вас и себя. Но скоро он опомнится. Ну, на что вы рассчитываете, скажите прямо? Выйти за него замуж вы не можете — я ему не дам развода… Я не могу пойти на это, — почему — он узнает после, а у самого у него нет оснований этого требовать. Вы хотите стать его любовницей? Ведь ни на что другое вы надеяться не можете. Какая прекрасная будущность для девушки вашего круга! Для девушки, которую все считают верхом добродетели! О, как мне стыдно! Мне жаль вашу мать. Меня удивляет, что вы способны так унизиться! От Сюзанны не ускользнули слова Анджелы «я не могу пойти на это», но она, конечно, не понимала, что за этим кроется. Ей и в голову не приходило, что дело может осложниться рождением ребенка. Юджин говорил ей, что несчастлив, что между ним и Анджелой ничего нет и быть не может. — Ведь я люблю его, миссис Витла! — сказала Сюзанна просто, но с глубоким волнением в голосе. Все ее мускулы были напряжены, бледное лицо сияло красотой. Тяжелое испытание выпало ей на долю! — Не говорите вздора, Сюзанна! — гневно воскликнула Анджела, доведенная до полного отчаяния. — Не обманывайте себя и не становитесь в глупую позу! Ведь вы сейчас играете. Вы повторяете слова, которые слышали со сцены. Юджин мой муж. Вы в моем доме. Будьте любезны собрать свои вещи! Я позвоню вашей матушке, расскажу ей, в чем дело, и она пришлет за вами машину. — О нет, вы этого не сделаете! — воскликнула Сюзанна. — Если вы ей скажете, мне нельзя будет вернуться домой. Я должна сперва самостоятельно устроиться и найти работу, пока все не придет в полную ясность. Я не могу больше вернуться домой. О, что же мне делать? — Успокойтесь, Сюзанна, — твердо сказал Юджин, взяв ее за руку и вызывающе глядя на Анджелу. — Она не будет звонить вашей матушке и ничего ей не скажет! Вы пробудете здесь до утра, как и было решено, а завтра поедете туда, куда собирались ехать. — Ну, нет, этого не будет! — в бешенстве закричала Анджела и направилась к телефону. — Она немедленно уедет домой! Я сейчас же позвоню миссис Дэйл! Сюзанна в волнении бросилась за ней, но Юджин взял ее за руку. — Ты этого не сделаешь, — заявил он Анджеле. — Сюзанна не поедет домой, и ты не посмеешь подойти к телефону. Если ты это сделаешь, я тоже кое-что предприму, и притом не теряя ни минуты. И он решительно загородил Анджеле путь к телефону, висевшему в коридоре за дверью. Угроза в его тоне и в голосе заставила Анджелу одуматься. Ее поразило, что он мог так грубо отстранить ее. Он, ее муж, взял Сюзанну за руку и просит ее успокоиться! — Юджин! — в отчаянии и ужасе воскликнула она. — Ты не понимаешь, что делаешь, и Сюзанна не понимает. Когда она поймет, она не захочет иметь с тобой ничего общего. Как она ни молода, в ней все же должна будет заговорить женщина. — Это еще что? — вспыхнул Юджин. Он не подозревал, он даже отдаленно не догадывался, к чему клонит Анджела. — О чем ты говоришь? — сурово повторил он. — Позволь мне сказать тебе несколько слов наедине, не в присутствии Сюзанны, — всего лишь два слова, и тогда ты, может быть, согласишься сейчас же отпустить ее домой. Анджела лукавила, в ней говорило злорадство. Нельзя сказать, чтобы она очень благородно пользовалась своим оружием. — В чем дело? — раздраженно спросил Юджин, подозревая какую-то новую хитрость. Он так долго пытался порвать связывающие его цепи, что мысль о возможности каких-то новых препятствий вызвала в нем страшное озлобление. — Почему ты не можешь сказать при Сюзанне? Не все ли равно? — Далеко не все равно, уверяю тебя. Нам нужно поговорить наедине. Не понимая, в чем дело, Сюзанна отошла в сторону. Что такое ей нужно сказать? — спрашивала она себя. Поведение Анджелы отнюдь не наводило на мысль, что речь идет о какой-то тайне. Едва Сюзанна отошла, Анджела шепнула Юджину несколько слов. — Это ложь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало возмущение, ужас, отчаяние. — Ты это только сейчас придумала! Как это на тебя похоже! Ха! Я не верю тебе! Это ложь! Ложь! Ты сама знаешь, что ложь! — Это правда, — гневно возразила Анджела, до глубины души оскорбленная тем, как он отнесся к ее словам, в отчаянии, что ей пришлось сказать Юджину о ребенке при таких обстоятельствах, что ее тайна была исторгнута у нее, как последнее средство спасения, и вызвала только презрение и насмешку. — Это правда! И тебе следовало бы стыдиться своих слов. Впрочем, чего можно ждать от человека, который способен привести в дом своей жены другую женщину! Как это ужасно, что она подверглась такому унижению, да еще в минуту, когда меньше всего этого ждала! Она не могла сейчас спорить с ним. Ей самой было стыдно, что она об этом заговорила. Все равно он ей теперь не поверит. Это только взбесит его и ее. Юджин был вне себя. Слова Анджелы вызвали в нем неудержимую ярость; в эту минуту он чувствовал к ней лишь презрение, как к шантажистке, интриганке, как к женщине, прибегающей к самым бесчестным средствам, чтобы удержать его. Он даже отшатнулся от нее, так велико было его отвращение, и она поняла, что нанесла ему страшный удар, поступила с ним — с его точки зрения — нечестно. — Неужели у тебя после этого не достанет порядочности отослать ее домой? — произнесла она вслух обиженно, горько, сердито. Но Юджин не помнил себя от возмущения. Если он когда-нибудь действительно ненавидел и презирал Анджелу, так именно в эту минуту. Подумать только, что она оказалась способной на подобную подлость! Подумать только, что она сумела еще туже стянуть ненавистные ему путы! Как это низко! Как пошло! Вот оно, настоящее лицо этой женщины, готовой дать жизнь ребенку, совершенно не считаясь с его будущим, только из желания удержать подле себя его отца. Проклятие! Да будет проклята жизнь со всей ее неразберихой и путаницей! Нет, она лжет. Ей не удастся таким путем привязать его к себе. Это низкая, подлая, отвратительная уловка! Он не желает больше знать ее. Он ее проучит. Он уйдет от нее. Он докажет ей, что такие приемы бесполезны. Мало он от нее натерпелся! Ни за что, ни за что не допустит он, чтобы она ему помешала. О, какие отвратительные, мерзкие плутни! Их разговор еще не кончился, когда вернулась Сюзанна. Она смутно догадывалась, о чем идет речь, и не знала, что делать, что думать. Слишком многое свалилось на нее в этот вечер, и слишком все было сложно. Юджин так решительно заявил, что это ложь, — о чем бы они ни говорили, — что она наполовину верила ему. Во всяком случае эта сцена доказывала, как мало между ними любви. Анджела не плакала. Ее бледное, исхудавшее лицо казалось каменным. — Я не могу больше оставаться здесь, — сказала Сюзанна, обращаясь к Юджину. — Я куда-нибудь уеду. Лучше я проведу ночь в гостинице. Вызовите мне, пожалуйста, машину. — Выслушайте меня, Сюзанна, — с силою сказал Юджин. — Ведь вы меня любите, да? — Вы знаете, что люблю, — ответила девушка. Анджела сделала насмешливую гримасу. — В таком случае вы останетесь здесь. Я прошу вас не обращать на нее ни малейшего внимания, что бы она ни говорила. Сейчас она унизилась до лжи, и я знаю, с какой целью. Не поддавайтесь обману. Идите к себе и ложитесь спать. Завтра мы поговорим. Вам незачем уезжать. В этом доме достаточно места. Это просто глупо. Раз вы здесь, здесь и оставайтесь. — А может быть, мне лучше уехать? — взволнованно сказала Сюзанна. Юджин успокаивающе взял ее за руку. — Послушайте, Сюзанна… — начал он. — Она и сама не хочет оставаться, — прервала его Анджела. — Она останется, — возразил Юджин, — или она поедет со мной. Я отвезу Сюзанну. — Ты этого не сделаешь! — воскликнула Анджела. — Вот что, Анджела, — со злобой сказал Юджин. — Сейчас не то, что шесть лет назад. Я — хозяин положения. Сюзанна останется здесь. Я сказал: либо она останется здесь, либо поедет со мной. А там — пеняй на себя. Я люблю Сюзанну. Я ни за что не откажусь от нее, а если тебе хочется устроить скандал, сделай одолжение. Пострадаешь ты, а не я. — Юджин, опомнись, что ты говоришь! — в ужасе воскликнула Анджела. — То, что ты слышишь. А теперь ступай в спальню. Сюзанна пойдет к себе, а я к себе. На сегодня пора прекратить эту сцену. С тобой у меня все счеты кончены. Довольно с меня. Если Сюзанна захочет этого, она будет моей. Анджела, еле держась на ногах, прошла к себе в спальню. Она была ошеломлена случившимся, она была в ужасе от мыслей, теснившихся в голове, от сознания, что ей не удалось убедить Юджина и изгнать Сюзанну. В горле у нее пересохло, голова раскалывалась на части, сердце бешено стучало, казалось, грудь вот-вот разорвется. Она говорила себе, что Юджин сошел с ума, но вместе с тем только сейчас, впервые за всю свою замужнюю жизнь, она поняла, какую страшную делала ошибку, пытаясь оказывать на него давление. Вот и сегодня все это ни к чему не привело — ни ее ярость, ни властный резкий тон. Она потерпела полное поражение. Провалился и ее план — замечательный план, бита карта, на которую она возлагала столько надежд. Упоминание о ребенке, на которое она рассчитывала, как на верный ход, не помогло. Он ей не поверил. Он не допускал и мысли, что это возможно. Он и не подумал прийти в восторг. Наоборот, почувствовал к ней презрение и отнесся к этому, как к хитрости! О, зачем только она сказала ему! Но Сюзанна должна понять, она все узнает, она не может потворствовать этому. Что он теперь предпримет? Он себя не помнит от злобы. Нечего сказать, удачное она выбрала время, чтобы объявить о предстоящем появлении ребенка. Устремив в пространство лихорадочно горящий взгляд, она беспомощно зарыдала. Когда Анджела ушла, Юджин еще некоторое время задержался в коридоре с Сюзанной. Его лицо осунулось, волосы были взъерошены, взгляд, как никогда раньше, говорил о суровой решимости. — Сюзанна, — сказал он, взяв ее за руки и глядя ей в глаза, — она солгала мне, солгала подло, жестоко, с наглым расчетом. Она скоро и вам повторит свою ложь. Она говорит, будто ждет от меня ребенка. Этого не может быть! Ей нельзя иметь детей. Это убило бы ее. Она давно уже родила бы, если бы это от нее зависело. Я ее хорошо знаю. Она надеется запугать меня. Она рассчитывает, что вы от меня отшатнетесь. Возможно ли это, Сюзанна? Это ложь, слышите, Сюзанна, ложь, что бы она вам ни говорила! Ах! — Он отпустил ее руку и схватился за горло. — Я больше этого не вынесу. Ведь вы не оставите меня, Сюзанна, правда, не оставите? Сюзанна смотрела на его измученное лицо, на его красивые, выразительные глаза, полные отчаяния. Она читала в них всю его муку, все его горе, и ей стало больно за него. Он так достоин любви, так несчастлив, судьба незаслуженно преследует его. И все-таки ей было страшно. Но ведь она обещала его любить. — Нет, не оставлю, — ответила она, не сводя с него доверчивого взгляда. — Вы никуда не уедете сегодня? — Нет. — Она погладила его по лицу. — Утром мы уйдем вместе. Мне надо поговорить с вами. — Хорошо. — Не бойтесь ничего. Если вам страшно, запритесь на ключ. Она не посмеет вас беспокоить. Она ничего не сделает. Она боится меня. Возможно, она захочет говорить с вами, но я буду все время здесь, близко. Вы меня еще любите? — Да. — И вы согласитесь стать моей, если мне удастся все уладить? — Да. — Несмотря даже на то, что она сказала? — Да. Я верю не ей, а вам. Впрочем, это и не важно. Ведь вы ее не любите? — Нет. Не люблю, — сказал он. — Нет, нет и еще раз нет! И никогда не любил! — Он устало, но с облегчением привлек ее к себе. — О моя радость, не покидайте меня! И не горюйте. Постарайтесь во всяком случае. Она правду сказала, у меня на совести много грехов, но я люблю вас. Да, люблю и за вашу любовь отдам все на свете. Если мы поплатимся за это, — пусть. Я люблю вас! Сюзанна продолжала нервно гладить его щеку. Она была бледна, как полотно, но, несмотря на испуг, в ней чувствовалась твердость. Ее поддерживала его любовь. — Я люблю вас, — сказала она. — Да? И вы не покинете меня? — Нет, не покину, — ответила она, не сознавая в сущности глубины обуревавших ее чувств. — Я буду верна вам. — Завтра все уладится, — сказал Юджин, начиная приходить в себя. — Мы немного успокоимся. Пойдем куда-нибудь и поговорим. Вы не вздумаете уйти без меня? — Нет. — Пожалуйста, не делайте этого. Потому что я люблю вас, и нам нужно поговорить и о многом подумать.Глава 82
Ошеломляющее сообщение Анджелы было так неожиданно и так все запутывало, что Юджин, хоть и отказывался ей верить, почти убежденный в лживости ее слов, все же терзался мыслью, что она, возможно, говорит правду. Он чувствовал одно: это страшно нечестно с ее стороны, страшно жестоко. Он ни на минуту не допускал, чтобы ее беременность была делом случая, — и был недалек от истины в своем предположении, — усматривая в этом лишь ловкий маневр, подстроенный в самый критический для него момент, чтобы взорвать его планы на будущее и привязать к старой жизни как раз тогда, когда ему особенно хотелось освободиться. Ведь только сейчас перед ним забрезжил новый день! Впервые он встретил женщину, о которой мечтал всю жизнь, такую юную, прекрасную, умную, чуткую! С ней он мог изведать все радости бытия. Без нее его ждала беспросветно-унылая жизнь. И вот является Анджела со своим сообщением о ребенке, — ребенке, который ей не нужен, который понадобился ей единственно для того, чтобы удержать своего пожизненного пленника против его воли, — и все идет прахом. Сейчас, как никогда, он ненавидел Анджелу за ее хитрость и расчетливый обман. Какое впечатление все это произведет на Сюзанну? Как убедить, ее, что это шантаж? Она должна понять, она поймет. Он не допустит, чтобы эта нечестная выходка разлучила их. Юджин лег в постель, но только ворочался с боку на бок, не смыкая глаз. Надо что-то предпринять, надо как-то действовать. Он встал, накинул халат и направился к Анджеле. Между тем эта несчастная снова переживала все муки ада, от которых не спасли ее ни решительный характер, ни умение бороться. После всех ее стараний, надежд и ее последней попытки внести в свою семейную жизнь покой и счастье, пусть даже ценой собственной жизни, ей пришлось пережить такую сцену. Юджин пытается вернуть себе свободу. Он пришел к твердому решению. Видно, так и будет, это ясно. Когда же началась эта скандальная связь? Неужели ее усилия удержать его ни к чему не приведут? Но Сюзанна сама уйдет от него, как только узнает и поймет все. Иначе быть не может — ведь она женщина. У Анджелы болела голова, горели руки. Ей казалось, что ее душит кошмар. Она чувствовала страшную слабость, все тело ныло. Но нет, она не бредит. Она лежит одна, у себя в комнате. Какой-нибудь час назад она сидела в студии своего мужа, среди друзей, окруженная всеобщим вниманием, — Юджин тоже казался внимательным и предупредительным, — и слушала прекрасный концерт, устроенный для гостей. А теперь она — брошенная жена, навсегда лишенная любви и счастья, жертва какого-то злого рока, который отнял у нее сердце мужа, отдав его другой женщине. Видеть, как Сюзанна, во всем обаянии своей юности и красоты, стоит перед ней, смело смотрит ей в глаза и, держа за руку ее мужа, заявляет с какой-то жестокой, безумной или пошлой театральностью: «Ведь я люблю его, миссис Витла» — ужасно! О боже, боже, неужели никогда не кончатся ее муки? Неужели рушатся навсегда ее заветные мечты? Неужели Юджин бросит ее, как грозил сейчас с каким-то остервенением? Никогда еще она не видела его таким, — таким решительным, холодным, грубым. Даже голос его звучал как-то гортанно, хрипло. Дрожь охватила ее при этих мыслях, а потом захлестнула волна ярости, и ярость сменилась страхом. Ее положение ужасно. Эта девушка сейчас с ним, она молода и красива, она не побоится бросить вызов всему миру. Анджела слышала, как Юджин окликнул ее, как они разговаривали. Ей пришло в голову, что, может быть, сейчас самый подходящий момент для того, чтобы убить его, Сюзанну, себя и новую жизнь, которую она в себе носит, — сразу положить конец всему. Но теперь, когда она только что перенесла такую болезнь, когда она стала старше и ждала ребенка, она совсем растерялась. Анджела пыталась утешить себя мыслью, что Юджин оставит эту затею, когда до его сознания дойдет то, что она ему сказала: просто время для этого еще не наступило. Но что, если он успеет совершить что-нибудь необдуманное и бесповоротное, скомпрометировать себя и Сюзанну? Судя по его словам и по словам девушки, этого еще не произошло. Но как он намерен поступить? Как он намерен поступить? Лежа в постели, она напряженно думала о том, что Юджин может бросить ее немедленно. Может произойти страшнейший скандал. Всем станут известны сокровенные тайны их жизни. Будущность ребенка под угрозой. Юджин, Сюзанна и она сама будут опозорены; хотя о Сюзанне она меньше всего беспокоилась. И в конце концов Сюзанна, пожалуй, добьется своего. Она может оказаться достаточно черствой и безжалостной. И свет, возможно, оправдает Юджина. А сама она, вероятно, умрет. Какой конец — после всех ее мечтаний о счастье, о лучшей, более спокойной жизни! Как все это страшно, как мучительно! Вот он, ужас и мрак загубленной жизни! В комнату вошел Юджин, бледный, хмурый, взволнованный, глаза его выражали грозную решимость. Он немного постоял в дверях, прислушиваясь, затем, повернув выключатель, зажег маленький ночник у изголовья Анджелы и сел в качалку, которую сиделка ставила себе у столика с лекарствами. Анджела за последнее время настолько оправилась, что не было уже надобности дежурить подле нее ночью, и сиделка приходила только на день. — Ну, — начал он торжественно, но холодно, увидев бледное, измученное лицо, еще хранившее прежнюю юную красоту, — и ты воображаешь, что тебе удался твой замечательный трюк, да? Ты думаешь, что поймала меня в западню? Я пришел сказать тебе, что ты глубоко ошибаешься, — это только начало конца. Ты уверяешь, что у тебя будет ребенок! Я этому не верю. Это ложь, и ты знаешь, что это ложь. Ты видела, что близится конец всей этой муке, и вот твой ответ. Так позволь тебе сказать, это ты хватила через край, ты передернула в игре и просчиталась. Твоя карта бита. На этот раз выиграл я. И я буду свободным человеком. Запомни это! Я добьюсь свободы, хотя бы мне пришлось все перевернуть вверх дном. Роди хоть двадцать детей, мне это совершенно безразлично, — не говоря уже о том, что это ложь. Но если даже правда, — все равно это низкая хитрость. Довольно я терпел и твою властность, и твои плутни, и твои пошленькие претензии! Теперь с этим покончено. Слышишь? Покончено! Он нервно провел рукой по лбу. Голова у него трещала, он чувствовал себя совсем больным. В какой ловушке он очутился, какой волчьей ямой оказался этот брак! Он связан цепями супружества с женой-тиранкой, а тут еще ребенок, зачатый по хитрому расчету! Его ребенок! Какой насмешкой звучало это теперь. Как это отвратительно, как пошло! Анджела лежала с широко раскрытыми глазами, совершенно без сил, с лихорадочным румянцем на щеках. Не поднимая головы, она спросила усталым, равнодушным голосом: — Чего же ты хочешь, Юджин? Чтобы я ушла от тебя? — Вот что, Анджела, — угрюмо ответил он, — я сейчас еще и сам не знаю, чего хочу от тебя. Знаю только, что прежней жизни настал конец. Прошлое погребено навеки. Одиннадцать или двенадцать лет я прожил с тобой, каждую минуту сознавая, что эта жизнь — сплошная фальшь. Я никогда в сущности не любил тебя с тех пор, как мы поженились. И ты прекрасно это знаешь. Вначале, быть может, и было какое-то чувство, да, было, — и потом в Блэквуде, давно, давно. Мне не следовало жениться на тебе. Это было ошибкой. Но я это сделал и заплатил за свою ошибку. Я изо дня в день платил за нее. Да и ты, положим, тоже. Ты все время твердила, что я должен любить тебя. Ты донимала меня, изводила, требовала того, чего я не мог дать тебе, как не мог бы летать. И сейчас, в последнюю минуту, ты вдруг решила сыграть на ребенке, чтобы удержать меня. И я знаю почему. Ты вообразила, будто какие-то высшие силы предназначили тебя быть моим стражем и наставником. Так позволь тебе сказать, что этого не будет! Кончено! И будь у нас целая куча детей, все равно было бы кончено. Сюзанна не поддастся такому дешевому обману, но если бы даже она и поверила тебе, она не оставит меня. Она знает, зачем ты это сделала. Кончилась для меня эта мучительная жизнь в вечном страхе. Я не обыкновенный человек и не намерен жить обыкновенной жизнью. Ты всегда стремилась удержать меня в рамках пошлых, мещанских условностей, — довольно! Сыт по горло. Я все брошу! И этот дом, и мою работу, и мой пай в строительной компании, все, все! Меня совершенно не трогает твое положение. Я люблю эту девушку, и она будет моей. Слышишь? Я люблю ее, и она будет моей. Она моя. Она создана для меня. Я люблю ее. И никакие силы в мире меня не удержат. Ты, может быть, думала, что этот фокус с ребенком меня остановит? Ну нет, ты не подденешь меня на удочку. Это хитрость, и я это знаю не хуже тебя. Ты просчиталась! Это могло иметь успех год или два назад. Сейчас из этого ничего не выйдет. Ты проиграла свой последний козырь. Эта девушка принадлежит мне, и я ее добьюсь. Он снова устало провел рукой по лицу, на минуту умолк и слегка качнулся в качалке. Зубы его были стиснуты, в глазах блестел холодный огонь. Он сознавал, что, в сущности, положение его ужасно и что предстоит трудная борьба. Анджела смотрела на него и не понимала, явь это или сон. Она знала, что Юджин очень изменился. За годы своего успеха он стал сильнее, настойчивее, увереннее в себе. Между ним и тем Юджином, который цеплялся за нее в свои черные дни в Билокси, было так же мало общего, как между младенцем и взрослым человеком. Он стал черствее, независимее, равнодушнее ко многому, но все же до сегодняшнего вечера в нем еще можно было обнаружить следы прежнего Юджина. Что же вдруг случилось с ним? Откуда такая ярость, такое озлобление? Всему причиной эта глупая взбалмошная эгоистка, эта девчонка, которая обольстила его своей красотой, благосклонно приняла его ухаживания, а возможно, и первая бросилась ему на шею. Она украла его у нее, Анджелы, несмотря на то, что она и Юджин казались счастливыми супругами. Сюзанна не могла знать, что это не так. При этом своем настроении он действительно способен бросить ее, даже сейчас, несмотря на ее состояние. Все зависит от этой девушки. Если не удастся подействовать на нее, если не удастся как-нибудь оказать на нее давление, Юджин будет навсегда для нее потерян, и тогда — какая ее ждет трагедия! Нельзя допустить, чтобы он сейчас ушел от нее. Ведь через шесть месяцев… Анджела вздрогнула при мысли о том, к каким ужасным последствиям привел бы разрыв. Его работа в издательстве, их ребенок, положение в обществе, дом — все ставилось на карту. Боже мой! Она с ума сойдет, если он теперь бросит ее! — Ах, Юджин, — сказала она очень грустно и без малейшего гнева в голосе, так как была слишком потрясена и истерзана и в ее душе не оставалось места для иного чувства, кроме страха. — Ах, Юджин, ты даже не представляешь себе, как ужасно ты ошибаешься! Да, я действительно сделала это с целью. Это верно. Давно, еще в Филадельфии, я вместе с миссис Санифор ходила к врачу, чтобы узнать, могут ли у меня быть дети. Ты помнишь, я всегда думала, что это невозможно. Но доктор сказал, что я могу быть матерью. Я пошла к нему, так как считала, что это будет лучше для тебя, что это заставит тебя остепениться. Я знала, что ты не хочешь ребенка. Я так и думала, что ты рассердишься, когда я тебе расскажу об этом, и долго не решалась. Мне и самой не хотелось иметь ребенка. Но я надеялась, что родится девочка, я знаю, как ты неравнодушен к маленьким девочкам. Теперь, после того, что произошло сегодня, мне все это кажется глупым. Я вижу, как я ошиблась. Да, я вижу, но злого умысла у меня не было, Юджин правда, не было! Я хотела удержать тебя, привязать к себе, чтобы тебе же помочь. Неужели ты станешь винить меня за это? Ведь я как-никак твоя жена. Юджин раздраженно пожал плечами, и Анджела умолкла, не зная, как продолжать. Она видела, что он страшно озлоблен, что у него тяжело на душе, и все же была возмущена его отношением. Так трудно было с этим примириться после полнейшей уверенности, что у нее на Юджина все права, и общественные и моральные, — права, которыми он не смеет пренебрегать. А теперь она лежит больная, измученная и молит о том, что естественно принадлежит ей и ее будущему ребенку. — Да, Юджин, — продолжала она все с той же печалью в голосе и по-прежнему без малейшего признака гнева, — подумай, прошу тебя, подумай хорошенько, пока ты не совершил ничего непоправимого. Ты только воображаешь, будто любишь эту девушку, на самом деле это не так. Тебе кажется, что она прекрасна, и чиста, и мила, и ты готов все вокруг себя растоптать и уйти от меня. Но ты ее не любишь, ты скоро сам убедишься… Ты никого не любишь, Юджин, ты не способен любить. Ты слишком для этого эгоистичен. Если бы ты был способен на какую-то привязанность, частица ее досталась бы и мне, — разве я не старалась изо всех сил быть тебе хорошей женой? Но все оказалось напрасным. Я знала все эти годы, что ты меня не любишь. Я читала это в твоих глазах, Юджин. Ты никогда не был по-настоящему мне близок, как бывает любящий человек, — ты просто терпел меня. В душе ты всегда был холоден и равнодушен, и теперь, оглядываясь назад, я вижу, что и сама сделалась такой. Я тоже стала холодной и черствой. Я старалась закалить себя, чтобы быть такой жестокой, и теперь мне ясно, к чему это привело. Мне очень жаль. Что касается Сюзанны, то ты и ее не любишь и никогда не будешь любить. Она слишком молода для тебя. Ее взгляды не могут сходиться с твоими. Ты воображаешь, что она ласковая и нежная и вместе с тем умная, с большой душой. Но неужели ты думаешь, что, будь она такой, она способна была бы стоять передо мною, как стояла сегодня, смотреть в глаза мне — твоей жене! — и говорить, что она любит тебя — моего мужа? Неужели ты думаешь, что, будь у нее хоть капля стыда, она оставалась бы сейчас в этом доме, зная, как обстоит дело, — ты ведь, конечно, все ей рассказал? Что же это за девушка, хотела бы я знать? И ты называешь ее порядочной! Порядочной?! Но разве порядочная девушка способна на что-либо подобное? — Нельзя на таком основании судить о человеке, — возразил Юджин, который то и дело прерывал речь Анджелы возгласами протеста и едкими репликами. — При создавшемся положении все должно казаться некрасивым. У Сюзанны не было намерения объявлять тебе, что она меня любит. Она не за тем сюда приехала, чтобы целоваться со мною в твоем доме. Это я добивался ее любви. Во всем виноват только я. Теперь она любит меня. Я не знал ничего о твоей тайне. Но если бы даже и знал, это ровно ничего не изменило бы. Вообще не стоит об этом говорить. Факт остается фактом. Я люблю Сюзанну, а все остальное не имеет никакого значения. Полулежа на высоко взбитых подушках, Анджела глядела в стену; у нее не было больше ни сил, ни мужества для дальнейшей борьбы. — Я понимаю, что с тобой происходит, Юджин, — сказала она после некоторой паузы. — Дело не во мне, — тебя тяготит ярмо, ярмо брака. Тебе не следовало жениться. То же самое повторилось бы и со всякой другой женщиной — как бы она тебя ни любила и сколько бы у нее ни было детей, ты все равно захотел бы освободиться и от нее и от них. Да, Юджин, тебя тяготит брак. Тебе нужна свобода, и ты не успокоишься, пока не добьешься ее. Появление ребенка ничего не изменило бы. Теперь я это понимаю. — Да, мне нужна свобода! — подтвердил он запальчиво и раздраженно. — И я ее добьюсь. Какое мне дело до чего бы то ни было! Мне опротивело лгать и притворяться. Мне опротивели твои пошленькие взгляды на жизнь, твои представления о том, что хорошо и что плохо. Вот уже одиннадцать или двенадцать лет, как я терплю это. Я как арестант сидел с тобой каждое утро за завтраком и каждый вечер за обедом. Я выслушивал твои рассуждения насчет жизни и возмущался каждым твоим словом и презирал твои теории. Я шел на все, чтобы не оскорблять твоих чувств. Но теперь с этим кончено. Что я получил взамен? Ты шпионила за мной, ты мешала мне на каждом шагу. Ты обыскивала мои карманы в поисках каких-то писем. Ты пилила меня, если я осмеливался хотя бы раз вернуться вечером домой и не отдать тебе отчета в том, где я был. Отчего ты не ушла от меня тогда, после истории в Ривервуде? Почему ты цепляешься за меня, зная, что я не люблю тебя? Точно я арестант, а ты мой тюремщик. Боже мой, мне тошно делается, когда я подумаю об этом. Впрочем, не о чем больше говорить. С этим все кончено. Кончено бесповоротно, я разделался с этой жизнью раз и навсегда. Теперь я заживу так, как мне хочется, и буду заниматься тем, что мне нравится. Я буду жить с человеком, который мне дорог. Вот и все. А ты можешь делать все, что тебе угодно. Он был похож на молодого коня, закусившего удила и вообразившего, что, если он будет рваться и становиться на дыбы, он навсегда вернет себе свободу, — на коня, которому видятся зеленые поля и просторные пастбища. Он чувствовал себя свободным, несмотря даже на то, что сообщила ему Анджела. Эта ночь вернула ему свободу, и он будет свободным! Сюзанна не откажется от него, он был уверен. Он должен раз навсегда внушить Анджеле, что к прошлому нет возврата, как бы все ни сложилось. — Да, Юджин, — грустно ответила она, выслушав его горячие речи. — Я тоже думаю, что тебе нужна свобода. Теперь я это вижу. Я начинаю понимать, как много она для тебя значит. Но я совершила ужасную ошибку. Обо мне ты совсем не хочешь подумать. Что же мне делать? Я говорю правду — если я не умру, у меня будет ребенок. Но, вероятно, я умру. Я боюсь этого, вернее, боялась раньше. Теперь мне все равно. Теперь мне незачем жить, может быть, только ради ребенка. Разве я знала, что у меня окажется ревматизм? Разве я знала, что это отразится на моем сердце? Разве я могла думать, что ты так поступишь? Теперь мне все безразлично. О! — с глубокой печалью воскликнула она, и горячие слезы хлынули у нее из глаз. — Какая это была ошибка! Зачем только я это сделала? Юджин сидел, упорно не поднимая головы. Слезы Анджелы нисколько не тронули его. Он не верил, что она умрет, — и надеяться нечего! Он думал лишь о том, что положение страшно осложнилось, — или что она разыгрывает комедию, — но это ни в коем случае не должно быть для него препятствием. Зачем она пыталась обмануть его? Анджела во всем виновата. Теперь она плачет, но это все то же лицемерие, к которому она прибегала и раньше. Он вовсе не собирается бросить ее на произвол судьбы. Средств к жизни у нее будет достаточно. Но он не намерен больше жить с нею, — если это удастся устроить, или, в крайнем случае, — только для виду. Все свое время он будет отдавать Сюзанне. — Мне дела нет до того, какой ценой тебе придется за это расплачиваться, — заговорил он наконец. — Я больше не хочу с тобой жить. Я непросил тебя производить на свет ребенка. Я тут ни при чем. Материально ты будешь обеспечена, но жить с тобой я не стану. Он снова нервно задвигался в качалке. На лице Анджелы горел болезненный румянец. Черствость этого человека на минуту вызвала в ней ярость. Она, конечно, не думала, что ей грозит голод, но их дом, общественное положение, комфорт — на всем этом придется поставить крест. — Да, да, я понимаю, — жалобно сказала она, стараясь взять себя в руки. — Но надо считаться не только со мной. Подумал ли ты о миссис Дэйл, о том, что она скажет и сделает? Напрасно ты надеешься, что она отдаст тебе Сюзанну и не попытается помешать вам. Она умная женщина. Сюзанну она любит, как бы своенравна та ни была. К тебе она хорошо относится, но неужели ты воображаешь, что она не изменит своего отношения, когда узнает, что ты сделал с ее дочерью? И как ты, кстати, собираешься поступить? Ты не можешь жениться на ней раньше чем через год, даже если бы я и согласилась развестись с тобой. Ты ведь знаешь, что эта процедура длится не меньше года. — Я буду жить с Сюзанной — вот как я намерен поступить, — твердо заявил Юджин. — Она любит меня и согласна принять меня таким, какой я есть. Она не нуждается в брачных церемониях, в обетах, кольцах и прочем. Она презирает все это. Пока я люблю ее, она будет моей. А если я ее разлюблю, она сама не захочет оставаться со мной. Тебе это дико слышать, не правда ли, — с горькой иронией добавил он. — В Блэквуде так не рассуждают! Анджела вспыхнула. Его насмешки были невыносимо жестоки. — Это она только говорит так, Юджин, — тихо произнесла Анджела, — просто она еще не опомнилась. Сейчас она вторит тебе. Ты приворожил ее. Но впоследствии, когда она придет в себя, если в ней есть хоть капля рассудка, хоть капля гордости… А впрочем, к чему я говорю все это? Ты все равно не слушаешь. Ты не хочешь над этим задуматься. Но скажи, пожалуйста, — добавила она, — как ты предполагаешь уладить дело с миссис Дэйл? Неужели ты надеешься, что она сдастся без борьбы, даже если я не стану бороться? Не спеши и подумай хорошенько. То, что ты собираешься сделать, ужасно. — Подумай! Подумай! — с горечью и бешенством воскликнул Юджин. — Как будто я мало думал все эти годы! Какого черта еще думать! Я только и делал, что думал. Я столько думал, что у меня вся душа изныла. Я столько думал, что рад бы разучиться думать. И насчет миссис Дэйл я тоже думал, можешь не сомневаться. С ней я потом сговорюсь. Сейчас я хочу только, чтобы ты раз навсегда поняла, какие у меня намерения. Сюзанна будет моей, и тебе не остановить меня. — Ах, Юджин, — вздохнула Анджела, — если бы кто-нибудь мог открыть тебе глаза! Отчасти вина, конечно, моя. Я бывала строга с тобой, подозрительна, ревнива, но разве ты не давал мне поводов? Я вижу теперь, что поступала неправильно. Я была слишком черствой, слишком подозрительной. Но если бы ты дал мне хоть малейшую возможность, я исправилась бы (она уже не думала о смерти), честное слово, я исправилась бы. Ты рискуешь потерять очень многое. Стоит ли идти на это? Тебе известно, как у нас смотрят на такие вещи. Что, по-твоему, скажет общество, если тебе даже удастся получить свободу? Ведь ты не можешь отказаться от своего ребенка. Повремени, посмотрим, чем это кончится. Может быть, я умру. Мало ли бывает таких случаев. Тогда ты будешь свободен и поступишь, как тебе угодно. Ведь ждать осталось недолго. Это был благовидный предлог, чтобы удержать его. Но он понял ее хитрость. — Дудки! — крикнул он, в раздражении прибегая к одному из жаргонных словечек, которые недавно стали входить в моду. — Я все прекрасно понимаю и вижу, куда ты гнешь. Во-первых, я не верю, что ты беременна. Во-вторых, ты вовсе не умрешь. И я не намерен ждать, пока стану свободным… Я тебя знаю и не верю тебе. То, что я собираюсь делать, на тебе не отразится. Нуждаться ты не будешь. И никому не надо этого знать, если только сама ты не поднимешь, шума. Мы с Сюзанной сумеем договориться. Я прекрасно понимаю, о чем ты хлопочешь, но тебе не удастся мне помешать. А если ты пойдешь на это, я все брошу — и квартиру, и службу, и тебя… Он в исступлении сжал кулаки. У Анджелы руки ныли от нервных спазм. Глаза жгло, сердце бешено колотилось. Этот угрюмый человек, такой властный, упрямый, такой неистовый, казался ей чужим. Неужели это тот самый Юджин, который всегда так считался с нею? Ведь он буквально на цыпочках ходил. Правда, случалось ему и вспылить, но потом он сам, бывало, пожалеет и попросит прощения. Она хвасталась перед некоторыми приятельницами, и особенно перед Мариеттой, — хотя хвастовство это было шутливое, безобидное, — что может обвести Юджина вокруг пальца. Он был такой покладистый и тихий. А сейчас перед нею мятежный демон, одержимый кощунственным желанием, готовый сокрушить и свою, и ее жизнь, и, пожалуй, жизнь Сюзанны. Впрочем, до Сюзанны и до миссис Дэйл ей было мало дела. Ее страшила мысль о собственной загубленной жизни и о жизни Юджина, над которой нависла такая угроза. — А ты подумал, что сделает мистер Колфакс, когда узнает? — спросила она, в отчаянии хватаясь за этот довод и надеясь запугать его. — Наплевать мне на то, что сделает мистер Колфакс. Наплевать мне на всех на свете. Я люблю Сюзанну Дэйл! Она любит меня! Я ей нужен! Вот и все! А теперь я пойду к ней. Попробуй только остановить меня! Сюзанна Дэйл! Сюзанна Дэйл! Какую ярость, какой страх вызывало в Анджеле это имя! Никогда еще не понимала она так ясно, какая сила таится в красоте. Сюзанна Дэйл была молода и красива. Еще сегодня вечером Анджела смотрела на нее и думала, как она очаровательна, какое прелестное у нее личико, — и вот, оказывается, Юджин подпал под ее чары и погубил себя. О, какая страшная вещь красота! И эта так называемая светская жизнь! Зачем только она устраивала приемы? Зачем подружилась с семейством Дэйл? Но, с другой стороны, мало ли девушек среди их знакомых, ничем не уступающих Сюзанне, — Марджори Мак-Ленан, например, или Флоренс Рил, Генриетта Тэнмен, Аннета Кин. Любая из них могла оказаться на месте Сюзанны. Что же, надо было совсем устранить молодых девушек из жизни Юджина? Нет, все дело в нем самом. Все дело в его отношении к жизни, в той власти, какую имеет над ним красота, особенно женская. Теперь ей все ясно. Он просто слабовольный человек. Красота всегда кружила ему голову, Анджела знала это и по собственному опыту, — как он восхищался когда-то ее телом! «Боже, — беззвучно шептала она, — научи меня, что делать! Я недостойна твоей помощи, но все же помоги мне. Помоги мне спасти его. Помоги мне самой спастись!» — Ах, Юджин! — произнесла она вслух, уже ни на что не надеясь. — Не спеши, подумай. Позволь Сюзанне уйти утром домой, а сам успокойся, образумься. Меньше всего я думаю о себе. Я могу простить и забыть. Обещаю тебе никогда об этом не вспоминать. Если будет ребенок, я сделаю все, чтобы он тебе не мешал. И вообще постараюсь, чтобы его не было. Может быть, время еще не упущено. Я буду теперь совсем другая. О! — И она разразилась слезами. — Нет, черт возьми! — воскликнул он, вставая. — Нет, нет и нет! Хватит! Кончено! Довольно с меня этих притворных слез и истерик! Сейчас слезы, а через минуту ярость, и ненависть, и бесконечные увертки. Нет уж! Хватит тебе быть моим хозяином, тюремщиком! Теперь мой черед! Попробую теперь я быть тюремщиком, попробую я для разнообразия покомандовать! Сейчас я на коне и постараюсь удержаться в этой позиции. Можешь плакать, сколько тебе угодно, можешь делать с ребенком все, что хочешь. Кончено! Я устал и иду спать. Но помни: все остается так, как я сказал. Кончено! И больше нам не о чем говорить! Он быстрыми шагами вышел из комнаты, озлобленный и взбешенный, но, войдя к себе в спальню, расположенную по другую сторону студии, опустился в кресло, чувствуя, что не в силах уснуть. Его мозг был взбудоражен мыслями о Сюзанне, сознанием, что вся его прежняя жизнь так быстро, так бесповоротно разлетелась вдребезги. Теперь, если он сумеет поставить на своем — а это безусловно так и будет, — он завладеет Сюзанной. Если иначе нельзя, она согласится жить с ним тайно. У них будет студия, вторая квартира. Анджела, вероятно, не даст ему развода, особенно если то, что она сказала, — правда. Да он и не будет настаивать. Из разговора с ней он вынес впечатление, что она боится его и не станет поднимать скандала. Да и что в сущности может она сделать? Он действительно хозяин положения. Сюзанна принадлежит ему. Он обеспечит Анджелу и будет счастлив с Сюзанной. Сюзанна! Сюзанна! Как она прекрасна! Как благородно, как смело держала она себя сегодня! Как это было восхитительно, когда она взяла его за руку и сказала: «Ведь я люблю его, миссис Витла!» Да, она любит его. Несомненно. Она молода, очаровательна, в ней зреют прекрасные чувства. Со временем она превратится в обаятельную женщину. И она так молода! Как обидно, что он еще не свободен. Ну что ж, подождем! Время все уладит, а пока Сюзанна будет принадлежать ему. Он поговорит с ней, он ей все объяснит. Бедная маленькая Сюзанна! Она там, в своей комнате, думает о том, что ждет ее, а он не может даже пойти ее утешить. Он чувствовал, что это неудобно, а кроме того, Анджела могла поднять шум. Но завтра! Завтра они пойдут вместе гулять, он поговорит с ней, они составят план действий, завтра он сообщит ей свои намерения и услышит, что она ему скажет.Глава 83
Ночь прошла без новых треволнений, но уже и то, что произошло, казалось Юджину самым невероятным, самым крупным событием всей его жизни. До той минуты, как Анджела вошла в студию, он в сущности не ожидал, что дело примет такой трагический оборот, да, по правде говоря, он и вообще-то мало думал о том, что будет. В последнее время, когда, лежа по ночам, он предавался своим путанным грезам, ему нередко приходило в голову, что в конце концов надо будет расстаться с Сюзанной, хотя как, когда и почему, он сам бы не мог сказать. Он в буквальном смысле слова был без ума от нее, и разлука с ней казалась ему немыслимой. Бывали и другие минуты, когда ему представлялось, что некие неведомые силы заранее сговорились увенчать его жизненный путь, даровав ему полное счастье. Он всегда считал, что жизнью его управляет таинственный рок. И что его талант — дар природы, что на него возложена миссия произвести переворот в американском искусстве или по меньшей мере двинуть его вперед, и что природа обычно посылает для таких целей своих избранников, осыпая их милостями. И тут же ему, наоборот, начинало казаться, что он забава, игрушка каких-то злокозненных сил вроде тех, что толкали Макбета к его роковому концу, и что он обречен на гибель в назидание другим людям. Это, он успел заметить, именно так и бывает. Фортуна — обманщица. Она часто ставит на пути человека пагубные соблазны. Он знал людей, которые погибли ни за что. Неужели и его ждет та же участь? Да, судя по неожиданному и ошеломляющему сообщению Анджелы, этого можно было ожидать. Но ему не хотелось верить. Судьба не без цели столкнула его с Сюзанной. Избранник неба, он влачил жалкое существование, и Сюзанна была послана ему в награду за его мытарства. Сейчас она вошла в его жизнь, — можно сказать, стремительно брошена ему в объятия, чтобы он возможно скорее насладился ею. Какою глупостью было привести ее к себе домой и тут расточать ей ласки, чтобы быть застигнутым на месте преступления! Но в сущности разве и в этом не виден перст судьбы? Несомненно, так было суждено. И стыд, который он испытал, стыд, который испытали Анджела и Сюзанна, мучительные минуты и часы, пережитые каждым из них, — все это были жертвы, неизбежные при всякой большой ломке. Очевидно, этим и должно было все кончиться. Уж лучше так, чем продолжать прежнюю жизнь. Право же, он достоин чего-то иного, — думал он, — большого личного счастья. Надо как-то уладить дело с Анджелой — либо уйти от нее, либо устроить так, чтобы постоянно и без помехи наслаждаться обществом Сюзанны. Никто не может им это запретить. Он ни за что от нее не откажется. Пусть Анджела родит ребенка. Что ж, он обеспечит его материально, вот и все. Ему вспомнились слова Сюзанны, что она готова уйти из дома по первому его зову. Время для этого пришло. Надо подумать об отдельной студии, но придется держать это в секрете. Анджела им нестрашна. Она бессильна что-либо сделать. Только бы события этой ночи не слишком испугали Сюзанну, не заставили ее передумать. Он никогда не говорил ей, как он предполагает освободиться от Анджелы. Сюзанна знает только то, что слышала этой ночью. Она, конечно, решила, что ничто не должно мешать их любви — они поселятся вместе, не считаясь с тем, как отнесется к этому свет, не считаясь с мнением ее матери, пренебрегая ее братом, и сестрами, и Анджелой, и будут счастливы. Он никогда не пытался рассеять ее иллюзии — он и сам весьма смутно представлял себе, что будет. Он стремился вперед без ясной цели, желая только сближения с нею — духовного и физического. Но теперь он должен действовать, не то он ее потеряет. Он должен убедить Сюзанну, невзирая на все, что сказала Анджела, или же расстаться с ней. Конечно, она не захочет расстаться с ним ни при каких условиях. Надо поговорить с ней, объяснить, заставить ее понять, что все это только хитрый маневр. Анджела тоже не спала; она лежала с открытыми глазами, устремив в пространство взгляд, полный отчаяния. Когда наступило утро, ни один из участников этой драмы так ни до чего и не додумался, но каждый из них понял, как ужасна надвигающаяся трагедия. Сюзанна пыталась в ней разобраться, но она всем своим юным существом тянулась к Юджину, а потому могла рассуждать лишь с этой точки зрения. Она его любит, должна любить, раз он готов ради нее на любые жертвы. Но в то же время она была в крайнем замешательстве, ее мысли были настолько туманны, что Юджин пришел бы в ужас, если бы мог в эту минуту их прочесть. Она была в том состоянии, когда человек, впервые познав красоту жизни и любви, верит, свято верит, что будущее принесет ему радость — много радости и ничего кроме радости. Она не сознавала, как тяжело положение Юджина. Ей были непонятны страдания человека, которому не дано было насладиться высшим блаженством любви и который всегда безрассудно тянулся к тому, что может дать богатство, но все его усилия оставались тщетны. В ужасе от мысли, что бокал с волшебным напитком будет вырван у него из рук после первого же глотка, Юджин лежал во мраке своей комнаты, охваченный нервной дрожью, — в ушах у него звенело, сердце колотилось; он жадно простирал руки к той блестящей жизни, которая так манила его. Сюзанна же, чья жизнь была полной чашей, находилась в состоянии полузабытья, словно в каком-то сонном царстве радости и счастья, где к ее услугам были все наслаждения и оставалось только выбирать. Даже в самые критические минуты ей ничто не грозило. Взять хотя бы сегодняшнюю бурю, — она уже почти отшумела благодаря стараниям Юджина и, вероятно, пронесется, не оставив и следа. Нужно только дать событиям идти своим чередом, и все уладится. Она всегда была уверена, что с ней не может случиться ничего дурного. Вот и сейчас Юджин у себя в доме ухаживает за нею и оберегает ее! Вот почему Сюзанна не особенно горевала ни о Юджине, ни об Анджеле, ни о себе. Она была не способна на это. Бывают такие натуры. Она считала, что Юджин в состоянии взять на себя материальную заботу и о ней и об Анджеле. Ее мысли уносились далеко вперед — к тому дню, когда этот злополучный брак будет расторгнут и Юджин станет счастлив, да и Анджела тоже. Ей так хотелось, чтобы Юджин был счастлив, и именно благодаря ей, поскольку счастье Юджина зависело, по-видимому, от нее. В отличие от Юджина она, однако, допускала, что могла бы прожить и без него, если бы так пришлось. Она, конечно, не хотела этого, она чувствовала, что для нее было бы величайшим счастьем вознаградить Юджина за все его прошлые муки и страдания. Но если, скажем, они должны будут на время расстаться, то и в этом нет ничего страшного. Ведь потом они опять соединятся. Ну, а если нет!.. Но этого быть не может! Не стоит даже думать об этом. Не странно ли, однако, что ее красота, только ее внешнее обаяние, которому сама она придавала так мало значения, внушили ему такую безумную любовь. Сюзанна, конечно, и не догадывалась о той чисто физической боли, которая терзала Юджина, но одно было для нее очевидно — он без ума от нее. Об этом говорило его лицо и его пылающие черные глаза, устремленные на нее с выражением безграничного восторга и страдания. Неужели она действительно так красива? Конечно, нет. И все же Юджин так стремится к ней. Как странно! Едва рассвело, Сюзанна встала и начала тихо одеваться. Она решила выйти погулять, а Юджину оставить записку, где ее найти. В городе ей предстояло в этот день только одно дело. Потом она вернется домой, и все постепенно наладится. Раз Юджин заставил Анджелу отказаться от своего решения открыть их тайну миссис Дэйл, все будет хорошо. Они с Юджином встретятся, а потом она оставит свой дом, а он свой, и они уедут куда-нибудь, куда бы Юджин ни пожелал. Но, разумеется, Сюзанна предпочла бы убедить мать, чтобы та стала на ее точку зрения и помогла им. Она предпочла бы это из тех соображений, чтобы Анджела и Юджин не потеряли своего положения в обществе. Благодаря своей молодости и отвлеченным, поэтическим представлениям о жизни Сюзанна считала, что ей удастся одержать верх над матерью и они с Юджином смогут мирно жить где-нибудь вдвоем. Ее друзьям можно будет и не сообщать об этом — а можно и сказать, во всяком случае, некоторым, — и они, наверно, отнесутся сочувственно, ведь все это так красиво и вполне естественно! Услыхав шаги в комнате Сюзанны, Юджин вскочил, подошел к ее двери и постучал. Когда она открыла ему, одетая для улицы, у него больно сжалось сердце при мысли, что она хотела ускользнуть тайком, даже не повидавшись с ним, — так мало в сущности знают они друг друга. Но едва он увидел ее — чуть холодную, притихшую или отрезвленную непривычными думами и сознанием необычности своего положения, — она показалась ему прекраснее, чем когда-либо. — Вы собирались уходить? — спросил он, когда она подняла на него вопрошающий взгляд. — Я хотела пройтись. — Без меня? — Я надеялась повидаться с вами перед уходом, в крайнем случае оставила бы вам записку, чтобы сказать, где мы встретимся. — Вы подождете меня? — спросил Юджин. У него было чувство, что он не должен ни на минуту отпускать ее, иначе всему — конец. — Только одну минуту. Мне надо переодеться. Он прижал ее к себе. — Хорошо, — тихо ответила она. — Вы не уйдете без меня? — Нет. Почему вы спрашиваете? — О, как я вас люблю! — воскликнул он вместо ответа и, слегка запрокинув ее голову, жадно посмотрел ей в глаза. Она нежно сжала ладонями его усталое лицо и ответила ему долгим взглядом. Это была ее первая любовь, и она настолько владела всем ее существом, что Сюзанна ничего не видела, кроме Юджина. Он был так прекрасен, он так изголодался по любви! Теперь ее нисколько не смущало, что она находится в доме его жены и что к их любви примешалось так много тяжелого и неприятного. Она любила его. Она всю ночь, не сомкнув глаз, думала о нем. При ее молодости ей было еще трудно все себе уяснить, но она чувствовала, что жизнь его сложилась очень тяжело, что подруга жизни попалась ему крайне неудачная и что он нуждается в ней, Сюзанне. Он так красив, так изыскан, так талантлив! Раз он больше не любит Анджелу, как она может цепляться за него! Конечно, ей будет без него тоскливо. Но неужели же этого достаточно, чтобы удерживать его подле себя? Будь она сама на месте Анджелы, она бы так не поступила. И что меняется от того, что Анджела ждет ребенка? Ведь Юджин не любит ее. — Обо мне не тревожьтесь, — сказала она, чтобы успокоить Юджина. — Я вас люблю. Как вы можете в этом сомневаться? Мне нужно поговорить с вами. Как миссис Витла? Она думала о том, что предпримет его жена — станет ли звонить ее матери, начнется ли борьба за Юджина сейчас же. — Все то же, — устало ответил он. — У меня было с ней крупное объяснение. Я сказал ей о своих дальнейших намерениях, но мы после обо всем поговорим. Он ушел переодеться, а потом зашел к Анджеле. — Я иду погулять с Сюзанной, — сказал он тоном, не терпящим возражения. — Хорошо, — сказала Анджела, от слабости она была близка к обмороку. — Придешь к обеду? — Не знаю, — ответил он. — Разве это имеет какое-нибудь значение? — Только то, что, если ты не придешь, я отпущу кухарку и горничную. Мне самой ничего не нужно. — Когда придет сиделка? — В семь часов. — Ну что ж, вели приготовить обед, если хочешь, — сказал он. — Я постараюсь вернуться к четырем часам. Он вошел в студию, где его ждала Сюзанна. Несмотря на бледность и тени под глазами, вид у нее был бодрый и уверенный. Он снова залюбовался тем спокойствием и силою, которые чувствовались в каждом движении ее молодого тела и всегда так восхищали его. Какая изумительная девушка! Сколько в ней выдержки и цепкости, несмотря на то, что жизнь так баловала ее. Когда ночью, накануне, она заявила, что намерена поехать в гостиницу и не вернется домой, пока ей не удастся устроить свою судьбу, Юджин был поражен. Не будь Сюзанна исключительным человеком, разве пришло бы ей в голову, что она должна стать независимой, приискать себе работу? Ведь он не раз слышал от миссис Дэйл, что Сюзанну ждет наследство, оставленное отцом. Вот и сейчас она смотрит на него с таким спокойствием и уверенностью. Он не стал вызывать такси, а повел ее на набережную, и они пошли вдоль парапета по направлению к могиле Гранта. У него мелькнула мысль поехать в Клермонтскую гостиницу и там позавтракать, а потом нанять где-нибудь машину. Но кто-нибудь мог узнать Сюзанну да и его тоже. — Куда мы с вами пойдем, дорогая? — спросил он, когда свежий ветерок пахнул им в лицо. Утро было восхитительное. — Мне все равно, — ответила Сюзанна. — Я обещала зайти сегодня к Элмердингам, но не условилась, когда именно. Это можно сделать и во второй половине дня. Как вы думаете, миссис Витла будет звонить мама? — Вряд ли. Я даже уверен, что не будет. — Он вспомнил свой последний разговор с Анджелой, она сказала, что ничего не станет предпринимать. — А не может случиться, что ваша матушка будет вам звонить? — Едва ли! Мама обычно не беспокоится, если знает, где я. А если она позвонит Элмердингам, ей скажут, что я еще не приходила. Вы думаете, что миссис Витла может все рассказать мама, если та позвонит? — Нет, — сказал он. — Я убежден, что она этого не сделает. Анджеле нужно время, чтобы подумать. Она не станет ничего предпринимать, она так и сказала мне ночью. Она будет выжидать, посмотрит, что я буду делать. Все зависит от того, как мы с вами разыграем свои карты. Они продолжали путь, взявшись за руки и любуясь рекой. Было всего без четверти семь, и набережная была почти безлюдна. — Если она расскажет мама, выйдет очень нехорошо, — задумчиво произнесла Сюзанна. — Вы действительно считаете, что она этого не сделает? — Убежден. Ни минуты не сомневаюсь. Она не решится ничего предпринять. Это слишком опасно. Она, вероятно, надеется, что я одумаюсь. О, как ужасно я жил до сих пор! Теперь, когда я узнал вас, все это кажется мне дурным сном. Вы так мало похожи на других женщин, вы так великодушны! В вас нет ни капли эгоизма! Подумать только, что я все эти годы подчинялся ей, даже в самых пустяках! А тут еще эта последняя хитрость! Он грустно покачал головой. Сюзанна смотрела на его усталое лицо. Сама она была свежа, как росистое утро. — О, если бы мне с самого начала встретилась такая девушка, как вы! — добавил он. — Послушайте, Юджин, — сказала Сюзанна. — Мне страшно жаль миссис Витла. Нам не следовало вчера так вести себя. Это все вы виноваты. Вы никогда меня не слушаетесь. Вы такой упрямец. Я вовсе не хочу, чтобы вы ради меня покинули миссис Витла, — не делайте этого. Мне это не нужно. Я не хочу выходить за вас замуж. Во всяком случае не сейчас. Я скорей готова так стать вашей. Но нужно время, чтобы все подготовить и действовать с умом. Если мама сегодня же узнает, разразится ужасный скандал. Просто должно пройти какое-то время, и тогда мы, возможно, с ней договоримся. Мне нет дела до того, что вам сказала вчера миссис Витла. Вам не нужно оставлять ее. Как-нибудь все утрясется. Вся трудность в мама, вы понимаете? Сюзанна шла, слегка размахивая рукой, которую он держал в своей, и пожимая его пальцы. Вопрос о матери серьезно тревожил ее, и она высказывала свои опасения вслух. — Видите ли, Юджин, — продолжала она, — мама никак нельзя назвать ограниченным человеком. Брак она не считает святыней, разве только идеальный брак. Положение миссис Витла ничего не меняет. Конечно, было бы лучше, если б ребенок уже родился. Я думала об этом. Мама, наверное, разрешила бы нам как-нибудь устроить нашу жизнь, если ее убедить, что я буду счастлива и что это не вызовет скандала. Но мне необходимо время, чтобы поговорить с нею. Сразу ничего не выйдет. Юджин слушал ее с изумлением, как и всегда, когда Сюзанна делилась с ним своими мыслями. По-видимому, она уже давно задумывалась над всеми этими вопросами. Ей не очень-то легко было излагать свои взгляды. Она то и дело останавливалась в поисках нужных слов, но, найдя их, говорила странные вещи. Вот только права ли она? — Сюзанна, вы удивляете меня! Как много, оказывается, вы уже передумали! Но понимаете ли вы, что говорите? Хорошо ли вообще вы знаете свою мать? — Мама? Да, я думаю, что знаю ее. Видите ли, она совсем не мещанка. Она очень начитанна и даже несколько экзальтированна. Она часто говорит о том, что чувство нельзя неволить, правда, я не всему придаю значение. И все-таки мне кажется, она многим отличается от большинства женщин — это исключительная натура. Во мне она любит не столько свою дочь, сколько человека вообще. И она очень беспокоится за меня, а мне кажется, что я сильнее ее и в иных случаях могу на нее повлиять. Она часто ищет во мне поддержки, а меня не может заставить что-нибудь сделать, если я не хочу. Я думаю, что уговорю ее, это уже не раз бывало и удастся мне и теперь, если я буду действовать не спеша. Понадобится немало времени, чтобы убедить ее стать на мою точку зрения. — А сколько? — задумчиво спросил Юджин. — Ну, не знаю. Месяца три, а может быть, и полгода. Сейчас трудно сказать. Но я попытаюсь. — А если вам не удастся? — Ну что ж… Тогда я пойду против ее воли, только и всего. Я же говорю, что не уверена, но думаю, что мне удастся переубедить ее. — А если нет? — Я убеждена, что удастся. — И Сюзанна весело тряхнула головкой. — И вы будете моей? — И я буду вашей. Они проходили под деревьями близ Сотой улицы. Никого вблизи не было, за исключением какого-то одинокого пешехода впереди. Юджин обнял Сюзанну и поцеловал в губы. — О божество мое! — воскликнул он. — Моя прекрасная Елена! Цирцея! — Не надо, — ответила она, и глаза ее весело заблестели. — Не надо здесь. Подождите, пока мы сядем в машину. — Поедем завтракать в Клермонт? — Мне не хочется есть. — Ну все равно, мы можем прокатиться. Они разыскали гараж и скоро уже мчались по направлению к северу. Чудесный утренний ветерок освежал их, умеряя лихорадку их чувств. Они то задумывались, то были неестественно веселы. Юджином владели то радость, то страх, а Сюзанна подбадривала его. Она была спокойнее его, увереннее, смелее. Она говорила с ним как сильная, разумная мать. — Сюзанна, — сказал он, — временами я не знаю, что и думать. Мою жену я ни в чем обвинить не могу, — я могу только сказать, что не люблю ее. Я был так несчастлив. Как вы смотрите на такие вещи, Сюзанна? Вы слышали, что она говорила про меня? — Да, слышала. — Все это объясняется только одним. Я не люблю ее. И никогда в сущности не любил. Как вы смотрите на брак, в котором нет любви? В том, что она говорила, есть доля правды. Я любил других женщин, но потому, что тосковал по родственной натуре. Это случалось и после моей женитьбы. Я не могу сказать, что любил Карлотту Уилсон, но она мне нравилась. У нее было в некоторых отношениях много общего со мной. Была еще одна девушка, похожая на вас, только не такая умница. Но с тех пор прошло много лет. О Сюзанна, я могу вам сказать, почему это происходит! Я люблю молодость. Я люблю красоту. Я жажду общения с человеком, который был бы мне близок по духу. Такого человека я нашел в вас, Сюзанна, и вот, смотрите, что из этого вышло! Вам не кажется, что это очень дурно с моей стороны? Но я ведь так несчастлив! Скажите мне, что вы думаете? — Что мне сказать? — ответила Сюзанна. — Я нахожу, что если сделана ошибка, то ее нужно исправить. — Объясните мне, что это значит? — Ну вот. Вы говорите, что не любите ее. Вам с ней тяжело. Следовательно, ничего хорошего ни для вас, ни для нее нет в том, что вы останетесь с ней. Она не пропадет. Я, например, не стала бы вас удерживать, если б вы меня не любили. Да и сама не стала бы себя неволить, если б разлюбила вас, ни за что не стала бы. Я считаю, что брак должен быть счастливым. А если нет, то незачем и пытаться жить вместе только потому, что когда-то вам этого хотелось. — А если б были дети? — Это, конечно, несколько меняет дело. Но и тогда детей может взять к себе тот или другой, — не правда ли? И, значит, дети не так уж пострадают. Юджин любовался очаровательным личиком Сюзанны. Странными казались ему такие рассуждения в устах молоденькой девушки. — Но вы слышали, что она говорила, Сюзанна, — насчет своего положения? — Знаю. Я думала об этом. И не нахожу, что это что-либо меняет. Вы можете взять на себя заботу о ней. — И вы меня любите по-прежнему? — Да. — Даже если то, что она сказала, правда? — Да. — Но как же так, Сюзанна? — Все обвинения относятся к далекому прошлому, а это не то, что сейчас. Сейчас, я знаю, вы любите меня. А до прошлого мне нет дела. Да и до будущего тоже. Любите меня, пока любите, Юджин, и уходите, когда любовь пройдет. Я бы не стала за вас цепляться, если бы вы меня разлюбили. И сама не посчиталась бы с вами, если бы не любила вас. Юджин смотрел на нее, изумленный и очарованный ее рассуждениями, в которых он черпал бодрость и силу. Как это похоже на Сюзанну! — думал он. Ведь она, в сущности, еще ребенок, а какие у нее ясные, твердые взгляды. Ее юный разум справляется с любым жизненным затруднением. — Вы чудесная девушка, Сюзанна! — сказал он. — Вы разумнее меня, сильнее. Меня тянет к вам, как замерзающего к огню. Вы такая добрая и рассудительная. Они продолжали путь по направлению к Теритауну и Скарборо, и Юджин поделился с Сюзанной своими соображениями. Он готов не бросать Анджелу, если Сюзанна так хочет. Он готов соблюсти внешние приличия. Вопрос лишь в том, чтобы Сюзанна принадлежала ему. Юджину непонятно было, как это Сюзанна соглашается его с кем-то делить. Но едва ли он вообще понимал ее, — он весь находился во власти ее чар. Она казалась ему самым умным, самым очаровательным и самым непостижимым существом в мире. Он попытался было расспросить, каким образом она надеется уговорить мать, но Сюзанна, по-видимому, и сама этого не знала, просто она верила в свою способность оказывать на нее влияние и надеялась переубедить ее. — Знаете, — сказала она между прочим, — у меня скоро будут свои деньги. Папа завещал каждому из нас, детей, по двести тысяч долларов после достижения совершеннолетия, а я уже совершеннолетняя. Деньги должны оставаться под опекой, но я буду получать со своего капитала двенадцать тысяч долларов в год, если не больше. Они нам пригодятся. До сих пор я никогда в эти дела не вмешивалась. Всем ведала мама. Это еще больше подняло настроение Юджина. Благодаря Сюзанне у них будет дополнительный доход — что бы ни случилось, на эти деньги можно рассчитывать. Если бы ему удалось заставить Анджелу принять его условия, а Сюзанне — одержать победу над матерью, все было бы хорошо. Ему не пришлось бы даже рисковать своим служебным положением. Миссис Дэйл пока незачем что-либо знать. Он и Сюзанна будут некоторое время видеться тайком, а потом все устроится. Это сулило им восхитительный и вполне невинный роман, который должен был привести к еще более восхитительному браку. Весь день прошел во взаимных уверениях в любви. Сюзанна рассказала Юджину о книге, которую она читала по-французски, под названием «Синяя птица». Эта аллегория очень заинтересовала Юджина — в ней шла речь о поисках счастья, и он тут же стал называть Сюзанну своей «Синей птицей». Попросив его остановить машину, Сюзанна потребовала, чтобы он сорвал ей бледно-лиловый мак на высоком стебле, — он рос на лугу, мимо которого они только что проехали. Юджин стал было шутливо отказываться, так как цветок рос за проволочной изгородью, среди репейников, но она настаивала. — Нет, непременно! Извольте слушаться меня. Я займусь вашим воспитанием. Вас слишком баловали, вы скверный мальчик. И мама так говорит. Я вас перевоспитаю. — Ну и работа же вам предстоит, радость моя! Я действительно скверный человек. Вы уже успели это заметить? — Немного. — И все же любите меня? — Я этого нисколько не боюсь. Моя любовь заставит вас исправиться. Юджин с радостью побежал исполнять ее приказание. Он сорвал прекрасный цветок и подал ей. — Вот вам скипетр, — сказал он. — Этот цветок так подходит вам. В нем есть что-то царственное. Сюзанна не обратила на этот комплимент никакого внимания. Она любила Юджина, и слова не имели для нее значения. Она была счастлива, как ребенок, но во многих вопросах более мудра, чем женщина вдвое старше ее годами. Как и Юджин, она любила природу и приходила в восторг от утренних и вечерних зорь, от шелеста листвы и дуновений ветерка. Ее зоркий глаз то и дело подмечал что-нибудь прекрасное, и она делилась с Юджином своими впечатлениями так естественно и просто, что он слушал ее как зачарованный. Когда они вышли из машины и стали прогуливаться по лужайке, перед какой-то загородной гостиницей, Сюзанна обнаружила дырку на пятке своего шелкового чулка. Она приподняла ногу и задумчиво поглядела на нее. — Жалко, нет чернил, — смеясь, сказала она. — Это было бы легко поправить. — А что бы вы сделали? — спросил он. — Замазала бы, — ответила она, указывая на свою розовую пятку, — или дала бы вам закрасить. Он рассмеялся, а она беспечно вторила ему. Эти мелочи, эти шаловливые выходки забавляли и еще больше привлекали его к ней. — Сюзанна, — восторженно воскликнул он, — вы уносите меня в сказочную страну моего детства! — Я хочу, чтобы вы были счастливы, — ответила она. — Так же счастливы, как я. — Ах, если бы это сбылось! Если б только это сбылось! — Потерпите, — сказала она. — Не падайте духом. Не волнуйтесь. Все кончится хорошо. Я убеждена в этом. Мне всегда и все удается. Я хочу, чтобы вы были моим, и добьюсь своего, я знаю. Я буду принадлежать вам, а вы — мне. О, как все чудесно!.. В порыве восторга она сжала его руку и протянула ему губы для поцелуя. — А вдруг нас кто-нибудь увидит? — сказал он. — Мне все равно! — воскликнула Сюзанна. — Мне все равно! Я люблю вас!Глава 84
После веселого обеда влюбленные вернулись в город. По мере приближения к Нью-Йорку Сюзанна начала волноваться, — ее беспокоила мысль о том, что могла за это время предпринять Анджела. Если она рассказала все ее матери, то Сюзанне хотелось быть на месте, чтобы самой защищаться. Она пришла в конце концов к вполне естественному для нее решению: если мать не пойдет ни на какие уступки, бежать с Юджином. Но ей все-таки хотелось сначала выяснить, как та отнесется к этому известию, а потом уже решить, что делать дальше. Еще утром Сюзанна была убеждена, что может уговорить мать не вмешиваться, даже если та все узнает. Но теперь она начала волноваться, и страхи ее отчасти были навеяны настроением Юджина. У Юджина, несмотря на его притворную храбрость, было далеко не спокойно на душе. Его пугали не столько опасности, грозившие его материальному положению, сколько возможность потерять Сюзанну. До сих пор мысль о будущем ребенке не слишком беспокоила ни его, ни молодую девушку. Но Юджин ясно видел, что обстоятельства могут сложиться против него, и тогда ему не видать Сюзанны. Реальных оснований для тревоги не было. Возможно даже, что Анджела солгала. Все же у него было неспокойно на душе; в минуты самой сильной радости, самого бездумного счастья перед ним вдруг всплывал образ Анджелы, больной и одинокой, погруженной в горькие думы о своем будущем, о существе, которому ей предстояло дать жизнь. В ушах звучали ее просьбы, ее доводы. Он не мог избавиться от этих воспоминаний. Это была пытка. То, что он собирался делать, — неслыханная жестокость. И общественное мнение и установленный порядок против него. Если все станет известно, как его будут обвинять! Он не мог не думать об этом. Минутами на него находило отчаяние, и все же он твердо решил добиваться своего. Юджин собирался проводить Сюзанну к ее знакомым, но она раздумала и предпочла ехать прямо домой. — Я хочу знать, слышала ли что-нибудь мама, — настаивала она. Он проводил ее до Стейтен-Айленда, после чего приказал шоферу гнать вовсю, чтобы поспеть домой к четырем часам. Его мучила совесть, но он утешал себя мыслью, что при их отношениях с Анджелой не важно, придет ли он вовремя или нет. Поскольку Сюзанна решила выжидать и действовать не спеша, положение Анджелы оказывалось не таким уж тяжелым. Он предложит ей на выбор: либо уехать и окончательно расстаться с ним, — сейчас или после рождения ребенка — и тогда он отдаст ей половину своего состояния в ценных бумагах и наличных деньгах, а также всего, что подлежит разделу, и обстановку в придачу, — либо продолжать жить с ним под одной крышей и закрыть глаза на его отношения с Сюзанной. Он не станет скрывать от нее, что он в этом случае сделает: наймет отдельную квартиру для Сюзанны или же будет встречаться с нею где-нибудь тайком. Поскольку Сюзанна была так великодушна, он решил не вступать с Анджелой в пререкания, а лишь настаивать на своем. Сюзанна должна принадлежать ему, и Анджеле придется уступить. Она может только ставить те или иные условия. По возвращении домой Юджин обнаружил в Анджеле огромную перемену. Утром, когда он уходил, она казалась ожесточенной и озлобленной. Теперь же, несмотря на все свое горе, она казалась мягче и уступчивей, чем когда-либо прежде. Ее энергия была на время сломлена, она пыталась примириться с неизбежным, отнестись к этому, как к божьей воле. Возможно, она и в самом деле бывала черства и холодна, в чем Юджин не раз обвинял ее. Возможно, она слишком уж крепко держала его в узде. Правда, она делала это ради его же блага. Она пыталась молиться, просила небо просветить ее и указать ей выход, и наконец душу ее осенила какая-то тихая грусть. Не нужно больше бороться, говорила она себе. Нужно уступить. Бог направит ее. И ласковая и бледная улыбка, которой она встретила Юджина, застигла его совершенно врасплох. Ее рассказ о том, как она молилась, какой перелом произошел в ее душе и как она решила дать ему свободу, если это окажется необходимым, несмотря на то, что ждет ее впереди, взволновал Юджина больше, чем что бы то ни было за всю их совместную жизнь. Сидя за столом напротив нее, он смотрел на ее исхудалые руки и лицо, на ее скорбные глаза и старался быть веселым и внимательным. А потом, когда он зашел к ней в комнату и услышал от нее, что она готова поступить так, как он найдет лучшим, слезы хлынули у него из глаз. Он плакал от избытка чувств, от того, что не мог совладать с собой. Едва ли он знал, о чем плачет, но так печально было все, — и жизнь и сложные человеческие отношения, Сюзанна и Анджела, и мысли о смерти и недалекой старости, которая ожидала всех, всех, — что он не выдержал и разрыдался как ребенок. Теперь наступила очередь Анджелы изумляться и жалеть его. Она не верила своим глазам. Уж не раскаивается ли он? — Иди ко мне, Юджин! — ласково сказала она. — Ах, прости. Значит, ты так сильно любишь? О боже, боже! Если бы я могла помочь тебе! Ну, перестань плакать, Юджин. Раз эта любовь для тебя так много значит, я не стану мешать вам. У меня сердце разрывается от твоих слез. Ну прошу тебя, милый, перестань! Низко склонив голову, он весь трясся от рыданий, а потом, видя, что она пытается встать, предупредил ее и пересел к ней на постель. — Ничего, ничего, это пройдет, — говорил он. — Я не мог справиться с собой. Мне жаль и тебя и себя. Мне жаль, что наша жизнь так сложилась. Бог накажет меня за это. Ты хорошая, ты добрая, но я иначе не могу. Он спрятал лицо в подушку рядом с нею. Тело его сотряслось от рыданий. Наконец он пришел в себя и сразу же спохватился, что своим поведением пробудил в Анджеле надежду. Как бы она не подумала, что может вернуть его любовь, вытеснить из его сердца Сюзанну. Юджин знал, что это невозможно, и жалел, что дал волю слезам. Снова начался нескончаемый разговор, перешедший в ссору, посыпались взаимные упреки, потом снова они стали договариваться по-хорошему и опять рассорились. Анджела не могла примириться с мыслью, что вынуждена отказаться от него, а Юджин считал, что единственный его долг по отношению к Анджеле — это поделить с нею все, что у них вместе нажито. Он хотел только одного — не иметь с нею больше ничего общего. Он может согласиться жить с нею под одной крышей, вот и все. У него будет Сюзанна. Он будет жить только ради нее. Он стал грозить Анджеле самыми пагубными последствиями при малейшей ее попытке вмешаться в его жизнь. Если она сообщит миссис Дэйл, или скажет что-нибудь Сюзанне, или попытается повредить его служебному положению, он уйдет от нее. — Вот как обстоит дело, — твердо заявил он. — Тебе остается либо примириться с этим, либо идти напролом и все разрушить. Если ты выберешь последнее, ты потеряешь и меня и все, что связано с моим положением. Если согласишься, я останусь жить здесь. Вероятно, останусь. Я вполне готов соблюдать внешние приличия, но мне нужна свобода. Анджела все думала и думала. Ей приходило в голову пригласить к себе миссис Дэйл, тайком сообщить ей обо всем и настоять, чтобы та без всяких объяснений увезла куда-нибудь Сюзанну. Однако она этого не сделала. В сущности ей именно так и следовало бы поступить, и миссис Дэйл охотно пошла бы ей навстречу. Но страх и душевное смятение удерживали ее. Оставалось либо написать Сюзанне, либо поговорить с нею. И так как она боялась, что потеряет самообладание в присутствии счастливой соперницы, она решила написать. В понедельник, когда Юджин ушел в издательство, она в постели сочинила длинное послание, в котором описала всю жизнь Юджина, опять напомнила о том, что ей предстоит, ивысказала свой взгляд на то, как Юджину следовало бы поступить.«Как Вы можете надеяться, Сюзанна, — спрашивала она в письме, — что он будет Вам верен, если он способен бросить меня в таком положении? Юджин никогда и никому не был верен. Неужели Вы хотите погубить свою жизнь? Вы занимаете прочное положение в обществе. Что может он Вам дать такого, чего у Вас нет? Если Вы согласитесь жить с ним, об этом, несомненно, узнают. В результате пострадаете Вы, а не он. Мужчины быстро приходят в себя после подобных увлечений, и свет смотрит на их шалости снисходительно. Но Вам свет не простит. За Вами установится репутация легкомысленной женщины, — особенно если появится ребенок. Вам кажется, что Вы любите его, но подумайте, так ли велика Ваша любовь? Прочитайте это письмо и дайте себе труд подумать. Не забудьте, какой у Юджина характер. Я с ним смирилась. В свое время я сделала непоправимую ошибку, но теперь поздно каяться. Жизнь уже ничего не может дать мне. Пусть меня не ждет ничего хорошего, я по крайней мере сохраню уважение знакомых и друзей. А Вы — у Вас вся жизнь впереди. Когда-нибудь Вам встретится человек, которого Вы полюбите, и он не потребует от Вас жертв и тем более сам не принесет Вас в жертву своей прихоти. О, умоляю Вас, одумайтесь! Юджин Вам не нужен. А я, как ни больно мне в этом сознаться, я нуждаюсь в нем. Я говорю Вам всю правду. Неужели Вы оставите без внимания мою мольбу?»
Это письмо привело Сюзанну в ужас. Анджела обрисовала Юджина в самом ужасном свете — вероломным, лживым и бесчестным в своем отношении к женщинам. Одна в своей комнате, Сюзанна глубоко задумалась. Но потом перед нею встал образ Юджина, вспомнились его обаятельный ум и окружавшая его атмосфера блеска и таланта. Он был в ее глазах воплощением всего прекрасного в жизни — милый, славный, веселый. Только бы он был рядом! Слышать его голос, ощущать его ласки! Что могла жизнь предложить ей взамен? К тому же он нуждался в ней. Она решила поговорить с ним, показать ему письмо Анджелы и уже потом принять решение. Дня через два они увиделись, условившись предварительно по телефону. Он назначил ей свидание близ холодильника и явился веселый, улыбающийся, пылкий, как всегда. После того как он побывал на службе и убедился, что Анджела ничего не предприняла, к нему вернулось мужество. Он проникся надеждой на счастливую развязку, — у них будет отдельная студия, и он заживет душа в душу со своей красавицей Сюзанной. Но едва они сели в автомобиль, она достала письмо Анджелы и, не говоря ни слова, протянула его Юджину. Он молча прочел его. Юджина тоже потрясло содержание письма, он и не предполагал, что Анджела затаила против него такую злобу. В глубине души, однако, он сознавал, что все это было правдой, горькой правдой, он только не верил, что его любовь принесет страдание Сюзанне. Судьба, быть может, окажется на этот раз милостивее и пошлет им счастье. Как бы то ни было, Сюзанна должна принадлежать ему. — Ну, и что же? — спросил он, возвращая письмо. — Вы верите всему, что она пишет? — Вполне возможно, что это правда, но почему-то, когда я с вами, мне все равно. Когда вас нет, другое дело. Тогда меня одолевают сомнения. — Вы боитесь, что я не такой, каким вы хотели бы меня видеть? — Я не знаю, что и думать. По-видимому, все, что она пишет, — правда. И все же я не уверена. Когда вас нет, я начинаю колебаться. Когда вы со мной, у меня такое чувство, что все должно кончиться хорошо. Я так люблю вас! Я убеждена, что все кончится хорошо! — И она обвила руками его шею. — Значит, письмо ничего не меняет? — Ничего. Она доверчиво устремила на него большие ясные глаза, и они отдались радостям бездумной любви. Отъехав подальше, они позавтракали в загородной гостинице (миссис Дэйл отправилась куда-то на весь день), а потом, очутившись у моря, остановились, чтобы насладиться чудесным видом, и целовались, целовались без конца. Сюзанна пришла в такой восторг, что уже предвидела благополучный исход их романа. — Вы только предоставьте действовать мне, — говорила она. — Я буду зондировать почву дома. Если у мама есть хоть капля логики, мне, наверно, удастся ее убедить. Так, по-моему, будет лучше. Я ненавижу обман и предпочла бы попросту ей все рассказать, а потом уж, если ничего не выйдет, поступить по-своему. Но я думаю, что обойдется и без этого. Она ничего не может сделать. — Я далеко не уверен в этом, — осторожно заметил Юджин. Он преклонялся перед смелостью Сюзанны, он очень надеялся на доброе отношение миссис Дэйл, на то, что оно удержит ее от какого-либо отчаянного шага. И все же он не мог себе представить, каким путем они добьются своего. Сам он стоял за то, чтобы через некоторое время вступить с Сюзанной в тайную связь. Он особенно не спешил, так как его чувство к Сюзанне не ограничивалось физическим влечением, хотя он и стремился обладать ею. А она, начитавшись всяких книг и набравшись новых идей, готова была бросить вызов всему миру. Она утверждала, что не видит, каким образом связь с Юджином может принести ей несчастье. — Но, дорогая моя, вы не знаете жизни, — возражал Юджин. — Она сокрушит вас. Где бы вы не появились — за исключением разве только Нью-Йорка, — вас растерзают на мелкие кусочки. Нью-Йорк — столица мира, и здесь смотрят на вещи не совсем так, как везде, но и тут вам придется лгать и притворяться. Да так оно и легче. — А вы сможете меня уберечь?.. — многозначительно спросила она, намекая на то, что случилось с Анджелой. — Мне бы не хотелось… Я бы не могла… Вы понимаете… пока… — Я понимаю, — ответил Юджин. — Да, безусловно. — Ну, хорошо, я подумаю, — сказала Сюзанна. — Но я предпочла бы играть в открытую. Мне бы гораздо больше хотелось попросту рассказать обо всем мама и поступить по-своему. Насколько это было бы лучше! Моя жизнь принадлежит мне, и я могу делать с ней все, что хочу. Мое поведение никого не касается, даже мама. Если бы я вздумала погубить себя, и тогда это никого бы не касалось. Но я считаю, что это все неправда. Я хочу жить, как мне нравится. Я не хочу выходить замуж. Юджин слушал ее и удивлялся. Такой девушки он еще не встречал. Кристина Чэннинг? Но это совсем особый случай. Кристине приходилось думать о своем искусстве. Сюзанна же совсем в ином положении. У нее чудесный дом, блестящие связи, деньги и все основания для счастливой, спокойной и нормальной жизни. Конечно, она любит его, но все-таки Юджину это казалось странным. С другой стороны, столько произошло за последнее время благоприятных событий, что он готов был вообразить, будто о нем заботится некое всемогущее и всеблагое провидение. Анджела в сущности уже сдалась. Почему не может это случиться и с матерью Сюзанны? Анджела ничего ей не скажет. И миссис Дэйл вряд ли будет упорствовать больше, чем Анджела. Возможно, Сюзанне и вправду удастся уговорить ее. Раз она так твердо решила, не станет же он ее останавливать. Сюзанна упряма и своевольна, но она быстро развивается и рассуждает очень здраво. Может быть, она действительно добьется своего? Как знать? Они повернули назад, и автомобиль понесся по тенистым дорогам, где ветви деревьев почти касались их лиц, мимо зеленых лугов, где ветер колыхал высокие травы, и живописных ферм со стайками детей и уток за оградой, мимо прекрасных вилл, мимо резвящихся школьников и устало бредущих рабочих. И все это время они крепко сжимали друг друга в объятиях, не уставая твердить о своих надеждах и своей любви. Сюзанна — как и Анджела когда-то — любила брать голову Юджина в ладони и заглядывать ему в глаза. — Посмотрите на меня, — сказала она, когда он жалобно заметил, что все может перемениться. — Посмотрите мне прямо в глаза. Ну, что вы там прочли? — Смелость и решимость. — А что еще? — Любовь. — И вы думаете, что я могу измениться? — Нет. — Вы уверены? — Да, уверен. — Ну так вот, смотрите мне прямо в глаза и слушайте. Я никогда не изменюсь. Никогда, слышите? Я принадлежу вам и буду вашей, пока вы этого хотите. Теперь вы счастливы? — Да. — А когда у нас будет собственная студия… — Когда у нас будет собственная студия, мы ее хорошо обставим и, возможно, через некоторое время начнем там кое-кого принимать, — сказал он. — Вы будете моей прекрасной Сюзанной, моим дивным цветком! Моей Еленой, моей Цирцеей, моей Дианой! — Я буду вашей воскресной женой! — рассмеялась она. — Вашей возлюбленной в четные или нечетные дни, — как придется. — Только бы это сбылось! — воскликнул он, расставаясь с нею. — Только бы сбылось! — Потерпите и вы увидите, — сказала она. Прошло несколько дней, и Сюзанна, по ее собственному выражению, открыла кампанию. Первый ее ход выразился в том, что она стала заводить речь о браке за обедом или когда оставалась наедине с матерью. Она выспрашивала ее по этому важному вопросу и тщательно запоминала все ответы. Миссис Дэйл принадлежала к числу философствующих дам, которые любят отвлеченные рассуждения, но никогда не применяют своих теорий к делам, близко их касающимся. В вопросах брака она придерживалась крайне либеральных взглядов — в отношении всех людей, кроме членов своей семьи. Она считала, что каждая девушка (только не ее дочь, разумеется) по достижении совершеннолетия и, так сказать, духовной зрелости, если она не удовлетворена тем, что может дать ей брак, и не питает ни к одному мужчине такой сильной любви, которая толкнула бы ее на замужество, имеет полное право поступать, как ей нравится. Надо только устроить жизнь так, чтобы удовлетворить потребность в любви, не подвергая опасности свою репутацию. Лично она, миссис Дэйл, не видела в этом ничего предосудительного. Она знала светских женщин, которые, связав себя несчастливым браком или браком по расчету, вступали потом в связь с избранником своего сердца. Если не считать тех представителей высших кругов, которые придерживались особо строгого кодекса нравственности, взгляды общества были на этот счет самые снисходительные, хотя говорить об этом и не полагалось. Кроме того, существовала так называемая веселящаяся молодежь, — с полной готовностью принимавшая в свою среду и миссис Дэйл, — которая высмеивала ригористические требования староверов. Надо было только соблюдать осторожность и не попадаться. В остальном же считалось, что каждый волен поступать, как хочет. Сюзанна, разумеется, не подходила ни под одну из этих теорий. Сюзанна была красива, она могла рассчитывать на самую блестящую партию, и она была дочерью миссис Дэйл. Последняя отнюдь не торопилась сбыть ее с рук, выдав замуж за какого-нибудь ничтожного обладателя титула или миллионов, ради одних денег или громкого имени, но она надеялась, что рано или поздно найдется вполне достойный молодой человек, один из тех, что занимают блестящее положение в обществе или в денежном мире, или человек с большим дарованием — вроде Юджина, — и что он выступит претендентом на руку и сердце ее дочери. Состоится торжественное венчание в одном из знаменитых соборов — вероятнее всего, в соборе св. Варфоломея, а затем — роскошный свадебный обед, и, осыпанные подарками и поздравлениями, молодые супруги отбудут в восхитительное свадебное путешествие. Часто, глядя на Сюзанну, миссис Дэйл думала о том, какая прекрасная мать выйдет из этой крепкой, пышущей здоровьем девушки, по-своему одаренной и пылкой натуры. Уже по тому, как она танцевала, было видно, с какой жадностью она упивается жизнью. Настанет время, и явится ее избранник. Ждать придется недолго. Прекрасные весенние дни сделают свое дело. И теперь уже находились десятки мужчин, которые отдали бы полжизни, чтобы привлечь внимание Сюзанны. Но ни один из них не интересовал ее. Она казалась робкой, застенчивой, она как будто даже сторонилась людей. Ее мать и не догадывалась, какая железная воля скрывалась за всем этим, как не догадывалась о смелых и бунтарских, чуждых ее кругу мыслях, роившихся в голове ее дочери. — Как ты находишь, мама, — спросила однажды вечером Сюзанна, когда дома не было никого, кроме нее и матери. — Должна девушка выходить замуж, если она не уверена, что брак принесет ей счастье? — Н-нет, — ответила миссис Дэйл. — А почему ты об этом спрашиваешь? — Видишь ли, в нашем кругу так часто приходится наблюдать семейные неурядицы. Как посмотришь, брак не дает людям счастья. Не лучше ли жить одной, и даже, если найдется человек, которого полюбишь, разве непременно нужно выходить за него замуж, чтобы быть счастливой? Как ты думаешь? — Что ты читала последнее время, Сюзанна? — спросила мать. В глазах ее мелькнуло изумление. — Ничего особенного я в последнее время не читала. А почему тебя удивляет мой вопрос? — благоразумно спросила Сюзанна, заметив, как изменился тон матери. — С кем ты разговаривала, в таком случае? — Но какое отношение это имеет к моему вопросу, мама? Я не раз слышала, как ты сама это говорила. — Что ж, возможно, я это и говорила. Но не кажется ли тебе, что ты еще слишком молода, чтобы задумываться над такими вещами? Мало ли что я говорю, когда рассуждаю отвлеченно. Все зависит от обстоятельств. Если девушка не может рассчитывать на хорошую партию, если она бедна или некрасива (мало ли какие бывают причины!), то ее, пожалуй, можно еще оправдать. Но тебе зачем над этим задумываться? — Неужели, мама, из того, что я не урод, не бедна и представляю собой хорошую партию, непременно следует, что я должна выйти замуж? Я могу и не желать этого. Я ведь не хуже тебя вижу, к чему обычно приводят браки. Да и как я могу не видеть? Что же мне поэтому вообще сторониться мужчин? — Да что с тобой, Сюзанна? Я никогда не слыхала от тебя таких рассуждений! Уж верно ты с кем-то беседовала или читала в последнее время что-нибудь такое ультрасовременное. Пожалуйста, без этих глупостей. Ты слишком молода и красива, чтобы увлекаться такими идеями. Ты можешь выбрать себе в мужья кого только пожелаешь. Разве можно сомневаться, что ты найдешь мужа, с которым будешь счастлива, или по крайней мере попытаешься устроить свое счастье? Другое дело, если ты увидишь, что ошиблась в человеке. Но об этом рано загадывать. Во всяком случае, не говори глупостей, пока не узнаешь получше, что такое жизнь. Ты слишком молода, смешно даже слушать! — Мама, — сказала Сюзанна, и в голосе ее прозвучало легкое раздражение, — зачем ты так разговариваешь со мной? Я ведь не ребенок. Я женщина. И я мыслю, как женщина, а не как девочка. Ты забываешь, что у меня свое разумение и свои взгляды. А может, я вовсе не хочу выходить замуж? Да так оно, пожалуй, и есть. И уж, во всяком случае, я не стану выходить ни за кого из этих безмозглых людишек, которые сейчас увиваются вокруг меня! Почему я не могу просто сойтись с мужчиной, если мне захочется? Многие женщины так поступали до меня. Да хотя бы и не поступали, это не значит, что я не должна. Моя жизнь принадлежит мне. — Сюзанна Дэйл! — воскликнула ее мать, поднимаясь с места и вся холодея от ужаса. — Что ты говоришь? Может быть, это я внушила тебе такие мысли? Тогда, признаюсь, я жестоко наказана. Ты еще не в состоянии судить, хочешь ты выходить замуж или не хочешь. Ты еще совсем не знаешь мужчин. Зачем тебе понадобилось уже сейчас делать подобные заключения? Ради бога, Сюзанна, не начинай так рано задумываться над этими ужасными вопросами! Подожди еще несколько лет, присмотрись к жизни. Разве я тороплю тебя выходить замуж? Ведь не исключена возможность, что тебе встретится человек, которого ты сильно полюбишь и который полюбит тебя. Если же ты станешь швыряться собой, исходя из какой-то глупой теории, не дав себе труда подождать того, что готовит тебе жизнь, что сможешь ты дать этому человеку? Сюзанна! — воскликнула она, увидев, что девушка нетерпеливо отвернулась к окну. — Ты меня пугаешь! Уж нет ли тут кого-нибудь? Нет, нет, быть не может!.. Умоляю тебя, будь осторожна в своих выводах, словах, поступках! Я не могу знать всего, о чем ты думаешь, ни одна мать этого не знает. Но, ради бога, не будь опрометчивой, опомнись, подумай! Она не спускала глаз с дочери, которая подошла к зеркалу и стала поправлять бант в волосах. — Мне, право, смешно, мама, — спокойно сказала Сюзанна. — Когда ты находишься в обществе, где-нибудь на званом обеде, ты говоришь одно, а здесь, со мной, — совсем другое. Я пока не сделала ничего, что могло бы тебя напугать. Я сама еще не знаю, как поступлю. Но я уже не ребенок, мама, прошу не забывать этого. Я взрослый человек и вправе сама устроить свою жизнь. И уж, конечно, я не стану поступать так, как ты, — проповедовать одно, а делать другое. Миссис Дэйл вздрогнула от этой шпильки. В доводах Сюзанны прозвучала такая нотка решимости, спокойной уверенности и прямоты, что она пришла в ужас. От кого она всего этого набралась? С кем она встречалась? Миссис Дэйл перебрала в уме всех знакомых девушек и мужчин. Кто самые близкие подруги Сюзанны? Вера Элмердинг, Лизетта Вудворт, Нора Тэн-Эйк — девушки светские, неглупые, хорошо знакомые с требованиями общества. Неужели они говорят между собой о таких вещах? Уж нет ли в их кружке какого-нибудь — или каких-нибудь — нежелательных представителей мужского пола? Остается одно средство, и его следует применить немедленно, не то Сюзанна может пасть жертвой подобных субъектов. Надо поехать с нею путешествовать и года два или три без перерыва разъезжать по свету, пока не пройдет опасный период, когда девушки так легко поддаются всякому вредному влиянию. Другого выхода нет. О, как проклинала миссис Дэйл свой язык! К чему была эта глупая болтовня! Вообще-то, конечно, все это правда — в теории. Но Сюзанна! Ее Сюзанна — ни за что! Она увезет свое дитя, пока не поздно, чтобы годы и жизненный опыт образумили ее. Она ни в коем случае не позволит ей оставаться здесь, где девушки и молодые люди обсуждают и проповедуют подобные идеи! Впредь она будет просматривать все, что Сюзанна читает. Она будет тщательно следить за ее знакомствами. Не обидно ли, что такая прелестная девушка заражена отвратительными, недостойными ее круга анархистскими идеями. Боже мой, что будет с ее Сюзанной? К чему это приведет ее? Боже милосердный! Миссис Дэйл заглянула в пропасть общественного скандала, разверзшуюся у ее ног, и в ужасе отступила. Никогда! Никогда! Она спасет Сюзанну от нее самой и от этих ее сумасбродных идей — спасет немедленно! И она задумалась о том, как бы тактично и невзначай завести разговор о путешествии. Она должна увлечь Сюзанну этой мыслью, не спугнув ее, не дав заподозрить, что на нее хотят оказать давление. Но отныне надо будет установить совершенно иные порядки — иначе говорить, иначе действовать. Ее долг — защитить Сюзанну и других ее детей от них самих, а также от всяких вредных влияний. Таков был урок, вынесенный миссис Дэйл из разговора с дочерью.
Глава 85
Юджин и Анджела жестоко ссорились. Анджела снова и снова пыталась играть на его совести и чувстве порядочности, если уж нельзя было рассчитывать на его былую любовь. Ее прежние методы потерпели полный крах, и теперь она не знала, чем руководствоваться. Раньше Юджин, казалось, боялся ее гнева, а сейчас ему, по-видимому, было все равно. Когда-то он до известной степени поддавался на ласки, которым женатому человеку трудно противостоять, но теперь нет и этого. Ее чары не трогали его. Она лелеяла надежду, что мысль о будущем ребенке отрезвляюще подействует на него, — увы, и эта надежда растаяла как дым. Сюзанна, не желавшая от него отказаться, была в глазах Анджелы чудовищем, а Юджин — чуть ли не буйно помешанным, и все же она понимала, что все это в порядке вещей. Он зачарован, он во власти гипноза. У него одна цель — Сюзанна, Сюзанна! — и за нее он готов бороться до конца. Он так и заявил Анджеле. Он сказал, что знает про ее письмо Сюзанне, что сам читал его и уничтожил. Письмо, следовательно, нисколько ей не помогло. Анджела прекрасно сознавала, что Юджин вправе сердиться на нее. А он твердо стоял на своем, ожидая лишь решения Сюзанны: он часто встречался с девушкой и рассказывал ей, что, со своей стороны, одержал полную победу, и теперь свершение их надежд целиком зависит от нее. Как уже говорилось выше, Сюзанна была страстной натурой. Чем больше она виделась с Юджином, тем нетерпеливее ждала того радостного мгновения, которое сулили ей его слова, его взгляды и чувства. По наивности и неопытности она создала себе мечту, которую можно было осуществить, лишь позабыв о сострадании, решившись на самые отчаянные меры. Ее план — сказать обо всем матери и одержать над ней верх с помощью доводов разума или открытого вызова, — в сущности, никуда не годился, так как задача была трудная и требовала много времени. На основании того, что при их первом разговоре миссис Дэйл говорила с ней умоляющим тоном, Сюзанна вообразила, будто одержала крупную победу: мать находится целиком под ее влиянием и не может ее переспорить. Кроме того, Сюзанна сильно рассчитывала на уважение, которое миссис Дэйл питала к Юджину, а также на ее привязанность к ней самой. До сих пор мать никогда и ни в чем ей не отказывала. Если Юджин еще не сделал Сюзанну своей любовницей, откладывая на неопределенный срок ту борьбу за их общее счастье, в какую неизбежно должен был вылиться такой незаконный союз, то это объяснялось тем, что он вовсе не был способен на отчаянные поступки, вовсе не был так смел, как казалось. Он хотел обладать Сюзанной, но немного робел перед ней: она находилась во власти сомнений, она хотела ждать, хотела по-своему строить свое будущее. Юджин никогда не умел быть настойчивым — он был чересчур для этого великодушен и покладист. Он не был способен вынашивать серьезные планы и принимать твердые решения; беспечная душа, он скорее предпочитал плыть по течению, отдаваясь на волю ветров, как благоприятных, так и неблагоприятных. Он, вероятно, мог бы проявить настойчивость, если бы им владело горячее желание чего-то добиться — денег, славы или любви, — но в том-то и дело, что он не умел желать чего-либо до конца, хотя сам об этом не догадывался. Конечно, за свое счастье нужно бороться, но стоит ли уж так ложиться костьми? Ведь на свете нет такого счастья, без которого человек, если понадобится, действительно не может существовать. Будет мучиться, тосковать, терзаться, но все это можно как-то пережить. Сейчас он был увлечен как никогда, но он не умел быть упорным и жадным. Сюзанна между тем готова была ему отдаться — необходима была только известная твердость и решительность с его стороны. Она говорила себе, что хочет подождать и уладить все по-своему, а на самом деле просто грезила наяву и оттягивала развязку, потому что ее оттягивал Юджин. Если бы он не медлил, она была бы счастлива ему подчиниться, но Юджину недоставало той безрассудной энергии, которая сначала действует, а потом размышляет. Подобно Гамлету, он был слишком склонен к раздумью, старался избегать рискованных путей и тем самым подвергал риску то высшее блаженство, ради которого готов был пожертвовать всеми материальными благами, доставшимися ему в жизни. Когда миссис Дэйл спустя несколько дней заметила с невинным видом, что она мечтает распроститься с Нью-Йорком на осень и зиму и вместе с Сюзанной и Кинроем съездить сперва в Англию, а затем на юг Франции и в Египет, Сюзанна тотчас заподозрила, что мать затеяла этот разговор неспроста. Или это злой умысел судьбы, затеявшей разбить ее счастье? Сюзанне давно приходило в голову, что надо бы пока что отделаться от слишком частых приглашений за город, которыми осаждали их друзья и которые мать охотно принимала от своего и от ее имени, — но до сих пор она еще ничего не придумала. Миссис Дэйл очень любили, она везде была желанной гостьей. Последнее предложение, высказанное как бы невзначай, но вместе с тем тоном, не допускающим противоречий, сперва испугало Сюзанну, а потом рассердило. Ведь надо же — и именно сейчас! — Мне не хочется ехать в Европу, — осторожно ответила она. — Мы были там три года назад. Я предпочла бы никуда не ехать и посмотреть, как люди проводят время в Нью-Йорке. — Но ведь это чудная поездка, Сюзанна, — настаивала миссис Дэйл. — Камероны собираются на всю осень в Шотландию. Они там сняли коттедж. Во вторник я получила письмо от Луизы. Я и подумала, что мы могли бы съездить к ним погостить, а оттуда на остров Уайт. — Мне не хочется ехать, мама, — решительным тоном заявила Сюзанна. — Нам и здесь хорошо. Почему тебя вечно тянет носиться по свету? — Я и не думаю носиться по свету, Сюзанна. И что за выражение! В первый раз слышу, чтобы ты отказывалась от путешествия. Я полагала, тебе будет интересно побывать в Египте и на Ривьере. Ведь ты еще ни разу не была там. — Я знаю, что поездка прекрасная, но этой осенью меня никуда не тянет. Я предпочитаю остаться здесь. Что это ты вдруг решила уехать на целый год? — Совсем не вдруг, — продолжала настаивать миссис Дэйл. — Ты сама знаешь, что я уже давно об этом думаю. Разве я не говорила, что надо будет как-нибудь провести зиму в Европе? Ты тогда очень ухватилась за мое предложение. — Да, я помню, мама, но то было чуть ли не год назад… А теперь я предпочитаю остаться здесь. — Но почему же? Мне кажется, этой зимой разъезжаются чуть ли не все твои подруги. — Ха-ха-ха! — расхохоталась Сюзанна. — Чуть ли не все мои подруги! Чего ты только не придумаешь, мама, когда хочешь настоять на своем! Ты меня смешишь! Только потому, что тебе захотелось поехать в Европу, туда едут, оказывается, чуть ли не все мои подруги! — И она снова расхохоталась. Сопротивление Сюзанны рассердило миссис Дэйл. Почему это она вбила себе в голову, что хочет остаться здесь? Должно быть, все дело в тех девушках, с которыми она дружит, хотя у Сюзанны как будто очень мало близких подруг. Элмердинги не собираются проводить зиму в Нью-Йорке. Они сейчас в городе, потому что на их загородной вилле был пожар, но долго они здесь не останутся. Тэн-Эйки тоже. Не может быть, чтобы Сюзанна почувствовала интерес к какому-то мужчине. Единственный человек, к которому она питает большую симпатию, это Юджин Витла, но он женат и относится к ней чисто по-дружески, как брат и опекун. — Знаешь что, Сюзанна, — решительно заявила миссис Дэйл, — мне надоело выслушивать весь этот вздор! Ты увидишь, какое удовольствие тебе доставит поездка. И нечего выдумывать глупости. Ты как раз в том возрасте, когда молодой девушке полагается путешествовать. Собирайся-ка лучше в дорогу, мы непременно поедем. — Ты ошибаешься, мама, я не поеду, — сказала Сюзанна. — Странно — ты разговариваешь со мной, как будто я маленькая. Я не хочу в этом году ехать и не поеду. Если тебе хочется, поезжай сама. — Да что с тобой, Сюзанна Дэйл? Что такое на тебя нашло? Конечно, ты поедешь! Где же ты будешь, если я уеду? Неужели ты думаешь, что я брошу тебя здесь одну? Разве я когда-нибудь так делала? — Сколько угодно — когда я была в пансионе. — Но это совсем другое дело. Тогда ты находилась под наблюдением. Мисс Хилл отвечала за тебя. А сейчас ты осталась бы одна. Неужели ты думаешь, что я соглашусь на это? — Ну вот опять ты, мама, разговариваешь со мной, как с ребенком. Почему бы тебе не запомнить раз навсегда, что мне уже скоро девятнадцать лет? Я могу сама о себе позаботиться. А кроме того, найдется достаточно знакомых, к которым я могла бы на это время переехать! — Сюзанна Дэйл, ты совсем с ума сошла! Не смей со мной так разговаривать! Ты моя дочь и находишься под моей опекой! Что за бредни? Нет, это все явно неспроста! Я не намерена уезжать и оставлять тебя здесь. Ты поедешь со мной. После всего, что я для тебя сделала, ты, надеюсь, хоть сколько-нибудь посчитаешься с моими чувствами. Как ты смеешь вступать со мною в пререкания? — В пререкания? — высокомерно повторила Сюзанна. — Нет, мама, я не намерена вступать в пререкания. Просто, я не поеду. У меня есть свои соображения, и я не поеду — вот и все. А ты, если хочешь, поезжай. Миссис Дэйл посмотрела на дочь и впервые прочла в ее глазах непоколебимое упорство. Но чем оно вызвано? Почему Сюзанне вздумалось проявить такую твердость — и откуда это упрямство, эта настойчивость? Миссис Дэйл обуревали разноречивые чувства — страх, гнев, изумление. — Что это значит — «свои соображения»? — спросила она. — Какие у тебя могут быть соображения? — Одно, но очень веское, — спокойно произнесла Сюзанна, переходя на единственное число. — Какое именно, позволь полюбопытствовать? В голове у Сюзанны теснились торопливые, хоть и не особенно ясные мысли. Сначала она рассчитывала на продолжительную принципиальную дискуссию на тему о здравом смысле и морали, надеясь, что увлечет мать и заставит ее высказать некоторые свои взгляды, от которых ей уж потом неудобно будет отказаться. Таким образом мечтала она добиться желанной свободы. Но из нескольких замечаний, оброненных миссис Дэйл и в тот и в этот раз, Сюзанна поняла, что она не способна на логическую последовательность мысли и что ее философские рассуждения не распространяются на дочь. Она могла отнестись сочувственно к любой теории, но все это переставало для нее существовать, как только дело касалось Сюзанны. Поэтому оставалось одно — открыто бросить ей вызов или бежать. Последнее не улыбалось Сюзанне. Она уже совершеннолетняя. Она может сама строить свою жизнь. Средства у нее тоже есть. Рассуждать она способна не менее здраво, чем мать. Да и позиция, которую последняя заняла по отношению к ней, казалась Сюзанне, умудренной чувством и некоторым опытом, весьма жалкой и недостойной. Что знает о жизни ее мать, чего не знала бы она, Сюзанна? Они обе много бывали в обществе, и Сюзанна чувствовала, что она сильнее матери, что она более трезво судит о некоторых вещах. Почему бы ей не открыться сейчас, а затем настаивать на своем? Она одержит верх, иначе быть не может. Она имеет влияние на мать, и как раз наступил момент этим воспользоваться. — Потому что я не хочу расстаться с любимым человеком, — тихо произнесла она наконец. Миссис Дэйл уронила руку, которую подняла было, собираясь разразиться какой-то тирадой. От удивления у нее приоткрылся рот, и она уставилась на дочь с каким-то растерянным, страдальческим и глупым видом. — С любимым человеком?.. — повторила она, совершенно сбитая с толку, чувствуя себя ладьей, сорванной с якоря и унесенной в безбрежное море. — Кто же это? — Мистер Витла, мама, Юджин! Я люблю его, и он любит меня. Не смотри так на меня, мама. Миссис Витла знает. Она согласна отказаться от него. Мы любим друг друга. И я останусь здесь, чтобы быть возле него. Я нужна ему. — Юджин Витла! — воскликнула миссис Дэйл. Она задыхалась, в глазах ее застыл неописуемый ужас, руки похолодели от испуга и напряжения. — Ты любишь Юджина Витлу? Женатого человека! Он любит тебя? И ты говоришь мне это? Юджин Витла! Ты любишь его? Нет, я не могу этому поверить. Я, должно быть, сошла с ума! Сюзанна Дэйл! Не стой ты так передо мной! Не смотри на меня так! И ты говоришь это мне, твоей матери? Скажи мне скорей, что это неправда! Скажи мне скорей, что это неправда, пока я не лишилась рассудка! О боже, что со мной будет? Чем я согрешила? Юджин Витла! Именно Юджин Витла! О боже, боже, боже! — Зачем так волноваться, мама? — спокойно произнесла Сюзанна. Она ожидала приблизительно такой сцены, не столь, может быть, бурной, без таких истерических выкриков, но в общем чего-то в этом роде, и потому была отчасти подготовлена. Ее воодушевляла и вела эгоистическая любовь, — любовь, которой она убаюкивала себя, которая ни во что не ставила весь мир со всеми его законами. Надо признать, что Сюзанна не понимала как следует, что она делает. Ее околдовало обаяние ее возлюбленного, красота их любви. На уме у нее были не реальные факты, а прелесть летнего вечера, прохлада ветерка, очарование неба, сияние солнца и луны. Ласки Юджина, его поцелуи значили для нее больше, чем весь окружающий мир. — Да, я люблю его. Разумеется, люблю. Что в этом странного? — Что в этом странного? В своем ли ты уме, Сюзанна? Моя бедная, дорогая девочка. Моя Сюзанна! О, этот подлец! Негодяй! Втереться в мой дом и обольстить тебя, мое сокровище. Откуда тебе было знать? Как ты могла одна во всем разобраться! О Сюзанна, ради бога, ради меня замолчи! Не говори так! Не повторяй эти ужасные слова! О боже, боже! Зачем я дожила до этого! Мое сокровище! Моя Сюзанна! Моя прелестная, моя очаровательная детка! Я умру, если не смогу помешать этому. Я умру! Умру! Сюзанна смотрела на мать, пораженная тем невероятным взрывом, который вызвало ее признание. Ее большие глаза словно стали еще больше, брови чуть поднялись, рот приоткрылся. Она казалась живым воплощением античной красоты, невозмутимо спокойным изваянием. Гладкий, как мрамор, лоб, безупречные очертания губ — все говорило о том, что она никогда не знала другого чувства, кроме радости. Взгляд, слегка насмешливый, но нисколько не надменный, придавал особую прелесть этим и без того прекрасным чертам. — Что с тобой, мама? Ты все еще воображаешь, что я ребенок. А между тем я говорю тебе то, что есть. Я люблю Юджина, и он любит меня. Как только нам удастся это устроить без большого шума, я уйду к нему. Я считала нужным сказать тебе об этом, так как не собираюсь ничего делать тайком от тебя. Но так будет. Я бы хотела, мама, чтобы ты перестала на меня смотреть, как на младенца. Я знаю, что делаю. Я давно все обдумала. «Давно обдумала! — проносилось в мозгу у миссис Дэйл. — Уйду к нему, как только удастся все устроить! Неужели она серьезно говорит о том, что будет жить с человеком, с которым она не обвенчана? С женатым человеком! Эта девочка окончательно сошла с ума! На нее нашло какое-то затмение! Иначе быть не может! Это не моя Сюзанна, моя дорогая, прелестная, очаровательная Сюзанна!» Вслух она сказала: — Ты говоришь, что будешь жить с ним… с этим… нет, я не в силах произнести его имя! Я умру, если не смогу помешать этому! Жить с ним без брака, не позаботившись даже о разводе? Уж не снится ли мне все это? — Да, я именно так и сделаю, — ответила Сюзанна. — Мы уже обо всем договорились. Миссис Витла знает. Она дала согласие. И я надеюсь, что ты дашь свое, если ты хочешь, чтобы я осталась с тобой, мама! — Дать свое согласие! Боже правый! Наяву ли это? Моя ли это дочь говорит со мной? Я… — У нее перехватило дыхание. — Если б все это не было так ужасно, я бы, кажется, смеялась до упаду! Я сейчас расхохочусь! У меня будет истерика! У меня голова кружится! Сюзанна Дэйл! Ты с ума сошла! Ты окончательно, бесповоротно сошла с ума! Если ты не замолчишь, если ты не прекратишь этот ужасный бред, я тебя упрячу в сумасшедший дом! Пусть тебя освидетельствуют и установят, в своем ли ты рассудке! Предлагать матери нечто столь дикое, жуткое, невообразимое! И подумать только, что я прожила с тобою восемнадцать лет, что я баюкала тебя на коленях и вскормила тебя своим молоком, а ты еще смеешь стоять передо мной и говорить, что будешь жить в незаконной связи с человеком, у которого хорошая, преданная жена, жена, с которой он и сейчас живет! Никогда в жизни я не слышала ничего более ужасного! Просто невероятно! Ты этого не сделаешь! Это так же невозможно, как невозможно человеку летать! Я убью его! Я тебя убью! Мне было бы легче увидеть тебя мертвой у своих ног, чем допустить, что моя дочь может стоять передо мной и говорить такие вещи. Этому не бывать. Скорее я собственноручно отравлю тебя! Я что угодно сделаю, приму все меры, чтобы ты никогда больше не видела этого человека! Если он осмелится переступить порог моего дома, я убью его на месте. Я так тебя люблю, я просто молюсь на тебя, но этому не бывать, — слышишь, не бывать! И не смей меня уговаривать! Клянусь, что я убью тебя! Я предпочту тысячу раз видеть тебя мертвой! Подумать только! О, этот зверь! Этот изверг! Этот бессовестный негодяй! Войти в мой дом и так поступить со мной, так отблагодарить за мое доброе отношение! Ну, погоди! У него есть положение в обществе, у него есть имя. Я выживу его из Нью-Йорка! Я его разорю! Я сделаю так, что он не посмеет показаться на глаза порядочным людям! Погоди, увидишь! Лицо ее побелело, руки были сжаты в кулаки, зубы судорожно стиснуты. Она была красива в этот момент дикой красотой тигрицы, обнажившей клыки. Глаза ее метали молнии. Сюзанна и не воображала, что ее мать способна на такой припадок бешенства. — Странно, мама, — сказала она невозмутимо. — Ты говоришь так, словно имеешь право мною распоряжаться. Тебе хотелось бы, очевидно, доказать мне, что я не смею поступить, как хочу. Уверяю тебя, что я посмею. Моя жизнь принадлежит мне. Я твердо решила и так и поступлю. Ты меня не удержишь. Лучше не пытайся. Если я не сделаю этого сейчас, так сделаю потом. Я люблю Юджина и не намерена ни с кем считаться. Попробуй только помешать мне, и я уйду из дому. Лучше прекрати эти запугивания, все равно ни к чему это не приведет. — Запугивания! Сюзанна Дэйл, ты не имеешь никакого представления ни о том, что ты говоришь, ни о том, что я намерена сделать! Если хоть малейший слух об этом просочится наружу, ты будешь навсегда изгнана из общества! Понимаешь ли ты, что у тебя не останется ни одного друга, что все твои знакомые, все, кем ты дорожишь, будут обходить тебя за милю? А если б ты была бедна и нуждалась в работе, тебя не приняли бы даже продавщицей в лавку. Ты уйдешь к нему! Нет, скорее ты умрешь здесь, у меня на глазах! Я слишком люблю тебя, чтобы живую отдать на поругание! Я тысячу раз предпочла бы умереть вместе с тобой! Ты больше не увидишь этого человека ни единого раза, а если он посмеет явиться сюда, я его растерзаю! Запомни мои слова. Я говорю серьезно. Попробуй только не покориться, и ты увидишь, что я сделаю. Сюзанна лишь улыбнулась в ответ. — Как ты странно разговариваешь, мама, слушать смешно. Миссис Дэйл опешила. — О Сюзанна! Сюзанна! — вдруг воскликнула она. — Пока еще не поздно, пока я не возненавидела тебя, пока ты не разбила мне сердце, скажи, что ты раскаиваешься, что с этим будет покончено раз и навсегда, что это был лишь отвратительный, кошмарный, страшный сон. О моя Сюзанна! Моя Сюзанна! — Нет, нет, мама, — сказала Сюзанна, отступая на шаг. — Не подходи ко мне и не трогай меня! Ты сама не понимаешь, о чем говоришь, и не понимаешь меня и моих намерений. Ты меня не знаешь, мама, и никогда не знала. Ты всегда смотрела на меня сверху вниз, словно ты бог весть какая умная, а я ничтожная дурочка. Между тем это совсем не так. Это совершенно неверно. Я прекрасно знаю, что мне делать. Я прекрасно знаю, к чему стремлюсь. Я люблю мистера Витлу, и я буду ему принадлежать. Миссис Витла все понимает. Ей известно, как это бывает в таких случаях. Ты тоже поймешь. Мне нет дела до того, что обо мне скажут. Мне нет дела до того, как отнесутся ко мне наши друзья из общества. Не от них зависит моя жизнь, тем более что все это ограниченные, эгоистичные люди. Любовь — это нечто совершенно другое. Ты меня не понимаешь. Я люблю Юджина и буду принадлежать ему, а он будет принадлежать мне. Если ты решила разбить и мою жизнь и его, сделай одолжение, но это все равно ни к чему не приведет. Все равно он будет моим. И лучше прекратить этот разговор. — Прекратить разговор? Прекратить разговор? Так позволь тебе сказать, что я и не начинала еще говорить! Я еще только пытаюсь собраться с мыслями! Ты безумствуешь, точно одержимая, обманутая девочка, за которой я недостаточно присматривала! Отныне, если только господь пощадит меня, я буду строго исполнять свой долг по отношению к тебе! Ты так нуждаешься в моем руководстве, о, как ты в нем нуждаешься! Бедная моя маленькая девочка! — Перестань, мама! Прекрати эту истерику! — прервала ее Сюзанна. — Я позвоню мистеру Колфаксу! Я позвоню мистеру Уинфилду! Я добьюсь, что его выгонят со службы! Я его разоблачу в газетах! Негодяй, подлец, вор! О, зачем я дожила до этого дня? Зачем только я дожила до этого! — Ну что ж, мама, — устало проговорила Сюзанна. — Продолжай, если тебе угодно. Ты прекрасно знаешь, что все это только слова, и я тоже хорошо это знаю. Ты меня не переделаешь. Словами тут не поможешь. И глупо поднимать такой крик. Почему ты не хочешь успокоиться? Мы можем говорить спокойно, зачем выходить из себя? Миссис Дэйл приложила руки к вискам. Она не могла опомниться. — Ну, ладно, — сказала она. — Ничего. Мне нужно собраться с мыслями. Но повторяю: тому, что ты задумала, не бывать. О! О! — и, отвернувшись к окну, она разрыдалась. Сюзанна смотрела на нее с изумлением. Странная вещь человеческие чувства, когда они касаются нравственности. Вот теперь ее мать плачет из-за того, что ей, Сюзанне, кажется самым желанным, самым чудесным, самым важным на свете. Да, она многое узнала о жизни за последнее время. Действительно ли она так сильно любит Юджина? Да, да, да, конечно! Тысячу раз да! Для нее это не слезы и страдания, а великая, всеобъемлющая, бесконечная радость.Глава 86
Буря не унималась: она продолжала бушевать до часу, до двух, до трех часов ночи, и на следующий день опять с раннего утра до полудня и потом до глубокой ночи, и на третий день, и на четвертый, и на пятый. Это была страшная осада, изнуряющая ум, надрывающая душу, иссушающая сердце. Миссис Дэйл худела. Румянец исчез с ее лица, в глазах появилась растерянность. Она была ошеломлена, терроризирована, доведена до крайности в поисках средств, с помощью которых можно было бы преодолеть сопротивление Сюзанны, ее так неожиданно и бурно проявившуюся волю. Кто мог ожидать, что эта спокойная, мягкая, сдержанная девушка способна действовать так убежденно и решительно? Словно жидкость вдруг приобрела крепость алмаза. Неужели она выкована из железа и сердце у нее каменное? Ничто не трогало ее — ни слезы матери, ни угрозы, сулившие Сюзанне изгнание из общества, гибель физическую и моральную, как ей самой, так и Юджину — огласку в газетах, дом умалишенных. Зная свою мать, Сюзанна считала, что она любит с апломбом, а порой и напыщенно порассуждать на философские темы, но не принимает этих рассуждений всерьез. Она не верила, что ее мать способна на решительный поступок — поместить ее, свою дочь, в сумасшедший дом или разоблачить Юджина и скомпрометировать себя, а тем более отравить кого-нибудь или убить. Она покричит, покричит — и сдастся. План Сюзанны состоял в том, чтобы довести мать до изнеможения, а самой упорно стоять на своем, пока та не сдастся, пока ее воля не сломится под этим напряжением. А тогда можно будет осторожно замолвить словечко за Юджина, и постепенно, поломавшись и поспорив, мать уступит. Юджин опять будет допущен на семейный совет, и они как следует все обсудят в присутствии матери. Они, пожалуй, даже условятся не во всем соглашаться друг с другом, но рано или поздно он будетпринадлежать ей, а она ему. О, сколько счастья сулила эта радостная развязка! Сюзанне казалось, что цель близка, надо только немного потерпеть. Она будет бороться и бороться, пока мать не уступит, и тогда… О Юджин, Юджин! Однако одержать победу над миссис Дэйл было не так-то легко. Как ни измучила ее эта борьба, она и не думала уступать. Однажды дело дошло чуть не до драки. Сюзанна в пылу спора решила позвонить Юджину и попросить его приехать, чтобы как-то договориться. Миссис Дэйл категорически заявила, что не допустит этого. Слуги и без того постоянно подслушивают за дверью, понимая, что происходит что-то серьезное. Сюзанна решила спуститься в библиотеку, где был телефон. Миссис Дэйл стала у двери, чтобы преградить ей путь. Тогда Сюзанна начала изо всех сил тянуть к себе дверь; миссис Дэйл попыталась оторвать ее руки от двери, но не могла, так как Сюзанна была сильнее. — Какой позор! — воскликнула она, все еще стараясь удержать дочь. — Какой позор! Ты затеваешь с матерью драку. О, какое унижение! Она горько, безудержно расплакалась. — Боже мой, боже мой! — Задыхаясь от рыданий, миссис Дэйл упала в кресло. Волосы ее растрепались, один рукав лопнул по шву. — Как мне после этого смотреть в глаза людям! Сюзанна глядела на нее с сочувствием. Она видела, что мать ее вне себя от горя. — Мне очень жаль, мама, — сказала она, — но ты сама во всем виновата. Я могу и не звонить Юджину. Он сам мне позвонит, и я поговорю с ним. А все это оттого, что ты хочешь командовать мной. Ты не желаешь понять, что я взрослый человек, такой же, как и ты. Моя жизнь принадлежит мне, и я могу делать с ней все, что хочу. Все равно тебе не удастся мне помешать. Лучше не мучить друг друга. Я вовсе не хочу ссориться с тобой. И спорить не хочу, но только пора тебе понять, что я взрослая женщина. Давай же говорить разумно! Почему ты не выслушаешь меня и не войдешь в мое положение? Когда два человека любят друг друга, они имеют право соединиться. Никого больше это не касается. — Никого не касается! Никого не касается! — злобно повторила миссис Дэйл. — Глупый бред влюбленной девчонки! Было бы у тебя хоть малейшее представление о жизни, о том, как устроено общество, ты сама бы над собой посмеялась. Пройдет каких-нибудь десять лет, пройдет год, и тебе станет ясно, какую страшную ошибку ты собиралась совершить. Тебе трудно будет поверить, что ты способна была на подобный шаг или могла хотя бы думать об этом. Никого не касается! О боже милосердный! Неужели ничто на свете не заставит тебя понять, как дико, как безрассудно то, что ты задумала? — Но я люблю его, мама! — сказала Сюзанна. — Люблю! Люблю! Ты говоришь о любви! — горько и страстно воскликнула миссис Дэйл. — Что ты знаешь о любви? Неужели ты думаешь, что он действительно любит тебя, если он способен явиться сюда, выкрасть тебя из порядочного дома, опорочить в глазах общества, разбить твою жизнь, смешать твое имя с грязью, погубить и тебя, и меня, и твоих сестер, и брата на веки вечные? Что знает он о любви? Что знаешь ты о любви? Подумала ли ты об Адели, о Нинет, о Кинрое? Неужели они для тебя ничего не значат? Где твоя любовь к ним и ко мне? Больше всего я боюсь, как бы Кинрой не проведал об этой истории! Он пойдет к нему и убьет его! Я убеждена, что он это сделает! Я не могла бы ему помешать! Какой позор! Какой скандал! Все рушится вокруг меня! Неужели, Сюзанна, у тебя нет совести, нет сердца? Сюзанна спокойно смотрела в пространство. Упоминание о Кинрое слегка взволновало ее. Кинрой — смелый мальчик. Он, пожалуй, действительно может убить Юджина. Но, с другой стороны, если бы мать вела себя благоразумно, не понадобилось бы ни убивать Юджина, ни разоблачать его, и вообще все обошлось бы без всяких волнений. Какое дело ей, или Кинрою, или кому бы то ни было до того, как она, Сюзанна, собирается распорядиться своей жизнью? Ведь если кто пострадает, так только она. А ее это не пугает. Ну, кому какое до этого дело? Она высказала эту мысль вслух, и миссис Дэйл принялась умолять ее трезво смотреть на жизнь. — Много ты знаешь таких дурных женщин, какой собираешься стать сама? Хотела бы ты вести с ними знакомство? Много ли их найдется в порядочном обществе? Попробуй стать на точку зрения миссис Витла! Хотелось бы тебе быть на ее месте? Хотелось бы тебе быть на моем месте? Вообрази на минутку, что ты миссис Витла, а миссис Витла — это ты, что бы ты тогда сказала? — Я не стала бы удерживать Юджина, — ответила Сюзанна. — Да, да, конечно! Ты не стала бы удерживать! Возможно — но каково бы у тебя было на душе? Каково было бы на душе у всякой другой женщины? Неужели ты не видишь, как это позорно, как унизительно? Неужели ты совсем уже ничего не понимаешь и не чувствуешь? — О мама, какие странные рассуждения! То, что ты говоришь, просто неумно! Это ты не считаешься с фактами. Миссис Витла больше не любит Юджина. Это ее собственные слова. Она мне так и написала. Я получила от нее письмо и отдала его Юджину. И он не любит ее. Она это знает. Она знает, что он любит меня. Но если она его не любит, так в чем же дело? Разве он не имеет права любить кого-нибудь другого? А я люблю его и хочу быть с ним. И он хочет быть со мной. Почему же нам не соединиться? Несмотря на все свои угрозы, миссис Дэйл не могла не задуматься над тем, к каким последствиям привела бы ее попытка предать поведение Юджина общественной огласке. А последствия были бы ужасные и не замедлили бы дать о себе знать. Юджин пользовался известностью. Убить его, — впрочем, она едва ли серьезно думала об этом, — убить и не суметь сохранить преступление в тайне значило вызвать невероятный скандал и всякие расследования, не говоря уже о толках в обществе. Очернить его в глазах Колфакса или Уинфилда значило опорочить Сюзанну не только в их мнении, но и в мнении других членов их круга, поскольку они вряд ли сохранят это втайне. Отставка Юджина вызвала бы немало толков. Если он уйдет со службы, Сюзанна может убежать с ним — и что тогда? Миссис Дэйл с ужасом думала о том, что малейшего намека на эту историю, одного неосторожно сказанного слова достаточно, чтобы вызвать катастрофу. С каким восторгом ухватилась бы за подобную сенсацию так называемая желтая пресса! Как смаковала бы она все подробности! Положение в высшей степени опасное. И тем не менее надо что-то сделать, и притом безотлагательно. Но что? И тут ей пришла мысль, что все же есть меры, к которым можно прибегнуть, не подвергая себя большой опасности и не рискуя непоправимыми последствиями. Только бы выиграть время и убедить Сюзанну подождать. Если ей удастся взять с нее слово, что она в течение десяти или хотя бы пяти дней ничего не предпримет, все может еще окончиться благополучно. За это время она повидается с Анджелой, с Юджином и даже с мистером Колфаксом. Для этого ей нужно было заручиться словом Сюзанны — на которое, она знала, можно было полностью положиться, — что до истечения срока та ничего не предпримет. Под тем предлогом, что Сюзанне самой нужно время, чтобы подумать, миссис Дэйл долго упрашивала ее не спешить, пока девушка, наконец, не согласилась, при условии, что мать разрешит ей позвонить Юджину и сказать, как обстоит дело. Юджин звонил ей на другой день после ее первого разговора с матерью, но слуга, по распоряжению миссис Дэйл, ответил, что Сюзанны нет в городе. Он звонил и на следующий день, и снова с тем же результатом. Он написал письмо, но миссис Дэйл перехватила его и спрятала. И только на четвертый день Сюзанна сама позвонила ему и все рассказала. Юджин испытал острое сожаление, что она поспешила выдать матери их тайну. Но теперь уже ничего не оставалось, как бороться до конца. Он сказал, что готов на любой риск, на любые жертвы, лишь бы добиться Сюзанны. — Не приехать ли мне, чтобы поддержать вас? — спросил он. — Нет, не раньше чем через пять дней. Я дала слово. — И я не увижу вас? — Нет, Юджин. Только через пять дней. — Неужели мне нельзя даже позвонить вам по телефону? — Нет. Подождите пять дней. Тогда — пожалуйста. — Хорошо, моя радость, мое божество, я подчиняюсь. Я сделаю все, что вы прикажете. Но если б вы знали, родная, какой это долгий срок! — Я знаю. Но потерпите немного. — И ваши чувства не изменятся? — Нет. — Вас не могут уговорить? — Нет, конечно, нет. Вы ведь знаете, дорогой, что не могут. Почему же вы спрашиваете? — О Сюзанна, мне страшно! Вы еще так молоды, любовь такое новое для вас чувство! — Нет, нет! Мои чувства не изменятся. Мне незачем клясться. Они не изменятся. — Хорошо, моя радость! Она повесила трубку, и миссис Дэйл поняла, что ей предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Прежде всего она тайком от Сюзанны и Юджина навестила миссис Витла, чтобы услышать, что та знает и что может посоветовать. Надо сказать, что свидание это не дало никаких результатов, если не считать того, что оно еще более распалило сердце Анджелы, а миссис Дэйл снабдило богатым материалом против Юджина. Анджела не оставляла попыток воздействовать на Юджина доводами и мольбами, открыть ему глаза на чудовищность преступления, которое он хотел совершить. Однако, несмотря на ее состояние, несмотря на все ее доводы, он оставался холоден и тверд и так настойчиво повторял, что со старой жизнью покончено, что она приходила в бешенство. Вместо того чтобы уйти от него, положившись на то, что время заставит его одуматься (или же, наоборот, внушит ей, что надо вернуть ему свободу), она продолжала стоять на своем. В ней все еще жило какое-то чувство к Юджину, она привыкла к нему, он был отцом ее будущего ребенка, пусть нежеланного. Наконец, с ним было связано ее положение в обществе, все ее надежды. С какой же стати она уйдет от него. И, опять-таки, оставался страх за будущее, страх перед событием, которое ее ожидало. Ведь она может умереть. Что станется тогда с ребенком? — Признаться, миссис Дэйл, — сказала она с некоторым вызовом в голосе, — признаться, я не понимаю Сюзанну. Она достаточно взрослый человек и достаточно давно вращается в обществе, чтобы знать, что женатый мужчина — это священная собственность другой женщины. — Знаю, знаю, — с тайным раздражением отозвалась миссис Дэйл, — но ведь Сюзанна так молода. Уверяю вас, вы даже не представляете, себе, какой она в сущности ребенок. Она увлекается всякими глупыми сентиментальными теориями. Я немного подозревала это в ней, но не думала, что это может проявиться с такой силой. Не могу понять, от кого она это унаследовала. Отец ее был человек в высшей степени практический. Впрочем, я не знала за ней ничего дурного, пока она не поддалась влиянию вашего мужа. — Возможно, что и так, — согласилась Анджела, — но и ее есть за что винить. Юджин — слабовольный человек, он увлекается только тогда, когда его завлекают. А девушка, которая не хочет, чтобы ее соблазнили, не поддастся соблазну. — Сюзанна так молода, — снова вставила миссис Дэйл. — Я убеждена, что если бы Сюзанна знала все о похождениях мистера Витлы, она отказалась бы от него, — продолжала Анджела, не сознавая, как опрометчивы ее слова. — Я написала ей. Она должна была бы понять. Его поведение бесчестно и безнравственно, и эта история только лишнее тому доказательство. Я могла бы простить, если бы это было впервые. Но совершенно аналогичный случай произошел лет шесть-семь назад, и года за два до того у него тоже был роман. Если бы он сошелся с Сюзанной, он и ей изменял бы. Сначала он, конечно, будет по уши влюблен, а потом она ему наскучит, и он бросит ее. Да вы и сами поймете, что это за человек. Представьте, совсем недавно он заявил, что намерен снять отдельную квартиру для Сюзанны, и потребовал, чтоб я не мешала ему и никому об этом не говорила! Подумайте только! Миссис Дэйл многозначительно покачала головой. Конечно, со стороны Анджелы было глупо так отзываться о муже, но об этом не стоило сейчас говорить. Быть может, Юджин и сделал ошибку, женившись на ней. Впрочем, это не могло оправдать в глазах миссис Дэйл его желание увлечь Сюзанну. Будь он свободен, иное дело. Его положение, его ум, манеры — тут нечего было возразить, хотя бы он и был невысокого происхождения. День уже клонился к вечеру, когда миссис Дэйл рассталась с Анджелой, довольно обескураженная тем, что она видела и слышала, и еще более утвердившаяся в мысли, что необходимы самые решительные меры. Анджела никогда в жизни не даст мужу развода. Юджин, с точки зрения нравственности, не может быть для ее дочери подходящим мужем. Все это грозит грандиозным скандалом, в результате которого имя Сюзанны будет опорочено. В полном отчаянии миссис Дэйл решила — за неимением лучшего выхода — повидать Юджина и попытаться убедить его не встречаться с Сюзанной, пока он не получит развода. А тогда, во избежание худшего, она даст согласие на их брак, — впрочем, только на словах. На деле ей хотелось лишь одного — чтобы Сюзанна отказалась от Юджина. Лучше всего было бы куда-нибудь увезти ее или уговорить не губить свою жизнь. Все же она решила повидаться с Юджином. На следующее утро Юджин сидел в своем кабинете в издательстве, ломая голову над тем, что могла означать эта пятидневная отсрочка, и тщетно стараясь сосредоточиться на многочисленных делах, требовавших его неустанного внимания и в данный момент изрядно запущенных, как вдруг ему подали карточку миссис Дэйл. Юджин мгновенно отпустил секретаря и приказал никого не принимать, а затем распорядился провести к нему нежданную посетительницу. Миссис Дэйл была бледна и печальна, но одета самым изысканным образом — в зеленовато-голубом шелковом платье и модной шляпке из черной соломки с перьями. Она и сама производила впечатление совсем еще молодой, красивой женщины, отнюдь не слишком старой для Юджина. Между прочим, было время, когда она подумывала о том, что он, пожалуй, способен в нее влюбиться. Но каковы бы ни были когда-то ее мысли, сейчас она гнала их прочь, ибо в них фигурировали развод или разрыв с Анджелой, или даже ее безвременная кончина, и страстная любовь Юджина к ней самой. Теперь, разумеется, с подобными мечтами было покончено, тем более что под влиянием пережитых волнений и страхов они почти изгладились из памяти миссис Дэйл. Юджин, со своей стороны, не забыл, что и он когда-то испытывал нечто подобное в отношении миссис Дэйл и что миссис Дэйл всегда выказывала к нему расположение. Сейчас, однако, ее привели сюда совершенно иные мысли и мотивы, и ему предстояло собрать все силы для борьбы с нею. При появлении миссис Дэйл Юджин внимательно посмотрел на нее, любезно улыбнулся, хоть это и стоило ему некоторых усилий, и спросил деловым тоном: — Чем могу служить? — Злодей! — воскликнула она, словно в мелодраме. — Моя дочь мне все рассказала! — Да, Сюзанна сообщила мне об этом по телефону, — ответил он примирительно. — И мне следовало бы убить вас тут же, на месте, — продолжала она тихо, но возбужденно. — Подумать только, что я впустила в свой дом такое чудовище и позволила ему находиться вблизи моей дорогой невинной дочери! Сейчас это мне кажется невероятным! Я не могу прийти в себя от ужаса! Как вы осмелились, — да еще имея такую милую, прекрасную жену, зная, что она больна и в таком положении?.. Будь в вас хоть капля порядочности, хоть капля совести… Когда я думаю об этой несчастной достойной женщине и о том, что вы сделали или намереваетесь сделать… О, если бы я не боялась скандала, вы не вышли бы отсюда живым. — О, господи! Зачем говорить заведомый вздор, миссис Дэйл? — сказал Юджин, с трудом скрывая раздражение. Ему противна была ее мелодраматическая поза. — Этой бедной и достойной женщине, за которую вы заступаетесь, вовсе не так уж плохо живется, и, уверяю вас, она не настолько нуждается в вашем сочувствии, как вы воображаете. Несмотря на болезнь, она прекрасно умеет постоять за себя. Что же касается ваших планов предать меня смерти — собственноручно или через посредство третьих лиц, — то это, пожалуй, неплохая мысль, и я не стану вас отговаривать. Я не так уж влюблен в жизнь. Но позвольте вам заметить, что сейчас не сороковые годы, что мы живем в конце девятнадцатого века и притом в Нью-Йорке. Я люблю Сюзанну, и она любит меня, мы хотим принадлежать друг другу. Так вот надо найти такой выход из положения, который и для вас был бы приемлем, и устроил бы нашу судьбу. Сюзанна не меньше меня жаждет найти этот выход. Мысль эта принадлежит ей в такой же мере, как и мне. Отчего это вас так страшно волнует? Ведь вы хорошо знаете жизнь. — Почему это меня волнует? Да как же мне не волноваться? И как можете вы, вы, человек, занимающий такое положение, стоящий во главе такого огромного дела, хладнокровно спрашивать, почему это меня волнует? Разве речь идет не о счастье моей дочери? Почему я волнуюсь? Моя дочь — девочка, только что выросшая из коротких платьиц и совершенно не знающая жизни! И вы осмеливаетесь говорить мне, что она сама подала вам такую мысль! О низкий негодяй! Подумать только, что я могла так ошибиться в человеке! Это вы обманули меня вашими вкрадчивыми манерами и вашими разговорами о счастливой семейной жизни! Не понимаю, как я не догадалась раньше, видя вас так часто без жены. Я должна была бы понять. Я и догадывалась, бог мне свидетель, но закрывала на это глаза. Меня обманула ваша мнимая порядочность. Я нисколько не виню бедняжку Сюзанну, я виню только вас. Вы обманщик, негодяй! И себя виню за свою глупость! Но я достаточно наказана. Юджин только смотрел на нее и барабанил пальцами по столу. — Но я пришла сюда не за тем, чтобы спорить с вами, — продолжала миссис Дэйл. — Я пришла сказать, что вы никогда больше не должны видеться с моей дочерью, ни разговаривать с ней, ни показываться там, где вы могли бы ее встретить, хотя могу вас уверить, что ноги ее не будет там, где будете вы. Очень скоро для вас будут закрыты двери всякого порядочного дома, об этом уж я позабочусь! Если вы сейчас же не дадите мне слово никогда больше не видеться с ней и не писать ей, я пойду к мистеру Колфаксу, с которым, как вам известно, я лично знакома, и все расскажу ему. Я убеждена, что, узнав о ваших прежних похождениях и о том, как вы намеревались поступить с моей дочерью, невзирая на положение вашей жены, он недолго пожелает пользоваться вашими услугами. Я пойду к мистеру Уинфилду, моему старому другу, и ему тоже все расскажу. Вам без всякого шума закроют доступ в общество, и моя дочь при этом нисколько не пострадает. Она так молода, что если история эта выплывет наружу, вся вина падет на вас. Миссис Витла рассказала мне вчера про ваше безобразное поведение. Вы рассчитывали сделать Сюзанну своей четвертой или пятой жертвой. Так нет же, это вам не удастся. Вы еще не знаете, что такое оскорбленная мать, — теперь вы это узнаете. Попробуйте поступить мне наперекор, если посмеете! Я требую, чтобы вы немедленно написали Сюзанне прощальное письмо, тут же, не сходя с места. Я лично передам его. Юджин саркастически улыбнулся. Упоминание об Анджеле взбесило его. Миссис Дэйл была у них дома, и Анджела ей все выложила про него, про его прошлое. Какая низость! Ведь она все-таки его жена! Только сегодня утром она умоляла его, заклиная своей любовью, не бросать ее и ни единым словом не обмолвилась о посещении миссис Дэйл. Любовь, любовь! Хороша любовь, нечего сказать. Ведь он немало сделал для Анджелы, — могла бы она проявить хоть чуточку великодушия в такую трудную минуту, даже если это и тяжело ей. — Написать вам официальное заявление о своем отказе от Сюзанны, не так ли? — сказал он с кривой усмешкой. — Какой абсурд! Разумеется, я этого не сделаю! Что же касается вашей угрозы пожаловаться мистеру Колфаксу, то я уже слышал ее от миссис Витла. Прошу вас, вот дверь. Его кабинет шестью этажами ниже. Если угодно, я велю курьеру проводить вас. Расскажите все мистеру Колфаксу, и вы увидите, много ли потребуется времени, чтобы это стало известно всем. Можете идти также к мистеру Уинфилду. Мне нет дела ни до него, ни до мистера Колфакса! Если вам хочется, чтобы об этой истории заговорили, тогда идите. Она получит широкую огласку, могу вас уверить. Я люблю вашу дочь. Я не могу жить без нее. Я буквально схожу по ней с ума. — Юджин встал. — И она любит меня, так по крайней мере, мне кажется. Во всяком случае я все ставлю на эту карту. С точки зрения любви моя жизнь была пуста. Я никогда не любил по-настоящему. А теперь я безумно люблю Сюзанну Дэйл. Я ни о чем и ни о ком, кроме нее, не в состоянии думать. Если бы вы способны были посочувствовать человеку, никогда не знавшему счастья, изголодавшемуся по любви, не нашедшему идеала ни в одной женщине, вы бы отдали мне вашу дочь. Я люблю ее, люблю! Ко всем чертям! — Он стукнул кулаком по столу. — Я на все готов ради нее! Если только она согласится быть моей, пусть Колфакс подавится своей службой, а Уинфилд — своей строительной компанией. А вы можете взять себе все ее деньги, если ей угодно будет вам их отдать. Я могу уехать за границу и там заработать на жизнь своей кистью. Я так и сделаю. Так поступали до меня многие американцы. Я люблю ее, слышите? Я люблю ее, и можете не сомневаться, что она будет моей! Вам не удастся помешать мне. У вас не хватит ума, не хватит сил, не хватит находчивости, чтобы противостоять этой девушке! Она сильнее, она благороднее вас. Она выше всех современных понятий об обществе и жизни. Она любит меня и хочет быть моей, — она идет на это по доброй воле, свободно, с радостью. Найдете ли вы что-нибудь подобное в вашем высшем обществе с его мелкотравчатыми мыслями и чувствами? Вы говорите, что меня ждет изгнание? Но какое мне дело до вашего общества? До этого сборища пошляков, безмозглых ничтожеств, беззастенчивых грабителей, шулеров, воров, блюдолизов… Недурная компания! Мне смешно, что вы явились сюда с таким величественным видом читать мне нотацию. Какое мне до вас дело? Когда я познакомился с вами, вы показались мне совершенно другим человеком, не такой ограниченной мещанкой. Но вы нисколько не лучше всех остальных, вы такая же покорная раба предрассудков и условностей. Ну что ж, — он щелкнул пальцами чуть ли не перед самым носом миссис Дэйл, — делайте все, что вам вздумается! Все равно Сюзанна будет моей! Она сама придет ко мне. Она на вас не посмотрит. Бегите к Колфаксу! Бегите к Уинфилду! Ничто вам не поможет. Она моя. Она по праву моя. Сюзанна — человек в полном смысле этого слова. Само провидение послало ее мне. И она будет принадлежать мне, хотя бы мне пришлось сокрушить и вас, и вашу семью, и себя самого, и всех, кто станет мне поперек дороги. Она будет принадлежать мне! Она моя! Моя! — Он конвульсивно выбросил вперед руку. — А теперь идите и делайте все, что вам угодно! Слава богу, я нашел хоть одну женщину, которая знает, что значит жить и любить! И она принадлежит мне! Миссис Дэйл смотрела на него в изумлении, не веря своим ушам. Уж не сошел ли он с ума? Неужели он действительно так любит? До чего же Сюзанна вскружила ему голову! Вот странно. Она никогда не видела его таким. Она никогда не подумала бы, что он способен на такое чувство. Он всегда был такой спокойный, улыбающийся, мягкий, остроумный. А тут, — откуда взялся этот трагизм, этот огонь, эта страсть, эта жажда любви? Глаза его горели, видно было, что этот человек способен на все. Он, должно быть, действительно любит. — О, зачем вы хотите причинить мне столько горя? — захныкала она вдруг. Лишь на одно мгновение прониклась она его душевной болью, и в ней заговорило сочувствие. — Зачем вы вторглись в мою семью и пытаетесь ее разрушить? На свете сколько угодно женщин, которые рады будут полюбить вас, сколько угодно женщин, которые больше подходят вам и по годам и по темпераменту, чем Сюзанна. Она не понимает вас. Она сама себя не понимает. Она просто девочка — глупенькая влюбленная девочка. Это какой-то гипноз. О, зачем вы добиваетесь ее? Вы, который настолько старше, настолько опытнее! Откажитесь от нее! Я совсем не хочу идти к мистеру Колфаксу. Я совсем не хочу довериться мистеру Уинфилду. Я это сделаю в крайнем случае, но я не хочу этого. Я всегда была самого высокого мнения о вас. Я знаю, что вы незаурядный человек. Так помогите же мне восстановить мое уважение, мое доверие к вам. Я, может быть, не забуду, но я прощу. Вероятно, вы и в самом деле несчастливы в семейной жизни. Мне очень жаль вас. Я совсем не хочу вам мстить. Я не хочу делать ничего, что могло бы привести к тяжелым для вас последствиям. Я только хочу спасти бедняжку Сюзанну. О, прошу вас! Пожалуйста! Я ее так люблю! Вы едва ли в состоянии понять мои переживания, переживания матери! Как бы сильна ни была ваша любовь, вы не можете не считаться с другими. Истинная любовь великодушна. Я знаю, что Сюзанна упряма и своевольна и сейчас готова на все. Но она изменится, если вы ей поможете. Если вы ее действительно любите, если в вас есть хоть капля сострадания ко мне, если вам хоть сколько-нибудь дороги ее и ваше собственное будущее, откажитесь от ваших планов и верните ей свободу. Скажите ей, что вы ошиблись. Напишите ей сейчас же. Объясните, что вы не решаетесь на такой шаг, так как это значило бы навлечь бесчестие на меня, на нее и на вас, и потому вы отказываетесь от нее. Скажите, что вы решили подождать, пока время не вернет вам свободу — если это вам действительно суждено, — и дайте ей возможность самой судить о том, не найдет ли она счастье без вас. Неужели вы решитесь погубить такое невинное существо? Ведь она так молода, так неопытна. Если вы знаете, что такое жизнь, если вы способны хотя бы на малейшее уважение и внимание к другим, умоляю вас, умоляю как любящая мать — откажитесь от Сюзанны! Слезы выступили у нее на глазах, она тихо заплакала, спрятав лицо в платок. Юджин озадаченно смотрел на нее. Что он делает? На что идет? Неужели он такой дурной человек, каким его изображают? Может быть, он в самом деле обезумел? Или вовсе лишен сердца? Горе миссис Дэйл и Анджелы, угрозы рассказать о его поведении Колфаксу и Уинфилду — все это на мгновение отрезвило его. Словно яркая вспышка молнии вдруг озарила окружавший его мрак. На секунду в нем заговорило сочувствие: он понял, сколько горя он собирается причинить и как это безрассудно. Но это было лишь на миг, потом все прошло. Снова перед ним всплыл образ Сюзанны, ее точно высеченное из мрамора лицо, ее красота, ее глаза, губы, волосы, ее стремительные, словно натянутая тетива, полные жизни движения, ее улыбка. Отказаться от нее! Отказаться от Сюзанны, от мечты об отдельной студии, от постоянного радостного общения с ней! Разве Сюзанна этого от него хочет? Разве это говорила она ему в последний раз по телефону! Нет! Нет! Бросить ее сейчас, когда она всем своим существом рвется к нему? Нет, нет и нет! Никогда! Он еще поборется! Пусть даже его ждет гибель в борьбе. Ни за что! Ни за что! Мысли его путались. — Я не могу этого сделать, — сказал он, снова вскакивая, так как после своей предыдущей тирады он опять тяжело опустился на стул. — Я не могу этого сделать. Вы просите невозможного. Этого никогда не будет. Видит бог, я одержим любовью и не могу жить без Сюзанны. Идите и делайте все, что вам угодно, но она должна принадлежать мне, и она будет принадлежать мне. Она моя! Моя! Моя! Его тонкие, худые руки сжались в кулаки, он скрипнул зубами. — Моя, моя, моя! — бормотал он, словно злодей из дешевой мелодрамы. Миссис Дэйл покачала головой. — Да поможет господь нам обоим! — сказала она. — Никогда, никогда не будет она вашей! Вы недостойны ее! Вы ненормальны! Я буду бороться с вами всеми доступными мне средствами. Я ни перед чем не остановлюсь. Я богата и сумею постоять за себя. Она не достанется вам! Посмотрим, кто из нас одержит верх! — Она встала и пошла к двери. Юджин последовал за ней. — Делайте, что хотите, — спокойно ответил он, — но помните, что вы проиграете. Сюзанна придет ко мне. Я это знаю. Я это чувствую. Я, возможно, потеряю многое другое, но она будет моей. Я добьюсь ее! Она моя! — О! — устало вздохнула миссис Дэйл, наполовину убежденная его словами. — Это ваше последнее слово? — Да. — Тогда я ухожу. — Прощайте, — сказал он торжественно. — Прощайте, — ответила она. Она вышла бледная как полотно, с широко раскрытыми глазами. Юджин бросился к телефону, но, вспомнив, что Сюзанна просила его не звонить и во всем на нее положиться, повесил трубку.Глава 87
Пыл и пафос, которыми были проникнуты слова миссис Дэйл, должны были бы послужить Юджину предостережением. У него мелькнула на мгновение мысль догнать ее и попытаться еще как-то на нее воздействовать, сказать, что он приложит все усилия к тому, чтобы добиться развода и жениться на Сюзанне, но он вспомнил, что Сюзанна особенно настаивала на своем нежелании вступать в брак. Он не мог бы точно сказать, когда, где и при каких обстоятельствах она высказала это своеобразное желание, которое было, впрочем, вполне осуществимо при условии, что они будут вести себя тактично. Ничего ужасного нет в том, размышлял он, что два человека хотят сойтись подобным образом. Что тут особенного? Одному богу известно, сколько в мире таких незаконных, не совсем, может быть, обычных связей, и незачем обществу приходить в волнение из-за одного лишнего случая, особенно если люди действуют осмотрительно и дипломатично. Ни он, ни Сюзанна не собираются трубить на весь мир о своей связи. Вполне естественно, что он, выдающийся художник, — правда, забросивший на время свою кисть, но тем не менее законченный и признанный художник, — хочет иметь отдельную студию. Там он и Сюзанна могут встречаться. Никто не увидит в этом ничего предосудительного. Только зачем Сюзанна все рассказала матери? Прекрасно можно было обойтись без этого. Странные у нее принципы — говорить правду при любых обстоятельствах. А между тем она в сущности не всегда говорит правду. Она обманывала мать хотя бы уже тем, что так долго держала ее в полном неведении. Или это злая шутка судьбы, которая хочет над ним насмеяться? Не может быть. И все же настойчивость Сюзанны казалась ему теперь роковой ошибкой. Он сидел, погруженный в глубокое раздумье. Неужели он так страшно заблуждается? Неужели он когда-нибудь пожалеет? Вся его жизнь ставится сейчас на карту. Может быть, повернуть назад? Нет! Нет! Нет! Никогда! Не бывать этому! Он должен идти напролом! Иногда выхода у него нет! Юджин долго сидел и думал. Следующий шаг, который предприняла миссис Дэйл, не доставил ей таких неприятностей, как первый, хотя пользы и он не принес. Она вызвала своего домашнего врача, доктора Летсона Вули, пользовавшегося неограниченным доверием своих пациентов. Будучи сам человеком строгих правил, непоколебимым в вопросах чести и морали, он проявлял достаточную широту взглядов и терпимость, когда речь шла о ближнем. — Ну, миссис Дэйл, чем могу вам быть полезен сегодня? — спросил он, входя в библиотеку, расположенную на первом этаже, и сердечно, хотя и с несколько усталым видом, пожимая ей руку. — Ах, доктор Вули, у меня такие неприятности! — сразу же начала миссис Дэйл. — У нас собственно никто не болен. Но уж лучше бы болезнь. Дело гораздо серьезнее. Я вызвала вас, потому что рассчитываю на вашу помощь и сочувствие. Речь идет о моей дочери Сюзанне. — Так, так, — пробормотал доктор. Голос его звучал хрипловато, потому что его голосовые связки были стары. Глаза зорко смотрели из-под мохнатых седых бровей — это был взгляд человека, умеющего многое видеть и таить про себя. — Что же с ней случилось? Что она сделала такого, чего не следовало бы делать? — Ах, доктор, — воскликнула миссис Дэйл, чуть не плача, так как переживания последних дней совсем лишили ее самообладания, — я не знаю даже, что вам сказать. Не знаю, с чего начать. Сюзанна, моя дорогая, моя бесценная Сюзанна, которой я так бесконечно доверяла, на которую так полагалась… — Ну, ну, что же дальше? — прервал ее излияния доктор Вули. И миссис Дэйл рассказала ему всю историю и ответила на некоторые в упор поставленные вопросы. — Говоря по правде, вы должны еще быть благодарны судьбе, — сказал он. — Сюзанна могла уступить этому человеку тайком от вас и потом сообщить вам об этом как о свершившемся факте, а может быть, и совсем не сообщить. — Не сообщить? О доктор! Моя Сюзанна! — Миссис Дэйл, прежде чем стать вашим врачом, я был домашним врачом вашей матери. Я немного разбираюсь в человеческой природе вообще и неплохо изучил членов вашей семьи в частности. Ваш муж, если вам угодно будет вспомнить, был человек весьма решительный. Сюзанна, возможно, унаследовала его характер. Она очень молода, — прошу не забывать этого, — она сильная, здоровая девушка. Сколько лет этому Витле? — Лет тридцать восемь, тридцать девять, доктор. — Гм! Я так и думал. Опасный возраст. Надо только удивляться, что вы сами так благополучно миновали этот период. Ведь и вам под сорок, не правда ли? — Да, доктор, но вы единственный человек, которому это известно. — Знаю, знаю. Возраст опасный. Вы говорите, что он стоит во главе «Юнайтед мэгэзинс»? Я, кажется, слыхал про него. Я знаком с мистером Колфаксом. И вы находите, что этот человек способен так увлечься? — Мне и в голову не приходило — до этой истории. — Что ж, тут нет ничего невозможного. Тридцать восемь — тридцать девять, с одной стороны, и восемнадцать — девятнадцать, с другой, — никуда не годится. А где Сюзанна? — Вероятно, наверху, у себя в комнате. — Может быть, мне поговорить с ней, хотя вряд ли это поможет. Миссис Дэйл вышла и не возвращалась добрых три четверти часа. Сюзанна была раздражена, она упрямилась и на все уговоры матери отвечала отказом. Зачем вмешивать в это дело посторонних людей, а тем более доктора Вули, которого Сюзанна хорошо знала и очень любила? Когда мать сказала ей, что доктор Вули хочет ее видеть, она сразу заподозрила, что это имеет какое-то отношение к Юджину, и спросила, зачем она понадобилась доктору. В конце концов она согласилась спуститься, хотя сделала это с единственной целью доказать матери всю бессмысленность и глупость этой суматохи. Старый доктор сидел и думал о странной неразберихе, именуемой жизнью, где действуют непонятные законы физики и химии, где свирепствуют недуги и бушуют человеческие страсти — любовь и ненависть в их различных проявлениях; когда вошла Сюзанна, он поднял голову и внимательно посмотрел на нее. — Рад вас видеть, Сюзанна, — с шутливой ласковостью сказал он, вставая и делая несколько шагов ей навстречу. — Как поживаете? — Очень хорошо, доктор, а вы как? — Да как видите, как видите, Сюзанна, — еще немного постарел, стал еще немного суетливее. Ничего не поделаешь, когда чужие горести — твои горести. Мне ваша матушка рассказала, что вы влюбились. Это очень интересно, не правда ли? — Знаете, доктор, — вызывающе ответила Сюзанна, — я уже сказала мама, что у меня нет желания обсуждать этот вопрос, и я считаю, что она не имеет никакого права принуждать меня к этому. Я не хочу говорить на эту тему и не стану. Я нахожу, что это величайшая бестактность. — Бестактность? — повторила миссис Дэйл. — Ты считаешь, что обсуждать твои намерения — бестактность? А я должна тебе сказать, что люди назовут то, что ты собираешься сделать, преступлением! — Я уже сказала, мама, что пришла сюда не для того, чтобы спорить, и предпочитаю молчать! — сказала Сюзанна, поворачиваясь к матери. — Мне здесь нечего делать. Я не хотела обидеть доктора Вули, но и не намерена оставаться здесь и снова выслушивать все, что тебе вздумается сказать. Она шагнула к двери. — Вот что, миссис Дейл, вы нам не мешайте, — сказал доктор Вули, и уже самый тон, каким он это сказал, заставил Сюзанну остановиться. — Я тоже того мнения, что разговоры делу не помогут. Сюзанна убеждена, что задумала что-то очень хорошее. Возможно, что это и так. Кто знает? Единственное, что стоило бы, по-моему, обсудить, — если вообще тут можно что-либо обсуждать, — это вопрос о времени. Я считаю, что Сюзанне было бы лучше немного подождать, прежде чем приводить в исполнение свое намерение, которое, надо полагать, не так уж плохо. Я совершенно не знаю мистера Витлу. Быть может, это способнейший и достойнейший человек. И все же Сюзанне следовало бы немного подождать. Я сказал бы, месяца три, а то и полгода. Ведь решение такого вопроса влечет за собой всевозможные последствия, — обратился он к Сюзанне. — Подумайте об обязанностях, которые выпадут на вашу долю, к которым вы, быть может, еще не совсем готовы. Не забывайте, что вам только восемнадцать или девятнадцать лет. Может случиться, что вам придется отказаться от выездов в свет, от танцев, от путешествий, да мало ли еще от чего — и целиком посвятить себя обязанностям матери и заботам о муже. Ведь вы предполагаете навсегда остаться с ним, не так ли? — Я не хочу говорить об этом, доктор Вули. — Но ведь это так, не правда ли? — До тех пор, пока мы будем любить друг друга. — Гм! Но ведь вы будете любить его какое-то время, — вы не станете этого отрицать, конечно? — Разумеется, но к чему этот разговор? Я приняла решение. — Речь идет лишь о том, чтобы вы еще немного подумали, — ласково продолжал доктор Вули, уже одним своим тоном обезоруживая Сюзанну и удерживая ее на месте, — чтобы не торопились и хорошенько взвесили все обстоятельства. Ваша матушка любит вас, и в глубине души, я убежден, вы тоже любите ее, несмотря на эту небольшую размолвку. Я и подумал, что во имя сохранения добрых чувств вы могли бы пойти на некоторые уступки, — ну, скажем, подождать полгода или даже год, и за это время как следует все обдумать. Мистер Витла, вероятно, не станет возражать. За такой срок чувства его к вам не изменятся. Что же до вашей матушки, то ей было бы легче, если бы она знала, что вы приняли решение не опрометчиво, а после зрелых размышлений. — Да, — с жаром воскликнула миссис Дэйл, — подожди и подумай, Сюзанна! Что значит один год? — Нет, — нетерпеливо ответила Сюзанна. — Весь вопрос в том, хочу я ждать или нет. А я не хочу. — Совершенно верно. Но все же вы могли бы принять мои слова в соображение. Согласитесь, что дело серьезное, под каким углом его ни рассматривай. Я не берусь это утверждать, но у меня такое чувство, что вы собираетесь совершить крупную ошибку. Опять-таки это только мое личное мнение. Вы имеете право судить по-своему. Я прекрасно понимаю, как вы на это смотрите, но общество, быть может, отнесется к такому шагу иначе, чем вы. Думать о мнении общества, Сюзанна, это, конечно, скучная материя, но все же нельзя с ним и не считаться. Сюзанна упрямо и устало смотрела на своих мучителей. Их доводы не доходили до нее. Она думала о Юджине и о своем решении. Оно вполне осуществимо. Какое ей дело до общества? Она незаметно все ближе и ближе подвигалась к двери и наконец приотворила ее. — Ну вот, как будто и все, — сказал доктор Вули, убедившись, что она твердо решила уйти. — До свидания, Сюзанна. Я рад, что повидал вас. — До свидания, доктор Вули, — ответила она. Она вышла, и миссис Дэйл в отчаянии заломила руки. — Что же мне делать? — воскликнула она, глядя на своего советчика. Доктор Вули подумал о том, как глупо давать советы людям, которые не желают их принимать. — Не стоит волноваться, — сказал он, немного помолчав. — Я убежден, что она подождет, если вы правильно подойдете к ней. Сейчас она по какой-то причине крайне взвинчена и упорствует. Вы слишком на нее нажимаете. Действуйте мягче! Пусть она сама все хорошенько обдумает. Советуйте ждать, но не настаивайте. Силой вы ничего не добьетесь. У нее слишком непреклонная воля. Слезы тоже не помогут. Излишняя чувствительность раздражает. Уговорите ее еще подумать или лучше предоставьте это ей самой и просите только не торопиться. Если бы вам удалось увезти ее недели на три или, еще лучше, на несколько месяцев, чтобы она уехала по доброй воле и могла бы отдохнуть и от ваших доводов и от его влияния, если бы она сама попросила его оставить ее на некоторое время, все было бы хорошо. Вряд ли она уйдет к нему. Она думает, что сделает это, но мне что-то не верится. Как бы там ни было, сохраняйте спокойствие. И уговорите ее уехать из Нью-Йорка. — А можно было бы, доктор, запереть ее в какой-нибудь санаторий или в дом для душевнобольных, пока она не образумится? — На свете все можно, но я бы сказал, что это наименее благоразумно из всего, что вы могли бы сделать. Насилие в таких случаях ни к чему не приводит. — Я знаю, но что, если она не одумается? — Право же, миссис Дэйл, об этом рано судить. Вы не пробовали говорить с ней спокойно. Вы только ссоритесь. От этого мало пользы. Вы все дальше и дальше отходите друг от друга. — Какой у вас практический ум, доктор, — польстила ему миссис Дэйл, несколько успокоенная его словами. — Дело не в практичности, а в интуиции. Будь я человеком практического ума, я бы не посвятил себя медицине. Он направился к двери, и его старческое тело под действием собственной тяжести, казалось, оседало на каждом шагу. Но у порога он еще раз обернулся. Усталые серые глаза чуть заискрились, когда он сказал: — Ведь и вы когда-то любили, миссис Дэйл? — Да, — ответила она. — Вы помните, что вы тогда переживали? — Да. — Так будьте же благоразумны. Постарайтесь вспомнить ваши собственные чувства, ваше собственное поведение. Вполне вероятно, что вам никто не ставил преград. А она этого не может сказать про себя. Она готова сделать ошибку. Мы хотим воспрепятствовать этому, и нет сомнения, что нам это удастся. Будьте же терпеливы. Ведите себя спокойнее. Поступайте по отношению к другим так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Шаркая ногами, он прошел через веранду и спустился по широким ступенькам к ожидавшей его машине. — Мама, — сказала Сюзанна после ухода доктора Вули, когда миссис Дэйл зашла к ней, чтобы посмотреть, не смягчилась ли она немного, и опять попросить ее не торопиться с решением. — Мама, зачем ты позоришь себя и меня? Для чего тебе понадобилось рассказывать все доктору Вули? Этого я тебе никогда не прощу. Я не считала тебя способной на это. Я думала, у тебя больше гордости, больше собственного достоинства. Надо было видеть Сюзанну в эту минуту, когда она стояла в своем просторном будуаре, спиной к овальному зеркалу туалета и лицом к матери, чтобы понять, чем она приворожила Юджина. Комната была вся залита ярким солнцем, и девушка в своем белом с голубым утреннем платье казалась на этом фоне лучезарной и легкой. — Пойми, Сюзанна, — сказала миссис Дэйл совсем убитым голосом, — я просто не могу больше. Нужно же мне с кем-нибудь посоветоваться. Ведь я совершенно одна, если не считать тебя, Кинроя и детей, — в разговоре с Сюзанной и Кинроем она называла Адель и Нинетту детьми, — а им мне, конечно, не хотелось бы говорить.Ты всегда была единственным человеком, с которым я делилась. Но раз ты пошла против меня… — Вовсе я не иду против тебя, мама! — Ах, вот как. Но не будем об этом говорить, Сюзанна. Ты разбила мне сердце! Ты меня буквально убиваешь. Мне необходимо было с кем-то посоветоваться. Доктор Вули наш старый друг. Он такой славный и отзывчивый. — Ах, мама, я знаю, но к чему все это? Какая может быть польза от его слов? Разве он может меня переделать? Просто ты рассказываешь обо всем человеку, которому совершенно незачем это знать. — Но я думала, что он может оказать на тебя влияние, — взмолилась миссис Дэйл. — Я думала, что ты послушаешься его. О боже, боже! Как я устала! Лучше бы мне не дожить до этого! — Ну вот, опять ты начинаешь, мама, — уже более мягким тоном сказала Сюзанна. — Я не понимаю, почему ты в таком отчаянии. Я собираюсь устраивать свою жизнь, а не твою. Ведь это я так буду жить, а не ты. — Разумеется, но то-то и пугает меня. Что у тебя за жизнь будет, если ты это сделаешь, если ты себя погубишь? Пойми только, что ты задумала, какой тебя ждет ужас! Никогда ты не будешь с ним жить, он слишком стар для тебя и слишком избалован женщинами, ему нельзя верить. Он скоро тебя разлюбит и ты останешься одна — незамужняя женщина, возможно, с младенцем на руках, отверженная обществом. Куда ты тогда денешься? — Мама, — спокойно сказала Сюзанна, и ее розовые губы раскрылись, как у ребенка, — я обо всем этом думала. Я прекрасно все понимаю. Но мне кажется, что вообще из-за этого поднимают слишком много шуму — и не только ты, но и другие. Ты предусматриваешь все, что только может случиться, но ведь не всегда это случается. Я убеждена, что многие так поступают, и никто не придает этому такого значения. — Да, в книгах, — сказала миссис Дэйл. — Я знаю, откуда это у тебя. Просто начиталась романов. — Пусть так, но все равно будет по-моему. Я твердо решила. Пятнадцатого сентября я перееду к мистеру Витле, и лучше бы ты теперь же с этим примирилась. Разговор происходил десятого августа. — Сюзанна, — сказала миссис Дэйл, не сводя с дочери пристального взгляда, — я никогда не поверила бы, что ты способна говорить со мной таким тоном. Ничего подобного ты не сделаешь! Как ты можешь быть такой упрямой? Откуда в тебе это железное упорство? Так, значит, тебе безразлично все, что я сказала про Адель, и Нинетту, и Кинроя? Неужели у тебя совершенно нет сердца? Почему ты не хочешь подождать, как советует и доктор Вули, каких-нибудь полгода или год? Почему ты очертя голову решаешься на эту сумасбродную затею? Ведь это такой безумный, дикий эксперимент. Ты, в сущности, даже не дала себе труда подумать, у тебя не было на это времени. — О нет, мама, я очень много думала. Я знаю, что делаю. Я говорю: пятнадцатого сентября, так как обещала Юджину, что не заставлю его ждать дольше, и я сдержу свое обещание. Я хочу уйти к нему. Уже прошло целых два месяца с тех пор, как мы с ним впервые об этом заговорили. Миссис Дэйл передернуло. Ей и в голову не приходило уступить дочери, но этот срок, который с такой решительностью поставила Сюзанна, показывал, что надо действовать, не теряя ни секунды. Ее дочь ненормальна, вот и все. Времени оставалось в обрез. Необходимо было увезти Сюзанну — лучше всего за границу — или же запереть где-нибудь, причем сделать это так, чтобы не слишком восстановить ее против себя.Глава 88
Следующим шагом миссис Дэйл в этой борьбе был разговор с Кинроем, который заявил, как юный рыцарь, что немедленно пойдет к Юджину и убьет его. К счастью, миссис Дэйл сумела помешать этому, так как на сына она имела больше влияния, чем на Сюзанну. Она объяснила ему, какой это вызовет неописуемый скандал, и посоветовала действовать тонко и осторожно. Кинрой был очень привязан к сестрам, особенно к Сюзанне и Адели, и рад был выступить в роли их защитника. Обуреваемый рыцарскими чувствами, он торжественно обещал, что поможет матери, и они долго говорили о том, как ночью усыпить Сюзанну хлороформом и, выдавая за больную, увезти на машине в штат Мэн, или в Адирондакские горы, или куда-нибудь в Канаду. Было бы утомительно приводить здесь все дальнейшие перипетии борьбы. По прошествии условленных пяти дней Юджин несколько раз пытался звонить Сюзанне по телефону, но все его попытки поговорить с ней были пресечены Кинроем, успешно выполнявшим теперь роль частного сыщика. Сюзанна хотела, чтобы Юджин принял участие в семейном совете, но миссис Дэйл решительно этому воспротивилась. Она чувствовала, что каждая новая встреча влюбленных только укрепит связывающие их узы. Кинрой, по собственной инициативе, написал Юджину, что ему все известно и что он убьет его, если тот осмелится хотя бы близко подойти к их дому. Сюзанна догадалась, что мать держит ее в плену, и отправила Юджину письмо, которое ее горничная тайком опустила в ящик. Мать, писала она, рассказала обо всем доктору Вули и Кинрою. Она, Сюзанна, решила пятнадцатого сентября уйти из дому, если мать до этого времени не даст согласия на их тайный союз. Кинрой грозится убить Юджина, но это, конечно, ерунда. Просто Кинрой возбужден. Мать настаивает, чтобы она поехала с ней на полгода в Европу и за это время все хорошенько обдумала. Но она этого не сделает. Она никуда не уедет, и ему нечего за нее опасаться, если даже он несколько дней не будет получать от нее известий. Надо подождать, пока буря немного уляжется. «Я буду все время здесь, но, пожалуй, нам лучше сейчас не встречаться. Когда настанет время, я сама приду к Вам, но увидимся мы раньше, как только представится возможность». Юджина изумил и страшно огорчил такой оборот дела. Но уверенность Сюзанны внушала ему надежду, что все кончится хорошо. Ее мужество придавало ему силы. Сколько в ней спокойствия, как твердо она идет к своей цели! Какой клад эта девушка. Это послужило началом их переписки, но спустя несколько дней Сюзанна посоветовала ему прекратить ее. Споры между нею, матерью и братом все продолжались. Препятствия, которые ставились ей на каждом шагу, озлобили ее, и она не переставала препираться с матерью, причем теперь затевала ссоры, как правило, сама Сюзанна. — Нет, нет и нет, — неизменно повторяла она. — Я не уеду. Ну и что же? Как это глупо! Оставь меня в покое! Я не хочу об этом говорить! Миссис Дэйл все старалась придумать, как бы тайком увезти Сюзанну. Усыпить ее хлороформом, как она вначале предполагала, было делом далеко не простым. К тому же это значило подвергнуть Сюзанну опасности, она могла умереть под наркозом. Нельзя прибегать к таким мерам без врача. И слугам это покажется странным. Миссис Дэйл боялась, что они и так уже многое подозревают. Наконец она решила сделать вид, будто уступает дочери, но только просит ее съездить с ней в Олбэни к ее опекуну, вернее, юридическому представителю опекунской конторы Маркуорда, где хранилась принадлежащая Сюзанне доля наследства, оставленного покойным Вестфилдом Дэйлом. Сюзанне предстояло посоветоваться со своим опекуном насчет земельных участков в западной части Нью-Йорка, принадлежавших ей лично, и заодно подписать документ об отказе от всяких прав на какое-либо наследство после матери. А затем, как заявила миссис Дэйл, она даст ей полную свободу, предварительно составив завещание, в котором будет указано, что старшая дочь лишается наследства. По возвращении в Нью-Йорк Сюзанна может делать что хочет, мать не будет даже видеться с ней. Чтобы внушить Сюзанне доверие, Кинрою было поручено рассказать сестре про намерения матери и просить ее ради нее самой, ради матери и остальных детей не соглашаться на этот разрыв. Миссис Дэйл стала вести себя совершенно по-иному. Кинрой так мастерски справился со своей задачей, а в поведении и разговорах матери появилось столько равнодушия и покорности судьбе, что Сюзанна почти поддалась обману. Она поверила, что в душе ее мама произошел полный переворот и что она, пожалуй, действительно решила сделать так, как говорил Кинрой. — Мне все равно, — ответила Сюзанна на уговоры брата, — пусть лишит меня наследства. Я охотно подпишу все документы. Если мама хочет, чтобы я навсегда ушла от нее, я уйду. По-моему, она очень глупо вела себя во всей этой истории, да и ты тоже. — Напрасно ты идешь на это, — сказал Кинрой, в восторге от того, что приманка проглочена. — Мама в полном отчаянии. Она хотела бы, чтобы ты выждала полгода или год, прежде чем на что-либо решаться, но если ты будешь настаивать, она потребует, чтобы ты отказалась от наследства. Я пытался отговорить ее. Мне будет очень больно, если ты уйдешь от нас. Неужели ты не передумаешь, Сюзанна? — Я уже сказала, Кинрой. Не приставай ко мне. Кинрой отправился к матери и сообщил ей, что Сюзанна по-прежнему упорствует, но что с поездкой дело, кажется, выгорит. Она сядет в поезд, уверенная, что едет в Олбэни, а очутившись в закрытом вагоне, едва ли догадается о чем-либо до утра. К этому времени они будут уже далеко в Адирондакских горах. Заговор частично удался. Миссис Дэйл, как и Кинрой, разыграла свою роль как по нотам. Юной пленнице уже чудилась свобода. Они взяли с собой только саквояж, и Сюзанна довольно охотно села в машину, а затем и в поезд, поставив лишь условием, что ей будет разрешено позвонить Юджину по телефону и объяснить, в чем дело. И мать и Кинрой стали возражать, но вынуждены были уступить, так как Сюзанна категорически заявила, что иначе не поедет. Она позвонила ему в издательство (это было в четыре часа дня, а поезд уходил в пять тридцать) и рассказала обо всем. Юджин сразу заподозрил ловушку и так и сказал Сюзанне, но она ответила, что этого не может быть. Мать никогда не лгала ей, брат тоже. У нее нет никаких оснований им не верить. — Юджин говорит, что это ловушка, мама, — сказала она, поворачиваясь к матери, стоявшей тут же возле телефона. — Это правда? — Ты сама прекрасно знаешь, что это неправда, — ответила миссис Дэйл, не сморгнув. — Но если и так, все равно у вас ничего не выйдет, — громко сказала Сюзанна, чтобы Юджин мог ее услышать. Ее решительный тон успокоил Юджина, и он перестал возражать. Вот удивительная девушка — умеет подчинять себе и мужчин и женщин. — Ну что ж, поезжайте, если думаете, что все в порядке, — сказал он. — Но мне будет очень тоскливо без вас. Я и так измучился, а теперь и вовсе не буду знать, что с собой делать. Скорей бы проходило время! — Теперь уже недолго ждать, Юджин, — ответила она. — Всего несколько дней. В четверг я вернусь, и вы сможете зайти ко мне. — В четверг днем? — Да. Мы вернемся в четверг утром. Она повесила наконец трубку, и они сели в машину, а час спустя — в поезд.Глава 89
Это был канадский экспресс, и до Олбэни он шел без остановок. Когда поезд приближался к этому городу, Сюзанна как раз ложилась спать, а так как они ехали в салон-вагоне, предоставленном в их распоряжение, по словам миссис Дэйл, самим президентом дороги, то проводник не пришел объявить об остановке, что сразу же раскрыло бы Сюзанне их карты. Поезд остановился в Олбэни в начале одиннадцатого. Вагон, в котором они находились, был самый последний, и, хотя снаружи слышались голоса, разобрать слова было невозможно. Сюзанна уже легла и решила, что это, по всей вероятности, Покипси или еще какая-нибудь промежуточная станция. К тому же миссис Дэйл объяснила, что, так как они поздно прибывают на место, вагон их будет отведен на запасный путь и там простоит до утра. Тем не менее и миссис Дэйл и Кинрой оставались начеку, чтобы в полной готовности встретить любой решительный шаг со стороны Сюзанны. Поезд мчался, а Сюзанна крепко спала. Так наступило утро. Они пересекли Берлингтон, крайнюю северную оконечность штата Вермонт. Проснувшись и заметив, что поезд все еще едет, Сюзанна удивилась — что бы это могло значить? Мимо окна проплывали горы, вернее, высокие, поросшие соснами холмы, горные речки, над которыми они с грохотом проносились по высоким подвесным мостам, и выжженные лесными пожарами пространства, на которых одиноко и печально торчали почерневшие стволы деревьев, протягивая к небу обгорелые сучья. Сюзанна вдруг почувствовала что-то неладное и вышла из ванной узнать, в чем дело. — Где это мы, мама? — спросила она. Миссис Дэйл сидела, откинувшись в удобном плетеном кресле, и читала, или, вернее, делала вид, будто читает какую-то книгу. Кинрой вышел на заднюю площадку вагона полюбоваться местностью, но скоро вернулся, обеспокоенный мыслью о том, что сделает Сюзанна, обнаружив, куда она попала. В вагон, тайком от Сюзанны, была еще накануне погружена корзина с провизией, и миссис Дэйл собиралась устроить завтрак. Горничную она не рискнула взять с собой. — Не знаю, — ответила она равнодушным тоном, глядя в окно на обгорелый лес. — Кажется, мы должны были быть в Олбэни в первом часу ночи? — сказала Сюзанна. — Да, верно, — ответила миссис Дэйл, собираясь с духом перед неизбежным признанием. В это время в вагон вернулся Кинрой. — В таком случае… — начала было Сюзанна и остановилась. Она бросила взгляд в окно, а потом в упор посмотрела на мать. Заметив растерянное, взволнованное выражение ее лица, она поняла, что это обман и что ее куда-то увозят против ее воли — но куда? — Это ловушка, мама, — сказала она торжественно и холодно. — Ты солгала мне, и ты и Кинрой. Мы едем вовсе не в Олбэни… Куда мы едем? — Сейчас я тебе ничего не скажу, — спокойно ответила миссис Дэйл. — Прими сначала ванну, а потом поговорим. Совершенно безразлично, куда мы едем. Если непременно хочешь знать, мы едем в Канаду, и скоро будем там. Ты узнаешь точно, где мы, когда приедем на место. — Мама, — сказала Сюзанна, — это низость. И ты об этом пожалеешь. Теперь я поняла. Мне следовало бы раньше догадаться, но я не могла поверить, что ты способна мне лгать, мама. Я прекрасно понимаю, что сейчас ничего не могу сделать, но со временем ты об этом пожалеешь. Такими методами ты от меня ничего не добьешься. И ты сама отвезешь меня обратно в Нью-Йорк. Она устремила на мать пристальный взгляд, исполненный такой властной решимости, что миссис Дэйл, взволнованная и усталая, почувствовала, что ей, наверно, придется уступить. — Сюзанна, что ты говоришь? — вмешался Кинрой. — Мама и без того совсем голову потеряла. Она ничего другого не могла придумать. — Замолчи, Кинрой, — ответила Сюзанна. — Я не хочу с тобой разговаривать. Ты меня обманул, а ведь ты знаешь, что я никогда не обманывала тебя. Мама, ты меня удивляешь, — снова обратилась она к матери. — Подумать только, что ты способна лгать мне! Ну, хорошо. Сегодня ты взяла верх. Но рано или поздно победа будет на моей стороне. Ты выбрала неправильный путь. Увидишь, чем это кончится. Миссис Дэйл вздрогнула, чувствуя, что холодеет от страха. Смелость и упорство этой девушки ставили ее в тупик. Откуда у нее столько мужества? — думала она. Вероятно, от покойного отца. Она буквально трепетала перед этим спокойствием, бесстрашием и твердостью характера, которые выработались у ее дочери под влиянием последних трудных дней. — Не говори со мной так, Сюзанна, — стала она просить. — Я сделала это ради твоего же блага, и ты прекрасно меня понимаешь. Зачем ты мучишь меня? Ты знаешь, что я ни за что не отдам тебя этому человеку. Этого не будет. Я готова весь мир перевернуть! Я погибну в этой борьбе, но не отдам тебя! — В таком случае тебе придется погибнуть, мама, потому что я сделаю так, как сказала. Ты можешь везти меня в этом вагоне, пока он не остановится, но я из вагона не выйду. Я поеду обратно в Нью-Йорк. Теперь подумай, много ли ты этим достигла! — Сюзанна, я, право, начинаю верить, что ты лишилась рассудка. Ты и меня свела с ума, хотя еще не настолько, чтобы я не могла отличить, что хорошо, а что дурно. — Мама, я больше не скажу ни тебе, ни Кинрою ни слова. Хочешь, вези меня обратно в Нью-Йорк, не хочешь, не надо, но из вагона я не выйду. Я не желаю больше выслушивать всякий вздор и неправду! Один раз ты обманула меня, но больше тебе это не удастся. — Ну что ж, — ответила миссис Дэйл, между тем как поезд все летел вперед. — Ты сама меня к этому вынудила. Все это вызвано только твоим поведением. Если бы ты пожелала быть благоразумнее, подождать и хорошенько подумать, мы с тобой не были бы сейчас здесь. Я не допущу, чтобы ты сделала то, что задумала. Можешь оставаться в вагоне, если угодно, но обратно в Нью-Йорк тебе без денег не попасть. Уж я об этом поговорю с начальником станции. Сюзанна задумалась. У нее не было ни денег, ни платья, кроме того, что на ней. Она находилась в незнакомой местности и почти никогда не путешествовала одна. Все это несколько ослабило ее решимость, но это вовсе не значило, что она сдалась. — Как же ты собираешься вернуться? — возобновила свои уговоры миссис Дэйл после небольшой паузы, так как Сюзанна сидела, не обращая внимания на мать. — У тебя нет денег. Уж не намерена ли ты устроить скандал? Единственное, что я хочу, это чтобы ты пожила здесь несколько недель, — чтобы у тебя было время подумать вдали от этого человека. Я не хочу, чтобы ты ушла к нему пятнадцатого сентября. Я не позволю тебе это сделать. Почему ты так неблагоразумна? Ты могла бы отлично провести время. Ты любишь ездить верхом — пожалуйста. Я тоже буду ездить с тобой. Можешь пригласить кого-нибудь из подруг. Я велю прислать тебе твои платья. Только побудь здесь некоторое время и подумай хорошенько о том, что ты хочешь сделать. Сюзанна отказывалась разговаривать. Она размышляла о том, как ей поступить дальше. Юджин там, в Нью-Йорке. В четверг он будет ждать ее. — Конечно, Сюзанна, — вставил Кинрой, — отчего бы тебе не послушаться маминого совета? Она искренне желает тебе добра. Ведь то, что ты задумала, ужасно! Отчего не поступить так, как велит здравый смысл, и не остаться здесь месяца на три-четыре? — Не будь попугаем, Кинрой! Я все это уже слышала от мама. Когда миссис Дэйл упрекнула Сюзанну за ее тон, она ответила: — Ах, замолчи, мама, я больше на желаю слушать! Ты меня ни в чем не убедишь. Ты мне солгала. Ты сказала, что мы едем в Олбэни. Ты заманила меня сюда. Так потрудись теперь отвезти меня обратно! Ни о какой Канаде не может быть и речи. Я не поеду никуда, кроме Нью-Йорка. Давай лучше прекратим этот разговор. Поезд все мчался вперед. Был подан завтрак. В Монреале салон-вагон перевели на колею Канадско-Тихоокеанской железной дороги. Миссис Дэйл не переставала упрашивать Сюзанну, но та молчала и даже отказалась от еды. Она сидела и смотрела в окно, думая о том, как неожиданно все повернулось. Где сейчас Юджин? Что он делает? Что он подумает, если она не вернется в Нью-Йорк? Она не сердилась на мать, она чувствовала презрение к ней. Этот обман вызывал в ней досаду и отвращение. Она не испытывала безумного желания быть с Юджином, она просто думала о том, что все равно к нему вернется. Он рисовался ей таким, как она сама, — сильным, терпеливым, находчивым, готовым, если нужно, прожить некоторое время и без нее — хотя о себе она тоже имела довольно смутное представление. Ей очень хотелось увидеть его, но в сущности гораздо больше хотелось дать ему возможность увидеть ее, раз ему этого так сильно хочется. Каким чудовищем должна казаться ему ее мать! В полдень они прибыли в Джуинату, а в два находились уже в пятидесяти милях к западу от Квебека. Сюзанна решила было совсем не притрагиваться к пище, чтобы досадить матери, но потом поняла, что это глупо, и села за стол. Своим поведением она создавала чрезвычайно тяжелую атмосферу для матери и брата, и те увидели, что ничего не добились, а только перенесли свои испытания в другое место. Ее воля не была сломлена. В вагоне дышалось, как перед грозой. — Сюзанна, — обратилась к ней миссис Дэйл, — почему ты не хочешь со мной разговаривать? Почему ты отказываешься понять, что я делаю это для твоего же блага? Я хочу дать тебе время подумать. Поверь мне, я вовсе не желаю применять насилие, но войди и ты в мое положение… Сюзанна молча глядела в окно на мелькавшие мимо зеленые поля. — Сюзанна, неужели ты не понимаешь, что этого никогда не будет? Неужели ты не можешь понять, какой это ужас? — Мама, прошу тебя, оставь меня в покое. Ты сделала то, что, по-твоему, должна была сделать. А теперь оставь меня. Ты мне лгала, мама. Я не хочу с тобой говорить. Я требую, чтобы ты отвезла меня обратно в Нью-Йорк. Тебе ничего другого не остается. Не приставай ко мне с объяснениями, они все равно не помогут. В груди миссис Дэйл клокотала буря, но она чувствовала свое полное бессилие перед дочерью. К Сюзанне нельзя было и подступиться. Прошло еще несколько часов, и на какой-то маленькой станции Сюзанна попыталась сойти с поезда, но миссис Дэйл и Кинрой буквально силой удержали ее. При этом чувствовали они себя прескверно, ибо не могли не видеть, что им так и не удалось сломить волю Сюзанны. Она наотрез отказывалась с ними считаться. Миссис Дэйл заплакала. Потом лицо ее окаменело. Потом начались мольбы и заклинания. Сюзанна молчала и надменно отворачивалась. Когда поезд остановился у Три-Риверс, Сюзанна заявила, что не тронется с места. Миссис Дэйл умоляла, грозила позвать на помощь, говорила, что объявит Сюзанну невменяемой. Ничто не помогало. Вагон отцепили, после того как кондуктор спросил миссис Дэйл, намерена ли она сойти на этой станции. Миссис Дэйл была вне себя. Ее душили ярость, стыд и сознание своего бессилия. — Как ты ведешь себя! — набросилась она на Сюзанну. — Какой демон в тебя вселился! Ну что ж, останемся жить в вагоне! Посмотрим, что из этого выйдет. Она знала, что это невозможно, так как вагон был предоставлен ей лишь на один рейс, и на другой день его нужно было вернуть в Нью-Йорк. Вагон перевели на запасный путь. — Я умоляю тебя, Сюзанна! Прошу тебя, не делай из нас всеобщего посмешища! Какой срам! Что подумают люди! — Мне все равно, что они подумают. — Но ведь ты не можешь здесь оставаться! — Могу. — Ну перестань, Сюзанна, выйдем из вагона, пожалуйста, выйди! Ведь мы здесь не век проживем. Я отвезу тебя обратно в Нью-Йорк. Обещай мне, что пробудешь тут месяц, и я даю тебе честное слово, что после этого отвезу тебя обратно в Нью-Йорк. Мне опротивела вся эта комедия! Я не вынесу этого! Потом можешь делать что угодно! Только останься здесь на месяц. — Нет, мама, — ответила Сюзанна. — Ты опять не сдержишь слова. Ты меня уже раз обманула. И теперь снова лжешь. — Клянусь тебе, я не лгу! Верно, я раз солгала, но я была в полном отчаянии, Сюзанна, прошу тебя, ну пожалуйста! Будь благоразумна. Пожалей меня хоть немного. Я отвезу тебя обратно, но подожди хотя бы, пока придут наши вещи. Мы не можем ехать в таком виде. Она послала Кинроя за начальником станции и объяснила, что им нужен экипаж, который доставил бы их в Мон-Сесиль, в снятый ими в этом округе охотничий домик. Она также вызвала врача, — эта мысль пришла ей в голову в самую последнюю минуту, — которому решила заявить, что ее дочь в невменяемом состоянии. В крайнем случае она позовет на помощь и ее силою выведут из вагона. Она так и сказала Сюзанне. Но та в ответ лишь метнула в ее сторону яростный взгляд. — Зови врача, мама, — сказала она. — Я вытерплю и это. Посмотрим, чего ты добьешься. Но ты еще пожалеешь. Ты будешь горько раскаиваться в каждой своей глупости. Когда прибыл экипаж, Сюзанна отказалась выйти из вагона. Кучер, местный житель, француз по происхождению, подошел к вагону, чтобы доложить о себе. Кинрой пытался успокоить сестру, он обещал, что сам поможет все уладить, если она согласится спокойно поехать в охотничий домик. — Вот что я тебе скажу, Сюзи. Если в течение этого месяца вы с мама не придете к какому-то соглашению и ты все еще будешь рваться обратно, я пришлю тебе денег на дорогу. Я завтра или послезавтра поеду в Нью-Йорк — так хочет мама, — но я даю слово помочь тебе. Больше того, я уговорю мама привезти тебя обратно через две недели. Ты знаешь, что я раньше никогда не лгал тебе и впредь никогда не буду. Прошу тебя, поедем. Давай сядем в экипаж. Я уверен, что здесь очень хорошо. Миссис Дэйл сняла охотничий домик у Кэткартов, договорившись с ними обо всем по телефону. Он был полностью меблирован и готов для приема гостей, даже растопка была принесена в комнаты, и оставалось только разжечь камины. Там был водопровод, горячая вода, подававшаяся из котельной, ацетиленовые лампы, а также изрядный запас провизии. Привратник, с которым можно было снестись по телефону со станции, по первому сигналу должен был вызвать прислугу. Миссис Дэйл успела обо всем договориться с ним еще до того, как прибыл экипаж. Дороги находились в таком скверном состоянии, что пользоваться автомобилем было невозможно. Станционный агент, предвкушая щедрое вознаграждение, изо всех сил старался услужить. Сюзанна слушала Кинроя, но не верила ему. Она вообще теперь никому не верила, кроме Юджина, а он был далеко и не мог ей ничего посоветовать. Все же, раз у нее не было денег, а мать грозила позвать врача, она решила, что лучше, пожалуй, не устраивать скандала. Миссис Дэйл, казалось, совсем перестала владеть собой. Лицо, ее осунулось и стало белее полотна, она была страшно взволнована; у Кинроя нервы тоже были натянуты донельзя. — Даешь ты мне честное слово, — обратилась Сюзанна к матери, когда та возобновила свои уговоры, в какой-то мере подтверждавшие обещания Кинроя, — что если я соглашусь пробыть это время здесь, ты через две недели отвезешь меня в Нью-Йорк? Это позволило бы ей вернуться в город в пределах обещанного Юджину срока, а раз так, то задержка не играла, в сущности, большой роли, при условии, конечно, что ей можно будет переписываться со своим возлюбленным. Мать поступила с ней глупо и деспотично, но с этим можно было примириться. Не видя иного средства для водворения мира, миссис Дэйл дала обещание. Быть может, если продержать Сюзанну в полном покое в течение двух недель, этого окажется достаточно. Пусть поразмыслит в совершенно другой обстановке. В Нью-Йорке слишком нервная атмосфера, а там, в охотничьем домике, царит тишина и покой. Поспорив еще немного, Сюзанна согласилась наконец сесть в экипаж, и они поехали в сторону Монт-Сесиля в охотничий домик Кэткартов, носивший название «Часок-другой», где в это время года не было ни живой души.Глава 90
Домик Кэткартов, длинное, двухэтажное строение, стоял на склоне лесистой горы, на полпути к вершине. Это была одна из тех летних резиденций привилегированного класса, находящихся неподалеку от нетронутых дебрей, где все создает иллюзию жизни на лоне девственной природы, неисследованной и полной опасностей, хотя на самом деле они расположены достаточно близко от таких больших городов, как Квебек и Монреаль, чтобы можно было спокойно наслаждаться всеми благами цивилизации, не боясь неприятных сюрпризов. Просторные комнаты были убраны со вкусом и по-летнему просто: плетеные стулья и кресла, деревянные скамьи в нишах окон, резные книжные полки, огромные, красиво облицованные камины, окна со свинцовым переплетом, открывающиеся наружу, низкие кушетки со множеством подушек, великолепные шкуры на полу. На стенах висели охотничьи трофеи — оленьи рога, лисьи, медвежьи и другие шкуры, чучела гагар и орлов. Кэткарты проводили лето где-то в другом месте и с удовольствием дали свой охотничий домик такой особе, как миссис Дэйл. К ее прибытию в «Часок-другой» сторож Пьер, старый местный житель, потомок первых поселенцев, изъяснявшийся на ломаном английском языке и одетый в костюм землистого цвета, под которым, наверно, скрывалось белье не первой свежести, уже успел растопить камины и теперь возился в котельной. Жена его, маленькая крепкая женщина в сборчатой юбке, что-то готовила на кухне. В кладовой привратника хранились богатые запасы мяса, муки, масла и прочей снеди. В помощь хозяйке была приглашена дочь соседа-охотника, обычно служившая у Кэткартов горничной. Миссис Дэйл принялась устраиваться на новом месте, но споры не утихали ни на минуту, так как Сюзанна продолжала стоять на своем. В четверг Юджин, остававшийся в Нью-Йорке, тщетно дожидался вестей от Сюзанны. Он позвонил по телефону, но ему ответили, что миссис Дэйл нет в городе и что она не скоро вернется. Наступила пятница — от Сюзанны ни слова. В субботу то же. Он послал ей заказное письмо, но оно вернулось с пометкой «адресат выбыл». Тогда ему стало ясно, что его подозрения были правильны и что Сюзанна попала в ловушку. Он стал нервничать и волноваться, его мучили всевозможные страхи. Мрачный, сидел он за своим письменным столом и барабанил пальцами по стеклу, тщетно стараясь сосредоточиться на десятках мелочей, постоянно требовавших его внимания. Иногда он бесцельно бродил по улицам, погруженный в свои думы. Подчиненные спрашивали его мнения относительно книг, реклам и издательских планов, но он неспособен был даже как следует вслушаться в то, что ему говорили. — Наш шеф в последнее время чем-то сильно озабочен, — заметил Картер Хейз, заведующий отделом рекламы, в разговоре с заведующим отделом распространения. — Он даже не слышит, что ему говорят. — Да, я и сам это заметил, — ответил тот. Они вместе вышли из приемной, примыкавшей к кабинету Юджина, и под руку направились по устланному ковром коридору к лифту. — Что-то с ним неладное творится. Ему следовало бы отдохнуть. Он слишком много работает. Но Хейз вовсе не находил, что Юджин слишком много работает. За последние четыре-пять месяцев его невозможно было поймать. Юджин приходил утром в десять или в половине одиннадцатого, часто уходил в два или в три, во время завтрака у него были деловые свидания, не имевшие никакого отношения к его обязанностям в издательстве, а вечером он отправлялся на званый обед или уезжал куда-нибудь в такое место, где его нельзя было разыскать. Несколько раз, когда Колфакс посылал за ним, оказывалось, что Юджина нет на месте, а иногда Колфакс сам приходил к нему в кабинет и не заставал его. Он не проявлял недовольства — Юджин имел полное право располагать своим временем, — но считал, что такое поведение не в интересах самого Юджина как директора издательства: ведь ему приходится разрешать множество вопросов. Только человек исключительных способностей мог бы справиться с таким делом, не отдавая ему все свое время. Эта мысль, конечно, не пришла бы Колфаксу в голову, будь Юджин его компаньоном, как другие его сотрудники на других предприятиях, — но так как Юджин был только служащим, Колфакс не мог смотреть на него иначе, как на человека, обязанного все свое время отдавать делам издательства. Уайту, например, ничего не нужно было, кроме работы. Он всегда был на месте, всегда начеку, он добросовестно относился к своим обязанностям, нисколько не зазнавался, работал спокойно и со знанием дела. При каждом удобном случае он шел советоваться с Колфаксом, тогда как Юджин не имел ни малейшего желания бегать по всяким пустякам к начальнику; он предпочитал действовать на свой страх и держался в высшей степени независимо. Но не одно это вредило Юджину. Постепенно по издательству начал распространяться слух, что Витла принимает участие в строительной «Компании Синее море», о которой было много разговоров в городе, главным образом в финансовых кругах. Колфакс тоже слышал об этой компании. Он интересовался ее планами, так много обещавшими в смысле роскоши и комфорта. Пока что была осуществлена лишь незначительная часть того живописного целого, которое было изображено на цветных иллюстрациях к брошюрке в два листа (творение Юджина), но даже то, что было сделано, в достаточной степени свидетельствовало о грандиозных масштабах предприятия. Уже была проложена на милю с четвертью прекрасная набережная с парапетом, построен павильон под ресторан и дансинг, а также один из намеченных небольших отелей — все в точном соответствии с первоначальным архитектурным планом. Два-три десятка нарядных особняков, каждый на участке в сто пятьдесят квадратных метров, высились там, где раньше тянулось заросшее осокой болото. На трех или четырех островках был укреплен грунт, и на одном из них появилось небольшое здание яхт-клуба, — но все же строительной компании предстояло еще много потрудиться, чтобы довести до конца хотя бы треть намеченных работ. Юджин ничего не знал о финансовом положении компании, разве только в самых общих чертах. Он старался держаться в тени, хотя нередко завтракал с Уинфилдом, Уилибрэндом и другими причастными к этому делу лицами и не упускал случая обратить внимание своих знакомых на красоты и преимущества нового курорта. Он охотно рассказывал то одному, то другому, что «Синее море» скоро станет самым роскошным летним курортом в мире. Это давало известные результаты. Помогали и восторженные отзывы других заинтересованных лиц, но все же дела компании были далеко не блестящи. Для настоящего успеха «Синему морю» нужен был гораздо больший капитал, чем первоначальные десять миллионов. Строительство требовало солидной постановки дела, несовместимой с погоней за быстротой. Вскоре сотрудникам издательства, а потом и Колфаксу и Уайту стало известно, что Юджин серьезно заинтересован в этом предприятии, занимает в нем пост секретаря или какой-то другой и отдает работе по проектированию курорта значительную часть того времени, которое он мог бы использовать в интересах издательства. — Что вы на это скажете? — спросил Колфакс Уайта, когда тот однажды утром зашел к нему в кабинет. Сведения о Юджине были переданы Колфаксу заведующим типографией, одним из подчиненных Уайта, по его указанию. — Скажу то же, что и всегда, — ответил Уайт, пожимая плечами. — Он так же мало интересуется нашим делом, как и всяким другим. Оно ему нужно только как ступень, а когда он поднимется выше, тогда — прощайте. Что ж, с его точки зрения, это, может быть, и правильно, — каждый человек вправе стремиться к лучшему. Но нам от этого не легче. Нам было бы выгоднее иметь такого служащего, который не думал бы о том, как отсюда уйти. А лучше всего возьмитесь сами управлять делом. У вас, конечно, нет особого желания, но при том опыте, какой вы здесь приобрели, вы без труда найдете помощника, который прекрасно справится с работой под вашим руководством. Так что во всем этом есть и своя положительная сторона, — если что случится, вы можете обойтись и без Витлы. При хорошем помощнике вы будете руководить делом, не выходя из своего кабинета. Этот разговор происходил в самый разгар романа между Юджином и Сюзанной. В продолжение весны и лета все мысли Юджина были заняты девушкой — он измышлял способы увидеться с нею, обдумывал загородные поездки, вспоминал каждое ее движение, каждое слово и потому, как правило, мало внимания уделял служебным делам, которые, кстати, сильно ему приелись. Вот если бы средства, вложенные в строительную компанию, стали давать ощутимую прибыль в виде дивидендов, тогда он мог бы бросить службу. Когда Анджеле стало известно о его романе с Сюзанной, он стал подумывать о том, что некстати связал свое благосостояние с проектом «Синего моря». Если бы судьба судила ему остаться с Анджелой, тогда еще куда ни шло. Он мог бы терпеливо ждать и ни о чем не беспокоиться. Теперь же попытка превратить эти бумаги в наличные вызвала бы, вероятно, вмешательство суда, так как Анджела могла возбудить против него иск. Да и вообще необходимо было прилично обеспечить ее и сделать это совершенно официально. Кроме вложений в строительную компанию, у него не было ничего, если не считать жалованья, а теперь они так мало откладывали, что их сбережения не могли служить ему большой поддержкой в случае, если бы миссис Дэйл пожаловалась на него Колфаксу и тот порвал бы с ним. Потребует ли он, чтобы Юджин отказался от Сюзанны, или же попросту предложит ему подать в отставку? Юджин замечал, что в последнее время Колфакс далеко не так мил и не так восторгается его успехами, как бывало раньше, но это еще ровно ничего не доказывало. Нет ничего удивительного в том, что они надоели друг другу. Они реже бывали вместе в обществе, а когда им случалось там встречаться, Колфакс заметно сторонился его. Юджин подозревал, что Уайт строит против него козни. Что ж, если Колфакс переменится к нему, тут уж ничего не поделаешь. Что касается издательских дел, то начальству как будто не на что жаловаться — работа шла вполне успешно. Гроза разразилась позднее и совсем неожиданно, но до тех пор и семейство Дэйл, и Анджела, и сам Юджин претерпели немало терзаний и душевных мук. Отъезд Сюзанны явился первым ударом грома, за которым последовали другие. Не получая известий от Сюзанны, Юджин был вне себя. Впервые в жизни он познал, как убийственно невыносима и горька любовь, если нет уверенности и надежда ускользает. Душевные испытания сопровождались и настоящей физической болью в области солнечного сплетения, в том месте, которое в просторечии называется «под ложечкой». Он сильно страдал, — не меньше, надо полагать, чем тот юный спартанец, внутренности которого грызла лиса, спрятанная у него за пазухой. Он без конца думал о том, где Сюзанна, что она делает, а затем, видя, что работа не клеится, вызывал машину и уезжал куда-нибудь или же, нахлобучив шляпу, бесцельно бродил по улицам. Езда в автомобиле не приносила облегчения, так как мучительнее всего было сидеть на одном месте. Вечером он возвращался домой, располагался в своей студии у окна, а еще чаще на маленьком балкончике и смотрел на вечно меняющуюся панораму Гудзона, тоскуя по Сюзанне и думая, где она сейчас, увидит ли он ее когда-нибудь. Удастся ли ему одержать победу в этой борьбе, если они даже увидятся? О, ее прекрасное лицо, ее дивный голос, ее восхитительные глаза и губы! Волшебное прикосновение ее рук, ее стремительные движения! Он пробовал писать стихи и сочинил несколько неплохих сонетов «К возлюбленной». Он брал альбом и делал карандашом наброски, вспоминая ее в разных позах, запечатлевая всевозможные выражения ее прелестного лица, в надежде использовать впоследствии эти эскизы для задуманной им серии ее портретов. Его нисколько не смущало присутствие Анджелы, хотя у него хватило такта скрывать от нее эту работу. Ему было немного стыдно, что он так обращается с ней, но вид ее внушал ему не столько жалость, сколько досаду и неприязнь. Зачем только он женился на ней, — не переставал он себя спрашивать. Однажды вечером они сидели в студии. Лицо Анджелы было воплощенным отчаянием, ибо она постепенно начинала осознавать весь ужас своего положения. Видя, какой он мрачный и подавленный, она заговорила с ним: — Юджин, тебе не кажется, что ты мог бы побороть себя? Ты говоришь, что Сюзанну увезли обманом. Почему не примириться с этим? Подумай о своей карьере, Юджин. Подумай обо мне. Что будет со мной? Если ты захочешь, ты пересилишь себя. Неужели ты бросишь меня после стольких лет, прожитых вместе? Подумай все же, как я старалась, — разве я не была тебе хорошей женой, Юджин? Ты не можешь сказать, что я очень изводила тебя. О Юджин, я все время чувствую, что над нами нависла ужасная катастрофа! Если бы я только знала, что сделать, что сказать! Я сознаю, что бывала временами раздражительна и придирчива, но с этим теперь покончено. Я стала другим человеком. Это никогда больше не повторится. — Это невозможно, Анджела, — спокойно отвечал он. — Это невозможно. Я не люблю тебя. Я уже не раз говорил тебе: я не хочу жить с тобой. Не хочу и не могу. Я должен во что бы то ни стало вернуть себе свободу, — либо развестись, либо негласно разойтись с тобой, — как угодно. Я несчастлив и никогда не буду счастлив, пока я здесь. Сначала я хочу освободиться, а потом решу, что делать. Анджела покачала головой и вздохнула. Ей трудно было привыкнуть к мысли, что она, точно неприкаянная, бродит по своей квартире и не может договориться с собственным мужем. Мариетта уехала в Висконсин еще до того, как разразилась буря. Миртл была в Нью-Йорке, но Анджеле не хотелось ей открываться. Она не решилась писать никому из родных, кроме той же Мариетты, но и с ней не делилась своими горестями. У младшей сестры, пока она гостила у них, создалось впечатление, что их семейная жизнь протекает вполне гладко. Анджела часто плакала, а потом слезы сменялись яростью, хотя с каждым разом ярость все убывала. Снова ею овладели страх и уныние, напоминавшие тоскливые дни, предшествовавшие ее замужеству, и скорбь о том, что ей предстоит окончательно и бесповоротно потерять единственного близкого человека, которого она, несмотря ни на что, продолжала любить.Глава 91
Три дня спустя, когда Юджин был в издательстве, у себя в кабинете, от миссис Дэйл пришла телеграмма следующего содержания: «Взываю к вашей чести джентльмена прошу в случае получения письма моей дочери ничего не предпринимать до свиданья со мной». Юджин был сильно озадачен. Он представил себе, что между Сюзанной и матерью — где бы они ни находились — идет отчаянная борьба, и, по всей вероятности, Сюзанна скоро даст о себе знать. Только сейчас он впервые получил хотя бы отдаленное представление о том, где она; телеграмма была помечена «Три-Риверс, Канада», — следовательно, они были где-то там. Однако эта пометка мало чем помогла ему, так как ни писать Сюзанне по такому адресу, ни ехать к ней он не мог. Ему не удалось бы разыскать ее. Оставалось лишь ждать и помнить, что она ведет борьбу, быть может, еще более жестокую, чем он. Юджин носил телеграмму в кармане и думал о том, когда же наконец придет известие от Сюзанны и что принесет ему завтрашний день. Все, кому приходилось иметь с ним дело, замечали, что он чем-то крайне озабочен. Колфакс, увидев его, воскликнул: — Что с вами, приятель, вы на себя не похожи! Он решил, что Юджин обеспокоен делами «Синего моря». Вскоре после того, как Колфаксу доложили об участии Юджина в этой затее, ему стало известно, что потребуются огромные капиталовложения, для того чтобы курорт действительно стал таким, каким он был задуман, и что пройдет много лет, прежде чем можно будет ждать от него соответствующих доходов. Если Юджин вложил в дело большую сумму, то он, надо полагать, потерял ее или, в лучшем случае, «заморозил» на неопределенный срок. Что ж, поделом ему, пусть не занимается вещами, в которых ничего не смыслит. — Нет, ничего, — рассеянно ответил Юджин. — Я себя прекрасно чувствую. Немножко устал, разумеется, но это пройдет. — А не взять ли вам отпуск на месяц, чтобы немного прийти в себя? — Да нет, спасибо! Во всяком случае, не сейчас, — ответил Юджин. Про себя он решил, что отпуск может пригодиться ему немного позднее, и тогда он воспользуется этим предложением. Разговор перешел на деловые темы,но от Колфакса не укрылось, что у Юджина как-то уж очень ввалились глаза и что его гложет тревога. «Как бы он совсем не слег», — подумал он. Сюзанна между тем жила сравнительно спокойно, насколько это возможно было при ее отношениях с матерью. Однако после нескольких дней, проведенных в бесплодных спорах — все на ту же тему, — она стала понимать, что ее мама отнюдь не намерена уехать из Канады к концу того срока, о котором они сговорились, тем более что их возвращение в Нью-Йорк было сопряжено с немедленным уходом Сюзанны к Юджину. Миссис Дэйл сперва заговорила об отсрочке, а потом начала настаивать, чтобы Сюзанна согласилась ехать не в Нью-Йорк, а в Ленокс и там провела зиму. В Канаде становилось холодно, хотя выдавались еще солнечные деньки, а порою и прекрасные вечера. Зато ночи были очень холодные. Миссис Дэйл и сама мечтала о соглашении, так как страшно скучала одна с Сюзанной после веселой нью-йоркской жизни. Однако за четыре дня до срока, на который был намечен отъезд, она все еще упорствовала или же дипломатически медлила. Сюзанна, глубоко этим возмущенная, пригрозила, что напишет Юджину, после чего миссис Дэйл и послала ему паническую телеграмму. Немного погодя Сюзанна написала следующее письмо, которое поручила отправить своей горничной Габриели:«Дорогой Юджин! Если вы меня любите, приезжайте и увезите меня. Я предупредила мама, что если она не сдержит слова и не вернется со мной в Нью-Йорк до пятнадцатого, я немедленном дам Вам знать, — а она все еще упрямится. Я нахожусь в Канаде, в имении Кэткартов «Часок-другой», в восемнадцати милях к северу от станции Три-Риверс. Здесь всякий знает его. Приезжайте непременно, я буду ждать Вас. Не пытайтесь писать, письмо вряд ли дойдет до меня. Буду ждать, не отлучаясь из дома»Никогда еще Юджин не получал от женщины такого пламенного призыва. Письмо пришло через тридцать шесть часов после телеграммы, и мысль Юджина лихорадочно заработала. Пора действовать! Возможно, что он теперь навсегда покончит со старой жизнью. Удастся ли ему увезти Сюзанну? Зорко ли ее охраняют? Сладкий трепет пронизал его при мысли, что Сюзанна зовет его и что он едет ее разыскивать. «Если Вы меня любите, приезжайте и увезите меня». Поедет ли он? Еще бы! Справившись о времени отхода поезда, он вызвал машину, позвонил своему лакею и приказал немедленно уложить чемодан и доставить его на вокзал Грэнд-Сентрал. Затем он позвонил Анджеле, но она в этот день как раз собралась к Миртл, жившей в верхней части Седьмой авеню, чтобы наконец поделиться с ней своими горестями. Состояние ее сейчас нисколько его не беспокоило, событие, которого она ждала и о котором Юджин часто задумывался, предстояло еще не скоро. Сообщив Колфаксу, что он едет на несколько дней отдохнуть, Юджин отправился в банк и взял оттуда все, что у него было на текущем счету, то есть свыше четырех тысяч долларов. Билет он купил в один конец, так как не знал, чем кончится свидание с Сюзанной. Он снова пытался позвонить Анджеле, заявить ей напрямик, что едет разыскивать Сюзанну, сказать, чтобы она не беспокоилась и что он ей напишет, но она еще не вернулась домой. Как ни странно, Юджина ни на минуту не оставляла глубокая жалость к жене и мысль о том, что она сделает, если он не вернется. Что будет с ребенком? И все же он считал, что должен ехать. Анджела страдает, она живет в постоянном страхе — он чувствовал это и все же был не в силах противостоять зову Сюзанны. Он не мог противостоять ничему, что имело отношение к этой его любви. Он вел себя как одержимый. Он знал, что рискует всей своей карьерой, но и это его не смущало. Сюзанна должна принадлежать ему. Будь что будет — лишь бы добиться Сюзанны, прекрасной, несравненной! В пять тридцать поезд тронулся, и, сидя в покачивающемся вагоне, мчавшем его на север, Юджин думал о том, что он предпримет, когда прибудет на место. Если Три-Риверс сколько-нибудь крупный поселок, можно рассчитывать найти там автомобиль. Он оставит машину на некотором расстоянии от дома, а сам постарается пробраться поближе и тайно даст о себе знать. Если только Сюзанна там, она, конечно, ждет его и выбежит по первому его знаку. И они немедля сядут в машину. Возможно, что вскоре начнется погоня, но он постарается сбить ее со следа, чтобы никто не знал, к какой железнодорожной станции он направился. Ознакомившись с картой, он убедился, что ближайший крупный центр — Квебек, но он мог взять направление на Монреаль и Нью-Йорк или на Буффало, если они предпочтут ехать на Запад. Все будет зависеть от расписания поездов. Любопытно, каким блужданиям подвержен при подобных обстоятельствах человеческий ум. Ни до прибытия на станцию Три-Риверс, ни после у Юджина не было никакого точно выработанного плана — он понятия не имел, что они предпримут в дальнейшем, и знал только, что должен добиться Сюзанны. Он не знал, вернется ли в Нью-Йорк, или нет. Если Сюзанна пожелает и такая возможность представится, они из Монреаля поедут в Англию или во Францию. Можно проехать в Портленд и там сесть на пароход. А может быть, миссис Дэйл, убедившись, что Сюзанна с ним и действует по доброй воле, смягчится и не станет возражать, и тогда он вернется в Нью-Йорк и снова приступит к работе. Если бы Юджин действительно занял такую решительную позицию и придерживался ее до конца, это, вероятно, разрешило бы проблему. В вагоне с ним ехал мужчина с черной бородой, что всегда было у него хорошей приметой. Выйдя на станции Три-Риверс, он нашел подкову — это тоже предвещало удачу. Ни разу не остановился он на мысли, что ждет его, если он действительно потеряет место и вынужден будет жить на те деньги, которые имел при себе. Он не в состоянии был мыслить логически и словно грезил наяву. Ему хотелось верить, что он может соединиться с Сюзанной и сохранить свой оклад и что все останется как было. Такова логика мечтателей.Любящая вас Сюзанна.
Прибыв в Три-Риверс, Юджин, разумеется, обнаружил, что все складывается совсем не так, как он рассчитывал. После продолжительной засухи здесь можно было проехать на автомобиле, до имения «Часок-другой» во всяком случае, — но в последнее время погода испортилась. Перед приездом Юджина прошли холодные дожди, дороги размыло, и передвигаться можно было только верхом или в шарабане. Такой шарабан как раз направлялся в Сен-Жак, не доезжая четырех миль до охотничьего домика, и возница сказал Юджину, что там, если он пожелает, можно достать верховых лошадей, у его хозяина есть конюшня. Это вполне устраивало Юджина, и он решил, что в Сен-Жаке наймет двух лошадей, подъедет как можно ближе к охотничьему домику Кэткартов и привяжет их где-нибудь в укромном месте. А там он уж как-нибудь вызовет Сюзанну. Вот был бы замечательный финал! Как дивно мчаться по лесу вдвоем. И велико же было изумление Юджина, когда, прибыв в Сен-Жак, он встретил миссис Дэйл. Услужливый начальник железнодорожной станции предупредил ее по телефону, что какой-то джентльмен, по описанию похожий на Юджина, прибыл с последним поездом и направляется в «Часок-другой». А до этого была телеграмма от Кинроя из Нью-Йорка, сообщавшая, что Юджин куда-то уехал. Со дня отъезда миссис Дэйл каждый его шаг был под наблюдением. Вернувшись в Нью-Йорк, Кинрой стал звонить в издательство и ежедневно справляться, в городе ли мистер Витла. До сих пор ответ неизменно гласил, что Юджин в городе. Когда же ему сообщили, что мистер Витла уехал, он позвонил Анджеле и справился у нее. Она подтвердила, что Юджина нет в городе. Кинрой немедленно телеграфировал матери, и та, рассчитав, когда можно ждать гостя, и получив от начальника станции уведомление, что приезжий сел в шарабан, выехала ему навстречу. Она решила не уступать ему без боя ни дюйма пути. Она, правда, уже не собиралась убивать его — у нее и недостало бы на это храбрости, — но все еще надеялась уговорить. Прибегнуть к услугам сыщиков и охраны она не решилась. Не может быть, чтобы Юджин был на самом деле так жесток. Это Сюзанна сбивает его с толку своим упрямством и своими письмами. Миссис Дэйл ясно видела, что с дочерью ей не справиться. Вся надежда была на то, чтобы уговорить Юджина или добиться отсрочки. В крайнем случае они вместе вернутся в Нью-Йорк, и тогда она обратится к Колфаксу и Уинфилду. Уж они-то сумеют его образумить. Как бы там ни было, она ни на секунду не оставит Сюзанну с Юджином вдвоем, пока эта история не разрешится — в ее пользу или наоборот. Увидев Юджина, она приветствовала его своей обычной светской улыбкой и ласково позвала, указывая на свободное место в экипаже: — Прошу-вас! Садитесь. Он угрюмо посмотрел на нее и повиновался, но, убедившись, что она сама любезность, вежливо поздоровался: — Как вы поживаете? — Благодарю вас, очень хорошо. — А как Сюзанна? — Она здорова, насколько мне известно. Сейчас ее здесь нет. — Где же она? — спросил Юджин, на лице которого выразилось неописуемое разочарование. — Она уехала с друзьями в Квебек дней на десять — посмотреть город, а оттуда собирается прямо в Нью-Йорк. Едва ли она еще вернется сюда. Она так уверенно лгала, что Юджина охватило чувство отвращения. Он не верил ни одному ее слову. — Это ложь, — грубо сказал он. — Самая бессовестная ложь. Сюзанна здесь, и вы это прекрасно знаете. Но как бы там ни было, я хочу удостовериться. — Вы поразительно вежливы, — сказала миссис Дэйл, считая за лучшее превратить это в шутку. — Раньше вы так не разговаривали. Но это не важно. Сюзанны здесь нет. Если вам непременно хочется, вы сами в этом убедитесь. Но я не советовала бы вам проявлять слишком большую настойчивость, так как, узнав о вашем прибытии, я вызвала помощь — не удивляйтесь, если вас встретят сыщики и охрана. Во всяком случае Сюзанны здесь нет, и вы можете с таким же успехом повернуть обратно в Нью-Йорк. Если хотите, я отвезу вас на станцию. Право же, будьте благоразумны, зачем вам нарываться на скандал? Сюзанны здесь нет, но вы не увиделись бы с ней, даже если бы она никуда не уезжала. Об этом позаботились бы люди, которых я вызвала. Если же вы вздумаете шуметь, вас попросту арестуют, и тогда вся эта история попадет в газеты. Будьте же благоразумны, мистер Витла, и вернитесь в Нью-Йорк. Так вы ничего не добьетесь. В одиннадцать вечера здесь проходит поезд из Квебека. Мы можем еще поспеть к нему. Хотите? Обещаю вам — если вы одумаетесь и не доставите мне больше неприятностей — через месяц привезти Сюзанну в Нью-Йорк. Я не могу отдать ее вам, пока вы не получили развода, пока вы не пришли к какому-то соглашению с женой. Если же вам удастся это сделать в течение ближайших шести месяцев или года и Сюзанна за это время не раздумает, тогда пожалуйста. Я готова хоть в письменной форме отказаться от возражений против вашего брака и позабочусь, чтобы она без хлопот получила свою долю наследства. Я, наконец, помогу вам и ей вернуться в общество. Вы знаете, что я пользуюсь некоторым влиянием. — Сначала я должен повидаться с нею, — ответил Юджин угрюмо и недоверчиво. — Я, конечно, не обещаю вам, что все забуду, — продолжала миссис Дэйл, притворяясь, будто не расслышала его слов. — Это не в моих силах, но я готова сделать вид. Вы сможете пользоваться моей дачей в Леноксе. Я постараюсь освободить от аренды наш дом в Морристауне или в Нью-Йорке, и вы устроитесь в любом из них. Если хотите, я готова даже обеспечить вашу жену некоторой суммой. Это поможет вам вернуть себе свободу. Я не поверю, чтобы вы предпочли соединиться с Сюзанной незаконно, как вы ей предлагаете, когда есть возможность, немного обождав, сделать это открыто. Она говорит, что не хочет выходить замуж, но это только глупые разговоры, просто она начиталась всяких вредных книжек. Она хочет выйти замуж или во всяком случае захочет, когда придет время подумать об этом серьезно. Почему бы нам не помочь ей в этом? Почему вам не поехать обратно, предоставив мне привезти ее в Нью-Йорк немного погодя, чтобы мы могли там обо всем переговорить? Я буду только рада принять вас в мою семью. Вы блестящий человек. Я всегда была очень расположена к вам. Так будьте же благоразумны. Давайте я отвезу вас на станцию, и вы вернетесь в Нью-Йорк, — хорошо? Пока миссис Дэйл убеждала его, Юджин не сводил с нее внимательного взгляда. Как она красноречиво лжет! Она старается не допустить его к Сюзанне, и Юджин прекрасно понимал, почему. Сюзанна где-то здесь, думал он, хотя ее могли снова увезти обманом, как это уже раз случилось. — Вздор какой! — ответил он с небрежным и вызывающим видом. — Ничего подобного я делать не стану. Прежде всего я вам не верю. Если вам хочется доказать свое доброе отношение ко мне, разрешите мне повидать Сюзанну. И тогда в ее присутствии вы можете повторить все, что сказали сейчас. Я приехал сюда, чтобы ее увидеть, и я ее увижу. Она здесь. Я уверен, что она здесь. Зачем вы лжете? И знайте, я увижусь с нею, хотя бы мне пришлось прожить здесь целый месяц, разыскивая ее. Миссис Дэйл нервно поежилась. Она понимала, что Юджин решился на все. Она догадывалась, что Сюзанна писала ему. Разговаривать, пожалуй, не стоит. Никакие хитрости не помогут, и все же она не могла не хитрить. — Послушайте, мистер Витла, — взволнованно сказала она. — Я повторяю, Сюзанны здесь нет. Она уехала. Мой дом охраняют сыщики, и их очень много. Они знают, кто вы. Они получили подробное описание вашей наружности. Им приказано стрелять, если вы сделаете попытку ворваться силой. Кинрой тоже там. Он готов на все. Мне уже пришлось выдержать с ним борьбу, он рвался убить вас. Дом охраняется. Даже сейчас за нами следят. Будьте же благоразумны. Вы все равно не увидите ее. Она уехала. Зачем поднимать шум? Зачем рисковать своей жизнью? — Оставьте эти разговоры, — сказал Юджин. — Вы лжете. Я вижу это по вашему лицу! Знайте же, что я не дорожу жизнью, и вам не удастся меня запугать. Довольно! Сюзанна здесь, и я ее увижу. Он замолчал и стал смотреть перед собой, а миссис Дэйл лихорадочно думала о том, что же ей теперь предпринять. Никаких сыщиков и охраны в доме не было. Сюзанна никуда не уезжала. Все это были пустые слова, как и догадывался Юджин. Прежде всего миссис Дэйл хотелось избежать огласки, и такие средства она приберегала на самый крайний случай. Вечер, которому предшествовало несколько ветреных дней, выдался довольно тихий. На востоке всходила луна, отчетливо видимая на светлом закатном небе. Вскоре она засияет в небе. Воздух был, пожалуй, даже теплый, пахло землей и хвоей. Юджин не оставался, конечно, равнодушен к красоте этого вечера, но он был слишком удручен мыслью, что Сюзанны может здесь не оказаться. — О, будьте хоть немного великодушны, — взмолилась миссис Дэйл, опасавшаяся, что Юджин и Сюзанна окончательно потеряют рассудок, если снова увидятся. Ее дочь потребует — как не переставала требовать все это время, — чтобы мать отвезла ее в Нью-Йорк. Юджин оставит без внимания все ее просьбы, и последует немедленный отъезд или бесстыдная связь у нее в доме. Она подумала, что могла бы убить их, если не будет другого выхода, но под действием вызывающей настойчивости Юджина, с одной стороны, и Сюзанны — с другой, чувствовала, что мужество изменяет ей. Ее пугала смелость этого человека. — Я сдержу свое обещание, — в полном отчаянии несвязно твердила она. — Клянусь честью, ее здесь нет! Уверяю вас, что она в Квебеке. Подождите один месяц. Я сама привезу ее. Мы вместе найдем какой-нибудь выход. Неужто в вас нет ни капли великодушия? — Я был бы способен на великодушие, — ответил Юджин, на которого произвели известное впечатление ее заманчивые обещания, — но я не могу вам верить. Вы говорили неправду Сюзанне, когда увезли ее из Нью-Йорка. Это была ловушка, а сейчас вы придумали новую. Я знаю, что Сюзанна никуда не уезжала. Она находится здесь, недалеко. Отвезите меня к ней, и мы обо всем поговорим. Кстати, куда мы едем? Миссис Дэйл свернула не то на тропинку, не то на заброшенную проселочную дорогу, густо обросшую по бокам невысокими деревьями и напоминавшую просеку, которую прокладывают к вырубке. — К охотничьему домику. — Я этому не верю, — сказал Юджин, ко всему относившийся с подозрением. — Не может быть, чтобы это была главная дорога к такому поместью. — Уверяю вас, что это и есть главная дорога. Миссис Дэйл приближалась к участку, на котором стоял охотничий домик, и ей хотелось выгадать время, чтобы еще поговорить с Юджином. — Что ж, поезжайте этой дорогой, если вам угодно, — сказал Юджин, — а я предпочитаю идти пешком. Вам не удастся отделаться от меня, сколько бы вы ни кружили. Я останусь здесь неделю, месяц, два месяца, если понадобится, но не уеду, не повидавшись с Сюзанной. Она здесь, и я это знаю. Я пойду один и найду ее. Я не боюсь вашей охраны. Он выскочил из экипажа, и миссис Дэйл вынуждена была сдаться. — Подождите! — крикнула она. — Туда еще больше двух миль. Я свезу вас. Но все равно, вы не застанете там Сюзанну. Она ушла в сторожку. Будьте же благоразумны! Клянусь вам, я привезу ее в Нью-Йорк. Неужели вы отвергнете мои предложения и предпочтете разбить и ее жизнь, и свою, и мою? О, если бы мистер Дэйл был жив! Если бы около меня был мужчина, на которого я могла бы положиться! Ну, садитесь, поедемте. Только обещайте мне, что сегодня вы не будете пытаться ее увидеть. Все равно ее нет дома. Она ушла в сторожку. О боже, хоть бы что-нибудь случилось, чтобы все это по крайней мере кончилось так или иначе! — Вы говорили как будто, что она в Квебеке. — Я сказала это только, чтобы выиграть время. У меня нервы совсем расшатались. Да, это была неправда. Но ее действительно нет дома. Она ушла на весь день. Я не могу разрешить вам остаться у нас. Позвольте мне отвезти вас обратно в Сен-Жак, и вы можете переночевать у старого Пьера Гэна. А утром приедете. Слугам может показаться странным, если я привезу вас сейчас. Обещаю вам, что вы увидитесь с Сюзанной. Даю вам слово. — Ваше слово! Право же, миссис Дэйл, вы совершенно запутались. Я ни одному вашему слову не верю, — холодно ответил Юджин. Теперь он совсем успокоился и, ликуя, думал о том, что Сюзанна здесь. Он увидит ее — он это чувствовал. Он нанес миссис Дэйл крупное поражение. И он будет наносить ей удар за ударом, а потом они вместе с Сюзанной предложат ей свои условия. — Никуда я не поеду, и вы сейчас же приведете ко мне Сюзанну. Если она действительно не дома, то вы отлично знаете, где ее найти. Но она там, и я увижусь с ней сегодня же. Мы можем обсудить ваше предложение в ее присутствии. Достаточно вы мудрили. Сюзанна на моей стороне, и вы это знаете. Она моя. Вам с ней не сладить, а вот вдвоем мы с вами поговорим. Он откинулся на спинку экипажа и стал напевать что-то про себя. Луна все ярче и ярче сияла в небе. — Обещайте мне одно, — в отчаянии настаивала миссис Дэйл. — Обещайте мне, что вы убедите Сюзанну согласиться на мое предложение. Несколько месяцев ничего для вас не значат. Вы можете, как обычно, видеться с нею в Нью-Йорке. Займитесь вашим разводом. Вы единственный человек, который в состоянии повлиять на Сюзанну, я признаю это. Мне она не поверит. Меня она не станет слушать. Поговорите вы с ней. От этого зависит ваше будущее. Уговорите ее подождать. Уговорите ее остаться здесь или поехать в Ленокс и только потом вернуться в Нью-Йорк. Вас она послушает. Она поверит всему, что вы ей скажете. Я ей солгала. Я много лгала за это время, у меня не было другого выхода. Но поставьте себя на мое место. Прошу вас, повлияйте на нее. Я сделаю все, что обещала, и даже больше. — Я сегодня же увижу Сюзанну? — Да, если обещаете помочь мне. — Я увижу сегодня Сюзанну или нет, независимо от всяких обещаний? Я ничего не скажу вам такого, чего не мог бы повторить в ее присутствии. — Но обещайте мне согласиться на мое предложение и повлиять на Сюзанну. — Я, пожалуй, готов согласиться, но обещать ничего не обещаю. Я хочу, чтобы Сюзанна сама услышала все, что вы намерены сказать. Я думаю, что с моей стороны возражений не будет. Миссис Дэйл безнадежно покачала головой. — Все равно вам придется уступить, — продолжал Юджин. — Я увижу ее, угодно это вам или нет. Сюзанна там, и я найду ее, хотя бы мне пришлось обыскать весь дом. Она услышит мой голос. Он говорил с полным сознанием своей силы. — Ну что ж, — ответила миссис Дэйл. — По-видимому, придется уступить. Но умоляю вас, будьте осторожны в присутствии слуг. Пусть они думают, что вы мой гость. И разрешите мне отвезти вас сегодня же в Сен-Жак, после того как вы увидите Сюзанну. Не оставайтесь с нею больше получаса. Миссис Дэйл была в таком ужасе от того, как все повернулось, что не могла собраться с мыслями. Юджин уже тайно поздравлял себя с победой, в то время как экипаж, освещенный луной, продвигался вперед, подпрыгивая на рытвинах дороги. На радостях он даже пожал руку миссис Дэйл и сказал, что она напрасно расстраивается — все кончится хорошо. Они вместе поговорят с Сюзанной. Интересно будет услышать ее мнение. — Подождите здесь, — сказала миссис Дэйл, когда они достигли небольшого, поросшего лесом холма у поворота дороги, откуда открывался вид на широкую, ярко освещенную луной долину. — Я зайду и вызову ее. Не знаю, дома ли она, но если нет, значит, она в сторожке, и мы вместе пройдем туда. Мне не хотелось бы, чтобы слуги присутствовали при вашей встрече. Умоляю вас, побольше сдержанности. Ради бога, будьте осторожны! Юджин улыбнулся. Как она взволнована! Какая растерянность после всех ее угроз! Так, значит, победа? Какую борьбу он выдержал! И вот он у самых ворот прекрасного здания, огни которого прорезают серебристые сумерки. Воздух был напоен ароматом лугов. Пахло влажной от вечерней сырости землей, которая скоро затвердеет и покроется толстым ковром снега. Кое-где слышались запоздалые птичьи голоса, ветер слегка шелестел в листве. «В такую ночь…» — вспомнились ему слова Шекспира. Как подходила эта обстановка для его встречи с Сюзанной! Как прекрасна их любовь! Они все время встречались в таких чудесных местах — на лоне природы или среди изысканной роскоши. Казалось, само небо покровительствует этому величайшему событию всей его жизни. Он — признанный гений. Судьба осыпает его цветами. Она венчает его короной победителя. Он ждал; тем временем миссис Дэйл направилась к дому, и немного спустя вдали показалась грациозная девичья фигурка. Юджин видел, как она бежала в тени деревьев, а за нею немного позади следовала миссис Дэйл. Сюзанна легкой, танцующей походкой спешила к Юджину — юная, прекрасная, полная решимости и жизненных сил. Складки ее широкого платья развевались, обрисовывая стройный стан. Она казалась Юджину воплощением красоты. Геба, юная Диана, Венера в девятнадцать лет! Губы ее раскрылись в счастливой улыбке, а глаза были спокойны, как голубые опалы, таящие где-то в глубине своей золото и огонь. Еще издали она увидела его и бросилась навстречу, протягивая ему руки. — Сюзанна! — воскликнула миссис Дэйл. — Как тебе не стыдно! — Молчи, мама! — нетерпеливо ответила девушка. — Мне дела нет ни до чего! Мне ни перед кем не стыдно! Ты одна виновата во всем! Незачем было лгать мне. Он не приехал бы, если бы я не вызвала его. Теперь я уеду в Нью-Йорк. Я тебя предупреждала, что уеду. Она не воскликнула «О Юджин!», когда подошла к нему, а только взяла его голову в обе ладони и нежно заглянула в глаза. Его взгляд обжег ее огнем. Она отступила на шаг и широко раскрыла объятия, чтобы крепче прижать его к себе. — Наконец-то, наконец-то! — говорил он, лихорадочно целуя ее. — О Сюзанна! Моя голубка! — Я знала, что вы приедете, — сказала она. — Я говорила ей, что вы приедете. Теперь я уеду с вами. — Да, да! — воскликнул Юджин. — Какая дивная ночь! Какое счастье! И вы снова со мной! Миссис Дэйл стояла неподалеку, бледная, как смерть, в полном оцепенении. Подумать только, ее дочь способна так вести себя, так опозорить ее, заставить ее быть свидетельницей подобного срама! Это невероятно, ужасно, немыслимо! — Сюзанна! — всхлипнула она. — Мне легче было бы умереть, чем видеть это! — Я говорила тебе, мама, ты еще пожалеешь, что увезла меня, — сказала Сюзанна. — Я предупреждала тебя, что напишу Юджину. Я так ждала вас! — обратилась она к нему и нежно сжала его руку. Он глубоко вздохнул и посмотрел на девушку. Царственные осенние звезды на бархате ночи поплыли вокруг его головы. Так вот что такое победа! Как прекрасна жизнь! Мог ли он думать, что его ждет такой триумф! Переживал ли когда-нибудь влюбленный более радостную победу? — О Сюзанна! — горячо прошептал он. — Это как во сне, как в сказке. Мне не верится, что я вижу вас наяву. — Да, да, Юджин, как хорошо, как невообразимо хорошо! — ответила она. И, не обращая внимания на миссис Дэйл, они взялись за руки и скрылись в темноте.
Глава 92
Вся беда заключалась в том, что Юджин, снова сжимавший Сюзанну в своих объятиях, не приготовил сколько-нибудь ясного плана действий. Вместо того чтобы немедленно предложить ей какой-то способ открыто или тайно вырваться на волю или же, овладев девушкой, увезти ее, — чего в сущности она и ждала, — он принялся передавать ей слова миссис Дэйл и, вместо того чтобы сказать «бежим», — спрашивал ее совета. — Вот что ваша матушка только что предложила мне, Сюзанна, — начал он и стал излагать разговор во всех подробностях. В обещаниях миссис Дэйл он уже видел свершение всех своих надежд. — Я ответил ей, — сказал он, подразумевая миссис Дэйл, находившуюся где-то тут же, поблизости, — что ничего не могу сказать. Она требовала от меня обещания, что мы именно так и поступим, но я заявил, что решение вопроса должно быть предоставлено вам. Если вы хотите вернуться в Нью-Йорк, мы поедем туда сегодня или завтра. Если же вы предпочтете принять совет вашей матушки, то я подчинюсь вашему желанию. Я предпочел бы, конечно, чтобы вы стали моей теперь же, но вместе с тем готов и ждать, при условии, что мы будем иметь возможность видеться. Сюзанна слушала его и не понимала. Какого решения он от нее ждет? Она жаждала чего-то необыкновенного, какой-то волнующей драматической развязки, — но так как ничего не произошло, ей приходилось довольствоваться тем, что есть. По правде говоря, ею владело одно только желание — быть с Юджином. Она отнюдь не рассчитывала, что он получит развод. Под влиянием прочитанных книг и незрелых размышлений ей казалось, что в этом и нет особой необходимости. Она вовсе не желала зла Анджеле. Она не хотела, чтобы Юджин нанес жене смертельное оскорбление, открыто бросив ее. После того как Юджин сказал ей, что жизнь с Анджелой его не удовлетворяет, что между ними нет настоящей любви, что и Анджела не питает к нему сколько-нибудь сильного чувства, — она и сама признавала это в своем письме, — Сюзанна решила, что нет ничего дурного, если она будет делить Юджина с Анджелой. Но что такое он говорит сейчас? Он рассуждает о том, как им быть в дальнейшем. Она думала, что он явится и умчит ее, как некий бог, а вместо этого он развивает перед нею какую-то новую теорию и отнюдь не похож на юного бога. Сюзанна совсем растерялась. Она не могла понять, почему Юджин не хочет немедленно увезти ее. — Я, право, не знаю… Как вы находите лучше, — сказала она. — Если вы хотите, чтобы я пробыла здесь еще месяц… — Нет, нет, — прервал ее Юджин; он догадывался, что допустил какую-то ошибку, и хотел поскорее исправить ее. — Я этого ни в коем случае не хочу. Нет, нет, вовсе нет! Я хочу, чтобы вы поехали со мной сегодня же, если возможно. Но я считал своим долгом вам все рассказать. Ваша матушка говорила как будто искренне. Если мы можем добиться своего и притом остаться с ней друзьями, было бы очень нехорошо не воспользоваться этим. Зачем причинять ей лишние страдания? Но если вы и в самом деле согласны… Он замолчал, чувствуя, что окончательно запутался. Сюзанна едва ли могла бы в ту минуту сказать, какое впечатление произвели на нее его слова. Она только чувствовала, что все бремя ответственности за то или иное решение взваливается на нее. Но это было несправедливо, ей не хватало для этого сил. Не хватало жизненного опыта. Пусть Юджин решает, и как он решит, так и будет. Надо сказать, что даже в тот момент, когда Юджин опять заключил Сюзанну в свои объятия, — да еще в присутствии ее матери, — он все же не почувствовал того триумфа, как ожидал, потому что еще не считал судьбу свою окончательно решенной. Он не считал возможным пренебречь предложением миссис Дэйл, если оно серьезно. Она заявила ему, прежде чем позвать Сюзанну, что если он не примет ее условий, она будет продолжать борьбу — немедленно даст телеграмму Колфаксу и попросит его приехать. Несмотря на то что Юджин забрал свои деньги из банка и готов был бежать, как только представится возможность, его все же удерживала мысль о Колфаксе и желание сохранить свое обеспеченное положение, присоединив к нему все, что предлагала миссис Дэйл. Он колебался. А может быть, удастся все уладить к общему удовольствию? — Я не жду от вас окончательного решения, — сказал он, — но как вы думаете? А Сюзанна пребывала в каком-то смутном состоянии, мешавшем ей думать. Юджин был с нею. Это был рай. Высоко в небе сияла луна. Чудесно снова быть с ним, чувствовать его ласки. Но он не собирается похищать ее. Они не бросали миру вызова. Они не делали ничего похожего на то, о чем она мечтала, не неслись через все препятствия к победе, — а между тем она именно для этого вызвала его сюда. Мать обещала помочь ему в получении развода. Она окажет материальную поддержку Анджеле, если понадобится. И она, Сюзанна, через некоторое время выйдет замуж, и скоро у нее будет свой дом, и все, как у других. Как странно! Но ведь это вовсе не то, чего она добивалась. Она хотела пренебречь условностями, она мечтала о чем-то смелом, необыкновенном. Может быть, она и погубила бы себя, хотя ей это казалось маловероятным. Мать рано или поздно уступила бы. Так почему же Юджин идет на эту сделку? Как странно… Ничто не могло нанести такого удара их любви, как эти вдруг проснувшиеся сомнения. Ведь с приездом Юджина они должны были соединиться. Они должны были бороться и победить. Но вот теперь он обнимал ее, а у нее не шли из головы эти смутные мысли. Что-то омрачало их счастье, — словно бледная дымка, туманящая яркую луну, словно брызги пены над морским прибоем или крохотное облачко, не больше человеческой ладони, от которого сердце сжимается боязливым предчувствием. Юджин был для нее по-прежнему желанным — но он не собирался бежать с нею. Они говорили о возвращении в Нью-Йорк, — но не сейчас же и не вместе. Как же так? — Вы думаете, это будет очень для вас плохо, если мама все расскажет Колфаксу? — спросила она, когда Юджин передал ей угрозу миссис Дэйл. — Не знаю, — серьезно ответил Юджин. — Да, пожалуй, что плохо. Трудно сказать, как он отнесется. Впрочем, это не имеет никакого значения, — добавил он, и снова Сюзанна была озадачена. — Ну что ж, если вы хотите ждать, давайте подождем. Я согласна поступить, как вы находите лучше. Я не хочу, чтобы вы потеряли из-за меня место. Если вы считаете, что нужно подождать, будем ждать. — Но только в том случае, если мне можно будет видеться с вами регулярно, — ответил Юджин, окончательно теряя почву под ногами. Не умел он идти к победе, не умел взять инициативу в свои руки. Он наивно старался сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы — хотел видеться с Сюзанной, кататься с Сюзанной, танцевать с Сюзанной, только что не поселиться с нею в Нью-Йорке, впредь до предстоящего вступления в тайный или открытый союз. Миссис Дэйл обещала принять его в свою семью, а на самом деле она только старалась выгадать время, чтобы предпринять некоторые шаги и дать Сюзанне возможность опомниться. Больше всего она надеялась на время, и в этот вечер, почти не отходя от влюбленных и уловив кое-что из слов Юджина, она почувствовала значительное облегчение. Либо он начинает приходить в себя и раскаивается в своем безумии, либо поддался на ее обманчивые посулы. Если б удалось разлучить его с Сюзанной еще на неделю, а самой вернуться в Нью-Йорк, она пошла бы к Колфаксу и к Уинфилду и, возможно, заставила бы их воздействовать на Юджина. Нужно сломить его волю. Он не понимает, что делает, он потерял рассудок. По-видимому, ее ложь подействовала, и она добьется отсрочки, а больше ей ничего не нужно. — Не знаю. Делайте, как считаете лучше, — говорила Сюзанна между двумя поцелуями. — Как вы хотите — чтобы я завтра же поехала с вами в Нью-Йорк, или… — Да, да, — ответил он быстро и решительно, — завтра же. Но мы должны приложить все старания, чтобы переубедить вашу матушку. Она понимает, что раз мы снова вместе, то это дело конченое, и надо ее в этом уверить. Она говорит об уступках, а нам только того и нужно. Если нам предлагают какое-то соглашение, почему не пойти на него? Я не против того, чтобы подождать еще недельку, — надо дать ей подумать. Если же она к тому времени не изменит своего отношения, будем действовать. Вы могли бы поехать на недельку в Ленокс, а затем ко мне. Он говорил так, словно одержал победу, между тем как в действительности потерпел решительное поражение. Он потерял Сюзанну. Сюзанна глубоко задумалась. Не того она ждала, но… — Хорошо, — сказала она после непродолжительной паузы. — Вы завтра поедете со мной? — Да. — Куда — в Ленокс или в Нью-Йорк? — Посмотрим, что мама скажет. Если вам удастся с ней договориться… Все, что хотите… Я согласна. Немного спустя Юджин и Сюзанна пожелали друг другу спокойной ночи. Было решено, что утром увидятся и вместе поедут до Ленокса. Миссис Дэйл поможет ему добиться развода. Положение казалось вполне удовлетворительным, даже прекрасным. Но почему-то Юджин чувствовал, что делает не то, что нужно. Он ушел к себе в комнату, в один конец дома, а Сюзанна — в другой. Миссис Дэйл, объятая страхом, оставалась настороже и не смыкала глаз, но в этом не было надобности. Юджин больше не безумствовал. Засыпая, он думал о том, что в ближайшем будущем все устроится и что Сюзанна в конце концов станет его женой.Глава 93
На следующий день, обсудив заманчивую возможность провести несколько дней в охотничьем домике и отдаться восторгам свидания и выслушав прозрачные намеки миссис Дэйл насчет того, что подумают слуги, которые, вероятно, и так уже кое-что подозревают или же слыхали от начальника станции, Юджин и Сюзанна решили расстаться: она направлялась в Ленокс, он — в Нью-Йорк. Весь путь до Олбэни они просидели рядышком в купе спального вагона, как дети, которые счастливы быть вместе. Миссис Дэйл, сидя напротив, перебирала в уме все свои обещания и думала о том, не лучше ли в конце концов сейчас же ехать в Нью-Йорк и прекратить эту историю при помощи Колфакса, или следует подождать еще немного, чтобы все само собой заглохло. На другое утро, в Олбэни, Сюзанна и миссис Дэйл пересели в поезд, шедший в Бостон, а Юджин поехал в Нью-Йорк. Он чувствовал себя совсем другим человеком, когда пришел к себе на службу, а потом домой. Анджела, вконец измученная, посмотрела на него, точно он был привидением или выходцем с того света. Она не знала, куда он уезжал. Она не знала, вернется ли он когда-нибудь. Не было смысла прибегать к упрекам, в этом она давно убедилась. Оставалось только взывать к его добрым чувствам. Она подождала до конца обеда, во время которого они говорили о самых безразличных вещах, а потом зашла к нему в комнату, где он распаковывал чемодан. — Ты ездил за Сюзанной? — спросила она. — Да. — Она с тобой? — Нет. — Знаешь, Юджин, как я провела эти последние три дня? — спросила она. Юджин молчал. — Я провела их на коленях. Да, на коленях, — повторила она. — Я молила бога, чтобы он спас тебя от тебя самого. — Не говори вздора, Анджела, — холодно отозвался он. — Ты прекрасно знаешь, как я смотрю на эти вещи. Как видишь, со мной ничего не случилось. Я пробовал перед отъездом дозвониться к тебе по телефону. Я поехал для того, чтобы найти Сюзанну и привезти ее обратно, и я действительно привез ее — пока что в Ленокс. Я выиграю в этой борьбе. Сюзанна будет моей — с благословения закона или без него. Хочешь дать мне развод — пожалуйста. Я обещаю полностью обеспечить тебя. Откажешь мне — я все равно добьюсь Сюзанны. Мы с ней обо всем договорились. Зачем в таком случае все эти истерики? Анджела смотрела на него глазами, полными слез. Нет, это не тот Юджин, которого она знала! Во время каждой такой сцены, каждой попытки образумить его она чувствовала перед собой словно глухую, непроницаемую стену. Неужели он так обезумел от любви к этой девушке? Неужели он сделает то, что говорит? Когда он в высшей степени спокойно стал излагать ей свои планы, подвергшиеся за последние дни некоторым изменениям, и упомянул имя миссис Дэйл, она перебила его: — Никогда она не отдаст тебе Сюзанну! Вот увидишь! Ты обманываешься. Она только говорит так. Она водит тебя за нос. Ей нужно выиграть время. Подумай, что ты собираешься делать. Ничего из этого не выйдет. — Ты ошибаешься, — сказал Юджин. — Я уже фактически одержал победу. Сюзанна будет моей. — Возможно, возможно, но какой ценой! Посмотри на меня, Юджин. Разве тебе недостаточно меня? Я еще хороша. Ты всегда восхищался моим телом. Смотри, смотри! — и она распахнула пеньюар. Она заранее продумала эту сцену в надежде произвести на него впечатление: — Разве тебе недостаточно меня? Разве я не могу дать тебе все, что ты желаешь? Юджин устало отвернулся: эта выходка вызвала в нем отвращение. Ничего более неудачного Анджела не могла придумать — ничего более неуместного и бесполезного. Это была в своем роде эффектная драматическая сцена, но при данных обстоятельствах она ни к чему не вела. — Оставь, Анджела, — сказал он. — Этим ты на меня больше не подействуешь. Супружеские чувства между нами умерли и не воскреснут. Зачем обращаться к аргументам, которые утратили для меня свою силу? Я ничего не могу с собой поделать. Между нами все кончено. Так что же ты намерена предпринять? И опять Анджела ушла ни с чем. Хотя нервы ее были вконец издерганы и в душе царило отчаяние, она, как зачарованная, следила за этой трагедией, которая разыгрывалась у нее на глазах. Неужели ничто не заставит его образумиться? Они разошлись по своим комнатам, а на другое утро Юджин опять сидел за столом в своем служебном кабинете. От Сюзанны пришло письмо, что она все еще в Леноксе, а потом второе, в котором она сообщала, что мать на день или два уехала к знакомым в Бостон. На пятый день к нему в кабинет вошел Колфакс и, радушно поздоровавшись, сел в кресло. — Ну, как дела, старина? — спросил он. — Да все так же, — ответил Юджин. — Не могу пожаловаться. — Все благополучно? — Да, более или менее. — Скажите, к вам сюда никто не ввалится, пока я здесь? — осведомился он, как-то странно глядя на Юджина. — Я давно отдал соответствующее распоряжение, но могу на всякий случай повторить, — сказал тот, сразу настораживаясь. Уж не собирается ли Колфакс говорить с ним о чем-то, имеющем отношение к его сердечным делам? Он чуть побледнел. Колфакс задумчиво смотрел в окно на расстилавшуюся в отдалении панораму Гудзона. Он вынул сигару, обрезал кончик, но не закурил. — Я спросил вас, не помешают ли нам, — задумчиво начал он, — потому что мне нужно с вами поговорить, и предпочтительно наедине. На днях у меня была миссис Дэйл, — добавил он все так же задумчиво. Юджин вздрогнул, услышав это имя, и еще больше побледнел, но продолжал сидеть спокойно. — Она рассказала мне целую историю, будто у вас какие-то предосудительные намерения касательно ее дочери — не то вы собираетесь похитить ее, не то жить с ней, без предварительного развода с женой и не обвенчавшись, не то оставить жену, или что-то в этом роде. Я не придал этому большого значения, но все же поговорить с вами я должен. Надо вам сказать, что не в моих привычках вмешиваться в чьи-то личные дела. Я считаю, что они меня не касаются и не касаются моего предприятия, если, конечно, не набрасывают на него тень. Но я хотел бы знать, правда ли то, что говорила миссис Дэйл. Это правда? — Да, — ответил Юджин. — Мы с миссис Дэйл старые друзья. Я знаю ее уже много лет. Конечно, миссис Витла я тоже знаю, но не так близко. Вам известно, что с ней я виделся значительно реже, чем с вами. Я не знал, что вы несчастливы в браке, да это и не имеет никакого отношения к делу. Важно лишь то, что миссис Дэйл намерена, как видно, устроить грандиозный скандал, что она совсем потеряла голову, и я подумал, что лучше мне с вами поговорить, пока не произошло ничего серьезного. Вы сами понимаете, что всякий скандал, связанный с вашим именем, может весьма пагубно отозваться на делах издательства. Он умолк, ожидая, что Юджин будет оправдываться или протестовать, но тот не проронил ни слова. Он был бледен, все его нервы были напряжены, на душе лежала мучительная тяжесть. Так, значит, она все же обратилась к Колфаксу! Вместо того чтобы сдержать слово, вместо поездки в Бостон она помчалась в Нью-Йорк и бросилась к Колфаксу. Все ли она ему рассказала? Вполне возможно, что Колфакс, несмотря на свой беспристрастный тон, примет ее сторону. Что он думает о нем, Юджине? В вопросах морали он человек весьма консервативный. Миссис Дэйл может быть ему полезна своими связями в свете. Он держится очень спокойно и, видимо, взвешивает каждое слово. Как мало похож на него этот безучастный тон. — Вы всегда представлялись мне интересным объектом для изучения, Витла, — продолжал Колфакс после некоторого молчания, — с первой же минуты нашего знакомства. Мне кажется, что вы гений, если таковые существуют, но, как и все гении, вы не свободны от слабостей и сумасбродств. Одно время я верил, что вы серьезно обдумываете свои планы, которые, надо сказать, всегда себя оправдывали, но потом я пришел к заключению, что это не так. Вы притягиваете к себе известные формы таланта и энергии. Кроме того, вы обладаете рядом других достоинств, хотя мне трудно было бы их в точности определить. У вас богатое воображение, это мне хорошо известно. Вы умеете правильно ценить людей. Это я тоже знаю. На моих глазах вы подобрали несколько превосходных работников. Конечно, все это делается вами не наобум, но без всякой системы и последовательности, — я сказал бы, без должного чувства ответственности, — разве что я глубоко заблуждаюсь. И мне кажется, что история с маленькой Дэйл — это недурная иллюстрация к моим словам. — Не будем говорить о ней, — сказал Юджин холодно и чуть высокомерно. — Я предпочел бы не касаться этого. Всякоеупоминание о Сюзанне вызывало в нем болезненное чувство. Тема была опасная, и Колфакс это понял. — Хорошо, не будем, — спокойно отозвался он. — Но справедливость моих слов можно установить и другим путем. Согласитесь, вы действовали в этой истории далеко не обдуманно, так как в противном случае без труда поняли бы, что прямиком летите в пропасть. Если вы хотели добиться этой девушки и, насколько я понимаю, заручились ее согласием, вы должны были это сделать, дружище, без ведома ее матери. Миссис Дэйл, возможно, сумела бы потом как-нибудь все уладить. Во всяком случае девушка была бы ваша, и я полагаю, что вы согласны были бы нести ответственность за все последствия. Теперь же вы вмешали в это дело миссис Дэйл, а у нее есть могущественные друзья. Вы не можете не считаться с нею. И я не могу. Она настроена крайне воинственно и, пожалуй, не остановится ни перед чем, чтобы заставить вас отступить. Он снова сделал паузу, ожидая, что Юджин что-нибудь скажет, но тот не произнес ни слова. — Я хочу задать вам один вопрос и прошу на меня не обижаться, так как я говорю с вами без всякого умысла; просто это поможет мне лучше разобраться во всем, а может быть, позднее и вам, если вы захотите. Было ли в ваших отношениях с мисс Дэйл что-либо компрометирующее и… — Нет, — ответил Юджин, не давая ему кончить. — Давно уже идет эта борьба? — С месяц или около того. Колфакс пожевал конец сигары. — Как вам известно, Витла, вы нажили себе в издательстве много сильных врагов. Ваш образ правления был далеко не мягкий. К тому же, как я замечаю, вы далеко не дипломат. Вы набрали людей, которые были бы счастливы свалить вас и занять ваше место. Если бы они узнали все обстоятельства этого щекотливого дела, вы не остались бы на своем посту больше пятнадцати минут. Вы это сами, конечно, понимаете. Вам пришлось бы уйти, и я был бы бессилен этому помешать. Вы не могли бы здесь удержаться. Да и я не мог бы этого допустить. Об этом вы, надо полагать, не подумали. Впрочем, влюбленные не рассуждают. Я вполне вас понимаю. Я видел миссис Витла и могу сказать, в чем беда. Она держала вас на коротком поводке. Вы не чувствовали себя хозяином в собственном доме. Это вызывало в вас раздражение. Ваша жизнь представлялась вам сплошным банкротством. Вам казалось, что вы погубили себя этим браком — и это вселило в вас беспокойство. Я знаю девушку, о которой идет речь. Она очаровательна. Но, как я уже говорил, дорогой мой, вы не точно составили смету — не рассчитали, не спланировали. И если бы мне нужны были доказательства того, о чем я всегда смутно догадывался, то именно эта история дает их мне: вы не умеете действовать планомерно. Сказав это, он отвернулся и стал смотреть в окно. Юджин сидел, не поднимая глаз. Он никак не мог понять, к чему этот человек клонит. Колфакс рассуждал очень спокойно и сосредоточенно, Юджин привык видеть его совсем другим. Обычно он не изъяснялся по-человечески, а кричал, горячась и жестикулируя. Сейчас он говорил медленно, обдуманно и, пожалуй, даже с чувством. — Несмотря на то что я расположен к вам, Витла, — дружба, конечно, налагает на нас некоторые обязанности, — но дружба дружбой, а служба службой, и я постепенно пришел к заключению, что вы, пожалуй, не самый идеальный человек для своего поста. Вы живете больше чувством, вы слишком беспорядочны. Уайт давно указывал мне на это, но я ему не верил. Я и сейчас говорю не с его слов. Но едва ли я стал бы предпринимать какие-то шаги только на основании моих впечатлений, если бы не эта история. Я еще не пришел к окончательному выводу, но мне сдается, что положение ваше щекотливое и опасное для данного предприятия. Вы сами понимаете, что скандала издательство не потерпит. Представьте, какой шум подняли бы газеты! Это причинило бы нам колоссальный вред. И я думаю, что ввиду всего вышеизложенного вам нужно взять годичный отпуск и постараться тем временем потихоньку наладить свою жизнь. Лично я полагаю, что вам не следовало бы связываться с этой девушкой, если вы не можете добиться развода и жениться на ней. Но я не советовал бы вам добиваться развода, если этого нельзя сделать без большого шума. Я имею в виду, разумеется, только ваше положение здесь, в издательстве. Помимо этого можете поступать, как вам угодно. Но помните, всякий скандал отразится на вашей работе у меня. Удастся вам устроить свои дела, — отлично! Нет, — ничего не поделаешь. Если эта история вызовет много разговора, то вы сами понимаете, что о вашем возвращении сюда не может быть и речи. Отказаться от этой девушки вы, вероятно, не согласитесь? — Нет, — сказал Юджин. — Я так и думал. Я знаю, как серьезно относятся к таким вещам люди вашего типа. Можете вы добиться от миссис Витла развода? — Я не уверен, — сказал Юджин. — У меня нет юридических оснований для развода. Только несходство характеров, ничего больше. Но этот брак лишил мою жизнь всякого смысла. — Да, — сказал Колфакс, — я вижу, это сложная история. Я понимаю, что вы могли полюбить эту девушку. Она действительно прелестна, — из-за таких вот девушек и возникают подобные осложнения. Я не намерен указывать вам, что делать. Вам виднее. Но если бы вы спросили моего совета, я сказал бы — не пытайтесь вступать с нею в связь, не обвенчавшись. Человек в вашем положении не может себе этого позволить. Вы слишком заметная фигура. Вы, конечно, знаете, что за последние годы ваше имя приобрело некоторую известность в Нью-Йорке, не правда ли? — Да, знаю, — сказал Юджин. — Но я считал, что договорился с миссис Дэйл. — Очевидно, это не так. Она сказала мне, что вы уговариваете ее дочь стать вашей любовницей, что у вас нет надежд добиться в ближайшее время развода, что ваша жена находится в… прошу прощения… а вы между тем настаиваете на том, чтобы сойтись с ее дочерью. По ее мнению, это недопустимо. Я склонен согласиться с ней. Это очень неприятно, но что поделаешь? Она утверждает, что вы грозили попросту увезти девушку и жить с нею, если она, ее мать, не согласится на ваши требования. — Он снова сделал паузу. — Это верно? — Да, — ответил Юджин. Колфакс медленно повернулся в своем кресле и посмотрел в окно. Что за человек! Странная штука — любовь! — И когда же вы намерены это осуществить? — спросил он наконец. — Не знаю! Сейчас все так запуталось. Мне нужно подумать. Колфакс помолчал. — Да, весьма странная история. Не многие поймут ее так хорошо, как я. Не многие поймут вас, Витла, как я вас понимаю. Вы просчитались, дорогой мой. И вам придется заплатить за это. Так бывает со всеми нами. Я не могу разрешить вам оставаться здесь. Очень сожалею, но не могу. Придется вам взять годичный отпуск и подумать хорошенько. Если ничего не случится, если никакого скандала не будет, — что ж, трудно сказать, как я поступлю тогда. Возможно, что я подыщу для вас местечко, — конечно, не то, какое вы занимали, но что-нибудь найдется, это уж мы тогда сообразим. А пока что… — Он умолк и снова задумался. Юджин понял, как обстоит дело. Разговор о возвращении в издательство — пустые слова. Колфакс пришел к заключению, что должен его уволить, и дело вовсе не в миссис Дэйл, не в Сюзанне и не в моральной стороне вопроса, а исключительно в том, что он потерял доверие Колфакса. Как-то случилось, что Колфакс благодаря Уайту, благодаря миссис Дэйл, благодаря поведению самого Юджина пришел к заключению, что Юджин человек беспорядочный, ненадежный, и поэтому, только поэтому он теперь увольняет его. Тут и Сюзанна, тут и судьба, тут и его собственный несчастный характер. Он долго сидел в мучительном раздумье и, наконец, спросил: — Когда вы хотите, чтобы я сдал дела? — О, когда вам будет угодно, но чем скорее, тем лучше, раз дело грозит скандалом. Конечно, если хотите, можно повременить недели три, — ну, месяц, полтора. Лучше всего сделать вид, будто речь идет о вашем здоровье и вы просите об отставке ради поправления его — это позволит соблюсти внешние приличия. Для издательства ваш уход не будет иметь большого значения — дело настолько налажено, что год вполне может идти по инерции. А через год все, может быть, и уладится. Посмотрим… Юджину было бы легче, если бы он не произнес последней лицемерной фразы. Колфакс пожал ему руку и ушел, а Юджин подошел к окну. Итак, крепкий фундамент, на котором была построена его карьера, выбит у него из-под ног, словно ударом ядра. Он потерял свой поистине исключительный пост, потерял свои двадцать пять тысяч долларов. Где он найдет такое место? Кто еще, какая другая компания может платить такие деньги? Удастся ли ему удержать квартиру на Риверсайд-Драйв? Разве только, если он женится на Сюзанне. И как сохранить собственную машину и лакея? Колфакс ни словом не обмолвился о том, что временно оставит за ним оклад, — да и с какой стати? Колфакс ничем ему не обязан. Он прекрасно платил ему, лучше, чем платили бы в другом месте. Юджин теперь горько пожалел, что так увлекся проектом «Синего моря», — из-за своей глупой восторженности он ухлопал туда все свои деньги. Пойдет ли миссис Дэйл и к Уинфилду? Удастся ли ей и там навредить ему? Уинфилд всегда был ему хорошим другом. Он относился к нему с большим уважением. Да, но это обвинение, этот разговор о его намерении совратить девушку! Как это все обидно! Возможно, что и Уинфилд отшатнется от него, хотя, с другой стороны, почему бы? У Уинфилда были любовницы, — но, правда, не было жены. Колфакс прав. Он действовал необдуманно. Это совершенно ясно. Теперь его призрачный мир начал меркнуть, как облака на закате. Возможно, что он и в самом деле гнался за химерой. Неужели это так? Неужели?Глава 94
Как и следовало ожидать, этот внезапный удар заставил Юджина поколебаться. Ему стало страшно. Миссис Дэйл обратилась к Колфаксу, чтобы он употребил все свое влияние и заставил своего подчиненного образумиться. Но она не собиралась этим ограничиться. Она только и думала о том, как бы очернить Юджина, ославить его перед всеми, но так, чтобы Сюзанны это не коснулось. Если раньше Юджин был с ней немилосерден, то и она теперь не знала пощады. Она хотела заставить его окончательно отказаться от Сюзанны и даже не видеться с нею. Побывав у Уинфилда, она намерена была тут же мчаться в Ленокс, чтобы помешать всяким дальнейшим планам влюбленных, каким-либо неосторожным решениям Сюзанны или возможному приезду Юджина. Обращение к Уинфилду не принесло ей ни нравственной поддержки, ни даже простого сочувствия, Уинфилд не видел причин вмешиваться. Он ведь не опекун Юджина и не блюститель общественной нравственности. Впрочем, он был рад узнать об этой истории, он приобрел теперь моральное право обходиться с Юджином несколько иначе. Правда, ему было немного жаль его — какой мужчина не посочувствовал бы Юджину? Но, занятый мыслями о реорганизации своей строительной компании, он уже с меньшим огорчением думал о предстоящих Юджину потерях. Когда же последний немного позже обратился к приятелю в надежде с его помощью реализовать свои вложения в «Синее море», Уинфилд ответил, что не видит возможности что-либо сделать. Дела компании не блестящи. Необходимо укрепить ее финансовое положение новыми капиталовложениями. Если не удастся в самом скором времени разместить все акции, неизбежна полная реорганизация. Лучшее, что может ожидать Юджин, это получить за свои бумаги акции нового выпуска, но уже на значительно меньшую сумму. Таким образом, Юджин убедился, что и с этой стороны ему грозит крах. Когда Юджин полностью осознал, какой удар нанесла ему миссис Дэйл, он понял, что должен откровенно объясниться с Сюзанной. Вся эта история привела к самым плачевным для него результатам, и он начал задумываться над тем, что же с ним теперь будет. Свой оклад в двадцать пять тысяч долларов в год он потерял; надежды на полную материальную независимость, которую сулило ему «Синее море», растаяли, как дым; о прежнем образе жизни нечего было и мечтать, ведь жизнь в обществе требует больших средств, — все это делало его нулем, совершеннейшим нулем. А если начнутся разговоры о нравственной стороне его отношений с Сюзанной, о его безжалостном поступке с Анджелой, если это дойдет, например, до слуха Уайта, что тогда будет? Уайт уж постарается растрезвонить это по всему Нью-Йорку. О Юджине заговорит весь город, по крайней мере весь издательский мир. Перед ним закроются двери всех редакций. Сам Колфакс едва ли будет болтать. Что касается Уинфилда, то Юджин не допускал и мысли, что миссис Дэйл была у него, но если она все же была, не распространится ли эта весть и дальше? Расскажет ли Колфакс Уайту? Сохранит ли тот все в тайне, если узнает? Разумеется, нет. Постепенно Юджин начал отдавать себе отчет в безумии своего поведения. Что он наделал? Подобно человеку, усыпленному сильным наркотиком, он медленно приходил в себя, пытаясь сообразить, что с ним. Место потеряно. Наличных денег у него немного — всего пять-шесть тысяч. Единственное его богатство — любовь Сюзанны, но ее мать объявила ему войну, а он связан Анджелой, которая не даст ему развода. Как уладить все это? Но разве может он думать о том, чтобы вернуться к Анджеле? Конечно, нет. Он сел к столу и написал Сюзанне письмо, которое должно было все объяснить и открыть ей путь к отступлению, что он считал своей первейшей обязанностью перед ней.«Любовь моя! Сегодня утром у меня был разговор с мистером Колфаксом. То, чего я опасался, случилось. Ваша мать ездила не в Бостон, как Вы думали, а в Нью-Йорк. Она виделась с Колфаксом и, вероятно, также с моим другом Уинфилдом. Последнее меня мало огорчает, так как я не связан с его компанией жалованьем или определенным доходом. Но ее разговоры в издательстве причинили мне непоправимое зло. Попросту говоря, я лишился места. Очевидно, главную роль тут сыграли происки других лиц, к которым Ваша мать не имеет никакого отношения, но ее жалобы и обвинения, несомненно, завершили то, чего она не могла бы добиться одна. Дорогая моя, понимаете ли Вы, что это значит? Я Вам как-то говорил, что все мои наличные деньги вложены в курорт «Синее море», который, по моим предположениям, должен был со временем развиться в крупное дело. Возможно, что так оно и будет, но потеря места сильно отразится и на моем положении в этом предприятии, если только мне не удастся немедленно подыскать себе что-нибудь другое. Я вынужден буду, по всей вероятности, отказаться и от квартиры на Рисерсайд-Драйв, и от собственной машины, и вообще сильно поубрать паруса перед ураганом. Это значит, что если Вы захотите жить со мной, мы должны будем довольствоваться скромным заработком художника, разве только я приму решение подыскать себе другую службу, и мне удастся это сделать. Я собственно такое примерно будущее и представлял себе, когда ездил за Вами в Канаду, но поскольку это стало свершившимся фактом, Вы, возможно, захотите переменить свое решение. Если с «Синим морем» ничего не случится, мой пай в этом деле может со временем материально обеспечить меня. Сейчас сказать что-нибудь трудно, и во всяком случае до этого еще далеко, а пока я могу рассчитывать только на заработок художника, но и это во многом зависит от того, как далеко намерена зайти в своей мести Ваша матушка. Она настроена в высшей степени враждебно. Вы слышали, что она говорила в охотничьем домике? Очевидно, это были одни слова. Дорогая, я пишу все это для того, чтобы ясно представить Вам положение вещей. Если Вы решите связать свою судьбу со мною, Вам, быть может, придется иметь дело с человеком, репутация которого сильно пошатнулась. Вы должны понять, что между Юджином Витлой — директором «Юнайтед мэгэзинс» и Юджином Витлой — художником разница огромная. Любовь к Вам внушила мне безрассудную смелость, она побудила меня бросить вызов всему миру. Так как Вы прекрасны, так как Вы самое совершенное создание, какое я когда-либо знал, я принес всего себя на алтарь любви. Я бы с радостью сделал то же самое снова — тысячу раз. До Вашего появления жизнь моя была пуста. Я только притворялся, что живу, зная в душе, что такая жизнь — пустая видимость, недостойная ложь. Но появились Вы — и мир ожил для меня. О, как прекрасны были эти дни, эти вечера! Разве могу я забыть Дэйлвью, или «Синее море», или Браерклиф, или тот дивный день — первый день нашей любви — на Саут-Бич? Моя дорогая девочка, в нашем чувстве было столько красоты, столько безоблачного счастья! Мы решились на отчаянный шаг, и сам я ни о чем не жалею. Мне снился чудный, волшебный сон. Но может быть, прочитав мое письмо и узнав, как обстоит дело, Вы задумаетесь, — о чем я и прошу Вас, — и пожалеете, и во многом раскаетесь, и примите другое решение. Поступайте же без колебания так, как считаете нужным. Вспомните, что я просил Вас спокойно подумать обо всем еще задолго до того, как Вы открылись Вашей матушке. Мы с Вами хотели смело идти в жизни своим путем, но по проторенной дороге. Едва ли и тогда можно было надеяться, что люди станут смотреть на вещи нашими глазами. Напротив, можно было с уверенностью сказать, что нас ждут огромные неприятности. И все же меня это не пугало, да и теперь не пугает. Если Вы решите приехать ко мне сюда, сообщите мне об этом. Если Вы хотите, чтобы я приехал к Вам, позовите меня. Мы отправимся в Англию или в Италию, и я снова возьмусь за живопись. Я убежден, что могу еще писать. Или же мы останемся здесь, и я постараюсь найти себе какое-нибудь место. Вы должны помнить, однако, что Ваша матушка еще не сложила оружие. Она, пожалуй, решится и на более крутые меры, чем до сих пор. Вы думали, что сможете уговорить ее, но, по-видимому, Вы ошибались. Я полагал, что там, в Канаде, мы одержали победу, но, оказывается, и это не так. Если она захочет помешать Вам получить Вашу долю наследства, это может ей удастся. При желании она может лишить Вас свободы, запереть в сумасшедший дом. Мне бы хотелось поговорить с Вами лично. Можно мне приехать в Ленокс повидаться с Вами? Собираетесь ли Вы вернуться в Нью-Йорк на будущей неделе? Нам нужно все обдумать, нужно действовать — теперь или никогда. Но если Вами овладеет сомнение, не считайтесь со мной. Помните, что условия изменились. Все Ваше будущее зависит от Вашего решения. Пожалуй, мне давно уже следовало поговорить с Вами так, как я говорю сейчас, но я не думал, что Ваша матушка способна сделать то, что она сделала, и что в этом вопросе будет играть какую-то роль мое материальное положение. Жизнь моя, радость моя! Для меня настал день величайших испытаний. Я глубоко несчастен, но только от мысли, что могу Вас потерять. Все остальное в сущности не имеет значения. С Вами все покажется прекрасным, что бы ни готовила мне судьба. Без Вас жизнь станет чернее ночи. От Вас зависит решение, и Вы должны принять его, не откладывая. Как Вы скажете, так и будет. Повторяю, со мной не считайтесь. Вы молоды, перед вами блестящее будущее. Я в конце концов вдвое старше Вас. Я стараюсь рассуждать трезво, чтобы Вы ясно представляли себе, что Вас ждет, если Вы решите стать моей. Но правильно ли Вы поймете меня, — вот о чем я порою себя спрашиваю. Уж не было ли все это сном? Вы так прекрасны! Вы были для меня источником радости и света. Неужели это был мираж, прельстительный обман? Кто знает, кто знает. И все же я люблю Вас, люблю, люблю! Тысячу поцелуев, мое божество. Жду Вашего решения. Юджин».Сюзанна в Леноксе прочитала это письмо и впервые в жизни задумалась глубоко и серьезно. Что происходит? На что она идет? Такой оборот дела пугал ее. Ее мать оказалась упорнее, чем она предполагала. Подумать только, что она могла пойти к Колфаксу, что она могла так лгать, так бросаться своим словом! Сюзанна никогда не поверила бы, что ее мать способна на это. Она никогда не поверила бы, что Юджин может потерять место. Он казался ей всесильным, он сам себе ставил законы. Однажды он спросил ее, за что она его любит, и она ответила: — За то, что вы гений и можете сделать все, что захотите. — Полноте, что вы! — ответил он. — Это вовсе не так. Ничего особенного я сделать не могу. У вас неверное представление обо мне. — Нисколько, — настаивала она. — Вы художник, и к тому же писатель. — Это лестное мнение внушили ей рекламные брошюры, составленные им для Уинфилда, стихи, посвященные ей, и старые газетные вырезки со статьями, которые он когда-то писал в Чикаго, — однажды она была у него в гостях, и он показал ей свой старый блокнот со всякими записями и зарисовками. — И вы управляете таким большим предприятием, и сами заведовали отделом рекламы и художественным отделом. Она запрокинула голову и восторженно посмотрела ему в глаза. — О боже мой, какой длинный перечень талантов! Видно, боги и впрямь насылают безумие на тех, кого они хотят погубить. — И он поцеловал ее. — И вы так красиво любите, — добавила она в заключение. Сюзанна часто вспоминала этот разговор, и вот теперь она увидела Юджина в совершенно ином свете. Он, оказывается, вовсе не всемогущ. Он не сумел помешать ее матери сделать то, что она сделала, — да и сама Сюзанна разве может рассчитывать одержать над нею верх? Какого бы мнения она ни была о поведении матери, факт остается фактом, — та готова перевернуть весь мир, чтобы не дать им соединиться. Действительно ли она так уж неправа? С той памятной ночи в Сен-Жаке, когда то, чего она ожидала, не случилось, Сюзанну начали одолевать сомнения. Уверена ли она в своем желании бросить дом и уйти с Юджином? Готова ли она вступить в борьбу с матерью за наследство? Возможно ведь, что ей придется отстаивать свои права. Вначале она мечтала, что будет встречаться с Юджином в изящно обставленной студии, а жить они будут — он у себя, она у себя. Но это — разговоры о бедности, о невозможности содержать машину, о необходимости разлучиться с семьей, — это было уже нечто совсем другое. И все-таки она любила его. Быть может, она еще договорится с матерью? В течение последующих двух-трех дней произошло еще несколько бурных сцен, в которых приняли участие опекун Сюзанны, мистер Герберт Питкерн, представитель опекунской конторы Маркуорд, и — опять же — доктор Вули. Бедной, растерявшейся Сюзанне пришлось выдержать новую осаду. Тут были и лукавые доводы матери, уверявшей, что если она подождет год и потом скажет, что по-прежнему любит Юджина, никто не помешает им соединиться, и заявление мистера Питкерна, что всякий суд, куда бы ни обратилась миссис Дэйл, признает Сюзанну неспособной управлять своим имуществом, и осторожное предупреждение доктора Вули о том, что едва ли целесообразно обращаться к медицинской экспертизе, но если миссис Дэйл будет настаивать, то Сюзанну, несомненно, признают невменяемой, — хотя бы для того, чтобы не допустить не освященный церковью брак. В душу Сюзанны закрался страх. Ее железная воля стала сдавать, особенно после письма Юджина. Она была глубоко возмущена поведением матери, но лишь теперь задумалась над тем, как отнесутся к этому ее друзья. Предположим, матери удастся заключить ее в дом умалишенных. Что подумают знакомые? Догадаются ли они, где она? Дни и недели страшного напряжения, вконец измучившие мать, стали сказываться и на воле дочери, вернее, на ее нервах. Напряжение было слишком велико, и Сюзанна стала подумывать, не лучше ли поступить так, как предлагал раньше Юджин, и немного подождать? В Сен-Жаке он сказал, что согласен ждать, если она согласна. Он только ставил непременным условием, что они будут видеться. Но мать уже снова переменила фронт и твердила об опасности, которой грозит нежелательное влияние Юджина. Чтобы решить, действительно ли она его любит, Сюзанна должна прожить по крайней мере год так, как жила раньше. — Как ты можешь ссылаться на свои чувства? — набрасывалась миссис Дэйл на Сюзанну, невзирая на то, что девушка упорно молчала. — Ты дала уговорить себя, не потрудившись даже подумать как следует. От одного года ничего не станется. Чем это может повредить тебе или ему? — Но зачем ты сказала мистеру Колфаксу, мама? — снова и снова спрашивала Сюзанна. — Как ты могла поступить так гадко, так жестоко! — А затем, что необходимо было заставить его одуматься. Он не умрет с голоду. Он человек талантливый. Нужно было как-то привести его в чувство. Мистер Колфакс не уволил его. Он мне обещал, что не станет его увольнять. Он сказал, что заставит его взять годичный отпуск, пусть за это время хорошенько подумает. Ничего другого он не сделал. И ничего плохого в этом нет. А хотя бы и было, — ты подумала о том, сколько я из-за него выстрадала? Она была страшно озлоблена против Юджина и рада была отплатить ему. — Мама, я никогда тебе этого не прощу, — продолжала Сюзанна. — Ты поступаешь возмутительно. Я подожду, но все равно будет по-моему. Я не откажусь от него. — О, через год можешь делать что угодно! — подхватила миссис Дэйл. — Главное, подожди год, дай себе время подумать, а если ты и тогда не изменишь решения, что ж, так и быть. Тем временем он получит развод. Она вовсе не думала того, что говорила, но всякий довод был хорош, лишь бы оттянуть время. — Да я вовсе не хочу выходить за него замуж, — упрямо настаивала Сюзанна, цепляясь за свою первоначальную идею. — Я не того хотела. — Что ж, пусть так, — благодушно отозвалась миссис Дэйл. — Через год ты будешь рассуждать иначе. Я не хочу прибегать к насилию, но нельзя требовать от меня, чтобы я спокойно смотрела, как разваливается моя семья, как ты сама себя губишь. Ведь ты не даешь себе отчета в своих поступках. Это, наконец, мое право, — во имя всех лет, которые я тебе посвятила, ты должна оказать мне хоть каплю уважения. Год пройдет незаметно — и для тебя и для него. Ты убедишься, действительно ли он тебя любит. Возможно, что это мимолетная прихоть. У него были другие женщины до тебя, будут, вероятно, и другие после тебя. А может быть, он вернется к миссис Витла. То, что он тебе говорит, никакого значения не имеет. Ты должна испытать его, прежде чем разрушать и его семью и свою. Если он действительно тебя любит, он охотно согласится ждать. Пройдет год, и можешь делать все, что угодно. Я могу только надеяться, что если ты уйдешь к нему, то хотя бы на правах жены. Если же вы будете настаивать, я постараюсь по мере сил потушить скандал. Напиши ему, что, по-твоему, вам нужно подождать год. Тебе незачем видеться с ним. Это лишняя трепка нервов. И для него будет лучше, если ты только напишешь. Ему будет гораздо тяжелее, если вы встретитесь и все начнется сначала. Миссис Дэйл смертельно боялась влияния Юджина на Сюзанну, но тут ей не удалось ничего добиться. — Ничего подобного, — заявила Сюзанна. — Ничего подобного! Я еду в Нью-Йорк, и больше мы об этом говорить не будем. Миссис Дэйл пришлось уступить. Ничего другого ей не оставалось. Три дня спустя Юджин получил письмо от Сюзанны, в котором она сообщала, что не может сейчас писать подробно, но что скоро будет в Нью-Йорке и повидается с ним. А потом в Дэйлвью в присутствии матери — доктор Вули и мистер Питкерн находились в другой части дома — между Юджином и Сюзанной произошла встреча, во время которой все вопросы были снова подвергнуты обсуждению. Узнав, чего требует от него миссис Дэйл, Юджин сел в машину и поехал на это свидание такой мрачный и вместе с тем такой взволнованный, как никогда в жизни. Его одолевали тяжелые предчувствия и мысли о неустроенном материальном положении. Бывали, правда, минуты, когда в нем вспыхивала надежда, что Сюзанна опять неудержимо и горячо восстанет, бросится в его объятия, невзирая ни на кого и ни на что, во всеуслышание с полным убеждением заявит о своей любви и победительницей вместе с ним уйдет из дому. Так велика еще была его вера в ее любовь. Стоял холодный октябрьский вечер. В свинцовом небе тускло светил новорожденный месяц — предвестник морозов, над головою густой массой сверкали звезды. Сидя в своей машине на пароме, перевозившем его на Стейтен-Айленд, Юджин увидел стаю диких уток, держащих путь на юг, к тем заросшим камышом болотам, которые воспевает Брайант в «Обращении к водяной птице». Они издавали заунывные крики, и их слабое кряканье разносилось в воздухе, вызывая в душе Юджина чувство тоски и одиночества. Промчавшись среди оголенных деревьев, он подъехал к Дэйлвью и вошел в огромную гостиную, где они когда-то танцевали с Сюзанной. В камине ярко пылал огонь. Сердце его учащенно забилось, он должен был сейчас увидеть ее, а один ее взгляд действовал на него, как бальзам на измученное тело, как глоток студеной воды на человека, томимого жаждой. Миссис Дэйл встретила его с вызывающим видом, зато Сюзанна бросилась ему на шею. — О! — вырвалось у нее, и она крепко и долго прижимала его к себе, задыхаясь от волнения. Несколько минут стояла полная тишина. — Мама все-таки настаивает, Юджин, чтобы мы подождали год, — сказала наконец Сюзанна. — И я думаю, что, пожалуй, лучше, если мы так и сделаем, раз вокруг этого поднялся такой шум. Возможно, что мы немного поторопились, как вы думаете? Я сказала мама, какого я мнения о ее разговоре с мистером Колфаксом, но ей до этого, очевидно, дела нет. Она грозит, что объявит меня душевнобольной. Один год — это ведь не так много, раз мы будем знать, что все равно я буду вашей, не правда ли? Но я решила, что должна сама вам обо всем сказать и спросить вашего мнения. Она умолкла, продолжая смотреть на него горящими глазами. — Я считал, что мы уже договорились обо всем в Сен-Жаке, — сказал Юджин, обращаясь к миссис Дэйл, между тем как в душу его медленно проникал ужас. — Да, верно, но только я вношу одну поправку, а именно, что вы не будете видеться с Сюзанной. Я против того, чтобы вы встречались. При создавшемся положении это недопустимо. Пойдут сплетни. И вам надо как-то урегулировать ваши отношения с женой. Совершенно немыслимо, чтобы вы всюду бывали с Сюзанной, в то время как жена ваша ждет ребенка. Я хочу, чтобы Сюзанна уехала на год и провела его в таком месте, где она может успокоиться и прийти в себя. И вы должны ее отпустить. Если она и тогда будет настаивать, что любит вас, и не пожелает считаться с элементарной логикой, я окончательно умою руки. Пусть получает свое наследство. Пусть идет к вам, если вы ей так нужны. К тому времени и вы, надеюсь, опомнитесь и либо добьетесь развода, либо вернетесь к миссис Витла, — вообще поступите, как здравомыслящий человек. У нее не было намерения раздражать Юджина, но в каждом ее слове звучала злоба. Юджин нахмурился и повернулся к Сюзанне. — Это и ваше решение? — спросил он устало. — Я нахожу, что мама возмутительно вела себя, Юджин, — сказала она уклончиво, а возможно, отвечая на слова матери. — Мы с вами вправе распорядиться нашей жизнью, и в конце концов мы так и сделаем. Конечно, мы вели себя немного эгоистично. Я думаю, что год — это, пожалуй, не так страшно, лишь бы только прекратился весь этот шум. Я могу подождать, если вы согласны. От этих слов такое невыразимое отчаяние, такая глубокая скорбь овладели Юджином, что он не в силах был говорить. Не верилось, чтобы Сюзанна, его Сюзанна, могла предлагать ему это. Согласен ли он ждать год? И это говорит она, которая с таким вызовом утверждала, что ждать не станет. «Год — это, пожалуй, не так страшно…» Подумать только, что жизнь, судьба и миссис Дэйл одержали над ним такую победу! Неужели судьба может так насмеяться над ним? Неужели жизнь может с таким неслыханным коварством обмануть человека? Он потерял место. Затея с «Синим морем» надолго зашла в тупик и, вероятно, ничего не даст ему. Сюзанна уезжает на целый год, быть может, навсегда, — вероятно, навсегда, — так как за год, оставшись с дочерью, миссис Дэйл добьется от нее всего, чего только захочет. Анджела стала ему чужой, и скоро появится на свет ребенок. Какая развязка! — И вы это твердо решили, Сюзанна? — печально спросил он, чувствуя, как скорбь обволакивает его туманом. — Я думаю, что так, пожалуй, лучше, Юджин, — уклончиво ответила она. — Я знаю, это большое испытание. Но я буду вам верна. Обещаю вам, что чувства мои не изменятся. Ведь мы можем подождать год, не правда ли? Как вы думаете? — Целый год не видеть вас, Сюзанна? — Да, но он пройдет, Юджин. — Целый год? — Да, Юджин. — В таком случае мне нечего прибавить, миссис Дэйл, — сказал он, поворачиваясь к ее матери. Глаза его горели мрачным, зловещим огнем, в сердце на мгновенье вспыхнула ненависть к Сюзанне. И она могла так поступить с ним! Дать ему отставку, как он мысленно выразился. Что ж, такова жизнь. — Вы победили, — продолжал он. — Это для меня страшный урок. Да, любовь жестока. Я люблю Сюзанну. Она мне дороже жизни. Иногда я сомневался, понимает ли она это. Он повернулся к Сюзанне и впервые за все время ему показалось, что он не прочел в ее глазах того понимания, какое находил всегда. Неужели судьба и на этот раз солгала ему? Неужели он и тут ошибся и гонялся за прекрасным, манящим призраком? Неужели эта любовь была западней, поставленной на его пути, чтобы снова превратить его в ничто? Ему вспомнилось предсказание астролога, что после перерыва в семь-восемь лет его ждет второй период поражений и горя. — О Сюзанна! — произнес он просто, голос его звучал трагически. — Вы действительно любите меня? — Да, Юджин, — ответила она. — Правда? — Да. Он протянул ей руки, и она бросилась к нему, но никакие силы мира не могли рассеять его тяжкие сомнения. Они отняли у поцелуя всю радость, словно он видел во сне, что держит в своих объятиях совершенное создание, а проснувшись, обнаружил, что обнимает пустоту. Словно жизнь, чтобы погубить его, послала Иуду в образе девушки. — Довольно, мистер Витла! — холодно сказала миссис Дэйл. — Не к чему затягивать прощание. Расстанемся на год, а там посмотрим. — Сюзанна, проводите меня до дверей, — попросил Юджин, и голос его звучал скорбно, как отдаленный звон колокола. — Нет, — вмешалась миссис Дэйл. — Там прислуга. Прошу вас проститься здесь. — Мама! — гневно и вызывающе воскликнула Сюзанна, расстроенная его горем. — Не смей говорить таким тоном. Оставь нас одних, а не то я пойду с ним и до дверей и дальше. Пожалуйста, уйди. Миссис Дэйл вышла. — Любовь моя! — воскликнул Юджин с глубоким отчаянием. — Я не могу этому поверить. Не могу! Очевидно, здесь какая-то моя ошибка. Мне следовало давным-давно увезти вас. Так вот каков конец! Год! Целый год! Да и год ли только? — Только год, — настаивала Сюзанна. — Верьте мне, один только год. И я не изменю за это время. Вы знаете сами. Он покачал головой, а Сюзанна, как бывало раньше, сжала его виски ладонями. Она целовала его глаза, губы, волосы. — Верьте мне, Юджин. Может быть, я сегодня кажусь вам холодной, но вы не знаете, что я пережила. На каждом шагу какие-то ужасные затруднения. Подождем год. Обещаю вам, что буду вашей! Клянусь! Только год. Разве мы не можем подождать один год? — Только год, — повторил он. — Только год! Я этому не верю. Кто знает, что будет через год! О мое божество, моя радость, мой дивный цветок! Я не перенесу этого. Это выше моих сил. Теперь я расплачиваюсь. Да, это расплата. Он взял ее голову в свои ладони и долго смотрел на нежное очаровательное личико, на ее глаза, губы, щеки, волосы. — А я думал… Я думал… — бормотал он. Сюзанна молча гладила его волосы. — Ну что ж, раз нужно, значит нужно, — сказал он. Он направился к двери, но снова вернулся, еще раз обнял Сюзанну и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Миссис Дэйл ждала его в передней. — Прощайте, миссис Дэйл, — угрюмо проговорил он. — Прощайте, мистер Витла, — ответила она ледяным тоном. Но и она чувствовала, сколько трагизма было в одержанной ею победе. Юджин надел шляпу и вышел. В черном октябрьском небе ярко горели мириады звезд. Нью-йоркская гавань и бухта были залиты таким же волшебным светом, как и в ту ночь, после бала в форте Уодсворт, когда Сюзанна вышла к нему на террасу. Юджину вспомнились весенние запахи, чудесное ощущение молодости и любви, надежда, которая зародилась тогда в его сердце. И вот, спустя каких-нибудь полгода, все кончено. Не стало для него Сюзанны, ее ласкового голоса, ее цветущей красоты, ее милого шепота, нежного прикосновения. Все кончено!
Увял цветок, чью сладость я вдыхал,
Где красота, что радовала взор?
Где та, кого я к сердцу прижимал?
Где голос, ласка, райских звуков хор?
Глава 95
После разговора с Колфаксом и принятого Сюзанной решения, в сущности равносильного полному отказу, Юджин занялся ликвидацией своих служебных и семейных дел. Все это было нелегко. По совету Колфакса, он сказал сотрудникам, что уезжает за границу по издательским делам, и при этом в самом ближайшем времени: он материально заинтересован в другом предприятии, о чем они, возможно, слышали или догадываются, и потому, вполне вероятно, не вернется в издательство или разве только на короткий срок. Юджин держался спокойно и уверенно, и никто не подозревал, что значит для него этот уход. Все это было для служащих большим сюрпризом. Они остались под впечатлением, что Юджина ждет еще более высокое положение — теперь он, очевидно, целиком посвятит себя собственному делу. Анджеле он заявил, что они должны расстаться. Он не допускал в этом вопросе ни малейшей неясности. Пусть она знает, как обстоит дело. Службу он потерял, с Сюзанной соединится не скоро. И он требовал, чтобы Анджела ушла от него, или он сам уйдет. Он советовал ей поехать на время в Висконсин, или в Европу, или куда бы то ни было, предоставив ему самому выпутываться из своих затруднений. Он ей, собственно, сейчас не нужен. Она может обойтись без него. Существуют сиделки, к помощи которых она может обратиться, существуют санатории для беременных и родильные дома. Он готов за все платить. Юджин что угодно готов был сделать, чтобы больше не жить с Анджелой. Один ее вид, при той гложущей тоске, какую он испытывал, служил бы для него вечным укором, вечным напоминанием о пережитом позоре. Нет, они должны расстаться, и, может быть, кто знает, Сюзанна еще найдет в себе достаточно отваги и решимости, чтобы прийти к нему. Так должно быть. А вдруг Анджела умрет. Да, эта жестокая мысль приходила ему в голову. Она умрет, и тогда… тогда… О том, что ребенок может остаться в живых, даже если Анджела умрет, он не задумывался. Эта мысль не укладывалась у него в голове. Ребенок был для него лишь отвлеченным понятием. Юджин снял комнату в большом доме в районе Кингсбридж, где ни один человек не знал его и где он вряд ли мог встретить знакомых, и стены ее стали свидетелями безотрадного зрелища. Это было зрелище человека, чья жизнь пошла прахом, в чьих чувствах, представлениях, наклонностях и восприятиях царил хаос, — человека, пережившего страшное разочарование, павшего под тяжестью судьбы. Будь Юджин лет на десять — пятнадцать старше, это состояние могло бы привести к самоубийству. Будь у него несколько иной характер, оно могло бы толкнуть его на убийство, на любое преступление. А он только погрузился в полную апатию и, вспоминая о своих рухнувших надеждах, думал о том, где-то теперь Сюзанна, что делает Анджела, что говорят и думают о нем люди, как собрать осколки своей разбитой жизни и что-нибудь слепить из них. Единственным спасением для него оказалось желание работать — оно вернулось не сразу, но все же постепенно стало заявлять о себе. Необходимо было чем-то заняться, хотя бы той же живописью. В таком состоянии нечего было и думать рыскать по Нью-Йорку в поисках службы. «Синее море» ничего не могло ему дать. А работать он должен, чтобы содержать Анджелу, чтобы не оказаться перед ней последним негодяем. Ибо, размышляя о своем отношении к ней в свете случившегося, Юджин начал понимать, что вел себя очень некрасиво. Она глубоко чуждый ему человек, но разве можно ставить это ей в вину? Во всяком случае, сейчас необходимо придумать, чем заняться, чем жить и вообще что делать дальше. У них было много разговоров на эту тему, были бурные сцены, так как для Анджелы рушилось все, что представляло какую-то цену в жизни, но, несмотря на ее плачевное положение, они расстались. Наступил ноябрь месяц, и так как домовладелец прослышал о финансовых затруднениях своего жильца, вернее, о постигших его неудачах, Юджину удалось расторгнуть арендный договор, истекавший только через несколько лет, и отказаться от квартиры. Анджела, совершенно обезумевшая от горя, не знала, где искать помощи. Она попала в одно из тех унизительных положений, которые заставляют человека бежать общества себе подобных. В отчаянии она бросилась к сестре Юджина, Миртл, которая сперва намеревалась скрыть от мужа это позорное и трагическое происшествие в своей семье, но потом все ему рассказала и вместе с нимстала думать, что делать. Фрэнк Бэнгс, как человек практического склада и к тому же убежденный приверженец «христианской науки» (он стал им с тех пор, как у Миртл каким-то чудом исчезла беспокоившая ее опухоль), попытался применить и здесь основной догмат этого учения — догмат о господстве добра. — Не горюй, Миртл, — сказал он жене, которая, несмотря на свою веру, была потрясена и испугана несчастьями, свалившимися на голову брата. — Это только лишний раз показывает, как способен заблуждаться человеческий ум. То, о чем ты рассказываешь, как будто и серьезно, но в глазах господа это ничто. Уверяю тебя, все окончится благополучно, если мы будем в это верить. Анджеле лучше всего лечь в родильный дом — сейчас или когда придет время. Я надеюсь, что нам удастся убедить Юджина поступить по справедливости. Они уговорили Анджелу искать совета и помощи в учении миссис Эдди. Сама же Миртл отправилась к своей знакомой лекарке и попросила ее употребить все свое влияние или свои познания, чтобы наставить ее брата на путь истины. Та ответила, что это невозможно, пока на то не будет желания самого Юджина, но обещала молиться за него. Вот если бы удалось уговорить его обратиться к ней по доброй воле, в поисках духовного руководства или божественной помощи, тогда другое дело. Несмотря на заблуждения Юджина — а в глазах Миртл они были чудовищны, — ее вера не позволяла ей укорять его. К тому же, он был ее любимый брат, Юджин — незаурядный человек, рассказывала она миссис Джонс, но он всегда был со странностями. Она готова допустить, что он и Анджела не были идеальной парой. Но ведь «христианская наука» все может исправить. Анджела переживала мучительные дни, пока ее вещи упаковывались и увозились на склад, на хранение. Эти обломки прошлого были ей бесконечно дороги, как напоминание о былом величии, как символ жизненных благ и видного положения в обществе. С болью в сердце перебирала она вещи Юджина — его картины, трости, трубки, его одежду — и горько зарыдала, когда ей попался под руку красивый шелковый халат, в котором он обычно отдыхал дома, — так живо вспомнились ей былые, счастливые дни. И сейчас у Анджелы иногда прорывался ее холодный жесткий тон, и снова ею овладевал прежний властный дух — но ненадолго. Она потерпела поражение и прекрасно это сознавала. Все рухнуло. В ее ушах раздавался гул холодного, грозного моря. Сюзанне одно время действительно казалось, что она любит Юджина. Слишком велико было магическое обаяние его личности, и она не в силах была ему противостоять. В Юджине чувствовалось что-то глубоко враждебное общепринятым мнениям. Если при первом, поверхностном, взгляде он казался агнцем, послушным рабом узаконенных чувств и представлений, то на самом деле, в своем презрении к утвердившимся традициям, это был неукротимый волк. Он ни во что не ставил отстоявшиеся формы жизни, ее раз и навсегда заведенный порядок. Заглядывая глубже, он видел в ней не материальную ее сущность, а духовную — или, скажем, нематериальную; в материальном же усматривал лишь тень духовного. Какое дело могущественным силам жизни до того, сохранится ли та или иная система, за которую цепляются люди, поднимая вокруг этого такую возню и шум? Да ровно никакого! Однажды, побывав в морге, где он видел человеческие тела, которым суждено было превратиться как бы в химическое месиво, он сказал себе, что смешно даже предполагать будто человеческая жизнь что-нибудь значит для тех сил, которые вызывают такие превращения. Тут действуют непреодолимые законы химии и физики, иногда допускающие кое-какую прихотливую игру теней, но лишь как нечто временное, преходящее. Однако, пока эта игра длится, как она прекрасна! Нечего и говорить, что Сюзанна была крайне подавлена всем случившимся, так как она не в меньшей мере, чем Юджин, способна была страдать. Но она дала слово ждать и решила сдержать обещание, хотя один раз и нарушила его. Ей шел двадцатый год — Юджину вскоре должно было сравняться сорок. Независимо от ее желания, жизнь могла еще залечить ее раны. Что же касается Юджина, то, по мере того как шло время, его боль только усиливалась. Миссис Дэйл вместе с Сюзанной и остальными детьми отправилась за границу. Она гостила у людей, которые ничего не знали об увлечении Сюзанны и едва ли могли узнать, — в крайнем случае могли лишь что-то предполагать. Если бы что и выплыло наружу, — а такую возможность она допускала, — миссис Дэйл решила заявить, что у Юджина были недостойные виды на ее дочь, но что ей удалось быстро разгадать его планы и расстроить их, почти без ведома Сюзанны. Это звучало в достаточной степени правдоподобно. Что теперь делать? Как жить дальше? Эта мысль постоянно грызла Юджина. Поселиться где-нибудь в глухом переулке, в какой-нибудь конуре, где бы им с Анджелой, если бы он решил не расходиться с нею, можно было за небольшие деньги любоваться красивым видом из окна? Ни за что! Примириться с мыслью, что Сюзанна потеряна для него по меньшей мере на год, что ее отняли у него так неожиданно и грубо? Нет, это невозможно! Признать, что совершил ошибку, — хотя он еще не видел, в чем она состояла, — проявить раскаяние и постараться кое-как наладить прежнюю жизнь? Ни в коем случае! Ему не в чем было раскаиваться. У него не было ни малейшей охоты возвращаться к Анджеле. Она ему опротивела, — вернее, опротивело состояние скованности всякими запретами и предрассудками, с которыми он вынужден был мириться столько лет. Юджину претила мысль, что ему, вопреки его желанию, навязывают ребенка. Он на это не пойдет. Незачем ей было ставить себя в такое положение. Нет, лучше смерть. Его жизнь застрахована в ее пользу, он выплатил по полису около восемнадцати тысяч долларов — в случае его смерти она получит эту сумму. И он желал смерти. Пусть это будет в ее глазах искуплением за жестокие удары, которые судьба нанесла ей, но жить с ней дальше он не согласен. Ни за что! Не важно, будет у нее ребенок или нет! Остаться с ней, в их квартире, после того памятного вечера, — да разве это возможно? Ведь ему пришлось бы делать вид, будто ничего не произошло, будто ничего не изменилось в его отношениях с Сюзанной. Да и она, может быть, еще вернется к нему. Может быть! Может быть! О, какое глумление — бросить его таким образом, когда она могла прийти к нему, должна была прийти. О, сколько яда в смертоносных стрелах судьбы! И вот наступил день, когда их мебель была отправлена на склад, и Анджела временно поселилась у Миртл, а затем настал и тот тяжелый час, когда она уехала из Нью-Йорка в Расин, где жила с мужем ее сестра Мариетта. Она решила, что только на прощание, под строжайшим секретом, откроется сестре. Юджин проводил ее на вокзал, хотя у него не было ни малейшего желания присутствовать при ее отъезде. Анджела, однако, не оставляла надежды, что время принесет с собою примирение. Если она сможет его дождаться, если возьмет себя в руки, с честью выйдет из предстоящего испытания и не умрет и не даст Юджину развода, он, быть может, образумится и решит, что она стоит хотя бы того, чтобы жить с нею под одной крышей. Ребенок может способствовать этому — немыслимо, чтобы это событие оставило его равнодушным. Он не может не прийти ей на помощь в такое время. Она твердила себе, что с радостью пройдет через все пытки, если только это вернет ей Юджина. Ее ребенок — какой прием ждет его! Нежеланный, отвергнутый еще до рождения! Как поступит с ним Юджин, если она умрет? Быть не может, чтобы он бросил его на произвол судьбы. По-своему, с грустью и тревогой, она уже начинала привязываться к ребенку. — Скажи мне только одно, — обратилась она к Юджину однажды, когда они то ссорились, то строили планы, как дальше жить. — Если у меня родится ребенок, и я… я умру, — ты ведь не бросишь его на произвол судьбы? Ты позаботишься о нем, правда? — Конечно, позабочусь, — ответил он. — Это тебя не должно тревожить. Не такой уж я отъявленный негодяй. Я не хотел ребенка, верно, ты навязала мне его. Но, конечно, я о нем позабочусь. И я совсем не хочу, чтобы ты умирала, ты это знаешь. Если только она останется в живых, размышляла Анджела, она готова снова пройти вместе с Юджином через все испытания бедности и нужды, только бы видеть его образумившимся, положительным человеком, хотя бы и не слишком преуспевающим. Ребенок поможет этому, наверняка поможет. Ведь у Юджина никогда не было детей. Пусть ему сейчас неприятна мысль о ребенке, но с его появлением все может измениться. Только бы ей остаться в живых. Трудно ей будет, ведь она уже не молода. Тем временем она советовалась с юристом, врачом и гадалкой, с астрологом и с лекаркой, рекомендованной ей Миртл; это было бессмысленное, смешное сочетание, но Анджела совсем растерялась, а в бурю всякая гавань сулит спасение. Врач сказал Анджеле, что ее мышцы утратили свою упругость, но он надеется, что при соблюдении известного режима все кончится благополучно. Астролог открыл ей, что это испытание предназначено им звездами, — скорее даже ее мужу, который, по-видимому, уцелеет после всех потрясений и еще преуспеет в жизни. Что же касается самой Анджелы, — и тут астролог покачал головой, — о, разумеется, и для нее все кончится благополучно. Он лгал. У гадалки она спросила, женится ли Юджин на Сюзанне, и была счастлива услышать, что эта девушка никогда не войдет в его жизнь. Гадалка, разряженная, увешанная драгоценностями, была страшна, как смертный грех, — Анджела долго ждала ее в приемной среди других посетительниц, которых привели сюда различные горести — сердечные заботы, потеря денег, ревность, опасности родов. Миссис Джонс объяснила Анджеле, что все на свете есть проявление божественного духа, всемогущего и всеобъемлющего добра, и что зла, следовательно, нет, а есть только иллюзии зла. Оно имеет власть лишь над теми, кто в него верит, утешала она Анджелу, но лишено всякого значения и смысла для того, кто сознает себя совершенным и неугасимым отражением божественной идеи. Бог — это принцип. Достаточно уяснить себе это, а также что человек — неотъемлемая его часть, и зло рассеивается подобно дурному сну, чем в сущности оно и является. Зло лишено всякой реальности. По их учению, уверяла она Анджелу, никакое зло не может ее коснуться. Бог есть любовь. Юрист, выслушав возбужденный рассказ Анджелы о безнравственном поведении Юджина, сообщил ей, что по законам штата Нью-Йорк, где все эти проступки были совершены, она может претендовать лишь на самую незначительную часть состояния своего мужа, если у него таковое имеется. Что касается развода, то эта процедура потребует минимум двух лет. Он лишь в том случае рекомендовал бы ей судиться, если бы ей удалось доказать, что муж ее располагает большими средствами, в противном случае игра не стоит свеч. И он взял с нее двадцать пять долларов за совет.Глава 96
Если человек долго жил в определенной среде, медленно и верно создавая себе известные взгляды, привычки и правила поведения; если при этом он достиг видного положения в обществе и слово его было законом для других; если он изведал, что значит полная свобода действий, познал то легкое и беззаботное ко всему отношение, какое дает богатство, роскошь и почет, то внезапная потеря средств, страх перед общественным мнением, вечная боязнь публичного унижения и позора становятся для него пыткой, мучительнее которой трудно что-либо вообразить. Это для него пора сурового испытания. Кто восседает среди великих мира и взирает на жизнь, управляемую некоей высшей силой, избравшей его своим сверкающим орудием, тот понятия не имеет о чувствах человека, низвергнутого с высоты, лишенного прежних почестей и благ, пребывающего во мраке, среди праха былого величия, и грустно размышляющего о минувшей славе. В этом заключена трагедия, недоступная пониманию обыкновенного человека. Ветхозаветные пророки знали это — они не переставали возвещать судьбу тех, кто, увлеченный своими безумствами, сошел с пути праведного и чья участь, волею благодетельной, но карающей силы, должна была стать примером для других. «Так сказал господь: — Ты восстал против бога всевышнего, и перед тобой были выставлены взятые из храма сосуды его, и ты, и военачальники твои, и жены, и наложницы пили вино из них, и ты восславлял богов, сотворенных из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня… Дни твоего царствования сочтены, и царству твоему конец. Деяния твои были положены на чашу весов, и веса их оказалось недостаточно. И царство твое будет поделено между мидянами и персами». Судьба Юджина могла бы в известной мере служить образцом этого призрачного торжества справедливости. Его царству, пусть и утлому, и на самом деле пришел конец. В нашей общественной жизни слишком сильны слепые инстинкты, и мы почти бессознательно бросаемся прочь от всего, что противоречит традициям, обычаям, предвзятым взглядам и целям, которым, по своей близорукости, придаем большое значение. Кто из нас не бежит от человека, за какие-то деяния осужденного той частью общества, мнением которой мы почему-то дорожим? Пусть он высоко держит голову и ведет себя безупречно — если на него упала хотя бы тень подозрения, все отворачиваются от него, друзья, родные, деловые знакомые — словом, все общество в целом. «Нечистый!» — несется вопль. «Нечистый, нечистый!» И хоть бы сами мы были ничтожествами в душе, хоть бы сами были гробами повапленными, мы вместе с другими бежим прочь. Но этим мы лишь подтверждаем превосходство тех мудрых сил, которые ведут человека к предназначенной цели, не позволяя его развращенности, его рабской подражательности замутить их светлый приговор. Анджела поехала в Блэквуд повидать отца, который был уже совсем стар и немощен, а потом — в Александрию навестить мать Юджина, здоровье которой тоже сильно пошатнулось. «…Я все еще не теряю надежды, что ты одумаешься, — писала она Юджину. — Пиши мне время от времени, если будет желание. Ведь это тебя ровно ни к чему не обязывает. От нескольких слов, которые ты мне черкнешь, ничто не изменится, а я так одинока. Ах, Юджин, если бы я могла умереть — если бы я могла умереть!» Ни в Блэквуде, ни в Александрии Анджела ни единым словом не обмолвилась об истинном положении вещей. Она рассказывала, что Юджину давно надоела его коммерческая деятельность, и теперь, поскольку обстоятельства у Колфакса сложились для него неблагоприятно, он рад на время вернуться к своему искусству. Возможно, он тоже приедет, но он страшно занят. Так она лгала всем. Но Миртл она писала подробно о своих надеждах, а главное, о своих страхах. У Юджина было несколько свиданий с Миртл. Она с детских лет питала к нему нежность как к младшему брату. Многое в его характере было ей и сейчас так же мило, как в те времена, когда они были детьми. Она разыскала Юджина в его унылой комнате в Кингсбридже. — Почему бы тебе не переехать к нам, Юджин? — начала она его упрашивать. — У нас уютная квартира. Ты можешь взять себе большую комнату, рядом с нашей спальней. Там из окна очень красивый вид. Фрэнк к тебе так хорошо относится. Мы с ним слышали обо всем от Анджелы, и я считаю, что ты не прав, но ты мой брат, и я хочу, чтобы ты переехал к нам. Все кончится хорошо, вот увидишь. Бог рассудит вас. Мы с Фрэнком молимся за тебя. Ты должен знать, что по нашему учению зла не существует. Ну, пожалуйста, — и Миртл улыбнулась своей былой девичьей улыбкой. — Ну что ты торчишь здесь один, взаперти? Разве тебе неприятно будет поселиться вместе со мной? — Разумеется, мне было бы приятно жить у вас, Миртл, но сейчас это невозможно. И я не хочу. Мне нужно подумать, надо побыть одному. Я еще не решил, что делать дальше. Попробую вернуться к живописи. Денег у меня пока хватит, а времени хоть отбавляй. Тут на холме есть несколько домов получше — наверно, там найдется для меня комната с окнами на север, под студию. Но все это нужно обдумать. Я еще и сам не знаю, что буду делать. Между прочим, у него снова начались боли под ложечкой, — как тогда, когда миссис Дэйл увезла Сюзанну в Канаду, и он испугался, что больше ее не увидит. Это была настоящая физическая боль, резкая, как от удара ножа. Его удивляло, что он может сейчас страдать от физической боли. Он чувствовал также ломоту в глазах и в кончиках пальцев. Не странно ли это? — Посоветуйся с кем-нибудь из наших лекарей, — говорила ему Миртл. — Ведь ты ничем не рискуешь. Верить для этого не нужно. Хочешь, я куплю тебе книгу, где все изложено, почитай ее. Увидишь, Юджин, ты и сам скажешь, что в этом что-то есть. Ну вот, ты иронически улыбаешься, но я не могу тебе сказать, сколько это дало мне. Ну просто очень, очень много. Я совсем не та, что была пять лет назад, и Фрэнк тоже. Ведь ты знаешь, как я была больна? — Да, знаю. — Так почему бы тебе не повидать миссис Джонс? Можешь ничего ей не рассказывать, если не хочешь. Бывает, что она просто чудеса творит. — Ну чем мне поможет твоя миссис Джонс? — с горечью отозвался Юджин, и губы его скривились в едкую усмешку. — Может она меня излечить от меланхолии? Сделать так, чтобы сердце у меня не болело? К чему все эти разговоры? Просто надо скорей кончать всю эту музыку. Он угрюмо отвел глаза. — Миссис Джонс не может, зато бог может. Ах, Юджин, я прекрасно понимаю, что у тебя на душе. Но я прошу тебя, сходи к ней. Ну что тебе стоит? Завтра я принесу тебе книгу. Ты почитаешь ее, если я принесу? — Ничего я читать не стану. — Юджин, сделай это ради меня. — Зачем, если я не верю? И не могу верить. Я слишком здравомыслящий человек, чтобы придавать серьезное значение такому вздору. — Как ты странно рассуждаешь, Юджин! Когда-нибудь ты другое скажешь. Я знаю твои взгляды, но все-таки прочитай ее. Ну, пожалуйста! Мне бы не следовало тебя упрашивать. Это совсем не так должно делаться, но я хочу, чтобы ты хоть взглянул в нее. И сходи повидайся с миссис Джонс. Юджин отказался. Из всех идиотских советов, какие могли быть ему предложены, это был самый глупый. Христианская наука! Христианская белиберда! Он и сам знал, что ему следует сделать. Совесть подсказывала ему, что он должен забыть Сюзанну и вернуться к Анджеле в этот тяжелый для нее час, вернуться к своему ребенку — по крайней мере на время. Но как могущественно очарование красоты и любви! Дни, проведенные с Сюзанной в окрестностях Нью-Йорка! Часы блаженства, когда она была так прекрасна! Как превозмочь все это? Как забыть? Ведь она была так пленительна, так необычайно хороша. Каждое воспоминание о ней отзывалось в сердце невыносимой болью, и Юджин старался гнать от себя эти мысли, куда-то ходил, что-то делал, просто метался по комнате, чтобы не думать. Какая жизнь! Какой ад! Если в ту пору в поле зрения Юджина попала «христианская наука», то это объяснялось исключительно тем, что Миртл и ее муж были восторженными последователями этой секты. Как в Лурде и в Сент-Анн де Бо-Пре паломникам приходит на помощь надежда, жажда исцеления и фанатическая вера в благотворное вмешательство какой-то высшей силы, так было и с Миртл, которая исцелилась от серьезного и трудно поддающегося лечению недуга. У нее была опухоль, нервная бессонница, несварение желудка и общее расстройство пищеварения, и никакие усилия врачей не приносили облегчения. Она тяжко страдала душой и телом, когда ей попало в руки руководство миссис Эдди под названием «Наука и здоровье — с ключом к Священному писанию». И, читая эту книгу, она вдруг избавилась от всех своих болезней, вернее, ею овладела мысль, что она здорова, а немного спустя она и действительно выздоровела. Она выбросила в мусорный ящик все свои порошки и микстуры, которых у нее набралось изрядное количество, перестала обращаться к врачам, принялась читать издания этой секты, зачастила в ее ближайшую церковь и вскоре с головой ушла в дебри метафизических рассуждений о сущности земного существования. Муж Миртл, очень ей преданный, тоже стал приверженцем этого учения, ибо то, что хорошо для нее и могло излечить ее, рассуждал он, достаточно хорошо и для него. Увлеченный высшим духовным смыслом «христианской науки», он стал даже более рьяным последователем и ее толкователем, чем сама Миртл. Те, кто хоть сколько-нибудь знаком с «христианской наукой», знают, что основной ее догмат гласит: бог — это принцип, а не личность, воспринимаемая нашими чувствами (свидетельство которых иллюзорно), а человек — его образ и подобие (в духовном смысле). Человек, стало быть, не бог и не частица бога, он — божественное помышление и, следовательно, исполнен гармонии и всяческих совершенств. Для людей, не склонных к метафизике, все это лишено всякого смысла, но для тех, кто к ней расположен, здесь заключено некое откровение. Материя представляется им лишь искусным сочетанием иллюзий, претерпевших эволюцию или нет, не суть важно, но непременно возникших из ничего и во всяком случае лишенных какой бы то ни было видимой и осязаемой основы. Сами по себе, вне той веры и значения, какое приписывает им тот, кто сам только дух, эти иллюзии — ничто. Стоит в них усомниться, и они рассеиваются, как мираж. Для Юджина, пребывавшего в состоянии крайней угнетенности, — он стал угрюм, мрачен, разочарован и всюду видел действие злых, разрушительных сил, — это учение могло бы представить известный интерес, если бы он захотел с ним ознакомиться. Юджин принадлежал к типу людей, с детства склонных к метафизике. Всю свою жизнь он не переставал размышлять о загадках бытия, читал Спенсера, Канта, Спинозу, а главным образом таких авторов, как Дарвин, Гексли, Тиндаль, лорд Эвербери, Альфред Рассел Уоллес, — в последнее же время сэра Оливера Лоджа и Вильямса Крукса, — пытаясь уяснить себе на основе индуктивного, материалистического метода, что такое жизнь. Углубляясь в такие произведения, как «Сверхдуша» Эмерсона, «Размышления» Марка Аврелия и диалоги Платона, он, казалось, различал в них проблески истины. Бог есть дух, думал он, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии, но только большой вопрос, занимается ли он делами земли, где столько взаимной вражды и страданий. Сам Юджин этому не верил, во всяком случае он сильно сомневался в этом. Его всегда глубоко трогала Нагорная проповедь — отношение Христа к мирским невзгодам, а также пламенная вера древних пророков, утверждавших, что бог есть бог, нет бога, кроме единого, и что он покарает всякое беззаконие. Покарает или не покарает, думал Юджин, это еще под большим сомнением. Понятие греха всегда было для Юджина загадкой, особенно первородного греха. Возможно ли, чтобы еще до появления человека на земле существовали какие-то законы? И какие же? Был ли среди них, например, закон о браке, о неком духовном союзе, который, следовательно, старше самой жизни? Предусматривали ли эти законы такое явление, как воровство? Но как можно говорить о воровстве вне всякой связи с жизнью? Где было воровство, когда не было человека? Или оно появилось на земле вместе с человеком? Смешно! Очевидно, здесь действуют законы другого порядка, вроде тех, какие проявляются в химии и физике. Один профессор, крупный социолог, читавший лекции в каком-то колледже, говорил Юджину, что в таких понятиях, как успех, неудача, грех, лицемерие, он видит лишь производные первичных инстинктов, вроде инстинкта самосохранения или размножения. Помимо этого ничего не существует. Абсолютная мораль? Чепуха! Таких вещей не бывает. Этот крайний скептицизм не мог не увлечь Юджина. Он всегда был склонен к сомнению. Как уже говорилось, жизнь под его скальпелем распадалась на отдельные элементы, но собрать их потом воедино он не умел — из-за неумения последовательно мыслить. Вот, скажем, люди толкуют о святости брака, но ведь брак тоже результат какой-то эволюции! Это было ему хорошо известно. Однажды он прочитал чей-то двухтомный трактат под заглавием «История человеческого брака» — или что-то в этом роде. В нем говорилось, что животные спариваются лишь на тот срок, какой нужен, чтобы вырастить детенышей, то есть довести их до того возраста, когда они сами смогут о себе заботиться. И разве не это лежит в основе современного брака? В той же книге, помнится, сказано: брак только потому стал считаться священным и нерасторжимым, что человеку надо много времени для воспитания своего потомства — так много, что пока дети станут на ноги, родители успевают благополучно состариться. А тогда зачем разводиться? Но производить на свет детей обязанность каждого. Вот в том-то и дело! Вот тут-то и начинались для Юджина все его мучения. Отсюда вырастала проблема домашнего очага. Дети! Воспроизведение рода! Впрягайтесь в колесницу эволюции! Так неужели же всякий, кто этого не делает, осужден? Он навлекает на себя гнев своего племени? А сколько есть мужчин и женщин, которые не имеют детей, не могут их иметь! Тысячи и тысячи, и те, кто имеет детей, осуждает тех, кто не имеет. Юджин знал, что преобладающая в Америке точка зрения заключается в том, что человек должен производить на свет и воспитывать детей, — точка зрения практическая и консервативная. Взять хотя бы его отца. Но разве не находятся хитрецы, которые пользуются этим в своих целях: они переносят свои фабрики туда, где инстинкт размножения особенно силен, чтобы за бесценок нанимать детей на работу; и ничего с этими людьми не случается, — а может быть случается? Миртл не переставала упрашивать брата познакомиться с новым толкованием священного писания, утверждая, что оно рассеет все его земные горести, ибо оно учит, что в мире существует только чистый дух, не доступный человеческому разуму. Если ему лучше разойтись с Анджелой, говорила Миртл, то так оно и будет; а если нет — то этому не бывать. Но в чем бы ни заключалась истина, к нему вернутся счастье и душевный покой. Он должен поступать правильно («ищите прежде всего царствия божьего»), а остальное приложится. Вначале Юджина ужасно раздражали эти разговоры, но потом он втянулся в них. За завтраком и за обедом шли нескончаемые увещания и уговоры. Бэнгс и Миртл приводили бесконечные доводы в пользу «науки», а несколько раз Юджин даже сопровождал их в церковь, где по средам верующие рассказывали о чудесах, объектами или очевидцами которых были сами. Рассказы эти казались Юджину мало правдоподобными. Пока дело ограничивалось повествованиями о недугах, которые можно в известной мере считать плодом больного воображения, он готов был объяснить эти случаи мнимого исцеления результатом религиозной восторженности. Но когда оказывалось, что эти мнимые больные излечились от рака, туберкулеза, прогрессивного паралича, зоба, костных заболеваний и грыжи, он не столько готов был счесть их лжецами, так как они не производили такого впечатления, сколько склонен был думать, что они заблуждаются. Как могли эти люди, — или их учения, одним словом, что бы там ни было, — вылечить рак? Бог ты мой! Так продолжал он упорствовать в своем неверии и отказывался читать книгу, пока однажды в среду вечером от нечего делать не забрел в Четвертую церковь последователей «христианской науки». Кто-то из сидевших в одном с ним ряду поднялся и произнес следующую речь:«Я хочу свидетельствовать перед вами о любви и милости, которую явил мне господь бог, так как совсем недавно я был поражен неизлечимым недугом и чувствовал себя пропащим человеком. Я вырос в семье, где с библией не расставались ни днем, ни ночью — отец мой закоснелый пресвитерианец, — и до того меня всем этим пичкали, до того мне опротивело наблюдать на каждом шагу и даже на примере моих ближайших родичей, как слово у этих святош всегда расходится с делом, что я решил про себя: ладно, не стану ни в чем им перечить, пока живу в отцовском доме и ем отцовский хлеб. Зато уж, как вырвусь на волю, буду делать, что хочу. Так я прожил до семнадцати лет, а затем перебрался на жительство в большой город Цинциннати. Но едва только оказался на воле и сбросил с себя, словно ненужную ветошь, все мое религиозное воспитание и решил зажить по-своему, пустился я во все тяжкие и стал выпивать, хотя, по правде говоря, не видел в вине большой радости, и так и не сделался пьяницей».Юджин улыбнулся.
«Поигрывал я и в карты, однако опять-таки не втянулся, не стал игроком. Но была у меня лютая страсть к женскому полу, и тут уж я заранее прошу вашего прощения и думаю, что вы меня простите, потому что есть, верно, и среди вас такие, кому мой рассказ может пойти на пользу. Скажу вам одно: женщины были для меня величайшим соблазном. Вожделение владело всеми моими помыслами. Меня обуяла жестокая похоть. И так был во мне силен голос плоти, что я не мог увидеть хорошенькую женщину, чтобы — как сказано в писании — не пожелать ее. Так я жил в грехе и беззаконии, но тут господь посетил меня. Я заболел водянкой, воспалением почек и прогрессивным параличом. И после того, как пролечился пять лет и истратил все свое имущество на врачей и всякое лечение, мои близкие однажды отнесли меня, совсем больного, в Первую церковь последователей христианской науки в городе Чикаго. А до этого я всегда обращался за помощью к обыкновенным врачам. Если среди присутствующих есть такие, кто переживает то же, что пережил я, пусть услышат меня. Ибо я хочу сказать вам, что я стал здоровым человеком — и не только физически или морально, нет, я окреп и духом, насколько мне говорит мой слабый разум. Я прошел шестимесячный курс лечения у одной женщины в Чикаго и вот стою перед вами — здоровый человек. Господь есть добро!».С этими словами он сел. Пока он говорил, Юджин внимательно изучал его лицо. Это был высокий худощавый блондин с рыжеватой бородкой. Лицо свежее, румяное, с правильными чертами, голубые глаза смотрят уверенно и спокойно. И вообще от него веет здоровьем, энергией и бодростью. Голос у него звучный, ясный, его, по-видимому, хорошо слышат даже в задних рядах. Человек этот одет в новый, если и не изысканный, костюм, — хорошо сшитый и безукоризненно на нем сидящий. Это не бродяга, не какая-нибудь подозрительная личность, а человек с солидной профессией, может быть чертежник или инженер. Что-то в его судьбе напомнило Юджину его собственную. Правда, он не знал всех этих болезней, но разве совершенная женская красота не будила в нем любострастных желаний? Однако можно ли ему верить? Ну, неужели же он врет! Смешно! Или сам заблуждается? Кто этот человек? Слишком он сильный, рассудительный, энергичный, слишком ясно и здраво мыслит, чтобы ошибаться или лгать. И все же… А вдруг этот незнакомец послан ему какой-то неведомой попечительной силой, его добрым гением, который еще не совсем от него отступился? Возможно ли это? Странное, но доброе предчувствие посетило его — как и в тот день, когда он увидел чернобородого господина в вагоне, отправляясь на зов Сюзанны; как и в тех случаях, когда таинственные силы раскладывали у него на дороге старые подковы, предвещающие удачу. В задумчивости вернулся он домой и в тот вечер впервые серьезно уселся за книгу «Наука и здоровье», подаренную ему сестрою.
Глава 97
Тот, кто когда-либо пытался читать эту своеобразную, а по мнению многих и весьма примечательную книгу, знает, что внешне — это нагромождение чудовищных противоречий и метафизической галиматьи. Уже одного утверждения в предисловии, будто после потопа люди стали болеть и чаще и серьезнее, чем раньше, достаточно, чтобы ошеломить каждого, кто привык полагаться на науки с их материалистическим обоснованием. И когда Юджин, едва приступив к чтению, наткнулся на эту нелепость, он весь вскипел. Ну что, в самом деле, за охота болтать глупости! Ведь всем известно, что никакого потопа не было. Так зачем же выдавать басню за факт? Это раздражало его, хотя в известном смысле казалось даже забавным. И тут же он набрел на другое, невнятное и по существу противоречивое место, где шла речь о материи и духе. Миссис Эдди утверждала, что свидетельству наших чувств нельзя верить, а сама то и дело на них ссылалась и для иллюстрации своих мыслей приводила аллегории, основанные на чувственном опыте. Юджин не раз бросал книгу, так его раздражали постоянные ссылки на Библию. Библия не была для него авторитетным источником. Да и самое понятие христианства не внушало ему почтения, так же как и человеку, свидетельствовавшему в церкви. Можно ли серьезно уверять, будто сотворенные Христом чудеса происходят и в наше время? А как же показания этого человека? Разве в его словах не чувствовалась глубокая искренность, подлинное волнение того, кто грешил и раскаялся? Вскоре, однако, отдельные мысли, рассеянные тут и там, а также спиритуалистическое толкование христианства в целом пробудили в Юджине интерес к этой книге. Особенно одно место привлекло его внимание, — ведь он никогда не чуждался метафизики. «Осознай на миг, что мы живем и мыслим лишь в духе и что ни в нас, ни вокруг нас нет ничего материального, — и тело твое избавится от боли. Если ты страдаешь от мнимого недуга, он сразу оставит тебя. Там, где плоть подчинена духу в любви, самые печали станут радостью». «Бог есть дух, — вспомнил Юджин слова Иисуса. — И поклоняющиеся должны поклоняться ему в духе и истине!» «Недуг твой оставит тебя. И самые печали станут радостями». «Печали? Какие же печали? — думал Юджин. — Ведь не любовные же! Очевидно, это означает конец земной любви; ведь и она преходяща». Продолжая читать, он обнаружил, что последователи «христианской науки» верят в непорочное зачатие девы Марии, и это тоже поразило его, как ужасная нелепость. Они верили также, что люди в конце концов откажутся от брака, как от бренной иллюзии самосотворения и продолжения рода, а вместе с этим отпадет и рождение детей; дематериализация человеческого тела, возвращение его к духовной сущности, которой чужды грех, болезни, разложение и смерть, также входило в их символ веры. Юджину подобные утверждения представлялись вопиющей нелепицей, но в то же время это отвечало его ощущению присутствия в жизни какой-то тайны и общему метафизическому направлению его ума. Надо сказать, что темперамент Юджина — его склонность к самоанализу и сильная впечатлительность, — а также отчаяние, когда он, словно утопающий за соломинку, хватался за все, что сулило облегчение его горю, чувству безнадежности и полного крушения, немало способствовали тому, что он занялся изучением этой довольно-таки фантастической теории бытия. Он много слышал о «христианской науке», знал, что ее последователи строят церкви, что их число растет, особенно в Нью-Йорке, — что они трубят повсюду, будто освободились от власти зла. А так как у Юджина не было ни дела, ни развлечений, и ничто не уводило его от мыслей о самом себе, то все эти любопытные утверждения, естественно, должны были заинтересовать его. Юджину было известно, как из первоисточника, так и из книг других мыслителей, что Карлейль говорил: «Материя сама по себе, внешний материальный мир — это либо ничто, либо продукт человеческого воображения» («Дневник Карлейля», из его биографии, написанной Фрудом), и что, по учению Канта, вселенная существует только в нашем восприятии или сознании и представляет собою всего лишь мысль. С другой стороны, Марк Аврелий учил в своих «Размышлениях», что душа вселенной полна любви и милосердия, что в ней нет зла и что она не подвластна злу. В свое время эти слова поразили Юджина; они выражали точку зрения диаметрально противоположную его собственному взгляду на вселенную, дух которой представлялся ему коварным, жестоким и злобным. Его удивляло, что человек, который стал римским императором, мог думать иначе. В Нагорной проповеди Юджин видел прекраснодушные рассуждения мечтателя, не знающего действительности. И все же заповедь: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут», — всегда изумляла его своей красотой, и он считал ее глубоко верной: «Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше». Ките сказал: «Красота — это истина, а истина — это красота». А еще кто-то утверждал: «Истина — это то, что существует». «А что существует?» — спрашивал себя Юджин. И сам себе отвечал: «Красота», — так как жизнь, при всех ее ужасах, прекрасна. Только людям со склонностью к метафизике или с религиозным складом ума было бы интересно проследить тот медленный и так и не завершившийся процесс, который можно было бы назвать «обращением» Юджина и который тянулся долгие месяцы, когда Анджела гостила в Расине и после, когда она, вернувшись по настоянию Миртл в Нью-Йорк, поселилась в родильном приюте, куда ее определил Юджин. В эти бездны отваживается заглянуть только самый бесстрашный ум, и Юджин измерил всю их глубину. Он подолгу беседовал с Миртл и ее мужем на всевозможные темы, житейские и отвлеченные. (Все это уже не имело никакого отношения к Анджеле: Юджин прямо говорил, что не любит ее и к ней не вернется и что он не представляет себе жизни без Сюзанны.) Он набрасывался на философские и религиозные книги и читал и перечитывал их, так как никакого другого дела у него не было. Он читал или перечитывал «Историю евреев» Кента, «Пол и характер» Вейнингера, «Механизм мироздания» Карла Снайдера, «Героев духа» Мэззи, «Бхагавадгиту» в переводе Джонсона, очерк Эмерсона «Сверхдуша», «Науку и еврейские предания», а также «Науку и христианские предания» Гексли. Юджин обнаружил в этих трудах любопытные факты, относящиеся к религии, которых он раньше не знал, или, может быть, забыл, а именно, что евреи — едва ли не единственная раса или нация, давшая миру непрерывный ряд религиозных мыслителей и пророков; что идеалом их с начала до конца был единый бог, или божество, сперва племенное, а потом и всеобщее, чье содержание и значение расширялось и росло, пока не было отождествлено со вселенной, не стало самой вселенной, руководящим началом и вместе с тем единым богом, вера в которого, в его способность исцелять, созидать и разрушать никогда не умирала. В Ветхом завете много об этом говорилось, в сущности только об этом и говорилось. Юджин с удивлением узнал, что древние пророки на заре истории мало чем отличались от неистовствующих дервишей, — они доводили себя до полного исступления, судорожно извиваясь, катались по земле, кололи себя ножами, как это и сейчас делают фанатики-персы, празднуя десятый месяц года, и прибегали к самым странным приемам, чтобы поддержать в себе фанатический пыл, — что, однако, не мешало им проявлять своеобразное величие духа. Они часто посещали храмы, повсюду выделяясь своим диким видом и странным одеянием. Пророк Исайя в течение трех лет не носил никакой одежды (Исайя, 22, 21); Иеремия (согласно Мэззи) ходил по улицам Иерусалима с деревянным ярмом на шее и восклицал: «Так преклонит Иуда главу свою под иго вавилонское» (Иеремия, 27, 2); Зедекия же, надев на себя железные рога, подобные оленьим, явился к королю Ахаву со словами: «Сим избодешь сириян» (Книга Царств 1, 22, 11). Его почитали безумцем, потому что он вел себя как безумец. Елисей явился в лагерь к грубому вояке полководцу Иую и, разбив у него на голове сосуд с маслом, воскликнул: «Так повелел бог Израиля — я помазал тебя на царство над его избранным народом», — после чего открыл дверь и убежал. Все эти эпизоды, какими бы дикими они ни казались, не противоречили представлению Юджина о пророчествах. В них не было ничего пошлого — наоборот, много величественного, необузданно драматического, каким и должно представлять себе слово божие. Юджин также с удивлением узнал, что эволюционная теория отнюдь не исключает представления об управляющем вселенной божестве и божественном промысле, как это ему всегда казалось. Теперь, когда эти вопросы так остро встали перед ним, он то и дело стал замечать в газетах высказывания ученых, которые повергали его в немалое изумление. Например, в рецензии на книгу современного биолога Джордана Гоулда он наткнулся на следующую цитату: «Жизнь управляет физическими силами с помощью клеточного механизма и, насколько нам известно, только с его помощью». То, что Юджин читал у миссис Эдди и слышал от Бэнгса, не вязалось с этим утверждением, но его поразило, что и оно в конечном счете вело к признанию деятельного божества, определяющего наши цели. «В органической молекуле нельзя обнаружить никаких признаков разума или разумно направленной воли; она продукт математически детерминированных и неизменных физических сил. Жизнь осознает себя в особой, дифференцированной деятельности клетки; человек, следовательно, представляет собой комплекс еще более дифференцированных функций, это еще более высокое и совершенное воплощение, чем отдельная клетка. Жизнь, или бог, проявляются в клетке… (а также и повсюду за ее пределами, и столь же, если еще не более активно, — мысленно добавил Юджин). Разум клетки — это божественный разум. (Следуя учению миссис Эдди, с этим нельзя было согласиться. Для нее клетка была иллюзорна.) Человек в конце концов не что иное, как бог… Если вы замените слово «жизнь» словом «Biologos» или «бог» — что я со своей стороны могу только приветствовать, то перед нами предстанет величайший факт биологии. Клетка, таким образом, — это орудие бога и его посредник в мире материи; это механизм воплощения, слово, становящееся плотью и живущее среди нас». В газете, в одном из воскресных номеров, Юджину попался отрывок, в котором излагалась теория современного физика Эдгара Люсьена Ларкина. «После того как был изобретен, а в самое недавнее время и усовершенствован новый микроскоп, работающий с помощью ультрафиолетовых лучей, и соответствующая микрофотокамера с движущейся пленкой, был, очевидно, достигнут предел того, что способен различать человеческий глаз. Нашему зрению стали доступны такие мельчайшие органические и неорганические тела, что по сравнению с ними самые крошечные объекты, которые мы раньше улавливали с помощью старых инструментов, кажутся громоздкими и неуклюжими. Это открыло нам новую область — микровселенную, не менее чудесную, чем звездный мир. Мы уже не сомневаемся в существовании этого сложного мира, но исследование его еще только началось — лет через сто микровселенная будет в какой-то мере исследована. Законы микродвижений будут, по всей вероятности, открыты и опубликованы в учебниках наряду с законами движения обширнейших солнечных систем. Пытаясь осмыслить сущность этой мельчайшей жизни и мельчайших движений, я не могу представить себе их иначе как одухотворенными. Каждое движение здесь управляется разумом. Чем больше я смотрю на эти диковинные существа, тем больше крепнет во мне уверенность, что жизнь микровселенной проникнута разумом. Эти движущиеся частицы знают свой путь. Если при рассмотрении в старый микроскоп более крупных частиц, взвешенных в жидкостях, было установлено, что они с большой быстротой двигаются по всем геометрическим направлениям, томикроскоп, работающий ультрафиолетовыми лучами, открывает нам миллионы мельчайших тел, движущихся с неимоверной быстротой по геометрически правильным траекториям под геометрически правильными углами, всегда различными для каждого отдельного вида». Так что же это за углы? — спрашивал себя Юджин. Кто их установил? И кто и что определило эти геометрически правильные траектории?.. «Божественный разум», о котором говорится у миссис Эдди? Неужели же в словах этой женщины есть какая-то правда? Так он продолжал читать и размышлять над прочитанным, пока однажды не наткнулся в газете на мысли Альфреда Рассела Уоллеса касательно вселенной и ее управления, которые заинтересовали его, так как он увидел в них подтверждение того, о чем говорил Христос и его истолковательница миссис Эдди, то есть, что существует «божественный разум», или же «центральная мысль», не знающая зла и руководствующаяся исключительно благими побуждениями. «Жизнь — это сила, которая из воздуха, воды и растворенного в ней вещества создает простейшие и в высшей степени сложные организмы, обладающие определенным строением и функциями; эти организмы находятся в состоянии постоянного распада и восстановления, которые осуществляются с помощью внутренней циркуляции жидкостей и газов; они размножаются, последовательно проходят через фазы молодости, зрелости и старости, затем умирают и распадаются на составные элементы. Таким образом, они составляют непрерывные ряды подобных себе индивидуумов и, находясь в благоприятных условиях, обладают, по-видимому, потенциальным бессмертием. Для того чтобы объяснить, как осуществляется руководство этими низшими силами в соответствии с определенной системой эволюции, торжество которой мы наблюдаем повсюду, мы вынуждены предположить существование некоего всеобъемлющего разума, — вездесущего духа, который движет вселенной. Ничто другое нас удовлетворить не может… Но, сделав этот шаг, мы вынуждены пойти и дальше… У нас имеется полное научное и логическое основание для того, чтобы видеть в животном и растительном царстве, богатствами которого в конечном счете распоряжается только человек, некое предварение нас самих, которое должно содействовать развитию нашего сознания и подготовить нас к более высоким формам жизни в качестве существ духовного порядка. …Было бы естественно предположить, что огромная зияющая пропасть, отделяющая нас от божества, населена бесконечной иерархией существ, наделенных все возрастающим могуществом в отношении создания, развития и управления вселенной. …Вполне возможно также представить себе обширнейшую систему сотрудничества между этими существами, находящимися на различных ступенях могущества и разума, начиная с существ высшего порядка и кончая еще лишенными сознания или почти бессознательными «душевными клетками», о которых говорит Геккель. Я могу также представить себе некое… Бесконечное Существо, которое предусматривает и предопределяет в общих чертах весь ход вселенной. Существо это могло, скажем, внушить некоторым из своих высших ангелов идею создания первичного космоса, вселенной из одного лишь эфира, обладающего теми свойствами и особенностями, которые породили все последующее. Другие ангелы, подчиненные первым, должны были бы выделить из эфира в должных пространственных и количественных соотношениях все элементы материи, с тем чтобы под воздействием таких законов и сил, как сила тяготения, теплота и электричество, они могли образовать обширные туманности и солнечные системы, из которых состоит звездный мир. Мы можем затем предположить, что неисчислимые сонмы ангелов, для коих тысячелетия равны дню, наблюдают за развитием этих солнечных и планетных систем и что в одной из них (а может быть, и в нескольких) возникло сочетание всех тех необходимых условий (известные пространственные соотношения, строения из элементов, атмосфера и водные массы, отстоящие от источников тепла на такие расстояния, что они могут обеспечить устойчивость строения и единообразие температуры на данный минимум миллионов лет или веков), которые потребны для развития жизни, начиная от амебы вплоть до человека плюс еще несколько сот миллионов, необходимых для того, чтобы завершилось развитие человека. А это заставляет нас заключить о существовании целого воинства духов — их можно было бы назвать организующими духами, — коим поручено так воздействовать на мир «душевных клеток», чтобы те точно и без заминки выполняли свою работу… На дальнейших этапах развития жизни могла возникнуть необходимость во все более многочисленных и наделенных все более высоким разумом силах, которые направляли бы основные виды и разновидности по предначертанным им путям, в соответствии с общим планом, всемерно следя за тем, чтобы не допустить перерыва в той особой линии развития, которая одна лишь способна была в конце концов привести к появлению человека… Я льщу себя надеждой, что это умозрительное построение найдет отклик в душе некоторых моих читателей, как единственно возможная в настоящее время попытка определить первопричины, обусловившие возникновение материи, жизни и сознания, а также появление человека, который в высших своих достижениях лишь немногим уступает ангелам и, подобно им, предназначен к поступательному развитию в духовном мире». Это утверждение, исходящее из кругов представителей научного естествознания и, стало быть, не противоречащее их выводам относительно устройства вселенной, показалось Юджину весьма близким тому, о чем учила миссис Эдди, а именно, что все в мире — это разум в его бесчисленных проявлениях; единственное различие между миссис Эдди и английскими натуралистами заключалось в том, что они допускали существование некоей упорядоченной иерархии, которая проявляет себя и руководит вселенной в соответствии с предуказанными ей или добровольно принятыми ею законами, доступными нашему исследованию и изучению, в то время как миссис Эдди говорила о вездесущем духе, который управляет через посредство упорядоченных законов и сил, им самим для себя созданных. Бог был для них принципом таким же непреложным, как, скажем, арифметическая истина, что дважды два — четыре, и он проявлял себя повседневно, повсечасно и ежеминутно, как в убогой каморке, так и в мире вращающихся солнц и планет. Бог — это принцип. Наконец-то Юджин понял это. Принцип же пребывает везде и во всем одновременно. Нельзя себе представить места, где, например, дважды два не будет четыре, где эта истина неприменима. То же самое относится и к всесильному, вездесущему и всеведущему божественному разуму.Глава 98
Нет ничего опаснее для человеческого разума, чем навязчивая идея. Она может привести, да и часто приводит человека к гибели. Для Юджина такой навязчивой идеей было представление о совершенной красоте девушки в восемнадцать лет. Этот культ совершенной красоты, вместе с неспособностью Анджелы сохранить его любовь и верность, были отчасти причиной всех его бед до самого последнего времени. Религиозная система, воспринятая со слепой горячностью, могла бы отвлечь, но могла бы и погубить его, когда бы он способен был ею увлечься. К счастью, то учение, которым увлекся Юджин, не имело ничего общего с узкой догмой, являя собой религию в более широком значении этого слова, то есть духовный синтез или свод метафизических систем того времени, не лишенный интереса для всякого мыслящего человека. «Христианская наука» как культ или религия отвергалась всеми установленными религиями и их последователями, усматривавшими в ней нечто извращенное, бессмысленное, дикое — вроде черной магии, беспочвенной фантастики, гипноза, месмеризма, спиритизма; короче говоря, в ней видели все то, чего в ней не было, и очень мало (вернее, ничего) из того, что в ней было. А между тем миссис Эдди только сформулировала, — вернее, лишний раз выразила мысль, которую можно найти в священных книгах индусов и в заветах иудеев, как Ветхом, так и Новом, и у Сократа, у Марка Аврелия, у святого Августина, а также у Эмерсона и Карлейля. Единственное различие между нею и современными философами заключалось в том, что ее «единое начало» было не злобным, как представлял себе Юджин и многие другие, а всеблагим. Ее «единство» было «единством» любви. Бог был всем, но только не источником зла, последнее же, по ее мнению, было лишь иллюзией, без реальности или субстанции, — пустой знак, лишенный смысла. Следует помнить, что все время, пока Юджин предавался этим мучительным религиозным исканиям, он жил на северной окраине города, работая урывками над несколькими картинами, которые надеялся продать, время от времени навещая Анджелу, находившуюся в надежных руках в родильном приюте на Сто десятой улице, не переставая ни на секунду думать о Сюзанне и о том, увидит ли он ее еще когда-нибудь. Его мозг был до такой степени воспламенен красотою и духовным совершенством этой девушки, что он в сущности едва ли мог считаться нормальным человеком. Для того чтобы привести его в себя, необходима была какая-то встряска, катастрофа, превосходящая все пережитое им до сих пор. Некоторую положительную роль сыграли для него материальные невзгоды. Потеря Сюзанны только разожгла его любовь к ней. Положение Анджелы несколько отвлекало мысли Юджина, так как его занимал вопрос, что с нею будет. «Если бы она умерла!» — говорил он себе, потому что человек обладает счастливой способностью от души ненавидеть тех, кому он причинил больше всего зла. Он с трудом заставлял себя навещать ее, до такой степени им владела мысль, что она стоит на его пути, а мысль, что она собирается сделать его отцом, приводила его в бешенство — ведь если Анджела умрет, ребенок останется у него на руках, и это, возможно, помешает Сюзанне со временем к нему вернуться. В тот период Юджин сторонился людей, так как он чувствовал себя среди них отщепенцем и полагал, что своим появлением в обществе только накличет на себя беду; все это не соответствовало действительности и было лишь плодом его воображения. Этого не было бы, если бы он в это не верил. Но именно потому он и поселился в тихой местности, куда почти не доходил шум городского движения. Здесь он мог предаваться своим мыслям в полном покое. Семья, у которой он снял комнату, ничего о нем не знала. Приближалась зима с холодом, снегом и сильными ветрами, и Юджин с удовольствием думал о том, что сюда мало кто забредет, особенно из числа его влиятельных знакомых. Он получал много писем, которые пересылались ему с прежней квартиры, так как его имя все еще значилось в списка разных комитетов, а также в адрес-календаре, да и было у него много относительно скромных друзей, с которыми можно было бы встречаться без больших затрат и которые рады были бы повидаться с ним. Но Юджин не отвечал на приглашения и никому не сообщал своего нового адреса; он много гулял по вечерам, а днем читал, рисовал или же просиживал часами, погруженный в раздумье. Он все время размышлял о Сюзанне и о том, что судьба воспользовалась ею как приманкой, чтобы вовлечь его в западню. Сюзанна еще вернется к нему, она должна вернуться. Он придумывал чудесные, мучительные встречи с нею, видел в своем воображении, как она бросается в его объятия, чтобы уже никогда больше с ним не расстаться. Об Анджеле, лежавшей в палате родильного приюта, он думал очень мало. Она была под наблюдением опытных врачей. Он платил по всем счетам. До критического момента было еще далеко. Миртл навещала ее. Порою он ловил себя на мысли, что он жесток, что его рассудок гонит прочь ту, что была для него верной опорой в жизни, но так или иначе он находил себе оправдание. Анджела ему не пара. Почему она не может жить вдали от него? Вот и «христианская наука» отрицает брак, считая его человеческой иллюзией, противоречащей нерушимому единству человека и бога. Почему бы Анджеле не дать ему, наконец, свободу? Он писал стихи, посвященные Сюзанне, и читал творения старых поэтов, которые разыскал в хозяйском сундуке среди ненужных книг. Снова и снова перечитывал он сонет, начинавшийся словами: «Отвергнутый людьми, отвергнутый судьбою»[55] — этот вопль из мрака, в котором он узнавал свой собственный голос. Он купил сборник стихов Иейтса, и ему казалось, что они говорят о Сюзанне:Не мне корить ее, что дни мои
Она тоской наполнила…
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен, щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем. Язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его, защищу его, потому, что он позвал имя Мое. Воззовет ко мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его. Долготою жизни насыщу его и явлю ему спасение Мое».Слушая этот всемилостивейший божественный манифест, Юджин сидел с закрытыми глазами и вспоминал свои недавние злоключения. Впервые за много лет он пытался сосредоточить мысли на премудром, всеблагом и всемогущем милосердии. Но это ему не удавалось, так как он не мог согласить обещание божественной милости с природою знакомого ему мира. Зачем говорить: «На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею», тогда как на самом деле и ему и Анджеле столько пришлось в последние дни пережить тяжелого? Разве не сказано о нем: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится»? Почему же тогда он лишен этой защиты? Правда, там говорится: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его». Так уж не это ли ответ? Разве возлюбила его Анджела? Или он сам? Возможно ли, что все их беды отсюда?
«Призовет меня и услышу его; с ним я в скорби; избавлю его и прославлю».Но призывал ли его когда-нибудь он, Юджин? Или Анджела? Разве не увязли они оба в болоте отчаяния? Но все равно. Анджела — неподходящая ему жена. Что же бог думал? Никогда он, Юджин, к ней не вернется. Так размышлял он полусерьезно, полускептически, пока миссис Джонс не кончила. Ну, а что, если и в самом деле вопреки его сомнениям вся эта возня, и шум, и страдания, и тревоги — не что иное, как самообман? Но ведь Анджела страдает. Да и не только Анджела. Как же это понять? Разве такие факты не опровергают иллюзорность мира? Или же и самые факты иллюзорны? — А теперь давайте уразумеем, что мы с вами безгрешные чада господни, — продолжала после короткой паузы миссис Джонс. — Ведь каждый из нас считает себя большим и сильным и меньше всего сомневается в собственном бытии. И мы действительно существуем, но лишь как помышление божие. А это значит, что ничто не может причинить нам вреда, и никакое зло к нам не приблизится. Ибо бог бесконечен. Он сила и жизнь. Он истина и любовь. Он выше всех и над всеми. И, закрыв глаза, она углубилась в себя, чтобы показать ему, объяснила она, совершенство его духа в боге. Юджин силился вспомнить слова молитвы, но на самом деле думал об этой комнате и ее безобразной меблировке, о дешевых литографиях на стене, о невзрачности их хозяйки и о том, как смешно, что он здесь. За него, Юджина, возносят молитвы! Что подумала бы Анджела! И почему эта женщина так стара, если дух всемогущ? Почему она мирится с собственной невзрачностью? Что это она делает? Как это называется? Гипнотизм? Месмеризм? Но он хорошо помнил тот отрывок в книге миссис Эдди, где ясно говорилось, что таким вещам нет места в «христианской науке». Нет, эта старуха не притворяется. Ее слова, ее улыбка не лгут. Она и в самом деле верит в какую-то благую силу. Но поможет ли эта сила ему, Юджину, как о том говорится в псалме? Оставит ли его эта боль? Удастся ли ему вырвать из сердца Сюзанну? А что, если именно это и будет для него злом? Да, конечно. И все же… Ему приказано молиться. Высшие силы могут исцелить его. Для сил, которые правят вселенной, нет ничего невозможного… Достаточно вспомнить телефон, беспроволочный телеграф… А солнце, луна… «Он заповедает своим ангелам охранять тебя на всех путях твоих». Минут пятнадцать прошло в безмолвном размышлении, и миссис Джонс открыла глаза. — А теперь, — сказала она, улыбаясь, — посмотрим, не почувствуем ли мы себя лучше. И, разумеется, нам станет лучше, потому что мы сами станем лучше и потому что проникнемся сознанием, что ничто не может причинить зла помышлению божьему. Все прочее — обман. Он не имеет власти над нами, потому что он бессилен. Пусть в ваших мыслях пребудет добро — бог, и сами вы станете добрым. Если же в ваших мыслях будет зло, вы и сами станете злом, хотя оно и существует только в вашем воображении. Запомните это. Она говорила с ним, словно с малым ребенком. Юджин вышел от нее и окунулся в морозную ночь, где ветер взвивал клубы снега. Он застегнул пальто на все пуговицы. По Бродвею, как всегда, мчались трамваи. Мимо него то и дело сновали такси. Люди, постоянно оживляющие пейзаж большого города, с трудом пробирался по снегу. Сквозь его мелькание сочился ясный голубой свет дуговых фонарей. Шагая по улице, Юджин думал о том, станет ли ему теперь лучше. Миссис Эдди утверждала, что все на свете нереально, — бренный разум создал мир, не приемлемый для духа, бренный разум, который (Юджину вспомнилось это выражение) сам есть «ложь и ложь порождает». Неужели это так? Действительно ли зло нереально, а горе лишь самообман? Удастся ли ему избавиться от чувства страха и стыда и снова взглянуть в лицо всему миру? Он сел в трамвай, направлявшийся в северную часть города, доехал до Кинсбриджа и, погруженный в раздумье, побрел домой. Как может он рассчитывать вернуться к жизни и снова найти себя? Ведь ему уже сорок лет. Он уселся в кресло у лампы и, взяв книгу «Наука и здоровье», стал рассеянно перелистывать ее. Потом решил, любопытства ради, посмотреть, что скажет ему раскрытая наугад страница или отрывок. Он все еще был во власти суеверных чувств. Раскрыв книгу, он прочел следующее: «Когда смертный сочетает мысли о земле с мыслью о небе и трудится, как трудится господь, он уж не блуждает в потемках и не цепляется за землю, как тот, кто не изведал небесного. Наши плотские представления обманывают нас. Они делают человека лицемером поневоле, ибо он порождает зло, когда хотел бы творить добро, создает уродство, хотя мечтает о красоте и гармонии, причиняет боль тем, кого хотел бы благословить. Он становится лжетворцом, но мнит о себе как о полубоге. Его прикосновение превращает надежду в прах, прах, который мы попираем ногами. Он мог бы сказать о себе языком Библии: «Добро, которое хочу творить, не творю, зло же, которое творить не хотел бы, творю». Юджин захлопнул книгу и задумался. Хорошо бы проникнуться этим, если это действительно так. Но меньше всего ему улыбалось стать сектантом, религиозным фанатиком. Ведь это такое дурачье. Он взял газету — свежий номер «Ивнинг пост» — и где-то в уголке литературного приложения наткнулся на отрывок из стихотворения покойного Томаса Фрэнсиса «Небесный ловчий». Оно начиналось так:
Я от него бежал и день и ночь
Я от него бежал под своды лет
Лицо его недвижно.
Страшен вид;
Неспешно и упорно, как отмщенье,
Звучат за мной шаги,
И голос говорит:
«Отверг меня, и нет тебе спасенья!»
Глава 99
Он все еще пребывал в этом состоянии, когда по прошествии двух месяцев наступило то великое событие в жизни Анджелы, в котором он силой обстоятельств вынужден был принять участие. Она лежала в родильном доме на Морнингсайд-Хейтс, выходившем фасадом на соборную площадь, в уютной палате, обставленной согласно всем правилам гигиены, и не переставала думать о том, что сулит ей судьба. Анджела собственно так и не оправилась от мучившего ее летом приступа ревматизма, а поскольку ей вдобавок пришлось пережить много тяжелого, выглядела она бледной и слабой, хотя и не чувствовала себя больной. Главный хирург, акушер Ламберт, — худощавый мужчина лет шестидесяти пяти, с седой бородой и седыми вьющимися волосами, с широким горбатым носом и острым взглядом серых глаз, говорившим об энергии, проницательности и выдающихся способностях, принял большое участие в Анджеле. Для него она была одним из тех простых, кротких созданий, которые всю жизнь жертвуют собой для других. Ему нравилось, что у нее такое бодрое, трезвое и веселое настроение, несмотря на ее состояние — очень серьезное, настолько серьезное, что это бросалось в глаза даже посторонним. У Анджелы было оживленное, свежее лицо — когда она не бывала подавлена или раздражена, ее отличал цепкий ум, о чем можно было судить по ее метким забавным замечаниям, и настойчивое постоянное желание, чтобы все, что делается вокруг нее, делалось правильно и хорошо. Сестра мисс де Саль, дородная, флегматичная особа лет тридцати пяти, постоянно хвалила ее за терпение и спокойствие и тоже привязалась к этой симпатичной маленькой женщине, не терявшей мужества и душевной бодрости и преисполненной надежд, несмотря на ожидавшее ее серьезнейшее испытание. Общее мнение главного хирурга, ординатора и сестры сводилось к тому, что у Анджелы слабое сердце и что в ее положении надо опасаться за почки. Анджела после частых бесед с Миртл пришла каким-то образом к выводу, что в критическую минуту «христианская наука» в лице своих лекарей окажет ей помощь, хотя у нее и не было настоящей веры. Она не сомневалась, что и Юджин рано или поздно вернется к ней, так как Миртл говорила, что лечит его «заочно» и что он пытается разобраться в книге «Наука и здоровье». Когда появится ребенок, между ними произойдет примирение, потому что… потому что… ну, просто потому, что дети так обаятельны! У Юджина в сущности не жестокое сердце, он только сильно увлечен. Сирена завлекла его в свои сети. Но это пройдет. Мисс де Саль заплетала ей косы — как у настоящей Гретхен! — и завязывала их большими розовыми бантами. С некоторого времени ее стали одевать в легкие свободные халаты, удобные и мягкие, и в них она сидела в кресле, размышляя о том, что ее ждет. Из стройной, изящной женщины она превратилась в разбухшее, бесформенное существо, но не унывала. Юджин навещал ее, — ему было искренне ее жаль. Стоял конец зимы, снег сыпал за окнами то мягко и тихо, то бешено кружась, и парк против родильного приюта стал совсем белый. Анджеле видны были в окно оголенные тополя, выстроившиеся перед собором словно часовые. Она держалась спокойно, терпеливо и не теряла надежды, между тем как старый акушер, говоря о ней с ординатором, с сомнением качал головой. — Необходима величайшая осторожность. Я сам буду у нее принимать. Постарайтесь, насколько можно, укрепить ее организм. Будем надеяться, что у ребенка маленькая головка. Миниатюрность и отвага Анджелы умиляли его. Впервые за много лет практики он испытывал настоящую жалость. Ординатор строго выполнял все его указания. Для Анджелы готовились специальные блюда и питье. Кормили ее часто. Ей был предписан полный покой. — Мне не нравится ее сердце, — докладывал он главному хирургу. — Оно ослаблено и дает перебои. Я подозреваю какое-то функциональное расстройство. — Не будем терять надежды, — серьезно отозвался тот. — Постараемся обойтись без эфира. Юджин из-за своего душевного состояния неспособен был осознать всю серьезность положения Анджелы. Он был далек от нее — ни чувство, ни страсть не связывали их. Сестра и ординатор, полагавшие, что он очень любит жену, решили ничего ему не говорить. Они не хотели путать его. Несколько раз он спрашивал, не разрешат ли ему присутствовать при родах, но ему отвечали, что это нежелательно, и прежде всего для него самого. По совету сестры, Анджела сама попросила Юджина не приходить, но он считал, что нужен ей, как бы далеки они ни были. К тому же ему хотелось все видеть. Если он будет рядом, говорил он себе, Анджела легче перенесет это испытание. Когда же сроки приблизились и ему стало ясно, какой катастрофой все может кончиться, он решил, что обязан оказать ей эту помощь. К нему вернулось что-то от той нежности, которую в былые дни вызывала в нем ее миниатюрность. Она, вероятно, не справится с этим. Ей предстоят ужасные страдания. Она ведь никогда не желала ему зла и только старалась сохранить его для себя. Сколько горечи, сколько трагизма в этой жестокой путанице человеческих отношений! Почему жизнь так чудовищно сложна? Время родов приблизилось, и у Анджелы начались жестокие боли. Таинственный процесс, происходивший в чреве матери, где будущая жизнь покоилась в колыбели из мышц и связок, в сущности, закончился, и теперь вся энергия материнского организма переключилась на другое. Боль от натянутых до предела связок причиняла Анджеле невыносимые страдания. Она судорожно сжимала руки, лицо ее покрывалось смертельной бледностью, она начинала плакать. Юджин несколько раз бывал у нее во время этих приступов, и тут только он увидел, до чего сложен и неумолим извечный процесс воспроизведения рода, который приводит женщину на порог смерти, для того чтобы на земле не угасала жизнь. Он задумался над тем, не правы ли последователи «христианской науки», когда утверждают, что жизнь лишь ложь и иллюзия, бессмысленный, лихорадочный бред, о котором ничего не хочет знать мудрость господня. Он отправился в библиотеку и взял там книгу по акушерству, в которой описывалось хирургическое вмешательство при родах. Он нашел в ней десятки рисунков, изображавших ребенка в чреве матери в необычайно странных положениях (что-то в них наводило на мысль о цветке), словно свернутый лепесток. Рисунки были выполнены очень тонко, некоторые, несмотря на их чисто прикладное значение, даже превосходно, и Юджин был очарован. Они изображали уже развившегося младенца, но какой же он был маленький! Головка его находилась то в одном положении, то в другом, крошечные ручки были забавно скрючены, но всегда в нем было что-то милое и трогательное. Бегло просмотрев книгу, Юджин узнал, что главную трудность при родах представляет головка ребенка — момент ее прохождения. Никаких других сложностей для акушера, по-видимому, не существовало. Но как справиться с этой? Если голова у ребенка большая, а мать уже немолода и стенки брюшной полости неэластичны или жестки, то естественные роды могут оказаться невозможными. В книге были целые главы о краниотомии и цефалотрипсии, а на простом человеческом языке это означало, что в известных случаях приходится размозжить череп ребенка специальным инструментом… Одна Глава была посвящена «кесареву сечению», причем описывались трудности этой операции и приводились пространные рассуждения об этической стороне дела — что правильнее: убить ребенка, чтобы спасти мать, или же наоборот, и какова сравнительная ценность их жизни для общества. Подумать только, что в критическую минуту хирург сам выносит приговор и приводит его в исполнение! Да, здесь мелочные законы жизни утрачивают свою власть! Здесь мы снова взываем к человеческой совести, которую миссис Эдди определяла как «отражение имманентного разума». Если бог благ и мудр, то в этом решении прозвучит его голос. Он подскажет, что надо делать. Автор книги говорил о высшем нравственном законе, который один может руководить хирургом в этот страшный час. Дальше рассказывалось, какие хирургу нужны инструменты, сколько ассистентов (два), сколько сестер (четыре), какого рода бинты, иглы, нитки (шелк или кетгут), скальпели, расширители и резиновые перчатки. Указывалось, как должен быть произведен разрез, когда и в каком месте. Юджин в ужасе закрыл книгу. Он встал и поспешил выйти на свежий воздух, подгоняемый желанием скорее увидеть Анджелу. Он знал, что у нее слабый организм. Она часто жаловалась на сердце. Мышцы ее, по-видимому, уже не так эластичны. Если предположить, что при родах возникнет хотя бы одна из тех трудностей, о которых он читал… Он не хотел, чтобы она умерла. Да, было время, когда он говорил себе, что хочет ее смерти, но теперь он не желал быть убийцей. Нет, нет, Анджела всегда была ему так предана. Она работала для него. Черт возьми, немало она выстрадала за то время, что они прожили вместе. Он плохо обходился с нею, очень плохо, и вот бедняжка, беспомощная и одинокая, не зная, что делать, поставила себя в такое безвыходное положение. Конечно, она виновата. Она пыталась, как всегда, удержать его во что бы то ни стало, но разве можно упрекать ее за это? Разве это преступление, если она хотела, чтобы он любил ее? Просто они оказались совершенно неподходящей парой. Он не хотел ее обидеть и женился на ней, а потом как он ее обижал!.. Их брак принес с собой только постоянные раздоры и взаимное недовольство, и оба были несчастны, а ей теперь, в довершение всего, угрожает смерть от нечеловеческих страданий, из-за слабого сердца, больных почек, от кесарева сечения… Да разве она вынесет что-либо подобное? И думать нечего. Она недостаточно крепка для этого — ведь она уже немолода. Интересно, думал он, могла ли бы ее спасти «христианская наука» или какой-нибудь знаменитый хирург, который сумел бы обойтись без ножа? Но как? Как? Если бы миссис Джонс с помощью своих молений могла вызволить ее из такой беды, как бы он был ей благодарен! Если не за себя, то за нее. Он мог бы отказаться от Сюзанны… мог бы… да… Ах, зачем ему докучают сейчас эти мысли! Было три часа пополудни, когда он пришел к Анджеле в больницу; утром он заглянул на несколько минут, и тогда она чувствовала себя довольно сносно. Сейчас ей было значительно хуже. Острая боль в боку, на которую она и раньше жаловалась, усилилась, лицо ее то краснело, то бледнело, и по нему пробегала судорога. Миртл тоже пришла навестить невестку, она говорила с ней, а Юджин стоял рядом и с щемящим сердцем думал о том, что он должен сделать, что он может сделать. Анджела заметила его тревожное состояние. Как ни плохо ей было, ей стало жаль его. Она знала, что он будет страдать, ведь он не злой человек по натуре, и сейчас она впервые почувствовала, что сердце его смягчилось. Она улыбнулась ему и подумала, что, быть может, он изменится и вернется к ней. Миртл уверяла ее, что все кончится благополучно. Сестра тоже находила, что все идет прекрасно; она повторила это и вошедшему в палату ординатору, молодому человеку лет двадцати восьми, с проницательными, веселыми глазами. Его рыжие волосы и красное лицо говорили о воинственной натуре. — Схваток еще не было? — спросилон Анджелу, улыбаясь ей и показывая два ряда сверкающих белых зубов. — Право, не знаю, доктор, — ответила она, — знаю только, что у меня все болит. — Ну, когда начнутся схватки, вы сразу узнаете, — сказал он, усмехнувшись. — Родовые схватки — это такая штука, которую ни с чем не спутаешь. Он вышел, и Юджин последовал за ним. — Как вы ее находите, доктор? — спросил он, когда они оказались в коридоре. — Ничего… относительно, конечно. Ведь вам известно, что организм у нее не очень крепкий. По-моему, дело подвигается не плохо. Скоро приедет доктор Ламберт — вы лучше с ним поговорите. Ординатор не хотел лгать. Он считал, что нужно сказать Юджину правду. Доктор Ламберт был того же мнения, но он решил выждать до последнего момента, чтобы дать хотя бы приблизительно правильный прогноз. Он приехал в пять часов вечера, когда на улице было уже темно, и, войдя в палату, с тревогой посмотрел на Анджелу своими серьезными, добрыми глазами. Он пощупал ее пульс и выслушал сердце стетоскопом. — Как вы думаете, доктор, я справлюсь? — тихо спросила Анджела. — Ну, конечно, конечно! — ласково ответил он, погладив ее руку. — Маленькая женщина — большое мужество! — Ну как, доктор? — спросил Юджин, догоняя его в коридоре. Впервые за много месяцев он думал о чем-то, не имевшем отношения ни к постигшим его неудачам, ни к Сюзанне. — Я считаю нужным сказать вам, мистер Витла, что положение вашей жены очень серьезно, — ответил старый хирург. — Я не хотел бы внушать вам излишней тревоги — все еще может кончиться благополучно. У меня нет оснований утверждать, что благополучный исход невозможен. Но ваша жена поздно вздумала обзаводиться первым ребенком. Ее мышцы утеряли эластичность. Главное, чего нам приходится опасаться, это осложнения со стороны почек. У женщины ее возраста всегда надо ожидать неприятностей при прохождении головки. Может быть, придется пожертвовать ребенком. Не знаю. Я неохотно прибегаю к кесареву сечению. Это операция, которой мы, врачи, не любим, и она не всегда проходит удачно. Все, что только мы в силах сделать, будет сделано. Но я хочу, чтобы вы отдавали себе ясный отчет в положении. Раньше чем предпринять какой-либо серьезный шаг, мы спросим вашего согласия. Но когда критический момент наступит, вам придется быстро принять то или иное решение. — Я и сейчас могу сообщить вам его, — сказал Юджин, мгновенно уясняя себе всю серьезность положения. В этот момент к нему вернулась былая сила воли и чувство собственного достоинства. — Спасите жизнь моей жены, к каким бы мерам вам ни пришлось прибегнуть. Это мое единственное желание. — Благодарю вас, — сказал хирург. — Мы сделаем все, что можно. После этого Юджин долгие часы просидел у постели Анджелы, которая переносила муки, каких, казалось, ни один человек не мог бы выдержать. Он видел, как она вдруг вся вытягивалась на постели, без кровинки в лице, с обильной испариной на лбу, а затем, когда ее отпускало, лицо ее наливалось кровью, и она не кричала громко, а только стонала. Он убедился, что, как это ни странно, Анджела в отличие от него вовсе не пугливый ребенок, готовый скулить из-за всякого пустяка, что она была частью великой созидательной силы, и именно оттого так велики были ее муки и велика выдержка, с какой она их переносила. Но улыбаться она уже не могла. Она пребывала в непрерывных, невероятных муках. Миртл поехала домой пообедать, но обещала вернуться попозже. Мисс де Саль привела еще одну сестру; Юджин вышел из палаты, и Анджелу приготовили к последнему испытанию. На ней был обыкновенный больничный халат, открытый сзади, на ноги ей натянули белые полотняные чулки. По распоряжению доктора Ламберта в операционной на верхнем этаже был приготовлен стол, за дверью палаты стояла наготове каталка на колесиках, чтобы при первой необходимости перевезти ее наверх. Доктор Ламберт распорядился, чтобы его вызвали, как только начнутся настоящие родовые потуги, — сестра прекрасно умела их распознавать. Ординатор должен был все время наблюдать за больной. В этот тягостный час Юджина больше всего поражало невозмутимое, будничное, чисто деловое отношение медицинского персонала ко всем этим трагедиям, — в приюте было много рожениц. Мисс де Саль хлопотала вокруг Анджелы с неизменно спокойной улыбкой на лице. Она взбивала подушки, приводила в порядок постель, аккуратно задергивала оконные занавески и выполняла еще тысячу всяких других мелких дел или же, остановившись перед настольным или стенным зеркалом, поправляла свой кружевной чепчик и халат. Она не обращала внимания ни на Юджина, ни на Миртл, когда та была в палате, и с самым невозмутимым видом входила и выходила, разговаривала и шутила с другими сестрами. — Неужели нельзя как-нибудь облегчить ее муки? — в изнеможении спросил ее Юджин. Нервы его были взвинчены до предела. — Ведь ей не вынести этого. У нее не хватит сил. Сестра спокойно покачала головой. — Мы беспомощны в таких случаях. Никаких наркотиков мы ей дать не можем — они задерживают процесс. Ничего, она потерпит. Через это проходят все женщины. «Все женщины!» — мысленно повторил Юджин. Боже мой! Неужели каждый раз, когда на земле рождается ребенок, женщина подвергается подобной пытке? На земном шаре около двух миллиардов человек — значит, два миллиарда раз повторялся весь этот ужас? И сам он причинил столько страданий своей матери? И Анджела? И каждый ребенок? Какую страшную ошибку совершила Анджела, и как это бессмысленно, как глупо! Впрочем, сейчас об этом поздно размышлять. Анджела страдает. Она ужасно мучается. В палату заглянул доктор Уиллетс, ординатор, но, по-видимому, не нашел никаких оснований для тревоги. Он кивнул мисс де Саль, которая вместе с ним подошла к кровати, и кивок был явно успокоительный. — По-моему, все идет нормально, — сказал он. — Да, доктор, — сказала она. Юджин был изумлен — как они могли так говорить? Ведь Анджела невыносимо страдала. — Я пойду на часок в корпус «А», — сказал ординатор. — Если будет что-нибудь новое, дайте мне знать. «Что может быть нового? — подумал Юджин. — Разве Анджеле может стать еще хуже?» И вспомнил про рисунки в той книге. Неужели, мелькнуло у него, необходимо будет прибегнуть к одному из тех страшных способов, о которых там упоминается? Благодаря этим рисункам он представлял себе теперь весь ужас возможного исхода. Около полуночи наступила та перемена, которую Юджин ждал с таким страхом и мучительным состраданием к Анджеле. Миртл не было. Она договорилась с Юджином, что будет ждать его звонка. Анджела и раньше стонала и то конвульсивно вытягивалась, то сгибалась пополам и бесцельно и мучительно ворочалась с боку на бок, но теперь она вдруг подскочила на кровати и снова упала, точно потеряв сознание. Это сопровождалось пронзительным криком, за которым последовал еще и еще один. Юджин кинулся к двери, но сестра предупредила его. — Началось, — спокойно сказала она. Она направилась к телефону и вызвала доктора Уиллетса. Теперь к ней присоединилась сестра из другой палаты. Несмотря на то что лицо Анджелы побагровело и вены на нем вздулись, обе сестры были по-прежнему спокойны. Юджин едва верил своим глазам, но он сделал над собой огромное усилие, чтобы тоже казаться спокойным. Так вот она, пытка деторождения! Спустя несколько минут явился доктор Уиллетс — тоже спокойный, энергичный, деловитый. На нем был черный костюм, поверх которого была надета белая полотняная куртка, но он поспешно вышел из палаты, на ходу снимая и пиджак и куртку, и вернулся в одной рубахе с засученными рукавами и длинном белом фартуке — вроде тех, какие Юджин видел на мясниках. Подойдя к Анджеле, он стал проделывать над нею какие-то манипуляции; он что-то сказал при этом стоявшей рядом сестре, но Юджин не расслышал его слов. Он не мог смотреть — ему было страшно. Когда раздался четвертый или пятый конвульсивный крик роженицы, в палату вошел еще один врач, молодой человек, одних лет с Уиллетсом, так же одетый, и стал с ним рядом. Юджин никогда раньше его не видал. — Без щипцов не обойтись? — спросил он. — Не знаю, — ответил Уиллетс. — Доктор Ламберт будет сам принимать. Он должен быть здесь с минуты на минуту. В коридоре послышались шаги, и в палату вошел главный хирург. Он еще внизу снял шубу и меховые перчатки и остался в обыкновенном костюме. Но, как только он посмотрел на Анджелу, послушал ее сердце и пощупал виски, он вышел и вскоре вернулся, как и другие, в фартуке и без пиджака. Рукава его были засучены, хотя он пока еще ничего не делал, а только следил за действиями ординатора, у которого руки были в крови. — Почему они не дадут ей хлороформа? — обратился Юджин, на которого никто не обращал внимания, к мисс де Саль. Но та едва ли расслышала его слова и только покачала головой. Она быстро исполняла приказания своего высокого начальства — врачей. — Советую вам выйти отсюда, — сказал доктор Ламберт, подходя к Юджину. — Вам здесь нечего делать. Помочь вы ничем не в состоянии, а помешать можете. Юджин вышел и в страшной тревоге стал шагать из одного конца коридора в другой. В голове проносились воспоминания обо всем, что он пережил с Анджелой, обо всех этих долгих годах треволнений и борьбы. Вдруг он подумал о Миртл и решил позвонить ей, — она сказала, что непременно хочет приехать. Но потом решил, что не нужно. Ничем она тут не поможет. Так же внезапно мелькнула у него мысль о миссис Джонс. Миртл могла бы попросить ее заочно помочь Анджеле. Что угодно, что угодно — какой это ужас, что она должна так мучиться. — Миртл, — сильно нервничая, сказал он, когда та подошла к телефону, — говорит Юджин. Анджела страдает невообразимо. Роды начались. Ты не могла бы попросить миссис Джонс помочь ей? Это ужас какой-то! — Разумеется, Юджин. И я сама сейчас приеду. Не мучай себя напрасно. Он повесил трубку и снова стал ходить по коридору. До его слуха доносились неясные слова и заглушенные крики. Сестра — не мисс де Саль, а другая — вышла и завела в палату каталку. — Ее будут оперировать? — спросил он дрожащими губами. — Я ее муж. — Кажется, нет. Впрочем, не знаю. Доктор Ламберг хочет перевезти ее в операционную на всякий случай. Немного спустя каталку с Анджелой вывезли к лифту, которым соединялись этажи. Лицо ее было чем-то прикрыто, к тому же вокруг нее было много людей, и Юджин не мог хорошенько разглядеть, в каком она состоянии; его только удивило, почему она лежит так неподвижно, но сестра сказала ему, что ей дали легкую дозу опия, рассчитанную на кратковременное действие, чтобы это не могло помешать операции, если таковая понадобится. Юджин тупо молчал, пораженный ужасом. Потом он стоял в коридоре за дверью операционной, боясь войти. Ему вспомнились слова главного хирурга, а кроме того, какую пользу мог он принести своим присутствием? Он дошел до самого конца тускло освещенного коридора и там остановился в задумчивости, глядя в окно, за которым кружила метель. Вдали виднелся ярко освещенный поезд, золотой змеей извивавшийся по высокой эстакаде. Слышны были гудки автомобилей, пешеходы с трудом брели по снегу. Как все запутано в жизни, думал Юджин. Совсем еще недавно он желал смерти Анджелы, а сейчас… Боже мой, опять она стонет! Он понесет заслуженную кару за свои подлые мысли. Да, несомненно, это расплата за грехи, за все его ужасное легкомыслие! Час возмездия наступил. Какой трагедией оказалась его жизнь! Каким банкротством! Жгучие слезы выступили у него на глазах, губы задрожали. Его вдруг охватила страшная жалость — не к себе, а к Анджеле. Но он подавил ее. Нет, черт возьми, он не будет плакать! Что пользы от слез? Анджеле они не помогут. Нахлынули было мысли о Сюзанне, о миссис Дэйл, о Колфаксе, но он поспешил отогнать их. Если бы они видели его сейчас! Снова послышался приглушенный крик, и Юджин поспешил назад, к дверям операционной. Он больше не в силах был терпеть. Но он не вошел. Он стоял, напряженно прислушиваясь, и до его слуха донеслись звуки, какие издает человек, который хрипит и задыхается. Неужели это Анджела? «Низкие щипцы!» — голос принадлежал доктору Ламберту. «Высокие щипцы!» — это был тот же голос. Затем послышался стук металлического предмета о дно таза. «Боюсь, что мы таким образом ничего не добьемся, — раздался опять голос доктора Ламберта. — Придется резать, хоть и очень не хотелось бы». Из операционной вышла сестра, чтобы посмотреть нет ли поблизости Юджина. — Вы бы лучше спустились в приемную, мистер Витла, — сказала она. — Ее очень скоро вынесут отсюда, теперь уже недолго. — Нет, я хочу сам быть при операции, — сказал он неожиданно для себя… Он вошел в зал, посреди которого на операционном столе лежала Анджела. С потолка низко спускался электрический канделябр с шестью яркими лампочками. У изголовья Анджелы стоял доктор Уиллетс, дававший наркоз. Справа стоял доктор Ламберт, не обративший на Юджина никакого внимания; на руках у него были залитые кровью резиновые перчатки, он держал скальпель. Одна из двух сестер священнодействовала у дальнего конца операционного стола, где на отдельном столике были аккуратно разложены инструменты, губки и бинты. Мисс де Саль находилась слева. Она раскладывала на столе возле Анджелы куски марли. Рядом с нею и против доктора Ламберта стоял еще один хирург, которого Юджин раньше не видал. Из груди Анджелы вырывалось тяжелое хрипение. Она, по-видимому, была без сознания. Ее лицо скрывали куски марли и какая-то резиновая воронка. У Юджина ногти вонзились в ладони. Значит, все-таки операция! — подумал он. Кесарево сечение. Очевидно, они не могут извлечь ребенка, даже убив его. Семьдесят пять процентов таких операций, говорилось в книге, кончается благополучно; но эта статистика относилась только к зарегистрированным случаям, а сколько незарегистрированных? Действительно ли доктор Ламберт такой великий хирург? Выдержит ли Анджела эфир, с ее слабым сердцем? Юджин стоял и наблюдал за всей этой сценой. Доктор Ламберт быстро вымыл руки и взял маленький блестящий скальпель, сверкавший, как ярко начищенное серебро. Руки старого врача в резиновых перчатках казались в электрическом свете голубовато-белыми. Обнаженное тело Анджелы было совсем восковым. Доктор Ламберт склонился над нею. — Старайтесь по мере возможности поддерживать правильное дыхание, — сказал он своему младшему коллеге. — Если она очнется, дайте ей эфиру. А вы, доктор, присмотрите за артериями. Он сделал легкий надрез в нижней половине живота, и Юджин увидел, как в том месте, которого коснулся нож, брызнули струйки крови. Разрез выглядел совсем небольшим. Сестра губкой снимала кровь, едва только она выступала. Затем хирург сделал второй надрез, и тогда показалась ткань, выстилающая изнутри мышцы живота и защищающая кишечник. — Я не хочу делать слишком большой разрез, — спокойно сказал хирург, словно разговаривая сам с собой. — А то с этими внутренностями потом большая возня. Приподымите слегка края, доктор. Очень хорошо. Губку, мисс Вуд. А теперь, если мы сделаем еще один надрез здесь… Он снова стал орудовать своим инструментом, совсем как добросовестный столяр или плотник. Потом бросил нож в таз с водою на столике мисс Вуд и, просунув пальцы в кровоточащую рану, к которой сестра все время прикладывала губку, что-то обнажил. Что это? Сердце у Юджина судорожно заколотилось. Доктор Ламберт просовывал пальцы все глубже — сперва средний, затем также и указательный, — приговаривая при этом: — Что-то я ножку не нахожу. А ну-ка, еще поищем. Ага, вот она! — Разрешите, доктор, слегка подвинуть головку? Это говорил молодой врач, находившийся слева от доктора Ламберта. — Осторожнее только! Осторожнее! Она пригнута почти к самому кончику. Ну, теперь я ее держу. Тише, доктор, не забывайте о последе. Из жуткой раны появилось что-то залитое кровью, что-то странное — крохотная ступня, ножка, тельце, голова… «Боже мой, какой ужас!» — мысленно произнес Юджин, и снова слезы выступили у него на глазах. — Послед, доктор… Следите за брюшиной, мисс Вуд. Ребенок жив, все в порядке. Как пульс больной, мисс де Саль? — Слабоват, доктор. — Поменьше эфиру в таком случае. Ну, теперь можно все укладывать на место. Губку. Придется, Уиллетс, потом наложить швы. Боюсь, что само не заживет. Некоторые хирурги придерживаются другого мнения, но я не верю в возможность самопроизвольного заживления у нее. Наложим по крайней мере три или четыре шва. Они работали, как плотники, как столяры, как электромонтеры. Анджела, казалось, была для них не более как манекен. И все же в их медленных, уверенных движениях чувствовалась напряженность и торопливость. «Тише едешь — дальше будешь», — вдруг всплыла в памяти Юджина старая поговорка. Он наблюдал за тем, что разыгрывалось у него на глазах, и ему казалось, что все это сон, кошмарный сон, или потрясающая картина, вроде знаменитого полотна Рембрандта «Ночной дозор». Молодой хирург — тот, которого Юджин не знал, — высоко поднял какой-то предмет фиолетового цвета, держа его за ножку, точно освежеванного кролика; Юджин с ужасом сообразил, что это его ребенок, — ребенок Анджелы, — тот самый, из-за которого здесь вели такую отчаянную борьбу, терпели такие страшные мучения. Это было чудовище, игра природы, нечто немыслимое, бесформенное. Юджин не хотел верить своим глазам; он увидел, как доктор шлепнул ребенка по спине и с любопытством разглядывает его. И в этот момент послышался слабый крик, — нет, в сущности даже не крик, а чуть слышный странный звук. — Она страшно маленькая, но я думаю, что с ней все в порядке. — Голос принадлежал доктору Уиллетсу, он говорил о ребенке. О ребенке Анджелы. Теперь его держала сестра. Они только что резали Анджелу. А сейчас они зашивают рану. То, что происходило здесь, не имело отношения к жизни, — это был жуткий бред. Юджину казалось, что он потерял рассудок, что он очутился во власти злых духов. — Ну, доктор, я думаю, хватит. Прикройте ее, мисс де Саль. Теперь можно увозить. Они еще долго занимались Анджелой — накладывали повязку, снимали прибор, через который подавался эфир, потом уложили ее на спину, обмыли, переложили на носилки и выкатили из операционной. Она лежала без сознания, еще под действием эфира, и стонала. Юджину невыносимо было слышать ее мучительное, тяжелое дыхание. Казалось невероятным, чтобы эти звуки могли исходить из груди Анджелы — словно кричала ее душа. И ребенок тоже кричал — здоровым детским криком. «Боже мой, что за пытка!» — думал Юджин. Подумать только, что это должно было случиться. Угроза смерти, хирургический нож, бессознательное состояние, боль — выживет ли Анджела после всего этого? Будет ли она жить? А он стал отцом. Он повернул голову и увидел неимоверно крохотную девочку, которую сестра держала на каком-то одеяльце или подушке. Она что-то делала с нею — обтирала маслом. Ребенок был розовый, как и всякий ребенок. — Радость-то какая, а? — сказала сестра, чтобы немного утешить его. Ей хотелось вернуть Юджина к действительности. У него был совсем безумный вид. Юджин не спускал глаз с ребенка. Странное овладело им чувство… Он испытывал глубокое волнение — неудержимое, щекочущее, щемящее. Он прикоснулся к ребенку. Он посмотрел на его ручонки, на личико. Какое-то сходство с Анджелой. Да, несомненно. Это его ребенок. Это ребенок Анджелы. Выживет ли она? Исправится ли он? Боже мой, и надо же было такому бремени свалиться на него именно сейчас, но ведь это его ребенок. Как мог он думать… Бедная крошка! Если Анджела умрет… Если Анджела умрет, то от всей ее долгой, трагической борьбы у него останется во всем мире только это — его маленькая дочка. Если Анджела умрет… А на смену ей пришло вот это. Для какой цели? Чтобы светить ему в жизни? Чтобы придать ему сил? Чтобы сделать его лучше, честнее? Он не находил ответа. Он только чувствовал, что невольно проникается нежностью к ребенку. Дитя, рожденное бурей. Но Анджела, которая так близка ему сейчас, выживет ли она, увидит ли его? Вот она лежит без сознания, неподвижная, страшно изрезанная. Доктор Ламберт, собиравшийся уходить, подошел, чтобы еще раз посмотреть на нее. — Как вы думаете, доктор, будет она жить? — спросил его Юджин прерывающимся от волнения голосом. — Трудно сказать, — ответил тот с чрезвычайно озабоченным видом. — Трудно сказать. Сил у нее не так уж много. Слабое сердце и плохие почки — это скверная комбинация. Как бы там ни было, у нас был один только выход, и мы должны были им воспользоваться. Я рад, что удалось спасти ребенка. Сестра о нем позаботится, будет сделано все, что нужно. Он вышел из больницы, как рабочий уходит после работы к себе домой, как дай бог каждому из нас уходить, исполнив свое дело. Юджин подошел к Анджеле. Как он сожалел сейчас о тех долгих годах взаимного недоверия, которые привели к этому. Ему было стыдно за себя, стыдно за жизнь, за всю эту путаницу, которую она порождает. Анджела казалась такой маленькой, бледной, изможденной… Да, всему виной он. Это он привел ее на операционный стол своей ложью, своим непостоянством, своим неустойчивым характером. С известной точки зрения это попросту убийство, тем более что сердце его смягчилось лишь в самую последнюю минуту. Но жизнь и его не слишком миловала. Да, да… О, дьявольщина! Будь оно все проклято! Только бы Анджела выздоровела, — он постарается исправиться. Да, непременно. Не ему бы говорить такие вещи, но он постарается. Право же, любовь не стоит тех жертв, каких она требует. Бог с ней, с любовью, бог с ней! Он проживет и без нее. Альфред Рассел Уоллес прав, — есть неведомые нам таинственные силы. Где-то есть бог. Он царит над миром. Недаром же существуют эти могущественные темные силы. Только бы Анджела не умерла, — он исправится, он будет вести себя иначе. Да, да, он станет совсем другим. Он всмотрелся в лицо Анджелы; она показалась ему такой слабой и бледной, что он подумал: «Нет, она не выживет». — Едем ко мне домой, — просила его Миртл, которая только что приехала. — Здесь мы все равно ничего не можем сделать. Сестра говорит, что она придет в себя только через несколько часов. А ребенок в надежных руках. Ребенок, ребенок! Он забыл про ребенка, забыл о существовании Миртл. Он думал только о той долгой, мрачной трагедии, какой была его жизнь, о том, сколько зла он причинил. — Ну, едем, — устало ответил он. Близилось утро. Они вышли, сели в такси и поехали к Миртл. Но, несмотря на страшную усталость, Юджин почти не спал. Он, словно в горячке, метался с боку на бок. Он встал рано, ему не терпелось поехать в больницу и узнать, как Анджела и как ребенок.Глава 100
Состояние Анджелы, вдобавок к сердечной слабости, осложнилось еще тем, что в самый момент родов у нее сделалась так называемая эклампсия, особый вид нервного расстройства, сопровождаемого конвульсиями. Установлено (во всяком случае, таковы были статистические данные того времени), что в одном случае из пятисот роды осложняются подобными симптомами, уносящими новорожденную жизнь. В половине случаев погибает также и мать, каковы бы ни были меры, принятые самыми опытными хирургами. На возможность этой болезни указывают известные изменения в почках, хотя вызывается она не ими. Пока Юджин во время родов находился в коридоре, он был избавлен от страшного зрелища, — Анджела лежала, уставившись в пространство, рот ее скривился в страшной гримасе, она вся изогнулась, руки ей свело, скрюченные пальцы медленно шевелились, вызывая представление о механической фигуре, у которой кончается завод. За этим последовало беспамятство и столбняк, и если бы ребенок не был немедленно удален из чрева, и мать и младенец погибли бы в страшных муках. Но и сейчас у Анджелы не было сил бороться за жизнь. Она ненадолго пришла в себя, и у нее началась сильнейшая рвота, а потом снова погрузилась в беспамятство, сопровождавшееся бредом. Она называла имя Юджина. Ей мерещилось, очевидно, что она в Блэквуде, и она просила его приехать. Он держал ее руку в своей и плакал, так как знал, что ему ничем уже не загладить своей вины. Каким он был зверем! Он закусил губу и невидящими глазами уставился в окно. Однажды у него вырвалось: «Эх, и дрянь же я, пропащий человек! Лучше бы мне умереть!» Весь день и большую части ночи Анджела провела в беспамятстве. В два часа пополуночи она пришла в себя и попросила показать ей ребенка. Сестра принесла его. Юджин взял ее за руку. Ребенка положили с ней рядом, и она заплакала от радости, но плач ее был тихий, еле слышный. Юджин тоже разрыдался. — Девочка? — спросила она. — Да, — ответил Юджин и немного спустя добавил: — Анджела, я должен тебе сказать… Прости меня. Мне стыдно. Я хочу, чтобы ты поправилась. Я буду совсем другой, правда. Но даже произнося эти слова, он подсознательно думал о том, может ли он измениться. Не будет ли опять все по-прежнему, если она выздоровеет, а может быть, даже и хуже? Она погладила его руку. — Не плачь, Юджин, — сказала она. — Все будет хорошо. Я поправлюсь. И мы оба будем вести себя иначе. Я и сама не меньше виновата, чем ты. Я была слишком строга. Она стала перебирать его пальцы, а он задыхался от слез. Что-то больно сдавило ему горло. — Прости меня. Прости меня, — выговорил он с трудом. Через некоторое время ребенка унесли, и у Анджелы снова начался бред. Она страшно ослабела — до такой степени, что не могла уже говорить, хотя вскоре и пришла в сознание. Она пыталась что-то сказать знаками. И Юджин, и сестра, и Миртл поняли ее. Ребенка! Его принесли, и сестра держала его перед нею; Анджела улыбнулась слабой, печальной улыбкой и перевела взгляд на Юджина. — Будь спокойна, я позабочусь о ней, — сказал он, склонившись над кроватью. Мысленно он произнес клятву. Он станет порядочным человеком — отныне и до конца своих дней он будет чист. Ребенка снова положили рядом с Анджелой, но она уже не в силах была двигаться. Она все больше и больше слабела и вскоре скончалась. Юджин сидел возле нее, обхватив голову руками. Итак, его желание исполнилось. Анджела умерла. Он получил хороший урок — вот что значит идти наперекор совести, здоровому инстинкту, непреложным законам жизни. Он просидел так целый час, не внимая просьбам Миртл, пытавшейся увести его. — Прошу тебя, Юджин! — молила она. — Пожалуйста, пойдем! — Нет, нет! — отвечал он. — Ну, куда я пойду? Мне и здесь хорошо. Наконец он все-таки встал и пошел за нею, недоуменно размышляя о том, как устроить теперь свою жизнь, кто будет заботиться об… об… «Анджела?» — пришло ему в голову имя. Конечно, он назовет ее Анджелой. Он слышал, как кто-то сказал в разговоре, что у нее будут золотистые волосы. Пусть концом этой истории послужит нам повесть о философских блужданиях и сомнениях ее героя и о постепенном его возврате в русло обычной жизни, обычной в том смысле, как это понимает художник. Никогда уже, говорил себе Юджин, не будет он тем сентиментальным и увлекающимся глупцом, которому воображение рисует совершенство, едва он увидит красивую женщину. И все же был период, когда у них с Сюзанной — если б она внезапно вернулась — могли возобновиться прежние отношения, а может быть, и более пылкие. И это несмотря на владевшее им уныние и на его умозрительный интерес к «христианской науке», как к возможному средству исцеления, несмотря на угнетавшее его сознание своей вины перед Анджелой, своей жестокости, граничащей с убийством. Былая страсть по-прежнему терзала его сердце. Правда, он должен был теперь заботиться о маленькой Анджеле, которая стала для него источником радости и в известной мере отвлекала его от мыслей о себе. Ему нужно было восстановить свое материальное благополучие; он нес ответственность перед некоей абстракцией, именуемой общественным мнением, которое олицетворялось для него теми, кто знал его или кого он знал. И тем не менее в нем жила все та же старая боль, — и сознание, что ничто уже не мешает ему вступить в новый брак или построить свою жизнь на началах свободной любви, о которой когда-то грезила Сюзанна, рождало в нем безрассудные мечты. Сюзанна, Сюзанна! Его преследовало ее лицо, ее глаза, каждый ее жест. Не Анджела, несмотря на весь трагизм ее смерти, а Сюзанна. Он часто думал об Анджеле — о ее последних часах в больнице, о ее прощальном повелительном взгляде, говорившем: «Позаботься о ребенке!», и тогда горло его сжималось, словно схваченное сильной рукой, и к глазам подступали слезы. Но даже в эти минуты он не переставал чувствовать, что какие-то неведомые силы влекут его к Сюзанне, и только к ней. Сюзанна, Сюзанна! Ее волосы, ее улыбка, весь ее образ стал для него воплощением романтической мечты, которая была уже так близка и которая сейчас, когда Сюзанны не было с ним и разлуке их не предвиделось конца, сияла таким ярким светом, какого действительность, несомненно, была бы лишена. «Из вещества такого ж, как и сон, мы созданы, и жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена»[56]. Да, мы так же призрачны, как наши сны, и вся наша неугомонная тряская действительность соткана из тех же грез и снов. Ничто в мире так не радует и не мучит нас, ничто так не дорого нам, как наши сны. В ту первую весну и лето, когда Юджин поселился вместе с Бэнгсом и Миртл, взявшей на себя заботу о маленькой Анджеле, он несколько раз побывал у миссис Джонс. Бессилие, проявленное «христианской наукой» в отношении Анджелы, произвело на него не слишком выгодное впечатление, хотя Миртл и постаралась найти какое-то благовидное объяснение этой явной неудаче. Юджин пребывал в страшно подавленном состоянии, и Миртл снова уговорила его обратиться к старой лекарке. Она уверяла, что миссис Джонс поможет ему побороть болезненное уныние, и после свидания с ней он воспрянет. — Возьми себя в руки, Юджин, — говорила она. — Иначе ничего ты не добьешься. Ведь у тебя же талант. Ты рано хоронишь себя. Твоя жизнь только еще начинается. Увидишь, к тебе вернутся силы и здоровье. Перестань же горевать. Что ни случается, все к лучшему. И он опять отправился к миссис Джонс, ругая себя за это, так как, несмотря на пережитые потрясения, а может быть, именно благодаря им, понимал, что никакая религия не может дать ему ответа на мучившие его вопросы. Анджелу не удалось спасти. Почему же он должен быть спасен? И все же метафизический стимул продолжал заявлять о себе — слишком тяжело было страдать и не верить, что существует какое-то спасение. Иногда он ненавидел Сюзанну за ее равнодушие. Пусть только они встретятся, и уж он посчитается с ней. Он не станет больше унижаться до мольбы и уговоров. Сюзанна сознательно заманила его в западню — она достаточно умна для этого! — а потом с легким сердцем бросила. Разве так поступает человек с большой душой? — спрашивал он себя. Разве та, о которой он мечтал, была бы способна на это? О, эти часы, проведенные в Дэйлвью, их единственное мучительное свидание в Канаде, эта ночь, когда она так самозабвенно танцевала с ним. За три года Юджин изведал все причуды, все изломы, на какие только способен больной, блуждающий в потемках разум. Он то готов был уверовать в «христианскую науку», то опять убеждал себя, что миром правит дьявол — этакий космический шут с повадками Гаргантюа и Бробдингнэга, грозящий гибелью всему чистому и святому и с глумливой радостью взирающий на свинство, и тупость, и душный, гадкий, прожорливый разврат. Мало-помалу его бог — если для Юджина существовал бог — вновь превратился в двойственное начало, или в сочетание добра и зла: с одной стороны, идеальное и аскетически чистое добро, с другой — самое чудовищное и омерзительное зло. Его бог — некоторое время во всяком случае — был богом бурь и всяких ужасов и в то же время богом покоя и всяческого совершенства. Позднее он дошел до состояния, которое можно было бы охарактеризовать не как отрицание бога, а скорее как философское свободомыслие или скептицизм. Он пришел к выводу, что не знает, чему верить. В жизни, очевидно, все дозволено и нет ничего установленного. Быть может, жизнь — это только пестрый калейдоскоп, где все уравновешено — взлеты и падения, горе и смех. Но хотя Юджин способен был громче всех поносить жизнь — и в одиноких размышлениях и в страстных спорах — он хорошо понимал, что действительность — и не только в лучшие свои минуты, но и в худшие — исполнена красоты, поэзии и радости: и пусть он старится, стонет и сетует, пусть повержен и разбит, жизнь, которую он и любит и ненавидит, будет по-прежнему сиять. Он может бранить ее, ей до этого нет дела. Он может погибнуть, может перестать существовать — с жизнью этого не случится. Для жизни он ничто, — но сколько острой боли, сколько радости почерпнул он в тайниках ее храма, в ее благостных иллюзиях. Как ни странно, но когда в душе Юджина происходила эта ломка, он одно время снова стал бывать у миссис Джонс, главным образом потому, что она была ему симпатична. Он находил в ней какую-то теплоту, что-то материнское: ее окружала атмосфера, напоминавшая ему родной дом в Александрии. Эта женщина, вечно занятая мыслями о возвышенном, по примеру миссис Эдди утверждавшая — на основе своей веры или понимания, как она говорила, — единство вселенной (беззлобность, благость управляющих ею сил, отсутствие страха, боли, недугов и даже смерти), до такой степени прониклась уверенностью, что зла не существует (разве только в представлении смертных), что порою почти убеждала в том и Юджина. Он подолгу рассуждал с нею об этих предметах. Он шел к ней со своим горем, как ребенок к матери. Мир, утверждала она вслед за миссис Эдди, — это чистый дух, а не материя, и никакие ужасы действительности, как бы красноречивы они ни были, не могли опровергнуть для нее этой истины, не противоречили в ее глазах божественной гармонии. Бог добр. Все, что ни есть в мире, — это бог, следовательно, все в мире добро, а остальное иллюзия. Ничего третьего не существует. Судьба Юджина в этом смысле не отличается от многих других человеческих трагедий. — Возлюбленное чадо, — говорила она Юджину, — мы с вами сейчас дети господни, и нам неизвестно, что ждет нас впереди; одно мы знаем, что, когда он предстанет пред нами (она объяснила Юджину, что он — это вселенский дух совершенства, который включает в себя и людей), мы уподобимся ему. Ибо мы увидим его таким, каков он есть. — И всякий, кто надеется на него, — очистится, ибо он чист. Однажды она объяснила Юджину, что очищение отнюдь не требует от человека безнадежной душевной борьбы и аскетического воздержания. Нет, достаточно человеку уверовать в свое доброе начало, и эта вера укрепит его. — Вы смеетесь надо мной, — сказала она ему как-то, — но я говорю вам, что вы чадо божье. В вас теплится божественная искра. Настанет день, и она разгорится ярким пламенем. Все остальное рассеется как дурной сон, потому что оно лишено реальности. В ее обращении с ним было что-то материнское, она даже пела ему псалмы, и, как ни странно, ее тоненький голосок уже не раздражал его, а ее духовная сила преображала ее и делала прекрасной в его глазах. Чудачества и внешняя неприглядность миссис Джонс, а также то обстоятельство, что ее квартира обставлена безвкусно, что у нее безобразная фигура — по его понятиям во всяком случае, — что она неизвестно почему приписывает китам духовную сущность, а клопов и прочих зловредных насекомых считает порождением бренного разума, — все это нисколько не смущало его. В ее рассуждениях о вселенной, как о духе, о вселенной, не знающей зла, было что-то притягательное. Конечно, пяти чувств недостаточно для познания мира, и за пределами их показаний он угадывал бездонные глубины чудес и могущества. Так почему же заранее отклонить такое решение? Почему не принять его, как вполне пригодное? В книге «Машина мироздания», которую Юджин когда-то читал, говорилось, что мир планет бесконечно мал, что с точки зрения беспредельности он вообще не идет в счет, хотя и кажется нам необъятным. Почему же вместе с Карлейлем не признать, что этот мир существует только в нашем восприятии и что поэтому он призрачен? Постепенно мысли эти крепли и все больше овладевали Юджином. Он стал бывать в обществе. Случайная встреча с мосье Шарлем, который долго тряс ему руку и расспрашивал, где он живет и что делает, воскресила в Юджине былое влечение к искусству. Мосье Шарль стал горячо убеждать его снова устроить выставку своих картин, каких бы то ни было. — Вы! — воскликнул он сердечно, но и с некоторой долей негодования, так как Юджин был для него прежде всего художником, и притом очень крупным. — Вы, Юджин Витла, — редактор, издатель! Вы, перед кем через несколько лет, стоит вам только пожелать, склонились бы все ценители искусства! Вы, который мог бы, отдав этому всю жизнь, сделать для американского искусства больше, чем любой известный мне мастер! Вы тратите свое время на заведование художественными отделами, на редакторскую возню, на издательское дело! Да неужели вам не совестно? Но и сейчас еще не поздно. А ну, давайте-ка устроим выставку! Что вы скажете, если я предложу приурочить ее к разгару сезона, — я имею в виду январь или февраль, а? В эту пору все интересуются искусством. Я предоставлю в ваше распоряжение самый большой зал. Ну, как вы думаете? Он весь горел чисто французским энтузиазмом, он повелевал, вдохновлял, настаивал. — Если только у меня что-нибудь выйдет, — негромко ответил Юджин, разводя руками, и в уголках его рта обозначились горькие складки презрения к себе. — Возможно, что время мое уже ушло. — Ваше время ушло! Ваше время ушло! Какой вздор! И вы говорите мне подобные вещи? «Если у меня что-нибудь выйдет!» Нет, я отказываюсь иметь с вами дело! Вы, с вашими бархатными тонами, с вашими смелыми линиями! Нет, это невозможно, немыслимо! С пафосом чистокровного галла он воздел руки, закатил глаза, брови у него полезли на лоб. Затем он пожал плечами и стал ждать признаков оживления на лице Юджина. — Ну что ж, — сказал тот, выслушав его. — Но только я ничего не обещаю. Посмотрим. — И он сообщил ему свой адрес. И опять эта встреча дала толчок Юджину. Мосье Шарль, которому известно было мнение о нем знатоков и который в свое время успешно распродал все его картины, смотрел на них как на прибыльный товар, если не в Америке, то за границей, и надеялся в качестве импресарио талантливого художника заработать немало денег и славы. Надо продвигать на рынок американских художников — кто-нибудь из них должен выдвинуться, так почему не Витла? Этот человек действительно заслуживает поддержки. И Юджин стал писать, быстро, нервно, вдохновенно, все, что ни попадалось ему на глаза, временами чувствуя, что былая его сила навсегда утрачена. Он снял комнату окнами на север, неподалеку от дома, где жила Миртл, и здесь пробовал писать портреты — Миртл с мужем, Миртл с маленькой Анджелой, создавая классически простые композиции. Затем он стал подбирать натуру на улице — чернорабочие, прачки, пропойцы, все характерные типы. Случалось, он уничтожал свои картины, но в общем работа подвигалась. Им овладело лихорадочное желание изобразить жизнь такой, какой он видел ее, запечатлеть ее с портретной точностью, со всеми ее странностями и причудами, с ее бессмысленностью и жестокостью. Он часто писал толпу, ее неустойчивые, изменчивые настроения. Парадокс, который представляет собой опустившийся пропойца — живой труп — среди бьющей ключом жизни, на время завладел его воображением. Он видел в этом свой собственный протест, судорожное цепляние за жизнь, обвинение, брошенное в лицо природе, и это подхлестывало его. Полотно это было впоследствии продано за восемнадцать тысяч долларов — рекордная цифра. А тем временем Сюзанна — его утраченная мечта — путешествовала с матерью за границей. Она побывала в Англии, Шотландии, Франции, Египте, Италии и Греции. Жестокая буря, которую вызвало ее внезапное и в сущности безотчетное увлечение, не прошла для нее даром. А теперь она была так потрясена катастрофами, которые эта буря обрушила на голову Юджина, что не знала, что делать и что думать. Она была еще слишком молода и по-прежнему далека от жизни. Сильная телом и духом, она по-прежнему жила мечтами и впечатлениями минуты — ее философские и нравственные представления еще не устоялись. Миссис Дэйл, опасаясь новой вспышки упрямства, которая могла разрушить все ее тонкие расчеты, старалась воздействовать на дочь то лаской, то упорством, то хитростью, как угодно, лишь бы избежать какого-нибудь внезапного порыва и опасного пробуждения прошлого. Тревога не покидала ее ни на минуту. Как поладить с Сюзанной? Всякое ее желание, любой каприз или причуда, касавшиеся туалетов, развлечений, путешествий, знакомств, исполнялись немедленно. Не хочется ли ей поехать туда-то, увидеть то-то, встретиться с тем-то и тем-то? И Сюзанна, прекрасно понимавшая, какими мотивами руководствуется мать, и вместе с тем встревоженная страданиями и бедами, которые она навлекла на Юджина, не могла решить, правильно ли она тогда поступила. Сомнения одолевали ее. Но больше всего ее смущала мысль, действительно ли она любила Юджина? Не было ли это мимолетным увлечением? Не было ли это злой шуткой, которую сыграла с ней бунтующая кровь, между тем как о духовной близости между ними не могло быть и речи? На самом ли деле Юджин единственный человек, с которым она могла бы быть счастлива? Не слишком ли он склонен к обожанию, не слишком ли своенравен, не слишком ли опрометчив и безрассуден в своих стремлениях? Действительно ли он такой одаренный человек, как она себе представляла? Не кончилось ли бы дело тем, что она вскоре разлюбила бы его, а может быть, даже и возненавидела? Могли бы они быть долго и по-настоящему счастливы? Или ей был бы скорее по душе человек с твердым характером, более крутой и равнодушный — человек, которым она восхищалась бы и за которого вынуждена была бы бороться? Не такой, что обожал бы ее и нуждался в ее сочувствии, а сильный, смелый, решительный, разве не это в конце концов ее идеал? И разве можно сказать про Юджина, что он отвечает ее идеалу? Эти вопросы и еще много других не переставали терзать ее. Как ни странно, жизнь полна таких трагических парадоксов. Как часто горячность характера и крови приводит нас к грубым ошибкам, против которых протестует наш разум, все наши жизненные обстоятельства и общественные условности. Одно дело — мечты человека, другое — его способность осуществить их. Известны, правда, случаи блистательных побед и, напротив, блистательных поражений. Блистательное поражение потерпел Абеляр, блистательную победу одержал Наполеон, возведенный на трон в Париже.Но как ничтожно число побед по сравнению с числом поражений! Нельзя сказать, однако, что Сюзанна пришла к выводу, будто она никогда не любила Юджина. Отнюдь нет. Хотя миссис Дэйл прибегала к хитрейшим маневрам, чтобы окружить дочь более молодыми и более достойными ее внимания мужчинами, Сюзанне, по натуре склонной к самоанализу и трезвой наблюдательности, не скоро предстояло вновь попасться на удочку любви, если считать, что однажды это с нею уже случилось. Она, казалось, дала себе обещание отныне внимательнее изучать мужчин и, не отвергая их ухаживаний, выжидала какого-нибудь шага со стороны Юджина или кого-либо другого, который заставил бы ее принять решение. В Сюзанне пробудился интерес к той странной и опасной силе, какой была ее красота: она знала теперь, что она действительно красива, и часто заглядывалась на себя в зеркало, любуясь искусно положенным локоном, линией подбородка, щеки или плеча. О, как она вознаградит Юджина за все его мучения, если когда-нибудь вернется к нему! Но сбудется ли это? Может ли она к нему вернуться? К тому времени он, пожалуй, образумится и только презрительно пожмет плечами и высокомерно усмехнется при встрече с ней. Потому что, нет сомнения, Юджин замечательный человек, и скоро его звезда снова засияет. А тогда — что он подумает о ней, о ее молчании, вероломстве, ее нравственной трусости? «В конце концов, что я такое? — говорила она себе. — Но как высоко он вознес меня, как восхищался мной, как пылал! Нет, конечно, он необыкновенный человек!»Глава 101
Развязка этого романа — вернее, то, что можно назвать развязкой, — наступила лишь два годя спустя. К тому времени взгляды Сюзанны стали более трезвыми, она развилась интеллектуально, сделалась более хладнокровной — хотя, пожалуй, не более холодной — и более критически смотрела на окружающее. Мужчины что-то уж очень пылко восхищались ее красотой. После Юджина их страстные заверения и клятвы в вечной любви не производили на нее большого впечатления. И вот однажды в Нью-Йорке на Пятой авеню произошла встреча. Сюзанна поехала с матерью за покупками, но как-то случилось, что они на минуту потеряли друг друга. Юджин в ту пору уже окончательно пришел в себя. Время залечило его раны, но разве лишь чуть затуманило в его сердце образ чудной, неувядаемой красоты. Не раз задумывался он над тем, что он сделал бы, если бы снова увидел Сюзанну, что сказал бы ей? Улыбнулся бы, поклонился? И если бы в глазах ее прочел ответный блеск, опять воспылал к ней любовью? Или он нашел бы ее изменившейся, холодной и безразличной? Может быть, он и сам отнесся бы к ней с насмешливым безразличием? Потом у него, вероятно, было бы тяжело на душе, но он отплатил бы ей. Если она действительно любила его, то пусть вдвойне страдает от того, что была глупой, безвольной куклой в руках матери. Он не мог знать, что Сюзанна слышала о смерти его жены и о рождении ребенка и что она написала ему пять писем и все уничтожила, из страха перед его упреками, равнодушием и презрением. Она слышала, что он снова достиг славы, так как выставка состоялась и вызвала одобрительные отклики. Его талант признавался всеми. Особенно восторгались художники. Они считали, что он несколько причудлив и эксцентричен, но что это большое дарование. Мосье Шарль подал одному крупную финансисту идею поручить Юджину стенную роспись его банка, строившегося в финансовом центре Нью-Йорка. И Юджин написал для него девять больших панно, в которых с глубокой выразительностью передал свое восприятие жизни. Большие, сверкающие красками фрески его работы можно было увидеть и в Вашингтоне — в трех крупных общественных зданиях, — и в капитолиях[57] трех различных штатов; Юджин запечатлел в них свои смелые мечты о красоте, какой еще не бывало в мире. В каждой его работе мелькал один и тот же образ — лицо, рука, овал щеки, глаз. И если вы когда-то знали прежнюю Сюзанну, вам нетрудно было угадать, кто этот неуловимый призрак, который витал перед художником. Но, несмотря на это, он теперь ненавидел ее — так по крайней мере ему казалось. Разум его попрал прекрасный образ, который когда-то так боготворил. Он ненавидел — и все же любил ее. Жизнь, любовь сыграли с ним отвратительную шутку — они затмили его разум, а потом насмеялись над безумцем. Нет, никогда уже любовь не будет владеть им. И все же женская красота оставалась для него сильнейшим соблазном, разница была лишь в том, что теперь он не поддавался ему. И вот однажды пути их скрестились. Он едва узнал ее, так неожиданна была встреча и так мгновенна. Он только что вышел из ювелирного магазина на Пятой авеню возле Сорок второй улицы, где купил маленькой Анджеле колечко ко дню рождения и увидел Сюзанну, переходившую улицу на перекрестке. Глаза этой девушки, беглый взгляд, молниеносное воспоминание о чем-то прекрасном… Юджин остановился — возможно ли… «Он даже не узнает меня, — подумала Сюзанна, — а может быть, он меня ненавидит. Боже мой — ведь только пять лет прошло…» «Как будто она, — подумал он, — а может быть, и нет. Но если даже и она, пусть убирается к дьяволу!» Жесткие складки залегли в углах его рта. «Я сделаю вид, будто не заметил ее, лучшего она не заслуживает, — решил он. — Она никогда не узнает, что я ее люблю». И так они разошлись, чтобы больше не встречаться, — и оба жаждали любви, оба отвергали ее, оба схоронили глубоко в сердце призрак утраченной красоты.Эпилог
Метафизика часто служит нам желанным прибежищем в поисках душевного равновесия и моральной опоры, хотя не всегда это так, и все зависит от того, к чему склоняют человека его симпатии и жизненный опыт. Жизнь на каждом повороте теряется в неведомом, и в памяти остаются лишь важнейшие вехи на пройденном пути, а потом и они исчезают. Может показаться странным, что Юджин, разбитый физически и нравственно, на какое-то время заблудился в тумане религиозных измышлений, но такие вещи бывают с людьми, которых сильно потрепало бурей. В религии они ищут спасения от самих себя, от своих сомнений и отчаяния. Если бы меня спросили, что такое религия, я бы сказал, что это примочка, накладываемая человеком на душевные раны, что это раковина, куда он заползает, чтобы укрыться от неизбежного, вечно изменчивого, беспредельного. Все мы ищем чего-то безусловного и создаем его себе, если не находим. Религия как будто дает жизни некий постоянный адрес, этикетку, но это лишь самообман. И снова мы возвращаемся к таким извечным проблемам, как время, пространство и безграничный разум — но чей? Ибо это — то самое, во что мы неизбежно упираемся и куда относим все, что нам не надо познать. Однако потребность в религии не является чем-то постоянно присущим человеку, как, впрочем, и остальное в жизни. Стоит ему выздороветь, и душа его оказывается во власти прежних иллюзий. В жизнь Юджина снова вошли женщины — а как вы думали? — быть может, привлеченные его грустью и одиночеством, когда, надломленный пережитой трагедией, он стал снова показываться в обществе. Но теперь он принимал их внимание скорее скептически, хотя и не всегда оставался к нему равнодушен. Женщины, которых он встречал у знакомых, зрелые матроны и юные девушки, мечтали заинтересовать его и не хотели и слышать об отказе. Тут были и актрисы, и художницы, и бездарные поэтессы, певицы из варьете, журналистки и просто бездельницы. Задушевные беседы, переписка и встречи иногда приводили и к более интимным отношениям, которые кончались так же, как и все предыдущие. Так, значит, Юджин не изменился? Да нет, не слишком. Он только закалил свои чувства и разум, закалил для жизни и работы. Снова бывали в его жизни бурные сцены, слезы расставания, отречения, холодные встречи, — но где-то за всем этим, под крылышком у Миртл, жила маленькая Анджела — его опора и утешение. Для всякого постороннего взгляда Юджин был теперь художником, язычником до мозга костей, который читал Библию ради красот стиля, а Шопенгауэра, Ницше, Спинозу и Джемса — ради тех жизненных тайн, которые они ему приоткрывали. В своей дочурке он видел обаятельное существо и в то же время предмет, достойный изучения. Он с любовью и интересом наблюдал за девочкой, в которой уже различал кое-что свое и кое-что Анджелино, гадая, что из всего этого получится. Какая она будет, когда вырастет? Будет ли искусство что-нибудь значить для нее? Она казалась ему такой смелой, веселой, своенравной. — Дочка у тебя изрядный тиран, — говорила ему Миртл. И он с улыбкой отвечал: — Ничего не поделаешь, попробую как-нибудь с этим справиться. Он тешил себя мыслью, что если он и маленькая Анджела со временем поймут друг друга и если она не слишком рано выйдет замуж, он постарается создать для нее прекрасный дом. А может быть, и ее муж согласится жить с ним под одной крышей. Последняя сцена нашей повести приводит читателя в студию в Монтклере, где обосновался Юджин и где Миртл, переселившаяся к нему вместе с мужем, вела его хозяйство, а маленькая Анджела не давала ему скучать. Однажды поздно вечером Юджин сидел у камина, углубившись в книгу, как вдруг прочитанная фраза или отрывок привели ему на память одно место в примечательных Главах «О непознаваемом» из работы Спенсера «Факты и комментарии», и он встал, чтобы разыскать его. Порывшись, он нашел нужный том и с удовлетворением прочитал эти строки, настолько созвучные его собственным взглядом и настроениям. И поскольку отрывок этот так пришелся по душе Юджину, я приведу его здесь: «Если от нас скрыта сущность вещей, воспринимаемых нашими чувствами, то тайны мироздания еще более нам недоступны, ибо если первые могут считаться — и действительно считаются — объяснимыми либо в свете гипотезы о сотворении мира, либо в свете учения об эволюции, то ко вторым это неприменимо. Как верующий, так и скептик должны сойтись на том, что пространство извечно и никем не создано, и что оно, наоборот, предшествовало сотворению мира, буде такое действительно имело место. Следовательно, если бы мы и проникли в тайну бытия, это не разрешило бы для нас многих других, еще более недоступных и темных загадок. То, что мыслится нами как предшествовавшее всякому творению и всякой эволюции, ставит нас перед загадками, которые еще меньше поддаются нашему познанию, чем явления мира видимого и осязаемого. Мысль о мире, который, будучи исследован со всех сторон и, казалось бы, до конца, таит в себе неисследованную область, по сравнению с которой часть, доступная нашему воображению, бесконечно мала, — мысль о пространстве, по сравнению с которым наша неизмеримая звездная система сжимается до ничтожных размеров, — эта мысль так грандиозна, что наш ум не вмещает ее. За последние годы представление о бесконечном пространстве, не имеющем ни начала, ни причины, — пространстве, которое всегда существовало и будет существовать, вызывает во мне чувство, подобное страху». «Вот это, — мысленно произнес Юджин, оглядываясь, так как ему послышался легкий шорох за дверью, — вот это поистине самое ясное утверждение ограниченности человеческого познания, какое мне приходилось встречать». И тут он увидел на пороге маленькую Анджелу в широкой пижаме, немного похожей на костюм Пьеро, и улыбнулся, так как шалости и уловки этой своенравной молодой особы были ему хорошо знакомы. — Ты зачем сюда пришла? — спросил он с напускной строгостью. — Тебе давно пора спать. Вот узнает тетя Миртл, попадет тебе! — Мне не спится, папочка, — ответила ему маленькая плутовка, которой очень хотелось еще немного посидеть с ним у камина, и она быстро побежала к нему через комнату, чтобы приласкаться. — Подними меня, папочка! — Знаю я, как тебе не спится, жулик ты этакий! Просто хочешь, чтобы я укачал тебя на руках. А ну-ка, живей в постельку! — Ой нет, папочка! — Ну уж ладно, иди сюда, — и, взяв ее на руки, Юджин снова уселся у камина. — А теперь изволь спать, или я сейчас же отнесу тебя в кроватку. Девочка свернулась клубочком, положив ему на руку золотистую головку. А он смотрел на это личико и думал о том, как бурно было ее появление на свет. — Мой цветочек! — сказал он. — Милая моя крошка! Она не отозвалась. Немного погодя он уложил ее, сонную, в постель, тщательно подоткнул одеяльце, а затем вернулся к себе и вышел на побуревшую лужайку. Ноябрьский ветер шелестел в безжизненно повисших и почерневших листьях деревьев. Над головой мерцали звезды — величественный пояс Ориона, таинственные созвездия обеих Медведиц и та далекая туманность, которую именуют Млечным Путем. «Где во всем этом — в бесконечности материи — Анджела? — подумал он и провел рукою по волосам. — И где будет то, из чего состою я? Как хаотична, но как прекрасна жизнь! Сколько в ней разнообразия, сколько нежности и суровости. Она словно яркая симфония!» Он глядел в сверкающую бездну пространства, и прекрасные образы рождались в его душе. «Как хорошо сегодня шумит ветер», — подумал Юджин. И он тихонько вернулся в дом и запер дверь.
АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ (роман)
Трагическая история Клайда Гриффитса из бедной семьи уличных проповедников, мечтающем только об одном: положении в обществе…
Часть I
Глава 1
Летний вечер, сумерки. Торговый центр американского города, где не менее четырехсот тысяч жителей, высокие здания, стены… Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города. И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в шесть человек: мужчина лет пятидесяти, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы, — весьма невзрачная личность; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на пять моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одетая очень просто, с некрасивым, но не уродливым лицом; она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет пятнадцати, мальчик двенадцати и еще девочка лет девяти; все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими. Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома. Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье; по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов… Дойдя до угла, где путь им пересекала следующая улица, — вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, — мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина — это был отец семейства — огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь о том, есть ли у него слушатели: — Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить господа, может присоединиться к нам. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер. Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться возможно более безразлично и отчужденно; теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала: — Я думаю, мы начнем с двадцать седьмого псалма: «Как сладостен бальзам любви Христовой». Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его: — Споем же все вместе: «Как сладостен бальзам любви Христовой». Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела; ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки — девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безликая и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждала интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа, в других — непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые — как бы ни были они слепы и ложно направлены — способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней, больше чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: «Да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте. Любовь Христа, ты мне опорой будь, Любовь Иисуса — праведный мой путь, - звучно и немного гнусаво пела она — едва заметная среди громадных зданий. Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье; ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это сознавал. Только в одном не приходилось сомневаться: у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его — слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтике, владевшей душами его отца и матери. И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в «миссии», расположенной неподалеку отсюда, — он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго: всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением; он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости; она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас!» или: «Господь укажет нам путь!» — особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И, однако, — это понимали и он и другие дети, — бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо. В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Ведь другие мальчики не занимаются такими вещами, тут есть что-то жалкое и даже унизительное. Не раз, еще прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами: «Хвала господу», — и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца: — Грифитс, Грифитс! «Хвала господу» Грифитс! Или кричали вслед мальчику: — Вон у этого сестра играет на органчике! А еще на чем она играет? И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала господу»! Другие так не делают. В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все; они всегда слишком много занимались религией, а теперь наконец сделали ее своим ремеслом. В этот вечер, на большой улице с высокими домами, — шумной, оживленной, полной движения, — мальчик со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него, — и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи. В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрестанно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка: некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне. — Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер — два-три раза в неделю, уж во всяком случае. — Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. — Наверно, какое-нибудь шарлатанство под видом религии, — прибавляет он. — Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять напоказ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, — говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему. — Да, я тоже так думаю, — соглашается тот, заинтересованный оригинальным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на лице мальчика, когда он поднимал голову; нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное постичь психологический и религиозный смысл происходящего, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых. И все же ему приходилось подчиняться. Двое младших детей — девочка и мальчик — были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они тут занимаются, и им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный, милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка — слабенькая, худенькая — ничем особенно не выделялась; в ней не заметно было и признаков духовной силы или глубины. Не удивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание. А родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества, и, когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле господа, благодаря его милосердию и любви Христовой. — Все люди — грешники пред лицом господа, — провозгласил он. — Доколе они не покаялись, доколе не приняли Спасителя, его любовь и всепрощение, не ведать им счастья, душевной чистоты и непорочности. Друзья мои! Если б вы знали, какой мир и покой нисходит на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки! Но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки! Какой покой и довольство дарит нам благая мысль! — Аминь! — торжественно заключила жена. И старшая дочь Эстер — домашние звали ее Эста, — чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью: — Аминь! Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца; может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум жаждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии. В конце концов после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Грифитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшей улице, и об их служении заветам Христа вообще, публика была осчастливлена третьим псалмом и одарена брошюрками о спасительных трудах миссии, а Эйса Грифитс, глава семьи, собрал кое-какие доброхотные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Грифитс, и, когда органчик был перекинут на ремне через плечо Грифитса-старшего, семейство направилось к миссии. Все это время Клайд говорил себе, что больше он не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей; «уличные паяцы» — сказал бы Он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради они таскают его за собой? Такая жизнь не по нем. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда-либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пусть старшая сестра ходит по улицам с органом, — ей это нравится. Младшие сестренка и братишка слишком малы, им все равно. Но он… — Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заметил Грифитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих. — Да, в четверг только восемнадцать человек взяли брошюры, а сегодня двадцать семь. — Любовь Христа совершит свое дело, — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. — Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но, когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы. — Я уверена в этом. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен. Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано: «Врата упования. Миссия диссидентов. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям — в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова: «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?» Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.Глава 2
Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена читателю, должна быть своя, отличная от других, история; так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий, — в ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйсы Грифитса — главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный — типичный продукт своей среды и религиозных идей, неспособный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практичным представлением о жизни. История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, двенадцатилетнего Клайда Грифитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность; при этом он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному мог бы жить, если бы все было не так, а эдак. До пятнадцати лет Клайда особенно мучило (и потом еще долго ему было тяжело об этом вспоминать), что призвание или, если угодно, профессия его родителей была в глазах других людей чем-то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили диссидентской миссией в разных городах — в Грэнд-Рэпидсе, Детройте, Милуоки, Чикаго, а в последнее время в Канзас-Сити; и повсюду окружающие, — по крайней мере мальчики и девочки, которых он встречал, — с явным презрением смотрели и на него и на его брата и сестер — детей таких родителей! Не раз — к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, — он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек. Но всегда, побежденному или победившему, ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно. Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущности своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие-то практические или профессиональные знания; наоборот, поглощенные одной идеей — нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса был не в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок, — только в этих двух занятиях он кое-что смыслил, — в такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм; по крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в бога и его покровительство. Семья Грифитсов жила там же, где помещалась миссия. И квартира и миссия были достаточно мрачны, чтобы вызвать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит к северу от Бульвара Независимости и к западу от Труст-авеню; дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури-авеню, — улице подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству очень слабо, но все же мало приятно отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго-западу от этих мест. Миссия Грифитсов находилась кварталов за пять от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями. Другой стороной дом выходил на мрачные задние дворы таких же мрачных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером сорок на двадцать пять футов: здесь были расставлены рядами штук шестьдесят складных деревянных стульев и перед ними кафедра; стены украшали карта Святой земли — Палестины и десятка два отпечатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде: «Вино — обманщик; пить — значит впасть в безумие; кто поддается обману — тот не мудр». «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». Псалом 34, 2. «И что вы — овцы мои, овцы паствы моей; вы — человеки, а я бог ваш, говорит господь бог». Книга пророка Иезекииля, 34, 31. «Боже Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Псалом 68, 6. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», — и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». От Матфея, 17, 20. «Ибо близок день господень…» Книга пророка Авдия, 1, 15. «Злой не имеет будущности». Притчи, 24, 20. «Не смотри на вино, как оно краснеет… как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Притчи, 23, 31–32. Эти всесильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижали. Остальная часть квартиры представляла собою сложную и хитроумную комбинацию комнат и комнатушек; тут были три маленькие спальни, гостиная, выходящая окнами на задний двор и деревянные заборы других таких же дворов, затем кухня, она же и столовая, размером ровно в десять квадратных футов, и маленькая кладовая, где было сложено имущество миссии: брошюры, книжечки псалмов, сундуки, ящики и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. Эта комнатка-кладовая примыкала непосредственно к залу, где происходили молитвенные собрания, и сюда удалялись мистер и миссис Грифитс для размышления и для молитвы перед проповедью, или после нее, или в тех случаях, когда им надо было о чем-либо посовещаться. Часто Клайд, его сестры и младший брат видели, как мать, или отец, или оба вместе увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, пришедшую просить совета или помощи (чаще помощи). И здесь же во время наибольших финансовых затруднений отец и мать сидели и размышляли или, как иногда беспомощно говорил Эйса Грифитс, молили бога указать им выход из положения. Как позже стал думать Клайд, это плохо помогало им найти выход. И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стала ненавистна самая мысль о том, чтобы жить здесь и впредь, а еще ненавистнее — заниматься делом, служителям которого приходилось постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки. Эльвира Грифитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой с фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма и восторженно и радостно последовала за ним, разделяя все его рискованные затеи и причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать и подчинять себе людей силою «слова божия». Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем. Изредка иные слушатели шли за проповедниками до их миссии, либо прослышав о ней, приходили туда позже — странные, морально неуравновешенные и неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Все годы, пока Клайд не мог еще сам распоряжаться собою, он был обязан помогать родителям во время этих собраний. И всегда его больше раздражали, нежели умиляли, все эти приходившие в миссию мужчины и женщины; чаще это были мужчины: отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как бог, или Христос, или божественное милосердие спасли их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И всегда отец и мать говорили «аминь» и «слава господу» и пели псалмы, а после собирали у присутствующих деньги на расходы по содержанию помещения; сборы, как догадывался Клайд, были скудные; их едва хватало на то, чтобы поддерживать жалкое существование миссии. Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, по-настоящему интересовало Клайда: насколько он понимал, где-то на Востоке — в маленьком городке под названием Ликург, близ Утики — обретался его дядя, брат отца, живший совсем по-иному. Этот дядя — его звали Сэмюэл Грифитс — был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя многое мог бы для него сделать, если б только захотел, что он прижимистый, оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее трехсот рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери — кажется, две. Все они жили в роскоши в этом далеком Ликурге, — воображал Клайд. Эти сведения, по-видимому, так или иначе доходили на Запад через людей, знавших Эйсу, и его брата, и их отца. Клайд представлял себе дядю каким-то Крезом, живущим в довольстве и роскоши там, на Востоке. А здесь, на Западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день: их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда. Ни ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет помочь себе, — Клайд рано понял это. Лет в пятнадцать, даже немного раньше, Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Теперь ему трудно будет наверстать упущенное, поскольку даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? С тринадцати лет он стал просматривать газеты (в дом Грифитсов они не допускались, так как чтение их считалось уж слишком «мирским» занятием) и из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифицированные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Вот еще! Стоять у станка, укладывать кирпичи, стать плотником, штукатуром или водопроводчиком, когда такие же, как он, мальчики становятся клерками или помощниками фармацевтов, или бухгалтерами и счетоводами в банках и различных конторах! Что за жалкая, унизительная жизнь, ничуть не лучше той, какую он вел до сих пор: ходить в старом платье, спозаранку подыматься по утрам и выполнять всю ту нудную работу, которой приходится заниматься людям физического труда! Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, не похожими на других. Он никогда не чувствовал себя неотделимой частицей своей семьи и не сознавал по-настоящему, что чем-то обязан тем, благодаря кому появился на свет. Наоборот, он был склонен осуждать своих родителей, — правда, не слишком резко и сурово, с полным пониманием их качеств и способностей. Но, умея столь здраво судить о других, он, однако, до шестнадцати лет не был способен составить какой-то план действий для самого себя и хватался то за одно, то за другое. К этому времени в нем заговорил голос пола: его влекла и волновала красота девушек, и ему хотелось знать, может ли он тоже нравиться им. И теперь он, естественно, был немало озабочен собственной внешностью и костюмом: какой у него вид и какой вид у других юношей? Он мучился, сознавая, что плохо одет, не так красив и интересен, как мог бы быть. Что за несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и быть не в силах помочь самому себе! Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод: прямой, точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие черные волосы и глаза черные, порою печальные. Однако сознание, что его семья так жалка и что из-за профессии и окружения его родителей у него никогда не было и не будет настоящих друзей, все больше и больше угнетало его и порождало меланхолию, которая не обещала для него в будущем ничего хорошего. Порою он пробовал взбунтоваться, а затем впадал в оцепенение. Поглощенный мыслью о родителях, он забывал о своей внешности — он был в самом деле очень недурен, даже привлекателен — и истолковывал не в свою пользу заинтересованные, пренебрежительные и в то же время манящие взгляды, которые бросали на него девушки совсем другого круга, стараясь узнать, нравятся они ему или нет, смелый он или трусишка. Однако еще прежде чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал: ах, если бы у него были, как у некоторых юношей, хороший воротничок, тонкая рубашка, изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто! О, красивая одежда, комфортабельная квартира, часы, кольца, булавки… столько юношей щеголяют всем этим! Многие мальчики в его возрасте — уже настоящие денди! Некоторые родители дарили своим сыновьям — его ровесникам — автомобили в полную собственность. Клайд видел, как они, словно мухи, летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити. И с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет. И никогда не было. А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. За что же ему взяться? Какой путь избрать? Какое изучить дело, которое дало бы ему возможность выдвинуться? Он не мог ответить. Он не знал. А эти странные люди — его родители — сами не были достаточно сведущими и ничего не могли ему посоветовать.Глава 3
Одно событие, удручающе подействовав на всю семью Грифитсов, усилило и мрачное настроение Клайда как раз в то время, когда он пытался прийти к какому-то практическому решению: его сестра Эста (он был к ней очень привязан, хотя и имел с нею мало общего) убежала из дому с актером, который приезжал на гастроли в местный театр и мимоходом увлекся ею. Нужно сказать, что Эста, хоть и получила строгое нравственное воспитание и бывала порой преисполнена религиозного пыла, была все же просто чувственной и безвольной девушкой: она еще не понимала себя и сама не знала, чего хочет. Обстановка, в которой жилаЭста, была ей глубоко чужда. Подобно огромному большинству, исповедующему религию только на словах, она затвердила все догматы веры в раннем детстве, сама того не замечая, а смысл этих ежедневно повторяемых слов и поныне оставался ей непонятен. От необходимости думать самостоятельно она была избавлена родительскими наставлениями, законом или «откровением», и до тех пор, пока со всем этим не столкнулись другие теории, другие положения, внешние или даже внутренние побуждения, она была достаточно защищена. Но можно было заранее сказать, что едва лишь такое столкновение произойдет, религиозные верования, не основанные на ее собственном убеждении и не вытекавшие из особенностей ее характера, не выдержат и первого толчка. Мысли и чувства Эсты, как и ее брата Клайда, постоянно вертелись вокруг любви, приятной и легкой жизни — вещей, вряд ли совместимых с религиозными идеями самоотречения и самопожертвования. Весь ее внутренний мир и все ее мечты противоречили этим требованиям религии. Но у нее не было ни силы Клайда, ни его сопротивляемости, Она была пассивной натурой, со смутным влечением к красивым платьям, шляпкам, туфелькам, лентам и к прочей мишуре, а религия запрещала ей мечтать об этом. По утрам и днем после школы, а иной раз и вечером она проходила по длинным оживленным улицам. Ей нравились девушки, гуляющие под руку и шепотом поверяющие друг другу какие-то секреты; нравились юноши, — под их дурачествами и забавной неугомонностью, свойственной молодому животному, чувствовались сила и значение того настойчивого, инстинктивного стремления найти себе пару, которое таится за всеми мыслями и поступками молодого существа. И когда Эста порою замечала где-нибудь на углу или в подъезде влюбленную пару или встречала томный, испытующий взгляд какого-нибудь искателя приключений, в ней самой поднималось смутное волнение, нервный трепет, громко говоривший в пользу всех зримых и осязаемых радостей земной жизни, а не в пользу бесплотных радостей неба. И взгляды юношей пронизывали ее, как невидимые лучи, потому что она была хороша собою и с каждым часом становилась все привлекательнее. И влечение молодых людей пробуждало в ней отклик, вызывало те преобразующие химические реакции, которые лежат в основе всей нравственности и безнравственности мира. Однажды, когда она возвращалась домой из школы, какой-то фатоватый молодой человек заговорил с нею, потому что она, казалось, всем своим видом вызывала на это. И мало что могло бы остановить ее, так как она была хоть и не страстной, но податливой натурой. Однако дома ее так муштровали, внушая, сколь необходимо блюсти скромность, сдержанность, чистоту и тому подобное, что, по крайней мере в данном случае, не было опасности немедленного падения. Но за этой первой атакой последовали другие, она стала принимать ухаживания или не так быстро убегала, и постепенно была разрушена та стена сдержанности, которую воздвигло данное ей воспитание. Она стала скрытной и утаивала от родителей свои похождения. Случалось, молодые люди, не слушая ее протестов, провожали ее, заговаривали с ней. Они победили ту чрезмерную робость, которая вначале помогла ей отстранять их. Она стала желать новых встреч, мечтать о какой-то радостной, чудесной, беззаботной любви. Так медленно, но неудержимо росли в ней эти настроения и желания, — и тут наконец появился этот актер, один: из тех тщеславных, красивых и грубых мужчин, у которых только и есть, что уменье одеваться да внешний лоск, но нет ни на грош нравственности, вкуса, учтивости или хотя бы подлинной нежности; зато в нем было много мужского обаяния, и он сумел за одну неделю, после нескольких встреч, так вскружить голову Эсте, что она оказалась всецело в его власти. А он, в сущности, был почти равнодушен к ней. Для этого пошляка она была просто одной из многих девчонок — довольно хорошенькая, явно чувственная и неопытная дурочка, которую можно взять несколькими нежными словами, — надо лишь притвориться влюбленным и пообещать ей в будущем, когда она станет его женой, счастливую, привольную жизнь да поездки по новым местам. Но ведь те же слова твердил бы и настоящий влюбленный, который остался бы верен навсегда. Она должна сделать только одно, уверял он: уехать с ним и стать его женой сейчас же, немедля. К чему промедления, когда встречаются люди, созданные друг для друга. Здесь, в этом городе, есть препятствия к их браку, — он не может объяснить, какие именно, это касается его друзей; но в Сент-Луисе у него есть друг пастор, который их обвенчает. У нее будут новые красивые платья, каких она еще никогда и не видела, восхитительные приключения, любовь. Она будет путешествовать с ним и увидит огромный мир. У нее не будет никаких забот и тревог, ей придется заботиться только о нем… Для нее все это было правдой — словесным выражением искренней страсти; для него же это был старый и удобный способ обольщения, которым он часто пользовался и раньше, и небезуспешно. И за одну неделю, в течение которой они встречались урывками — то утром, то днем, то вечером, это нехитрое колдовство увенчалось успехом. Как-то в апреле в субботу Клайд довольно поздно вернулся домой после дальней прогулки (он предпринял ее, чтобы избежать обычных своих обязанностей во время субботнего молитвенного собрания) и нашел отца и мать в тревоге: Эста исчезла. Она по обыкновению играла на органе и пела во время этого собрания и казалась такой же, как всегда. Потом ушла в свою комнату, сказав, что чувствует себя не совсем хорошо и рано ляжет в постель. Но в одиннадцать часов, как раз перед возвращением Клайда, мать случайно заглянула к ней в комнату и обнаружила, что ее нет ни там, ни где-либо поблизости. Какая-то перемена в комнате — не видно было платьев и некоторых мелочей, исчез старый чемодан — привлекла внимание матери. Обыскали весь дом и убедились, что Эсты нигде нет; тогда Эйса вышел на улицу и прошел по ней из конца в конец. Эста иногда гуляла одна или просто выходила в свободное время посидеть под окнами миссии. Но и эти поиски были тщетны. Тогда Клайд и отец прошли до угла и дальше по Миссури-авеню. Эсты нигде не было. В полночь они вернулись, и волнение в доме, разумеется, усилилось. Сперва предположили, что Эста, ничего не сказав, отправилась куда-то на прогулку; но когда часы пробили половину первого, потом час, потом половину второго, а Эсты все не было, они уже хотели дать знать в полицию. Но тут Клайд, войдя в комнату сестры, увидел на ее узенькой деревянной кровати приколотую к подушке записку — послание, ускользнувшее от глаз матери. Он кинулся к ней, охваченный предчувствием; он ведь часто спрашивал себя, каким способом известит родителей, если решится тайно уехать от них: он знал, что они по доброй воле никогда его не отпустят, если только сами не предусмотрят все до мелочей. А теперь исчезла Эста, и вот записка от нее, — конечно, такая же, какую мог бы оставить и он. Клайд нетерпеливо схватил ее, спеша прочитать, но в это мгновение в комнату вошла мать и, увидев у него в руках листок бумаги, воскликнула: — Что это? Записка? От нее? Он протянул ей записку, мать развернула ее и быстро прочла. Клайд заметил, как широкое строгое лицо матери, всегда красновато-смуглое, побелело, когда она повернулась к дверям. Крупный рот сжался в резкую прямую линию. Большая сильная рука, державшая на весу маленькую записку, чуть-чуть дрожала. — Эйса! — позвала она, входя в соседнюю комнату, где ждал муж; курчавые седеющие волосы на его круглой голове растрепались. — Прочти это! Клайд, последовавший за матерью, увидел, как отец нервно схватил записку пухлой рукой, и его старческие, вялые, обмякшие губы странно задвигались. Всякий, кто хорошо знал его, сказал бы, что именно с таким видом Эйса и прежде принимал суровые удары судьбы. — Тц! Тц! Тц! — только это он сначала и произнес — звук, показавшийся Клайду весьма мало выразительным. Новое: «Тц! Тц! Тц!» — и Эйса стал покачивать головой из стороны в сторону. Затем со словами: «Как ты думаешь, почему она это сделала?» — он повернулся и уставился на жену, а та в ответ беспомощно смотрела на него. Затем он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, заложив руки за спину, делая короткими ногами неестественно большие шаги и покачивая головой, и снова издал бессмысленное: «Тц! Тц! Тц!» Миссис Грифитс всегда сильнее чувствовала, живее на все отзывалась, чем ее муж, — и теперь, в этом тяжелом испытании, она вела себя иначе, естественнее. Какое-то возмущение, недовольство судьбой вместе с видимым физическим страданием, казалось, тенью прошло по ее лицу. Как только муж встал, она протянула руку и, взяв у него записку, впилась в нее глазами; на лице ее появилось жесткое, но в то же время страдальческое выражение. У нее был вид крайне взволнованного и раздосадованного человека, который силится и не может распутать какой-то узел, старается сохранить самообладание и не жаловаться и все-таки жалуется горько и гневно. Позади были долгие годы слепой веры и служения религии, и потому ее ограниченному уму представлялось, что она по справедливости должна быть избавлена от такого горя. Где же был ее бог, ее Христос, в час, когда совершалось столь очевидное зло? Почему он ей не помог? Как он это объяснит? Где его библейские обеты? Его вечное руководство? Его прославленное милосердие? Клайд видел, что перед лицом такого огромного несчастья ей трудно найти ответ, — по крайней мере, сразу. Но в конце концов — Клайд был уверен — ей, несомненно, это удастся. Ибо и она и Эйса, как и все фанатики, в каком-то ослеплении упорно отделяли бога от зла, ошибок и несчастий, хотя и признавали за ним, несмотря ни на что, высшее могущество. Они будут искать корень зла в чем-то другом — в какой-то коварной, предательской, лживой силе, которая наперекор божественному всеведению и всемогуществу соблазняет и обманывает людей, и в конце концов найдут объяснение в греховности и испорченности человеческого сердца — сердца, которое создал бог, но которым он не управляет, ибо не хочет управлять. Но сейчас только боль и гнев бушевали в сердце матери; и все же ее губы не кривились судорожно, как у Эйсы, и в глазах не было такого глубокого отчаяния, как у него. Она отступила на шаг, снова почти сердито перечитала письмо и сказала Эйсе: — Она сбежала с кем-то, но не сообщает… И вдруг остановилась, вспомнив о присутствии детей: Клайд, Джулия и Фрэнк — все были здесь, и все напряженно, с любопытством и недоверием смотрели на мать. — Поди сюда, — сказала она мужу, — мне нужно поговорить с тобой. А вы все шли бы спать, — прибавила она, обращаясь к детям, — мы сейчас вернемся. Вместе с Эйсой она быстро прошла в маленькую комнатку, примыкавшую к залу миссии. Дети услышали, как щелкнул выключатель, как родители заговорили вполголоса, и все трое многозначительно переглянулись, хотя Фрэнк был слишком мал (ему было всего десять лет), чтобы понять толком, что произошло. Даже Джулия вряд ли вполне понимала значение случившегося. Но Клайд, больше знакомый с жизнью, услышав фразу матери: «Она сбежала с кем-то», — прекрасно все понял. Эсте опостылело все это так же, как и ему. Может быть, она убежала с одним из тех франтов, которых он видел на улицах с красивыми девушками? Но куда! И что это за человек? В записке что-то сказано, но мать не позволила прочитать ее. Слишком быстро отняла. Жаль, что не удалось втихомолку первому в нее заглянуть. — Как ты думаешь, она совсем убежала? — с сомнением спросил он Джулию, когда родители ушли. Джулия казалась бледной и растерянной. — Откуда я знаю! — ответила она с досадой: горе родителей и вся эта таинственность взволновали ее не меньше, чем поступок Эсты. — Она мне ничего не говорила. Я думаю, ей было совестно. Джулия, более сдержанная и спокойная, чем Эста и Клайд, всегда была ближе к родителям и потому теперь огорчилась больше других детей. Правда, она не вполне понимала, что произошло, но кое-что подозревала, потому что и она иногда разговаривала с другими девочками, но только сдержанно и осторожно. Больше всего ее сердило, что Эста выбрала такой способ оставить семью: убежала из дому тайком от родителей, от братьев, от нее, причинила родителям такое страшное горе! Это ужасно! Воздух был насыщен несчастьем. Родители совещались в маленькой комнатке, а Клайд сидел, глубоко задумавшись: напряженно и пытливо он размышлял о жизни. Что же сделала Эста? Неужели это, как он со страхом предполагал, один из тех ужасных побегов, одна из тех не слишком красивых любовных историй, о которых постоянно шептались мальчишки на улицах и в школе? Какой позор, если так! Она, пожалуй, никогда не вернется. Сбежала с каким-то мужчиной. В этом, конечно, кроется что-то позорное и дурное для девушки, так как он постоянно слышал, что все приличные отношения между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной всегда приводят к одному — к браку. И вот, вдобавок ко всем прочим несчастьям их семьи, Эста пошла на такое! Конечно, их жизнь, и без того достаточно мрачная, станет теперь еще мрачнее. Вскоре вернулись родители. В лице миссис Грифитс, все еще напряженном и расстроенном, что-то изменилось: быть может, в нем было теперь меньше отчаяния, больше безнадежной покорности. — Эста решила уехать от нас, во всяком случае, на время, — сказала она, видя, что дети с любопытством ждут объяснений. — Вы не должны о ней тревожиться и много думать об этом. Я уверена, что она через некоторое время вернется. Пока, по некоторым причинам, она пошла своим путем. Да будет воля господня! («Благословенно имя господа», — вставил Эйса.) Я думала, что она была счастлива среди нас, но, по-видимому, я ошибалась. Как видно, она должна сама узнать жизнь. (Здесь Эйса опять издал свое: «Тц! Тц! Тц!») Но мы не должны думать о ней плохо. Это ни к чему. Да руководит нами лишь любовь и доброта. Однако она сказала это с некоторой суровостью, противоречившей смыслу ее слов; голос ее звенел. — Мы можем только надеяться, что она скоро поймет, как безумен и легкомыслен ее поступок, и вернется домой. Она не может быть счастлива на том пути, на который вступила. Это не путь господа и не его воля. Она слишком молода и впала в заблуждение. Но мы ее прощаем. Мы должны простить. Наши сердца всегда будут открыты для нее, будут преисполнены любви и нежности. Она говорила, словно обращаясь к большой аудитории, но голос ее звучал сурово и печально, лицо было холодное, застывшее. — Теперь идите спать. Нам остается лишь уповать на милость божию и молиться утром, в полдень и вечером, чтобы никакое зло не постигло ее. Да, хотела бы я, чтобы она этого не делала, — прибавила она без всякой связи со всей предыдущей речью, очевидно, думая не о стоящих перед нею детях, а только об Эсте. Но Эйса! «Что это за отец?» — часто думал впоследствии Клайд. Кроме собственного горя, он, казалось, еще способен был заметить более глубокое горе жены, — но ничего больше! Все это время он бессмысленно стоял, склонив голову набок, — коротенький, седой, курчавый, ничтожный. — Да будет благословенно имя господне, — вставлял он время от времени. — Мы не должны закрывать перед Эстой наши сердца. Да, да, мы не должны осуждать. Мы должны лишь уповать на лучшее. Да, да! Хвала господу! Восхвалим господа! Аминь! О да! Тц! Тц! Тц! — Если кто-нибудь спросит, где Эста, — после паузы продолжала миссис Грифитс, даже не взглянув в сторону своего супруга и обращаясь к обступившим ее детям, — мы должны будем сказать, что она уехала к моим родным в Тонаванду. Это не совсем так, но мы ведь и сами не знаем правды, не знаем точно, где она… к тому же она может скоро вернуться. Значит, мы не должны говорить о ней ничего плохого, пока не узнаем всего. — Да, хвала господу, — слабо откликнулся Эйса. — Если кто-нибудь спросит о ней, пока нам самим ничего не известно, надо отвечать так, как я сказала. — Конечно, — сказал Клайд услужливо, а Джулия прибавила: — Хорошо. Миссис Грифитс замолчала и строго, но в то же время как бы виновато, посмотрела на детей. Эйса снова издал: «Тц! Тц! Тц!» — и детей отправили спать. Клайду очень хотелось узнать, что же было в письме Эсты, но он на долгом опыте убедился, что мать ничего не скажет ему, если не сочтет нужным; и он ушел в свою комнату, чувствуя, что устал. Почему родители больше не ищут Эсту, если есть надежда ее найти? Где она теперь, вот в эту минуту? Где-нибудь в пути, в поезде? Очевидно, она не желает, чтобы ее нашли. Наверно, ей было здесь так же невыносимо, как и ему. Еще так недавно он сам думал уйти куда-нибудь из дому, представлял себе, как отнеслась бы к этому семья, и вот сестра опередила его. Как это повлияет на его решение и на его поступки в будущем? По правде говоря, несмотря на горе отца и матери, Клайд не мог считать уход сестры таким уж несчастьем, — во всяком случае, не самый уход. Это просто лишнее доказательство, что в доме не все благополучно. Вся деятельность миссии ничего не значит. Во всех этих религиозных чувствах и разговорах тоже мало толку. Они не спасли Эсту. Очевидно, она, так же как и он, не особенно верила во все это.Глава 4
Придя к такому заключению, Клайд стал упорнее, чем когда-либо, думать о своем будущем. Он решил, что должен сам предпринять что-то, и притом поскорее. До сих пор ему удавалось найти только такую работу, какая обычно достается мальчикам двенадцати — пятнадцати лет: как-то летом он помогал газетчику разносить газеты; другое лето (а по субботам и зимой) работал на складе магазина стандартных цен: открывал ящики и распаковывал товары, за что получал щедрое вознаграждение — пять долларов в неделю, — сумму, казавшуюся ему тогда целым состоянием. Он чувствовал себя богачом и, наперекор родителям, которые считали и театр и кино делом не только мирским, но и греховным, изредка бывал в этих запретных местах, где-нибудь на галерке. Такие развлечения приходилось скрывать от родителей. Но это не удерживало Клайда. Он полагал, что имеет право распоряжаться своими деньгами и даже брать с собой младшего брата Фрэнка, который рад был пойти с ним и ни разу не проговорился. Несколько позже, в тот же год, Клайд решил оставить школу, так как уже сам чувствовал, что слишком отстал; он устроился помощником продавца содовой воды в аптекарском магазине средней руки; магазин находился рядом с театром и был как бы под его покровительством. Проходя мимо по дороге в школу Клайд случайно увидел объявление: «Требуется мальчик». Затем он поговорил с молодым человеком, помощником которого ему предстояло сделаться и который готов был обучить Клайда новой профессии, если тот будет понятлив и услужлив; из их беседы Клайд понял, что, усвоив это искусство, сможет зарабатывать пятнадцать и даже восемнадцать долларов в неделю. По слухам, столько получают двое служащих в магазине Струда на углу Четырнадцатой и Балтимор-стрит. Магазин, куда хотел поступить Клайд, платил, однако, только двенадцать долларов — обычную ставку в таких заведениях. Но, чтобы постичь это искусство, как сообщили ему, нужно время и дружеская помощь опытного человека. Если он желает поступить сюда и работать для начала за пять долларов (лицо Клайда вытянулось), — ну, скажем, за шесть, — он скоро овладеет искусством составлять сладкие напитки и сдабривать сиропами всевозможные сорта мороженого. Но сперва Клайд будет учеником, а значит, он должен мыть и чистить сифоны и всю посуду на стойке и само собой в половине восьмого открывать магазин, подметать его, стирать пыль, а также исполнять всякие поручения, которые может дать ему хозяин. В те минуты, когда его непосредственное начальство мистер Зиберлинг — самоуверенный и болтливый двадцатилетний франт — будет перегружен заказами, он передоверит Клайду приготовление несложных коктейлей, состоящих из лимонада, кока-колы и тому подобного. И вот Клайд, посовещавшись с матерью, решил принять это выгодное предложение. Во-первых, рассчитывал он, здесь можно будет бесплатно полакомиться мороженым — немалое преимущество. Во-вторых, как он думал в то время, это откроет ему путь к какой-то профессии, чего ему очень не хватало. Затем — и это тоже большое преимущество — ему придется задерживаться на работе поздно, до двенадцати ночи, а взамен у него будут свободные часы днем. И, значит, по вечерам он не будет дома и не будет посещать вечерних классов в десять часов. От него уже не смогут требовать помощи на молитвенных собраниях, разве только в воскресенье, да и по воскресеньям тоже он будет занят после обеда и вечером. Кроме того, продавец содовой воды регулярно может получать контрамарки от администратора соседнего театра, боковая дверь ведет из магазина прямо в фойе. Клайд пришел в восторг: так интересно работать в магазине, который составляет как бы часть театра. Но самое главное, — к удовольствию, а порой и к отчаянию Клайда, — перед каждым спектаклем, а в дни утренних представлений и после спектакля здесь собирались статистки; они приходили в одиночку или группами, усаживались у прилавка, болтали, смеялись, поправляли перед зеркалом прическу, подкрашивались и пудрились. И Клайд, неопытный птенец, незнакомый с обычаями света, с привычками и манерами женщин, не уставал любоваться красотой этих посетительниц, их смелостью, самоуверенностью и грацией. Перемывая стаканы, накладывая мороженое, наливая сиропы, укладывая на подносах лимоны и апельсины, он впервые в жизни мог вблизи наблюдать этих девушек. Они — просто чудо! Почти все так хорошо, нарядно одеты — кольца, брошки, меха, восхитительные шляпки, красивые туфли! И как часто он слышал разговоры об интереснейших вещах: о пикниках, танцах, обедах, виденных ими спектаклях, о прогулках по окрестностям Канзас-Сити, о том, чем отличается нынешняя мода от прошлогодней и как очаровательны некоторые актеры и актрисы, — главное, конечно, актеры! — которые играют сейчас в городе или скоро приедут на гастроли. Дома Клайд ни о чем таком не слыхивал. И очень часто то одну, то другую из этих юных красавиц сопровождал какой-нибудь молодой человек во фраке, в крахмальной манишке, в цилиндре, галстуке бабочкой, белых лайковых перчатках, лакированных ботинках, в костюме, который в то время казался Клайду последним словом хорошего тона, красоты, изящества и благополучия. Носить бы такой костюм и с таким же непринужденным видом! Разговаривать с девушкой так же свободно и хладнокровно, как эти франты! Вот верх совершенства! Ни одна красивая девушка, казалось тогда Клайду, и смотреть на него не станет, если у него не будет такого костюма. Это просто необходимо, это главное! И если только Клайд достигнет этого, — сумеет вот так одеться, — разве это не будет означать, что он твердо стал на путь, ведущий к блаженству? Все радости жизни, конечно, раскроются перед ним. Ласковые улыбки! Тайные пожатия рук, и может быть, его рука вокруг девичьей талии… поцелуй… обещание жениться… и потом, потом… И все это — как внезапный луч света после долгих лет, когда надо было без конца ходить с отцом и матерью по улицам, сидеть на молитвенных собраниях, выслушивать неописуемых, нелепых чудаков, опустившихся и сбившихся с пути, — вечно они рассказывают, как Христос их спас и что бог сделал для них. Будьте уверены, теперь он от всего этого избавится. Он будет работать, копить деньги — и станет человеком… Поистине, этот несложный, но образцовый набор банальностей сиял, как чудо духовного перерождения! Это был мираж, возникший перед жаждущим путником — жертвой пустыни. Однако Клайд быстро убедился, что одно плохо в его новом положении: хотя здесь и можно было научиться составлять различные фруктовые напитки и зарабатывать двенадцать долларов в неделю, — это отнюдь не приближало часа, когда сбудутся снедавшие его честолюбивые надежды и стремления. Альберт Зиберлинг, его непосредственное начальство, твердо решил сохранить для себя одного как секреты ремесла, так и наиболее приятную часть работы. И притом он, заодно с их хозяином-аптекарем, полагал, что Клайд должен не только помогать ему, Зиберлингу, в приготовлении напитков, но еще и бегать по всяким поручениям хозяина, а это отнимало у Клайда чуть ли не весь его рабочий день. Словом, Клайду было мало толку от этой работы: он никак не мог одеться лучше, чем прежде. Хуже того — Клайда угнетало, что у него очень мало денег, почти нет знакомых и связей. В сущности, вне своей семьи он был совсем одинок и едва ли менее одинок в семье. Бегство Эсты неблагоприятно отразилось на миссионерской деятельности в Канзасе. И так как Эста не вернулась, родители Клайда стали подумывать о переезде (за неимением лучшего) в Денвер, штат Колорадо. Но Клайд решительно не хотел с ними ехать. «Что пользы в этом? — спрашивал он себя. — Там просто будет еще одна миссия, точно такая же, как и здесь». Он всегда жил с родителями — в квартире при миссии на улице Бикел, и терпеть не мог эту жизнь. С одиннадцати лет, с тех пор как семья приехала в Канзас-Сити, он стыдился приводить знакомых мальчиков к себе домой. Поэтому он никогда не имел друзей, а гулял и играл почти всегда один или с братом и сестрами. Но теперь ему уже шестнадцать лет, он достаточно взрослый, чтобы жить по-своему, и должен избавиться от такой жизни! Однако он слишком мало зарабатывал — недостаточно, чтобы прожить одному, и ему не хватало еще уменья и смелости для того, чтобы устроиться лучше. Тем не менее, когда родители заговорили о переезде в Денвер и, не допуская и мысли, что Клайд не захочет поехать с ними, упомянули о возможности для него получить там работу, Клайд стал исподволь намекать, что ему лучше остаться здесь. Он любит Канзас-Сити. Что толку от перемен? У него здесь есть работа, а может быть, он найдет и что-нибудь получше. Но родители, помня о судьбе Эсты, были в большом сомнении. Что может выйти из его попытки так рано начать самостоятельную жизнь? Где он будет жить после их отъезда? С кем? С какими влияниями столкнется в жизни и кто будет рядом, чтобы помочь ему, дать добрый совет, направлять его по стезе добродетели, стезе, которой следовали они сами? Обо всем этом надо подумать. Клайд был сильно напуган, переезд в Денвер казался неизбежным и приближался с каждым днем; вдобавок как раз в это время мистер Зиберлинг из-за своей чрезмерной любезности по отношению к прекрасному полу потерял место; в аптекарском магазине появился новый старший продавец, костлявый и мрачный; он, видимо, не желал иметь Клайда своим помощником. И Клайд решил уйти оттуда, но не сразу: сначала, бегая по городу со всякими поручениями, он попробует подыскать себе другое место. И вот во время этих поисков ему однажды пришла в голову мысль обратиться к продавцу прохладительных напитков в большом аптекарском магазине при главном отеле города; отель этот, великолепное двенадцатиэтажное здание, казался Клайду квинтэссенцией роскоши и комфорта. Его окна всегда были плотно завешены, главный вход (Клайд не решался заглянуть дальше) был вычурным сочетанием стекла и металла; за дверями виднелся мраморный коридор, уставленный пальмами. Клайд часто проходил мимо, с мальчишеским любопытством размышляя о том, что за жизнь там, внутри? У подъезда всегда ожидало столько такси и частных автомобилей! В этот день, подгоняемый необходимостью что-то предпринять, Клайд вошел в аптекарский магазин, занимавший в здании отеля угловое помещение, выходившее на Четырнадцатую и Балтимор-стрит. Увидев кассиршу в маленькой стеклянной будке у входа, Клайд спросил, кто у них здесь ведает продажей содовой воды. Кассирше понравились его робкие, неуверенные манеры и глубокие, словно умоляющие глаза; она сразу угадала, что мальчик ищет работу. — Да вот мистер Сикор, управляющий магазином, — сказала она. И кивнула в сторону невысокого, строго одетого человека лет тридцати пяти, который устраивал на стеклянном прилавке выставку туалетных новинок. Клайд подошел к нему и, еще не вполне понимая, как надо действовать, когда хочешь чего-то добиться в жизни, но видя, однако, что этот человек поглощен своим занятием, остановился, переминаясь с ноги на ногу, и стоял до тех пор, пока управляющий не почувствовал наконец, что кто-то находится сзади, и не обернулся. — В чем дело? — спросил он Клайда. — Скажите, пожалуйста, вам не нужен помощник для продажи содовой воды? Взгляд Клайда говорил яснее всяких слов: «Если у вас есть место, я так хотел бы, чтобы вы взяли меня! Мне так нужна работа!» — Нет, нет, нет, — ответил тот. Этот коренастый блондин был по натуре несколько раздражителен и сварлив. Он уже собирался отвернуться от просителя, но, увидев по лицу Клайда, как глубоко тот разочарован и огорчен, спросил еще: — А вы когда-нибудь работали в таком месте? — Не в таком прекрасном магазине, сэр, — ответил Клайд, пораженный окружающим великолепием. — Я работаю теперь в магазине мистера Клинкла, на углу Седьмой и Бруклин-стрит, но это совсем не то, что у вас, и мне хотелось бы найти что-нибудь получше. — Мгм, — пробормотал его собеседник, слегка польщенный этой невинной данью превосходству его магазина. — Что ж, это вполне разумно. Но как раз сейчас я ничего не могу предложить вам. Мы нечасто меняем служащих. А вот если вы хотите поступить рассыльным, я скажу вам, где можно устроиться. Здесь, в отеле, как раз хотят взять мальчика. Начальник рассыльных говорил мне, что ему нужен еще один. Я думаю, это ничуть не хуже, чем помогать продавцу воды. Затем, увидев, как просияло лицо Клайда, он прибавил: — Но не говорите, что это я послал вас, ведь я вас не знаю. Просто разыщите там, под лестницей, мистера Скуайрса и поговорите с ним. При одной мысли, что он может получить работу в столь внушительном учреждении, как отель «Грин-Дэвидсон», Клайд широко раскрыл глаза и задрожал от волнения; потом поблагодарил советчика за его доброту и направился к выкрашенному под мрамор проходу в глубине магазина, который вел в вестибюль отеля. Выйдя из этого коридора, Клайд оказался в вестибюле. Ничего подобного он никогда еще не видел: до сих пор бедность и робость мешали ему хотя бы украдкой заглянуть в этот мир. Какая всюду расточительная роскошь! Под ногами пол, как шахматная доска с квадратами черного и белого мрамора; над головой потолок с росписью и позолотой. Его подпирает целый лес черных мраморных колонн, — таких же зеркально гладких и отполированных, как и пол. Ряды колонн ведут к трем отдельным входам — правому, левому и центральному, на Дальримпл-авеню, а между колоннами — лампы, кресла, диваны и диванчики, статуи, пальмы, ковры — масса всякой всячины. Словом, вестибюль этот был воплощением той пошлой роскоши, назначение которой, как язвительно заметил кто-то, «внедрять изысканность в массы». Действительно, для солидного отеля в большом и процветающем американском торговом городе здесь была почти чрезмерная роскошь. Номера, и холлы, и вестибюли, и рестораны были обставлены слишком богато — не было ни облагораживающей простоты, ни изящества, ни целесообразности. Клайд остановился, растерянно осматривая вестибюль и собравшееся здесь большое общество, — тут были и женщины и дети, но больше всего мужчин; они прогуливались взад и вперед, или стояли и беседовали, или отдыхали в креслах, группами и в одиночку. За тяжелыми драпировками, в роскошно обставленных глубоких нишах стояли письменные столы с комплектами газет, в одном углу вестибюля — почтовое отделение, в другом — галантерейный киоск и киоск цветочницы, и здесь тоже было людно. В это время в городе происходил съезд дантистов, и многие из них со своими женами и детьми собрались сегодня в отеле «Грин-Дэвидсон». Но Клайду, который ничего не знал об этом и вообще не представлял себе, что такое «съезд», казалось, что это и есть обычная повседневная картина жизни отеля. В почтительном, пугливом изумлении Клайд смотрел на все вокруг; потом, вспомнив о Скуайрсе, отправился искать его в контору «под лестницей». Лестница оказалась справа от Клайда — огромная, черно-белая, мраморная, с двумя разветвлениями, которые широкими плавными изгибами вели во второй этаж. Между этими двумя большими крыльями лестницы и находилась, должно быть, контора отеля, поскольку там толпилось много служащих. За ближайшим крылом, у стены, в которой был проход из аптекарского магазина, помещалась высокая конторка, и за вей стоял юноша примерно одних лет с Клайдом, одетый в коричневый форменный костюм со множеством блестящих пуговиц. На голове у него была маленькая круглая шапочка, точно коробочка от пилюль, лихо сдвинутая на одно ухо. Он карандашом делал записи в лежавшей перед ним книге. Тут были и еще мальчики того же возраста и в такой же форме: одни сидели на длинной скамье, рядом с конторкой, другие стрелой проносились во всех направлениях; порою они возвращались к стоящему за конторкой, передавали ему то какую-нибудь квитанцию, то ключ, то счет, а потом снова садились на скамью, ожидая, очевидно, другого поручения, и им как будто не приходилось долго ждать. Почти беспрерывно трещал телефон, и юноша за конторкой, выслушав поручение, звонил в стоявший перед ним маленький колокольчик или произносил: «Очередной» — на что отзывался первый сидевший с краю мальчик. Вызванные тотчас бежали к одной из лестниц, или к одной из входных дверей, или к лифтам и после этого почти всегда появлялись, неся вслед за входящими саквояжи, чемоданы, пальто, палки для гольфа. Другие мальчики исчезали в глубине вестибюля и возвращались с бутылками на подносах или с какими-нибудь пакетами, которые они несли в один из номеров наверх. Очевидно, такую работу пришлось бы выполнять и Клайду, если бы ему посчастливилось и его приняли на службу в этом отеле. И все делалось так бойко, кругом царило такое оживление, что ему очень захотелось оказаться счастливцем и попасть сюда. Но удастся ли это? И где этот мистер Скуайрс? Он подошел к юноше за конторкой и спросил: — Вы не можете сказать, где мне найти мистера Скуайрса? — А вот он идет, — ответил юноша, испытующе взглянув на Клайда живыми серыми глазами. Клайд посмотрел в указанном направлении и увидел, что к ним стремительно приближается щеголеватый и, несомненно, видавший виды человек лет тридцати. Он был так строен, энергичен и превосходно одет, и у него было такое жесткое, колючее лицо, что Клайд почувствовал не только смущение, но даже благоговейный страх: видно, это очень хитрый, коварный человек, — у него такой длинный тонкий нос, тонкие губы, такой пронзительный взгляд и острый подбородок… — Только что вышел высокий седой человек с шотландским пледом, видели? — спросил он своего помощника, остановившись у конторки. Тот кивнул. — Так вот, мне сказали, что это лорд Ландрэйл. Он приехал сегодня утром с четырнадцатью сундуками и четырьмя слугами. Подумать только! Важная персона в Шотландии. Впрочем, он путешествует под вымышленным именем. Записан здесь как мистер Блант. Вот они, англичане, — видали? Умеют показать класс, а? — Совершенно верно, мистер Скуайрс, — почтительно ответил юноша за конторкой. Только теперь Скуайрс обернулся и бросил беглый взгляд на Клайда. Юноша за конторкой пришел Клайду на помощь. — Этот паренек хочет с вами поговорить, — объяснил он. — У вас ко мне дело? — спросил Скуайрс, оборачиваясь к Клайду и окидывая его зорким, изучающим взглядом; не остался незамеченным и дешевый костюм мальчика. Клайду не очень понравился этот человек, но он решил произвести на него возможно лучшее впечатление. — Джентльмен из аптекарского магазина сказал мне… — начал Клайд, — то есть он посоветовал обратиться к вам… может быть, на мое счастье, вам нужен рассыльный. Я работаю помощником в аптекарском магазине Клинкла, на углу Седьмой и Бруклин-стрит, но хочу уйти оттуда, и тот джентльмен сказал, что вы можете… то есть он думал… может быть… у вас есть свободное место… Клайд был так смущен и сбит с толку холодным, испытующим взглядом мистера Скуайрса, что едва мог перевести дыхание и судорожно проглотил слюну. В первый раз в жизни он подумал, что если хочешь добиться успеха, надо расположить к себе людей, сделать или сказать что-то такое, что понравилось бы им. Итак, собравшись с духом, Клайд заискивающе улыбнулся Скуайрсу и прибавил: — Если только вы разрешите мне попробовать, я буду стараться изо всех сил. Человек, стоявший перед Клайдом, в ответ только холодно посмотрел на него; но так как он был сам хитер и умел достигать своей цели разными окольными путями, то ему нравился всякий, кто обладал ловкостью, изворотливостью, умением разговаривать с людьми. И вместо того, чтобы отрицательно покачать головой, он заметил: — Но ведь у вас нет никакого опыта в этом деле? — Нет, сэр, но я быстро научусь, я буду очень стараться. — Ну хорошо, я подумаю, — сказал начальник рассыльных, с сомнением почесывая висок. — Сейчас мне некогда. Приходите в понедельник. Тогда поговорим. Он повернулся на каблуках и пошел прочь. Клайд, оставшись один и не вполне понимая, что все это значит, растерянно озирался. Неужели ему и вправду назначили прийти в понедельник? Неужели возможно, что он… Клайд повернулся и выбежал на улицу, от волнения его била дрожь. Вот это удача! Он попросил, чтобы его взяли на работу в самый лучший отель Канзас-Сити, и ему назначили прийти в понедельник! Вот как?! Что бы это значило? Неужели его могут впустить в этот великолепный мир — и так быстро! Неужели и вправду так будет?Глава 5
Как разыгралась теперь фантазия Клайда, какие мечты о будущем связаны были у него с работой в столь замечательном учреждении, об этом можно лишь догадываться: его представления о роскоши были в целом сильно преувеличены, ошибочны и нелепы, — просто смутные бредни, плод постоянно подавляемого неудовлетворенного воображения, которое доныне питалось одними выдумками. Клайд вернулся к своим обязанностям в аптекарском магазине; после работы он шел домой, ел и спал; но в сущности все эти дни — пятницу, субботу, воскресенье и понедельник до вечера — он витал где-то в облаках. Он не сознавал, что делает, и не раз его начальник в магазине предлагал ему «проснуться». А после работы он шел не прямо домой, а снова туда, на угол Четырнадцатой и Балтимор-стрит, и смотрел на великолепный отель. Там даже в полночь перед каждым из трех главных подъездов, выходивших на три улицы, стоял швейцар в длинной коричневой ливрее со множеством пуговиц и в высокой коричневой фуражке с большим козырьком. А внутри, за тонкими шелковыми шторами, все еще сияли огни в большом зале ресторана и в баре, помещавшемся в нижнем этаже. У подъездов — множество такси и частных машин. И оттуда-то всегда доносится музыка. Клайд разглядывал это здание в пятницу вечером, и в субботу, и утром в воскресенье, а в понедельник, во второй половине дня, снова явился в отель, как велел мистер Скуайрс; этот субъект встретил Клайда довольно неприветливо, так как успел уже о нем забыть. Но ему действительно нужен был еще один рассыльный, и Клайд как будто годился на эту должность; поэтому Скуайрс провел Клайда в свою маленькую контору под лестницей, где величественно и с полнейшим равнодушием стал расспрашивать его о родителях, о том, где он живет, где и чем раньше занимался, чем зарабатывает на жизнь отец. Последний вопрос особенно смутил Клайда. Он был горд, и ему было стыдно признаться, что его родители руководят миссией и проповедуют на улицах. И он ответил (ведь так иногда бывало), что отец его работает в одной фирме агентом по распространению стиральных машин, а по воскресеньям проповедует религиозное обновление; это понравилось начальнику мальчишек, которые меньше всего были склонны к чинному и благочестивому образу жизни. Может ли Клайд представить рекомендацию с места его теперешней службы? Да, может. Мистер Скуайрс принялся объяснять, что порядки в отеле очень строгие. Многие мальчики, наблюдая жизнь отеля и соприкасаясь с чрезмерной, непривычной для них роскошью (Скуайрс, впрочем, говорил другими словами), теряют голову и сбиваются с пути. Ему постоянно приходится увольнять мальчиков, которые, заработав немного лишних денег, начинают дурно себя вести. Ему нужны мальчики услужливые, воспитанные, расторопные, учтивые. Они должны быть опрятными, одеваться чисто и аккуратно; на работу каждый день должны являться без опозданий, минута в минуту, и в надлежащем виде. А тот, кто вообразит, что, заработав немного денег, уже можно позволить себе дерзко отвечать или заводить интрижки и участвовать в ночных кутежах, а потом опаздывать на службу или являться утомленным, вялым и неповоротливым, — тот пусть не рассчитывает остаться здесь надолго. Такого выставят в два счета. Он, Скуайрс, не потерпит никаких глупостей. Это надо усвоить теперь же, раз и навсегда. Клайд кивал в знак согласия и время от времени вставлял с готовностью: «Да, сэр» или «Нет, сэр»; под конец он заверил мистера Скуайрса, что и подумать не может о том, чтобы столь неприлично себя вести, да и по своему характеру просто не способен на такие проступки, о которых говорит мистер Скуайрс. Затем Скуайрс объяснил, что мальчики получают в отеле только пятнадцать долларов в месяц, а также стол (в подвальном этаже находится специальная столовая для служащих). Но — и это сообщение было самым удивительным открытием для Клайда — каждый гость за любую услугу, — если мальчик принесет чемодан, или кувшин воды, или выполнит еще какое-нибудь поручение, — дает на чай, и порой довольно щедро: десять, пятнадцать, двадцать пять центов, иногда больше. И эти чаевые составляют в среднем от четырех до шести долларов в день, не меньше, а иногда и больше, — огромные деньги, подумал Клайд. Сердце его подпрыгнуло, он чуть не ахнул, услыхав о такой громадной сумме. От четырех до шести долларов в день! Да ведь это значит двадцать восемь или даже сорок два доллара в неделю! От с трудом верил своим ушам. И это сверх пятнадцати долларов в месяц и питания. И, кроме того, сказал мистер Скуайрс, из жалованья ничего не удерживают за красивую форму, которую носят рассыльные в отеле. Но ее можно носить только на работе. Затем мистер Скуайрс объяснил, что по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям Клайд должен работать от шести утра до полудня и затем, после шестичасового перерыва, с шести вечера до полуночи; по вторникам, четвергам и субботам он будет занят только от полудня до шести; таким образом, у него будут свободными то вторая половина дня, то вечер; но завтракать и обедать он должен в свои свободные часы. Наконец, вместе с другими мальчиками, он обязан пунктуально, в форменной одеждеявляться на поверку, Скуайрс производит ее ровно за десять минут до начала каждой смены. Мистер Скуайрс думал еще и о других вещах, но умолчал о них: он знал, найдутся люди, которые скажут за него. А пока он продолжал что-то объяснять и вдруг, совершенно неожиданно для Клайда, слушавшего все это, как во сне, спросил: — Полагаю, вы можете приступить к работе сейчас же? — Да, сэр! Конечно, сэр! — ответил Клайд. — Отлично! Скуайрс поднялся и распахнул дверь. — Оскар! — позвал он ближайшего из сидевших на скамье рассыльных, и к нему поспешно подошел рослый, плечистый юноша, затянутый в чистенькую форменную курточку. — Отведите этого молодого человека — Клайд Грифитс, не так ли? — на двенадцатый, в гардеробную, чтобы Джекобс подобрал ему форменный костюм. Если не найдется подходящего, пусть подгонит какой-нибудь к завтрашнему дню. Но, я думаю, ему будет впору тот, что носил Силсби. Затем, обращаясь к своему помощнику, глядевшему из-за конторки на Клайда, мистер Скуайрс пояснил: — Беру его на пробу. Пусть кто-нибудь из мальчиков натаскает его сегодня вечером или когда он там начнет. Ступайте, Оскар, — сказал он юноше, которому поручил Клайда. — Он новичок в этом деле, но, я думаю, справится, — прибавил мистер Скуайрс, снова обращаясь к помощнику, когда Клайд и Оскар направились к одному из лифтов. И он пошел сказать, чтобы имя Клайда внесли в платежную ведомость. Тем временем Клайд, идя на буксире за своим новым ментором, выслушивал ряд таких сведений, какие еще никогда не достигали его ушей. — Тут нечего трусить, даже коли никогда и не работал в таком месте, — начал» этот юнец. Как позже узнал Клайд, его звали Хегленд, он был родом из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, откуда и привез свой экзотический жаргон и размашистые жесты. Он был высокий, крепкий, рыжеволосый, весь в веснушках, добродушный и болтливый. Они вошли в лифт с надписью «для служащих». — Это штуковина нетрудная, — продолжал спутник Клайда. — Вот когда я впервой стал работать в Буффало, три года назад, — так ни бум-бум не смыслил. Ты только гляди, что да как другие делают, понял? Клайд, гораздо более образованный, чем его спутник, мысленно с неодобрением отмечал неправильности его произношения и жаргонные словечки, но был в эту минуту так благодарен за малейший знак внимания, что охотно простил бы своему благодушно настроенному наставнику все что угодно за его дружелюбие. — Сперва гляди, кто что делает да как, тогда и сам навостришься. Вот зазвонил звонок, а ты сидишь крайним на скамейке, стало быть, твой черед, — вскакивай и беги. Они тут любят, чтоб поживей, понял? Коли кто войдет в подъезд или вылезет из лифта с чемоданом, а ты тут крайний на скамейке — беги и хватай чемодан, все равно — звал старшой или нет. Не жди, пока он позовет, — он иногда занят, не видит. Тут надо и самому не зевать. Не ухватишь чемоданы — не получишь на чай, понял? У кого в руках чемодан или что другое, тому, ясно, надо помочь, разве что он сам захочет тащить свой багаж. Всегда надо быть поближе к конторке, потому что, кто входит, все первым делом записываются и спрашивают номер, — трещал он дальше, пока они подымались в лифте. — Потом клерк даст тебе ключ, — тогда волоки весь багаж прямо в номер. Потом, если номер с ванной и с уборной, зажги всюду свет, чтоб они видели, где что, понял? Потом подними занавески, коли день, а коли вечер, — опусти и погляди, есть ли в номере полотенца, а коли нет, — скажи горничной, а потом, коли не дадут на чай, уходи. Только сперва покрутись там еще, повозись с ключом у двери, проверь форточку, в общем, застрянь, малость, понял? Тогда, коли они чего смыслят, так дадут монетку, а уж коли не дадут, значит — крышка, надо уходить. И нельзя подавать виду, что недоволен, ничего такого, понял? А потом, коли не попросят воды со льдом или еще чего, значит — крышка. Иди вниз и живо на скамейку. Штука несложная. Только поворачивайся поживей, да не зевай, когда кто входит или выходит. В этом вся соль. А как получишь форму да начнешь работать, не забывай отдавать начальнику доллар после каждой смены, когда уходишь, понял? А когда две смены в день — так два доллара. Такой уж порядок. Все мы так делаем, и тебе придется, коли хочешь тут зацепиться. Но уж это все. Остальное — твое. Клайд понял. Очевидно, из его двадцати четырех или тридцати двух долларов часть ускользает, — примерно долларов одиннадцать или двенадцать. Ну, не беда! Ведь у него останется еще двенадцать или пятнадцать, а может, и больше. И сверх того еда и форма. Господи боже! Да это же сущий рай! Предел всех желаний! Мистер Хегленд из Джерси-Сити проводил его на двенадцатый этаж, в комнату, где они застали сморщенного седого человечка неопределенного возраста и нрава; он тотчас подобрал Клайду костюм, оказавшийся настолько впору, что никаких переделок не потребовалось. Примерив несколько шапочек, Клайд нашел такую, которая тоже оказалась впору, и лихо сдвинул ее набекрень; оставалось только постричься: «Волосы у тебя длинноваты, надо бы сзади подрезать», — заметил Хегленд. Клайд и сам подумал об этом, еще раньше чем Хегленд заговорил. Его волосы действительно были длинноваты для такой шапочки, и Клайд сразу их возненавидел. Когда они вернулись вниз, к мистеру Уиплу, помощнику мистера Скуайрса, тот сказал: — Отлично. Костюм в самый раз, правда? Ладно, приступай в шесть часов. Придешь к половине шестого и явишься в форме на поверку без четверти шесть. После этого, выслушав соответствующие наставления Хегленда, Клайд отправился в гардеробную, запер свою форменную одежду в шкафчик, указанный гардеробщиком, и, взволнованный, выбежал из отеля — сперва подстричься, а потом домой, сообщить родным о своем счастье. Он будет рассыльным в великолепном отеле «Грин-Дэвидсон»! Он будет носить форму, да еще такую красивую. Он будет получать… но он не сказал матери точно, сколько будет получать. Для начала, вероятно, около одиннадцати или двенадцати долларов, он еще не знает наверно. В перспективе он вдруг увидел некоторое материальное благополучие если не для всей семьи, то хотя бы для себя одного, и ему не хотелось осложнять дело, назвав действительную сумму своего будущего заработка: конечно, родители предъявят ему тогда большие требования. Он сказал, однако, что будет бесплатно столоваться в отеле, — значит, ему незачем приходить домой к обеду, а как раз этого он и хотел. И вдобавок он будет жить и дышать в атмосфере этого великолепного отеля… Он сможет, при желании, возвращаться домой не раньше полуночи… сможет хорошо одеться… и завести интересные знакомства… И, пожалуй, немного развлечься… Ого! И пока он бегал по всяким делам, ему пришла на ум еще одна лукавая и восхитительная мысль: он может не приходить домой в те вечера, когда захочет пойти в театр или еще куда-нибудь. Он просто останется в городе, а после скажет дома, что ему пришлось работать. И к тому же даровой стол и форменная одежда! Подумать только! Все это было так поразительно, так увлекательно, что он даже боялся слишком много об этом думать. Лучше подождать и посмотреть. Просто — подождать и посмотреть, чего он может достигнуть здесь, в этом чудесном, чудесном царстве!Глава 6
Крайняя неопытность Грифитсов — Эйсы и Эльвиры — во всех житейских, практических вопросах помогла Клайду осуществить свои мечты. Ибо ни Эйса, ни Эльвира не имели представления об истинном характере работы, на которую поступал Клайд, — едва ли они знали об этом больше, чем он сам; они не представляли себе, как эта работа может повлиять на его воображение и нравственность, на его материальное положение и на многое другое. Никогда в жизни ни Эйса, ни его жена не останавливались в отеле выше четвертого разряда; никогда не бывали в ресторанах, где обедают люди более состоятельные, чем они сами. Им совершенно не приходило в голову, что для мальчика в возрасте Клайда и с его характером возможна какая-то другая работа и иные формы общения с людьми, помимо переноски чемоданов от дверей отеля к конторке и обратно. И оба они наивно полагали, что плата за такую работу должна быть очень невысокой, скажем, пять или шесть долларов в неделю, в сущности меньше, чем заслуживал Клайд по своим годам и способностям. Поэтому миссис Грифитс, которая была все же практичнее, чем муж, и больше заботилась о материальном благополучии Клайда и других детей, недоумевала: почему вдруг Клайд так радуется новой службе, которая, по его же словам, будет отнимать больше времени и даст едва ли больше денег, чем прежняя. Правда, Клайд уже намекнул, что в отеле можно и повышение получить, например стать клерком, — но он и сам не знал, когда это будет, а на прежнем месте он скорее мог бы добиться чего-то лучшего, по крайней мере в смысле заработка. Но когда в понедельник он примчался домой и объявил, что получил место и что ему надо поскорее сменить галстук и воротничок, подстричься и бежать назад, на поверку, она, глядя на него, успокоилась. Никогда прежде она не замечала, чтобы он так увлекался чем-либо; ему же будет лучше, если он почувствует себя увереннее в жизни и станет повеселее. Он отдавал этой работе все свое время с шести часов утра до полуночи; лишь изредка он возвращался раньше, в какой-нибудь не занятый работой вечер, когда ему вдруг приходило в голову пойти домой, — и тогда он спешил объяснить, что его отпустили немножко раньше времени. В манерах его появилось что-то резкое, беспокойное; если только он не спал и не переодевался, он тотчас старался убежать из дому… Все это вместе взятое сильно озадачивало и мать и отца. Отель! Отель! Вечно он торопится в этот отель, но из его слов можно лишь понять, что ему там очень нравится и что с делом своим он как будто справляется. Работа эта куда приятнее, чем возня с содовой водой, и он надеется, что сможет зарабатывать здесь больше, и очень скоро, но когда — точно не знает… Однако сверх этого он ничего не хотел или не мог рассказать. Отец и мать Клайда все время чувствовали, что из-за истории с Эстой им следует уехать из Канзас-Сити и поселиться в Денвере. А Клайд упорнее чем когда-либо хотел остаться в Канзас-Сити. Они могут ехать, но у него здесь хорошая работа, и он намерен держаться за нее. Если они уедут, он найдет себе комнату, и все будет хорошо. Но этот план совсем не нравился родителям. А какая огромная перемена произошла в жизни Клайда! В тот первый вечер, ровно в пять сорок пять, он явился к мистеру Уиплу, своему ближайшему начальнику, и был им одобрен, — не только за то, что на нем хорошо сидел форменный костюм, но за свой вид в целом, — и с этой минуты весь мир для него преобразился. Клайд и еще семеро юношей выстроились перед мистером Уиплом в служебном помещении, которое примыкало к бюро по обслуживанию, и начальник осмотрел их; после этого, как только часы пробили шесть, весь отряд промаршировал по вестибюлю мимо главного бюро и большой лестницы к конторке Уипла и дальше, к длинной скамье. Здесь все восемь мальчиков уселись (Клайд — последним в ряду) в ожидании вызова, готовые броситься выполнять любое поручение; сменившаяся команда мистера Уипла была отведена в помещение для служащих и там отпущена. Пост Уипла за конторкой занял сменивший его мистер Барнс. Дзинь! Зазвонил звонок у конторки номерного клерка, и первый мальчик убежал. Дзинь! — прозвенело снова, и вскочил второй мальчик. — Очередной! К центральному входу! — крикнул мистер Барнс, и третий мальчик заскользил по мраморному полу к двери и подхватил чемоданы входящего гостя, чьи белые бакенбарды и не по возрасту светлый шерстяной костюм даже неопытный глаз Клайда различил за сто шагов. Таинственное и священное видение — чаевые! — Очередной! — снова позвал мистер Барнс. — Узнай, чего желает девятьсот тринадцатый. Воды со льдом, наверно. И четвертый мальчик исчез. Клайд, все время передвигавшийся по скамейке вслед за Хеглендом, которому было поручено подучить его немного, весь обратился в зрение и слух. Нервы его были так натянуты, что он с трудом дышал, то и дело вздрагивал и никак не мог усидеть спокойно; Хегленд наконец сказал ему: — Брось ты трусить. Держи крепче вожжи, понял? Все будет в порядке. Меня сперва тоже трясло, с новичками всегда так. Но это не дело. Полегче надо, вот что: И нечего таращиться по сторонам — смотри прямо перед собой, будто тебе и дела нет ни до кого. — Очередной! — опять крикнул мистер Барнс. Клайд едва соображал, о чем говорит Хегленд. — Сто пятнадцатый требует бумаги и перьев. Пятый мальчик скрылся. — Где вы берете бумагу и перья, когда надо? — умоляюще, тоном приговоренного к смертной казни, спросил Клайд своего наставника. — Я же говорил тебе — у клерка, где ключи выдают. Вон, налево. Он даст и бумаги и перьев. А воду со льдом берешь в том зале, где мы сейчас строились на поверку. Вон там, в углу, маленькая дверь, видишь? Парню, который наливает воду, иной раз дашь десять центов, — его тоже надо задобрить. Дзинь! — звонок номерного клерка. Шестой мальчик, не говоря ни слова, отправился выполнять какое-то поручение. — И еще запомни, — продолжал Хегленд, видя, что подходит его очередь и спеша дать Клайду последние наставления, — коли захотят чего выпить, напитки получишь вон там, за столовой. Да не путай названий, а то гости разозлятся. А коли вечером будешь показывать номер, спусти шторы да открой свет, а коли надо что в столовой, разыщи там старшого да сунь ему в руку — понял? — Очередной! Хегленд вскочил и исчез. Теперь Клайд был первым номером. Четвертый номер уже снова сел около него, зорко поглядывая — не понадобятся ли где-нибудь его услуги. — Очередной! — возглас Барнса. Клайд вскочил и стал перед ним, радуясь, что никто не входит с чемоданами, но терзаясь страхом, что не поймет поручения или выполнит его недостаточно быстро. — Узнай, чего хочет восемьсот восемьдесят второй. Клайд помчался к лифтам с надписью «для служащих», помня, что именно этим путем он поднимался с Оскаром на двенадцатый этаж; но другой мальчик, выходивший из лифта для гостей, указал ему на его ошибку. — Вызвали в номер? — окликнул он. — Тогда иди к лифту «для гостей». А эти два для служащих и для тех, кто с вещами. Клайд поспешил исправить свой промах. — На восьмой, — сказал он. В лифте больше никого не было, и маленький негр-лифтер заговорил с Клайдом: — Новенький, да? Не видал вас раньше. — Да, я только что поступил, — ответил Клайд. — Ну, вам тут понравится, — дружелюбно сказал мальчик. — Тут, знаете, всем нравится. Вам какой этаж, восьмой? Он остановил кабину лифта, и Клайд вышел. От волнения он забыл спросить, в какую сторону ему идти, и теперь, начав искать нужный номер, быстро убедился, что попал не в тот коридор. Пушистый коричневый ковер под ногами, светлые, окрашенные в кремовый цвет стены, мягкий свет, льющийся сквозь белоснежные шары, вделанные в потолок, — все это казалось ему атрибутами наивысшего социального благополучия, почти неправдоподобного совершенства, — так далеко это было от всего, что он знал. Наконец, отыскав номер 882, он робко постучал и через мгновение в приоткрывшуюся дверь увидел кусок синей в белую полоску пижамы и выше — соответствующую часть круглого румяного лица и один глаз, окруженный морщинками. — Вот тебе доллар, сынок. — Казалось, что это говорил глаз, и сейчас же появилась рука, державшая бумажку в один доллар. Рука была толстая и красная. — Сбегай к галантерейщику и купи мне пару подвязок. Бостонские подвязки, шелковые. Да поскорее! — Слушаю, сэр, — ответил Клайд и взял доллар. Дверь захлопнулась, а Клайд уже мчался по коридору к лифту, гадая про себя, что такое «галантерейщик». Хотя Клайду было уже семнадцать лет, он не знал этого слова, — никогда прежде не слышал его или, может быть, слышал, но не обращал внимания. Если б ему сказали «магазин мужского белья», он бы сразу понял. Но ему велели пойти к «галантерейщику», а он не знал, что это такое. Холодный пот выступил у него на лбу. Колени подгибались. Черт! Как теперь быть? Что, если он спросит у кого-нибудь, даже у Хегленда, и его сочтут… Он вошел в лифт, и кабина пошла вниз. Галантерейщик… Галантерейщик… И вдруг его осенило. Допустим, он не знает, что это такое. Но в конце концов нужна пара шелковых бостонских подвязок. Где же достать шелковые бретонские подвязки? Ясно, там, где вообще покупают принадлежности мужского туалета. Ну, конечно! Магазин мужского белья. Надо сбегать в магазин. И по дороге вниз, заметив, что и этот негр-лифтер смотрит приветливо, он спросил: — Не знаете, где тут поблизости магазин мужского белья? — В этом же здании, как раз около южного входа, — ответил негр, и Клайд, испытывая величайшее облегчение, поспешил туда. Он все еще чувствовал себя неловко и странно в туго затянутой форменной куртке и в этой забавной круглой шапочке. Ему все казалось, что она вот-вот слетит с головы, и он исподтишка то и дело старался поплотнее надвинуть ее. Вбежав в ярко освещенный магазин, он торопливо сказал: — Мне надо пару шелковых бостонских подвязок! — Отлично, сынок, пожалуйста! — елейным тоном сказал галантерейщик, невысокий, румяный человек с блестящей лысиной и в золотых очках. — Наверно, для кого-нибудь в отеле? Ну вот, это стоит семьдесят пять центов, а вот десять центов для тебя, — сказал он, завертывая покупку и опуская доллар в кассу. — Я всегда рад услужить мальчикам из отеля: знаю, что вы и в другой раз ко мне придете. Клайд взял десять центов и пакет. Он не знал, что и думать. Подвязки стоят семьдесят пять центов — так сказал галантерейщик. Значит, вернуть нужно только двадцать пять центов сдачи. Выходит, десять центов остаются ему. А теперь… может быть, и гость тоже даст ему на чай. Он побежал назад в отель, к лифту. Где-то играл струнный оркестр, и чудесные звуки наполняли вестибюль. Неторопливо проходили люди — такие нарядные, самоуверенные, так непохожие на тех, кого он встречал на улицах и вообще вне стен отеля. Дверца лифта распахнулась. Несколько человек вошли в кабину, после всех — Клайд и другой рассыльный, поглядевший на него с любопытством. На шестом этаже этот мальчик вышел. На восьмом вышли Клайд и пожилая дама. Он поспешил к двери номера 882 и постучал. Дверь приоткрылась; обитатель номера успел уже сменить пижаму на брюки и побриться. — А, уже! — воскликнул он. — Да, сэр, — ответил Клайд, протягивая пакет и сдачу. — Он сказал, подвязки стоят семьдесят пять центов. — Он просто грабитель! А сдачу все равно возьми себе, — ответил тот, протянул Клайду двадцать пять центов и закрыл дверь. Мгновение Клайд стоял, как завороженный. «Тридцать пять центов, — думал он, — тридцать пять центов! За одно пустячное поручение! Неужели тут всегда так? Не может быть! Это невозможно!» Ноги его тонули в мягком ковре, а рука сжимала в кармане деньги; в эту минуту он готов был завизжать или громко расхохотаться. Шутка — тридцать пять центов за такой пустяк! Один дал ему двадцать пять центов, другой — десять, а ведь он ничего не сделал! Внизу он поспешно выскочил из кабины. В вестибюле его снова пленили звуки оркестра, а нарядная толпа, сквозь которую он пробирался обратно к скамье рассыльных, привела его в трепет. Затем его послали отнести три чемодана и два зонтика пожилой супружеской чете, — видимо, фермерам, снявшим номер с гостиной, спальней и ванной на пятом этаже. По дороге, как заметил Клайд, супруги внимательно разглядывали его, хотя ни слова не сказали. Как только они вошли в номер, Клайд быстро повернул выключатель около двери, опустил шторы и разместил чемоданы; и тут пожилой и неуклюжий супруг, все время наблюдавший за Клайдом, — весьма солидная личность в бакенбардах, — изрек наконец: — А вы как будто юноша исполнительный и проворный. Нам попадались и похуже, скажу я вам. — Я вообще считаю, что отель — не место для мальчика, — прощебетала его любезная супруга, пышная, круглая, как шар, особа, занятая в эту минуту осмотром смежной комнаты. — Не хотела бы я, чтобы который-нибудь из моих сыновей работал в отеле… Как тут люди ведут себя! — Вот что, молодой человек, — продолжал фермер, снимая пальто и роясь в кармане брюк. — Сбегайте-ка вниз и купите мне три или четыре вечерние газеты — сколько найдется — и захватите кувшин со льдом, а когда вернетесь, получите пятнадцать центов на чай. — Этот отель лучше, чем в Омахе, папочка, — объявила его супруга. — Здесь ковры и занавеси лучше. Как ни был наивен Клайд, он не мог не улыбнуться про себя. Однако лицо его сохраняло торжественную неподвижность, словно маска, лишенная всяких признаков мысли. Он взял мелочь и вышел. А через несколько минут принес воду и вечерние газеты и удалился, улыбаясь, с пятнадцатью центами в кармане. Но то было лишь начало этого необыкновенного вечера. Едва Клайд снова сел на скамью, как его позвали в 529-й номер. Надо было сбегать в бар за двумя бутылками фруктовой воды и двумя сифонами содовой. Когда дверь приоткрыли, чтобы передать Клайду заказ, он успел увидеть в зеркале над камином компанию франтоватых молодых людей и девиц; они весело болтали и смеялись; миловидная девушка в белом сидела на ручке кресла, в котором развалился молодой человек, обнимавший ее за талию. Клайд загляделся на эту сценку, хотя и старался делать вид, что не смотрит. Для него сейчас это было все равно, что заглянуть во врата рая. В номере собрались девушки и молодые люди ненамного старше его самого; они смеялись, болтали и даже пили — не какую-нибудь содовую воду с мороженым, но, конечно, такие напитки, которые, по словам его родителей, неминуемо ведут к гибели, а молодые люди, как видно, ничуть об этом не беспокоились. Клайд сбежал вниз, в бар, взял напитки и счет и, вернувшись в номер, получил плату — полтора доллара за напитки и двадцать пять центов для себя. И еще раз бросил взгляд на заманчивую картину. Теперь одна пара танцевала, а остальные напевали или насвистывали мотив. Было так интересно забегать в номера и украдкой, торопливо разглядывать их обитателей. Не меньше занимала Клайда изменчивая панорама центрального вестибюля: он наблюдал клерков за главной конторкой — один клерк ведал номерами, другой багажом приезжих, третий выдавал корреспонденцию; были тут и кассир и помощник кассира. И различные киоски вокруг: с цветами, газетами, сигарами, отделение телеграфа, бюро по вызову такси. И на всех, кто здесь работал, казалось Клайду, самая атмосфера отеля наложила какой-то особый отпечаток. А вокруг разгуливали и сидели такие важные мужчины и женщины, юноши и молодые девушки, все так богато и модно одетые, такие довольные, с таким прекрасным цветом лица. А в каких автомобилях и экипажах многие приезжали сюда в обеденное время и вечером! Он мог хорошо рассмотреть их при ярком свете фонарей у подъезда. А какие накидки, меха и прочие вещи были на этих людях! Какие чемоданы несли за ними мальчики, а иногда и сам Клайд, к машинам или к лифтам! И все на них сшито из превосходного материала. Такое великолепие! Так вот что значит быть богатым, быть влиятельным человеком в обществе! Вот что значит иметь деньги! Это значит — можешь делать все, что душе угодно, а другие люди, такие, как он, Клайд, будут тебе прислуживать. И вся эта роскошь — твоя. И можешь в любую минуту пойти и поехать куда заблагорассудится.Глава 7
Итак, из всех благотворных или вредных для его развития влияний, каким в то время мог подвергнуться Клайд, быть может, самым опасным при его характере было как раз влияние отеля «Грин-Дэвидсон»: на всем пространстве между двумя великими цепями американских гор вряд ли можно было найти место, где полновластнее царило бы все материальное и безвкусно-показное. Здешнее кафе, уставленное мягкой мебелью и слабо освещенное, как будто даже сумрачное, однако все в веселых огнях цветных фонариков, было идеальным местом свиданий и встреч — и не только для неопытных и восторженных девчонок, которых можно подкупить показной роскошью, но также и для более опытных и, может быть, слегка поблекших красавиц, которым надо помнить о своем цвете лица и о преимуществах мягкого, не яркого освещения. «Грин-Дэвидсон», как и все отели такого рода, посещался людьми известного сорта: тут бывали главным образом тщеславные мужчины неопределенного возраста и неопределенных занятий, жаждавшие легкого успеха и рассчитывавшие своим появлением здесь раз, а то и два в день, в часы наибольшего оживления, укрепить за собой репутацию светского человека, или прожигателя жизни, или богача, или человека со вкусом, или покорителя сердец, или всего сразу. И едва Клайд поступил сюда, как эти удивительные юноши, его новые товарищи, бок о бок с которыми он проводил немало времени на скамье в вестибюле, поспешили просветить его относительно многого, что происходит в отеле: рассказали, что здесь бывают извращенные, безнравственные, отверженные обществом мужчины определенного склада (Клайду указали на нескольких), которые ищут сближения с такими вот мальчиками, чтобы вступить с ними в некие недозволенные отношения. Клайд сперва не понимал, что это значит; его тошнило при одной мысли об этом. И все же некоторых мальчиков в отеле (особенно одного, работавшего не с Клайдом, а в другой смене) подозревали в том, что они «попались на эту удочку», как выразился один из юнцов. Одних только разговоров в вестибюле, не говоря уже о сценах в баре, в ресторанах и номерах, было достаточно, чтобы внушить каждому неопытному и не очень разборчивому существу, будто главное занятие в жизни для всякого, у кого есть кой-какие деньги и положение в обществе, — это ходить в театры, летом посещать стадион, танцевать, кататься в автомобиле, угощать друзей обедами и ездить для развлечения в Нью-Йорк, Европу, Чикаго или Калифорнию. А существование почти всех этих мальчиков настолько лишено было всякого подобия комфорта и вкуса, не говоря уже о роскоши, что они, как и Клайд, не только преувеличивали значение увиденного в отеле, но и считали, будто эта внезапная перемена судьбы дает им счастливую возможность самим приобщиться к такой жизни. Кто они, эти люди с деньгами, и что сделали они для того, чтобы наслаждаться всей этой роскошью, тогда как у других, по-видимому, точно таких же людей, нет ничего? И чем именно обойденные так сильно отличаются от преуспевающих? Клайд не мог этого понять. И такие мысли приходили в голову всем мальчикам. А вдобавок — комплименты и даже прямое заигрывание со стороны дам и девиц определенного типа, которые, вероятно, были очень сдержанны в своем кругу, но благодаря своему богатству имели доступ в отель и здесь кокетством, улыбками и деньгами добивались расположения наиболее красивых юношей. Об этом часто говорили сослуживцы Клайда. Так, на второй же день службы Клайда в отеле паренек по фамилии Ретерер, сидевший рядом на скамье, подтолкнул его локтем и едва заметным кивком головы указал на закутанную в меха, нарядную, хорошо сложенную блондинку лет тридцати, входившую в вестибюль с маленькой собачкой на руках. — Видал? — шепнул он. — Лихая бабенка! Я тебе про нее потом расскажу. Ну и штучки выкидывает! — А что такое? — с жадным любопытством спросил Клайд, так как женщина показалась ему необыкновенно красивой, очаровательной. — Да ничего, просто за то время, что я тут работаю, она приходила сюда с восемью разными мужчинами. Она было спуталась с Дойлом (один из рассыльных, очень красивый и изящный мальчик, с приятными манерами, которого Клайд уже отметил как образец, достойный подражания), а теперь нашла другого. — Неужели правда? — воскликнул Клайд, очень удивленный, мысленно спрашивая себя, не выпадет ли когда-нибудь и на его долю такое счастье. — Верней верного, — ответил Ретерер. — Это уж такая птица — ей все мало. У ее мужа, говорят, большое лесное дело где-то в Канзасе, но теперь она с ним не живет. У нее здесь лучшие комнаты на шестом, но она половину времени не бывает дома. Мне горничная говорила. Этот Ретерер, маленький, коренастый, но миловидный и улыбающийся, был так приветлив, мягок и приятен в обращении, что Клайд сразу почувствовал симпатию к нему и захотел познакомиться с ним поближе. И Ретерер платил Клайду тем же, так как заметил, что Клайд наивен и неопытен и охотно окажет ему любую дружескую услугу. Разговор о белокурой женщине был прерван вызовом на работу и больше не возобновлялся, но на Клайда он произвел сильное впечатление. Женщина была хороша собой, выхолена, с прекрасной кожей и сияющими глазами. Неужели правда то, что сказал Ретерер? Она такая хорошенькая! Клайд смотрел в пространство, и перед ним возникало смутное, щекочущее нервы видение, в значении которого он даже сам себе не хотел признаться. А нравы и философия всех этих юнцов!.. Кинселла, низенький, толстый, добродушный и глуповатый, как казалось Клайду, но довольно красивый и мужественный, по рассказам — отчаянный картежник, первые три дня отдавал все свободное время обучению новичка, начатому Хеглендом. Он был вежливее и говорил правильнее, чем Хегленд, но показался Клайду, не таким привлекательным и симпатичным, как Ретерер. И этот Эдди Дойл, который с самого начала очень заинтересовал Клайда и которому Клайд немало завидовал, так он был хорош собой — с изящной фигурой, красивыми, грациозными движениями и мягким, приятным голосом. Необычайно обаятельный, он мгновенно пленял всякого, с кем сталкивался, — как служащих отеля, так и посторонних, которым случалось обратиться к нему с вопросом. Ботинки его и воротничок ослепительно блестели, волосы были подстрижены, причесаны и напомажены по последней моде, точно у киноактера. Клайда сразу же покорили его вкус и уменье одеваться — его изящнейшие коричневые костюмы, кепи, его галстуки и носки, подобранные в тон. Он будет носить коричневое пальто такого же покроя, с поясом, думал Клайд. И точно такую же коричневую кепку. И так же хорошо сшитый, изящный костюм. Примерно такое же впечатление произвел на Клайда и тот паренек, который первым знакомил его с работой, — Хегленд. Один из самых старших по возрасту и наиболее опытных рассыльных в отеле, Хегленд оказывал большое влияние на других своим веселым, беззаботным отношением ко всему, что выходило за пределы его прямых служебных обязанностей. Он не был так образован или миловиден, как некоторые другие, но он очень заинтересовал Клайда, очаровал его своим пылким, энергичным характером, своей щедростью, когда дело касалось денег и развлечений, наконец, храбростью, силой, смелостью, — тут с ним не могли сравняться ни Дойл, ни Ретерер, ни Кинселла, — он был силен и смел подчас до безрассудства. Как он сам позднее рассказал Клайду, он был сыном шведа, подмастерья пекаря, который несколько лет назад бросил его мать в Джерси-Сити на произвол судьбы. Поэтому ни Оскар, ни его сестра Марта не могли получить сносного воспитания или завести сколько-нибудь приличные знакомства. Четырнадцати лет Оскар бежал из Джерси-Сити в товарном вагоне и с тех пор сам пробивал себе дорогу в жизни. Он, как и Клайд, безрассудно стремился броситься в водоворот наслаждений, которым казалась ему окружающая жизнь, и готов был на любые приключения, но при этом не знал свойственного Клайду нервного страха перед последствиями. У него был друг по фамилии Спарсер, немного постарше его, который служил шофером у одного богача в Канзас-Сити; иногда он тайком брал машину и предоставлял ее Хегленду для коротких загородных прогулок. Эта любезность приятеля, хотя и не вполне честная и законная, придавала Хегленду в глазах других юнцов особый, хотя и далеко не оправданный блеск и возвышала его в собственном мнении. Хегленд был не так красив, как Дойл, и ему было куда труднее завоевать внимание девиц, а те, у которых он добивался успеха, были далеко не так очаровательны. Все же он чрезвычайно гордился приключениями подобного рода и немало хвастал ими, причем Клайд по своей неопытности больше других верил этим рассказам. Быть может, поэтому, чувствуя в Клайде благожелательного слушателя, Хегленд чуть не с первого дня привязался к нему. Когда им случалось сидеть на скамье рядом, Хегленд продолжал поучать Клайда. Канзас-Сити — прекрасное место, если только умеешь жить. Он работал прежде в других городах: в Буффало, Кливленде, Детройте, Сент-Луисе, но нигде ему так не нравилось, как в Канзас-Сити… главным образом потому, — но об этом он тогда не счел нужным сообщить, — что дела его всюду шли не столь блестяще, как здесь. Он был «судомойкой», уборщиком вагонов, помощником водопроводчика… брался за всякую работу, пока наконец в Буффало не поступил на службу в отель. А потом один малый, который теперь не служит здесь, уговорил его переехать в Канзас-Сити. Зато здесь… — Понимаешь, — говорил он, — чаевые в этом отеле — таких нигде не получишь, уж я знаю, а главное — народ тут хороший. Ты будь с ними по-хорошему, и тебя не обидят. Я тут уже год, и жаловаться не на что. Этот парень Скуайрс — ничего, сойдет, коли не причинять ему беспокойства. Строг, но ведь надо ж ему о себе позаботиться. А зря никого не выставит. Это я знаю. Остальное все просто. Кончил работу — и сам себе хозяин. Ребята у нас хорошие и повеселиться умеют. Не подведут и не наябедничают. Коли что где затевается — вечеринка или что другое, — все тут как тут. И не ворчат и не распускают нюни, коли что не ладится. Уж я знаю, ведь у нас тут всякое бывало! Из его болтовни Клайд понял, что все мальчики в отеле живут очень дружно — все, кроме Дойла, который держится несколько обособленно, хоть и не высокомерно. («Слишком много женщин бегает за ним, вот и все».) Всей компанией ходят в гости, в дансинг, на обеды, в одно место, где можно сыграть в карты, и еще в некое местечко под названием «Кэт Суини», где есть премиленькие девочки, и так далее, и так далее — много всякого, о чем никогда раньше и не слыхивал Клайд. Эти рассказы заставляли его задумываться, мечтать, сомневаться, тревожиться и спрашивать себя — умно ли это и действительно ли в этом столько прелести, да и позволительны ли для него эти удовольствия? Ведь его всю жизнь учили как раз обратному. Во всем, к чему он теперь так внимательно прислушивался, таилось что-то глубоко волнующее, но и неясное, нерешенное. А Томас Ретерер! С первого же взгляда видно было, что вряд ли он может повредить кому-нибудь, стать чьим-то врагом. Ростом он был не выше пяти футов четырех дюймов, толстый, черноволосый, оливково-смуглый, с веселыми ясными глазами. Он тоже, как впоследствии узнал Клайд, был из совсем бедной семье и не имел в жизни никаких материальных или социальных благ. Но он был самостоятельный, и все товарищи любили его и всегда с ним обо всем советовались. Он был родом из Уичиты и только недавно переселился в Канзас-Сити. Он и его сестра были главной поддержкой для матери-вдовы, которую оба очень любили. В детстве они видели, как унижал, оскорблял и обманывал их добрую, доверчивую мать ее вероломный супруг. Бывали дни, когда семья оставалась без куска хлеба. Не раз их выгоняли из квартиры, когда им не удавалось вовремя за нее заплатить. Ни в одной школе Томми и его сестра не могли оставаться долго. Наконец четырнадцати лет от роду Ретерер переселился в Канзас-Сити, где брался за всякую случайную работу, пока ему не удалось попасть в «Грин-Дэвидсон»; позже к нему переехали из Уичиты мать и сестра. Но даже больше, чем роскошью отеля или этими юнцами, — их-то он довольно быстро раскусил, — Клайд восхищался потоком мелких подачек, который изливался на него, все увеличивая приятную тяжесть в правом кармане его брюк: монетки в пять, десять, двадцать пять центов и даже полу доллары — их становилось все больше и больше, и уже в первый день к девяти часам накопилось свыше четырех долларов, а к двенадцати, когда кончилось дежурство Клайда, у него было больше шести с половиной долларов — столько, сколько он раньше зарабатывал в неделю. И из всей этой суммы нужно только отдать доллар Скуайрсу — один доллар, не больше, так сказал Хегленд, а остальное — пять с половиной долларов за один вечер интересной, восхитительной, изумительной работы — принадлежит ему! Он едва мог этому поверить. Право же, как в сказке! «Тысяча и одна ночь»! И, однако, ровно в двенадцать часов этого первого вечера где-то прозвучал гонг, послышалось шарканье ног, и появились три мальчика: один занял место Барнса за конторкой, двое других должны были исполнять поручения. И по команде Барнса восемь мальчиков его смены поднялись, выстроились в ряд и направились к двери. В служебном помещении, как только его отпустили. Клайд подошел к мистеру Скуайрсу и вручил ему доллар серебром. — Правильно, — сказал мистер Скуайрс. Только и всего. Затем Клайд вместе с другими спустился в гардеробную к своему шкафчику, переоделся и вышел на темную улицу. Он счастлив, и в будущем счастье зависит только от него самого! Это ощущение было таким волнующим, что он весь дрожал и даже голова у него кружилась. Подумать только, что он добился такого места! Каждый день получать столько денег! Он направился было домой, решив хорошенько выспаться перед завтрашней работой. Но, вспомнив, что на следующий день ему нужно явиться в отель только в половине двенадцатого, зашел в ночное кафе и спросил чашку кофе и кусок пирога. И теперь он думал только о том, что завтра надо работать всего лишь с двенадцати дня до шести вечера, а потом он будет свободен до шести часов следующего утра. И заработает еще денег. И немалую часть истратит на себя.Глава 8
Больше всего занимала Клайда мысль, как сохранить для себя львиную долю денег, которые он зарабатывал. С тех пор как он впервые начал работать, установился такой порядок, что большую часть своего заработка — по крайней мере три четверти — Клайду приходилось вкладывать в общее хозяйство. Но если он теперь сообщит, что получает по меньшей мере двадцать пять долларов в неделю — и это не считая пятнадцати долларов жалованья в месяц и дарового стола, — родители, конечно, захотят, чтобы он давал им в неделю долларов десять — двенадцать. Однако его слишком долго томило желание выглядеть не хуже любого изящного и хорошо одетого юноши, и теперь, когда представлялся счастливый случай, он не мог устоять перед искушением прежде всего хорошо одеться — и поскорее. Поэтому он решил сказать матери, что все его чаевые не превышают доллара в день. А чтобы иметь возможность распоряжаться своим свободным временем по собственному усмотрению, он заявил, что нередко ему приходится, вдобавок к обычным рабочим часам, заменять других мальчиков, когда кто-либо из них болен или занят другой работой. Он сообщил также, что администрация отеля требует, чтобы у служащих был приличный вид не только в отеле, но и вне его. Ему нельзя будет долго ходить в отель в том платье, которое он носит теперь, сказал он. Мистер Скуайрс уже намекал на это. Но, прибавил Клайд, чтобы смягчить удар, один из мальчиков указал ему место, где можно купить все необходимые вещи в рассрочку. И мать была так наивна во всех этих делах, что поверила ему. Но это было еще не все. Клайд постоянно находился теперь в обществе юнцов, которые, работая в отеле, приобрели немалый жизненный опыт, познакомились здесь и с излишествами и с пороками и были уже посвящены в некоторые формы разврата, до сего времени совершенно неведомые Клайду. Он только рот раскрывал от удивления, а вначале также и от пугливого отвращения. Хегленд, например, сказал ему, что определенный процент заработка компании, к которой принадлежал теперь Клайд, шел на кутежи, которые устраивались в складчину раз в месяц — обычно в вечер после получки. Эти кутежи, в зависимости от настроения компании и от наличных денег, начинались иногда «шикарным» ужином с выпивкой в одном из двух довольно известных, но не слишком респектабельных ночных ресторанов. Потом все гурьбой отправлялись в танцевальный зал попроще, чтобы подцепить там какую-нибудь девчонку, или, если этого казалось мало, шли в какой-нибудь известный, по их мнению, публичный дом (обычно замаскированный под «комнаты с пансионом»), где за небольшие деньги можно было, как они часто хвастали, получить «любую девочку на выбор». И так как они были очень юны и, в сущности, наивны, щедры, веселы и недурны собой, они встречали в этих домах самый радушный прием у «мадам» и у девиц, старавшихся — из коммерческих соображений, конечно, — понравиться им и заставить прийти снова. И настолько скудна была до сих пор жизнь Клайда, что теперь его неодолимо потянуло ко всяким развлечениям, и он жадно ловил каждый намек на приключения и удовольствия. Не то чтобы он одобрял похождения такого рода. Правду говоря, вначале эти рассказы оскорбляли и угнетали его: они слишком противоречили всему, что он слышал с детства и во что его заставляли верить много лет. И, однако, эта жизнь была таким резким контрастом, таким облегчением после безрадостных, гнетущих занятий, к которым Клайда приучали дома, что его неудержимо влекло к этим соблазнительным похождениям, казалось, обещавшим столько разнообразия и блеска. Он слушал внимательно и жадно даже тогда, когда внутренне не одобрял слышанного. Видя, что он всегда приветлив и весел, товарищи один за другим стали приглашать его то в театр, то в ресторан, то к себе домой — сыграть в карты, — а то в один из тех непристойных домов, куда Клайд вначале наотрез отказывался идти. Но постепенно он все больше сближался с Хеглендом и Ретерером — оба они ему очень нравились, — и, когда, собираясь устроить кутеж в ресторане Фриссела, они позвали его, Клайд согласился. — Завтра вечером мы устраиваем у Фриссела очередной кутеж, — сказал ему Ретерер. — Хочешь пойти, Клайд? Ты еще ни разу с нами не пировал. К этому времени Клайд уже освоился с атмосферой отеля и почти избавился от своей прежней нерешительности. Старательно и не без пользы для себя подражая Дойлу, он обзавелся новым коричневым костюмом, кепкой, пальто, носками, булавкой для галстука и ботинками, по возможности такими же, как у его ментора. И костюм очень шел ему, чрезвычайно шел, — он казался теперь привлекательнее, чем когда-либо: не только его родители, но и младший брат и сестра были удивлены и даже потрясены происшедшей с ним переменой. Как сумел Клайд так великолепно одеться и так быстро? Сколько все это стоило? Не наделал ли он ради этого преходящего великолепия слишком больших долгов в надежде на будущий заработок и благоразумно ли это? Ему могут потом понадобиться деньги. И другие детитоже во многом нуждаются. Да и подходящая ли моральная и духовная атмосфера в этом отеле, где его заставляют работать так много и задерживают каждый вечер так поздно, а платят так мало? На все это Клайд отвечал (довольно умело), что все идет хорошо, что работа не слишком тяжелая. Его костюм вовсе не так уж хорош, — посмотрела бы мать на других мальчиков. Он тратит не слишком много. И, во всяком случае, все это куплено в рассрочку, и он может расплачиваться постепенно. Но ужин! Это уже совсем другое дело. Пирушка, вероятно, затянется допоздна, и как он тогда объяснит матери и отцу свое долгое отсутствие? Ретерер говорил, что веселье кончится не раньше трех-четырех часов ночи; впрочем, Клайд, конечно, может уйти в любое время. Но хорошо ли расстраивать компанию? Да, но, черт возьми, большинство из них не живет в семье, как Клайд, а если и живут, то родителей — например, мать Ретерера — мало беспокоит, что делают дети. Но все же благоразумное ли это дело — такая поздняя пирушка? Все его новые друзья — и Хегленд, и Ретерер, и Кинселла, и Шил — выпивают и не видят в этом ничего дурного. Глупо с его стороны думать, что это так опасно — выпить немножко, как все они делают в таких случаях. И потом ведь он может не пить, если не захочет. Он пойдет, а если дома спросят, он скажет, что пришлось задержаться на работе. Почему бы ему когда-нибудь и не прийти поздно домой? Разве он теперь не взрослый человек? Разве он не зарабатывает больше всех в семье? Пора бы ему вести себя так, как хочется. Он уже начал ощущать всю прелесть личной свободы, уже предвкушал восхитительные приключения, и теперь никакие материнские предостережения не могли его удержать.Глава 9
И вот настало время веселой пирушки с участием Клайда. Как и говорил Ретерер, она должна была состояться у Фриссела. И Клайд, уже успевший подружиться с товарищами по работе, был ужасно доволен и весел. Ведь для него настала новая жизнь. Всего несколько недель назад он был совсем одинок: ни одного друга, почти никаких знакомых среди сверстников! И вот — так быстро — он собирается на шикарный ужин в такой интересной компании! Клайду, верному иллюзиям юности, ресторан показался гораздо более привлекательным, чем он был на самом деле. Этот ресторан был по сути чем-то вроде хорошей американской закусочной доброго старого времени. Стены были густо увешаны старыми афишами и портретами актеров и актрис с их автографами. Здесь прекрасно кормили, притом хозяин отличался радушием, и потому ресторан стали охотно посещать заезжие актеры, политические деятели, местные дельцы, а за ними и все, кого тянет ко всему новому, хоть немного не похожему на то, что уже приелось. И мальчишки-рассыльные, которые не раз слышали от возчиков и шоферов такси, что ресторан Фриссела — один из лучших в городе, выбрали его для своих ежемесячных пирушек. Отдельные блюда стоили здесь от шестидесяти центов до одного доллара. Кофе и чай подавались только целыми кофейниками и чайниками. Здесь можно было получить любые напитки. Налево от главной залы находилась полуосвещенная комната с низким потолком и большим камином, куда обычно удалялись мужчины: после обеда они садились здесь у огня, курили и читали газеты; эта комната больше всего восхищала мальчишек из «Грин-Дэвидсон». Здесь они чувствовали себя как-то старше, более опытными, более значительными — настоящими светскими людьми. Ретерер и Хегленд, к которым Клайд очень привязался, равно как и большинство остальных, считали, что во всем Канзас-Сити и впрямь не найти лучшего места. И вот в назначенный день Хегленд, Ретерер, Пол Шил, Дэвис Хигби (тоже мальчик из отеля), Артур Кинселла и Клайд, получив свой месячный заработок и освободившись в шесть часов вечера, собрались на углу подле аптекарского магазина, где Клайд вначале искал работу, и веселой, шумной компанией отправились к Фрисселу. — Слыхали, какую штуку сыграл вчера с нашей конторой один парень из Сент-Луиса? — спросил Хегленд, обращаясь ко всем сразу, когда они двинулись в путь. — В субботу заказывает по телефону из Сент-Луиса номер для себя и для жены — гостиную, спальню и ванную и велит поставить в комнаты цветы. Мне сейчас рассказал Джимми, номерной клерк. Потом он приезжает сюда со своей девочкой, и они записываются как муж и жена, — понятно? А девчонка премиленькая, я видел. Нет, вы слушайте! Прожил он в отеле три дня, наши уж стали коситься на него — понимаете, обеды в номер и все такое. Потом в среду приходит он в контору и говорит, что его жена едет назад в Сент-Луис и что ему теперь не нужен такой номер — хватит и одной комнаты и чтоб перенесли его сундук и ее вещи в новую комнату, пока жене не пора будет на поезд. А сундук-то вовсе не его, а тоже ее, — понятно? И никуда она не едет и знать ничего не знает. А едет-то он. Натянул всем нос, понятно? И бросил ее с сундуком и без единой монетки. Понятно? А теперь они ее не выпускают с ее сундуком, а она плачет да друзьям шлет телеграммы. А платить-то уйму надо. Видали вы этакое? Цветы в комнату! Розы! И по шесть раз еду в номер носили, ну и пил он тоже, ясное дело! — Я знаю, кто это! — воскликнул Шил. — Я носил ему вино. Так я и знал, что тут что-то неладно. Уж очень он был вежливый и говорил чересчур громко. А на чай только и дал, что десять центов. — И я его помню, — сказал Ретерер. — Он велел мне принести все чикагские газеты за понедельник и тоже дал только десять центов. Он мне сразу показался пройдохой. — Да, сели они с ним в калошу, — сказал Хегленд. — А теперь стараются вытянуть деньги из нее. Ловко? — Мне она показалась лет восемнадцати-двадцати, не больше, — вставил молчавший до сих пор Артур Кинселла. — А ты их видел, Клайд? — спросил Ретерер; он вообще покровительствовал Клайду и теперь старался ободрить его и втянуть в общий разговор. — Нет, не помню, — ответил Клайд. — Наверно, меня к ним не посылали. — Ну, значит, ты упустил случай поглядеть на редкую птицу. Он такой высокий, в длинном черном английском пальто, котелок надвинут на глаза, и светло-серые гетры. Видали бы вы, как он разгуливает, да еще с тросточкой! Я сперва думал, что это какой-нибудь английский герцог. Нужно только вырядиться во все английское, да говорить погромче, да всеми вокруг командовать, — и клюнет: кто угодно поверит. — Это верно, — заметил Дэвис Хигби. — Хорошая штука английский стиль. Я бы и сам не прочь так приодеться. Они дважды завернули за угол, пересекли одну за другой две улицы и наконец всей компанией вошли к Фрисселу. Клайда ослепил яркий свет, отражавшийся на фарфоре, на серебре, на лицах обедающих, он был оглушен жужжанием голосов и звоном посуды. Никогда еще, если не считать отеля «Грин-Дэвидсон», не был он в таком месте. Да еще с такими сведущими, опытными ребятами! Они прошли к столикам, которые были расставлены перед длинным кожаным диваном, тянувшимся вдоль стены. Метрдотель, узнав завсегдатаев — Ретерера, Хегленда и Кинселлу, распорядился сдвинуть вместе два столика и подать стаканы, хлеб и масло. Компания расселась: Клайд с Ретерером и Хигби — на диване у стены, Хегленд, Кинселла и Шил — напротив них. — Я начну с доброго старого манхэттенского, — объявил с жадностью Хегленд, оглядывая публику за столиками и чувствуя себя поистине важной персоной. Красновато-смуглый, с живыми голубыми глазами, с темно-рыжими волосами ежиком, он походил на большого задорного петуха. И Артур Кинселла тоже, как и Хегленд, разом оживился, попав сюда, и, казалось, наслаждался собственным величием. Он демонстративно поддернул рукава, взял в руки меню и, просматривая прейскурант вин, напечатанный на обороте, воскликнул: — Ну, на мой вкус, для начала недурно сухое мартини. — А я предпочитаю шотландское виски с содовой, — торжественно произнес Пол Шил, изучая тем временем перечень мясных блюд. — Увольте меня сегодня от ваших коктейлей, — весело, но решительно заявил Ретерер. — Я сказал, что не буду сегодня много пить, — и не буду. С меня довольно стакана рейнвейна с сельтерской. — Нет, вы только послушайте! — негодующе воскликнул Хегленд. — Он начнет с рейнвейна! И это он, старый любитель манхэттенского! Что с тобой стряслось, Томми? Ты ведь, по-моему, хотел повеселиться? — Я и хочу, — возразил Ретерер. — Но разве нельзя веселиться, пока не вылакаешь все, что только тут найдется выпить? Сегодня я хоту быть трезвым, не хочу больше получать выговоры по утрам и не получу, если буду понимать, что делаю. В прошлый раз я насилу выполз на работу. — Верно! — поддержал Артур Кинселла. — Я тоже не хочу напиваться так, чтоб терять голову. Но пока еще рано об этом беспокоиться. — А ты, Хигби? — обратился Хегленд к глазастому пареньку. — Мне тоже манхэттенского, — сказал тот, и, взглянув на официанта, стоявшего рядом, спросил: — Как делишки, Дэннис? — Не могу пожаловаться, — ответил официант. — Последние дни совсем хорошо. А как дела в отеле? — Прекрасно, прекрасно, — весело ответил Хигби, изучая меню. — А ты, Грифитс? Что ты будешь пить? — спросил Хегленд. Он был избран церемониймейстером, чтобы следить за выполнением заказов, заплатить по счету, дать чаевые, и теперь исполнял свою роль. — Кто? Я? О, я… — воскликнул Клайд, немало смущенный этим вопросом. Ведь он еще никогда до этой минуты не прикасался к чему-либо крепче кофе или мороженого с содовой водой и теперь был немного испуган веселой развязностью, с какою остальные заказывали коктейли и виски. Конечно, он не может зайти так далеко… однако он давно знал из их разговоров, что в такие вечера они все пьют, и не представлял себе, как можно отстать от остальных. Что они подумают о нем, если он откажется выпить? Попав в эту компанию, он с самого начала старался казаться таким же искушенным светским человеком, как и они. И все же он ясно чувствовал за плечами те годы, когда ему непрерывно твердили об ужасах пьянства и дурной компании. В глубине души Клайд давно уже восставал против всех этих текстов и изречений, на которые всегда ссылались его родители, и глубоко презирал за тупость и никчемность оборванную толпу бездельников и неудачников, которых в миссии Грифитсов пытались спасать, — и все же теперь он заколебался. Пить или не пить? Он колебался лишь какую-то долю секунды, когда в нем заговорило прошлое, потом сказал: — Что ж, я… я тоже выпью рейнвейна с сельтерской. Он понимал, что такой ответ — самый легкий и безопасный. Невинный характер этой смеси — рейнвейна с сельтерской — уже был подчеркнут Хеглендом и остальными. И все же Ретерер заказал себе именно рейнвейн, — это обстоятельство, как чувствовал Клайд, делало и его собственный выбор не столь заметным и смешным. — Что делается! — в притворном отчаянии воскликнул Хегленд. — Он тоже хочет пить рейнвейн с сельтерской! Давайте что-нибудь предпримем, а то, видать, наша вечеринка кончится к полдесятому. Дэвис Хигби, гораздо более резкий и шумный, чем можно было предполагать по его приятной внешности, повернулся к Ретереру: — Чего ты спозаранку завел эту муру насчет рейнвейна с сельтерской. Том? Не хочешь повеселиться сегодня? — Я же сказал почему, — ответил Ретерер. — И потом, когда мы в прошлый раз зашли в тот притончик, у меня было сорок долларов, а вышел я оттуда без единого цента. На этот раз я хочу знать, что со мной творится. «Тот притончик», — подумал Клайд, слушая разговор. Значит, после ужина, когда все порядком выпьют и поедят, они отправятся в одно из тех мест, которые называются притонами, в такой дом. Тут не могло быть никаких сомнений. Он понимал, что это значит. Там будут женщины… дурные женщины… развратные женщины… Но как же он? Неужели он тоже… Впервые в жизни Клайду представлялась возможность, которой он давно жаждал: узнать наконец великую, соблазнительную тайну, что так давно влекла его и сбивала с толку, манила, но и пугала. Хотя он много думал обо всем этом и о женщинах вообще, он никогда еще не был близок ни с одной. А теперь… теперь… Он вдруг почувствовал, что его бросает то в жар, то в холод. Лицо и руки стали горячими и влажными, он ощущал, как пылают его щеки и лоб. Странные, быстрые, заманчивые и тревожные мысли проносились в его мозгу. Мороз пробегал по коже. Он невольно рисовал себе соблазнительные вакхические сцены — и тотчас пытался выбросить их из головы, но напрасно: они возвращались снова. И ему хотелось, чтобы они возвращались, — и не хотелось… И за всем этим скрывался испуг. Но неужели же он такой трус? Остальных все предстоящее ничуть не тревожило. Они были очень веселы. Они смеялись и подшучивали друг над другом, вспоминая кое-какие забавные истории, которые произошли с ними во время последнего кутежа. Но что подумала бы его мать, если б узнала? Мать! Он не смел думать ни о ней, ни об отце и поспешил прогнать мысль о них. — А помнишь, Кинселла, ту маленькую, рыженькую, в доме на Пасифик-стрит? — воскликнул Хигби. — Она еще упрашивала тебя бежать с ней в Чикаго? — Конечно, помню, — усмехнулся Кинселла, наливая себе мартини: ему как раз подали вино. — Она даже хотела, чтобы я бросил отель. Обещала, что поможет мне взяться за какое-нибудь дело. Говорила, что мне вовсе не придется работать, если я останусь с ней. — Да, тогда у тебя была бы только одна работа! — заметил Ретерер. Официант поставил перед Клайдом бокал рейнвейна с сельтерской. Глубоко взволнованный, заинтересованный, восхищенный всем слышанным, Клайд поднял бокал, пригубил вино, нашел, что оно нежно и приятно, и залпом выпил. Он был так занят своими мыслями, что сам не заметил, как это получилось. — Молодчина, — сказал Кинселла самым дружеским тоном. — Эта штука тебе понравится. — Да, это совсем неплохо, — ответил Клайд. А Хегленд, видя, как быстро идет дело, и понимая, что Клайд — совсем еще новичок в этой компании и нуждается в поддержке и одобрении, подозвал официанта: — Послушай, Джерри! — И прибавил так, чтобы не слышал Клайд: — Того же самого, да побольше… Ужин продолжался. Было уже около одиннадцати часов, когда они наконец исчерпали все интересные темы — рассказы о прежних приключениях, о прежней работе, о разных ловких и дерзких проделках. У Клайда было достаточно времени поразмыслить над всем этим, и теперь он склонен был думать, что сам он вовсе не такой уж желторотый, как кажется его приятелям. А если даже и так… Зато он хитрее большинства из них, умнее… Кто они такие и к чему стремятся? Хегленд, как стало ясно Клайду, тщеславен, глуповат, криклив, и его легко подкупить пустячной лестью. Хигби и Кинселла — незаурядные и славные юноши — чванились тем, чем Клайд не стал бы очень гордиться: Хигби хвастал, что понимает кое-что в автомобилях (его дядя имел какое-то отношение к этому делу), а Кинселла — умением играть в карты и даже в кости. А Ретерер и Шил — он еще раньше заметил это — были вполне довольны своей работой в отеле, готовы были заниматься ею и впредь и ни о чем другом не мечтали. А Клайд уже теперь не мог себе представить, чтобы должность рассыльного осталась пределом всех его желаний. В то же время он с некоторой тревогой думал о той минуте, когда все отправятся туда, где он никогда еще не бывал, чтобы делать то, чем он никогда не предполагал заниматься в таких условиях. Не лучше ли ему извиниться, когда все выйдут из ресторана? Или, может быть, выйти вместе с ними, а там тихонько скользнуть за первый же угол и вернуться домой? Он слышал, что в таких вот местах можно схватить самую страшную болезнь и что люди умирают потом жалкой смертью от низменных пороков, которые там приобретают. Его мать произносила немало речей на эту тему, хотя вряд ли толком что-нибудь об этом знала. И, однако, вот перед ним довод, опровергающий все эти страхи: его новые товарищи, ничуть не обеспокоенные тем, что они собирались делать. Наоборот, для них это очень веселое и забавное приключение — только и всего. И действительно, Ретерер, искренне привязавшийся к Клайду — больше за его манеру смотреть, спрашивать и слушать, а не за то, что Клайд делал или говорил, — то и дело подталкивал его локтем и, смеясь, спрашивал: — Ну, как, Клайд? Сегодня посвящение? — и широко улыбался. Или, видя, что Клайд совсем притих и задумался, он говорил: — Не бойся, тебя не съедят, самое большее — укусят. А Хегленд время от времени прерывал свои самовосхваления и, подхватывая намеки Ретерера, прибавлял: — Нельзя всю жизнь таким оставаться. Так не бывает. Но в случае чего — мы за тебя постоим. Клайд, нервничая, наконец оборвал с досадой: — Да отстаньте вы! Хватит насмехаться! Для чего это вам нужно хвалиться, что вы знаете больше меня? Ретерер подмигнул Хегленду, чтобы тот оставил Клайда в покое, а сам шепнул: — Не сердись, старина, все в порядке. Мы просто пошутили малость, ты ж понимаешь! И Клайд, которому очень нравился Ретерер, быстро смягчился и пожалел, что так глупо себя выдал. Наконец около одиннадцати часов, когда уже вдоволь наговорились, наелись и напились, вся компания под предводительством Хегленда вышла из ресторана. Бесстыдные и темные намерения не заставили их призадуматься, не вызвали в них стремления к умственному и нравственному самоисследованию и самобичеванию, — напротив, они так весело смеялись и болтали, словно их ожидала просто милая забава. С изумлением и отвращением слушал Клайд, как они вспоминали свои прежние похождения. По-видимому, всех особенно забавлял случай в притоне под названием «Дом Беттины», где они однажды побывали. Их привел туда один бесшабашный малый по прозвищу Малыш Джонс, служащий из другого отеля. Этот Малыш и еще один паренек, по имени Бирмингэм, вместе с Хеглендом, который отчаянно напился, позволили себе такие выходки, что их чуть не арестовали. Клайд слушал и с трудом верил, что эти мальчики, внешне такие порядочные и опрятные, могли проделывать подобные вещи: выходки были так грубы и отвратительны, что Клайда даже немного затошнило. — А помните, как девчонка со второго этажа окатила меня водой из кувшина, когда я выходил! — громко хохотал Хегленд. — А тот толстяк во втором этаже! Как он подошел к двери посмотреть, помните? — смеялся Кинселла. — Он наверняка решил, что тут пожар или бунт! — А ты с той маленькой толстушкой Пигги! Помнишь, Ретерер? — визжал Шил, захлебываясь от хохота и еле выговаривая слова. — У него даже ноги подкашивались, так было тяжело! — вопил Хегленд. — А как они оба под конец скатились с лестницы! — Это все ты был виноват, Хегленд! — крикнул Хигби. — Если бы ты не затеял эту историю с поркой, нас бы не выставили. — Говорю вам, я был пьян, — возражал Ретерер. — У них там дьявольски крепкое виски. — А тот длинный тощий техасец с большими усами? Помните, как он хохотал? — прибавил Кинселла. — Он не хотел никому помогать, кто был против нас. Помните? — Еще чудо, что нас всех не выкинули на улицу и не арестовали. Ну и ночка была! — вспоминал Ретерер. Все эти разоблачения ошеломили Клайда. «Порка»! Это могло значить только одно! И они воображают, что он примет участие в чем-либо подобном? Этого не будет. Он не такой. Что подумали бы его мать и отец, если б услышали все эти ужасные истории… И все-таки… Болтая, они подошли к какому-то дому на темной широкой улице; у тротуаров, вдоль всего квартала и даже дальше, стояла вереница кэбов и автомобилей. Неподалеку на углу остановились, разговаривая, несколько молодых людей. На другой стороне — еще мужчины. А через полквартала компания Клайда прошла мимо двух мирно беседовавших полисменов. И хотя нигде, ни в одном окне не было света, но, как ни странно, всюду чувствовалась яркая, кипучая жизнь. Она ощущалась даже в темноте улицы. То и дело раздавались гудки мчащихся мимо такси, прокатили две старомодные закрытые кареты со спущенными занавесками. И двери то хлопали, то тихо открывались и закрывались. И тогда из домов вырывался яркий свет, прорезывал мглу улицы и снова исчезал. А над головой сияли звезды. Наконец, не говоря ни слова, Хегленд в сопровождении Хигби и Шила, поднялся по лестнице и позвонил. Почти мгновенно дверь открыла молодая негритянка в красном платье. — Добрый вечер! Заходите, пожалуйста, — приветливо пригласила она, и все шестеро прошли за тяжелые бархатные драпри, отделявшие маленькую переднюю от остальных комнат. Клайд очутился в ярко освещенной и довольно безвкусно обставленной гостиной; на стенах висели картины в золоченых рамах, изображавшие обнаженных и полуобнаженных женщин, и огромные зеркала. На полу лежал толстый ярко-красный ковер; по всей комнате было расставлено множество золоченых стульев, в глубине на фоне ярко-красных портьер — пианино, тоже золоченое. Но ни гостей, ни обитательниц дома здесь не было, — никого, кроме негритянки. — Присядьте, пожалуйста, — сказала она. — Будьте как дома. Сейчас позову мадам. И она побежала по лестнице налево, крича: — Мэри! Сэди! Каролина! В гостиной молодые джентльмены. В эту минуту из двери в глубине комнаты вышла высокая, стройная и бледная женщина лет тридцати восьми или сорока — очень прямая, изящная и, видимо, очень властная и умная, в полупрозрачном и все же скромном платье. — А, здравствуйте, Оскар! — заговорила она со слабой, ободряющей улыбкой. — И Пол тут? И вы, Дэвис? Пожалуйста, располагайтесь все как дома. Фанни сейчас придет. Она принесет вам чего-нибудь выпить. У меня теперь новый тапер — негр из Сент-Джо. Хотите послушать? Прекрасно играет! И она позвала: — Сэм! В это время по боковой лестнице в глубине зала сбежали девять девушек, разных по возрасту и по внешности, но, по-видимому, не старше двадцати четырех — двадцати пяти лет, — все в таких нарядах, каких Клайд еще никогда ни на одной женщине не видал. Они смеялись и болтали, как видно, очень довольные собой, и ничуть не стыдились своей внешности, так поразившей Клайда; между тем их одеяния были необычны: от легчайшего неглиже, пригодного разве что для будуара, до несколько более пристойного как будто, но не менее откровенного бального туалета. И какие разные были эти девушки: худые и толстые, среднего роста, высокие и маленькие, брюнетки, блондинки и рыжие. И все они казались очень юными, и все ласково и восторженно улыбались гостям. — Здравствуй, милый! Как дела? Потанцуем? Или: — Хочешь чего-нибудь выпить?Глава 10
Клайду, которого воспитывали в большой строгости, прививая ему понятия, не допускавшие посещения подобных мест, то, что он увидел, должно было бы показаться отвратительным. Однако от природы он был таким чувственным и романтичным и в нем так настойчиво звучал давно подавляемый голос пола, что теперь он был не возмущен, а, наоборот, очарован. Его занимала сейчас телесная пышность почти всех этих фигур, хотя бы ими и управлял тупой и лишенный романтики ум. В конце концов здесь все же была красота: бесстыдная, чисто плотская, обнаженная и доступная. И не нужно было преодолевать какие-то настроения, нарушать какие-то запреты, чтобы сблизиться с любой из этих девушек… Одна из них, очень миленькая брюнетка, одетая в черное с красным и с красной лентой на лбу, держалась запросто с Хигби и уже танцевала с ним в глубине комнаты под джазовый мотив, который кто-то бестолково барабанил на пианино. И Ретерер, к удивлению Клайда, уже сидел в позолоченном кресле, а на коленях у него полулежала высокая девица с очень светлыми волосами и голубыми глазами. Она курила папиросу и притопывала золочеными туфельками в такт мотиву. Поразительное, сказочное зрелище — казалось Клайду! А перед Хеглендом стояла, подбоченясь и расставив ноги, пухлая, миловидная девица немецкого или скандинавского типа. И Клайд слышал, как она спрашивала высоким пискливым голосом: «Поухаживаешь за мной сегодня?» Но на Хегленда, по-видимому, не очень действовали эти заигрывания: он равнодушно покачал головой, и девушка отошла к Кинселле. Пока Клайд глядел и размышлял, хорошенькая блондинка лет двадцати четырех — ему она показалась моложе — придвинула стул и села рядом с ним. — Вы не танцуете? — спросила она. Клайд нервно покачал головой. — Хотите, научу? — У меня все равно не получится. — Да это же совсем нетрудно! Пошли! Но Клайд решительно отказался, хотя ее любезность была ему приятна. — Ну, может, выпьете? — предложила она тогда. — Непременно, — любезно согласился он. Девица сделала знак негритянке, и через минуту перед ними оказался столик, а на нем бутылка виски и содовая. Клайд едва не онемел от испуга. У него в кармане всего сорок долларов, а он слышал от других, что здесь каждый бокал стоит не меньше двух долларов. Подумать только, что он тратит такие деньги! И угощает такую женщину! А дома у него мать, сестра, братишка, и они едва сводят концы с концами… И все же он заказывал и платил, чувствуя, что он ужасно, невозможно расточителен, прямо устроил какую-то оргию… Но раз уж он здесь, надо держаться до конца. Притом Клайд заметил, что девушка и в самом деле хорошенькая. На ней было вечернее платье из голубого бархата, туфли и чулки того же цвета, в ушах голубые серьги. Открытые плечи, шея и руки были полные и нежные. Особенно смущали Клайда глубокий вырез ее платья — он едва осмеливался смотреть в ту сторону — и ее накрашенные щеки и губы — вернейшие приметы продажной женщины. Однако она не казалась слишком навязчивой, наоборот, — держалась очень просто и с интересом смотрела в его глубокие, темные глаза, полные тревоги. — Вы тоже работаете в «Грин-Дэвидсон»? — спросила она. — Да, — ответил Клайд, всячески стараясь показать, что все это для него не ново и что он уже не раз бывал в таких местах, в такой же обстановке. — А откуда вы знаете? — Я знаю Оскара Хегленда. Он здесь бывает. Он ваш Друг? — Да. То есть мы вместе работаем в отеле. — Но вы раньше здесь не бывали? — Нет, — быстро ответил Клайд и тут же мысленно спросил себя, откуда она знает, что он не был здесь раньше. — Я так и думала. Я уже видела почти всех остальных, а вас ни разу не видала. Вы недавно в отеле, правда? — Да, — сказал Клайд не без досады. Он поминутно то морщил лоб, то супил брови в непроизвольной гримасе: это бывало с ним всегда, когда он нервничал или глубоко задумывался. — Ну и что же? — Да ничего. Просто я сразу догадалась. Вы не похожи на них, совсем другой. Она улыбнулась странно и ласково. Клайд не понял ни этой улыбки, ни настроения девушки. — Чем же я другой? — хмуро и сердито спросил он, отпивая из бокала. — Одно я знаю наверняка, — продолжала она, не обратив внимания на его вопрос, — вы не очень-то любите таких девушек, как я. Правда? — Нет, почему же… — сказал он уклончиво. — Нет, не любите. Я вижу. Но вы мне все равно нравитесь. Мне нравятся ваши глаза. Вы не такой, как все эти ребята, — благороднее, добрее. Я уж вижу, что вы другой. — Ну, не знаю, — ответил Клайд, очень довольный и польщенный. Он все продолжал морщить лоб. Возможно, эта девушка не такая уж плохая, как он думал. Она умнее других, как-то утонченнее. И костюм у нее не такой бесстыдный. И она не набросилась на него, как другие на Хегленда, Хигби, Кинселлу и Ретерера. Теперь почти все его товарищи сидели на стульях или диванах, держа на коленях девиц. Перед каждой парой стоял столик с бутылкой виски. — Смотрите-ка, кто пьет виски! — крикнул Кинселла тем, кто еще мог обратить внимание на его слова, и указал глазами на Клайда. — Не надо меня бояться, — говорила девушка, в то время как Клайд, испуганный и очарованный, смотрел на ее руки, шею, на слишком открытую грудь. — Я не очень давно этим занимаюсь, и не была бы я здесь, да вот не везло мне в жизни. Мне бы хотелось жить дома с родными, но теперь они меня не возьмут. Она с серьезным видом опустила глаза, думая главным образом о том, какой неопытный и глупый этот Клайд — совсем желторотый птенец. И еще она думала о деньгах, которые он у нее на глазах вынимал из кармана, — изрядная пачка… И еще о том, что он и правда миленький: не то чтобы очень красивый или сильный, но славный. А Клайд в эту минуту думал об Эсте, о том, куда она уехала и где она теперь? Кто знает, что с ней? Что могло с ней произойти? Может быть, и с этой девушкой случилось такое же несчастье, как с его сестрой? В нем росло искреннее, хотя и немного презрительное сочувствие, и он смотрел на сидящую рядом девушку, словно желая сказать: «Бедняжка». Но сейчас он не решался вымолвить ни слова, не решался ни о чем спросить. — Вот вы, молодые люди, приходите в такие дома, как наш, и всегда думаете о нас очень плохо, я ведь знаю. А мы вовсе не такие скверные. Клайд все морщил лоб. Может быть, и в самом деле она не такая уж скверная? Она падшая женщина, конечно… испорченная, но хорошенькая. Время от времени он посматривал на остальных девиц, и ни одна ему не нравилась так, как эта. И она находит, что он лучше других, благороднее, — так она сказала. Комплимент попал в цель. Она наполнила бокал Клайда и заставила его выпить вместе с ней. Тем временем явились новые гости, и новые девушки вышли из загадочных глубин дома им навстречу. Клайд заметил, что Хегленд, Ретерер, Кинселла и Хигби таинственно скрылись куда-то по задней лестнице, отделенной от зала тяжелыми портьерами. И когда появились новые гости, девушка предложила Клайду перейти на диван в глубине комнаты, где было меньше света. Здесь она придвинулась к нему вплотную, погладила по руке и, наконец, взяв его под руку и тесно прижимаясь, спросила, не хочет ли он посмотреть, как мило обставлены комнаты во втором этаже. И Клайд, видя, что он остался здесь один из всей компании и никто за ним не наблюдает, позволил льнувшей к нему девушке увлечь его по занавешенной лестнице наверх, в маленькую розово-голубую комнату. И все время он твердил себе, что делает преступный и опасный шаг и что это может кончиться для него большой бедой. Вдруг он схватит какую-нибудь ужасную болезнь. Или девушка потребует с него больше, чем он может заплатить. Он боялся девушки, себя, всего на свете… безмерно волновался и чуть не потерял дар речи, одолеваемый страхами и сомнениями. И все же он шел, и, как только дверь закрылась за ним, эта прекрасная, грациозная Венера с округлыми формами обернулась и обняла его; потом спокойно стала перед большим зеркалом, в котором он мог видеть ее всю, и начала раздеваться…Глава 11
Приключение это подействовало на Клайда так, как оно только и могло подействовать на новичка, глубоко чуждого всему этому миру. Правда, острое любопытство и непреодолимое желание привели его сюда и заставили поддаться соблазну, но строгие моральные правила, которые ему издавна внушали, и характерное для него отвращение ко всему грубому, не эстетичному, заставляли его смотреть на все, что произошло, как на нечто, несомненно, унизительное и греховное. Наверно, родители были правы, когда утверждали в своих проповедях, что это низменно и постыдно. Все же это приключение и мир, в котором оно произошло, теперь, когда все было уже позади, приобретали в глазах Клайда какую-то грубую языческую красоту, своеобразное вульгарное очарование. И пока другие, более яркие впечатления не заставили побледнеть это воспоминание, Клайд против воли возвращался к нему с большим интересом и даже удовольствием. К тому же он повторял себе, что теперь, зарабатывая так много денег, он может ходить, куда угодно, и делать, что угодно. Ему незачем идти снова в тот дом, если не хочется, — он может найти другие места, возможно не такие бесстыдные, более утонченные. Ему не хотелось бы идти опять вместе со всей компанией. Лучше бы просто найти себе какую-нибудь девушку, вроде тех, с которыми он видел Зиберлинга и Дойла. Таким образом, несмотря на все тревожные мысли, мучившие Клайда в ту ночь, он быстро освоился с новым источником удовольствия, если и не с обстановкой, в которой его познал. Он должен, как Дойл, найти себе девушку нестрогих правил и тратить на нее деньги. И Клайд с нетерпением ждал удобного случая, чтобы осуществить свои планы. Интересам и желаниям Клайда в это время вполне отвечало то обстоятельство, что и Хегленд и Ретерер, хотя втайне и чувствовали его превосходство, а может быть, именно поэтому, стали относиться к нему с особенным вниманием: ухаживали за ним, вовлекали его во все свои дела и развлечения. Так, вскоре после того первого приключения Ретерер пригласил Клайда к себе, и Клайд с первого же взгляда понял, что семья Ретерера жила совсем иначе, чем его собственная. У Грифитсов все было строго и степенно: всегда чувствовалась сосредоточенность людей, живущих под давлением религиозных догм и убеждений. В доме у Ретерера было как раз наоборот. Мать и сестра его не чужды были известных если не религиозных, то моральных убеждений, однако смотрели на жизнь довольно свободно, — а моралист, пожалуй, сказал бы «беспринципно». Тут никогда и речи не было о каких-либо строгих нравственных устоях, о твердой линии поведения. И потому Ретерер и его сестра Луиза (она была на два года моложе его) поступали так, как им нравилось, и не слишком задумывались на этот счет. Но Луиза обладала достаточным умом и характером, чтобы не броситься на шею первому встречному. Любопытней всего, что Клайд, несмотря на некоторую утонченность, заставлявшую его смотреть косо на большую часть того, что его окружало, был пленен безыскусственностью и свободой открывавшейся перед ним жизни. По крайней мере среди этих людей он волен был поступать так, как ему доныне никогда еще не приходилось, и мог держаться непринужденнее, чем когда-либо. Особенно приятно было ему, всегда нервному и неуверенному в обращении с девушками, что теперь он почти освободился от сомнений в своей привлекательности. До сих пор, несмотря на свой недавний первый визит в храм любви, куда Хегленд и остальные показали ему дорогу, Клайд был убежден, что у него нет ни ловкости, ни обаяния, необходимых, чтобы нравиться девушкам. Стоило какой-нибудь девушке оказаться рядом или хотя бы направиться в его сторону, как он уже чувствовал себя совсем подавленным: его бросало в холод, в нервную дрожь, он глупел и окончательно терял способность разговаривать или шутить, как другие молодые люди. Но теперь, бывая у Ретереров, он получил полную возможность испытать, сумеет ли он побороть свою застенчивость и нерешительность. В этом доме постоянно собирались друзья самого Ретерера и его сестры Луизы, более или менее одинаково смотревшие на жизнь. Здесь танцевали, играли в карты, беззастенчиво флиртовали. До сих пор Клайд не представлял себе, что родители могут быть такими снисходительными или равнодушными в вопросах поведения и нравственности, как миссис Ретерер. Он не представлял себе, чтобы какая-либо мать могла одобрять такие свободные товарищеские отношения между юношами и девушками, какие существовали в доме Ретереров. Но очень скоро, благодаря дружеским приглашениям Ретерера, он почувствовал себя частью этой компании; на членов ее он смотрел несколько свысока за их распущенность, за не слишком правильную речь, но, с другой стороны, его привлекала их непринужденность, общительность, уменье веселиться. В этой компании он наконец-то может выбрать себе подругу, лишь бы хватило смелости! И Клайд вскоре попытался осуществить это при поддержке Ретерера, его сестры и всех их знакомых; случай представился в первое же его посещение Ретереров. Луиза Ретерер служила в мануфактурном магазине и часто опаздывала домой к обеду. В этот день она не могла прийти раньше семи часов, и обед поэтому отложили. Тем временем к Луизе зачем-то зашли две ее подруги и, застав вместо нее Ретерера и Клайда, расположились как дома, заинтересованные Клайдом и его новым костюмом. Но Клайд, одновременно и жаждавший общества девушек, и робевший перед ними, держался нервно и отчужденно, а подругам Луизы показалось, что он высокомерен и заносчив. Обиженные, они решили показать себя во всем блеске и вскружить ему голову — никак не меньше. Клайду очень понравилась их грубоватая веселость, и его быстро очаровала одна из них — Гортензия Бригс, хорошенькая и крайне самоуверенная брюнетка, которая, подобно Луизе, была всего лишь простой продавщицей в большом магазине. И все же Клайд сразу увидел, что она довольно вульгарна и грубовата и совсем не похожа на девушку, о какой он мечтал. — Как, она еще не пришла? — воскликнула Гортензия, поздоровавшись с Ретерером и взглянув на Клайда, который стоял у окна и смотрел на улицу. — Какая досада! Ну, мы чуточку подождем, если вы не возражаете. Эти слова сопровождались кокетливыми ужимками, ясно говорившими: «Кто же будет возражать против нашего присутствия!» Она подошла к зеркалу, любуясь собой, и стала перед ним охорашиваться. А ее подруга, Грета Миллер, прибавила: — Конечно, подождем. Надеюсь, вас не выгонят до ее прихода. Мы не обедать пришли. Мы думали, вы уже покончили с едой. — С чего это вы взяли, что вас отсюда выгонят? — развязно ответил Ретерер. — Кто же вас отсюда выгонит, раз вам тут нравится? Садитесь, заведите граммофон, вообще делайте, что хотите. Скоро будем обедать, и Луиза вот-вот явится. Познакомив девушек с Клайдом, он вернулся в столовую дочитывать газету. А Клайд под их взглядами сразу почувствовал себя брошенным в утлой шлюпке на произвол судьбы среди неведомого моря. — Не говорите мне про еду! — воскликнула Грета Миллер, спокойно разглядывая Клайда, как будто решая про себя, стоит ли он внимания, и, решив, что стоит, пояснила: — Сколько нам сегодня придется съесть: и мороженое, и пирог, и пирожные, и сандвичи. Мы как раз пришли предупредить Луизу, чтобы она не очень наедалась. Знаешь, Том, Китти Кин справляет день рожденья. У нее будет огромный пирог и много всякой всячины. Ты ведь придешь туда потом, правда? — закончила она, подумав, что, может быть, с Ретерером придет и Клайд. — Вряд ли, — спокойно ответил Ретерер. — Мы с Клайдом надумали после обеда пойти в театр. — Ну и глупо, — вставила Гортензия Бригс главным образом для того, чтобы привлечь к себе внимание, центром которого до сих пор была Грета. Гортензия все еще стояла у зеркала и теперь обернулась, чтобы послать обольстительную улыбку всем и особенно Клайду, в чью сторону, как ей казалось, уже закинула удочку ее подруга. — По-моему, глупость — идти в театр, когда можно пойти с нами к Китти и потанцевать. — Конечно, вы только о танцах и думаете — и вы обе, и Луиза, — заметил Ретерер (он умел иногда быть весьма здравомыслящим человеком). — Прямо удивительно, как вам только не хочется иной раз отдохнуть. Вот я целый день на ногах и подчас не прочь посидеть. — Не говорите мне про отдых! — заявила Грета Миллер с надменной улыбкой и сделала па влево, словно готовясь заскользить в танце. — У нас эта неделя сплошь занята. Жуть! — Она закатила глаза и трагически сжала руки. — Просто ужас, сколько нам придется танцевать этой зимой, — правда. Гортензия? По четвергам, по пятницам, по субботам и воскресеньям. Ну и ну! Вот ужас, правда? Она кокетливо отсчитывала дни по пальцам и улыбалась Клайду, точно ища у него сочувствия. — Угадай, Том, где мы на днях были, — Луиза с Ральфом Торпом, Гортензия с Бертом Гетлером и я с Вилли Бэсиком! У Пэгрена на Уэстер-авеню. Видел бы ты, сколько там было народу! Мы танцевали до четырех утра. Я думала, у меня ноги отвалятся. Даже не помню, когда я так уставала. — Да уж! — вмешалась Гортензия, трагически воздев руки к небесам. — Я думала, что не смогу работать на следующее утро. У меня до того слипались глаза, я насилу различала покупателей. А мама как волновалась! Просто ужас! Она до сих пор не может прийти в себя. По субботам и по воскресеньям еще ничего, но теперь мы танцуем и на неделе, а мне наутро в семь часов вставать, и уж тут мне от мамы так достается — ну и ну! — Я ее хорошо понимаю, — сказала миссис Ретерер, которая как раз вошла с блюдом картофеля и хлебом. — Вы захвораете, если не дадите себе передышки, и Луиза тоже. Я все говорю ей, что она не сможет работать и потеряет место, если будет так мало спать. Но она все равно как Том: сколько я ни говорю — ни капельки не слушается. — Ну, мама, ты же знаешь, какая у меня работа, не могу я рано приходить домой, — только и ответил Ретерер. — Да я умерла бы с тоски, если б мне пришлось просидеть вечер дома! — воскликнула Гортензия Бригс. — Целый день работаешь, надо же и повеселиться немножко. «Как у них приятно в доме, — думал Клайд. — Как легко, свободно! И как задорно и весело держатся эти девушки. Очевидно, их родители не находят в этом ничего дурного». Вот если бы у него была такая хорошенькая подруга, как эта Гортензия Бригс, с маленьким чувственным ротиком и блестящими дерзкими глазами… — Хватит с меня, если я два раза в неделю отосплюсь, — заявила Грета Миллер. — Отец думает, я сумасшедшая, а мне просто вредно много спать. Она весело рассмеялась. А Клайд слушал ее с восхищением, хоть она и пересыпала свою речь неправильными и вульгарными оборотами. Вот воплощение юности, веселья, свободы и любви к жизни!.. В эту минуту входная дверь распахнулась, и быстро вошла Луиза Ретерер, стройная, крепкая девушка среднего роста, в накидке на красной подкладке и в мягкой голубой фетровой шляпе, надвинутой на глаза. Луиза была подвижнее и энергичнее своего брата, мягче обеих своих подруг, и притом не менее хорошенькая. — Вот у нас кто! — воскликнула она. — Эти две девчонки и домой прилетели раньше меня! А я сегодня застряла из-за путаницы в отчетной книжке. Пришлось объясняться в конторе. И совсем я не виновата, можете поверить. Просто они не разбирают мой почерк. — И тут только заметив Клайда, она воскликнула: — Держу пари, что я знаю, кто это! Вы — мистер Грифитс! Том много про вас говорил. Я все удивлялась, почему он вас раньше не привел. И Клайд, крайне польщенный, пробормотал, что он рад был бы познакомиться раньше. Обе гостьи вместе с Луизой удалились в маленькую спальню, чтобы о чем-то посовещаться, но вскоре снова появились и после настойчивых уговоров, в которых, в сущности, не было надобности, решили остаться. Клайд благодаря их присутствию очень оживился, повеселел и всячески старался произвести приятное впечатление и завязать дружбу с девушками. А все три девушки, находя его симпатичным, так усиленно старались понравиться ему, что он первый раз в жизни почувствовал себя свободно в женском обществе, и к нему вернулся дар речи. — Мы пришли предупредить тебя, чтобы ты не слишком много ела, а сами уселись обедать, — со смехом говорила ГретаМиллер Луизе. — А у Китти будут и пироги, и пирожные, и всякие вкусные вещи. — Да, и после всего этого надо будет танцевать! — прибавила Гортензия. — Помоги нам боже, одно могу сказать! Ее рот и особенно улыбка казались Клайду прелестными; он был вне себя от восторга. Удивительная, очаровательная девушка! Она так поразила его, что он чуть не захлебнулся кофе. Он рассмеялся в приступе неудержимого веселья. В этот миг она обернулась к нему и воскликнула: — Смотрите, что я с ним сделала! — Вы еще гораздо больше сделали! — сказал Клайд, ощущая внезапный прилив вдохновения и храбрости. В обществе Гортензии он вдруг почувствовал себя дерзким и смелым, хотя и немного поглупевшим, и прибавил: — Знаете, тут столько красивых девушек, что у меня голова кружится! — Ну, не сдавайся так быстро, — добродушно предостерег Ретерер. — Они зацапают тебя и заставят водить их, куда им вздумается. Лучше не связывайся. И в самом деле, Луиза Ретерер, нисколько не смущаясь тем, что сказал брат, обратилась к Клайду: — Вы, конечно, танцуете, мистер Грифитс? — Нет, я не умею, — ответил Клайд, мгновенно отрезвленный этим вопросом; в эту минуту он от души пожалел, что не обладает столь необходимым качеством. — Но сейчас мне ужасно хотелось бы уметь, — галантно прибавил он и почти умоляюще взглянул сначала на Гортензию, а затем на Грету Миллер и Луизу. Все сделали вид, что не заметили этого предпочтения, хотя оно приятно пощекотало самолюбие Гортензии. Она еще не была уверена, так ли уж ее интересует Клайд, но столь легко и с таким блеском восторжествовать над подругами — это уже кое-что! И подруги это почувствовали. — Да, плохо дело. — Теперь, уверенная, что Клайд предпочитает ее остальным, она говорила с ним равнодушно и несколько свысока. — Если бы вы танцевали, вы и Том могли бы пойти с нами. У Китти почти все время будут танцевать. Клайд был уничтожен. Подумать только: эта девушка, к которой его влечет сильнее, чем ко всем остальным, так легко отталкивает его со всеми его мечтами и желаниями только потому, что он не умеет танцевать. И во всем виновато его проклятое воспитание. Он чувствовал себя разбитым, обманутым. Каким простофилей они его считают! Вот и Луиза смотрит удивленно и равнодушно. Но тут Грета Миллер, которая нравилась ему меньше, чем Гортензия, пришла к нему на помощь: — Можно и научиться, — это не так уж трудно. Если хотите, я после обеда в пять минут вас обучу. Надо только запомнить несколько па. И тогда вы сможете пойти с нами, если хотите. Клайд обрадовался и стал благодарить. Он непременно научится танцевать — здесь или в другом месте, при первом же удобном случае. Почему он раньше не пошел в школу танцев, спрашивал он себя. Но особенно огорчало его видимое равнодушие Гортензии — и это после того, как он ясно показал, что она ему нравится. Может быть, он потому и не интересует ее, что существует этот Берт Гетлер, которого тут поминали и с которым она ходила танцевать. Ну до чего ему всегда не везет в этих делах! Но когда обед кончился и все еще разговаривали, сидя за столом, именно Гортензия завела граммофон и первая предложила дать ему урок танцев: она и тут не хотела позволить сопернице одержать над нею верх. Клайд ей вовсе не нравился, во всяком случае не так, как Грете. Но если подруга намерена добиться успеха таким способом, то почему бы ее не опередить? И вот, пока Клайд удивлялся перемене в поведении Гортензии и вообразил уже, будто она относится к нему лучше, чем ему казалось, она взяла его за руки, думая при этом, что он чересчур застенчив. Она обвила его руку вокруг своей талии, другую руку вложила в свою, держа ее на уровне плеча, и, приказав ему внимательно следить за каждым движением ног; начала показывать основные па танца. Но как ни был он усерден и благодарен, почти смешон в своем напряженном усердии, Гортензии он не очень нравился: она находила, что он простоват и слишком юн. И все же было в нем что-то милое, что вызывало у нее желание помочь ему. Скоро он уже танцевал с ней совсем легко, а потом танцевал и с Гретой и с Луизой, но все время думал только о Гортензии. В конце концов все признали, что он достаточно наловчился и может идти с ними, если хочет. Клайду непременно хотелось оставаться возле Гортензии и еще потанцевать с нею. И хотя в это время появились три молодых человека, в том числе пресловутый Берт Гетлер, готовые сопровождать девиц к Китти, и хотя он еще раньше уговорился с Ретерером пойти в театр, — Клайд не мог скрыть желания отправиться с остальными, так что Ретерер в конце концов согласился оставить мысль о театре. Вскоре вся компания вышла из дома, и Клайд, огорченный тем, что он не может идти с Гортензией, которую сопровождал Гетлер, немедленно возненавидел соперника; все же он старался быть любезным с Луизой и Гретой, которые оказывали ему достаточно внимания, чтобы он мог чувствовать себя свободно. Ретерер заметил его увлечение Гортензией и, улучив удобную минуту, когда они остались вдвоем, шепнул ему: — Ты не очень бегай за этой Гортензией Бригс. По-моему, она просто кокетка. Вертит и Гетлером и другими. Ты только будешь плясать под ее дудку и ничего от нее не добьешься. Но это честное дружеское предупреждение уже не могло образумить Клайда. Колдовство улыбки, магическая прелесть и сила юности, чувствовавшаяся в каждом ее движении, — все это окончательно вскружило ему голову, и он готов был отдать и сделать все что угодно еще за одну улыбку, за один взгляд, за пожатие руки. А ведь перед ним была девушка, которая не больше мотылька знала, к чему она стремится, и лишь недавно поняла, как удобно и выгодно использовать юношей ее возраста или немного старше для того, чтобы получать любые развлечения и наряды, какие она только пожелает.Вечеринка оказалась обычным сборищем молодежи, где бурно проявляется стремление девушек и юношей подыскать себе пару. Китти Кин жила в простеньком домишке на бедной улице, где стояли голые декабрьские деревья. Но Клайду, внезапно охваченному страстью к хорошенькому личику, все вокруг казалось ярким, веселым и романтичным. Девушки и юноши, которых он встретил там, — девушки и юноши типа Ретерера, Хегленда, Гортензии, — все еще были для него истинным воплощением силы, непринужденности и самоуверенности, а он готов был душу отдать, лишь бы самому обладать этими качествами. Любопытно, что Клайд хотя и нервничал немного, но благодаря новым друзьям быстро освоился и принял участие в общем веселье. Для него это был случай наблюдать, как ведут себя и как развлекаются известного типа девушки и юноши, — зрелище, какого он не видел раньше, к своему счастью или несчастью, как вам угодно. Здесь, например, были в ходу особенно чувственные танцы, и Луиза, Грета и Гортензия предавались им с величайшей беспечностью. Многие молодые люди принесли с собой виски в карманных флягах и не только потягивали сами, но и угощали других — и юношей и даже девушек. Общая веселость от этого немало усилилась, отношения между юношами и девушками стали интимнее, флирт смелее. Гортензия, Луиза и Грета тоже принимали в этом участие. Иногда вспыхивали ссоры. И, очевидно, здесь считалось самым обычным делом, если молодой человек обнимал девушку где-нибудь за дверью, или держал ее у себя на коленях, сидя на стуле в каком-нибудь укромном уголке, или полулежал с ней на диване, нашептывая интимные и, несомненно, приятные ей признания. Правда, Клайд ни разу не заметил, чтобы Гортензия лежала в подобной позе на диване, но и она, как он видел, преспокойно усаживалась на колени к разным юношам и шепталась с ними за дверьми. И это так обескураживало и злило его, что он решил больше не иметь с ней дела: слишком она доступна, вульгарна и безрассудна! Чтобы не показаться менее светским и опытным человеком, чем другие, Клайд пробовал все напитки, которые ему предлагали, пока наконец не набрался необычайной для него храбрости и дерзости, — тут он осмелился, не то умоляя, не то упрекая, заговорить с Гортензией о ее слишком вольном поведении. — Вы кокетка, вот что. Вам все равно, кому кружить голову, да? Он сказал это, танцуя с ней после часу ночи. Юнец по фамилии Уилкинс играл на изрядно расстроенном пианино, а Гортензия с добродушным и кокетливым видом показывала Клайду новые па и смотрела на него томно и весело. — Что вы хотите сказать? Не понимаю. — Ах, не понимаете? — сказал Клайд сердито, но все же с натянутой улыбкой, за которой он пытался скрыть свое подлинное настроение. — Я уже слышал о вас. Вы всем кружите головы. — Вот как? — воскликнула она с досадой. — Ну, вам-то я, кажется, не очень старалась вскружить голову? — Да ну, не сердитесь, — сказал он просительно и вместе с тем ворчливо, опасаясь, что, пожалуй, зашел слишком далеко и может совсем потерять ее. — Я не хотел сказать ничего обидного. Ведь вы же позволяете многим парням за вами ухаживать. Во всяком случае, вы им нравитесь. — Ну да, конечно, нравлюсь. Но что же я могу поделать? — Так вот что я вам скажу, — хвастливо, с азартом выпалил он, — я могу тратить на вас куда больше, чем любой из них. У меня денег хватит. Только за минуту перед тем он подумал о пятидесяти пяти долларах, которые уютно лежали у него в кармане. — О, не знаю, — возразила она, очень заинтересованная этим, так сказать, денежным предложением и в то же время очень гордая своей способностью так воспламенять чуть ли не всех молодых людей. Гортензия была не слишком умная девушка, очень легкомысленная и самовлюбленная; она не могла спокойно пройти мимо зеркала: каждый раз восхищалась своими глазами, волосами, шеей, руками и практиковалась в особенно пленительных улыбках. Притом Гортензия не осталась равнодушна к тому, что Клайд был красив, хотя и очень юн. Она любила поддразнивать таких желторотых. С ее точки зрения, он был глуповат. Но он служил в «Грин-Дэвидсон», хорошо одевался, и, наверно, как он сказал, у него достаточно денег, и он охотно будет тратить их на нее. Иные юнцы, которые особенно нравились ей, имели в своем распоряжении не слишком много денег. — Найдется сколько угодно таких, кто с удовольствием потратит на меня свои деньги! Она тряхнула головой, взмахнула ресницами и снова улыбнулась своей самой пленительной улыбкой. Лицо Клайда сразу омрачилось. Он был слишком слаб перед ее чарами. Лоб его покрылся морщинами, затем снова разгладился. Глаза горели, в них было страстное желание и горечь, давняя досада на жизнь и раздражение обойденного и обиженного. Конечно, Гортензия сказала правду. Найдутся люди, у которых денег больше, чем у него, и которые могут больше на нее тратить. Он смешон со своим хвастовством, и она насмехается над ним. Помолчав, он прибавил уныло: — Наверно, вы правы. Но никто не любит вас так, как я! Бескорыстная искренность этих слов польстила Гортензии. В конце концов он не так уж плох. Они грациозно скользили под звуки неумолкавшей музыки. — О, я не всегда так флиртую, — сказала она. — Ведь тут мы все свои, все хорошо знаем друг друга, всюду бываем вместе. Вы не должны осуждать нас. Это была только искусная ложь, но все-таки она успокоительно подействовала на Клайда. — Я бы отдал все на свете, только бы вы лучше относились ко мне, — молил он в отчаянии и восторге. — Я никогда не видел девушки лучше вас! Вы замечательная! Я от вас без ума! Давайте как-нибудь пообедаем вместе, а потом сходим в театр. Хорошо? Хотите завтра вечером или в воскресенье? Эти вечера у меня свободные, а в остальные я работаю. Она сначала колебалась, потому что даже теперь не была уверена, что захочет продолжать это знакомство. Ведь есть еще Гетлер, не говоря уже о многих других, и все они ревнивы и внимательны. Хотя Клайд и готов тратить на нее деньги, но, может быть, лучше с ним не связываться. Он и сейчас уже слишком пылок, и, пожалуй, с ним будет много хлопот. Но в то же время кокетство — вторая натура Гортензии — не позволяло ей оттолкнуть Клайда. Вдруг он попадет в руки Греты или Луизы! И поэтому в конце концов она согласилась встретиться с ним в следующий вторник. Но он не должен приходить к ней домой и не должен провожать ее сегодня, у нее есть провожатый — мистер Гетлер. А во вторник в половине седьмого она будет около отеля «Грин-Дэвидсон». Он обещал ей обед у Фриссела, а затем они посмотрят «Корсара», музыкальную комедию в театре Либби, всего в двух кварталах от ресторана.
Глава 12
Каким бы пошлым и заурядным ни показалось многим это знакомство, для Клайда оно было преисполнено значительности. До сих пор никогда ни одна девушка, да еще такая очаровательная, не удостаивала его даже взглядом, — так он, по крайней мере, воображал. А теперь он встретил красивую девушку, и она настолько им заинтересовалась, что согласилась пообедать с ним и пойти вместе в театр. Пожалуй, она и вправду кокетка и ни с кем не бывает искренней, и маловероятно, что она так быстро подарит ему свое расположение, но — кто знает, кто может сказать?.. Верная своему обещанию, Гортензия действительно пришла во вторник на угол Четырнадцатой и Вайандот-стрит, неподалеку от «Грин-Дэвидсона». Клайд был так взволнован, польщен, обрадован, что с трудом мог привести в порядок свои мысли и чувства. Стараясь показать, что достоин Гортензии, он особенно тщательно позаботился о своей внешности: напомадил волосы, надел галстук бабочкой, новое шелковое кашне, шелковые носки, чтобы заметней были ярко-коричневые ботинки, купленные специально для этого случая. Но когда они встретились, он так и не понял, обратила ли она на все это хоть малейшее внимание. В конце концов она интересовалась только своей собственной внешностью. К тому же — это была ее обычная уловка — она заставила Клайда прождать почти до семи часов, и за это время он успел впасть в глубочайшее уныние. А что, если она за эти дни потеряла всякий интерес к нему и не хочет больше с ним встречаться? Что ж, тогда придется обойтись без нее. Но это доказало бы, что он не интересен такой красивой девушке, как она, несмотря на свой нарядный костюм и на все свои деньги. Он решил, что его подруга — если это не будет Гортензия — непременно должна быть красивой. Некрасивая ему не нужна. Ретереру и Хегленду как будто все равно, хороши ли собой их знакомые девушки, но для него это страшно важно! От одной мысли о том, чтобы удовольствоваться менее привлекательной девушкой, чем Гортензия, Клайду становилось тошно. И вот он стоит на улице, в тени подъезда, а вокруг сияние огней, вывесок и реклам, сотни пешеходов спешат во всех направлениях, и почти на всех лицах — мысль о предстоящих развлечениях и встречах, а он — он один, и, возможно, сейчас ему придется вернуться и пойти куда-то: обедать — одному, в театр — одному, и домой он вернется один, а завтра утром опять на работу. Клайд уже почти решил, что его постигла неудача, как вдруг неподалеку в толпе увидел Гортензию. Она была изящно одета: в черном бархатном жакете с красновато-коричневым воротником и обшлагами и в большой круглой бархатной шляпе с красной кожаной пряжкой сбоку. Щеки и губы были слегка подкрашены. Глаза блестели. И, как всегда, она была, видимо, очень довольна собой. — Хэлло, я опоздала, да? Но я никак не могла поспеть вовремя. Понимаете, я забыла, что обещала увидеться с одним парнишкой — это мой друг, тоже чудный мальчик, — и только в шесть часов вспомнила, что у меня назначено два свидания. Вышло так неприятно. Мне надо было предупредить кого-нибудь из вас. Я совсем уже собралась позвонить вам и уговориться на другой вечер, да вспомнила, что вас нет на службе после шести. Том никогда не задерживается после шести. А Чарли всегда на работе до половины седьмого и даже позже иногда, и он очень милый мальчик — никогда не дуется и не ворчит. Он тоже хотел сегодня повести меня в ресторан и потом в театр. Он работает в табачном киоске в «Орфии». Ну вот, я ему позвонила. Он был не очень-то доволен. Но я сказала, что мы встретимся в другой вечер. Ну, что же, вы рады? Вы понимаете, что ради вас я огорчила Чарли, такого красивого мальчика? Она уловила тревожное, ревнивое и в то же время робкое выражение, мелькнувшее в глазах Клайда, пока она говорила о другом своем поклоннике. Мысль, что можно заставить его ревновать, привела Гортензию в восторг. Итак, она окончательно покорила его! И она тряхнула головой и улыбнулась, идя с ним в ногу. — Еще бы, так мило с вашей стороны, что вы пришли. Клайд заставил себя сказать это, хотя от ее слов о Чарли, «чудном мальчике», у него перехватило горло и сердце сжалось. Ну разве сможет он удержать такую красивую и такую своевольную девушку! — А у вас сегодня шикарный вид, — продолжал он, заставляя себя поддерживать разговор и сам немного удивляясь, что ему это удается. — Вам идет эта шляпка, и жакет тоже. Он не отрываясь смотрел на нее, и в глазах его светилось восхищение и жадная, голодная страсть. Он хотел бы поцеловать ее прямо в губы, но не смел здесь, на улице, да и нигде пока не осмелился бы. — Не удивительно, что все вас приглашают. Вы такая красивая!.. Хотите приколоть к жакету розы? Они проходили в эту минуту мимо цветочного магазина, и у Клайда явилась мысль поднести ей цветы. Он слышал от Хегленда, что женщины любят мужчин, которые делают им подарки. — Да, конечно, от роз я не откажусь, — ответила Гортензия, входя в магазин. — Или, пожалуй, лучше букетик фиалок. Они такие милые. И они, кажется, больше подойдут к моему жакету. Ей понравилось, что Клайд подумал о цветах. И он говорил ей такие приятные вещи. В то же время она была убеждена, что он очень мало знает девушек, а может быть, и вовсе не знает. А она предпочитала мужчин и юношей более опытных, которые не так легко покорялись бы ей, которых было бы не так легко удержать. Однако она не могла не думать, что Клайд чем-то лучше мужчин, к которым она привыкла, тоньше, благороднее. И потому, несмотря на всю его неуклюжесть (с ее точки зрения), она готова была оставить его около себя и посмотреть, как он будет вести себя дальше. — Вот эти шикарные! — воскликнула она, выбрав довольно большой букет фиалок и прикладывая их к жакету. — Эти мне нравятся! И пока Клайд расплачивался, она вертелась перед зеркалом, пристраивая фиалки по своему вкусу. Наконец, довольная эффектом, она обернулась к Клайду с возгласом: — Ну вот, я готова! — и взяла его под руку. Клайд, немало напуганный ее развязными манерами, не знал, что сказать. Но напрасно он тревожился — Гортензия всецело была поглощена собственной персоной. — Ну, скажу я вам, и неделька же у меня выдалась! Каждый вечер танцы. Возвращалась домой в три часа. А в воскресенье танцевали почти до утра. Да, скажу я вам, последний вечер был самый трудный. Вы были когда-нибудь у Бэркета? Это у перевоза Гиффорда, знаете? Очень модное место, замечательное, немного дальше «Биг-блю» на Тридцать девятой улице. Летом дансинг, а зимой тут же каток и можно танцевать на льду. И очень милый маленький оркестр. Клайд любовался игрой ее губ, блеском глаз и живостью жестов, очень мало задумываясь над тем, что именно она говорит. — С нами был Уоллес Трон… Ну и мальчишка! Когда мы стали есть мороженое, он пошел в кухню, вымазал лицо сажей, взял у официанта куртку и передник и стал нам прислуживать. Смешной мальчишка! А какие фокусы он проделывал с тарелками и ложками! Клайд вздохнул: он отнюдь не отличался такими талантами, как этот Трон. — А потом, в понедельник утром, мы все вернулись домой около четырех часов, а в семь мне уже нужно вставать. Я была как вареная рыба. Меня бы уволили, если б не славный народ в магазине и не мистер Бек. Это, знаете, заведующий в моем отделе. По правде говоря, я его так мучаю, беднягу. В магазине я делаю, что хочу. Раз я очень опоздала после завтрака; одна подруга взяла мою карточку и отбила за меня время на контрольных часах, понимаете? А тут вошел мистер Бек и увидел ее. А после, уже часа в два, он мне говорит: «Послушайте, мисс Бригс (он всегда называет меня мисс Бригс; я не позволяю называть себя по-другому. Он еще стал бы вольничать, если бы я позволила), этот номер не пройдет — передавать карточку. Надо бросить эти штучки». А я только расхохоталась. Он иногда так брюзжит на нас! Но я все равно поставила его на место. Он, понимаете ли, немножко неравнодушен ко мне — кто-кто, а он меня ни за что на свете не уволит. Я и говорю ему: «Послушайте, мистер Бек, вы со мной не разговаривайте таким тоном. Я не часто опаздываю, у меня нет такой привычки. И потом, я могу найти себе и другую службу в Канзас-Сити. Если уж так повелось, что стоит мне в кои-то веки опоздать, как сразу начинаются разговоры, — так, пожалуйста, увольняйте меня, и все». Не могла же я позволить, чтобы он говорил со мной таким тоном. Как я думала, так и вышло, — он сразу сдался. Он только сказал: «Ну, все равно, я вас предупредил. В другой раз вас может увидеть мистер Тирни, и тогда вы попробуете, каково служить в другом месте». Конечно, он сказал это все ради смеха и знал, что я тоже дурачусь. Я расхохоталась. А через две минуты он смеялся с мистером Скоттом, я видела. Но, черт возьми, я иногда выкидываю там штучки! Наконец они подошли к ресторану Фриссела, и Клайд, не сказавший за всю дорогу и двух слов, вздохнул с облегчением. В первый раз в жизни он мог гордиться тем, что угощает девушку в таком шикарном месте. Теперь он и в самом деле кое-чего добился. У него — настоящий роман! Гортензия так высоко ценила себя, так настойчиво подчеркивала свои приятельские отношения с множеством девушек и молодых людей, весело проводящих время, что Клайду казалось, будто до сих пор он вовсе и не жил. Он быстро вспоминал, о чем она рассказывала: Бэркет, катание на коньках и танцы на льду… Уоллес Трон… молодой продавец из табачного киоска, с которым она должна была встретиться сегодня… мистер Бек, ее начальник в магазине, настолько влюбленный, что не в силах ее уволить… И, глядя, как она, совсем не думая о состоянии его кошелька, заказывает обед по своему вкусу, Клайд любовался ее лицом, фигурой, формой кисти, по которой можно судить об изяществе и красоте всей руки, высокой, вполне сформировавшейся грудью, изгибом бровей, нежной округлостью щек и подбородка. Притом Клайда волновал ее мягкий, вкрадчивый голос. Он был восхищен. Вот если бы такая девушка принадлежала ему! А она и здесь, как на улице, продолжала болтать о себе, и на нее, видимо, не производило никакого впечатления, что она обедает в таком месте, которое Клайду казалось совершенно замечательным. В те минуты, когда Гортензия не смотрелась в зеркало, она изучала меню и выбирала, что ей нравится: барашек в мятном желе… нет, омлет она не любит и ростбиф тоже… Ах, вот что: филе-миньон с грибами… В конце концов она прибавила к этому сельдерей и цветную капусту. И ей хотелось бы коктейль. Да, да, Клайд слышал от Хегленда, что обед ничего не стоит без маленькой выпивки, и потому нерешительно предложил коктейль. А Гортензия, выпив коктейль, потом другой, стала еще оживленнее, веселее и болтливее, чем прежде. Но Клайд заметил, что она продолжает держаться с ним несколько отчужденно, безразлично. Когда он робко пытался перевести разговор на их отношения, на свое чувство к ней, выяснить, не влюблена ли она в кого-нибудь другого, она обрывала его, заявляя, что ей нравятся все молодые люди: все одинаково. Они все так милы, так внимательны к ней. Да так и должно быть! Иначе она не станет вести с ними знакомство. Тогда они ей ни к чему! Ее живые глаза сверкали, и она вызывающе встряхивала головой. И Клайд был пленен всем этим. Ее жесты, позы, гримаски, все ее движения были чувственными и многообещающими. Казалось, ей нравилось дразнить, обещать, делать вид, что она готова сдаться, а затем отказываться от всех обещаний, притворяясь целомудренно-сдержанной, словно у нее и в мыслях не было того, что ей приписывали. Клайда возбуждало и приводило в трепет уже одно то, что она была здесь, рядом. Это была пытка, но сладкая пытка. Он был полон мучительных мыслей о том, как было бы чудесно, если бы Гортензия позволила ему обнять ее, поцеловать, даже укусить. Прижаться губами к ее губам! Задушить ее поцелуями и ласками! По временам она бросала на него умышленно томный взгляд, и он ощущал болезненную слабость, до головокружения. Он мечтал только об одном: что когда-нибудь упорным ухаживанием или деньгами он заставит ее полюбить себя. Но и после того, как они побывали в театре, а затем он доставил ее домой, Клайд не достиг сколько-нибудь заметного успеха. Так как Гортензия мало интересовалась Клайдом, она во время представления «Корсара» в театре Либби с искренним интересом следила за спектаклем, говорила только о пьесах, которые видела раньше, высказывала свое мнение об актерах и актрисах, вспоминала, кто именно из поклонников водил ее на ту или иную пьесу. И Клайд, вместо того чтобы соперничать с ней в остроумии и высказывать собственные суждения, был вынужден только поддакивать ей. А она все время думала об одержанной ею новой победе. И так как она давно уже перестала быть добродетельной и поняла, что у него есть кое-какие деньги и он готов тратить их на нее, она решила, что будет в меру мила с ним — ровно настолько, чтобы удержать его, не больше. В то же время она, по своему обыкновению, будет как можно больше развлекаться с другими, а Клайда заставит покупать ей разные вещи и занимать ее в те дни, когда у нее не будет других достаточно интересных приглашений.Глава 13
Так продолжалось по меньшей мере четыре месяца. После того первого вечера Клайд значительную часть своего свободного времени посвящал Гортензии, пытаясь заинтересовать ее в такой же мере, в какой она, видимо, интересовалась другими молодыми людьми. А между тем он не мог бы сказать, способна ли она по-настоящему привязаться к кому-нибудь одному, но и не мог поверить, чтобы у нее были со всеми только невинные товарищеские отношения. Однако она была так соблазнительна, что он с ума сходил: если его худшие подозрения справедливы, быть может, в конце концов она окажется благосклонной и к нему. Он был так одурманен чувственной атмосферой, окутывавшей Гортензию, ее изменчивостью, желанием, явственно сквозившим в ее жестах, настроениях, голосе, манере одеваться, что и подумать не мог отказаться от нее. Словом, он глупо бегал за ней. А она, видя это, не подпускала его близко, порой избегала, заставляла его довольствоваться жалкими крохами своего внимания и вместе с тем милостиво посвящала в подробности своих увеселений в обществе других молодых людей. Он чувствовал, что не в силах больше вот так бегать за нею, и в ярости давал себе слово прекратить эти встречи. Право, ничего хорошего у него с нею не выйдет. Но при новом свидании, видя то же холодное равнодушие в каждом ее слове и каждом поступке, он терял мужество и не в силах был порвать свои оковы. И при этом Гортензия не стеснялась говорить ему, что из вещей ей нужно и что хотелось бы иметь; сперва это были мелочи: новая пуховка для пудры, губная помада, коробка пудры или флакон духов. Потом она осмелела и в разное время, под разными предлогами говорила Клайду о сумках, блузках, туфельках, чулках, шляпе, которые она с удовольствием купила бы, будь у нее деньги; меж тем она не шла на уступки, отделываясь уклончивыми, мимолетными ласками, изредка с томным видом разрешая обнять себя; эта томность много обещала, но обещанное никогда не сбывалось. И Клайд, чтобы снискать ее расположение и доверие, покупал все эти вещи, хотя подчас из-за того, что происходило у него в семье, эти траты были ему не под силу. Однако к концу четвертого месяца он стал понимать, что очень мало продвинулся вперед: благосклонность Гортензии так же далека от него сейчас, как и в начале их знакомства. Словом, он жил в лихорадочной, мучительной погоне за нею без сколько-нибудь определенной надежды на награду. А тем временем в доме Грифитсов по-прежнему царили органически присущие всем членам этой семьи беспокойство и подавленность. С исчезновением Эсты начался период уныния, и ему не видно было конца. Для Клайда положение осложнялось мучительно дразнящей, больше того — раздражающей таинственностью, ибо ни одни родители не могли бы проявить большую щепетильность, чем Грифитсы, в тех случаях, когда в семье происходило что-либо, связанное с вопросами пола. И особенно это относилось к тайне, с некоторых пор окружавшей Эсту. Она сбежала. И не вернулась. И, насколько знали Клайд и остальные дети, от нее не было никаких вестей. Однако Клайд заметил, что после первых недель ее отсутствия, когда мать и отец чрезвычайно тревожились, мучаясь вопросами — где она и почему не пишет, они вдруг перестали волноваться и как будто примирились с тем, что произошло: по крайней мере они уже не так терзались положением, которое прежде казалось совершенно безнадежным. Он не мог этого понять. Перемена была очень заметна, и, однако, никто не сказал ни слова в объяснение. Немного позже Клайд заметил, что мать с кем-то переписывается, а это бывало не часто: у нее почти не было знакомств и деловых связей, и письма она получала или писала очень редко.Однажды, вскоре после того, как Клайд стал работать в отеле «Грин-Дэвидсон», он пришел домой раньше обычного и застал мать, склонившуюся над письмом, очевидно только что полученным и очень важным для нее. И, вероятно, в нем было что-то секретное, так как при виде Клайда мать тотчас прекратила чтение, торопливо и нервно встала и отложила письмо, ничего не объясняя. Но Клайд почему-то — может быть, чутьем — понял, что это письмо от Эсты. Он не был уверен. Он стоял далеко и не мог узнать почерка. Но как бы то ни было, мать ничего потом не сказала ему об этом письме. Выражение ее лица говорило, что она не желает расспросов, и столько сдержанности было в их отношениях, что Клайду и в голову не пришло расспрашивать. Он просто удивился, а потом почти забыл об этом случае. Через месяц или немного больше, когда он уже неплохо освоился с работой в отеле и увлекся Гортензией Бригс, мать вдруг обратилась к нему с очень странным вопросом. Однажды, когда он только что вернулся с работы, она позвала его в зал миссии. Не объясняя для чего ей это нужно, и не говоря прямо, что теперь Клайд, по ее мнению, более или менее в состоянии помочь ей, мать сказала, пристально и с волнением глядя на него: — Клайд, ты не знаешь, как бы мне достать сейчас сто долларов? Клайд был так удивлен, что едва мог поверить своим ушам: всего несколько недель назад заговорить с ним о сумме большей, чем четыре-пять долларов, было бы совершенной нелепостью. Мать это знала. А теперь она обращалась к нему, словно подозревая, что он может достать для нее такие большие деньги. И правильно, ведь его одежда и весь его вид говорили, что для него наступили лучшие дни. Прежде всего он подумал об одном: конечно, мать заметила, как он одет и какой образ жизни ведет, и пришла к убеждению, что он обманывает ее относительно размеров своего заработка. И отчасти это было верно; но поведение Клайда в последнее время так изменилось, что матери тоже пришлось совсем изменить свое с ним обращение: она теперь сомневалась, удастся ли ей в дальнейшем сохранить свою власть над ним. В последнее время — с тех пор как он поступил на новое место — ей почему-то казалось, что он стал благоразумнее, увереннее в себе, меньше поддается сомнениям и намерен жить по-своему и сам за себя отвечать. Это ее немало тревожило, но, с другой стороны, нравилось ей. Чувствительная и беспокойная натура Клайда всегда была загадкой для матери, и видеть его наконец самостоятельным — это уже кое-что; правда, замечая, каким он становится франтом, она порою тревожилась и с недоумением спрашивала себя: в какую компанию он попал? Но, поскольку работа в отеле отнимала у него так много времени, а весь свой заработок он, очевидно, тратил на одежду, она считала, что у нее нет оснований жаловаться. Еще одно опасение мелькало у нее: не ведет ли он себя слишком эгоистично, не чересчур ли заботится о собственном благополучии. Но, зная, как долго он был лишен всяких удовольствий, она не могла слишком сурово порицать его теперь за желание развлечься. Клайд смотрел на мать, не вполне понимая, что у нее на уме. — Но где же я достану сто долларов, мама?! — воскликнул он. Он уже видел мысленно, как в результате таких вот неслыханных и необъяснимых требований иссякает только что обретенный им источник богатства, и на его лице отразилось огорчение и недоверие. — Я и не думала, что ты можешь достать для меня всю эту сумму, — деликатно ответила миссис Грифитс. — У меня есть план, я надеюсь сама достать большую часть денег. Я только хочу, чтобы ты посоветовал мне, как добыть остальное. Я не хотела бы обращаться к твоему отцу, если этого можно избежать, а ты становишься уже достаточно взрослым, чтобы немного помочь мне. — Она с интересом и одобрением смотрела на Клайда. — Отец не силен в деловых вопросах, — продолжала она, — и у него без того много забот. Она устало провела широкой ладонью по лбу; Клайд видел, что она попала в очень затруднительное положение, и ему стало жаль ее, хоть он и не знал, в чем дело. Притом, помимо нежелания расстаться с деньгами, в нем заговорило любопытство: для чего все это? Сто долларов! Вот так номер! — Я тебе скажу, какой у меня план, — после паузы прибавила мать. — Мне необходимы сто долларов, но я не могу сейчас сказать тебе, да и никому другому, для чего, и ты меня не спрашивай. Вот здесь, в столе, старые золотые часы отца и мое золотое кольцо и булавка. Если их продать или заложить, за все должны дать двадцать пять долларов, не меньше. Потом есть еще мои серебряные ножи и вилки, и серебряное блюдо, и кувшин. (Клайд хорошо знал эти реликвии.) Одно это блюдо стоит двадцать пять долларов. Я думаю, за них тоже дадут долларов двадцать или двадцать пять. Если бы ты нашел где-нибудь по соседству с твоим отелем хороший ломбард и заложил бы все это и если бы потом ты некоторое время давал мне лишних пять долларов в неделю… (Лицо Клайда вытянулось.) Я могла бы попросить одного моего друга — мистера Мерча, ты его знаешь, он бывает у нас в миссии, — одолжить мне столько, сколько не хватит до сотни, а потом я смогу возвращать ему из тех денег, которые ты будешь мне давать. И у меня самой есть еще долларов десять. Она посмотрела на Клайда так, словно хотела сказать: «Надеюсь, ты не оставишь меня в беде», — и Клайд смягчился, хотя все это и значило, что теперь он не сможет, как рассчитывал, тратить на себя весь свой заработок. Он согласился отнести вещи в ломбард и давать матери на пять долларов в неделю больше до тех пор, пока не будет выплачен долг. И все же он не мог подавить невольную досаду. Так недавно он стал прилично зарабатывать — и вот мать требует все больше и больше. Уже десять долларов в неделю! Вечно у них что-нибудь не ладится, думал Клайд, вечно им что-нибудь нужно, и нет никакой уверенности, что потом не будет еще новых требований. Он взял вещи, снес их в самый солидный ломбард, какой только нашел, и взял предложенные ему за все сорок пять долларов. Стало быть, с десятью долларами матери получается пятьдесят пять, еще сорок пять она займет у мистера Мерча — и будет сотня. Это значит, что в течение девяти недель ему придется отдавать ей по десять долларов вместо пяти. Теперь, когда ему так хотелось жить совсем иначе, чем прежде, хорошо одеваться и не отказывать себе в удовольствиях, это открытие очень мало радовало его. Тем не менее он решил выполнить просьбу матери. В конце концов, он кое-чем ей обязан. Она принесла в прошлом немало жертв ради него и остальных детей, и он не решался быть слишком большим эгоистом. Это было бы непорядочно. И еще одна мысль упорно приходила ему на ум: если мать и отец будут рассчитывать на его денежную помощь, они станут больше с ним считаться. Прежде всего ему должны позволить поздно возвращаться домой по вечерам. Притом он одевался за свой счет и столовался в отеле, — а это, как он понимал, значительно сокращало расходы родителей. Однако вскоре перед Клайдом возникла новая задача. Вот как это произошло. Как-то после истории со ста долларами он случайно встретил мать на Монтроз-стрит, одной из беднейших улиц в городе; Монтроз-стрит тянулась к северу от улицы Бикел, где жили Грифитсы, и представляла собой два ряда деревянных двухэтажных домишек: тут сдавались внаем квартиры без мебели. Даже Грифитсы, при всей своей бедности, сочли бы унижением поселиться на такой улице. Мать спустилась с крыльца одного из домишек, несколько менее ветхого, чем другие; в окне нижнего этажа была выставлена бросавшаяся в глаза табличка: «Меблированные комнаты». Потом, не оборачиваясь и не замечая Клайда, шедшего по другой стороне улицы, она направилась к другому такому же дому, в нескольких шагах от первого: тут тоже было вывешено объявление о сдаче меблированных комнат. Мать внимательно оглядела дом, потом поднялась на крыльцо и позвонила. Клайду сперва показалось, что мать разыскивает кого-то, не зная точно адреса. Но, перейдя улицу как раз в ту минуту, когда хозяйка приоткрыла дверь, он услышал, как мать спросила: — У вас есть свободная комната? — Да, — был ответ. — С ванной? — Нет, но ванна есть во втором этаже. — Какая цена? — Четыре доллара в неделю. — Можно посмотреть? — Пожалуйста, войдите. Миссис Грифитс как будто колебалась. А Клайд в это время стоял внизу, в нескольких шагах от нее, и смотрел вверх, ожидая, когда она обернется и узнает его. Но она вошла в дом, не обернувшись. Клайд с любопытством смотрел ей вслед. Конечно, тут нет ничего необычайного, — вероятно, мать ищет комнату для какой-нибудь девушки… но почему здесь, на этой улице? Обычно она в таких случаях обращалась в Армию спасения или в «Союз молодых христианок». Первым его побуждением было подождать ее и расспросить, что она здесь делает, но ему предстояло еще несколько собственных дел, и он ушел. Вечером, зайдя домой переодеться, он застал мать в кухне. — А я видел тебя сегодня утром на Монтроз-стрит, мама, — сказал он. — Да? — чуть помедлив, отозвалась миссис Грифитс. Клайд заметил, что она вздрогнула, словно его сообщение застигло ее врасплох. Продолжая чистить картошку, она испытующе посмотрела на сына. — Ну и что же? — прибавила она спокойно, но при этом покраснела, чего с нею никогда не случалось в разговорах с сыном. И, конечно, ее волнение и испуг сильно заинтересовали Клайда. — Ты заходила в один дом, — наверно, искала комнату для кого-нибудь, — сказал он, внимательно глядя на мать. — Да, — ответила миссис Грифитс теперь уже довольно просто. — Мне нужна комната для одного человека, — он болен, и у него не очень много денег. Но подходящую комнату не так-то легко найти. Она отвернулась, словно не желая больше говорить на эту тему, и хотя Клайд почувствовал это, он, однако, не удержался и прибавил: — Ну, не такая это улица, чтобы снимать там комнату. Служба в «Грин-Дэвидсон» быстро научила его совсем по-иному рассуждать о том, где и как следует жить. Мать ничего не ответила, и он ушел в свою комнату переодеваться. Примерно через месяц, проходя поздно вечером по Миссури-авеню, Клайд снова невдалеке заметил мать, шедшую ему навстречу. При свете, падавшем из окна какой-то лавчонки, — такие маленькие лавочки тянулись вдоль всей этой улицы — Клайд увидел в руках матери довольно тяжелый старомодный саквояж, который давным-давно лежал в доме без употребления. Неожиданно она остановилась (потому что заметила его, как решил потом Клайд) и быстро вошла в подъезд трехэтажного кирпичного дома. Когда же Клайд подошел к этому дому, дверь его оказалась плотно прикрытой. Открыв ее, он увидел плохо освещенную лестницу; вероятно, мать поднялась по ней. Однако он не стал производить дальнейших расследований, он не был вполне уверен в своих догадках, — быть может, она зашла сюда просто навестить кого-нибудь, — все произошло слишком быстро. Но, подождав на ближайшем углу, он наконец увидел, что она вышла. С возрастающим любопытством Клайд следил, как она осторожно осматривалась, прежде чем пойти дальше. Это навело его на мысль, что она, видимо, прячется от него. Но почему? Клайда так поразило странное поведение матери, что он готов был пойти за ней следом. Но потом решил: раз она не хочет, чтобы он знал о ее делах, пожалуй, лучше не вмешиваться. В то же время ее настороженные движения возбудили в нем острое любопытство. Почему мать не хотела, чтобы он видел, как она идет куда-то с саквояжем? Уклончивость и скрытность были не в ее характере (в противоположность его собственному). Почти тотчас же он мысленно связал эту встречу с другой, возле меблированных комнат на Монтроз-стрит, и с тем случаем, когда он застал ее за чтением письма, и с ее усилиями достать вдруг понадобившиеся ей сто долларов. Куда же она ходила? Что скрывала? Размышляя об этом, Клайд никак не мог решить, имеет ли все это какое-то отношение к нему или к кому-либо из родных. Но примерно через неделю, проходя по Одиннадцатой улице, он вдруг увидел Эсту или по крайней мере девушку, чрезвычайно похожую на нее: тот же рост, та же походка; Клайду показалось только, что она старше сестры. Но она так быстро прошла и исчезла в толпе, что он не мог проверить, действительно ли то была Эста. Это было лишь мимолетное видение — такое яркое, что он повернулся и бросился вслед, но она уже скрылась. Все же он был убежден, что не ошибся, и потому тотчас пошел домой. Найдя мать в миссии, он объявил ей, что видел Эсту. Она вернулась в Канзас-Сити, никаких сомнений. Он видел ее на Одиннадцатой, недалеко от Балтимор-стрит. Мать ничего не знает? И тут Клайд с удивлением заметил, что мать приняла это известие не так, как он ожидал. В нем самом внезапное исчезновение, а теперь внезапное появление Эсты вызывало смесь удивления и радости, любопытства и сочувствия. Может быть, сто долларов нужны были матери для того, чтобы вернуть Эсту? Клайд не мог бы объяснить, откуда у него взялась эта мысль. Он терялся в догадках. Но если так, почему же Эста не явилась домой, хотя бы затем, чтобы известить семью о своем приезде? Он ожидал, что мать будет так же удивлена и озадачена, как и он сам, и поспешит расспросить его о подробностях. Вместо этого она казалась явно смущенной, застигнутой врасплох, словно услышала нечто ей уже известное и теперь не знала толком, как ей держаться. — Ты видел ее? Где? На Одиннадцатой улице? Только что? Вот странно! Нужно сказать об этом Эйсе. Почему же она не приходит сюда, если вернулась… В глазах матери Клайд увидел не удивление, а замешательство и тревогу. Ее рот, как всегда, когда она была смущена и расстроена,странно двигался, — вздрагивали не только губы, но и подбородок. — Вот так так! — прибавила она, помолчав. — Странно. Может быть, это была просто какая-нибудь девушка, похожая на Эсту? Но Клайд, искоса наблюдавший за матерью, не мог поверить ее притворному удивлению. Вскоре пришел Эйса, и Клайд, собираясь в отель, слышал, что они обсуждали новость как-то равнодушно, без всякого интереса, словно это событие вовсе не было столь поразительным, как казалось Клайду. Его так и не позвали рассказать о подробностях. Потом, как будто нарочно для того, чтобы он мог разгадать эту тайну, мать встретилась ему однажды на Спрус-стрит: она несла небольшую корзинку. С недавних пор он заметил, что она ежедневно по утрам и перед вечером стала уходить из дому. На этот раз, задолго до того, как мать могла увидеть его, он заметил ее характерную массивную фигуру в неизменном старом коричневом пальто и свернул за угол; спрятавшись за газетным киоском, он подождал, пока она пройдет, а затем пошел следом, держась поодаль, на расстоянии полуквартала. Она шла все дальше, вдоль ряда очень старых домов — бывших особняков, где теперь сдавались дешевые меблированные комнаты, и Клайд увидел, как она подошла к одному из этих домов и исчезла за дверью, но перед тем испытующе посмотрела по сторонам. Когда мать скрылась в подъезде, Клайд подошел ближе и с интересом осмотрел дом. Что ей здесь делать? К кому она ходит? Он с трудом мог бы объяснить себе свое неугомонное любопытство. Но с тех пор, как ему показалось, будто он видел Эсту, у него появилось смутное ощущение, что все это должно быть связано с ней: письма, сто долларов, меблированные комнаты на Монтроз-стрит. На углу, наискось от дома, стояло большое дерево, с которого зимний ветер давно сорвал все листья, и рядом, почти вплотную к широкому стволу, — телеграфный столб. Клайд спрятался за ними и с этого наблюдательного пункта, сам оставаясь незамеченным, следил за окнами дома. И вот в одном из окон второго этажа он увидел мать, которая расхаживала по комнате, словно у себя дома, а минутой позже с удивлением увидел Эсту: она подошла к одному из двух окон комнаты и положила на подоконник какой-то пакет. На ней было светлое домашнее платье или светлый платок на плечах. На этот раз нельзя было ошибиться. Клайд вздрогнул, поняв, что это в самом деле Эста и с ней мать. Но что она такое сделала? Из-за чего ей пришлось вернуться и почему она теперь прячется? Быть может, ее муж, человек, с которым она бежала, бросил ее? Его так мучило любопытство, что он решил подождать, пока не уйдет мать, а потом повидаться с Эстой. Ему так хотелось снова увидеть ее и узнать, что тут за тайна… Он ждал и думал о том, как он всегда любил Эсту и как странно, что она так таинственно прячется здесь. Час спустя мать вышла из дому; ее корзинка, по-видимому, была пуста, — она совсем легко держала ее в руке. И точно так же, как раньше, она осторожно оглянулась, и на лице ее застыло прежнее упрямое и все же озабоченное выражение: смесь упорной веры и тревожного сомнения. Клайд видел, как она пошла по направлению к миссии, и провожал ее глазами, пока она не скрылась из виду. Тогда он повернулся и вошел в дом. Как он и думал, это были меблированные комнаты: на многих дверях виднелись таблички с фамилиями жильцов. Клайд заранее рассчитал, где находится комната Эсты, и теперь прямо прошел к ее двери и постучал. Изнутри послышались легкие шаги, и после минутной задержки, — очевидно, были необходимы какие-то поспешные приготовления, — дверь приоткрылась и выглянула Эста. В первую секунду она недоверчиво смотрела на Клайда, потом вскрикнула от удивления и немного смутилась; настороженность исчезла: Эста поняла, что перед нею в самом деле Клайд, и распахнула дверь. — Клайд, ты? Как ты отыскал меня? А я только что о тебе думала! Клайд обнял ее и поцеловал. Он тут же с неудовольствием и огорчением заметил, что она сильно изменилась: похудела, побледнела, глаза ввалились, а одета ничуть не лучше, чем перед бегством. Она явно была чем-то взволнована и удручена. Клайд спрашивал себя, где же ее муж? Почему его здесь нет? Куда он девался? Клайд видел, что Эста рада свиданию с ним, но вместе с тем уловил в ее взгляде смущение и неуверенность. Губы ее приоткрылись, готовые улыбнуться ему и вымолвить слова привета, но по глазам было видно, что она старается решить какую-то нелегкую задачу. — Я не ожидала, что ты придешь, — прибавила она быстро, когда он выпустил ее из объятий. — Ты не видел… — Она остановилась на полуслове, явно боясь проговориться. — Да, конечно, я видел маму, — сказал он. — Поэтому я и узнал, что ты здесь. Я видел, как она вышла только что, и потом увидел тебя в окне (он не признался, что проследил, как мать пришла сюда, и подстерегал ее около часу). Но когда же ты вернулась? — продолжал он. — Почему ты никому из нас не давала о себе знать? Смотри, это просто значит задирать нос: исчезла на столько времени и никому ни звука! Все-таки ты могла бы написать мне два слова. Мы ведь всегда отлично ладили, правда? Он смотрел весело, пытливо и настойчиво. Сестра старалась уклониться от ответа и не знала, что ей думать и что говорить. Наконец она сказала: — А я не могла понять, кто это стучит. У меня здесь никто не бывает. Но как ты мило выглядишь, Клайд! У тебя прекрасный костюм. И ты очень вырос. Мама сказала мне, что ты работаешь в отеле «Грин-Дэвидсон». Она с восхищением смотрела на него, и Клайд был очень тронут. Но в то же время он продолжал думать о ее состоянии. Он упорно разглядывал ее лицо, глаза, похудевшую фигуру и, взглянув еще раз на ее талию и осунувшееся лицо, понял, что с нею неладно. Она ожидает ребенка. И вновь подумал: где же ее муж, тот человек, с которым она сбежала? В своей первой записке она сообщала, по словам матери, что выходит замуж. Однако теперь он ясно понимал, что замуж она не вышла. Она покинута, брошена в этой жалкой комнате, одинока. Он видел это, чувствовал, понимал. И тут же он подумал: в их злосчастной семье всегда так! Вот он только начинает жить самостоятельно, старается чего-то добиться, выйти в люди и приятно проводить время. И Эста тоже сделала такую попытку: она тоже старалась добиться чего-то лучшего — и вот чем все это кончилось! Он почувствовал тоску и обиду. — Давно ты вернулась, Эста? — повторил он нерешительно, не зная, что говорить. Он начал понимать, что раз Эста оказалась в таком положении, встреча с нею грозит ему новыми расходами, волнениями и несчастиями, — и почти раскаивался в своем любопытстве. Зачем ему понадобилось прийти сюда? Теперь, конечно, придется помочь. — Не так давно, Клайд, кажется, около месяца, не больше. — Я так и думал: я видел тебя с месяц назад на углу Одиннадцатой и Балтимор-стрит. Верно? Конечно, это была ты, — прибавил он уже не так весело; эту перемену в его тоне сразу заметила Эста. Она кивнула в подтверждение. — Я был уверен, что это ты. Я сразу сказал маме, но она тогда не согласилась со мной. Впрочем, она вовсе не так удивилась, как я думал. Теперь я понимаю почему. Она вела себя так, словно не хотела, чтобы я говорил с ней об этом. Но я знал, что не ошибся. Он посмотрел на сестру, гордый своей проницательностью, и замолчал, не зная, о чем еще говорить, и не совсем уверенный, был ли какой-нибудь смысл и значение в том, что он уже сказал. Вряд ли это могло помочь Эсте. И она тоже не знала, как быть: промолчать о своем положении или признаться во всем. Надо что-то сказать ведь. Клайд и сам может понять, как ужасно ее состояние. Ей трудно было выносить его испытующий взгляд. И, думая не столько о матери, сколько о том, чтобы самой как-то выйти из затруднения, она наконец сказала: — Бедная мама! Ты должен понять ее, Клайд. Она просто не знает, что делать. Конечно, это я виновата. Если б я не убежала, я бы не доставила ей столько хлопот. Она не привыкла иметь дело с такими вещами, и ей так трудно живется… Эста вдруг отвернулась, плечи ее вздрагивали. Она низко опустила голову, закрыла лицо руками, и Клайд понял, что она беззвучно плачет. — Ну, что ты, сестренка! — воскликнул Клайд, подходя ближе; в эту минуту ему было бесконечно жаль Эсту. — Что с тобой? Почему ты плачешь? Разве тот человек, с которым ты уехала, не женился на тебе? Она покачала головой и зарыдала еще сильнее. И тут Клайд понял все психологическое, общественное и биологическое значение того, что произошло с сестрой. С ней случилась беда: она беременна, без денег и без мужа. Вот почему мать искала комнату, вот почему пыталась занять у него сто долларов! Она стыдилась Эсты и ее положения, стыдилась не только того, что подумают посторонние, но и того, что подумают Клайд, Джулия и Фрэнк, как может повлиять на них положение сестры, — ведь в глазах людей оно безнравственно, противозаконно. И потому она от всех старалась скрыть историю с Эстой, рассказывала всякие небылицы, — это для нее, конечно, самое необычное и самое трудное. И все-таки она не достигла своей цели, ей явно не повезло. Клайд был снова смущен и озадачен — не только положением сестры и тем, как оно может отразиться на нем и на других членах семьи в таком городе, как Канзас-Сити, но еще и поведением матери, не вполне безупречным и даже отчасти безнравственным, ибо она решилась пойти на обман. Она уклонилась от прямого ответа, если не просто солгала: ведь она все время знала, что Эста здесь. И, однако, он не был склонен осуждать ее за это, вовсе нет. Ложь в этом случае, конечно, была необходимостью даже для такого набожного и правдивого человека, как его мать. Просто нельзя было допустить, чтобы это стало всем известно. Он, конечно, не хотел бы, чтобы посторонние узнали, что случилось с Эстой, и если бы мог — помешал бы этому. Что могут подумать люди? Что станут говорить о ней, да и о нем? Положение семьи и без того достаточно унизительно. И вот Клайд стоял растерянный и озабоченный и смотрел, как плачет Эста. А она, понимая, что это из-за нее он так озабочен и пристыжен, плакала еще сильнее. — Скверно, — помолчав, с беспокойством, но и не без сочувствия сказал Клайд. — Ты не убежала бы с ним, если бы не любила, правда? (Он думал о себе и Гортензии Бригс.) Мне очень жаль тебя, Эсс! Право, жаль. Но ведь слезами ничему не поможешь. Свет на нем клином не сошелся. Подожди, все будет хорошо. — Ах, не знаю, — всхлипывала Эста. — Но я была так глупа. И мне было так трудно… А теперь у мамы и у всех вас столько забот из-за меня… — Она всхлипнула. Потом, помолчав, прибавила: — Он уехал и оставил меня одну в Питсбурге, в отеле, совсем без денег. Если б не мама, не знаю, что бы я стала делать. Она прислала мне сто долларов, когда я ей написала. Одно время я работала в ресторане, пока могла. Я не хотела писать домой про то, что он меня бросил. Мне было стыдно. Но под конец мне ничего другого не оставалось, — я так скверно стала себя чувствовать… Она опять заплакала, и Клайд, поняв, сколько мать делала для Эсты и как старалась помочь ей, жалел теперь мать почти так же, как и сестру, и даже больше: ведь об Эсте заботится мать, а у матери, в сущности, нет никого, кто мог бы ей помочь. — Я еще некоторое время не смогу работать, — продолжала Эста, — а мама не хочет, чтобы я теперь вернулась домой. Она не хочет, чтоб вы узнали — Джулия, или Фрэнк, или ты… Она права, я знаю, конечно, права… но у нее ничего нет и у меня тоже… А мне здесь так одиноко иногда! — Ее глаза наполнились слезами, и она опять начала всхлипывать. — Я была такая глупая… Клайд на мгновение почувствовал, что и сам готов заплакать. Жизнь порою бывает такая странная, такая тяжелая. Подумать только, как он мучился все эти годы? До самого последнего времени не видел ничего хорошего и всегда мечтал сбежать. А Эста сбежала — и вот что с ней случилось. Почему-то он вспомнил: на улице в Центре города, среди огромных, высоких зданий, перед отцовским органчиком сидит Эста и поет, лицо у нее такое хорошее и невинное. Да, трудная штука жизнь! Как все-таки жестоко устроен мир! Как странно все складывается! Клайд посмотрел на Эсту, обвел взглядом комнату, сказал сестре, что теперь она не будет одинока, — он будет приходить к ней, только пусть она не говорит матери, что он был здесь, и если ей что-нибудь понадобится, пусть позовет его, хотя он зарабатывает не так уж много… и наконец ушел. И по пути в отель, на работу, он продолжал думать о том, как все это печально и как жаль, что он пошел за матерью, — лучше бы ему ничего не знать. А впрочем, это все равно открылось бы. Мать не могла скрывать без конца. Наверно, ей опять пришлось бы просить у него денег. Но что за негодяй этот тип — удрал и оставил Эсту в чужом городе без единого цента! И он вдруг вспомнил о девушке, которую ее спутник бросил в отеле «Грин-Дэвидсон» несколько месяцев назад с неоплаченным счетом за комнаты и за пансион. Тогда и ему и его товарищам все это казалось таким смешным, будило особый, чувственный интерес. Но теперь это касается его сестры. С нею поступили так же, как и с той девушкой. И, однако, все это уже не кажется ему таким ужасным, как немного раньше, у Эсты, когда он слышал ее плач. Вокруг оживленный, сияющий город, полный людей, насыщенный энергией, а впереди — веселый отель, где он работает. Жизнь не так уж плоха. Кроме того, у него роман с Гортензией и всякие развлечения. Эста как-нибудь устроится. Она опять будет здорова, и все пойдет хорошо. Но подумать только, что у него такая семья! Вечно нужда, и ни малейшей предусмотрительности, — а потом получаются вот такие вещи — не одно, так другое… Проповедуют на улицах, и никогда не платят вовремя за квартиру, и отец продает коврики и часы, чтобы как-нибудь просуществовать… И Эста убегает из дому и потом возвращается в таком виде… Ну и ну!
Глава 14
Вся эта история заставила Клайда серьезнее, чем когда-либо, задуматься над проблемой пола, и притом решать ее отнюдь не в общепринятом плане. Хотя он и осуждал возлюбленного Эсты, так безжалостно ее бросившего, но и сестру вовсе не считал безупречной. Она сбежала с ним. Как он теперь от нее узнал, этот человек за год до ее бегства провел неделю в Канзас-Сити и тогда-то с нею и познакомился. А через год, когда он снова приехал сюда на две недели, она сама его отыскала, — так по крайней мере подозревал Клайд. И не ему с его увлечением Гортензией Бригс и с его планами было думать, что отношения между полами сами по себе являются чем-то преступным и недозволенным. Как он видел теперь, осложнения были вызваны не самим поступком, а последствиями легкомыслия или незнания. Ведь если бы Эста больше знала о человеке, которым увлеклась, и о том, что означает такая связь, она не очутилась бы теперь в таком жалком положении. Конечно, Гортензия Бригс, Грета и Луиза никогда не могли бы попасть в такую беду, как Эста. Или могли бы? Нет, они слишком предусмотрительны. И по сравнению с ними она проигрывала в его глазах. Она должна была бы устроиться умнее. И постепенно он начинал строже судить сестру, хотя и сочувствовал ей. Но только одно теперь по-настоящему волновало, мучило, преображало Клайда — его безумное увлечение Гортензией; ничто не могло бы сильнее захватить юношу его возраста и его темперамента. После нескольких встреч Гортензия стала казаться Клайду воплощением всего, что он всегда мечтал найти в девушке. Она была такая живая, гордая, обаятельная и такая хорошенькая. В ее глазах, казалось ему, плясали огоньки. У нее была необыкновенно соблазнительная манера сжимать и вновь раскрывать губы, равнодушно глядя прямо перед собой, словно вовсе и не думая о Клайде, а его от этого бросало в жар и дрожь. В такие минуты он испытывал слабость и головокружение; по жилам, жестоко обжигая, пробегали огненные струйки, — это было осознанное желание, мучительное и безысходное. Ибо в отношениях с Гортензией Клайд не мог пойти дальше объятий и поцелуев, — ему мешали сдержанность и уважение — как раз то, что Гортензия, в сущности, презирала в своих поклонниках, которым старалась внушить эти чувства. По-настоящему нравились ей молодые люди другого типа: способные, невзирая» на ее напускную скромность и неприступность, принудить ее уступить, хотя бы даже против воли. Гортензия все время колебалась в своем отношении к Клайду: он то нравился ей, то не нравился. Поэтому Клайд все время испытывал неуверенность, — и это доставляло Гортензии истинное наслаждение; она не давала Клайду возможности убедиться в ее равнодушии, чтобы он не мог окончательно от нее отказаться. Во время какой-нибудь вечеринки, обеда или спектакля, куда она позволяла ему повести себя, Клайд, как правило, держался особенно тактично, почти ничего не требуя, — и Гортензия вдруг становилась такой уступчивой и обольстительной, что это порадовало бы даже самого требовательного влюбленного. Так продолжалось до конца вечера. И вдруг у двери своего дома или дома какой-нибудь своей подруги, где она должна была ночевать, она поворачивалась и без всяких поводов и объяснений отсылала его после простого рукопожатия или небрежного поцелуя. И если в такие минуты Клайд бывал настолько сумасброден, что старался силой добиться от нее ласки, которой он так жаждал, она оборачивалась к нему с бешенством разъяренной кошки и вырывалась от него, испытывая в этот миг острую враждебность, происхождение которой сама едва ли понимала. Ей, видимо, была ненавистна мысль, что Клайд может ее к чему-то принудить. А он, без памяти влюбленный, не решался действовать энергичнее, так как слишком боялся потерять ее, и потому покорялся и уходил обычно мрачный и подавленный. Но его так сильно влекло к ней, что он не мог долго оставаться вдали от нее и снова шел туда, где скорей всего можно было ее встретить. В самом деле, почти все эти дни, несмотря на странное напряжение, которое породила в нем встреча с Эстой, он жил острыми, сладкими и чувственными мечтами о Гортензии. Если бы только она и вправду полюбила его… Ночью, в постели, он думал о ней: ее лицо… складка ее губ, выражение глаз… линии ее тела, все ее движения, когда она идет или танцует… она мелькала пред ним, как на экране. В своих снах он ощущал ее восхитительную близость, она прижималась к нему, все ее дивное тело принадлежало ему, а затем, в последнее мгновение, когда она, казалось, готова была уступить, он просыпался, и она исчезала… только призрак! И, однако, некоторые обстоятельства, казалось бы, предвещали ему успех. Прежде всего, как и он сам, Гортензия была из бедной семьи — дочь машиниста, который едва-едва зарабатывал на жизнь. С детства у нее ничего не было, если не считать мишурных пустяков и безделушек, которые она сама себе добывала. Она принадлежала к такому низкому общественному слою, что до последнего времени не могла завести знакомства ни с кем, кроме мальчишек — подручных мясника или булочника, самых обыкновенных сорванцов из окрестных кварталов. Но даже и тут она быстро поняла, что может и должна извлекать выгоды из своей внешности и очарования, — и это ей вполне удавалось. Многие юнцы не останавливались даже перед воровством, лишь бы добыть денег для ее развлечений. Когда она стала достаточно взрослой, чтобы поступить на службу, она завела знакомство с юношами и мужчинами того типа, который нравился ей, и скоро поняла, что, не идя на слишком большие уступки и действуя осторожно, может одеться куда лучше, чем прежде. Однако она была слишком чувственна и слишком любила наслаждения, и потому ей не всегда хотелось отделять выгоду от удовольствия. Напротив, часто ее по-настоящему влекло к тем, кого она просто собиралась выгодно использовать, и наоборот: она не могла заставить себя кокетничать с теми, кто ей не нравился. Клайд почти не нравился ей, но она не могла противиться желанию его использовать. Ей было приятно, что он с такой готовностью покупал ей каждую мелочь, к которой она обнаруживала интерес: какую-нибудь сумочку, шарф, кошелек, перчатки — все, что она могла спокойно попросить или принять, не давая взамен никаких особых прав на себя. И, однако, с самого начала чутье подсказывало ей, что, если она рано или поздно не уступит, не даст ему той последней награды, которой он жаждет, она не сможет бесконечно его удерживать. Одна мысль особенно не давала ей покоя: Клайд с такой готовностью тратит на нее деньги, что, пожалуй, можно получить от него и действительно ценные вещи, — скажем, красивое дорогое платье, или шляпу, или даже меховой жакет, вроде тех, какие стали теперь носить в городе, не говоря уже о золотых серьгах или ручных часиках, — она всегда с такой жадностью заглядывалась на все это, останавливаясь перед витринами магазинов. Однажды, вскоре после того как Клайд нашел сестру, Гортензия проходила в обеденный час по Балтимор-стрит, недалеко от того места, где ее пересекает Пятнадцатая улица и где находятся лучшие в Канзас-Сити магазины. С ней была Дорис Трайн, продавщица из того же универсального магазина, где служила и она. В окне небольшого и не первоклассного магазина меховых вещей Гортензия увидела жакет из недорогого бобра. Она сразу решила, что эта вещь, идеально подходящая к ее фигуре и цвету лица, совершенно необходима для обогащения ее весьма скромного гардероба. Это был не такой уж дорогой жакет — возможно, около ста долларов, но зато именно такого фасона, который давал ей основание полагать, что он наилучшим образом подчеркнет все достоинства ее наружности. Взволнованная этой мыслью, она остановилась и воскликнула: — Ну что за прелестный жакетик! Я никогда не видела ничего прелестнее! Нет, ты только посмотри на рукава, Дорис! — Она стиснула руку подруги. — Смотри, какой воротник! А подкладка! А карманы! Ах, боже мой! — Она даже слегка дрожала От волнения и восторга. — Он такой прелестный, что я и сказать не могу. Ну точно о таком жакете я мечтаю уж не знаю сколько времени. Ах ты, моя прелесть! — воскликнула она с нежностью, думая При этом столько же о том, как она выглядит в этой позе перед витриной и какое впечатление производит на прохожих, сколько и о самом жакете. — Вот бы мне такой жакет! Она в восхищении всплеснула руками. Немолодой сын владельца магазина, Айсидор Рубинстайн, стоявший в эту минуту так, что она не могла его видеть, все это заметил и решил, что, если восторженная девица справится о цене жакета, можно будет набавить двадцать пять — пятьдесят долларов лишних. В магазине жакет был оценен в сто долларов. «Так, так», — бормотал он. Но это был человек чувственный, склонный к романтике, а потому он стал размышлять о том, какой же может быть, мягко выражаясь, практическая стоимость этого жакета. На что способна пойти понуждаемая бедностью и тщеславием эта хорошенькая девушка, лишь бы получить такую обновку? А тем временем Гортензия пожирала глазами жакет и потратила на это весь обеденный перерыв; потом пошла дальше, упиваясь честолюбивыми мечтами о том, как неотразима была бы она в таком наряде. Но она не зашла в магазин спросить о цене. Поэтому на следующий день, чувствуя, что должна еще раз взглянуть на жакет, она снова пришла сюда, на этот раз одна; у нее и в мыслях не было, что она сама его купит. Она только спрашивала себя, как бы добыть эту вещь, если цена окажется не очень высокой, и пока не могла ничего придумать. Но снова увидев в окне жакет, а также и мистера Рубинстайна-младшего, который смотрел на нее с самым любезным и добродушным видом, она рискнула войти. — Вам понравился этот жакет, правда? — любезно спросил Рубинстайн, как только она открыла дверь. — Ну, значит, у вас хороший вкус. Это одна из самых благородных вещей, какие только бывали в нашем магазине. Что за красота! А как он будет выглядеть на такой хорошенькой девушке! — Он снял жакет с выставки и высоко поднял его. — Я видел вас вчера, когда вы стояли у витрины. Глаза его блеснули жадным восхищением. Заметив это. Гортензия почувствовала, что сдержанностью, но не суровостью она добьется большего уважения и любезности, чем непринужденностью. — Да? — только и ответила она. — Да, конечно. Я сразу сказал себе: «Вот девушка, которая знает толк в вещах». От этой лести Гортензия невольно смягчилась. — Посмотрите-ка, посмотрите! — продолжал коммерсант, вертя перед нею шубку. — Где в Канзас-Сити вы найдете сейчас что-нибудь подобное? Взгляните на эту подкладку! Настоящий меллинсоновский шелк! А косые карманы! А пуговицы! Вы думаете, все эти мелочи не имеют значения? Другого такого жакета нет в Канзас-Сити. И не будет. Мы сами придумали этот фасон, и мы никогда не копируем наших моделей. Мы охраняем интересы наших покупательниц. Но пройдите сюда, прошу вас! — Он подвел ее к тройному зеркалу в глубине магазина. — Такой жакет должна носить красивая женщина, — вот тогда он будет выглядеть всего эффектнее. Позвольте примерить! И при ярком искусственном освещении Гортензия убедилась, что она действительно очаровательна в этой шубке. Она вскидывала голову, изгибалась, поворачивалась во все стороны, прятала маленькое ухо в мех, а мистер Рубинстайн стоял рядом, глядя на нее с восхищением и чуть ли не потирая руки. — Ну вот! — продолжал он. — Посмотрите! Ну, что вы теперь скажете? Я же говорил, что это как будто специально для вас сшито! Прямо находка! Настоящая удача. Второго такого жакета не найти во всем городе. Если найдете — я подарю вам этот. Он подошел к ней совсем близко, протягивая толстые руки ладонями вверх. — Да, признаюсь, он шикарно выглядит на мне, — сказала Гортензия. Ее тщеславная душа изнывала от желания получить эту вещь. — Впрочем, мне любая шубка пойдет. — Она снова и снова поворачивалась перед зеркалом, совсем позабыв о Рубинстайне и о том, что ее откровенное восхищение жакетом может повлиять на цену. Потом прибавила: — А сколько он стоит? — Ну, видите ли, настоящая цена этому жакету двести долларов, — хитро начал мистер Рубинстайн, но, заметив тень безнадежности, промелькнувшую на лице Гортензии, поспешно прибавил: — Это кажется огромной суммой, но мы и не запросим так дорого. Наша цена — полтораста. Вот если бы вы нашли такой жакет у Джерика, там вы заплатили бы все двести. Тут у нас маленькое помещение, не приходится платить большой аренды… А жакет стоит все двести, до последнего цента. — Нет, это ужасная цена, просто жуткая! — печально воскликнула Гортензия и начала снимать жакет. Ей казалось, что у нее отнимают чуть ли не все самое дорогое в жизни. — У Бигса и Бека за эту цену сколько угодно жакетов — и бобровые и из норки, и тоже шикарные. — Может быть, может быть. Но это все не то, — упрямо повторял мистер Рубинстайн. — Только взгляните на него еще раз. Взгляните на воротник! Неужели вы думаете, что найдете там такой жакет? Если найдете, я сам куплю его и отдам вам за сто долларов. Это совершенно исключительная вещь: копия одного из шикарнейших жакетов, которые продавались в Нью-Йорке перед началом сезона. Первоклассная вещь. Вам нигде не найти такого. — Все равно, сто пятьдесят долларов я не могу заплатить, — грустно протянула Гортензия, надевая свой старый суконный жакет с меховым воротником и манжетами и направляясь к двери. — Подождите! Вам нравится этот жакет? — рассудительно сказал Рубинстайн, решив, что и сто долларов непосильная цена для ее кошелька, если только его не пополнит какой-нибудь поклонник. — По-настоящему он стоит двести долларов. Я вам это прямо говорю. Наша цена — полтораста. Но раз уж вам так хочется получить эту вещь — ладно, я вам уступлю ее за сто двадцать пять. Это все равно что даром. Такая замечательная девушка, конечно, без труда может найти дюжину молодых людей, которые с радостью купят эту шубку ей в подарок. Я бы сам ее вам подарил, если бы знал, что вы будете милы со мной. Он весь расплылся в приятнейшей улыбке, и Гортензия, поняв смысл предложения и вознегодовав (потому что оно исходило от этого человека), слегка попятилась. В то же время ей вовсе не был неприятен так ловко ввернутый комплимент. Но все же она не так вульгарна, чтобы позволять каждому встречному делать ей подарки. Ни в коем случае. Это можно позволить только тому, кто ей нравится, или, по крайней мере, тому, кто в нее влюблен. Но с той самой минуты, как Рубинстайн заговорил об этом, она стала мысленно перебирать всех знакомых молодых людей, стараясь определить, кто из них под влиянием ее чар скорее всего мог бы купить для нее этот жакет. Чарли Уилкинс, например, из табачного киоска в «Орфии», по-своему, конечно, очень предан ей, но нипочем не сделает ценного подарка, не получив взамен дорогой награды. Есть еще Роберт Кейн, очень высокий, очень веселый и очень внимательный молодой человек, служащий в местном отделении одной электрокомпании; но у него не слишком доходная должность: он простой клерк. И к тому же он чересчур бережливый и вечно думает о будущем. Потом Берт Гетлер — тот самый, что сопровождал ее на танцы в вечер ее первой встречи с Клайдом; этот просто ветреный малый: он хорош для танцев, но на него нельзя положиться в таком трудном случае. Он только приказчик в магазине обуви, получает, вероятно, не больше двадцати долларов в неделю и рассчитывает каждый пенни. Однако есть еще Клайд Грифитс, у которого как будто в самом деле водятся деньги и который, кажется, готов, не раздумывая, тратить их на нее. Мысль Гортензии работала быстро. Как же ей сразу, без подготовки, выманить у Клайда такой дорогой подарок? — спрашивала она себя. Она была не слишком благосклонна к нему, чаще всего обращалась с ним холодно. Поэтому теперь она вовсе не была в нем уверена. И все же, пока она стояла здесь, в магазине, и размышляла о цене и красоте жакета, мысль о Клайде не покидала ее. А мистер Рубинстайн все смотрел на нее, смутно догадываясь о том, какого рода задача стоит перед ней. — Вот что, крошка, — сказал он наконец. — Я вижу, вам хочется иметь этот жакет, — прекрасно… Я тоже хочу, чтобы он был у вас. И я вам сейчас скажу, что я могу для вас сделать. Этого я не сделал бы ни для одного человека во всем Канзас-Сити. Принесите мне сто пятнадцать долларов в ближайшие дни — в понедельник, среду или пятницу, и если жакет еще не будет продан, я отдам его вам. Даже больше того: я приберегу его для вас. Что вы на это скажете? До следующей среды или пятницы. Никто другой не сделал бы для вас этого. Он самодовольно улыбался, пожимая плечами, и показывал всем своим видом, что делает ей огромное одолжение. И Гортензия, уходя из магазина, была убеждена, что если… если только ей удастся получить этот жакет за сто пятнадцать долларов — это будет замечательно выгодная сделка! И вне всякого сомнения, она будет одета шикарней всех девушек в Канзас-Сити. Только бы ей как-нибудь достать сто пятнадцать долларов не позже ближайшей пятницы.Глава 15
Гортензия хорошо знала, что Клайд все сильнее и сильнее жаждет добиться от нее той высшей благосклонности, которая, — в чем она никогда бы ему не созналась, — была привилегией двух других ее знакомых. Теперь при каждой встрече Клайд требовал, чтобы Гортензия сказала, как же она на самом деле к нему относится. Почему, если он хоть немножко нравится ей, она отказывает ему то в том, то в другом: не позволяет целовать себя, сколько он хочет, вырывается из его объятий. Она всегда держала слово, когда назначала свидания другим, и не являлась на свидания или вовсе отказывалась точно назначить день встречи, когда это касалось Клайда. В сущности, что у нее за отношения с другими? Может быть, кто-нибудь из них в самом деле нравится ей больше, чем Клайд? При каждом свидании возникал все тот же, лишь едва завуалированный, но самый важный вопрос об их сближении. И Гортензии нравилось, что она заставляет Клайда непрестанно страдать от неудовлетворенных желаний, что она мучает его и что всецело в ее власти облегчить его страдания: некоторый садизм, основой для которого послужил мазохистский характер любви Клайда. Однако теперь, когда ей непременно хотелось приобрести жакет, значение Клайда в ее глазах и ее интерес к нему стали возрастать. Лишь накануне утром Гортензия сообщила ему самым решительным тоном, что не может встретиться с ним раньше следующего понедельника, так как все вечера у нее заняты. Но теперь, когда перед ней встала проблема жакета, она начала старательно обдумывать, как бы ей немедленно устроить свидание с Клайдом и при этом не обнаружить своего нетерпения: она уже окончательно решила, что постарается, если будет возможно, уговорить его купить ей этот жакет. Конечно, ей для этого придется в корне изменить свое обращение с ним: придется быть поласковее, пособлазнительнее. Хотя она еще и не призналась себе в том, что теперь, пожалуй, готова даже уступить его мольбам, именно такая мысль сверлила ее мозг. Сперва она никак не могла придумать, что ей делать. Как повидаться с ним сегодня же или, самое позднее, завтра? Как внушить ему, что он должен сделать ей этот подарок или «дать взаймы», как она в конце концов назвала это про себя? Она намекнет ему, чтобы он дал ей взаймы сумму, нужную для покупки жакета, и пообещает постепенно выплатить долг. (Она прекрасно знала, что «если только жакет будет у нее в руках, ей никогда не придется возвращать этот долг). Или, если у Клайда не окажется сразу таких денег, она постарается убедить владельца магазина согласиться на рассрочку платежа, с тем чтобы Клайд уплатил эту сумму по частям. И ее мозг тотчас начал работать в новом направлении: как кокетством и лестью заставить мистера Рубинстайна согласиться на рассрочку на выгодных для нее условиях. Он ведь сказал, что с радостью купил бы для нее жакет, если б знал, что она будет к нему благосклонна. Сначала Гортензии пришел в голову такой план: она предложит Луизе Ретерер позвать сегодня вечером брата, Клайда и еще юношу по имени Скал, который ухаживал за Луизой, в один дансинг, куда она обещала пойти с самым приятным своим поклонником — продавцом сигар. Теперь она не взяла бы его, а пошла бы одна с Луизой и Гретой, заявив, что ее кавалер заболел. Она могла бы уйти пораньше вместе с Клайдом и пройти с ним мимо магазина Рубинстайна. Но у Гортензии был хитрый нрав паука, расставляющего для мух свои сети, и она сообразила, что Луиза может сказать Клайду или Ретереру, чья была затея позвать их сегодня в дансинг. И может случиться, что Клайд когда-нибудь упомянет при Луизе о жакете, а этого, конечно, никак нельзя допустить. Гортензия совсем не желала, чтобы ее друзьям стало известно, как она устраивает свои дела. Вот почему она решила не обращаться ни к Луизе, ни к Грете. Она уже начала по-настоящему тревожиться, не зная, как устроить свидание с Клайдом, и вдруг увидела его самого. Возвращаясь домой с работы, он случайно проходил мимо магазина, где она служила, и зашел, чтобы условиться с нею о встрече в ближайшее воскресенье. К его величайшей радости. Гортензия приветствовала его самой очаровательной улыбкой и помахала рукой. В эту минуту она была занята с покупательницей. Но скоро она освободилась и, подойдя поближе и косясь на контролера своего отдела, не одобрявшего таких визитов, воскликнула: — Я только что думала о вас. А вы? Вы не думали обо мне? О покупке потом. — И прибавила тихо: — Не подавайте виду, что говорите со мной, вон там наш контролер. Пораженный необычной нежностью в ее голосе и ласковой улыбкой, которой она его встретила, Клайд сразу ожил и воспрянул духом. — Думал ли я о вас? — весело сказал он в ответ. — Как будто я могу думать о ком-нибудь другом! Знаете, Ретерер говорит, что я на вас помешался… — А, этот… — сказала Гортензия, сердито и презрительно надув губы, так как — странное дело! — Ретерер был одним из тех, кто ею не слишком интересовался, и она это знала. — Он воображает, что неотразим, — прибавила она. — А я знаю сколько угодно девушек, которым он не нравится. — Нет, Том славный, — вступился Клайд, как и подобало верному другу. — Просто у него такая манера разговаривать. И вы ему нравитесь. — Ну, уж нет, — возразила Гортензия. — Но я не желаю о нем говорить. Что вы делаете сегодня в шесть часов? — Вот так раз! — с огорчением воскликнул Клайд. — Неужели вы сегодня свободны? Какая обида! Я думал, у вас заняты все вечера. Я сегодня работаю. Он вздохнул, очень расстроенный мыслью, что Гортензия, как видно, хотела провести с ним вечер, а он не может воспользоваться этим счастливым случаем. Гортензия с удовольствием заметила, как он огорчен. — Да, я обещала встретиться с одним человеком, но мне не хочется, — сказала она с презрительной гримаской. — Я должна встретиться с ним, но не пошла бы, если б вы были свободны. Сердце Клайда учащенно забилось от восторга. — Эх, если бы мне сегодня не работать! — сказал он, глядя на нее. — А вы не можете освободиться завтра вечером? Завтра я свободен. А сейчас я зашел вас спросить — хотите в воскресенье поехать с нами за город на автомобиле? Один друг Хегленда может достать «пакард», и в воскресенье днем мы все свободны. Хегленд хочет, чтобы я подобрал компанию, и мы съездим в Экселсиор-Спрингс. Он славный парень (это было сказано потому, что Гортензия как будто не слишком заинтересовалась этой идеей). Вы его мало знаете, но он в самом деле славный. Ну ладно, я расскажу вам о нем как-нибудь после. А вот как насчет завтрашнего вечера? Я буду свободен. Делая вид, будто показывает Клайду носовые платки (контролер снова проходил по отделу), Гортензия думала о том, как досадно, что нужно ждать еще двадцать четыре часа, прежде чем она сможет показать ему жакет и приняться за исполнение своего хитрого замысла. В то же время она дала понять, что ей очень трудно будет освободиться завтра, труднее, чем он может себе представить. Она даже притворилась, что не совсем уверена, захочет ли освободиться. — Делайте вид, что выбираете платки, — тихо сказала она Клайду, опасаясь, как бы контролер не прервал их. — У меня на завтра уже есть приглашение. Не знаю, удобно ли отказаться, — продолжала она озабоченно. — Дайте сообразить. Она сделала вид, что глубоко задумалась. — Ну, ладно, кажется, я это устрою, — сказала она наконец. — Во всяком случае, постараюсь, так и быть, один раз можно. Приходите на угол Пятнадцатой и Главной в четверть седьмого, — нет, лучше в половине, хорошо? Я тоже постараюсь прийти. Не обещаю, но постараюсь; думаю, что мне удастся это устроить. Вы довольны? Она подарила Клайду одну из самых обольстительных своих улыбок, и он был вне себя от счастья. Подумать только: наконец-то она ради него нарушает обещание, данное кому-то другому! Ее глаза ласково сияли, на губах играла улыбка. — Верней верного! — воскликнул он, пуская в ход жаргон рассыльных из «Грин-Дэвидсон». — Конечно, приду, можете не сомневаться. А теперь попрошу вас об одном одолжении. — О чем это? — спросила она, настораживаясь. — Наденьте ту маленькую черную шляпку, знаете, с красными лентами… вы еще завязываете их под подбородком. Ладно? Вы просто восхитительны в ней! — Ах вы, подлиза! — засмеялась Гортензия. До чего легко провести Клайда! — Хорошо, надену, — прибавила она. — А теперь уходите. Вот идет эта старая рыба. Я уж знаю, он будет ворчать. Только меня это мало трогает. Значит, в половине седьмого? Ну, пока! Она повернулась к пожилой покупательнице, которая терпеливо ждала, чтобы спросить, где продают кисею. А Клайд, дрожа от счастья, что его неожиданно удостоили такой милости, не чуя под собой ног двинулся к ближайшему выходу. Он не проявил излишнего любопытства, не стал дознаваться, чем вызвана эта Внезапная благосклонность. А на следующий вечер, ровно в половине седьмого, освещенная дуговыми фонарями, дождем льющими свой яркий свет, на условленном месте появилась Гортензия. Клайд сразу же заметил, что на ней шляпка, которая ему так нравилась. И никогда еще он не видел ее такой обольстительной, оживленной, приветливой. Он хотел сказать ей, как она прелестна и как он счастлив, что она надела эту шляпку, но она уже начала: — Ну, скажу я вам, похоже, что я намерена влюбиться в вас по уши! Нарушаю свои обещания, да еще надеваю для вашего удовольствия старую нелюбимую шляпу. И чем только это кончится? Клайд просиял, точно одержав великую победу. Неужели она и впрямь наконец полюбит его? — Если б вы только знали, Гортензия, до чего вы хороши в этой шляпке, вы бы никогда ее не снимали, — сказал он с восхищением. — Вы и не представляете себе, как вы в ней прелестны. — Ну да? В этом старье? Вас нетрудно очаровать, — усмехнулась она. — А ваши глаза — совсем как мягкий черный бархат, — с жаром продолжал он. — Удивительные глаза! — Он подумал о черных бархатных занавесях в одном уютном уголке в «Грин-Дэвидсон». — Как у вас сегодня ловко выходит, — смеялась она, поддразнивая Клайда. — Придется что-то с вами сделать. И прежде чем он успел ответить хоть слово, она стала рассказывать совершенно фантастическую историю о том, что она еще раньше обещала провести сегодняшний вечер с одним молодым человеком из общества по имени Том Кири, который давно ходит за ней по пятам, упрашивая пообедать и потанцевать с ним, и лишь сейчас вечером решила «отставить» его ради Клайда (на сей раз, по крайней мере). Она позвонила Кири по телефону и сказала, что не может встретиться с ним сегодня: просто отменила свидание — и конец. И все-таки, когда она уходила после работы, кто, по-вашему, ждал ее у служебного входа? Том Кири, собственной персоной, великолепно одетый, в светло-сером пальто реглан и в гетрах, и тут же стоял его лимузин. И он повез бы ее обедать в «Грин-Дэвидсон», если бы она только захотела. Вот это мужчина! Но она не захотела. Во всяком случае, не сегодня. Однако, если бы ей не удалось пройти мимо незамеченной, он, конечно, задержал бы ее… Но она первая увидела его и убежала другой дорогой. — Видели бы вы, как я бежала! Мои ножки так и мелькали! — самовлюбленно описывала она свое бегство. И Клайд был так ослеплен этой картиной и великолепием мистера Кири, что принял эту жалкую выдумку за чистую монету. А затем они пошли по направлению к ресторану Гаспи, который, как совсем недавно узнал Клайд, считался лучше Фриссела. Гортензия то и дело останавливалась и заглядывала в витрины магазинов: ей необходимо подыскать себе зимний жакет, сказала она. Тот, что на ней, уже совсем износился, ей нужен новый. Это рассуждение заставило Клайда призадуматься: не намекает ли она, что именно он должен купить ей жакет? И не станет ли она уступчивей, если он купит для нее вещь, которая ей так необходима? Вот и магазин Рубинстайна, и ярко освещенная витрина, и шубка во всей ее красе. В соответствии с заранее обдуманным планом Гортензия остановилась. — Ах, посмотрите, что за прелесть этот жакетик! — воскликнула она, разыгрывая такоевосторженное изумление, словно впервые увидела эту вещь и была внезапно поражена ею. — Видали вы когда-нибудь такую миленькую, прелестную, изящную шубку? — продолжала она, причем ее актерские таланты возрастали вместе с желанием получить жакет. — Вы только взгляните, какой воротник, рукава! А какие карманы! Просто поразительно! Мне ужасно хочется погреть в них руки! Она исподтишка покосилась на Клайда, стараясь подметить, производит ли это на него должное впечатление. А Клайд, возбужденный ее восторгом, с любопытством разглядывал жакет. Бесспорно, хорошенькая шубка, даже очень. Да, но сколько может стоить такая вещь? Может быть. Гортензия так расхваливает этот жакет для того, чтобы Клайд его купил? Но ведь это же, наверно, долларов двести, не меньше. Клайд понятия не имел, сколько стоят такие вещи. Ему это, конечно, не по карману. Особенно теперь, когда мать берет значительную часть его доходов для Эсты. Но что-то в тоне Гортензии убеждало его, что именно этого она от него и ждет. Сначала он похолодел и чуть не лишился дара речи. И в то же время с грустью говорил себе, что, если Гортензия захочет, она, конечно, найдет кого-нибудь, кто купит ей жакет, — хотя бы этот Том Кири, о котором она только что рассказывала. К несчастью, она именно из таких девушек. Если он не купит ей эту вещь, так купит кто-нибудь другой, и тогда она станет презирать Клайда за то, что он не смог сделать это для нее. К его великому смущению и ужасу, она воскликнула: — Чего бы я только не дала за такой жакет! Она не собиралась в эту минуту прямо ставить вопрос: ей хотелось возможно тактичнее внушить Клайду мысль, которая глубоко засела в ее мозгу. И как ни был Клайд неопытен и неискушен, он все же прекрасно понял значение ее слов. Значит… значит… в ту минуту он даже в мыслях не хотел точно и ясно назвать, что это значит. Теперь… Теперь… если б только узнать цену этой вещи! Он понимал, что Гортензия обдумывает способ добыть жакет. Но как ему все устроить? Как? Если б только он мог купить этот жакет или хотя бы пообещать, что купит его, скажем, к определенному сроку (лишь бы он стоил не слишком дорого!). Но что тогда? Хватит ли у него храбрости намекнуть ей сегодня или, скажем, завтра, после того как он узнает цену жакета, что, если она согласится… тогда… ну тогда он купит ей этот жакет или что-нибудь еще, что ей только захочется. Но он должен быть уверен, что она не оставит его в дураках, как бывало в менее важных случаях. Нет, он не желает потратить деньги на жакет и ничего не получить взамен! Ни за что! Эти мысли так волновали его, что он холодел и дрожал, стоя рядом с Гортензией. А она, глядя на жакет, думала, что если у Клайда не хватит ума так или иначе сделать ей этот подарок и догадаться, как именно она намерена расплатиться за него, — ну, тогда с ним будет покончено. Пусть не воображает, будто она станет тратить зря время с человеком, который не может или не хочет сделать это для нее. Ни за что! Они пошли дальше, к Гаспи. И во время обеда Гортензия почти ни о чем больше не говорила, только о шубке: какая она миленькая и как великолепно она будет выглядеть на Гортензии. — Можете мне поверить, — сказала она вызывающе, чувствуя, что Клайда одолевают сомнения, — уж я найду способ его приобрести, этот жакет. Они, верно, согласятся на рассрочку, если я поговорю с самим Рубинстайном и если первый взнос будет достаточно большой. Одна продавщица из нашего магазина именно так и купила пальто, — быстро сочинила она, надеясь, что это убедит Клайда ей помочь. Но Клайд, в страхе перед непомерным расходом, не решался сказать ей, что же он намерен делать. Он совершенно не представлял себе, сколько стоит жакет: пожалуй, двести, даже триста долларов, — и боялся взять на себя обязательства, которых потом не сумеет выполнить. — А вы не знаете, сколько может стоить такая вещь? — спросил он нервно, думая при этом, что если он даст ей деньги, не получив одновременно никакой гарантии с ее стороны, — какие у него будут основания ожидать взамен чего-то большего, чем все, что он получал до сих пор? Ведь она так умеет подъехать к нему, когда хочет получить какую-нибудь вещицу, а потом не позволяет даже поцеловать себя! Он краснел и внутренне негодовал, думая о том, как она уверена, что может играть им. И, однако, вспоминал он, ведь она сейчас сказала, что готова сделать все для того, кто поможет ей получить этот жакет, — кажется, так и было сказано. — Н-не знаю. — Она сперва поколебалась, спрашивая себя, назвать ли настоящую цену жакета или немножко прибавить. Если она попросит о рассрочке, мистер Рубинстайн может поднять цену. А если назвать слишком большую сумму, не откажется ли Клайд помочь? — Но, конечно, не больше, чем сто двадцать пять долларов, — прибавила она. — Больше я бы не заплатила. Клайд вздохнул с облегчением. Все-таки это не двести и не триста. Он подумал, что если она сумеет добиться посильных условий рассрочки, — скажем, первый взнос в пятьдесят или шестьдесят долларов, — то он как-нибудь соберет такую сумму в две-три недели. Но если надо уплатить сразу все сто двадцать пять долларов. Гортензии придется подождать, а кроме того, нужно точно и определенно знать, получит ли он настоящую награду. — Прекрасная мысль! — воскликнул он, не объясняя, однако, чем она ему так нравится. — Почему бы и нет? Почему бы вам не узнать сперва, сколько они хотят за жакет и на каких условиях дадут рассрочку? Пожалуй, я мог бы вам помочь! — Ох, это было бы просто чудесно! — Гортензия захлопала в ладоши. — Правда, поможете? Вот шикарно! Ну, теперь я знаю, что у меня будет жакет. Я знаю, мне дадут рассрочку, я уж сумею уговорить кого надо. Как предвидел и опасался Клайд, она уже совершенно забыла, что сможет купить жакет только благодаря ему. Теперь все пойдет так, как он и думал. Он заплатит за жакет, а она примет это как должное. Но через минуту, заметив, что он помрачнел. Гортензия прибавила: — Вы ужасно милый, вы — душенька, что хотите помочь мне! Будьте уверены, я этого не забуду. Вот подождите и увидите. Вы не пожалеете! Только подождите! Ее глаза искрились весельем и благосклонностью. Хоть он и слишком юн и мягок, зато не скряга, и она вознаградит его; это решено. Как только она получит жакет, через неделю, самое позднее через две — она будет очень мила с ним… кое-что для него сделает. И чтобы Клайд лучше понял, о чем она думает, она остановила на нем многообещающий взгляд, придав глазам самое нежное и томное выражение. От этой ее игры в романтику Клайд растерялся и стал нервничать. Он даже испугался немного, вообразив, что этот взгляд выдает бурную страстность, на которую он, возможно, не сумеет ответить. Теперь он чувствовал себя слабым перед Гортензией и немного трусил, представляя себе, что же такое ее настоящая любовь. Тем не менее он заявил, что если жакет стоит не дороже ста двадцати пяти долларов и можно будет уплатить их в три срока (первый взнос двадцать пять долларов и затем два взноса по пятидесяти), то он возьмет это на себя. А Гортензия, со своей стороны, ответила, что завтра же все это выяснит. Может быть, мистер Рубинстайн согласится отдать ей жакет, как только она внесет первые двадцать пять долларов; или хотя бы в конце второй недели, когда будет уплачено почти все. И когда они выходили из ресторана. Гортензия, по-настоящему благодарная Клайду, с кошачьим мурлыканьем шепнула ему, что она этого никогда не забудет, — он сам увидит… а жакет она наденет в первый раз для встречи с ним. Если он будет свободен, они пойдут куда-нибудь пообедать. И уж наверно жакет будет у нее ко дню прогулки в автомобиле; Клайд, или, вернее, Хегленд, как будто назначил эту прогулку на следующее воскресенье, но, может быть, ее еще отложат? Гортензия предложила отправиться в дансинг и, танцуя, так недвусмысленно льнула к нему, что Клайд, чувствуя ее настроение, начал слегка дрожать и путаться в танце. Наконец он пошел домой, в душе заново переживая весь этот день и радуясь, что сможет без труда уплатить первый взнос за жакет, даже если потребуется и пятьдесят долларов: подстрекаемый обещанием Гортензии, он решил занять двадцать пять долларов у Ретерера или Хегленда и вернуть этот долг после того, как за жакет будет уплачено сполна. Но, ах, как хороша Гортензия! Что за прелесть, какое безграничное, неотразимое, покоряющее очарование от нее исходит! И подумать только, что наконец — и уже скоро — она будет принадлежать ему. Поистине осуществление грез — невероятное становится реальным.Глава 16
Верная своему обещанию, Гортензия на следующий день снова заглянула в магазин Рубинстайна и с присущей ей хитростью, со многими оговорками объяснила, что за трудная задача стоит перед нею. Нельзя ли ей как-нибудь получить жакет за сто пятнадцать долларов в рассрочку, на не слишком тяжелых условиях? Мистер Рубинстайн торжественно покачал головой. Здесь не продают в рассрочку. Если б он хотел вести дело таким образом, он оценил бы жакет в двести долларов и без труда получил бы их. — Но я могу сразу же заплатить пятьдесят долларов, если вы дадите мне жакет. — Очень хорошо. Но где гарантия, что я получу остальные шестьдесят пять, и когда я их получу? — Через неделю вы получите двадцать пять, еще через неделю следующие двадцать пять и на третью неделю пятнадцать. — Прекрасно. Но, предположим, вы возьмете у меня жакет, а на другой день вас задавит автомобиль. Что тогда? Как я получу мои деньги? На это трудно было возразить. В самом деле, как она докажет, что кто-нибудь заплатит за ее жакет? И потом надо еще возиться с письменным обязательством и найти солидного человека, — скажем, банкира, — который за нее поручится. Нет, нет, в магазине Рубинстайна не торгуют в кредит. Здесь надо платить наличными. Вот почему ей уступают жакет за сто пятнадцать долларов, — но — ни на доллар меньше. Ни на доллар! Мистер Рубинстайн вздыхал и говорил, говорил. В конце концов Гортензия спросила: что, если она принесет ему семьдесят пять долларов наличными, а остальные сорок обязуется уплатить через неделю? Отдаст ли он ей тогда жакет, позволит ли забрать его? — Но неделя… неделя… Ну что такое одна неделя? — убеждал мистер Рубинстайн. — Раз вы можете принести мне семьдесят пять долларов на следующей неделе или завтра, а следующие сорок через неделю или через десять дней, так почему бы вам не подождать неделю и не принести сразу все сто пятнадцать? Тогда жакет ваш — и никакого беспокойства. Оставьте жакет за собой. Заплатите мне завтра двадцать пять — тридцать долларов в счет суммы, и я сниму жакет с выставки и отложу его для вас. Никто даже не увидит его. Через неделю или две принесите мне остальное — тогда он ваш. Мистер Рубинстайн объяснил все это как некий сложный процесс, едва доступный понимаю. Но его доводы были довольно основательны. Гортензии нечего было возразить. И она совсем приуныла. Подумать только, что она не может получить жакет сразу. Но, едва выйдя из магазина, она приободрилась. В конце концов, это время пройдет быстро, и, если Клайд сдержит свое обещание, жакет будет у нее. Главное теперь получить от Клайда эти двадцать пять — тридцать долларов и тем самым скрепить замечательную сделку с Рубинстайном. Только теперь ей к новому жакету нужна и новая шляпа, поэтому она скажет Клайду, что жакет стоит не сто пятнадцать долларов, а сто двадцать пять. Результат разговора был сообщен Клайду, и он, обдумав эту сделку в целом, нашел ее вполне благоразумной. Он сразу вздохнул с облегчением: после предыдущего разговора с Гортензией он был серьезно озабочен, так как не видел никакой возможности достать на первую неделю больше тридцати пяти долларов. Следующая неделя будет несколько легче, уверял он себя, так как он постарается занять двадцать или двадцать пять долларов у Ретерера, еще двадцать или двадцать пять дадут ему чаевые, и в целом, этого будет достаточно для второго платежа. А на третьей неделе он попробует занять хотя бы десять или пятнадцать долларов у Хегленда, может быть, и больше, а если этих денег не хватит, — заложит за пятнадцать долларов свои часы, купленные несколько месяцев назад. За них, конечно, дадут не меньше пятнадцати: они стоили пятьдесят. Да, но ведь есть еще Эста, которая сидит в этой жалкой комнатенке и ожидает несчастного исхода своего единственного романа. Как она справится со всеми расходами, невольно спрашивал он себя, хоть и боялся, что его втянут в денежные затруднения Эсты и всей семьи. Отец не способен помочь матери в денежных делах, да и никогда не помогал. Что, если эту нелегкую задачу попробуют взвалить на него, Клайда? Как он выпутается? И почему отец вечно канителится с торговлей часами и ковриками и проповедует на улицах? Почему родители не откажутся, по крайней мере, от затеи с миссией? Но он знал, что семья не выпутается без его помощи. Подтверждение явилось в конце второй недели его соглашения с Гортензией. Он как раз одевался у себя в комнате, и в кармане у него лежали пятьдесят долларов, которые он хотел передать Гортензии в воскресенье; в это время к нему заглянула мать. — Мне нужно поговорить с тобой, Клайд, прежде чем ты уйдешь, — сказала она. Он заметил, что она очень озабочена. Правда, последние дни он чувствовал, что у нее какие-то серьезные огорчения. Однако в то же время он говорил себе, что у него сейчас слишком много обязательств и ему нечем помочь матери. Помочь ей — значит потерять Гортензию. Он не может на это пойти! Но какие разумные оправдания можно привести, отказывая матери в небольшой помощи, тем более, что он так хорошо одет и так упорно исчезает по вечерам из дому? Он постоянно ссылается на неотложную работу в отеле, но, вероятно, мать не очень обманывается на этот счет. Правда, всего два месяца назад он обязался платить в течение девяти недель по десять долларов в неделю вместо пяти, и платит. Но это, наверно, только доказало матери, что у него есть лишние деньги, хотя он и пытался объяснить ей тогда, насколько этот расход для него стеснителен. А теперь он и хотел бы пойти навстречу матери, но не может, — препятствует неодолимое влечение к Гортензии. Немного спустя Клайд вышел в гостиную, и мать, как обычно в таких случаях, повела его в помещение миссии, холодное и мрачное в те дни, и они сели на одну из скамей. — Я не думала, что мне придется говорить с тобой об этом, Клайд, но у меня нет другого выхода. Мне не на кого больше положиться, а ты теперь взрослый мужчина. Только ты должен обещать, что никому ничего не скажешь, — ни Фрэнку, ни Джулии, ни отцу. Я не хочу, чтобы они знали. Эста вернулась в Канзас-Сити, она в очень печальном положении, и я просто не знаю, как с ней быть. У меня так мало денег, а отец мне уже почти не помощник. Она устало и озабоченно провела рукой по лбу, и Клайд уже знал, что за этим последует. Сперва он хотел сделать вид, что не знает о возвращении Эсты, раз уж он так долго притворялся. Но теперь, выслушав признание матери и зная, что, если он хочет лгать и дальше, надо притвориться удивленным, он вдруг сказал: — Да, я знаю. — Знаешь? — с удивлением переспросила мать. — Да, знаю, — повторил Клайд. — Я видел, как ты раз утром зашла в дом на Бодри-стрит, я случайно проходил там, — объяснил он довольно спокойно. — А потом я увидел Эсту; она выглянула из окна. И когда ты ушла, я зашел к ней. — Когда же это было? — спросила миссис Грифитс просто для того, чтобы выиграть время. — Месяца полтора назад, если не ошибаюсь. Я потом еще раза два к ней заходил. Но Эста не хотела, чтобы я об этом рассказывал. Миссис Грифитс сокрушенно вздохнула. — Значит, ты знаешь, в чем ее несчастье? — спросила она. — Да, — ответил Клайд. — Что ж, чему быть, того не миновать, — сказала она покорно. — Ты ничего не говорил Фрэнку и Джулии? — Нет, — успокоил ее Клайд, думая о том, как неудачно окончилась попытка матери скрыть случившееся. Она, как и отец, совсем не умела лгать. Клайд полагал, что сам он куда хитрее их обоих. — Ты и не говори им, — строго предупредила мать. — Им, по-моему, не следует знать об этом. И без того плохо, — прибавила она, и рот ее искривила горькая гримаса. А Клайд слушал ее и думал о себе и о Гортензии. — Прямо не верится, что Эста навлекла на себя и на всех нас такое горе, — прибавила мать, помолчав, и глаза ее затуманились печалью. — Разве есть тут наша вина? Разве не дано ей было совсем иное воспитание? «Путь грешника…» Она покачала головой и крепко стиснула руки, а Клайд смотрел прямо перед собой, думая о тяжелом положении семьи и о том, как все это может отразиться на нем самом. Мать сидела, угнетенная и смущенная своей странной ролью в этой истории. Да, она лгала, как лгут многие. И вот Клайду известны все ее хитрости и обманы, и она чувствует себя такой фальшивой и глупой. Но разве она не старалась оберечь Клайда от всего этого — и его и остальных? Клайд уже достаточно взрослый, чтобы ее понять. Однако она продолжала объяснять, почему она так поступила, как ужасно все это для нее. И к тому же, пояснила она, эти прискорбные события вынуждают ее теперь обратиться к нему за помощью. — Эста скоро будет очень больна, — сказала мать отрывисто, с чувством неловкости: она, видимо, не могла или не хотела смотреть в лицо Клайду, но в то же время решила быть по возможности откровенной. — Ей понадобится доктор и кто-нибудь, кто сможет побыть с ней в часы, когда меня не будет. Мне необходимы деньги, по крайней мере, пятьдесят долларов. Ты не достанешь где-нибудь? Попроси у кого-нибудь из твоих новых друзей в долг, на несколько недель. Ты ведь мог бы скоро вернуть этот долг. Пока не расплатишься, можешь ничего не давать мне за комнату. Она таким неотступным, таким требовательным взглядом смотрела на Клайда, что он был потрясен силой и убедительностью этой просьбы. И, прежде чем он успел усугубить тревожную печаль, омрачавшую ее лицо, она прибавила: — Те, другие деньги, были тоже для нее, понимаешь, чтобы она могла приехать сюда, после того как ее… ее… — Она колебалась в выборе слова, но потом докончила: — муж оставил ее в Питсбурге. Должно быть, она рассказала тебе об этом? — Да, рассказала, — медленно и печально ответил Клайд. Конечно, положение Эсты совершенно критическое, раньше он просто не хотел об этом думать. — Но как же быть, мама! — воскликнул он. Его мучила мысль о лежавших в кармане пятидесяти долларах (как раз та сумма, которая нужна матери) и о том, для чего они предназначены. — Не знаю, смогу ли я что-нибудь сделать. На работе я всех еще так мало знаю, мне не у кого просить взаймы. Да они и зарабатывают не больше моего. Я мог бы занять немного, только это не очень удобно. Он запнулся, в горле у него пересохло. Нелегко ему было солгать матери. Ему никогда еще не случалось лгать в таком серьезном деле — и лгать так низко. Ведь пятьдесят долларов в эту минуту здесь, у него в кармане. С одной стороны Гортензия, с другой — мать и сестра, и деньги эти могут выручить мать, точно так же как Гортензию, но насколько было бы достойнее помочь матери! Как ужасно — не помочь! И как он мог отказать ей? Клайд нервно облизнул губы и провел рукой по лбу: от волнения лицо его покрылось потом. Он чувствовал себя измученным, низким, беспомощным перед тем, что произошло. — А у тебя самого сейчас не найдется немного денег для меня? — Мать почти умоляла. — Эсте в ее положении необходимы разные вещи, а купить не на что. — Нет, мама, у меня ничего нет, — сказал он, взглянув на мать, сгорая от стыда, и тотчас отвел глаза; и если бы мать не была так рассеянна в эту минуту, она увидела бы по его лицу, что он лжет. Клайд ощутил острую боль: он и жалел себя, и вместе с тем презирал, потому что мучился за мать. О том, чтобы отказаться от Гортензии, нечего и думать. Она должна принадлежать ему. Но мать так одинока и беспомощна. Это постыдно. Он в самом деле низок, подл. Не будет ли он впоследствии за это наказан? Он пытался придумать что-то, какой-нибудь способ достать еще немного денег сверх этих пятидесяти долларов. Если бы только у него было чуть больше времени, еще недели две-три! Если бы Гортензия не затеяла покупку этого жакета как раз теперь! — Вот что я могу сделать, — сказал он, бессмысленно и тупо глядя на мать, которая только горестно вздыхала. — Пять долларов тебе хоть немного помогут? — Что ж, и это пригодится, — ответила она. — Все-таки лучше, чем ничего. — Ладно, пять долларов я могу дать, — сказал Клайд, думая возместить эти деньги из новых чаевых и надеясь, что неделя будет удачной. — На той неделе я, может быть, достану еще десять. Сейчас не могу обещать наверняка. Мне пришлось занять часть тех денег, которые я дал тебе в тот раз, и я еще не все вернул. Если я начну опять просить взаймы, могут подумать… ты же знаешь, как смотрят на такие вещи. Мать вздохнула. Какое несчастье, что приходится взваливать на сына такую обузу! И как раз тогда, когда он старается выбиться в люди. Как он будет вспоминать об этом впоследствии? Что подумает о ней, об Эсте, о всей семье? Несмотря на все свое честолюбие, смелость и упорное стремление к самостоятельности, Клайд всегда казался ей недостаточно крепким физически, недостаточно устойчивым морально и умственно. И он так нервен и чувствителен, что порою кажется, будто пошел скорее в отца, чем в нее. Обычно он так легко возбуждается, так быстро устает… все это не слишком полезно и хорошо. И вот она сама — из-за Эсты, из-за мужа, из-за всей их неудачной жизни — заставляет его напрягать силы и нервы. — Ну, что же… на нет и суда нет, — сказала она. — Постараюсь найти какой-то другой выход. Но в эту минуту она не видела выхода.Глава 17
В планах относительно поездки на автомобиле, которую Хегленд при помощи своего друга шофера думал устроить в воскресенье, произошли перемены. Машину — великолепный дорогой «пакард», не что-нибудь — нельзя было взять в условленный день. Ею можно будет воспользоваться только в ближайший четверг или пятницу, или уж придется совсем отказаться от поездки. Всем еще раньше объяснили, — это была только часть истины, — что машина принадлежит некоему мистеру Кимбарку, старому и очень богатому джентльмену (он в это время путешествовал по Азии). Но истина заключалась в том, что приятель Хегленда, Спарсер, был Вовсе не шофером, а просто бездельником, беспутным сыном управляющего одной из молочных ферм мистера Кимбарка. Этому молодцу очень хотелось изобразить из себя нечто большее, чем сына простого управляющего фермой; временно заменяя сторожа и потому имея доступ в гараж, он решил взять самую лучшую машину и покататься на ней. Хегленд подал мысль устроить вместе с друзьями по отелю какую-нибудь веселую прогулку. Но когда все уже были приглашены, пришло известие о скором приезде мистера Кимбарка; и Уиллард Спарсер, опасаясь, как бы хозяин не застал его врасплох, решил, что, пожалуй, больше не стоит пользоваться машиной. Когда же он рассказал о неожиданном препятствии Хегленду, нетерпеливо мечтавшему об этой поездке, тот отверг все доводы Спарсера. Почему бы не воспользоваться автомобилем еще разок? Он уже взбудоражил всех своих друзей, и ему не хотелось бы их разочаровывать. И поездку назначили на пятницу, когда Хегленд и его друзья будут свободны от полудня до шести вечера. А так как у Гортензии были теперь свои расчеты, она согласилась сопровождать Клайда, который, разумеется, тоже был в числе приглашенных. Но, как пояснил Хегленд Ретереру и Хигби, машину берут без согласия владельца, поэтому лучше встретить ее где-нибудь подальше, на одной из тихих улиц вблизи Семнадцатой и Западного проспекта; оттуда они направятся к месту, где удобнее встретить девушек, а именно на угол Двадцатой и Вашингтон-стрит. Дальше поедут по Западной парковой дороге через мост Ганнибала в направлении на северо-восток к Гарлему, Северному Канзас-Сити, Майнавилу и через Либерти и Мосби к Экселсиор-Спрингс. Главной целью их поездки была маленькая, открытая круглый год гостиница «Вигвам», что в миле или двух от Экселсиора; «Вигвам» был одновременно и рестораном, и дансингом, и отелем. Тут можно было танцевать под граммофон и пианолу. Сюда нередко приезжали компании молодежи. Хегленд и Хигби уже не раз бывали в «Вигваме» и уверяли, что это превосходное местечко. Кормят хорошо, дорога прекрасная. Около дома протекает маленькая речка: летом там можно кататься на лодке и удить рыбу, а зимой, когда речка замерзает, — бегать на коньках. Правда, сейчас — в январе — дорога засыпана снегом, но проехать не трудно, и кругом очень красиво. Неподалеку от Экселсиора есть маленькое озеро, замерзающее в это время года, и, по мнению неуемного фантазера Хегленда, там можно покататься. — Послушайте только, что он предлагает: тратить драгоценное время на какие-то коньки! — цинично заметил Ретерер: с его точки зрения, смысл прогулки заключался отнюдь не в спортивных развлечениях, а только в ухаживании за спутницами. — А ну, к черту! Никакой хорошей идеи нельзя предложить, сразу зубы скалят, — возмутился автор идеи. Единственный из всей компании, кто, кроме Спарсера, терзался опасениями, как бы поездка не кончилась плохо, был Клайд. С самого начала, узнав, что машина принадлежит не Спарсеру, а его хозяину, Клайд расстроился и даже возмутился. Он против того, чтобы брать чужую вещь, хотя бы даже только на время! Мало ли что может случиться. Их могут изобличить. — А ты не думаешь, что нам опасно ехать на этой машине за город? — спросил Клайд Ретерера за несколько дней до прогулки, когда окончательно понял, каким путем они получают автомобиль. — А что тут такого? — ответил Ретерер; он уже привык к таким проделкам, и они его мало беспокоили. — Ведь не я беру машину и не ты. Если Спарсер хочет взять ее, так это его дело, — верно? Раз он пригласил меня прокатиться, я поеду. Почему бы нет? Мне нужно только одно — вернуться вовремя. Остальное меня мало трогает. И Хигби, подошедший к ним в эту минуту, высказался в том же духе. Но Клайд все-таки беспокоился. Вдруг из этой затеи выйдет что-нибудь неладное, тогда его еще, пожалуй, уволят. Но прокатиться вместе с Гортензией и другими девушками и приятелями в такой прекрасной машине было слишком соблазнительно: он не мог устоять перед искушением. В пятницу, тотчас после полудня, все приглашенные собрались в условленных местах: Хегленд, Ретерер, Хигби и Клайд — на углу Семнадцатой и Западного проспекта; Майда Акселрод — подружка Хегленда, Люсиль Николас — подружка Ретерера и Тина Когел — подружка Хигби, которая привела с собой Лору Сайп (Лора предназначалась в дамы Спарсеру) — на углу Двенадцатой и Вашингтон-стрит. А Гортензия в последнюю минуту известила Клайда, что ей нужно зайти домой, и просила заехать за ней на угол Сорок девятой и Дженеси-стрит; компания согласилась на это не без воркотни. Стоял конец января; день был серый, низкие облака грозили снегопадом, а так приятно и интересно смотреть на падающий снег, когда сидишь в закрытой машине, и потому всем очень хотелось полюбоваться этим зрелищем. — Вот бы хорошо! — воскликнула Тина Когел, когда кто-то сказал, что может пойти снег. — О, я обожаю смотреть, как падает снег! — подхватила Люсиль Николас. Машина понеслась по Уэст-Блаф-Роуд, Вашингтон-стрит и Второй, переехала через мост Ганнибала, миновала Гарлем и помчалась дальше берегом реки, — извилистой дорогой, вдоль которой, точно на страже, стояли холмы, — к Рэндолфским высотам, а затем мимо Мосби и Либерти. Здесь дорога стала лучше. Мелькали живописные домики и покрытые январским снегом холмы. Клайд, который за всю свою жизнь в Канзас-Сити ни разу не ездил дальше Канзаса, расположенного к западу от Канзас-Сити, или дальше девственных лесов Суоп-парка на востоке, равно как и не ездил вдоль рек Канзас или Миссури дальше местечка Аргентина или дальше Рэндолфских высот, — был в восторге; эта поездка казалась ему настоящим путешествием. Это было так не похоже на привычные будни. И Гортензия была весела, благодушно настроена. Она уютно устроилась рядом с ним и не запротестовала, когда Клайд, видя, что остальные обняли своих спутниц, тоже обвил ее стан рукой и привлек поближе к себе. Наоборот, взглянув на Клайда, она сказала: — Кажется, мне придется снять шляпу. Все засмеялись. В Гортензии была какая-то пикантная живость, порою очень забавная. Кроме того, она причесалась по-новому, это ей очень шло, и ей не терпелось показать всем свою новую прическу. — А потанцевать там где-нибудь можно? — спросила она, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Верней верного! — сказал Хигби, который уже убедил Тину Когел тоже снять шляпку и крепко прижал девушку к себе. — Там есть пианола и граммофон. Жаль, я не сообразил взять свой кларнет. Я умею играть «Дикси». Машина с головокружительной скоростью неслась по заснеженной дороге, среди белых полей. Спарсер, воображая себя опытным шофером, а в эту минуту еще и подлинным владельцем машины, хотел испытать, с какой скоростью он может вести ее по такой дороге. Темные виньетки лесов мелькали справа и слева. Проносились мимо поля, стражи дороги — холмы вздымались и спадали, как волны. Мелькнуло пугало, стоявшее у самого края дороги: широкие рукава его трепал ветер, истлевший цилиндр съехал набок. С поля поднялась стая ворон и полетела к дальнему лесу — его темные неровные очертания едва виднелись на фоне снежных просторов. Спарсер сидел за рулем с таким видом, словно вести эту великолепную машину для него самое обычное дело; рядом с ним сидела Лора Сайп. Ему, в сущности, больше нравилась Гортензия, но пока что он считал своим долгом оказывать некоторое внимание Лоре. Чтобы не уступить остальным в галантности, он одной рукою обнял ее, а другой продолжал править — фокус, немало испугавший Клайда, который все еще сомневался, благоразумно ли было вообще брать чужую машину. При такой быстрой езде все они рискуют погибнуть. Гортензию занимало лишь одно: что Спарсеру она явно нравится, хотя он пока и должен волей-неволей ухаживать за Лорой. И когда он обнял Лору и свысока спросил ее, часто ли она каталась на автомобиле по окрестностям Канзас-Сити, Гортензия только улыбнулась про себя. Но Ретерер, заметив жест Спарсера, подтолкнул локтем Люсиль Николас, а та, в свою очередь, толкнула Хигби, чтобы привлечь его внимание к лирической сценке на переднем сиденье. — Ну, что, Уиллард, вы там недурно устроились? — дружелюбно окликнул Ретерер Спарсера. — Очень даже, — весело ответил Спарсер, не оборачиваясь. — Тебе хорошо, детка? — Великолепно, — ответила Лора. А Клайд подумал, что Гортензия красивее всех этих девушек, — ни одна не может сравниться с нею. В этот день на ней было красное платье с черной отделкой и темно-красная, в тон платью, шляпа с большими полями. А на левой щеке, как раз под маленьким накрашенным ртом она прилепила крошечную черную мушку в подражание какой-то кинокрасавице. Собираясь на эту прогулку, она решила затмить всех девушек и теперь чувствовала, что ей это удалось. И Клайд был совершенно согласен с нею. — Вы здесь лучше всех, — прошептал он, нежно обнимая ее. — А вы, милый мальчик, тоже умеете подмазываться, когда захотите, — сказала она громко, и все засмеялись. Клайд слегка покраснел. За Майнавилом через шесть миль дорога свернула в лощину; тут была деревенская лавка, и Хегленд, Хигби и Ретерер вышли из машины, чтобы купить конфет, папирос, мороженого и фруктовой воды. Затем проехали Либерти и в нескольких милях от Экселсиор-Спрингс увидели «Вигвам», оказавшийся просто старым двухэтажным коттеджем, прижавшимся к небольшому холму. Правда, к старому дому примыкала новая, более вместительная одноэтажная пристройка; тут помещались столовая, зал для танцев и в конце его за перегородкой — бар. В большом камине весело пылал огонь. Внизу, в лощине по ту сторону дороги, виднелась речка Бентон, попросту ручей, теперь покрытый прочным льдом. — Вот вам и речка! — весело крикнул Хигби, помогая Тине Когел выйти из машины. По дороге он несколько раз прикладывался к своей фляжке и заметно повеселел. Компания приостановилась, чтобы полюбоваться ручьем, застывшим в извилистых, поросших деревьями берегах. — Говорил я, что надо захватить коньки и покататься, — вздохнул Хегленд. — Не послушали меня. Ну, да уж ладно… В это время Люсиль Николас увидела отблеск огня в маленьком окошке «Вигвама» и закричала: — Смотрите, там у них камин! Машину отвели в гараж и затем всей гурьбой вошли в гостиницу; Хигби тотчас пустил в ход большой, грохочущий и дребезжащий граммофон-автомат, бросив в него пятицентовую монету. Соперничая с ним, Хегленд подбежал к другому граммофону, стоявшему в углу, и поставил первую попавшуюся пластинку — «Серый мишка». При первых звуках хорошо знакомой мелодии Тина Когел крикнула: — Давайте скорее танцевать! Только пусть замолчит вторая шарманка! — Замолчит, когда кончится завод, — смеясь ответил Ретерер. — Эту штуку можно остановить только одним способом: не кормить ее пятицентовиками. Вошел официант, и Хигби стал спрашивать, кто что будет есть. Тем временем Гортензия, желая покрасоваться перед всеми, вышла на середину комнаты и прошлась подражая походке медведя, поднявшегося на задние лапы, как того требовал танец. Она проделала это очень забавно и грациозно. Спарсеру давно уже хотелось привлечь ее внимание, и теперь, видя ее одну посреди комнаты, он пошел за нею, повторяя ее движения. Гортензия оценила его ловкость, притом ей не терпелось потанцевать; она быстро оставила свою забаву, обернулась к Спарсеру — и они заскользили в уанстепе. Клайд, которого никак нельзя было назвать хорошим танцором, мгновенно ощутил жгучую ревность. Он так страстно стремился к Гортензии, а она покинула его в самом начале веселья, — это просто нечестно! Но Гортензия уже заинтересовалась Спарсером, — он-то, по-видимому, не такой неискушенный новичок, — и, не обращая внимания на Клайда, продолжала танцевать с новым поклонником, чьи движения так приятно гармонировали с ее собственными. Остальные не пожелали отстать. Хегленд тотчас пригласил Майду, Ретерер танцевал с Люсиль, Хигби — с Тиной Когел. Клайду осталась Лора Сайп, которая ему не особенно нравилась. Она была далеко не красавица: толстая, с широким невыразительным лицом и маленькими слащавыми голубыми глазками. Клайд не был искусным танцором, и они с Лорой танцевали простой уанстеп, тогда как другие выделывали сложные фигуры. Клайд с тоскливым бешенством заметил, что Спарсер, продолжая танцевать с Гортензией, крепко прижал ее к себе и смотрит ей прямо в глаза. И она это позволяет. Клайд почувствовал вдруг свинцовую тяжесть под ложечкой. Неужели она флиртует с этим мальчишкой-выскочкой, который только тем и хорош, что достал автомобиль! А ведь она обещала быть ласковой с ним. Клайд начал догадываться, что она ветрена и совершенно к нему равнодушна. Ему хотелось что-то предпринять: оставить Лору, увести Гортензию от Спарсера… но ничего нельзя было сделать, пока не кончится пластинка. В это время появился официант с подносом и расставил на трех сдвинутых вместе столиках коктейли, фруктовую воду и сандвичи. Все перестали танцевать и направились к столам, — все, кроме Спарсера и Гортензии. Клайд мгновенно отметил это. Бессердечная кокетка! Она вовсе и не думает о нем! А ведь совсем недавно она старалась уверить его в противном и заставила помочь ей с этим жакетом. Пусть отправляется к дьяволу. Он ей покажет! А он-то старался услужить ей… Но всему есть границы. Наконец, видя, что все уже собрались вокруг столов, придвинутых к камину, Спарсер и Гортензия тоже перестали танцевать и присоединились к остальным. Клайд, бледный и угрюмый, стоял в сторонке, притворяясь равнодушным. Лора, которая давно уже заметила его ярость и догадалась, в чем дело, оставила его, подошла к Тине Когел и рассказала, почему Клайд так зол. Тогда и Гортензия заметила наконец мрачный вид Клайда и подошла к нему все той же танцующей «медвежьей» походкой. — Вот весело, правда? — начала она. — Ужасно люблю танцевать под такую музыку. — Вам-то, конечно, весело, — ответил Клайд, терзаясь завистью и досадой. — А в чем дело? — спросила она негромко и почти обиженно, притворяясь, будто не понимает, хотя прекрасно знала, почему он злится. — Неужели вы сходите с ума потому, что я танцевала со Спарсером? Как глупо! Почему вы не подошли раньше и не пригласили меня? Не могла же я отказать ему, когда он уже был рядом! — Ну конечно, не могли, — ответил Клайд язвительно, но тоже понизив голос: он, как и Гортензия, не хотел, чтобы остальные слышали их разговор. — А зачем вы прижимались к нему и смотрели ему в глаза? — Он был взбешен. — Не спорьте, я все видел. Гортензия удивленно взглянула на него: ее поразила резкость его тона, он впервые заговорил с ней так. Видно, стал слишком уверен в себе. Она была чересчур мила с ним. Но сейчас не время показывать ему, что ей вовсе не так с ним приятно, как она уверяла, — ведь ей хочется получить жакет, и они уже обо всем условились. — Ну, знаете, это невыносимо, — сказала она сердито. Больше всего ее злило, что он прав. — Вы еще и ворчите. Чем я виновата, что вы вздумали ревновать! Я только потанцевала с ним немножко. Я не знала, что вы станете беситься. Она уже собиралась отойти, но снова подумала об их уговоре; нужно как-то задобрить Клайда, иначе дело не выгорит. Она потянула его за лацкан пиджака, чтобы отвести подальше, так как остальные уже наблюдали за ними и прислушивались. — Ну, поймите же. Не надо так ворчать и дуться. Я ничего плохого не сделала. Честное слово. Теперь все так танцуют, и это ничего не значит. Разве вы не хотите, чтобы я была мила с вами? Помните, что я вам говорила? И она посмотрела ему прямо в глаза рассчитанно-нежно и многообещающе, точно он был здесь единственным, кто ей по-настоящему нравился. И обдуманно, с совершенно определенным намерением, сделала свою обычную гримаску, приоткрыв рот и чуть выпятив губы, как будто хотела его поцеловать. Эта гримаска доводила Клайда до безумия. — Ну, ладно, — сказал он, глядя на нее покорно и просительно. — Наверно, я глуп. Но я ведь все видел. Вы же знаете. Гортензия, я с ума схожу, я просто вне себя! И ничего не могу поделать. Иной раз мне хочется от этого избавиться. Не быть таким дураком. Он Печально смотрел на нее. А она, ясно представляя себе, как велика ее власть над Клайдом и как легко им вертеть, сказала: — Ну… не надо, не надо так, будьте паинькой, — я вас поцелую, когда на нас не будут смотреть. А в то же время она чувствовала на себе взгляд Спарсера и сознавала, что его влечет к ней и что он нравится ей больше всех, с кем она встречалась за последнее время.Глава 18
Веселье достигло высшей точки, когда Хегленд опять напомнил о речке и о связанных с нею возможностях. К этому времени все уже вдоволь натанцевались и немало выпили. Выглянув в окно, он вдруг воскликнул: — Что же это такое? Почему лед остается без внимания? Смотрите, какой шикарный лед! Пошли кататься! И они всей гурьбой вышли на улицу. Ретерер схватил за руку Тину Когел, и они пустились бежать; за ними Спарсер с Люсиль Николас (они только что танцевали вместе), Хигби с Лорой Сайп, которой он решил пока заняться для разнообразия, и Клайд с Гортензией. Едва компания очутилась на льду, на узкой, вьющейся среди безлистных рощиц полоске, с которой ветер кое-где дочиста сдул снег, как все они стали похожи на юных сатиров и нимф древности. Они бегали взад и вперед, спотыкались и скользили; Хигби, Люсиль и Майда сразу упали, но тут же с хохотом вскочили на ноги. Гортензия сначала осторожно семенила, опираясь на руку Клайда, но скоро начала бегать и скользить по льду, точно на коньках, взвизгивая в притворном страхе. И теперь не только Спарсер, но и Хигби, не считаясь с Клайдом, начали ухаживать за ней. Они скользили по льду рядом с ней, догоняли ее, притворялись, что подставляют ей ногу, и подхватывали ее, когда она падала. Потом Спарсер схватил Гортензию за руку и, не обращая внимания на остальных, будто против ее воли, потащил за собой вверх по ручью, к повороту, за которым они и скрылись. Решив не проявлять больше подозрительности и ревности, Клайд остался позади. Но в глубине души он опасался, что Спарсер может воспользоваться случаем и назначить Гортензии свидание, даже поцеловать ее. Она вполне способна позволить ему это, хотя бы и притворяясь, что все это против ее желания. Мучительно! Клайд невольно поддался неотступной тревоге. Он ощущал свое бессилие, ему хотелось бы видеть их. Но тут Хегленд, держа за руку Люсиль Николас, стал сзывать всех в цепь; Клайд тоже взял Люсиль за руку и протянул другую руку Майде Акселрод, а та, в свою очередь, протянула свободную руку Ретереру. Хигби и Лора Сайп уже готовы были стать в конце цепи, когда появились Спарсер и Гортензия, скользя по льду и держась за руки. Они стали последними в цепи. Тогда Хегленд быстро побежал, увлекая за собой остальных; он поворачивал, бросался то туда, то сюда, пока все, кто был позади Майды, не попадали на лед. И Клайд заметил, что Гортензия и Спарсер, падая, скользили и катились вместе, толкая друг друга к берегу, пока не наткнулись на кучу снега, сухих листьев и веток. Юбки Гортензии сбились, открывая колени. Но вместо того чтобы смутиться, как того ждал и хотел Клайд, она сидела так несколько мгновений, ничуть не стыдясь, и даже весело смеялась, а Спарсер был рядом и все еще держал ее за руку. Лора Сайп упала так, что сбила с ног Хигби, и он повалился на нее, и они тоже продолжали лежать, заливаясь хохотом, в весьма двусмысленной позе, как подумалось Клайду. Он заметил, что у Лоры платье тоже задралось выше колен. Спарсер, который успел уже подняться и сесть, показывал на ее красивые ноги и громко хохотал, скаля зубы. Кругом раздавались визг и взрывы смеха. «Черт знает что! — думал Клайд. — И какого дьявола он все время вертится около Гортензии? Должен был сам привезти для себя девушку, если хотел повеселиться. Какое они имеют право уходить туда, где их никто не видит! И она думает, я поверю, будто это ничего не значит. Она никогда не смеялась со мной так весело, как с ним. За кого она меня принимает? Воображает, что меня можно водить за нос?» Он сердито нахмурился; но тут цепь восстановили. Люсиль Николас все еще держала его за руку. Спарсер и Гортензия снова оказались в хвосте. Но Хегленд, не подозревая о настроении Клайда и поглощенный веселой игрой, закричал: «Пускай теперькто другой идет в конец!» Ретерер и Майда Акселрод, Клайд и Люсиль Николас послушно передвинулись в конец цепи, а Хигби с Лорой Сайп и Гортензия со Спарсером оказались впереди. Гортензия не выпускала руки Спарсера. Но теперь она стояла рядом с Клайдом (он был справа от нее) и взяла его за руку, а Спарсер, который стоял слева от нее, крепко сжимал другую ее руку, и это приводило Клайда в бешенство. Почему он не занимается Лорой Сайп? Ведь ее пригласили ради него! А Гортензия его поощряет! Клайд теперь совсем приуныл и был так обижен и раздосадован, что с трудом участвовал в игре. Ему хотелось бросить все и затеять ссору со Спарсером. Но Хегленд, стремительный и нетерпеливый, увлек за собой всю цепь, раньше чем Клайд успел на что-либо решиться. И как он ни старался сохранить равновесие, все-таки он, Люсиль, Ретерер и Майда оторвались от цепи и волчком завертелись на льду. В критическую минуту Гортензия выпустила руку Клайда, явно предпочитая держаться за Спарсера. Все упавшие одним клубком катились футов сорок по гладкому зеленоватому льду, пока не докатились до засыпанного снегом берега. Люсиль Николас лежала у Клайда на коленях, лицом вниз, в такой удобной для порки позе, что он не мог не рассмеяться. А Майда упала на спину рядом с Ретерером, высоко подняв ноги. «Нарочно», — подумал Клайд. Он считал, что она слишком груба и нахальна. И тут, конечно, начался восторженный визг, крик, хохот — такой громкий, что, наверно, было слышно за полмили. Хегленд, вообще очень смешливый, теперь согнулся чуть ли не вдвое, хлопал себя по бедрам и уже не хохотал, а ревел. Спарсер, разинув огромный рот, фыркал и гримасничал. Веселье было так заразительно, что на время Клайд забыл о ревности. Он тоже смотрел и смеялся. Но настроение его, в сущности, не изменилось. Он все-таки чувствовал, что Гортензия ведет себя нечестно. Под конец Люсиль Николас и Тина Когел устали и вышли из игры. Гортензия тоже. Клайд немедленно подошел к ней. Ретерер последовал за Люсиль. Разошлись в разные стороны и все остальные. Хегленд скользил по льду, толкая Майду Акселрод перед собой, и вскоре они скрылись за поворотом. Хигби подхватил идею Хегленда и таким же способом повез Тину Когел вверх по реке, а Ретерер и Люсиль, словно заметив что-то интересное в ближней рощице, направились к ней, смеясь и болтая. Даже Спарсер и Лора, предоставленные самим себе, отправились куда-то, и Клайд остался наедине с Гортензией. Они подошли к бревну, лежавшему на берегу, и Гортензия села. Но Клайд, страдая от воображаемых ран, молча стоял подле; почувствовав его настроение, Гортензия схватила его за пояс пальто и потянула к себе. — Но-но-о, лошадка! — весело воскликнула она. — Но-но-о! Вперед! Лошадка, прокати меня по льду! Клайд хмуро посмотрел на нее; внутренне взбешенный, он не собирался так легко забыть свои обиды. — Зачем вы позволяете этому Спарсеру все время липнуть к вам? — спросил он. — Я видел, как вы уходили с ним туда, за поворот. Что он вам говорил? — Ничего не говорил. — Ну ясно, ничего, — сказал он громко и насмешливо. — Может быть, он и не целовал вас? — Конечно, нет, — сказала Гортензия решительно и зло. — Хотела бы я знать, за кого вы меня принимаете? Я не позволяю целовать себя людям, которых вижу в первый раз, имейте это в виду, мой милый. Вам-то я не позволила. — Да, конечно… Но вы к нему лучше относитесь, чем ко мне. — Вот как? Ну что ж, может быть! Но все равно, какое вы имеете право говорить, что я к нему хорошо отношусь? Что же, мне и повеселиться нельзя, так я и буду у вас под надзором? Надоели вы мне, вот что я вам скажу! Гортензия не на шутку рассердилась: ей показалось, что Клайд говорит с ней слишком по-хозяйски. А Клайд, получив так внезапно суровый отпор, был несколько ошеломлен и тотчас решил, что, пожалуй, ему лучше изменить тон. В конце концов, она никогда не говорила, что любит его, даже тогда, когда давала свое неопределенное обещание. — Ладно, — заметил он, помолчав, угрюмо и не без грусти. — Я знаю только одно: вы иногда говорите, что я вам не безразличен, так вот, если б мне кто был не безразличен, я не стал бы флиртовать с другими. — Ах, вы не стали бы? — Да, не стал бы. — А кто же здесь флиртует, хотела бы я знать? — Вы. — Я не флиртую и, пожалуйста, уходите отсюда и оставьте меня в покое. Вы только и умеете придираться. Если я танцевала с ним в ресторане, это еще не значит, что я флиртую. Вы мне надоели, вот и все. — Надоел? — Да, надоели. — Ну что же, может быть, мне лучше уйти и больше вас вообще не беспокоить, — сказал Клайд. В нем пробудилось нечто, напоминавшее мужество его матери. — Да, так будет лучше, раз вы не можете вести себя иначе, — заметила Гортензия, досадливо постукивая ногой по льду. Но Клайд уже чувствовал, что не в силах вот так от нее уйти… он слишком пылко стремился к ней, был слишком ею порабощен. Воля его слабела; он с тревогой смотрел на Гортензию. А она вновь подумала о жакете и решила, что надо стать любезнее. — А вы разве не смотрели ему в глаза? — спросил он неуверенно, опять вспомнив, как она танцевала со Спарсером в ресторане. — Когда? — Когда танцевали с ним. — Не смотрела, во всяком случае, не помню. Ну а если бы и смотрела, что за беда? Это ничего не значит. Подумаешь! Неужели нельзя посмотреть в глаза человеку? — Так, как вы смотрели, нельзя, если вам на самом деле нравится кто-то другой. Лицо у Клайда стало и недовольное и растерянное. Гортензия нетерпеливо и негодующе прищелкнула языком. — Вы просто несносный. — А там, на льду, когда вы вернулись с ним, — продолжал Клайд решительно, но все же волнуясь. — Вы не подошли ко мне, вы пошли с ним в конец цепи. Я видел. И всю дорогу держали его за руку. А когда вы упали, а потом сидели там с ним, он опять держал вашу руку. Хотел бы я знать, что это такое, по-вашему, — не флирт, нет? А что еще? Будьте уверены, Спарсер думает то же самое. — Ну и пусть, а я все равно не флиртовала с ним, и можете говорить, что вам угодно. Хотите, чтобы все шло так, как сейчас, — хорошо, пожалуйста. Я не могу вас остановить. Это все ваша проклятая ревность; по-вашему, и того нельзя, и этого нельзя. Как же играть на льду, если не держаться за руки, хотела бы я знать? Вот еще, подумаешь! А вы сами с этой Люсиль Николас? Я видела, как она лежала у вас на коленях, а вы сидели и хохотали, но я ничего такого не подумала. Что же мне надо было делать, по-вашему? Приехать сюда и сидеть, как приклеенной, вот тут, на бревне? Или бегать за вами хвостом? Или чтоб вы бегали за мной? За кого вы меня принимаете? Что я — дура? Она считала, что Клайд оскорбил ее, и вышла из себя. Она подумала о Спарсере, — он действительно привлекал ее сейчас больше, чем Клайд. Спарсер не романтик — он проще, практичнее. Клайд отвернулся, снял кепи и мрачно потер голову, а Гортензия смотрела на него и думала о нем и снова о Спарсере. Спарсер мужественнее, не такая плакса. Он не стоял бы вот так и не жаловался, будьте уверены. Он, вероятно, сразу распростился бы с нею, увидев, что тут не будет толку. А все-таки Клайд на свой лад приятен и полезен. Кто еще сделает для нее то, что делает он? И, во всяком случае, он сейчас не принуждает ее уйти с ним куда-нибудь подальше, как ушли остальные. А она боялась, что он тоже решится на такую попытку, опережая ее планы и желания. Их ссора предотвратила это. — Ну, подумайте, — снова заговорила она, решив, что лучше умаслить Клайда и что, в конце концов, справиться с ним не так уж трудно. — Так мы и будем ссориться? Стоит ли? Для чего вы меня сюда привезли? Неужели, чтобы ворчать на меня все время? Я бы не поехала, если б знала. Она отвернулась, постукивая по льду узким носком ботинка, а Клайд, снова поддавшись очарованию этой девушки, схватил ее в объятия, прижимаясь губами к ее губам, стараясь удержать ее и подчинить своим ласкам. Но Гортензия, — отчасти потому, что ее теперь влекло к Спарсеру, отчасти потому, что Клайд раздражал ее, — оттолкнула его, злясь и на него и на себя. С какой стати подчиняться ему, делать то, чего ей не хочется, — сейчас, по крайней мере? Она не обещала, что именно сегодня будет с ним так мила, как ему хочется. Такого уговора не было. Во всяком случае, сейчас она не желает, чтобы он так обращался с нею, она этого не позволит — и все тут! Клайд, понимая теперь, как она на самом деле к нему относится, отступил и только смотрел на нее мрачными и жадными глазами. И она ответила пристальным взглядом. — Вы, кажется, говорили, что хорошо относитесь ко мне, — сказал Клайд почти злобно, видя, что все его мечты об этом дне, о счастливой прогулке развеялись как дым. — Да, хорошо отношусь, когда вы бываете милым, — ответила она лукаво и уклончиво, думая о своих прежних обещаниях и стараясь как-нибудь уладить дело. — Ну да, хорошо, — сказал он ворчливо. — Вижу я ваше хорошее отношение. Вы даже не позволяете мне до вас дотронуться. Хотел бы я знать, что вы имели в виду, когда говорили со мной в тот раз. — А что я такое говорила? — возразила Гортензия только для того, чтобы выиграть время. — Как будто вы не знаете! — Ах да! Но ведь все это не сейчас, правда? Кажется, мы говорили… — Она замолчала в нерешительности. — Я помню, что вы говорили, — продолжал Клайд. — Но теперь я вижу, что вы совсем не любите меня, в этом все дело. Если б вы в самом деле меня любили, какая вам была бы разница — теперь, или через неделю, или через две? Как видно, это зависит от того, что я для вас делаю, а не от вашей любви ко мне. Вот так ловко! Страдание сделало его дерзким и смелым. — Ничего подобного! — огрызнулась она, разозленная тем, что он угадал правду. — И я не желаю, чтобы вы так со мной разговаривали. Мне совсем не нужен этот несчастный жакет, если хотите знать. И можете получить назад ваши несчастные деньги, не нужны они мне. И оставьте меня в покое раз и навсегда. У меня и без вашей помощи будут жакеты, сколько угодно! Сказав это, она повернулась и пошла прочь. Но Клайд, уже думая, как всегда, только о том, чтобы ее умилостивить, бросился за ей. — Не уходите, Гортензия, — просил он. — Подождите минутку. Я ничего такого не думал, честное слово. Я без ума от вас, честное слово. Разве вы не видите? Ну, пожалуйста, не уходите. Я совсем не для того даю вам деньги, Чтобы получить что-то взамен. Возьмите их просто так; если хотите… Я никого на свете так не люблю, никогда не любил. Возьмите все деньги, не надо мне их. Но только я думал, что и вы немножко любите меня. Неужели я совсем, совсем вам безразличен, Гортензия? Он казался покорным и испуганным, и она, почувствовав свою власть над ним, немного смягчилась. — Нет, конечно, — заявила она. — Но все равно, это не значит, что вы можете обращаться со мной так, как сейчас. Вы, кажется, не понимаете, что девушка не всегда может сделать все, чего вы от нее хотите, как раз тогда, когда вам хочется. — О чем это вы? — спросил Клайд, не вполне уловив смысл ее слов. — Я не совсем понял. — Ну, уж, наверно, поняли. Она не могла поверить, что он не знает. — Ах, вот что! Мне кажется, я знаю, что вы хотите сказать. Теперь понятно, — продолжал он разочарованно. — Это старая история, все так говорят, я знаю. Клайд, в сущности, повторял теперь слова и интонации других юнцов из отеля — Хигби, Ретерера, Эдди Дойла, — которые объяснили ему, в чем тут дело, и рассказали, что девушки, ссылаясь на это, выкручиваются иной раз из трудного положения. И Гортензия поняла, что он разгадал ее уловку. — Как не стыдно! — воскликнула она, притворяясь обиженной. — Вам ничего нельзя сказать, вы все равно никогда ничему не верите. Но хотите — верьте, хотите — нет, а это правда. — Я теперь знаю, какая вы, — сказал он печально, но и чуточку высокомерно, как будто все это было ему давно знакомо. — Вы меня совсем не любите, вот и все. Теперь я понял. — Как не стыдно! — повторяла Гортензия с видом оскорбленной добродетели. — Уверяю вас, это правда. Хотите — верьте, хотите — нет, но я клянусь вам, честное слово. Клайд стоял смущенный. Он просто не знал, что сказать в ответ на эту жалкую хитрость. Он не может ее ни к чему принудить. Если она хочет лгать и притворяться, он тоже притворится, что верит ей. И все же он был глубоко опечален. Никогда ему не добиться ее любви, это ясно. Он повернулся, чтобы уйти, и Гортензия, не сомневаясь, что ее ложь разгадана, сочла своим долгом что-то сделать, снова как-то забрать его в руки. — Ну, Клайд, пожалуйста, — начала она, пуская в ход всю свою хитрость. — Ведь это же правда. Уверяю вас. Вы не верите? Право, на будущей неделе. Честное слово! Не верите? Я сделаю все, что обещала. Я знаю, что говорю. Честное слово! И вы мне нравитесь… очень! Неужели вы и этому не верите? Это была артистическая игра, — и Клайд, дрожа с головы до ног, ответил, что верит. Он снова повеселел и улыбался. И пока они шли к автомобилю (Хегленд уже сзывал всех — пора было ехать), он держал Гортензию за руку и несколько раз поцеловал ее. Он был совершенно уверен, что мечта его исполнится. О, какое это будет блаженство!Глава 19
На обратном пути в Канзас-Сити вначале ничто не нарушало приятного заблуждения, в котором пребывал Клайд. Он сидел рядом с Гортензией, и она склонила голову к нему на плечо. Спарсер, ожидавший, пока все усядутся, чтобы самому сесть за руль, сжал руку Гортензии выше локтя и получил в ответ многообещающий взгляд, но Клайд этого не заметил. Час был уже поздний, Хегленд, Ретерер и Хигби подгоняли Спарсера, и тот, повеселев от взгляда Гортензии и от выпитого вина, так погнал машину, что впереди скоро блеснули огни предместий. Машина неслась с головокружительной скоростью. И вдруг пришлось остановиться: здесь, вблизи города, проходила восточная линия железной дороги, и они долго, волнуясь, ждали на переезде, пока пройдут два длинных товарных поезда. Когда подъехали к северной окраине Канзас-Сити, повалил мокрый снег; большие хлопья сразу таяли, дорога покрылась слоем скользкой грязи, и теперь ехать нужно было очень осторожно. Часы показывали уже половину шестого. В обычных условиях при большой скорости хватило бы восьми минут, чтобы добраться до ближайших к отелю кварталов, где они могли бы остановить машину. Но произошла новая задержка у моста Ганнибала, — и, когда они переехали мост и добрались до Вайандот-стрит, было без двадцати шесть. Четверо молодых людей уже потеряли всякий вкус к поездке и больше не радовались близости своих спутниц. Теперь они могли думать только о том, удастся ли им попасть вовремя в отель. Перед ними неотступно маячила строгая, педантичная фигура мистера Скуайрса. — Ну, если мы не поедем скорее, нам не добраться в срок, — сказал Ретерер Дэвису Хигби, беспокойно вертевшему в руках часы. — Едва ли мы успеем переодеться. Клайд, услышав его слова, воскликнул: — Ну, это не годится! Нельзя ли двигаться побыстрее? Напрасно мы сегодня поехали. Беда, если не попадем к поверке. А Гортензия, заметив его волнение и тревогу, спросила: — Вы думаете, мы не доедем вовремя? — При такой скорости не доедем, — сказал он. Хегленд, который внимательно всматривался в то, что делалось за окном, — в глазах рябило, словно весь мир был заполнен клочками непрерывно падавшей ваты, — крикнул Спарсеру: — Эй, Уиллард, нельзя ли побыстрей? Нам зарез, коли опоздаем. А Хигби, разом выведенный из своего наглого спокойствия — спокойствия азартного игрока, прибавил: — Нас наверняка выгонят, если мы не соврем чего-нибудь в оправдание. Кто придумает, что бы нам сказать? Клайд только прерывисто вздохнул. И, как нарочно, почти на каждом перекрестке они наталкивались на скопление экипажей и должны были мучиться ожиданием. На пересечении Девятой и Вайандот-стрит раздосадованный Спарсер, увидев новое препятствие — предостерегающе поднятую руку полисмена, — нетерпеливо воскликнул: — Опять задержка! Ну что тут будешь делать! Я могу свернуть на Вашингтон-стрит. Только не знаю, выйдет ли быстрее. Прошла целая минута прежде чем был дан сигнал ехать дальше. Тогда Спарсер быстро повернул вправо, и через три квартала машина вышла на Вашингтон-стрит. Но и тут было не лучше. Два сплошных потока машин двигались в противоположных направлениях, и на каждом перекрестке несколько драгоценных мгновений терялось на то, чтобы пропустить поперечный поток. Затем автомобиль устремлялся дальше, до следующего перекрестка, пробираясь среди других экипажей, стараясь их обогнать. На углу Пятнадцатой и Вашингтон-стрит Клайд сказал Ретереру: — Может, сойдем у Семнадцатой и пойдем пешком? — Никакого смысла, — отозвался Спарсер. — Если я сумею свернуть там, выйдет гораздо быстрее. Они теснили другие машины, стараясь выиграть лишний дюйм пространства. На углу Шестнадцатой и Вашингтон-стрит Спарсер увидел слева, как ему показалось, довольно свободный квартал и свернул туда, чтобы этим проездом снова выехать на Вайандот-стрит. Как раз в то мгновение, когда он, ведя машину вплотную вдоль тротуара, приближался к углу и готовился свернуть, не уменьшая скорости, девочка лет девяти, бежавшая к перекрестку, очутилась прямо перед автомобилем. Спарсер не мог ни остановиться, ни объехать ее, девочку сбило с ног и протащило несколько шагов, прежде чем машину удалось остановить. И тотчас раздался крик десятка голосов: пронзительные вопли женщин и возгласы мужчин — свидетелей несчастья. Все они мгновенно бросились к упавшей девочке; колеса переехали через нее. Спарсер, выглянув, увидел кучку людей вокруг неподвижного тела, и его охватила непередаваемая паника: он представил себе полицию, тюрьму, отца, владельца автомобиля, суровую кару… И хотя все, кто был в автомобиле, вскочили с криками: «О, боже! Он сбил девочку! Он убил ребенка! Какой ужас! Господи! Что же теперь делать?» — Спарсер обернулся и крикнул: — Полиция! Надо удирать! И, не ожидая согласия остальных (они привстали в машине, но ни слова не могли вымолвить от страха), он рванул рычаг, и «пакард» на предельной скорости понесся к следующему перекрестку. Но там, как и на каждом углу, стоял полисмен, который, увидев, что за квартал от него возникло какое-то смятение, уже приготовился покинуть свой пост, чтобы узнать, в чем дело. В эту минуту крики: «Задержите эту машину! Задержите эту машину!» — достигли его ушей. А мужчина, бежавший вслед за автомобилем с места несчастья, кричал: «Держите их, держите! Они убили ребенка!» Полисмен сейчас же повернулся к автомобилю и поднес к губам свисток. Но Спарсер, услышав крики и увидев идущего навстречу полисмена, метнулся мимо него на Семнадцатую улицу и помчался по ней со скоростью почти сорока миль в час. На ходу он задел колесо какого-то грузовика, поцарапал крыло другой машины; он проскакивал мимо экипажей и пешеходов на расстоянии дюйма, а то и какой-нибудь четверти дюйма. Позади него в «пакарде» почти все сидели с застывшими лицами, напряженно вытянувшись, стиснув руки, широко раскрыв глаза и плотно сжав губы; только Гортензия, Люсиль Николас и Тина Когел непрерывно повторяли: «Господи, господи! Что теперь будет!» Но удрать от полиции и от всех тех, кто начал преследовать машину, было не так-то просто. Полисмен, не успев рассмотреть номер автомобиля, но убедившись, что водитель не намерен остановиться, дал резкий и продолжительный свисток. Полисмен на следующем углу, увидев быстро мчавшуюся машину и поняв, что это может значить, тоже дал свисток, вскочил на подножку проезжавшего мимо открытого автомобиля и приказал шоферу догнать беглецов. Еще три автомобилиста — охотники до происшествий, видя, что случилось что-то неладное, пустились в погоню, то и дело давая громкие гудки. Но «пакард» был быстроходнее всех своих преследователей; на протяжении нескольких кварталов крики: «Задержите эту машину! Задержите эту машину!» — еще были слышны, но он мчался слишком быстро, и они постепенно замерли где-то позади; оттуда доносились теперь только долгие, отчаянные вопли далеких автомобильных рожков. Спарсер выиграл довольно большое расстояние; понимая, что прямой путь наиболее удобен для преследователей, он быстро свернул в сравнительно спокойную улицу Мак-Джи и промчался по ней несколько кварталов до поворота на широкую извилистую аллею Гилхэм. Но, проехав небольшой кусок ее с ужасающей быстротой, он решил у Тридцать первой улицы снова повернуть: ему казалось, что в северных предместьях будет легче скрыться от преследователей. Поэтому он повернул налево по Тридцать первой, надеясь в этих тихих кварталах замести следы и оторваться от погони, чтобы можно было высадить где-нибудь пассажиров и вернуться в гараж. И Спарсеру удалось бы это, если бы, свернув в одну из отдаленных улиц предместья, где дома были редки и совсем не было видно пешеходов, он не вздумал потушить фары, чтобы машина была менее заметна. Он ехал дальше, ежеминутно сворачивая то вправо, то влево, — и вот, когда он проехал несколько сот футов по какой-то тихой улице, мостовая вдруг окончилась. Но впереди, в каких-нибудь ста футах, виднелся перекресток. Спарсер вообразил, что за поворотом снова попадет на мощеную улицу, направился туда и, круто свернув налево, наскочил на груду булыжника, который заготовили здесь, собираясь мостить улицу. Двигаясь с незажженными фарами, он не разглядел препятствия. А наискось от этой груды, вдоль будущего тротуара, были сложены бревна для постройки дома. Автомобиль на полном ходу налетел на кучу камней — его отбросило, и, едва не опрокинувшись, он наскочил правым боком на бревна; бревна слегка подались, правые колеса, наехав на них, высоко поднялись, машина опрокинулась влево и рухнула боком на обочину дороги, на засыпанную снегом землю. Раздался звон разбитых стекол, и всех, кто сидел в автомобиле, швырнуло вперед и влево, и они кучей повалились друг на друга. Дальнейшее осталось загадочным и неясным не только для Клайда, но и для всех остальных. Спарсер и Лора Сайп, сидевшие впереди, с силой ударились о ветровое стекло и о крышу и потеряли сознание; у Спарсера были вывихнуты плечо, бедро и левое колено, пришлось оставить его в автомобиле: вытащить его через дверцу, находившуюся теперь над ним, так как автомобиль лежал на боку, было невозможно до приезда Скорой помощи. На втором сиденье ближе всех к левой двери был Клайд, рядом с ним сидели Гортензия, Люсиль Николас и Ретерер, — и Клайд, оказавшийся под ними, был придавлен и не мог шевельнуться. Его не раздавило потому, что Гортензия при падении перелетела через него и ударилась о крышу «пакарда», которая оказалась теперь левой стенкой. Ее соседка Люсиль упала так, что вся ее тяжесть пришлась только на плечи Клайда. Ретерер — верхний в этой груде тел, — падая, перелетел через переднее сиденье. Он схватился за баранку руля, которую выпустил из рук Спарсер, и, повиснув на ней, несколько задержал свое падение. Но все же у него были изрезаны руки и лицо, а плечо и бедро слегка вывихнуты, но не настолько, чтобы он не в силах был помочь другим. И как только Ретерер осознал положение и услышал крики и стоны спутников, он тотчас попытался выбраться наружу через дверцу, которая была теперь над его головой; цепляясь за других, он с трудом дотянулся до дверцы, и наконец ему удалось ее открыть. Выбравшись наружу, Ретерер вскарабкался на раму опрокинутой машины, нагнулся над дверцей и схватил за руку Люсиль. Она беспомощно барахталась и стонала и, как и остальные, тщетно пыталась выбраться наружу. Напрягая все свои силы и уговаривая: «Спокойно, дорогая, я держу тебя. Все в порядке, сейчас вытащу», — он поднял девушку, усадил на край дверцы, а затем спустил на снег. Она ощупывала голову и руки и плакала. Потом Ретерер помог выбраться Гортензии; ее левая щека, лоб и руки были сильно разбиты и залиты кровью: серьезных повреждений не было, но в ту минуту Гортензия еще не знала этого. Она всхлипывала, вздрагивая; ее трясло в нервном Ознобе, которым сменилось первоначальное полуобморочное оцепенение. В эту минуту из машины высунулась голова Клайда. Он сильно ушиб плечо, руку и левую щеку, мысли его еще путались, но он уже думал о том, как бы поскорее отсюда выбраться. Убит ребенок; украдена и разбита машина место в отеле наверняка потеряно; полиция преследует их и может в любую минуту захватить здесь. А под ним в автомобиле распростерт Спарсер, к которому уже склонился Ретерер. А рядом Лора, тоже без сознания. Клайд чувствовал, что должен что-то сделать, помочь Ретереру, который теперь старался поднять Лору, не причинив ей вреда. Однако он был так ошеломлен, что еще долго стоял бы без движения, но тут Ретерер в сердцах прикрикнул: — Да помоги же, Клайд! Попробуем ее вытащить. Она в обмороке. И Клайд, вместо того чтобы самому выбираться из автомобиля, обернулся к Лоре; стоя на разбитом стекле бокового окна, он попытался высвободить ее из-под неподвижного тела Спарсера и затем вытащить наверх, но не смог. Она была слишком безвольна и тяжела. Клайд сумел только оттащить ее назад, подальше от Спарсера, и оставил лежать в автомобиле между передним и вторым сиденьем. Тем временем на заднем сиденье очнулся оказавшийся наверху Хегленд, который был лишь слегка оглушен падением; он добрался до ближайшей дверцы и открыл ее. Затем благодаря своей атлетической силе без особого труда подтянулся на руках и вылез наружу, восклицая: — Ух, бог ты мой! Вот так приехали! Вот это попались! Надо поскорей удирать отсюда, пока не явились фараоны! Но, увидев тех, кто лежал внизу в машине, и услышав их стоны, Хегленд забыл и думать о бегстве. Ближе всех к нему была Майда, и он крикнул ей: — Ради всего святого, давай руку. Нам нужно в два счета удрать отсюда. Он помог Майде вылезть и тотчас оставил ее. Она опустилась на землю, ощупывая сильно разбитую голову, а Хегленд снова взобрался на раму шасси, наклонился над дверцей и схватил за плечи Тину Когел, упавшую на Хигби. Она была оглушена и теперь с трудом пыталась сесть. А Хигби, освободившись от тяжести чужих тел, сразу поднялся на колени и начал ощупывать голову и лицо. — Давай руку, Дэв! — крикнул ему Хегленд. — Живее, ради бога! Нельзя терять время. Ты ранен? Черт возьми, говорю, надо удирать отсюда. Вон уже кто-то идет — не фараон ли! Он схватил Хигби за левую руку, но тот оттолкнул его. — Оставь, не тяни меня! Я цел, сам выберусь. Помогай другим. Хигби встал, и голова его оказалась над дверцей. Он поискал глазами — не найдется ли внутри автомобиля чего-нибудь, на что можно поставить ногу, и заметил под ногами кожаную подушку, слетевшую с заднего сиденья. Он встал на подушку, подтянулся на руках до уровня дверцы, сел на нее и перекинул ноги наружу. Потом огляделся и, увидев, что Хегленд, Ретерер и Клайд пытаются вытащить Спарсера, пошел им помогать. А тем временем Гортензия, которая выбралась из автомобиля раньше Клайда, стала ощупывать свое лицо и обнаружила, что ее левая щека и лоб не только исцарапаны, но и кровоточат. Она подумала, что случившееся могло навсегда обезобразить ее, и разом ее охватил эгоистический страх; у нее все вылетело из головы — и страдания и раны других, и даже опасность, что их всех поймает полиция, и убитый ребенок, и разбитая дорогая машина, — словом, она помнила только о себе и о том, что, быть может, ее красота потеряна безвозвратно. Она заплакала, ломая руки. — О, господи, господи! — воскликнула она в отчаянии. — Какой ужас, какая жуть! Лицо у меня все изранено! О, какой ужас! И, чувствуя, что нужно сейчас же что-то предпринять, она, не сказав никому ни слова (в это время Клайд помогал Ретереру в автомобиле), вдруг бросилась бежать вдоль Тридцать шестой улицы по направлению на юг — к центру города, к ярко освещенным людным улицам, подгоняемая единственной мыслью: как можно скорее добраться домой и позаботиться о себе. О Клайде, о Спарсере, Ретерере и о своих подругах она не думала ни секунды. Что они ей? Лишь изредка среди мыслей о своей погибшей красоте она мельком вспоминала об убитом ребенке… Ужас всего случившегося, преследование полиции, то, что разбитый «пакард» не принадлежал Спарсеру и что всех их теперь могут арестовать, — все это мало ее трогало. О Клайде она вспомнила лишь потому, что это он пригласил ее на злополучную прогулку, значит, он и виноват во всем. Безмозглые мальчишки… втянули ее в историю… не могли справиться получше… Другие девушки, кроме Лоры Сайп, серьезно не пострадали, а только перепугались сначала. Теперь же их охватила настоящая паника: что, если полиция схватит их, арестует, их разоблачат, будут судить… И они стояли подле машины, восклицая: — Ох, поскорее, ради бога! — Ах, какой ужас! Давайте скорее уйдем отсюда! Наконец Хегленд не выдержал. — Да замолчите вы, черт возьми! — крикнул он. — Вы ж видите, мы делаем все, что можем. Из-за вашего крика сюда сбежится вся полиция. И, словно в ответ на это, к ним подошел один из обитателей предместья, живший квартала за четыре отсюда: он услышал грохот, крики и приплелся посмотреть, что случилось. С любопытством разглядывая разбитую машину и людей вокруг нее, он подошел поближе. — Что случилось? Авария, а? — спросил он довольно добродушно. — Может, кто ранен? Вот беда! А машина-то какая шикарная! Может, вам помочь? Услышав это, Клайд выглянул из машины: Гортензии нигде не было видно; Спарсера он уложил на дно и больше ничем не мог ему помочь. Он тоскливо озирался по сторонам — его мучила мысль, что полиция неизбежно будет их преследовать. Надо спасаться! Его не должны захватить здесь. Подумать только, что будет с ним, если его захватят! Его опозорят и, вероятно, накажут… отнимут у него его прекрасный мир, прежде чем он слово вымолвит… Узнает мать… мистер Скуайрс… Все узнают! Его наверняка посадят в тюрьму… Ужасная мысль! Она терзала его, точно самая страшная пытка… Они больше ничего не могут сделать для Спарсера; оставаться здесь дольше — значит рисковать, что их схватят. Поэтому, спросив: «А где же мисс Бригс?» — он выбрался из автомобиля и стал всматриваться в темноту, надеясь увидеть Гортензию. Он подумал, что прежде всего надо помочь ей и проводить ее. Но в эту самую минуту он услыхал сигнальные рожки и треск двух мотоциклов, мчавшихся к месту катастрофы; жена того человека, который подошел к ним, услышав в отдалении треск разбившейся машины и стоны, по телефону сообщила в полицию о несчастье с автомобилем, и теперь этот человек объяснил: — Вот они. Я сказал жене, чтоб она вызвала Скорую помощь. При этих словах, поняв, чем грозит им появление полиции, все участники поездки вскочили, готовые бежать. В темноте уже показались огни приближавшихся мотоциклов: машины вместе дошли до угла Тридцать первой и Кливленд-авеню, потом одна повернула по Кливленд-авеню к месту катастрофы, а другая продолжала свой путь по Тридцать первой, обследуя окрестности. — Бегите скорей, ради бога, — возбужденно прошептал Хегленд, — все врассыпную! И, схватив за руку Майду Акселрод, он бросился бежать по направлению к дальним восточным предместьям; но тут же сообразил, что едва ли удастся ускользнуть от преследования по Тридцать пятой, той самой, где лежал разбитый автомобиль, и, повернув на северо-восток, кинулся прямо в поле, прочь от города. Теперь и Клайд, словно впервые поняв, к чему приведет арест, — все его мечты о приятной жизни окончатся позором и, вероятно, тюрьмой! — тоже пустился бежать. Но вместо того чтобы последовать за Хеглендом или за кем-нибудь из остальных, он повернул к югу, по Кливленд-авеню, к южной окраине города. Однако он, как и Хегленд, сообразил, что на улице преследователям легко будет догнать его, и тоже решил свернуть в поле. Только вместо того чтобы бежать прочь от города, он повернул на юго-запад, к тем улицам, что лежат южнее Сороковой. Ему предстояло пересечь открытое пространство, но позади уже шарил свет от фонарей мчавшегося мотоцикла, и Клайд поспешно бросился в придорожные кусты и притаился за ними. Одни лишь Спарсер и Лора остались в автомобиле; к Лоре начало возвращаться сознание. Местный житель в полнейшем изумлении стоял подле. — Вот так штука! — вдруг догадался он. — Они, верно, украли машину. Похоже, что это вовсе не их автомобиль! Тут подъехал первый мотоциклист. Сидя в своем не слишком далеком убежище, Клайд услышал слова: — Ну что, не удалось вам удрать после всего, что натворили? Думали ловко вывернуться, да не вышло. Вас-то нам и нужно. А где же остальная шайка, а? Где они? Житель предместья сейчас же заявил, что он тут ни при чем и что все, кто ехал в автомобиле, разбежались, но полиция еще может захватить их, если угодно. Услышав это, Клайд торопливо, на четвереньках, стал отползать по снегу, направляясь к далеким юго-западным улицам; он все время видел перед собой слабый отблеск их фонарей; там он надеялся скрыться от преследователей, если его прежде не схватят; он затеряется там и, если только судьба будет милостива к нему, избегнет несчастья и наказания, бесконечного разочарования и отчаяния — всего, что теперь ждет его впереди.Часть 2
Глава 20
Дом Сэмюэла Грифитса в Ликурге (город с двадцатью пятью тысячами жителей, расположенный в штате Нью-Йорк, на полпути между Утикой и Олбани). Недалек обеденный час, и постепенно семья собирается к трапезе. В этот день обед приготовляется тщательнее обычного, потому что глава семьи, мистер Грифитс, только что возвратился после четырехдневного отсутствия: он был в Чикаго, на съезде фабрикантов воротничков и рубашек. Внезапное понижение цен, объявленное выскочками-конкурентами на Западе, заставило фабрикантов восточных штатов в свою очередь прийти к какому-то соглашению насчет цен. Сегодня после полудня Сэмюэл Грифитс сообщил по телефону, что вернулся и отправляется прямо в свою контору на фабрике, где пробудет до обеда. Миссис Грифитс давно привыкла к поведению своего энергичного супруга, который всегда непоколебимо верил в себя и, за редкими исключениями, считал каждое свое суждение и решение непогрешимым, почти безапелляционным; не удивилась она и на этот раз. В надлежащее время он явится домой и поздоровается с ней. Миссис Грифитс посовещалась со своей экономкой, миссис Трюсдейл, безобразной, но очень дельной, и, зная, что муж многим иным блюдам предпочитает баранью ногу, заказала барашка. А когда был закончен выбор соответствующих овощей и десерта, миссис Грифитс снова предалась своим мыслям: она думала о старшей дочери Майре, которая уже несколько лет назад окончила колледж Смита, но до сих пор не вышла замуж. Причину этого мать хорошо понимала, хотя никогда не признавалась себе в этом: Майра была некрасива. Нос у нее был слишком длинный, глаза поставлены слишком близко друг к другу, подбородок не настолько округлый, как того требует приятная девичья внешность. Обычно Майра казалась чересчур задумчивой и серьезной и почти не интересовалась жизнью местного общества. Она не обладала также и уменьем держать себя, не говоря уже о способности привлекать к себе мужчин, которой отличаются некоторые даже некрасивые девушки. Мать понимала, что Майра обладает слишком острым, слишком критическим умом и в интеллектуальном отношении стоит выше своей среды. Майра выросла среди роскоши, ей не приходилось заботиться о средствах к существованию, но перед нею стояла другая трудная задача: завоевать себе положение в обществе и любящего мужа — две цели, достигнуть которых без красоты и очарования почти так же трудно, как нищему стать миллионером. Вот уже двенадцать лет (с тех пор как ей исполнилось четырнадцать) наблюдала она, как весело и беззаботно живут юноши и девушки ее круга, а сама только читала, занималась музыкой, вечно была озабочена тем, как бы одеться возможно более к лицу, да навещала знакомых в надежде где-нибудь, как-нибудь встретить кого-то, кто заинтересовался бы ею: это и сделало ее печальной, почти ожесточило, хотя в материальном отношении жизнь ее и ее семьи была на редкость благополучной. Только что Майра прошла к себе через комнату матери с видом полнейшего равнодушия ко всему на свете, и мать раздумывала о том, как бы вывести ее из этого состояния, как вдруг в комнату влетела младшая дочь Белла: она вернулась от Финчли — богатых соседей, к которым заходила по дороге из школы. Белла была совсем не похожа на свою сестру — высокую, болезненно бледную брюнетку. Она была ниже ростом, но грациознее и в то же время крепче. У нее были густые, темные, почти черные волосы, смуглый оливковый цвет лица с горячим румянцем, веселые карие глаза, сверкавшие жадным интересом ко всему на свете, гибкое тело и красивые ловкие руки и ноги. Жизнь била в ней ключом. Она попросту любила все вокруг, наслаждалась жизнью такой, как она есть, и поэтому, в отличие от сестры, неудержимо привлекала к себе всех — мужчин, и юношей, и женщин, старых и молодых, — что, конечно, прекрасно замечали ее родители. Тут не приходилось опасаться: в свое время не будет недостатка в женихах. Мать считала, что вокруг Беллы уже теперь увивается слишком много юношей и взрослых мужчин, и потому вставал вопрос о выборе подходящего для нее мужа. Белла быстро завязывала дружбу не только с отпрысками старинных и добропорядочных семейств, представлявших собою сливки местного общества, но также, к великому неудовольствию своей матери, с сыновьями и дочерьми семей, лишь недавно выдвинувшихся и потому значительно менее почтенных, — с детьми фабрикантов бекона или консервных банок, пылесосов, деревянных и плетеных Изделий, пишущих машинок; все это были очень богатые люди, но в Ликурге их считали выскочками. По мнению миссис Грифитс, Белла со всей этой компанией слишком много танцевала, слишком часто посещала кабаре и носилась на автомобиле из города в город без должного присмотра. Но какой контраст с Майрой, насколько легче с младшей дочерью! И только потому, что надо же было наблюдать за Беллой, пока она солидно и с благословения церкви не выйдет замуж, миссис Грифитс тревожилась и даже протестовала против многих ее знакомств, увлечений и развлечений: она оберегала дочь. — Где же ты была? — спросила миссис Грифитс, когда дочь вбежала в комнату, бросила книги и подошла к пылавшему камину. — Подумай только, мама, — весело начала Белла, не обращая внимания на вопрос матери. — Финчли хотят отказаться от своей дачи на Лесном озере. Они собираются летом на Двенадцатое озеро, около Соснового мыса, и будут строить там новую дачу. Сондра говорит, что теперь дача будет у самой воды, не так далеко, как старая. И там будет огромная веранда с паркетным полом. И огромный лодочный сарай, — знаешь, мистер Финчли собирается купить Стюарту моторную лодку в тридцать футов длиной. Чудесно, правда? И Сондра говорит, что, если ты позволишь, я могу приехать к ней на сколько захочу, даже на все лето. И Гил тоже, если захочет. Это как раз напротив Эмери Лодж и отеля «Ист-Гейт», на другой стороне озера. А дача Фэнтов — знаешь, Фэнты из Утики? — немного подальше, около Шейрона. Вот чудесно, правда? Просто великолепно! Хорошо бы, вы с папой тоже надумали построить там дачу. По-моему, сейчас все стоящие люди туда едут. Она говорила без умолку и вертелась то у камина, где пылал огонь, то возле окон, выходивших на лужайку перед домом; за лужайкой тянулась Уикиги-авеню — там в зимних сумерках уже зажигались фонари. Мать не могла вставить ни слова, пока Белла не исчерпала потока своего красноречия; тогда она сказала: — Да? Вот как! Ну, а как же Энтони, и Николсоны, и Тэйлоры? Я что-то не слыхала, чтобы они собирались покинуть Лесное озеро. — Ну конечно, ни Энтони, ни Тэйлоры не переезжают. Разве они могут сдвинуться с места? Они слишком старо» модны. Не такие это люди, чтобы переехать куда-нибудь. Никто от них этого и не ждал. Но все равно Лесное озеро не Двенадцатое, ты сама знаешь. И все, кто хоть что-нибудь значит в обществе, наверно, переселятся на Двенадцатое. Сондра говорит, что Крэнстоны переезжают в будущем году. А тогда, конечно, Гарриэты тоже переедут. — И Крэнстоны, и Финчли, и Гарриэты, и Сондра! — воскликнула мать Беллы, полусмеясь, полусердито. — Я только и слышу все эти дни о Крэнстонах, о тебе, о Бертине и о Сондре. Крэнстоны и Финчли, недавно разбогатевшие выскочки, хоть и пользовались некоторым успехом в ликургском обществе, но в то же время, более чем кто-либо другой, постоянно служили предметом самых недоброжелательных пересудов. Это они перевели сюда из Олбани «Крэнстоновскую компанию плетеных изделий», а из Буффало — «Электрические пылесосы Финчли» и выстроили огромные фабрики на южном берегу реки Могаук, грандиозные особняки на Уикиги-авеню и летние коттеджи на Лесном озере, милях в двадцати к северо-западу от Ликурга. Они жили на широкую ногу, слишком напоказ, и это не нравилось богатым старожилам Ликурга. Эти выскочки одевались по последней моде, вводили всякие новшества в автомобильный спорт и в развлечения, и с ними было нелегко тягаться тем, кто доныне, обладая меньшими средствами, считал свое положение и свой уклад жизни достаточно прочными и приятными и не желал лучшего. Словом, Крэнстоны и Финчли чересчур задавали тон и были слишком напористы, а потому стали бельмом на глазу для остальной части ликургского «света». — Сколько раз я тебе говорила, Белла, что мне не нравится твоя дружба с Бертиной и с этой Леттой Гарриэт и ее братом. Они слишком дерзкие, вечно суетятся, слишком много говорят и слишком любят выставляться напоказ. И твой отец относится к ним так же, как я. А Сондра Финчли напрасно думает, что можно дружить сразу со всеми. Если она не перестанет дружить с Бертиной, тебе придется с ней расстаться. И потом, я не уверена, что отец позволит тебе поехать куда-нибудь без старших. Ты еще недостаточно взрослая, а что касается дачи Финчли на Двенадцатом озере, то либо мы поедем туда все вместе, либо никто из нас не поедет. Миссис Грифитс были больше по душе образ жизни и манеры семейств, издавна живущих в Ликурге, хотя и не таких богатых, как все эти недавние пришельцы, и теперь она укоризненно смотрела на дочь. Однако Белла нисколько не была смущена или раздосадована этими замечаниями. Она знала мать, знала, что та безумно любит ее, гордится ее красотой и очень довольна ее успехами в обществе, так же как и отец: он считал Беллу совершенством и никогда не мог устоять перед ее улыбкой, чем она часто пользовалась. — Недостаточно взрослая, недостаточно взрослая, — с упреком повторила Белла. — Не угодно ли! В июле мне будет восемнадцать. Хотела бы я знать, когда вы с папой сочтете наконец, что ядостаточно взрослая и не нуждаюсь в няньках? До каких пор вы меня не будете никуда пускать одну? Неужели, если вы едете куда-нибудь, мне непременно надо ехать с вами, а если я захочу поехать куда-нибудь, так и вы должны ехать со мной! — Белла! — предостерегающе воскликнула мать. Наступило короткое молчание; Белла нетерпеливо ждала; затем миссис Грифитс прибавила: — Ну, а что же нам, по-твоему, делать? Вот когда тебе исполнится двадцать один или двадцать два года, — если ты к тому времени еще не выйдешь замуж, — тогда мы подумаем, как отпускать тебя одну. А пока об этом и говорить нечего. В эту минуту Белла приподняла свою хорошенькую головку и прислушалась; внизу хлопнула дверь, и на лестнице послышались шаги Гилберта Грифитса, единственного сына в семье ликургских Грифитсов, — лицом и сложением (но не манерами и не характером) он очень походил на Клайда, своего двоюродного брата, живущего на Западе. Это был крепкий двадцатитрехлетний юноша, тщеславный и себялюбивый. Он казался более жестким, чем сестры, и куда более практичным. Вероятно, он был сообразителен и энергичен в делах — область, к которой его сестры не питали ни малейшего интереса. Он был резок и нетерпелив. Свое положение в обществе считал незыблемым и относился с полнейшим презрением ко всему, кроме делового успеха. И, однако, он очень интересовался жизнью местного общества, причем считал себя и свою семью важнейшей его частью. Никогда не забывая о достоинстве и общественном положении своей семьи, он тщательно взвешивал каждый свой шаг, каждое слово. Случайного наблюдателя обычно поражали в нем надменность и резкость, отсутствие юношеской веселости, казалось бы, свойственной его возрасту. И все же он был молод, интересен и недурен собой, притом обладал острым языком и умел подчас вставить если не блестящее, то злое и меткое словцо. В Ликурге, благодаря положению семьи и своему собственному, он считался одним из самых завидных женихов. Но он был настолько поглощен собственной особой, что Вряд ли в его внутреннем мире нашлось бы место для тонкого, подлинного понимания другого человека. Услышав, что он поднялся по лестнице и вошел к себе, — его комната находилась в глубине дома, рядом с ее комнатой, — Белла выбежала от матери и постучалась к нему. — Гил, можно к тебе? — окликнула она. — Конечно. Весело посвистывая и, очевидно, собираясь куда-то, он доставал фрак. — Ты куда? — Никуда. Переодеваюсь к обеду. Вечером поеду к Вайнантам. — Ах, Констанция, конечно. — Нет, не Констанция, конечно. С чего ты взяла? — Как будто я не знаю! — Перестань. Ты для этих разговоров пришла? — Вовсе нет. Ты подумай, Финчли собираются на будущее лето построить дачу на Двенадцатом озере, на самом берегу, рядом с Фэнтами, и мистер Финчли покупает для Стюарта моторную лодку длиной в тридцать футов и строит для нее сарай и солярий. Вот номер, а? — Что за выражения у тебя! Неужели ты не можешь отучиться от жаргона? Говоришь, как фабричная девчонка. Это все, чему вас учат в школе? — Ну, уж не тебе говорить о жаргоне! А ты сам? По-моему, ты первый подаешь пример! — Во-первых, я старше тебя на пять лет. Во-вторых, я мужчина. Лучше бы ты брала пример с Майры — разве она когда-нибудь так разговаривает? — Ах, Майра!.. Ну, хватит. Ты лучше подумай, они выстроят дачу, и летом у них будет так весело. Хочешь, мы туда поедем? Мы можем поехать, если захотим… только если папа и мама согласятся. — Ну, не знаю, так ли уж это заманчиво, — ответил брат, хотя на самом деле его очень заинтересовала эта новость. — Мало ли мест, куда можно поехать, кроме Двенадцатого озера. — Да, конечно, но только не для тех, кого мы знаем. Скажи, пожалуйста, куда еще едут лучшие семьи из Олбани и Утики? Сондра говорит, что на Двенадцатое озеро съедется все лучшее общество, на западном берегу будут самые лучшие дачи. Во всяком случае, Крэнстоны, и Ламберты, и Гарриэты очень скоро туда поедут, — прибавила Белла решительно и вызывающе. — На Лесном озере почти никого не останется из нашего общества, даже если Энтони и Николсоны не двинутся с места. — А кто сказал, что Крэнстоны переселяются на Двенадцатое? — с живым интересом спросил Гилберт. — Ну конечно, Сондра. — А ей кто сказал? — Бертима. — Да, эти семейства стали весело жить, — странным тоном и не без зависти заметил Гилберт. — Скоро им станет тесно в Ликурге. — Он резким движением дернул галстук бабочкой, который ему никак не удавалось приладить, и слегка поморщился — воротничок был тесен. Хоти Гилберт и вошел недавно в дело своего отца в качестве главного контролера над производством, а вскоре рассчитывал стать во главе всего предприятия, он все же завидовал молодому Грэнту Крэнстону, своему ровеснику, юноше очень красивому и привлекательному, который был гораздо смелее в обращении с девушками и пользовался у них большим успехом. Молодой Крэнстон, видимо, считал, что помощь отцу на предприятии можно прекрасно сочетать с некоторой долей светских развлечений, — Гилберт с этим не соглашался. В сущности, молодой Грифитс, если б мог, с удовольствием обвинил бы молодого Крэнстона в распущенности, но тот до сих пор не выходил за рамки благоразумия. И «Крэнстоновская компания плетеных изделий» явно выдвигалась в ряд крупнейших предприятий Ликурга. — Да, — прибавил Гилберт, помолчав, — они слишком быстро расширяют дело, я бы на их месте вел себя осторожнее. В конце концов, они не самые богатые люди на свете. При этом он подумал, что Крэнстоны не похожи на него и на его родителей: они в самом деле смелее, хотя, может быть, и не больше гонятся за успехом в обществе. Он им завидовал. — И знаешь, — восторженно заявила Белла, — Финчли еще устраивают над сараем для яхты веранду с паркетным полом для танцев. И Сондра говорит, Стюарт хотел бы, чтобы ты этим летом погостил у них подольше. — Да неужели? — сказал Гилберт саркастически и не без зависти. — Вернее сказать, он надеется, что это ты погостишь у них подольше. Я буду занят все лето. — Ничего подобного он не говорил. И потом, ничего с нами не случится, если мы туда съездим. На Лесном, как я понимаю, хорошего будет мало. Там останутся одни мокрые курицы! — Вот как! Маме будет очень приятно это слышать. — А ты, конечно, ей скажешь? — Нет, не скажу. Только я не думаю, чтобы мы так сразу взяли и поехали за Крэнстонами и Финчли на Двенадцатое озеро, по крайней мере, сейчас. Но ты можешь погостить у них, если тебе так хочется и если папа позволит. В эту минуту внизу снова раздался стук входной двери, и Белла, забыв о споре с братом, побежала встречать отца.Глава 21
Родоначальник ликургской ветви Грифитсов был с виду гораздо примечательнее, чем отец семейства Грифитсов в Канзас-Сити. В противоположность своему коротенькому и мешковатому брату из миссии «Врата упования», которого он не видел лет тридцать, Сэмюэл Грифитс был выше среднего роста, крепок и строен, с пронизывающим взглядом, резкими манерами и речью. Давно уже он привык считать себя человеком незаурядной проницательности, обладателем выдающихся деловых качеств — не случайно же он столь многого достиг! — и подчас бывал нетерпим к тем, кого нельзя было назвать незаурядными людьми. Он не был груб или неприятен в обращении, но всегда старался сохранять спокойный и бесстрастный вид. И, оправдывая эту свою манеру держаться, он говорил себе, что просто ценит себя так, как все окружающие ценят его и тех, кто, подобно ему, преуспевает в жизни. Сэмюэл Грифитс переселился в Ликург лет двадцать пять назад с небольшим капиталом и с решением вложить его в новое предприятие — фабрику воротничков; успех превзошел самые смелые его ожидания, и, естественно, он этим гордился. Теперь, спустя двадцать пять лет, ему принадлежал бесспорно один из самых лучших и со вкусом построенных особняков в городе. Грифитсы занимали видное место среди здешней аристократии, они были если не старейшей, то, во всяком случае, одной из самых солидных, самых уважаемых и преуспевающих семей в Ликурге. Старшая дочь Сэмюэла Грифитса, как известно, держалась обособленно, но двое младших его детей играли видную роль в кружке богатой и веселой ликургской молодежи, и до сих пор не случалось ничего такого, что могло бы поколебать его положение или бросить тень на его имя. В этот день, возвратившись домой из Чикаго, где ему удалось заключить несколько сделок, обеспечивших благополучие и процветание фабрики по меньшей мере на год, Сэмюэл Грифитс был настроен весьма благодушно и очень доволен собой и всем светом. Ничто не омрачило его путешествия. В его отсутствие дела на фабрике шли не хуже, чем при нем. Заказов было много. Войдя в дом, он бросил на пол тяжелый саквояж, скинул модное пальто и, обернувшись, увидел, как и ожидал, бегущую к нему Беллу. Разумеется, она была его любимицей. Он считал ее очаровательной, несравненной, своего рода произведением искусства, лучшим, что подарила ему жизнь: юность, здоровье, веселье, ум и любовь — все воплощалось в образе прелестной дочери. — Это ты, папочка? — нежно и радостно крикнула Белла. — Как будто я, кто же еще! Ну, как поживает моя дочурка? Он открыл объятия, и Белла кинулась ему на шею. — Что за славная, крепкая, здоровая девочка! — провозгласил он после нежного поцелуя. — А как вела себя негодница, пока меня не было дома? Только говори правду! — О папочка, я была паинькой. Спроси кого хочешь. Вела себя как нельзя лучше. — А мама здорова? — Здорова, папочка! Она у себя наверху. Наверное, она не слышала, как ты вошел. — А Майра? Она уже вернулась из Олбани? — Да. Она у себя. Я сейчас слышала, как она играла. Я сама только что пришла. — Ай-ай! Опять бегала по гостям. Знаю я тебя. Он весело погрозил ей пальцем, а Белла уже повисла у него на руке и, стараясь шагать с ним в ногу, начала подниматься по лестнице. — И вовсе я никуда не бегаю, — лукаво и ласково ворковала она. — Ты ко мне просто придираешься, папочка! Я только на минутку забежала к Сондре. И знаешь, Финчли больше не поедут летом на Лесное озеро. Они собираются строить большую красивую дачу на самом берегу Двенадцатого. И мистер Финчли купит Стюарту большую моторную лодку. Они будут жить там все лето, с мая до октября. И Крэнстоны, наверно, тоже. Мистер Грифитс давно уже привык к уловкам своей младшей дочери, и его в эту минуту мало интересовало то, что ему хотела внушить Белла, — что Двенадцатое озеро стало более модным местом, нежели Лесное; куда существеннее, думал он, что Финчли могут позволить себе такой большой и неожиданный расход только ради светских развлечений. Не отвечая Белле, он поднялся по лестнице и вошел в комнату жены. Он поцеловал миссис Грифитс, заглянул к Майре, которая подошла к двери, чтобы поцеловать его, и стал рассказывать о своей удачной поездке. По тому, как он поздоровался с женой и дочерью, было ясно, что супруги живут в полном согласии и взаимопонимании и что, хотя отцу, быть может, не совсем по душе характер и взгляды старшей дочери, все же он и на нее щедро изливает свою нежную привязанность. Пока супруги беседовали, появилась миссис Трюсдейл и возвестила, что обед подан, и тут же вошел Гилберт, уже успевший переодеться. — Послушай, папа, — сказал он, — я бы хотел завтра утром поговорить с тобой по одному интересному вопросу. Можно? — Разумеется. Я буду на фабрике. Приходи к двенадцати. — Пойдемте вниз, обед простынет, — строго напомнила миссис Грифитс, и Гилберт немедленно направился к лестнице. За ним двинулся мистер Грифитс под руку с Беллой и, наконец, миссис Грифитс и Майра, тотчас вышедшая из своей комнаты. Как только все уселись за стол, завязалась оживленная беседа на злободневные Темы ликургской жизни. Главным источником всяких сплетен была Белла: она собирала их в школе Снедекер, куда все светские новости проникали с поразительной быстротой; и теперь она вдруг объявила: — Послушай, мама, что я расскажу про Розету Николсон. Это племянница миссис Дистон Николсон, она приезжала сюда прошлым летом из Олбани, помнишь? Она еще приходила на наш школьный праздник… такая, с желтыми волосами и раскосыми голубыми глазами. У ее отца оптовый бакалейный магазин в Олбани. Ну, так вот, она обручена с Гербертом Тикхэмом из Утики. Знаешь, который прошлым летом гостил у миссис Ламберт. Ты не помнишь его, а я помню. Такой высокий, темноволосый и немножко нескладный. Ужасно бледный, но очень красивый — прямо как герой из кино! — Вот, обратите внимание, миссис Грифитс, — колко и насмешливо вставил Гилберт. — Воспитанницы Образцовой школы сестер Снедекер иной раз тайком бегают в кино, чтобы освежить свои познания о героях. Но тут заговорил Грифитс-старший. — В Чикаго со мной произошел любопытный случай, — сказал он. — Я думаю, всем вам будет интересно. Два дня назад в Чикаго он неожиданно встретился с юношей, который оказался старшим сыном его младшего брата Эйсы; сейчас мистер Грифитс хотел рассказать домашним об этой встрече и о решении, которое он принял в связи с нею. — А что такое, папа? Расскажи скорее! — тотчас же заторопила Белла. — Выкладывай свои великие новости, — прибавил Гилберт: он знал, что отец очень привязан к нему, и поэтому держался с ним свободно и на равной ноге. — Ну, так вот, — начал мистер Грифитс. — В Чикаго я остановился в «Юнион клубе» и там встретил одного молодого человека, нашего родственника; это ваш двоюродный брат, дети, — старший сын, моего брата Эйсы, который теперь живет в Денвере. Я не видел его уже лет тридцать и ничего о нем не слышал… — Он замолчал, задумавшись, словно в нерешительности. — Это тот, который проповедник? — спросила Белла, взглянув на отца. — Да, тот самый. По крайней мере, насколько я знаю, он был проповедником некоторое время после того, как ушел из дому. Но его сын сказал мне, что теперь он это оставил. У него какое-то дело в Денвере, отель как будто. — А какой у него сын? — спросила Белла. Ей были знакомы только те щеголеватые, внешне степенные юноши и мужчины, с которыми ей позволяли встречаться ее положение в обществе и родительский надзор, и поэтому новый родственник, сын владельца отеля где-то на Западе, живо заинтересовал ее. — Двоюродный брат? А сколько ему лет? — вставил Гилберт; его интересовало, что представляет собой этот родственник, каковы его положение и способности. — По-моему, он очень приятный молодой человек, — отвечал мистер Грифитс не слишком уверенно, так как до сих пор, в сущности, не составил себе определенного мнения о Клайде. — У него привлекательная внешность, хорошие манеры; он примерно твоих лет, Гил, и похож на тебя, очень похож: те же глаза, рот, подбородок. — Грифитс внимательно посмотрел на сына. — Он немного выше тебя и, кажется, худощавее, а может быть, я и ошибаюсь. Мысль о двоюродном брате, который похож на него, носит ту же фамилию, и, быть может, обладает теми же достоинствами, была малоприятна Гилберту. До сих пор здесь, в Ликурге, он был хорошо известен как единственный сын, будущий глава фирмы и наследник по меньшей мере трети всего отцовского состояния. И вдруг теперь в обществе узнают, что у него есть родственник, двоюродный брат, такого же возраста и даже похожий на него… При одной мысли об этом Гилберта передернуло. Он тут же решил (психологическая реакция, которой он сам не понимал и с которой не мог совладать), что этот двоюродный брат ему не нравится и никогда не понравится. — Чем же он занимается? — отрывисто и довольно кислым тоном спросил Гилберт, хотя и старался скрыть досаду. — Ну, положение его не из завидных, надо сказать, — с улыбкой ответил Сэмюэл Грифитс. — Он сейчас всего-навсего рассыльный в «Юнион клубе» «в Чикаго, но производит впечатление весьма приятного и воспитанного юноши. Мне он очень понравился. Он сказал, что там у него нет никакой возможности выдвинуться и что ему хотелось бы поработать на таком месте, где можно чему-то научиться и выйти в люди. Я предложил ему приехать сюда. Пусть попытает счастья, если хочет. Мы могли бы для него кое-что сделать. По крайней мере, дадим ему возможность показать, на что он способен. Мистер Грифитс не намерен был сразу сообщить, что так близко принял к сердцу судьбу племянника: он хотел подождать некоторое время, обсудить свой план с женой и сыном. Но ему показалось, что представился удобный случай заговорить об этом, и он был рад, что так вышло: сходство Клайда с Гилбертом поразило его, и ему захотелось немного помочь племяннику. Гилберт выслушал все это хмуро и с досадой; миссис Грифитс, всегда принимавшая сторону сына, предпочла бы, чтобы рядом с ним не было ни единокровных, ни каких-либо иных соперников; но Майра и Белла живо заинтересовались планами отца. Итак, у них есть двоюродный брат, тоже Грифитс, красивый, одних лет с Гилбертом, и притом, по словам отца, симпатичный и с хорошими манерами. И Майре и Белле это понравилось. Но миссис Грифитс заметила, как омрачилось лицо Гилберта, и потому не слишком обрадовалась. Гилберту будет неприятно появление этого двоюродного брата; но из уважения к авторитету и рассудительности своего супруга она пока промолчала. Зато Белла не могла молчать. — Ты дашь ему место на фабрике, папочка? — воскликнула она. — Ой, как интересно! Надеюсь, он красивее других наших двоюродных братьев. — Белла! — с упреком сказала миссис Грифитс, а Майра многозначительно улыбнулась, вспомнив, как несколько лет назад их навестили неуклюжие дядя и двоюродный брат из Вермонта. Тем временем Гилберт, сильно раздосадованный, мысленно восстал против всей этой затеи. Он просто не мог понять отца. — Разумеется, мы никогда не отказывали тем, кто хотел бы работать на фабрике и изучить наше дело, — сказал он резко. — Нет, отказывали, — возразил отец, — но только не двоюродным братьям я не племянникам. Кроме того, он, по-моему, очень неглуп, у него есть честолюбие. Что плохого, если мы дадим нашему родственнику возможность приехать сюда и показать, на что он способен? Не понимаю, почему бы нам не взять его на службу, как и всякого другого. — А я знаю. Гилу не хочется, чтобы в Ликурге появился второй молодой Грифитс, да еще похожий на него! — лукаво и не без ехидства сказала Белла, стараясь отплатить брату за его постоянные придирки и поучения. — Какая чушь! — раздраженно фыркнул Гилберт. — Хоть бы ты раз в жизни сказала что-нибудь разумное. Не все ли мне равно, как его фамилия и похож он на меня или нет. Он был очень зол. — Гилберт! — с упреком воскликнула миссис Грифитс. — Как ты говоришь с сестрой! — Ну, я не стану ничего делать для этого молодого человека, если из-за него тут разгораются страсти, — сказал Грифитс-старший. — Но его отец никогда не был практичным человеком, и я подозреваю, что у Клайда до сих пор не было никакой возможности выйти в люди. (Гилберта передернуло, когда отец так дружески и фамильярно назвал двоюродного брата по имени). Я предложил ему перебраться сюда просто потому, что хотел помочь ему сделать первый шаг. Понятия не имею, выйдет ли из него толк. Может быть, он сумеет работать, а может быть, и нет. Если нет… — И он сделал жест рукой, как бы желая сказать: «Если нет, мы, разумеется, от него избавимся». — Что ж, по-моему, это очень великодушно с твоей стороны, — любезно и дипломатично заметила миссис Грифитс. — Надеюсь, он выдержит испытание. — И вот еще что, — многозначительно прибавил отец семейства. — Я вовсе не желаю, чтобы к этому молодому человеку, пока он будет служить у меня на фабрике, относились иначе, чем ко всем служащим, только потому, что он мой племянник. Он приезжает сюда работать, а не развлекаться. И, пока он будет здесь на испытании, вам незачем завязывать с ним светские отношения, — ни в коем случае. Мне кажется, он не из навязчивых и не вообразит, что мы здесь примем его как равного. Это было бы глупо. Позже, если он докажет, что действительно стоит того, способен сам позаботиться о себе, знает свое место и не выскакивает вперед, и если кому-нибудь из вас захочется оказать ему немножко внимания, — ну что ж, тогда посмотрим… но не раньше! Тем временем служанка Аманда, помощница миссис Трюсдейл, убрала со стола остатки обеда и подала десерт. Глава семьи редко ел сладкое и обычно, если не было посторонних просматривал в это время биржевые и банковские бюллетени, которые хранились у него в маленькой конторке в библиотеке; так и сегодня — он отодвинул стул, встал и, извинившись перед женой и детьми, ушел в библиотеку, которая помещалась рядом со столовой. Остальные принялись за десерт. — Хотела бы я посмотреть, какой он, этот двоюродный брат, — сказала Майра. — А ты, мама? — Я тоже. Надеюсь, он постарается оправдать ожидания вашего отца. Было бы нехорошо с его стороны, если бы он этого не сделал. — Я все-таки не понимаю, — заметил Гилберт, — зачем нам выписывать еще людей, когда мы с трудом можем дать работу своим, здешним. И потом, вообразите, какие тут пойдут разговоры, когда все узнают, что наш двоюродный брат до приезда сюда был всего-навсего рассыльным. — Но как об этом узнают? — сказала Майра. — Как узнают? А как мы можем помешать ему рассказывать о себе? Тогда придется специально предупредить его. И потом, сюда может приехать кто-нибудь, кто видел его там. — В глазах Гилберта вспыхнул недобрый огонек. — Впрочем, я надеюсь, что он не станет болтать. Это, конечно, не принесло бы нам ничего хорошего. — А я надеюсь, что он не такой скучный, как сыновья дяди Аллена. По-моему, это самые неинтересные молодые люди на свете. — Белла! — снова остановила ее миссис Грифитс.Глава 22
Клайд, которого Сэмюэл Грифитс встретил в чикагском «Юнион клубе», был уже не тем юнцом, что бежал из Канзас-Сити три года назад. Ему теперь исполнилось двадцать лет: он стал выше, крепче, хотя вряд ли намного сильнее, и, конечно, приобрел немалый жизненный опыт. После того как он бросил дом и службу в Канзас-Сити, ему пришлось столкнуться с многими жизненными трудностями: он узнал, что значит выполнять тяжелую, унизительную работу, ютиться по жалким углам, не иметь ни близких, ни друзей и самому пробивать себе дорогу в жизни. И постепенно в нем развилась известная уверенность в себе, вкрадчивость и такт, на какие за три года перед тем никто не счел бы его способным. Он теперь одевался далеко не так элегантно, как во время работы в «Грин-Дэвидсон», зато у него выработалось благородство манер, которое производило хорошее впечатление, хотя и не бросалось сразу в глаза. Но главное, — и это особенно отличало его от Клайда прежних дней, удравшего из Канзас-Сити в товарном вагоне, — он стал гораздо осторожнее и сдержаннее. Ибо с тех пор как он бежал из Канзас-Сити и должен был пускаться на всяческие ухищрения, чтобы просуществовать, он понял, что его будущее зависит только от него самого. Его родные — в этом он окончательно убедился — ничем не могли ему помочь. Все они — и мать, и отец, и Эста — были слишком непрактичны и слишком бедны. Но в то же время, несмотря на все их затруднения, его сейчас тянуло к ним, особенно к матери, и ко всей старой домашней жизни, которая была привычна ему с детства, — к брату, к сестрам, даже к Эсте; теперь он хорошо понимал, что она, как и он сам, стала жертвой обстоятельств, не зависевших от ее воли. Часто он с мучительной болью вспоминал о прошлом: как он обращался с матерю, как внезапно прервалась его карьера в Канзас-Сити, каким ударом была для него потеря Гортензии Бригс… Сколько тяжелого перенес он с тех пор и сколько горя, должно быть, доставил матери и Эсте! Через два дня после своего бегства из Канзас-Сити он добрался до Сент-Луиса; на полпути двое кондукторов нашли его, спрятавшегося в товарном вагоне, и в серое зимнее утро он оказался на снегу, в ста милях от Канзас-Сити, избитый, оглушенный падением; кондукторы избавили его от часов и теплого пальто. В Сент-Луисе ему попался номер канзасской газеты «Стар», и тут он узнал, что его худшие опасения оправдались. Газета посвящала полтора столбца на первой странице под крупным заголовком подробному описанию случившегося: убита одиннадцатилетняя девочка, дочь состоятельных, хорошо известных в Канзасе родителей (она была сбита с ног, попала под колеса и через час умерла); Спарсер и мисс Сайп находятся в госпитале под арестом; при них, в ожидании их выздоровления, дежурит полицейский; великолепный автомобиль серьезно поврежден; отец Спарсера, служивший у владельца машины, в гневе и отчаянии из-за сумасбродного и явно преступного поведения сына. Хуже того: злополучный Спарсер, которому уже предъявили обвинение в краже и убийстве, желая, без сомнения, уменьшить свою вину в этой катастрофе, не только назвал имена всех участников поездки и дал адрес отеля, где служили молодые люди, но и заявил что все они наравне с ним виноваты в случившемся, так как вынуждали его, вопреки его желанию, ехать быстрее, — вполне справедливое обвинение, как знал Клайд. А в отеле Скуайрс сообщил полиции и газетам имена родителей всех, кто у него служил, и их домашние адреса. Это было самым тяжким ударом. Далее следовало волнующее описание того, как были потрясены все родные, узнав об их проступке. Миссис Ретерер, мать Тома, расплакалась и заявила, что ее сын — хороший мальчик и, конечно, не хотел сделать ничего дурного, она в этом уверена. А миссис Хегленд — пожилая женщина, любящая мать, — сказала, что ее Оскар — честнейший и благороднейший юноша в мире и что его, наверно, напоили. В доме Грифитсов, как описывала «Стар», мать стояла бледная, очень испуганная и расстроенная, ломая руки, и, казалось, не понимала, что произошло: она не хотела верить, что ее сын участвовал в этой прогулке; тут какое-то недоразумение, утверждала она, сын, конечно, скоро вернется и все объяснит. Но Клайд не вернулся. И больше он ничего не слышал об этом деле, потому что из страха и перед полицией, и перед самой матерью (он боялся ее скорбных, полных отчаяния глаз) он несколько месяцев не писал домой. Потом один раз написал, сообщил, что жив и здоров и просит мать не тревожиться о нем, но не назвал ни своего нового имени, ни адреса. Он переезжал с места на место в поисках работы: был в Сент-Луисе, в Пеории, Чикаго, Милуоки. Он мыл посуду в ресторане, продавал содовую воду в маленькой захудалой аптеке, пробовал работать приказчиком в магазине обуви и в бакалейной лавке, — словом, брался за что попало, но все неудачно: либо ему давали расчет, либо сам он бросал работу, потому что она ему не нравилась. Как-то он отложил из своих заработков и послал матери десять долларов и в другой раз — еще пять. Года через полтора он решил, что розыски его, вероятно, прекратились и его участие в преступлении уже забыто или признано не настолько значительным, чтобы продолжать преследование. И когда ему удалось в Чикаго получить сносный заработок (он работал возчиком, разъезжал с фургоном, доставляя товары на дом, и это давало ему пятнадцать долларов в неделю), он решился написать матери: теперь он мог сообщить ей, что у него приличное место и что он давно уже ведет себя хорошо, хотя и скрывает свое настоящее имя. В это время он снимал койку в западной части города на Полина-стрит, и вот тогда-то он и написал такое письмо: «Дорогая мама! Не знаю, живете ли вы еще в Канзас-Сити. Напиши мне, пожалуйста, где вы и как живете. Мне очень хочется узнать все о вас и рассказать о себе. Честное слово, мама, я с радостью буду тебе писать, если только ты хочешь. Я здесь так одинок. Но ты все-таки будь осторожна и никому не говори, где я. Из этого могут выйти большие неприятности, а я так старался начать новую жизнь и сейчас только что устроился. Поверь мне, я ничего плохого не сделал, правда, ничего, что бы там ни говорили газеты, — я только поехал вместе со всеми. Но я боялся, что меня накажут за то, чего я не делал. Я просто не мог тогда вернуться домой. Я совсем не виноват, но я боялся, что подумаешь ты и отец. Меня пригласили, и я поехал, но он сказал, что я просил его взять машину и подгонял его на обратном пути, — это неправда. Он сам взял машину и пригласил всех нас. Может быть, мы все виноваты, что сбили девочку, но мы ведь этого не хотели. Это вышло нечаянно. И мне ужасно жалко, что так случилось. Сколько горя я тебе причинил! И как раз в то время, когда тебе так нужна была моя помощь! Просто ужас! Но я все-таки надеюсь, что ты простишь меня, мама, — правда? Я очень хочу знать, как вы все живете. Как Эста, Джулия, Фрэнк, отец? Где вы и что делаете? Ты же знаешь, как я люблю тебя, мама. Теперь я кое-чему научился и лучше все понимаю. Я хотел бы добиться какого-то положения в жизни. Надеюсь, что мне повезет. У меня теперь довольно хорошее место, правда, не такое, как в Канзас-Сити, но все-таки вполне приличное, хотя и в другом роде. Но я хочу добиться чего-нибудь лучшего. Только я постараюсь больше не работать в гостиницах. Это не подходящее дело для таких, как я. По-моему, не стоит забираться так высоко. Видишь, я теперь поумнел. Там, где я служу, мною довольны, но я хочу достигнуть лучшего положения. Кроме того, зарабатываю я не так много, хватает только на самое необходимое: комната, стол, одежда. Но я все-таки стараюсь понемножку откладывать, потому что хочу найти себе какое-нибудь подходящее занятие, чтобы можно было чему-нибудь научиться. В наше время каждый человек должен иметь специальность, теперь я это понимаю. Напиши мне, мама, обо всем, я очень хочу знать, как вы все живете и что делаете. Передай привет Фрэнку, Джулии, отцу и Эсте, если все они еще живут с тобой. Я люблю тебя по-прежнему и надеюсь, что ты все-таки тоже немножко любишь меня. Правда? Я не подписываюсь настоящим именем, потому что это может быть еще рискованно (я не называл себя так с тех пор, как уехал из Канзас-Сити). Подписываюсь другим именем, но надеюсь, что очень скоро смогу отказаться от него и снова носить настоящую фамилию. Хотел бы сделать это теперь, но пока еще боюсь. Если захочешь написать мне, адресуй письма Гарри Тенету, до востребования, Чикаго. Буду ждать скорого ответа. Подписываюсь так, чтобы Не доставить ни вам, ни себе еще новых неприятностей, понимаешь? Но как только буду вполне уверен, что с той историей покончено, я, конечно, снова возьму свое настоящее имя. Твой любящий сын». Вместо подписи он провел черту, написал под нею «ты знаешь» и отправил письмо. И так как мать, не зная, где он находится, непрестанно тревожилась о нем, он очень скоро получил ответное письмо; на конверте стоял почтовый штемпель Денвера, это очень удивило Клайда, так как он думал, что семья все еще живет в Канзас-Сити. «Дорогой сын! Я очень удивилась и обрадовалась, когда получила письмо от моего мальчика и узнала, что он жив и здоров. Я все время надеялась и молилась, чтобы ты вновь вернулся на стезю добродетели — единственный путь, который может привести тебя к успеху и счастью, — и чтобы господь позволил мне получить известие от тебя и узнать, что ты жив и здоров и трудишься и живешь честно. И вот бог услышал мои молитвы. Я знала, что он меня услышит. Да будет благословенно его святое имя! Я не осуждаю тебя за то страшное несчастье, которое постигло тебя, и за те страдания и позор, которые ты навлек на себя и на всех нас, ибо я хорошо знаю, как дьявол искушает и преследует всех нас, смертных, и особенно такое дитя, как ты. Если бы ты знал, мой сын, как должно остерегаться, чтобы избегнуть сетей дьявола! Ведь перед тобой лежит долгий путь. Будешь ли ты всегда бдителен и постараешься ли оставаться верным учению нашего Спасителя, которое я старалась запечатлеть в умах и сердцах моих дорогих детей? Остановишься ли ты и прислушаешься ли к голосу нашего господа, который всегда с нами и направляет наши стопы по каменистому пути, что ведет в царство небесное, более прекрасное, чем мы в нашей земной жизни можем себе представить? Обещай мне, дитя мое, что ты будешь твердо следовать наставлениям, полученным тобою в детстве, и всегда будешь помнить, что сила — в справедливости, и никогда, никогда, мой мальчик, не прикасайся к вину, кто бы тебе его ни предлагал. Вот где дьявол царит во всей своей славе и всегда готов восторжествовать над слабым. Помни всегда то, что я тебе так часто говорила: «Вино — обманщик, пить — значит впасть в безумие, кто поддается обману — тот не мудр». Моя самая горячая молитва теперь о том, чтобы эти слова раздавались в ушах твоих всякий раз, как тебя посетит искушение, ибо я убеждена, что именно вино было истинной причиной того страшного несчастья. Я много перестрадала тогда из-за тебя, Клайд, и все это произошло как раз в то время, когда мне пришлось вынести такое страшное испытание из-за Эсты. Я едва не потеряла ее. Она была так плоха. Бедное дитя, она дорого заплатила за свой грех! Нам пришлось, наделать долгов и потом долго работать, чтобы их выплатить. Но теперь мы наконец расплатились, и наши дела уже не так плохи, как прежде. Как видишь, мы теперь в Денвере. У нас здесь собственная миссия: она помещается в большом доме, так что всем нам хватает места, и мы еще сдаем несколько комнат, — этим ведает Эста. Кстати, она теперь миссис Никсон. У нее прелестный мальчик, он очень напоминает нам с отцом тебя, когда ты был ребенком. Глядя на его проказы, мы так часто вспоминаем тебя, что нам даже кажется, будто ты снова стал маленьким и вернулся к нам. И это нас Немного утешает. Фрэнк и Джулия очень выросли и стали настоящими моими помощниками. Фрэнк разносит газеты и кое-что зарабатывает — это тоже помощь. Эста хочет, чтобы они оба, пока у нас хватит сил, продолжали учиться в школе. Отец не совсем здоров, но это понятно: ведь он уже не молод. Все-таки он делает все, что может. Я очень рада, Клайд, что ты так стремишься выйти в люди. Вчера вечером мы с отцом опять говорили о твоем дяде Сэмюэле Грифитсе из Ликурга: он очень богат, и если бы ты написал ему и попросил его взять тебя в свое дело, чтобы ты научился чему-нибудь, я думаю, он сделал бы это для тебя. Сомневаюсь, чтобы он отказал. В конце концов, ведь ты ему родной племянник. Ты знаешь, у него большая фабрика воротничков в Ликурге, и, говорят, он очень богатый человек. Почему бы тебе не написать ему? Мне кажется, он найдет для тебя место, и тогда тебе откроется какая-то будущность. Если ты ему напишешь, дай мне знать, что он тебе ответит. Я хочу, чтобы ты почаще сообщал о себе, Клайд. Пожалуйста, пиши о себе и о своей жизни. Я буду ждать. Все мы, конечно, по-прежнему любим тебя и всегда готовы помочь тебе советом. От всей души желаем тебе успеха и желаем также, чтобы ты был хорошим мальчиком и жил чистой и праведной жизнью. Помни, дитя мое: какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою погубит? Пиши мне, Клайд, и не забывай, что любовь твоей матери всегда с тобой, она руководит тобой и наставляет на путь истинный во имя господне. Любящая тебя мать». Вот как случилось, что Клайд начал думать о дяде Сэмюэле и его фабрике задолго до встречи с ним. В то же время Клайд почувствовал огромное облегчение, узнав, что его родители уже не испытывают такой тяжелой нужды, в какой он их оставил, и живут благополучно: очевидно, эта новая миссия связана с чем-то вроде отеля или, по крайней мере, меблированных комнат. Прошло два месяца с тех пор, как он получил от матери первое письмо, и почти каждый день он говорил себе, что надо немедленно что-то предпринять. И вот однажды ему надо было доставить из магазина, где он служил, пакет с галстуками и носовыми платками какому-то приезжему, остановившемуся в «Юнион клубе» на бульваре Джексона. Войдя в клуб, Клайд вдруг столкнулся не с кем иным, как с Ретерером, одетым в форму служащего клуба: его обязанностью было давать справки входящим и принимать багаж. В первое мгновение оба совсем опешили. Первым пришел в себя Ретерер. — Клайд! — воскликнул он, схватив товарища за рукав, и прибавил радостно, но все же из осторожности понизив голос: — Черт! Вот так встреча! Клади пакет сюда. Откуда ты взялся? И Клайд, тоже взволнованный, воскликнул: — Вот так штука! Да это ж Том! Как дела? Ты здесь работаешь? Ретерер, так же как и Клайд, забывший в эту минуту печальную тайну, которая их связывала, ответил: — Ясно, работаю. Верней верного! Я уже почти год здесь. Но тотчас дернул Клайда за руку, как бы призывая к молчанию, и торопливо отвел в сторону, чтобы их не слышал мальчик, с которым Ретерер говорил, когда вошел Клайд. — Шш… тише! — продолжал он. — Я работаю здесь под своей фамилией, но никто не должен знать, что я из Канзас-Сити, понимаешь? Все думают, что я из Кливленда. Он еще раз дружески сжал руку Клайда и оглядел его с головы до ног. И Клайд, тоже взволнованный, сказал: — Да, конечно. Понимаю. Это правильно. Я рад, что ты меня узнал. А меня зовут теперь Тенет, Гарри Тенет, не забудь! И оба сияли от радости, вспоминая прошлое. Но тут Ретерер заметил, что на Клайде форменная одежда служащего по доставке товаров. — Развозишь товары по домам? — спросил он. — Вот забавно! Клайд — возчик! Подумать только! Прямо глазам не верю. Чего ради ты за это взялся? Впрочем, он сразу понял по лицу Клайда, насколько тому неприятен разговор о его теперешнем положении, а когда Клайд коротко ответил: «У меня у самого душа не лежит к этой работе», — Ретерер прибавил: — Послушай, нам надо встретиться и поболтать как следует. Где ты живешь? (Клайд дал свой адрес.) Вот и хорошо. Я освобождаюсь в шесть часов и зайду к тебе, когда ты кончишь работать. Или вот что… давай лучше встретимся в кафе «Энричи» на Рэндолф-стрит. Ладно? Скажем, в семь часов. Я освобождаюсь в шесть и могу быть там к семи, если тебе это удобно. Клайд весело кивнул в знак согласия: он был просто в восторге оттого, что встретился с Ретерером. Взобравшись на козлы своего фургона, он продолжал развозить товары, но все время, оставшееся до окончания работы, думал только о предстоящем свидании. В половине шестого он поспешил в конюшню, а затем к себе домой, в дешевые меблированные комнаты с пансионом в западной части города; переодевшись в выходной костюм, он быстро пошел к «Энричи». Не простоял он на углу и минуты, как появился Ретерер, веселый, дружески приветливый и одетый лучше прежнего. — Ну до чего ж я рад тебя видеть, старина, — начал он. — Знаешь, с тех пор как я удрал из Канзас-Сити, я встречаю тебя первого из всей нашей компании. Вот как! Сестра писала мне, что никто ничего не знал тогда ни про Хигби, ни про Хегленда, ни про тебя. А этого Спарсера засадили на год, слыхал? Скверно, правда? И больше не за то, что задавил девочку, а за то, что взял чужую машину, и ездил, не имея шоферских прав, и не остановился по свистку полисмена. Вот за это его и упрятали. И знаешь, — тут Ретерер многозначительно понизил голос, — нам всем было бы то же самое, если бы нас поймали. Ну и трусил же я! А как удирал! Только пятки сверкали! — И он снова засмеялся, на этот раз немного истерическим смехом. — А как мы бросили его с этой девчонкой в машине, подумать только! Скверно, а? Но что тут было делать? Ведь не стоило же всем лезть в лапы полиции, верно? Как бишь ее звали… Да, Лора Сайп. А ты смылся так быстро, что я и не заметил. И эта твоя девчонка. Бригс — тоже. Ты ее провожал, что ли? Клайд покачал головой. — Нет, я ее не провожал, — признался он. — Куда же ты девался? — спросил Ретерер. Клайд объяснил. И после того как он подробно описал все свои странствия, Ретерер снова заговорил: — Значит, ты не знаешь, что малютка Бригс сразу после этого случая укатила с одним парнем в Нью-Йорк? С каким-то продавцом из табачного магазина, мне Луиза написала. Она видела эту девчонку перед отъездом, в новом меховом жакете, ну и вообще. (Клайд болезненно поморщился.) Ну и глуп же ты был, что бегал за нею! Она вовсе не думала о тебе, да и вообще ни о ком. А ты, по-моему, здорово в нее врезался, верно? Он состроил забавную гримасу и толкнул Клайда в бок, поддразнивая его по старой привычке. Потом Ретерер рассказал о себе; его история была не столь богата приключениями, и, в отличие от истории Клайда, тут речь шла меньше о волнениях и тревогах, а больше об упорном мужестве, о вере в свое счастье и способности. В конце концов он пристроился на эту работу, потому что, как он выразился, в Чикаго всегда можно что-нибудь ухватить. Так он с тех пор и живет здесь, — «совсем смирно, конечно», — зато никто ни в чем не может его упрекнуть. И сразу же он стал объяснять, что сейчас в «Юнион клубе» мест нет, но если Клайд хочет, он поговорит с мистером Хейли, управляющим; может быть, мистер Хейли узнает, не найдется ли где-нибудь вакансия, тогда Клайду можно будет устроиться получше. — И не вешай ты нос, — сказал он Клайду в конце вечера. — Толку от этого мало. Всего через, два дня после этого весьма ободряющего разговора, в то время как Клайд все еще раздумывал, не отказаться ли ему от службы, не назваться ли опять настоящим именем и не пойти ли по здешним отелям в поисках работы, рассыльный из «Юнион клуба» принес ему на дом записку. В записке говорилось: «Повидайся завтра утром с мистером Лайтолом в «Большом Северном». Там есть вакансия. Место не очень хорошее, но потом легче будет найти что-нибудь получше». Клайд сейчас же сообщил по телефону своему непосредственному начальнику, что заболел и не может сегодня выйти на работу, а затем, облачившись в свой лучший костюм, отправился в указанный отель. Здесь на основании представленных им рекомендаций он был принят на службу, и притом, к большому своему облегчению, под настоящим именем. Доволен он был и тем, что ему назначили двадцать долларов жалованья в месяц и, кроме того, обед. Правда, чаевые, как он уже знал, здесь составляли не более десяти долларов в неделю, однако, утешал он себя, если считать питание, он все-таки будет зарабатывать гораздо больше, чем до сих пор, и притом это куда легче, чем ездить с фургоном. Его смущало только, что он опять возвращается к службе в отеле и что его могут узнать и арестовать. Но вскоре после этого — месяца через три, не больше — открылась вакансия в «Юнион клубе». Ретерер к тому времени получил повышение и был назначен помощником заведующего всем персоналом отеля; они были в хороших отношениях, и Ретерер сказал заведующему, что может порекомендовать на освободившееся место очень подходящего человека: это некий Клайд Грифитс, он служит в «Большом Северном». Затем Ретерер вызвал Клайда, тщательно растолковал ему, как надо представиться новому начальству и что говорить, и Клайд получил работу в клубе. Он сразу же увидел, что это — заведение болеевысокого разряда, чем «Большой Северный» или даже «Грин-Дэвидсон», предназначенное для людей состоятельных, с именем и положением; здесь он снова получил возможность близко наблюдать тот строй жизни, который, на беду Клайда, задевал в его душе струнки тщеславия и подстегивал его стремление выдвинуться. В этот клуб постоянно съезжались люди, каких он прежде никогда не встречал, — по-видимому, выдающиеся во всех отношениях представители избранного общества; Клайду казалось, что здесь собирается все лучшее не только со всех концов его родной страны, но из всех стран, со всех континентов. Тут бывали видные американские деятели с севера и юга, с востока и запада, выдающиеся политики и дельцы, а также ученые, хирурги, прославленные доктора, генералы, литераторы и общественные деятели не только Америки, но и всего света. И еще одно поразило Клайда: с любопытством, даже с благоговейным изумлением он убедился, что в здешней атмосфере нет и следа той эротики, которой отличалась жизнь в «Грин-Дэвидсон», а совсем недавно — в «Большом Северном». В самом деле, насколько он мог припомнить, дух сексуальности чувствовался во всем, был основой чуть ли не всего, что ему до сих пор приходилось видеть в отелях. Здесь не было ничего подобного. Женщины вообще не допускались в клуб. Все эти выдающиеся личности приезжали и уезжали, как правило, в одиночку, без всякой шумихи, энергичные и сдержанные, что характерно для людей, достигших исключительного успеха. Обычно они обедали в одиночестве, негромко беседовали, сходясь по двое, по трое, читали газеты и книги или разъезжали по городу на быстроходных машинах и, казалось, не ведали, что такое страсть, — по крайней мере, на них, видно, не действовало это чувство, которое, как доныне представлялось незрелому уму Клайда, всем движет и все будоражит в жизни простых смертных — таких, как он сам. Вероятно, достигнуть видного положения и сохранить его в этом замечательном мире можно, только если будешь равнодушен к женщинам, освободишься от постыдной страсти к ним. Поэтому, думал Клайд, в присутствии таких людей и у них на глазах нужно держаться так, словно тебе и в голову не приходят мысли, которые на самом деле иной раз выводят, тебя из всякого равновесия. И, поработав здесь короткое время, под влиянием этого учреждения и различных его посетителей, Клайд стал с виду настоящим джентльменом. В стенах клуба он чувствовал себя совсем другим человеком: более сдержанным и практичным, не таким романтиком. Он был уверен, что теперь ему следует вновь попытать свои силы: подражая этим людям трезвого ума и только им, он в один прекрасный день добьется успеха, — быть может, не головокружительного, но, во всяком случае, значительно большего, чем до сих пор. Кто знает? Если он будет упорно работать, заводить только хорошие знакомства и вести себя очень осторожно, быть может, кто-нибудь из этих замечательных людей — посетителей клуба — заинтересуется им, предложит ему где-нибудь какое-нибудь видное место и поможет подняться до уровня того общества, доступ в которое до сих пор был для него закрыт. Надо сказать правду: Клайд по своему характеру неспособен был когда-либо стать вполне взрослым человеком. Ему недоставало ясности мышления и внутренней целеустремленности — качеств, которые присущи большинству людей и позволяют им среди всех дорог и возможностей в жизни выбрать для себя самую подходящую.Глава 23
Однако сам Клайд объяснял все свои жизненные неудачи тем, что ему не хватало образования. Когда он был мальчиком, непрерывные переезды семьи из города в город помешали ему учиться, накопить достаточно практических знаний в какой-либо области, чтобы он тоже мог стать членом высшего общества, к которому принадлежали все эти люди — посетители «Юнион клуба». А между тем он всей душой стремился быть в их числе. Эти джентльмены жили в прекрасных домах, останавливались в роскошных отелях, и люди вроде Скуайрса или здешнего начальника рассыльных служили им и заботились об их удобствах. А он, Клайд, всего только рассыльный. И ведь ему уже двадцать первый год! Порою это его очень огорчало. Он все время мечтал найти какую-то другую работу, на которой он мог бы выдвинуться и сделать карьеру. Не оставаться же ему всю жизнь рассыльным! — мысль о такой возможности немало пугала его в иные минуты. Придя к такому заключению, он стал размышлять, как бы ему обеспечить свое будущее, и в это время в Чикаго приехал его дядя Сэмюэл Грифитс. У него были здесь связи и знакомства, ему любезно предложили карточку в клуб, и он поселился здесь и в течение нескольких дней встречался со множеством людей, приходивших побеседовать с ним, или разъезжал по городу, занятый переговорами с различными людьми и фирмами, которые он считал нужным посетить. Не прошло и часа после его приезда, как Ретерер, ведавший записью прибывших и только что записавший на доске в вестибюле фамилию «Грифитс», подозвал Клайда. — Послушай, ты, кажется, говорил, что у тебя есть какой-то дядя или родственник по фамилии Грифитс, фабрикант воротничков где-то в штате Нью-Йорк? — Конечно, — ответил Клайд, — Сэмюэл Грифитс. У него большая фабрика воротничков в Ликурге. Это его объявления печатаются во всех газетах. Ты, наверно, видел его светящуюся рекламу на Мичиган-авеню. — А ты его узнаешь, если встретишь? — Нет, я его никогда в жизни не видел. — Пари держу, что это он и есть, — сказал Ретерер, рассматривая маленький регистрационный листок. — Вот погляди: «Сэмюэл Грифитс, Ликург, штат Нью-Йорк». Он самый, верно? — Наверняка! — подтвердил Клайд, очень заинтересованный и даже взволнованный, потому что с этим самым дядей ему уже давно хотелось встретиться. — Он только что прошел наверх, — продолжал Ретерер. — Дэвид понес его чемоданы. Шикарный мужчина. Ты гляди в оба, не прозевай его, когда он опять спустится сюда. Может, это и впрямь твой дядюшка. Он среднего роста, довольно худой, седые усики и светло-серая шляпа. Симпатичный малый. Я тебе его покажу. Если это правда твой дядя, ты уж постарайся ему понравиться. Может, он что-нибудь сделает для племянника… подарит пару воротничков, — прибавил он со смехом. Клайд тоже засмеялся, как будто оценив удачную шутку, но втайне он был очень взволнован. Дядя Сэмюэл здесь, в клубе! Вот удобный случай познакомиться. Клайд ведь собирался написать ему еще до того, как стал здесь работать, а теперь дядя сам приехал сюда, и с ним можно поговорить. Но стоп! Что дядя подумает о нем, если Клайд осмелится с ним заговорить? Как он отнесется к племяннику, который служит в этом клубе всего лишь рассыльным? И как вообще относится дядя к юношам, которые работают в качестве рассыльных, да еще если они в возрасте Клайда? Ведь ему уже двадцать первый год! Многовато для «мальчика на посылках», если только он не собирается оставаться в этой роли всю жизнь. Такой богатый и высокопоставленный человек, как Сэмюэл Грифитс, может счесть должность рассыльного унизительной, особенно, если рассыльный окажется его родственником. Весьма вероятно, что он не пожелает иметь с таким родственником ничего общего, не захочет даже разговаривать с ним… Целые сутки Клайд провел во власти этих сомнений. Однако на следующий день Клайд успел увидеть дядю раз шесть, и тот произвел на него самое приятное впечатление: живой, подвижный, деловитый, он нисколько не походил на своего брата — отца Клайда, и притом он был так богат и все относились к нему с таким уважением… И минутами Клайд не без страха спрашивал себя — неужели же упустить такой случай? В конце концов, дядя вовсе не кажется недобрым человеком, как раз наоборот, — у него очень приветливый вид… Когда Клайд, по совету Ретерера, отправился в комнату дяди за письмом, которое нужно было отправить с нарочным, дядя почти не взглянул на него, вместе с письмом вручил ему полдоллара. — Проследите, чтобы рассыльный немедленно отнес письмо, а деньги возьмите себе, — сказал он. Волнение Клайда было в эту минуту так велико, что он удивился, как дядя не угадал в нем своего племянника… Но мистер Грифитс явно ни о чем не догадывался. И Клайд ушел, немного приуныв. Спустя некоторое время на имя Сэмюэла Грифитса пришло с полдюжины писем, и Ретерер обратил на них внимание Клайда. — Вот тебе еще случай пойти к нему, если хочешь, — сказал Ретерер. — Снеси ему письма. По-моему, он сейчас у себя. И Клайд, после некоторого колебания, взял письма и пошел в комнату дяди. Тот что-то писал, сидя за столом, и в ответ на стук Клайда крикнул: — Войдите! Клайд вошел и, загадочно улыбаясь, сказал: — Вам письма, мистер Грифитс. — Большое спасибо, сынок, — ответил дядя и полез в жилетный карман за мелочью. Но Клайд, воспользовавшись случаем, воскликнул: — Нет, нет, мне ничего не нужно! — Дядя все еще протягивал деньги, но прежде чем он успел что-либо сказать, Клайд прибавил: — Кажется, я ваш родственник, мистер Грифитс. Ведь вы Сэмюэл Грифитс, владелец фабрики воротничков в Ликурге, правда? — Да, как будто я имею некоторое отношение к этой фабрике. А вы кто? — спросил дядя, пытливо разглядывая Клайда. — Меня зовут Клайд Грифитс, я сын Эйсы Грифитса. Он ведь, кажется, ваш брат? При упоминании об этом брате, который слыл в семье жалким неудачником, лицо Сэмюэла Грифитса несколько омрачилось. Он долгие годы не встречал Эйсу и теперь без особого удовольствия вспоминал приземистую и невзрачную фигуру младшего брата, каким он видел его в последний раз в доме их отца около Бертуика, штат Вермонт, — молодым человеком примерно в возрасте Клайда. Но какая разница! Отец Клайда был тогда толстый, несуразный, вялый и умственно и физически, что называется размазня; у него были водянистые голубые глаза, вьющиеся волосы, безвольный подбородок. Напротив, сын его — аккуратный, живой и красивый юноша с хорошими манерами и, по-видимому, неглуп (насколько замечал мистер Грифитс, мальчики-рассыльные вообще народ смышленый). Племянник ему понравился. Сэмюэл Грифитс, унаследовавший вместе со старшим братом Алленом скромное отцовское состояние, так как отец не любил младшего сына, всегда чувствовал, что Эйса стал жертвой несправедливости. Обнаружив, что сын не способен к практической деятельности и не слишком сообразителен, отец сначала пытался заставить Эйсу работать, потом просто не замечал его и, наконец, когда ему было примерно столько же лет, сколько теперь Клайду, выгнал из дому; впоследствии он завещал все свое состояние — около тридцати тысяч долларов — поровну двум старшим сыновьям, оставив Эйсе жалкую тысячу долларов. Все эти воспоминания заставили Сэмюэла Грифитса с любопытством всмотреться в Клайда. Он видел, что племянник совсем не похож на его младшего брата, который столько лет назад был изгнан из отцовского дома. Клайд скорее напоминал его собственного сына Гилберта, — теперь он заметил это сходство. И к тому же, вопреки опасениям Клайда, на Сэмюэла Грифитса произвело хорошее впечатление, что Клайд служит в таком фешенебельном клубе, хотя бы всего только рассыльным. Сэмюэлу Грифитсу, деятельность которого ограничивалась Ликургом и ликургским обществом, клуб этот, с его особым положением и характером, внушал почтение. Молодые люди, служащие в подобных учреждениях, обычно толковы и скромны. И поэтому он благожелательно посмотрел на Клайда, который стоял перед ним с видом прекрасно воспитанного молодого человека, опрятный и подтянутый в своем сером с черным форменном костюме. — Что вы говорите! — воскликнул он. — Значит, вы сын Эйсы! Ну и ну! Вот так сюрприз! Знаете, ведь я не видел вашего отца по меньшей мере лет двадцать пять и ничего о нем не слыхал. В последний раз, когда я слышал о нем, он жил в штате Мичиган, в Грэнд-Рэпидс, насколько я помню. А где он теперь? Здесь, в Чикаго? — О нет, сэр! — Клайд был рад, что может ответить отрицательно. — Моя семья живет в Денвере. Я здесь один. — И отец и мать живы, надеюсь? — Да, сэр, оба живы. — И отец все еще… проповедует? — Да, сэр, — ответил Клайд с запинкой: он по-прежнему был убежден, что из всех возможных видов деятельности занятие его отца — самое жалкое и самое бесполезное в глазах общества. — Но теперь, — продолжал он, — миссия отца связана с меблированными комнатами; в доме, кажется, около сорока комнат. Отец и мать управляют этим домом и руководят миссией. — А, понятно. Клайду так хотелось произвести на дядю наилучшее впечатление, что, описывая положение отца, он кое-что приукрасил. — Ну, я очень рад, что они хорошо устроились, — продолжал Сэмюэл Грифитс, которому все больше нравилась полная изящества и энергии внешность Клайда. — А вы довольны своей работой здесь? — Не совсем… нет, мистер Грифитс, я недоволен, — поспешно ответил Клайд, обрадованный этим вопросом. — Конечно, заработок неплохой. Но мне не нравится этот способ зарабатывать деньги. Я хотел бы совсем другого. Но я пошел сюда работать, потому что у меня не было возможности получить какую-нибудь специальность и мне не удавалось поступить на работу в такое место, где можно было бы по-настоящему выдвинуться. Мать советовала мне написать вам и спросить, не найдется ли на вашей фабрике работы для меня, чтобы я мог с чего-то начать. Но я боялся, что это вам не понравится, и потому не писал. Он замолчал, улыбаясь, но во взгляде его был вопрос. Сэмюэл Грифитс с минуту серьезно смотрел на него: ему понравилось выражение лица Клайда и то, как он изложил свою просьбу. — Да, это очень похвально, — сказал он. — Разумеется, вам следовало написать мне… И он умолк, так как привык к осторожности во всяких деловых разговорах. Клайд заметил, что дядя не решается его обнадежить, и, чуть помедлив, спросил напрямик: — Может быть, у вас на фабрике найдется какое-нибудь место для меня? Сэмюэл Грифитс в раздумье смотрел на племянника. Ему и нравилась и не нравилась такая прямая просьба. Однако Клайд показался ему очень подходящим человеком; По-видимому, он неглуп и честолюбив, — совсем как Гилберт, — и, ознакомившись с фабрикой, вполне мог бы под руководством Гилберта справиться с должностью заведующего одним из цехов или хотя бы помощника заведующего. Во всяком случае, можно дать ему попробовать. Риска тут никакого. И кроме того, ведь это сын Эйсы, младшего брата, по отношению к которому и у Сэмюэла, и у старшего брата Аллена есть кое-какие обязательства, если даже оставить в стороне вопрос о восстановлении в правах наследства. — Вот что, — заговорил Сэмюэл после минутного молчания. — Я должен немного подумать. Я не могу так сразу сказать, найдется ли у нас подходящая работа. Начать с того, что мы не, можем платить вам столько, сколько вы получаете здесь, — предупредил он. — Ну конечно! — воскликнул Клайд, которого прежде всего прельщал не заработок, а сама возможность служить у дяди. — Я не могу надеяться на большое жалованье, пока не сумею его заслужить. — Кроме того, может случиться, что вам не понравится работа на нашем предприятии, или мы найдем, что вы нам не подходите. Надо сказать, не всякий способен к такой работе. — Что же, тогда вы уволите меня, рот и все, — сказал Клайд. — Но я всегда думал, что подойду вам, — с первого раза, как услышал о вас и о вашем огромном предприятии. Это последнее замечание польстило Сэмюэлу Грифитсу. Очевидно, он сам и его успехи — идеал для этого юноши. — Ну хорошо, — сказал он. — Сейчас я не могу уделить вам больше времени. Но я пробуду здесь еще дня два и все обдумаю. Может быть, я и сумею что-нибудь для вас сделать. Пока ничего обещать не могу. И он вернулся к своим письмам. А Клайд, чувствуя, что произвел настолько хорошее впечатление, насколько было возможно при данных обстоятельствах, и что из этого может выйти толк, горячо поблагодарил дядю и поспешно вышел. На следующий день, обдумав все и решив, что Клайд при его живости и сообразительности может быть полезен на фабрике не хуже всякого другого, а также продумав надлежащим образом значение этого шага для своего семейства, Сэмюэл Грифитс сообщил племяннику, что, как только у него на фабрике появится какая-нибудь вакансия, он охотно его известит. Но он не может обещать, что такая возможность появится немедленно. Клайду придется подождать. Итак, Клайд был предоставлен своим размышлениям о том, скоро ли для него найдется местечко на дядиной фабрике и найдется ли вообще. А тем временем Сэмюэл Грифитс вернулся в Ликург и, посовещавшись с сыном, решил, что Клайду следует изучить дело, начиная с самых основ или, во всяком случае, с подвала фабрики: там декатировались ткани, необходимые для выделки воротничков, и именно в этот подвал прежде всего попадали новички, желавшие изучить технику производства в целом. Но так как Клайд должен был существовать только на свои средства и притом не слишком бедствовать (это было бы несовместимо с положением семейства Грифитс в Ликурге), порешили назначить ему щедрое вознаграждение — для начала пятнадцать долларов в неделю. Разумеется, и Сэмюэл Грифитс и его сын Гилберт понимали, что плата эта невелика (не для обыкновенного ученика, а для Клайда как родственника), но оба они были люди деловые, вовсе не склонные к благотворительности по отношению к тем, кто на них работал, и полагали, что чем ближе к границе нужды и лишений стоит новичок на их фабрике, тем лучше. И тот и другой относились нетерпимо к социалистической теории о капиталистической эксплуатации. Оба считали необходимым существование социальной лестницы, чтобы по ступеням ее стремились подняться люди низших классов. Касты неизбежно должны существовать. Пытаться сверх меры помогать кому-либо, хотя бы даже и родственнику, — значит безрассудно подрывать самые основы общества. Когда имеешь дело с личностями и классами, которые в общественном и материальном отношении стоят ниже тебя, надо обращаться с ними согласно привычным для них нормам. И лучшие нормы — те, которые заставляют ниже стоящих ясно понимать, как трудно достаются деньги и как необходимо для всех, кто участвует в единственно важном, с точки зрения обоих Грифитсов, деле — в производстве материальных ценностей, — полное, подробнейшее и практическое знакомство с техникой данного производства. Поняв это, они должны приучить себя к трезвой жизни и к самой строгой экономии во всем. Это благотворно скажется на их характере. Именно так закаляются умы и души людей, которым суждено подняться по ступеням общественной лестницы. А те, кто на это не способен, должны оставаться на своем месте внизу. Итак, примерно через неделю было решено, какую именно работу предложить Клайду, и Сэмюэл Грифитс сам написал ему в Чикаго и сообщил, что он может, если пожелает, приехать в ближайшее время. Но он должен заранее, дней за десять, письменно известить о своем приезде, чтобы можно было вовремя все подготовить. В Ликурге он должен явиться на фабрику, в контору к мистеру Гилберту Грифитсу, и тот о нем позаботится. Это письмо очень взволновало Клайда, и он тотчас написал матери, что место у дяди ему обеспечено и что он отправляется в Ликург. Вот теперь он постарается добиться настоящего успеха. Мать ответила ему длинным письмом, убеждая его тщательно следить за своим поведением и быть очень, очень осторожным в выборе друзей. Плохие знакомства — корень почти всех заблуждений и падений у таких честолюбивых юношей, как он. А если он будет избегать общества легкомысленных и развращенных юношей и девушек, все будет хорошо. Молодому человеку с внешностью и характером Клайда так легко сбиться с пути под влиянием какой-нибудь дурной женщины. Он и сам знает, что случилось с ним в Канзас-Сити. А он еще молод и теперь собирается работать у такого богатого и влиятельного человека, который может, если пожелает, многое для него сделать. И пусть он почаще пишет ей о том, как складывается его новая жизнь. Итак, известив дядю, как тот просил, Клайд наконец выехал в Ликург. Но, прибыв туда, он не пошел сразу на фабрику, поскольку дядя не назначил ему определенного часа; вместо этого он снял комнату в единственном крупном отеле города, носящем название «Ликург». Ему не терпелось посмотреть, что же это за город, где ему предстоит жить и работать, и какое положение занимает здесь его дядя; он рассчитал, что располагает достаточным количеством свободного времени, — такой случай, пожалуй, не скоро представится после того, как он приступит к работе, — и решил пройтись. Он вышел на Сентрал-авеню — подлинное сердце Ликурга; тут ее пересекало несколько наиболее оживленных улиц: эти кварталы составляли деловой и торговый центр — здесь была сосредоточена вся жизнь и все развлечения Ликурга.Глава 24
Но, пройдя по этой улице, Клайд сразу увидел, как не похоже все это на мир, к которому он привык за последнее время. Все здесь было гораздо меньших размеров. Вокзал, откуда он вышел всего полчаса назад, был мал и скучен, и ясно было, что его покой не нарушается слишком большим движением. Фабричный район, расположенный как раз напротив центральной части города на другом берегу реки Могаук, оказался просто-напросто скоплением красных и серых зданий, над которыми то тут, то там возвышалась фабричная труба; этот район соединяли с городом два моста, их отделяло друг от друга примерно с полдюжины кварталов; один мост был у самого вокзала — на нем было довольно большое движение, — и тут же проходила трамвайная линия, которая затем следовала всем изгибам Сентрал-авеню. Но сама Сентрал-авеню, с ее невысокими домами и разбросанными там и сям магазинами, оказалась улицей очень оживленной, заполненной пешеходами и автомобилями. Наискосок от отеля, — на Сентрал-авеню выходили его широкие зеркальные окна, за которыми виднелись пальмы, колонны и расставленные между ними кресла, — возвышался большой мануфактурный магазин «Старк и К°», солидное четырехэтажное здание из белого кирпича, длиною не менее ста футов; в ярко освещенных витринах были выставлены самые модные новинки. А дальше — другие большие магазины, еще один отель, автомобильная выставка, кинематограф. Клайд все шел и шел вперед — и вдруг очутился за пределами торгового центра, на, широкой, обсаженной деревьями улице; по обе стороны ее стояли красивые особняки; любой из них казался гораздо просторнее, удобнее, спокойнее и даже величественнее, чем все дома, какие когда-либо видел Клайд в своей жизни. Словом, ему достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что хоть это и улица небольшого города, но она совсем особенная — улица богатства и даже роскоши. Сколько здесь внушительных, кованого железа оград, окаймленных цветами дорожек, расположенных группами деревьев и кустов, сколько дорогих, красивых автомобилей ожидают у входов или мчатся по улице! А в магазинах по соседству, близ Сентрал-авеню и торговых кварталов, где начинается эта просторная и красивая улица, выставлены такие дорогие, шикарные вещи! Они, конечно, предназначены для состоятельных людей с изысканным вкусом: автомобили, драгоценности, тонкое белье, кожаные изделия, мебель… Но где живет дядя и его семья? На какой улице? В каком доме? Может быть, его дом еще больше, еще красивее? Нужно сейчас же вернуться, решил Клайд, и отправиться к дяде. Надо найти фабрику, — наверно, она в той части города, за рекой. Как ему держаться, что говорить? Какое место даст ему дядя? В письме дядя упомянул о своем сыне Гилберте. Что за человек этот Гилберт, его двоюродный брат? Что он подумает о нем, Клайде? Клайд вернулся на Сентрал-авеню, дошел до вокзала и скоро нашел фабрику Сэмюэла Грифитса. Это было огромное шестиэтажное здание из красного кирпича, около тысячи футов длиною. Оно чуть ли не все состояло из окон, по крайней мере та часть, которая была недавно пристроена специально для производства воротничков. Старая часть, как узнал впоследствии Клайд, соединялась с новой несколькими крытыми переходами. Южные стены обоих этих зданий выходили на берег реки Могаук. С этой стороны вдоль Ривер-стрит было несколько дверей, примерно через каждые сто футов, и у каждой стоял сторож в форменной одежде. Все входы в здание были пронумерованы; под первым, вторым и третьим номерами стояла надпись: «Только для служащих», под номером четвертым — «Контора», двери под номерами пять и шесть, по-видимому, были предназначены для вывоза и приема товаров. Клайд подошел к входу в контору; никто здесь не задержал его; он прошел через две вращающиеся двери и оказался перед барьером; по ту сторону барьера, рядом с небольшой дверью, очевидно, ведущей в главную контору, сидела телефонистка — некрасивая женщина лет тридцати пяти, низенькая и толстая. — Что вам? — окликнула она Клайда. — Я хотел бы видеть мистера Гилберта Грифитса, — начал Клайд, стараясь не выдать волнения. — Зачем? — Видите ли, я его двоюродный брат. Меня зовут Клайд Грифитс. У меня письмо от дяди, мистера Сэмюэла Грифитса. Он, вероятно, примет меня. Клайд протянул ей письмо и при этом заметил, что суровое, равнодушное лицо ее сразу изменилось и приняло выражение если не любезное, то куда более почтительное. На эту женщину явно произвели впечатление не только слова Клайда, но и его внешность, и она стала исподтишка с любопытством рассматривать его. — Сейчас я узнаю, здесь ли он, — сказала она гораздо более вежливым тоном и соединилась с кабинетом мистера Гилберта Грифитса. Очевидно, ей сообщили по телефону, что мистер Гилберт в данную минуту занят и его нельзя беспокоить, так как она в ответ сказала: — Здесь двоюродный брат мистера Гилберта, мистер Клайд Грифитс. У него письмо от мистера Сэмюэла Грифитса. — И, обратившись к Клайду, прибавила: — Присядьте, пожалуйста. Наверно, мистер Гилберт Грифитс примет вас через минуту. Сейчас он занят. Клайда поразила необычайная почтительность ее обращения: до сих пор еще никогда за всю его жизнь с ним не разговаривали так почтительно. Подумать только! Он близкий родственник такой богатой и влиятельной семьи! Какая огромная фабрика! Какое громадное здание — целых шесть этажей! Только что, проходя по другому берегу реки, через открытые окна он видел огромные помещения и в них множество женщин, погруженных в работу. И невольное волнение охватило его. Высокие кирпичные стены здания были словно воплощением энергии, подлинного материального успеха — едва ли высшего успеха в глазах Клайда. Он смотрел на серые оштукатуренные стены этой приемной, на надпись на внутренней двери, гласившую: «Акционерное общество Грифитс. Воротнички и рубашки. Председатель Сэмюэл Грифитс, секретарь Гилберт Грифитс», и спрашивал себя, что он увидит там, за дверью, и каков этот Гилберт Грифитс, и как он его примет — холодно или приветливо, дружески или враждебно? Так он сидел и размышлял, как вдруг телефонистка вновь обратилась к нему. — Теперь вы можете войти, — сказала она. — Кабинет мистера Гилберта Грифитса в самом конце этого этажа, с той стороны, которая выходит на реку. Вам каждый служащий покажет. Она привстала, словно собираясь открыть ему дверь, но Клайд поспешил предупредить ее. — Спасибо, не беспокойтесь! — от души сказал он. Открыв стеклянную дверь, он увидел большой зал; здесь находилось свыше сотни служащих, — в большинстве молодые люди и молодые женщины. Все они казались погруженными в лежащие перед ними бумаги. У многих над глазами торчали зеленые козырьки. На мужчинах были короткие рабочие куртки из сатина или нарукавники, защищавшие рукава рубашек. Почти все молодые женщины были в опрятных красивых платьях из бумажной ткани или в рабочих халатах. По обе стороны, отделенные от центральной части зала перегородками, находились кабинеты различных должностных лиц фирмы, и на дверях виднелись таблички с их именами: Смилли, Летч, Гетбой, Берки. Так как телефонистка сказала ему, что кабинет мистера Грифитса находится в глубине здания, Клайд довольно уверенно прошел через весь зал и в конце его увидел полуоткрытую дверь с табличкой: «Гилберт Грифитс, секретарь». Он помедлил минуту, не решаясь войти, потом слегка постучал. Сейчас же резкий, пронзительный голос крикнул: «Войдите». Клайд вошел и увидел перед собой молодого человека, который казался немного ниже его ростом, чуть старше и, несомненно, гораздо сдержаннее и проницательнее; словом, это был как раз такой молодой человек, каким мечтал стать сам Клайд: знающий свое дело, властный и энергичный. Поскольку приближалась весна, на нем был (это сразу отметил Клайд) светло-серый костюм в яркую полоску. Его блестящие волосы были несколько светлее, чем у Клайда, и гладко зачесаны назад; светлые серо-голубые глаза впились в Клайда, едва он успел перешагнуть порог. На молодом человеке были большие очки в роговой оправе, которые он надевал только во время работы; через круглые стекла он быстро и внимательно осмотрел Клайда с головы до ног, заметив все — от ботинок до коричневой фетровой шляпы, которую Клайд держал в руке. — Вы — мой двоюродный брат? — сказал Гилберт ледяным тоном, со слабой и далеко не доброжелательной улыбкой, когда Клайд остановился посреди комнаты. — Да, это я, — сказала Клайд, смущенный и несколько испуганный таким холодным приемом. Он мгновенно понял, что не может относиться к своему двоюродному брату с тем же уважением, какое внушал ему дядя, чьими талантами создано это замечательное предприятие. Где-то в глубине души он чувствовал, что этот молодой человек, пожалуй, здесь только наследник — не больше, и если бы не способности отца, сумевшего создать громадную фабрику, сын не мог бы напускать на себя такую важность и принимать высокомерный вид. Но уж очень беспочвенны и ничтожны были права Клайда на какое-либо уважение здесь, очень благодарен он был за все, что могут для него сделать, и потому он заранее чувствовал себя глубоко признательным и старался улыбнуться возможно приветливее. А Гилберт Грифитс, видимо, сразу же счел эту улыбку признаком самонадеянности; этого он не намерен был терпеть в каком-то двоюродном брате, да еще в таком, который нуждается в покровительстве со стороны самого Гилберта и его отца. Однако, поскольку отец соизволил заинтересоваться этим родственником, Гилберту не оставалось выбора, и, продолжая криво улыбаться и мысленно изучать двоюродного брата, он сказал: — Мы так и думали, что вы явитесь сегодня или завтра. Приятная была поездка? — Да, очень, — ответил Клайд, несколько смущенный этим вопросом. — Итак, вы хотите ознакомиться с производством воротничков? — продолжал Гилберт. И тон и манеры его были исполнены величайшей снисходительности. — Да, я очень хотел бы изучить дело, в котором потом можно будет как-то выдвинуться, — добродушно сказал Клайд, стараясь по мере сил и возможности заслужить расположение двоюродного брата. — Отец говорил мне о своей беседе с вами в Чикаго. Но, как я понял из его слов, у вас нет практического опыта ни в какой области. Вы не знакомы с бухгалтерией? — К сожалению, нет, — ответил огорченный Клайд. — И не знаете стенографии или еще чего-нибудь в этом роде? — Нет, сэр. Говоря это, Клайд остро чувствовал, как сильно недостает ему хоть каких-нибудь практических знаний. Гилберт смотрел на него теперь, как на совершенно бесполезное для фабрики приобретение. — В таком случае, — продолжал Гилберт, как будто он только сейчас решил это, а не получил заранее определенных указаний от отца, — я думаю, лучше всего направить нас в декатировочную. Там, собственно, и начинается все производство, так что вы сможете изучать его с самых основ. Мы испробуем вас там, а потом видно будет, что еще можно для вас сделать. Будь вы хоть как-то подготовлены к конторской работе, можно было бы использовать вас здесь. (Лицо Клайда омрачилось, и это было приятно Гилберту.) Но раз вы хотите изучить практическую сторону дела, с таким же успехом можно начать и там, — прибавил он холодно, вовсе не для того, чтобы утешить Клайда, а просто устанавливая факт. И так как Клайд молчал, он продолжал: — Я полагаю, прежде чем приступить к работе, вам следует где-нибудь устроиться. Вы еще не нашли себе комнаты? — Нет, я приехал с двенадцатичасовым поездом и хотел немножко почиститься с дороги, так что остановился в отеле. Я думал, что после подыщу себе комнату. — Ну и прекрасно. Искать ничего не надо. Я скажу нашему управляющему, чтобы он указал вам какой-нибудь хороший пансион. Он знает город лучше, чем вы. Гилберт подумал, что как-никак Клайд все же их близкий родственник, и не годится, чтобы он поселился где попало. В то же время он вовсе не желал, чтобы Клайд вообразил, будто семью Грифитс очень трогает, где и как он живет, — сам Гилберт считал, что их это ничуть не касается. В конце концов он решил, что ему нетрудно будет поставить Клайда в такие условия и так следить за ним, чтобы он не мог приобрести какое-то значение в их семье, в глазах его отца или людей, работающих на фабрике. Он протянул руку и нажал кнопку звонка. Вошла очень строгая и сдержанная на вид девушка в зеленом бумажном платье. — Попросите мистера Уигэма. Она исчезла, и тотчас в кабинет вошел служащий лет сорока, среднего роста, довольно полный, но подвижный и как будто чем-то крайне встревоженный. Казалось, это человек сдержанный и скрытный; он пытливо, подозрительно осматривался, словно стараясь понять, откуда грозит новая неприятность. Он не поднимал головы и, казалось, предпочитал не глядеть на собеседника. — Уигэм, — властно заговорил Грифитс-младший, — это Клайд Грифитс, наш родственник. Помните, я говорил вам о нем? — Да, сэр. — Так вот, его нужно поместить для начала в декатировочный цех. Вы покажете ему, что он должен делать. А потом пусть миссис Брейли укажет ему, где он может достать себе комнату. (Все это было решено и сказано Уигэму уже неделю назад, но сейчас Гилберт говорил так, словно он сам только что это решил.) И пусть табельщик внесет его имя в списки. Он начинает работать с завтрашнего утра. Понятно? — Понятно, сэр. — Уигэм почтительно поклонился. — Это все? — Да, все, — важно заключил Гилберт. — Вы пойдете вместе с Уигэмом, мистер Грифитс; он вам все объяснит. Уигэм повернулся к Клайду. — Прошу пожаловать за мной, мистер Грифитс, — сказал он очень почтительно, несмотря на то, что двоюродный брат явно смотрел на Клайда сверху вниз; Клайд отметил это про себя, выходя из кабинета вслед за Уигэмом. Гилберт тотчас вернулся к своим бумагам, но при этом покачал головой. Он решил, что в умственном отношении Клайд, вероятно, ничуть не выше любого рассыльного в большом отеле. Иначе зачем бы он явился сюда? «Хотел бы я знать, на какую работу он рассчитывает? — думал Гилберт. — Чего он собирается достигнуть?» А Клайд, идя за Уигэмом, размышлял о том, какой завидный пост занимает мистер Гилберт Грифитс. Уж наверно, он приходит и уходит, когда ему вздумается, — является в контору поздно, уходит рано, живет где-то в этом занятном городе, конечно, в прекрасном доме, вместе со своими родителями и сестрами. А вот он, двоюродный брат Гилберта, племянник богача Сэмюэла Грифитса, отправляется теперь на самую унизительную работу, какая только есть на этой огромной фабрике. Тем не менее, выйдя из кабинета и оказавшись вне поля зрения мистера Гилберта Грифитса, Клайд сразу отвлекся от невеселых мыслей, пораженный видом и шумом гигантского предприятия. На том же этаже, за громадной конторой, через которую он проходил к Гилберту, находилось другое, еще большее помещение, уставленное рядами полок; между рядами оставались только узкие, не шире пяти футов, проходы; полки были заставлены небольшими картонными коробками с воротничками разных размеров, и то пополнялись новыми коробками (их подвозили мальчики со склада на широких деревянных тачках), то вновь быстро опустошались конторщиками, которые, толкая перед собой маленькие тележки, выполняли заказы, все время сверяясь с дубликатами накладных. — Вы, должно быть, никогда не работали на фабрике воротничков, мистер Грифитс? — спросил Уигэм, который несколько оживился, выйдя из поля зрения Гилберта. Клайд снова отметил, что его величают «мистером». — Нет, — быстро ответил он, — мне никогда не приходилось работать в таком месте. — Хотите постепенно изучить все производство, надо полагать? — продолжал Уигэм. Он быстро шел по длинному проходу, но Клайд заметил, что его хитрый взгляд шныряет во всех направлениях. — Да, я хотел бы изучить это дело, — ответил Клайд. — Ну, это не так легко, как кажется, хотя часто говорят, что тут учиться нечему. Мистер Уигэм открыл еще одну дверь, пересек мрачный вестибюль и вошел в новое помещение, также уставленное полками, на которых громоздились кипы белой ткани. — Обратите внимание на это помещение, раз вы начинаете работать в декатировочной, — посоветовал Клайду Уигэм. — Здесь хранится материал, из которого выкраиваются воротнички и подкладка к ним. Эти куски называются «штуками». Отсюда мы их отправляем в подвальное помещение и прежде всего декатируем материю. Если кроить воротнички из полотна или бумажной ткани в том виде, как она поступает к нам, они потом сядут при стирке. Поэтому мы до кройки вымачиваем ткань и затем сушим ее. Впрочем, вы сами увидите. Он торжественно шагал впереди, и Клайд еще раз почувствовал, что в глазах этого человека он отнюдь не обыкновенный служащий. Поминутное «мистер Грифитс», предположение, что Клайд желает изучить всю практическую сторону дела, обстоятельные объяснения насчет штук ткани — все это убедило Клайда, что мистер Уигэм смотрит на него как на человека, которому, во всяком случае, нужно оказывать некоторое, хотя бы небольшое, уважение. Раздумывая, что бы это значило, Клайд шел за Уигэмом, и вскоре, спустившись по лестнице, которая вела сюда из третьего вестибюля, они оказались в огромном подвале. Здесь при свете четырех длинных рядов электрических ламп он разглядел большие фаянсовые чаны или желоба, расположенные рядами во всю длину помещения; они, очевидно, были наполнены горячей водой, и в них, под облаками пара, поднимавшегося над водой, мокли те самые штуки ткани, которые Клайд видел наверху. По обе стороны этих желобов, параллельно им, во всю длину помещения — сто пятьдесят футов — стояли огромные сушилки в виде решетчатых подвижных платформ, со всех сторон окруженных паровыми трубами; между ними на особых валиках были развешаны размотанные мокрые штуки таким образом, что, провисая фестонами, они касались горячих труб и медленно двигались на валиках через весь подвал из конца в конец. Это движение сопровождалось ужасающим грохотом и лязгом рычагов, которые автоматически встряхивали развешанное для просушки полотно и передвигали штуки все дальше из восточной части подвала в западную. Там материя, за время движения успевшая высохнуть, вновь автоматически наматывалась на громадную деревянную шпульку; а стоявший рядом молодой рабочий снимал со шпульки готовые штуки. Тем временем другой рабочий, по виду ровесник Клайда, стоя в восточной стороне подвала, одним концом прикреплял штуку еще влажной ткани к движущимся крючкам и следил, чтобы она постепенно и аккуратно разматывалась во всю длину и ложилась на сушилку; как только одну штуку снимали с сушилки, к крючкам прикрепляли новую. Посреди подвала, между каждыми двумя рядами чанов, стояли огромные вертящиеся сепараторы, или выжималки, — сюда полотно клали после того, как его вынимали из чанов, где оно мокло не менее суток. Механические выжималки отделяли почти всю влагу, — столько, сколько можно удалить центробежным движением машины, — и лишь после этого штуки развешивались на сушилках для окончательной просушки. Вначале до сознания Клайда дошли чисто физические свойства этого помещения: шум, жара, пар, напряженная работа мужчин и мальчиков, стоявших у машин. На всех рабочих были только рубашки без рукавов, старые стянутые поясом штаны и парусиновые туфли на резиновой подошве, надетые на босу ногу. Очевидно, одеваться так заставляли вода, жара и сырость, царившие в помещении. — Вот это и есть декатировочный цех, — заметил Уигэм, когда они вошли. — Правда, здесь не так приятно, как в других цехах фабрики, но именно здесь начинается производственный процесс. Кемерер! — позвал он. К нему подошел невысокий коренастый широкогрудый человек с бледным полным лицом и белыми мускулистыми руками, одетый в грязные, измятые штаны и фланелевую рубашку без рукавов. Он держался так же подобострастно и почтительно в присутствии Уигэма, как сам Уигэм в присутствии Гилберта. — Это Клайд Грифитс, двоюродный брат Гилберта Грифитса. Я говорил вам о нем на прошлой неделе, помните? — Да, сэр. — Он будет сначала работать здесь. Приступит завтра утром. — Слушаю, сэр. — Внесите его имя в табель. Он будет работать в обычные часы. — Слушаю, сэр. Мистер Уигэм, как заметил Клайд, держал голову выше и говорил решительнее и авторитетнее, чем до сих пор. Теперь он казался начальником, а не подчиненным. — Работа здесь начинается в половине восьмого, — продолжал он, обращаясь к Клайду. — Но все рабочие приходят хотя бы минут на десять раньше, чтобы было время переодеться и подойти к машинам. А теперь, если хотите, мистер Кемерер покажет вам, что вы должны делать завтра. Это сбережет немного времени. Но можете отложить на завтра, если хотите. Это не имеет значения. И вот что: если по дороге отсюда вы подойдете примерно в половине шестого к главному входу, — знаете, где сидит телефонистка, — я пришлю туда миссис Брейли; она укажет вам, где можно снять комнату. Я сам не могу быть в это время, но вы просто спросите у телефонистки, где миссис Брейли, она будет знать. А теперь мне надо идти, — прибавил он и, кивнув на прощание, быстро пошел к выходу. — Очень вам благодарен, мистер Уигэм… — начал вслед ему Клайд. Вместо ответа Уигэм махнул жилистой рукой и прошел между чанами к двери. И как только он вышел, мистер Кемерер, все еще нервничая, почтительно начал давать объяснения: — Насчет своей работы вы не беспокойтесь, мистер Грифитс. Надо будет только притащить сверху отрезы, с которых вы завтра начнете. Но лучше наденьте какой-нибудь старый костюм, если у вас найдется. Такое платье не годится здесь. — И он посмотрел на элегантный, хотя и недорогой костюм Клайда. В его обращении с Клайдом, так же как перед тем в обращении Уигэма, странно смешивались неуверенность и робость, крайняя почтительность и некоезатаенное сомнение, которое могло разрешиться лишь с течением времени. Очевидно, здесь немало значило быть Грифитсом, даже если этот Грифитс — только двоюродный брат и, может быть, не очень приятен своим могущественным родственникам. В первую минуту, взглянув на этот подвал, так непохожий на все, о чем он мечтал и что надеялся найти на фабрике дяди, Клайд готов был возмутиться. Не в такую компанию он рассчитывал попасть, — люди, работавшие здесь, сразу показались ему гораздо более грубыми и примитивными, чем служащие в «Юнион клубе» или в отеле «Грин-Дэвидсон». А главное, они казались ему приниженными, скрытными, невежественными — просто машины какие-то! Клайд заметил, что, когда он вошел сюда с Уигэмом, рабочие притворились, будто не смотрят в их сторону, а на самом деле все время недоверчиво и подозрительно наблюдали за ними. И к тому же вид их жалкой одежды разом нанес смертельный удар его мечте о том, что, работая на фабрике, он сможет стать изысканнее. Какое несчастье, что он ничему не обучался и не может теперь работать где-нибудь наверху, в конторе! Он шел за Кемерером, и тот объяснял ему, как отрезы ткани укладывают на ночь в чаны для вымачивания, как работают выжималки, сушилки. Затем Клайду было сказано, что он свободен. Было только три часа. Через ближайшую дверь Клайд вышел на улицу и поздравил себя с поступлением на службу в столь солидное предприятие. Но сумеет ли он удовлетворить мистера Кемерера и мистера Уигэма? Вдруг нет? Вдруг он не сможет вынести все это? Дело совсем не легкое. Ну что же, думал он, в самом худшем случае можно вернуться в Чикаго или, скажем, поехать в Нью-Йорк и найти там работу. Но почему Самюэл Грифитс не соизволил его принять? Почему Гилберт Грифитс улыбался так скептически? И что за женщина эта миссис Брейли? Умно ли он поступил, приехав сюда? Захочет ли эта семья хоть чем-нибудь помочь ему теперь, когда он уже здесь? Занятый этими мыслями, он шел на запад по Ривер-стрит, потом свернул по какой-то улице на север; здесь всюду было множество различных предприятий: фабрики жестяных и плетеных изделий, ковров, большой завод пылесосов. Наконец он забрел в такие жалкие трущобы, каких не видал ни в Чикаго, ни в Канзас-Сити. Клайд был уязвлен и подавлен этим зрелищем, — все здесь говорило о нищете, о грубости и жалком положении жителей, ясно было, что здесь ютятся последние бедняки, отбросы общества; и он поспешно повернул обратно. Он перешел по мосту через реку Могаук и сразу попал в совсем иную обстановку — в район таких же домов, какими он восхищался, прежде чем пойти на фабрику. А затем он вышел на ту красивую, обсаженную деревьями улицу, которой любовался утром: по одному ее виду ясно было, что именно здесь живет высшее общество Ликурга. Она была такая широкая, хорошо вымощенная, по обе ее стороны стояли такие великолепные дома. И Клайд вдруг ужасно заинтересовался населением этой улицы, так как ему пришло в голову, что скорее всего именно здесь живет его дядя. Почти все особняки были выдержаны в стиле лучших образцов французской, итальянской и английской архитектуры, но Клайд этого не понимал. Он шел все дальше, глядя по сторонам, его поражали размеры и красота этих домов; он был глубоко взволнован видом такого богатства и спрашивал себя, где же именно живет его дядя. С каким чувством собственного превосходства выходит, должно быть, по утрам его двоюродный брат Гилберт из такого дома. Перед одним из особняков он остановился. Вокруг были посажены деревья, проложены дорожки, разбиты клумбы для цветов, хотя цветов еще не было; в глубине двора стоял большой гараж; слева от дома виднелся фонтан и в центре его статуя — мальчик с лебедем в руках, а справа — группа, отлитая из чугуна: олень, преследуемый собаками. Клайд был восхищен и очарован спокойным благородством этого особняка, выстроенного в староанглийском стиле; мимо как раз проходил плохо одетый человек средних лет, по-видимому рабочий, и Клайд обратился к нему: — Скажите, мистер, вы не знаете, кто здесь живет? И прохожий ответил: — Как не знать! Сэмюэл Грифитс; тот самый, у которого большая фабрика воротничков на том берегу… И Клайд вздрогнул, точно его облили холодной водой. Дом дяди! Его особняк! Значит, это его автомобиль стоит перед гаражом, а через открытые ворота гаража виден еще другой. И незрелую и, в сущности, слепую и темную душу Клайда вдруг охватило странное настроение, подобное тому, какое вызывают розы, блеск огней, духи и музыка. Какая красота! Какая роскошь! Никому из членов его собственной семьи и не снилось, что дядя живет так! Какое великолепие! А его родители так несчастны, так бедны, — они, конечно, и сейчас проповедуют где-нибудь на улицах Канзас-Сити или Денвера. Руководители миссии! И хотя ни один из этих богатых родственников, кроме сухаря-кузена (да и то только на фабрике), не потрудился повидаться с ним, хотя его с таким равнодушием назначили на самую черную работу, он все же повеселел и воспрянул духом. В конце концов, он ведь тоже Грифитс, двоюродный брат и родной племянник важных персон в Ликурге, и, как бы то ни было, теперь он начинает у них работать. И разве это не означает, что его ждет гораздо лучшее будущее, чем все, на что он мог надеяться до сих пор? Нужно только вспомнить, что значат Грифитсы здесь и что «значат» Грифитсы в Канзас-Сити или, скажем, в Денвере. Какой потрясающий контраст! Но это нужно скрывать как можно тщательнее. Клайд снова приуныл. Что, если здешние Грифитсы — его дядя, или двоюродный брат, или кто-нибудь из их друзей или служащих — станут наводить справки о его родителях и о его прошлом? Какой ужас! Эта история с убитым ребенком в Канзас-Сити! Жалкое существование родителей! Эста! И снова лицо его вытянулось, и мечты померкли. Вдруг они догадаются! Вдруг почувствуют! О, дьявольщина! Кто он, в конце концов? Что он, в сущности, собой представляет? Чего он может ожидать от этого великолепного мира, если узнают, почему он сюда явился? Клайд повернул назад: он был угнетен и даже противен самому себе, ибо разом почувствовал себя совершеннейшим ничтожеством.Глава 25
Комната, которую при помощи миссис Брейли Клайд сиял в тот же день, находилась на Торп-стрит — улице, по своим достоинствам, да и по расстоянию, очень далекой от той, где жил его дядя. Разница была вполне достаточная, чтобы сдержать возрастающее стремление Клайда считать себя как-никак человеком, близким Сэмюэлу Грифитсу. Дома здесь были невзрачные, выкрашенные коричневой, серой или бурой краской, изрядно закопченные и ветхие; деревья стояли обнаженные под зимним ветром и все же, наперекор дыму и пыли, словно обещали совсем скоро новую жизнь — листья и цветы мая. Свернув вместе с миссис Брейли на эту улицу, Клайд увидел унылую, бесцветную толпу: с различных фабрик за рекой возвращались после работы мужчины, девушки и старые девы, похожие на его спутницу. В дверях дома Клайда и миссис Брейли встретила не слишком вежливая женщина в чистом переднике поверх коричневого платья; она провела их на третий этаж, в довольно просторную и прилично обставленную комнату, и назначила за нее четыре доллара без стола и семь с половиной со столом; миссис Брейли сказала, что он не найдет ничего лучшего за эту цену, и Клайд решил согласиться. Здесь он и остался, поблагодарив миссис Брейли, и вскоре уже сидел за обеденным столом в обществе нескольких служащих с товарных складов и фабрик — людей вроде тех, с которыми он вначале имел дело на Полина-стрит в Чикаго, прежде чем попал в лучшую обстановку «Юнион клуба». После обеда он пошел пройтись по главным улицам Ликурга; тут во множестве бродили неопределенного вида рабочие; судя по тому, как выглядели эти улицы днем, он никак не ожидал, что вечером их заполняет такого рода толпа. Здесь были девушки и юноши, мужчины и женщины различных национальностей и типов: американцы, поляки, венгры, французы, англичане; и в большинстве, если не во всех, чувствовалось что-то общее, — они были невежественные, грубые, неотесанные, им недоставало вкуса, живости или уверенности в себе; все это свидетельствовало об их принадлежности к тому низшему миру, с которым сегодня столкнулся Клайд. Однако на некоторых других улицах и в магазинах поближе к Уикиги-авеню он встретил девушек и молодых людей иного типа, нарядных и оживленных. Несомненно, это были конторские служащие предприятий, расположенных на том берегу. Клайд бродил по городу с восьми до десяти часов; в десять, точно по уговору, толпа стала редеть и самые людные улицы вдруг совсем опустели. На каждом шагу он сравнивал все, что видел здесь, с Чикаго и с Канзас-Сити. (Что сказал бы Ретерер, если б увидел его теперь, и особняк его дяди, и фабрику!) И, может быть, потому, что Ликург был так мал, он понравился Клайду: понравились и отель «Ликург», нарядный, сияющий огнями, очевидно, центр жизни местного общества, и здание почты, и церковь, украшенная шпилем, и старое кладбище, бок о бок с выставкой автомобилей; и тут же за углом новый кинематограф. И флиртующая молодежь на улицах. И над всем, как смутное предчувствие, юношеский пыл и надежды… Юношеский пыл и надежды — основа всякой созидательной деятельности во всем мире. Наконец он возвратился в комнату на Торп-стрит, окончательно уверенный, что город нравится ему и он рад здесь остаться. Как красива Уикиги-авеню! Какая огромная фабрика у дяди! Сколько хорошеньких, бойких девушек на улицах! А в это время Гилберт Грифитс (отец его находился по делам в Нью-Йорке, о чем Гилберт не потрудился сообщить Клайду) решил рассказать матери и сестрам, что он видел Клайда и что это если не скучнейшая, то уж, конечно, и не самая интересная личность на свете. В тот день, когда приехал Клайд, Гилберт вернулся домой в половине шестого и, встретившись с Майрой, произнес небрежно: — Ну, наш чикагский родственник сегодня объявился. — Вот как? — сказала Майра. — Какой же он? Так как, по словам отца, Клайд был воспитан и неглуп, она заинтересовалась им; впрочем, зная Ликург, условия работы и жизненные возможности рабочих на таких предприятиях, как фабрика ее отца, она недоумевала, почему Клайд сюда приехал. — Не вижу в нем ничего особенного, — ответил Гилберт. — Довольно развит и недурен собой, но сам признает, что у него нет никакой подготовки для работы на большом предприятии. Ничем не отличается от любого парнишки, который служит в гостинице. По-моему, он считает, что главное в жизни — это одежда. На нем был светло-коричневый костюм, коричневый галстук и шляпа под цвет, и коричневые башмаки. Галстук слишком яркий, и рубашка в ярко-розовую полоску — такие носили года четыре назад. И притом костюм плохого покроя. Я не хочу теперь ничего говорить, раз он уже здесь, к тому же неизвестно, удержится ли он. Но если удержится и если он собирается изображать здесь нашего близкого родственника, так ему придется сбавить тон, или я посоветую папаше сказать ему пару слов. А вообще, я думаю, из него может получиться толк в качестве начальника цеха… пожалуй, попозже можно будет даже торгового агента из него сделать. И все-таки не понимаю, чего ради он сюда приехал. Наверно, папаша не растолковал ему, как мало здесь шансов выдвинуться. Для этого надо быть настоящим чародеем по меньшей мере. Гилберт стоял спиной к большому камину. — Да, но ты слышал, что мама говорила на днях про его отца? Как видно, ему всегда очень не везло. Наверно, папа решил все равно помочь этому Клайду, пригодится он на фабрике или нет. Папа считает, что наш дед был несправедлив к отцу Клайда, — так мне мама сказала. Майра замолчала, а Гилберт, который тоже слышал от матери такой намек, предпочел не придавать ему значения. — Ну, меня это мало трогает. Если отец захочет оставить этого молодца на фабрике, не глядя, годится он на что-нибудь или нет, — его дело. Но ведь он сам всегда говорит, что в каждом цехе нужны только умелые люди и что мертвый груз надо выкидывать за борт. Позже, увидевшись с матерью и Беллой, Гилберт и им в таком же духе преподнес новость о приезде Клайда и свои соображения на этот счет. Миссис Грифитс вздохнула: в таком городке, как Ликург, при таком положении в обществе, какое занимает семья Грифитс, всякий, кто состоит с ними в родстве и носит их имя, должен быть крайне осмотрительным и иметь соответствующие манеры, склонности и взгляды. Пожалуй, муж поступил не совсем благоразумно, выписав сюда молодого человека, который никак не отвечает этим требованиям. Но Белла, выслушав такую характеристику Клайда, не поверила брату. Она не знала Клайда, зато знала Гилберта, и ей было известно, что он очень легко может найти в человеке всевозможные недостатки, которых у того никогда и не было. И, выслушав за обедом еще какие-то его замечания по адресу Клайда, она сказала: — Ну, знаешь, если папа захочет, так он все равно оставит его на фабрике или еще как-нибудь его устроит… От этих слов Гилберта передернуло, как от пощечины; он очень ревниво оберегал свой авторитет на отцовской фабрике, всячески старался укрепить и расширить его, и младшая сестра хорошо это знала. А Клайд, явившись на следующее утро на фабрику, заметил, что его имя и внешность — его сходство с Гилбертом Грифитсом — были своеобразным преимуществом, которое он еще не мог по-настоящему оценить. Когда он подошел к фабрике, сторож у входа N1 посмотрел на него в изумлении. — Вы, верно, мистер Клайд Грифитс? — спросил он. — Вы будете работать у мистера Кемерера? Так, так, знаю. Вон тот человек выдаст вам табель. — И он указал на грузного угрюмого старика, которого, как позже узнал Клайд, звали «старик Джефф». Он стоял у контрольных часов в глубине того же помещения, выдавал табели и после отметки получал их обратно между семью тридцатью и семью сорока. Когда Клайд подошел к нему со словами: — Меня зовут Клайд Грифитс, я буду работать внизу, у мистера Кемерера, — старик удивился, потом сказал: — Да, конечно, слушаю, сэр. Значит, вы и есть мистер Грифитс. Мистер Кемерер вчера говорил мне про вас. Ваш номер будет семьдесят первый. Я даю вам старый номер мистера Дювени. А когда Клайд спустился по лестнице, ведущей в декатировочный цех, старый табельщик повернулся к сторожу, который тем временем подошел поближе, и воскликнул: — Ну до чего же этот малый похож на мистера Гилберта! Вылитый портрет! Он что же, брат или родственник? — Ничего не знаю, — ответил сторож. — Никогда его раньше не видел. А только он наверняка им родня, сразу видно. Я сперва подумал, что это мистер Гилберт. Я уж собирался снять фуражку, да разглядел, что это не он. Войдя в декатировочную, Клайд увидел Кемерера, такого же почтительного и уклончивого, как и накануне, потому что Кемерер, так же как и Уигэм, все еще не мог определить настоящее положение Клайда на фабрике. Правда, как Кемерер знал от Уигэма, Гилберт ни словом не дал понять, что Клайда нужно поставить в какие-то особые, более легкие или более тяжелые условия. Напротив, мистер Гилберт сказал: «Он должен работать так же, как все служащие. Никаких исключений». И, однако, знакомя Клайда с Уигэмом, он сказал также: «Это мой двоюродный брат, он хочет изучить наше дело», — и это, наверно, означает, что Клайд не останется здесь надолго, а будет переходить из одного цеха в другой, пока не изучит всего производства. Поэтому, когда Клайд ушел, Уигэм шепнул Кемереру и нескольким другим служащим, что хозяин, видно, покровительствует Клайду, — и соответственно они решили держать ухо востро, пока не выяснится, каково же его положение на фабрике. А Клайд, заметив их почтительность, воспрянул духом и невольно подумал, что, как бы там ни относился к нему двоюродный брат Гилберт, это хороший знак и, пожалуй, предвещает какие-нибудь милости со стороны дяди. И потому, когда Кемерер стал объяснять, что работа у него будет не слишком тяжелая и ему не придется пока работать чересчур много, Клайд выслушал его с несколько снисходительным видом. А Кемерер поэтому стал еще почтительнее. — Теперь повесьте шляпу и пальто вот сюда, в один из шкафчиков, — продолжал он мягко и даже подобострастно. — Потом возьмите вон там тележку, поднимитесь в первый этаж и привезите несколько штук ткани. Вам покажут, где их взять. Для Клайда наступили интересные, но нелегкие дни. По временам непривычная рабочая среда и его собственное положение здесь вызывали в нем растерянность и тревогу. Людей, окружавших его на фабрике, он вряд ли когда-нибудь выбрал бы себе в товарищи. Все они по своему развитию были значительно ниже мальчиков-рассыльных, возчиков или клерков; он видел, что они неповоротливы, грубы и неотесаны. Одевались они как рабочие самого низшего разряда, — так обычно одеваются люди, для которых собственная внешность — последнее дело: все их мысли были о работе и тяжелых материальных условиях жизни. Кроме того, не зная, кто такой Клайд и ка-к может отразиться его появление здесь на их собственном положении, рабочие относились к нему недоверчиво и подозрительно. Правда, недели через две, когда стало известно, что Клайд — племянник председателя правления и двоюродный брат секретаря и, значит, вряд ли останется надолго на низших ролях, рабочие стали относиться к нему лучше; но теперь они смотрели на него снизу вверх и стали подозрительными и завистливыми на другой лад. В конце концов, Клайд не был и не мог в этих условиях быть для них своим. Пусть он улыбается, пусть он вполне вежлив, а все-таки он всегда будет связан с теми, кто стоит выше их, — по крайней мере, так они думали. Он был в их глазах частью высшего класса — класса богатых, а каждый бедняк знает, что это значит. Бедняки должны держаться друг Друга. А Клайд, съедая в одиночестве свой завтрак, удивлялся, как эти люди могут интересоваться тем, что ему кажется таким скучным: приходящей к ним в подвал тканью, какими-нибудь мелкими недостатками в ее весе или качестве, тем, что последние двадцать штук не так сильно сели, как предыдущие шестнадцать… или тем, что «Компания Крэнстон» в этом месяце сократила число рабочих, а «Компания Энтони» объявила, что суббота будет считаться неполным рабочим днем только после первого июня, а не с середины мая, как в прошлом году. Все они, казалось, были поглощены своей работой, скучными, будничными мелочами. И все чаще Клайд мысленно возвращался к прошлым, более счастливым временам. Порою ему хотелось снова оказаться в Чикаго или в Канзас-Сити. Он вспоминал Ретерера и его сестру Луизу, Хегленда, Хигби, Эдди Дойла, мистера Скуайрса, Гортензию — всю свою молодую, беззаботную компанию, и думал: что с ними сталось? Где теперь Гортензия? Все-таки она в конце концов получила тот меховой жакет, — наверно, от продавца сигар, и уехала с ним… а еще уверяла Клайда в своих чувствах, маленькая каналья! И вытянула у него все деньги! При одной только мысли о ней и о том, чем бы она стала для него, если бы все сложилось по-другому, Клайду подчас становилось не по себе. С кем она теперь любезничает? Как устроилась, уехав из Канзас-Сити? И что сказала бы она, если бы увидела его здесь и узнала о его высоких связях? Это заставило бы ее призадуматься! Его теперешняя должность не очень бы ей понравилась, это ясно. Но все-таки она стала бы больше уважать его, если б увидела его дядю и двоюродного брата, и эту фабрику, и их большой особняк. Тогда б она опять стала мила с ним, — это на нее похоже. Ну, если только они еще когда-нибудь встретятся, он ей покажет! Уж конечно, он тогда сумеет натянуть ей нос.Глава 26
Меблированные комнаты миссис Каппи оказались не особенно приятным местом для Клайда. Это был самый обыкновенный дешевый пансион; тут обычно селились благонамеренные дельцы и служащие, которые считали, что их работа, их заработок и религиозные воззрения средних слоев местного общества — это и есть необходимая основа порядка и благополучия в мире. В общем это был очень скучный дом, о веселье, о развлечениях здесь нечего было и думать. И все-таки жизнь здесь оказалась для Клайда не совсем лишенной интереса благодаря Уолтеру Дилларду, легкомысленному юнцу, недавно приехавшему из Фонды. Этот Диллард был ровесник Клайда и такой же честолюбец, но он не обладал тактом Клайда и уменьем разбираться в людях и в жизни; он служил у «Старка и К°», в магазине мужского платья. Диллард был очень бойкий и алчный, довольно смазливый, с очень светлыми волосами и жидкими светлыми усиками; у него были вкрадчивые манеры и повадки провинциального сердцееда. У Дилларда никогда не было никаких средств, и он никогда не занимал сколько-нибудь значительного положения в обществе, — его отец когда-то имел галантерейную лавку в маленьком городишке и давно разорился, — но в силу каких-то атавистических побуждений он страстно жаждал выдвинуться. До сих пор Диллард ничего не достиг и потому с особым интересом относился к тем, кому это удалось; эти чувства были в нем даже сильнее, чем в Клайде. На него произвела огромное впечатление деятельность видных семейств Ликурга и роскошь, в которой жили все эти Николсоны, Старки, Гарриэты, Грифитсы, Финчли и прочие. Узнав через несколько дней после приезда Клайда, что он хоть и косвенно, а все же связан с этим миром, Диллард всполошился. Как! Грифитс, племянник богача Сэмюэла Грифитса, — здесь, в пансионе? Рядом с ним за одним столом? И Уолтер тотчас решил поскорее завязать знакомство с этим приезжим. Вот удача стучится в его двери, открывая ему доступ в одну из лучших семей Ликурга! К тому же Клайд молод, красив и, вероятно, честолюбив, как и он сам, — подходящая компания, когда хочешь весело проводить время. Диллард просто не верил своему счастью и сразу же стал ухаживать за Клайдом. Прежде всего он предложил Клайду пройтись. Тут недалеко, около реки, превосходный кинематограф — просто шикарный. Не хочет ли Клайд пойти туда? Хорошо одетый, щеголеватый Диллард был совсем не похож ни на скучных чересчур практически мыслящих людей, работающих на фабрике, ни на остальных обитателей пансиона и потому понравился Клайду. Но тут же Клайд подумал о своих важных родственниках. Здесь, в Ликурге, он должен следить за каждым своим шагом. Кто знает, может быть, это большая ошибка — так легко и свободно завязывать новые знакомства? Грифитсы, как и весь тот круг, к которому они принадлежат, должно быть, держатся особняком от простых смертных: он догадывался об этом по поведению всех, с кем ему приходилось сталкиваться. Следуя скорее инстинкту, нежели рассудку, Клайд тоже не сближался с окружающими и смотрел на всех свысока, и за это все вокруг, начиная с того же Дилларда, на котором он упражнялся в этом тоне превосходства, казалось, только больше уважали его. Уступая горячим просьбам и даже своего рода мольбам Дилларда, Клайд все же пошел с ним, но держался очень осторожно. А Диллард сразу же счел сдержанные и надменные манеры Клайда признаком «класса» и «связей». Подумать только, что он встретился с таким человеком в этих мрачных, унылых меблированных комнатах! И как раз после его приезда, в самом начале его карьеры! И Диллард вел себя с Клайдом как истый льстец, хотя занимал лучшее положение, чем Клайд, и зарабатывал больше: двадцать два доллара в неделю. — Вы, вероятно, будете проводить большую часть времени со своими родственниками и друзьями? — сказал, между прочим, Диллард во время их первой совместной прогулки. Он старался вытянуть из Клайда побольше сведений о нем, но тот отмалчивался, тогда как Диллард успел уже ввернуть в разговор кое-какие изрядно приукрашенные подробности собственной биографии. У его отца теперь галантерейный магазин. Сам он приехал сюда, чтобы изучить нововведения в этом деле. Его дядя служит здесь у «Старка и К°». У него уже есть в Ликурге приятные знакомые, — правда пока еще немного: ведь он сам здесь недавно — всего четыре месяца. Но родственники Клайда! — Скажите, ваш дядя, наверно, стоит больше миллиона? Говорят, что да. Эти дома на Уикиги-авеню — лакомый кусочек! Шикарнее не найти ни в Олбани, ни в Утике, ни даже в Рочестере. Так вы родной племянник Сэмюэла Грифитса? Да что вы! Это здесь много значит. Хотел бы я иметь такие связи! Будьте уверены, я бы их использовал. Он с восхищенной улыбкой посмотрел на Клайда, и тот еще яснее почувствовал, как в самом деле важны его родственные связи. Подумать только, какое значение придает им этот странный молодой человек. — Ну, не знаю, — уклончиво ответил Клайд; все же он был очень польщен предположениями о такой его близости со здешними Грифитсами. — Я приехал сюда, чтобы изучить производство воротничков. Я не собираюсь развлекаться. Дядя хочет, чтобы я всерьез занялся этим делом. — Ну, конечно, конечно. Это мне знакомо, — ответил Диллард. — Мой дядюшка тоже так настроен. Он хочет запрячь меня в работу и требует, чтобы я не тратил времени зря. Он, знаете ли, служит у Старка закупщиком. Но нельзя же работать без передышки. Надо и развлечься когда-нибудь. — Да, вы правы, — сказал Клайд впервые в своей жизни несколько снисходительным тоном. Некоторое время они шли молча; потом Уолтер спросил: — Вы танцуете? — Да, — ответил Клайд. — Я тоже. Здесь сколько угодно дешевых дансингов, но я туда не хожу. Нельзя бывать в таких местах, если хочешь поддерживать знакомство с порядочными людьми. Говорят, в этом городе хорошее общество держится ужасно замкнуто. Если не принадлежишь к их кругу, с тобой просто не желают иметь дела. И в Фонде то же самое. Вы должны «принадлежать к свету», а иначе вам некуда деваться. Да, пожалуй, это и правильно. Но тут все-таки найдутся девушки, с которыми можно и повеселиться и потанцевать, — очень милые девушки и из хороших семей, — конечно, не из высшего общества, но все же о них ничего дурного не говорят. И они не такие уж тихони. Иногда даже совсем наоборот. И вы не обязаны вступать в законный брак. Клайд подумал, что, пожалуй, это слишком легкомысленное знакомство для его новой жизни в Ликурге. В то же время Диллард ему нравился. — Кстати, — продолжал Диллард, — что вы делаете в это воскресенье, после обеда? — Ничего особенного как будто, — ответил Клайд, чувствуя, что перед ним возникает новая задача. — Просто я пока еще не знаю, как у меня все сложится. — Ну, а если вы будете свободны? Может, проведем вечер вместе? Я здесь познакомился с несколькими девушками. Очень милые! Сначала, если хотите, мы зайдем к моему дяде. У него семья, все очень милые люди. А потом я тут знаю двух девушек… прелесть! Одна работала в магазине, но теперь ушла оттуда и нигде не служит. А другая — ее подруга. У них дома есть граммофон, и обе танцуют. Правда, здесь не полагается танцевать по воскресеньям, но об этом никто не узнает. Девушкам родители позволяют. А после мы можем пойти с ними куда-нибудь в кино, если вы захотите. Не в какую-нибудь киношку на окраине, а где получше. Согласны? И перед Клайдом встал вопрос, как поступить, как ответить на такое предложение. В Чикаго, после того, что случилось в Канзас-Сити, он старался вести себя очень скромно и осторожно. Попав на службу в «Юнион клуб», он решил, что будет строить свою жизнь в соответствии с идеалами, какие внушало ему это, по всей видимости, столь строгое учреждение: держаться солидно, усердно работать, копить деньги, одеваться элегантно, но без франтовства, по-джентльменски. Это был этакий рай без Евы. Но, как ни скромно было теперь его непосредственное окружение, казалось, самый воздух этого города будил в нем жажду удовольствий, о которых говорил сейчас его спутник: хотелось повеселиться немного, пожалуй, даже самым невинным образом, но все-таки в женском обществе. Улицы по вечерам так оживлены, полны хорошеньких девушек и молодых людей… Но что подумают его вновь обретенные родственники, если он позволит себе развлекаться в таком духе, как намекает Диллард? И ведь он сам говорит, что в Ликурге нравы строгие и всем все известно друг о друге. Клайд молчал, обуреваемый сомнениями. Надо было решать. Но он слишком стосковался в одиночестве и потому, наконец, ответил: — Ну, хорошо, я, пожалуй, согласен. — Потом прибавил немного неуверенно: — Знаете, мои здешние родственники… — Конечно, я понимаю, — быстро ответил Диллард. — Вам надо быть поосторожнее. Да и мне тоже. Только бы ему появиться где-нибудь с одним из Грифитсов, даже с этим приезжим, который здесь еще почти ни с кем не знаком. Это наверняка подымет и его самого во мнении окружающих. И Диллард предложил купить Клайду папирос и спросил, не хочет ли он выпить содовой воды. Но Клайд все-таки чувствовал себя неловко и неуверенно; извинившись, он вскоре простился: ему наскучило самодовольство Дилларда и это преклонение перед «высшим обществом». Клайд вернулся домой. Он давно обещал написать матери и теперь решил исполнить обещание, а заодно подумать, стоит ли поддерживать новое знакомство.Глава 27
Назавтра была суббота, работа закончилась рано (на фабрике Грифитсов суббота круглый год была коротким рабочим днем), и Уигэм явился с платежными конвертами. — Вот, пожалуйста, мистер Грифитс, — сказал он таким тоном, будто Клайд был на фабрике важной особой. С удовольствием выслушав это «мистер», Клайд взял конверт и, подойдя к своему шкафчику, разорвал бумагу и переложил деньги в карман. Потом оделся и отправился домой завтракать. Но, оказавшись в своей комнате, он почувствовал себя очень одиноко; Дилларда не было, он еще работал, и Клайд решил проехаться на трамвае в Гловерсвил — соседний городок тысяч на двадцать жителей, по слухам, очень оживленный, хотя и не такой красивый, как Ликург. Эта поездка очень развлекла Клайда: он увидел действительно интересный город, совсем непохожий на Ликург по своей социальной структуре. Но следующий день — воскресенье — Клайд скучал, в одиночестве бродя по Ликургу. Дилларду пришлось уехать по каким-то делам в Фонду, и он не мог выполнить свое обещание. Зато, встретясь с Клайдом в понедельник вечером, он объявил, что в ближайшую среду на Дигби-авеню состоится собрание прихожан конгрегационалистской церкви; туда стоит пойти, так как будет угощение. — Мы забежим туда на минутку, — объяснял Диллард. — Поболтаем с девушками. Я познакомлю вас с дядей и теткой, — очень славные люди. И девушки милые, не недотроги. Мы можем удрать оттуда часов в десять и пойти к Зелле или к Рите. У Риты много хороших граммофонных пластинок, зато у Зеллы просторнее, удобней танцевать. Кстати, вы не захватили из Чикаго свой фрак? Дело в том, что Диллард в отсутствие Клайда уже обследовал его комнату (Клайд жил как раз над ним, на третьем этаже) и нашел там один только чемодан; не видно было ни сундука, ни фрака. Поэтому Диллард решил, что, хотя отец Клайда и содержит отель, а сам Клайд работал в Чикаго в «Юнион клубе», он, должно быть, очень равнодушен к одежде и к тому, как принято одеваться в обществе. Или же он хочет жить на собственный счет, не пользуясь чьей-либо помощью, и вырабатывает в себе твердый характер. Все это не особенно нравилось Дилларду. Человек не должен пренебрегать требованиями общества. Однако Клайд был Грифитс, и этого было достаточно, чтобы Диллард на все смотрел сквозь пальцы, — по крайней мере, первое время. — Нет, фрака я не привез, — ответил Клайд, все еще не вполне уверенный, несмотря на свое одиночество, стоит ли ему участвовать в этой авантюре. — Но я достану. Он уже не раз думал, что в Ликурге фрак ему необходим, и хотя за последнее время деньги доставались ему тяжелым трудом и откладывать было нелегко, он решил истратить тридцать пять долларов на покупку вечернего костюма. Диллард болтал о Зелле и Рите; родители Зеллы Шумэн небогаты, но живут в собственном доме, и у нее часто бывают подруги — прелестные девушки. У Риты Дикермен тоже много подруг. У отца Зеллы есть еще маленькая дача на озере Экерт, близ Фонды. Летом — если только Рита понравится Клайду — туда можно будет иной раз съездить во время отпуска или на субботу и воскресенье, так как Рита и Зелла почти неразлучны. И обе хорошенькие. Зелла брюнетка, а Рита светлая, прибавил он с восторгом. Клайд заинтересовался: девушки хорошенькие! И как это на него в его одиночестве свалился, точно с неба, этот Диллард и носится с ним… Но еще вопрос — благоразумно ли сближаться с Диллардом? Ведь, в конце концов, Клайд ничего о нем не знает. Сейчас он видел по манерам и легкомысленной восторженности Дилларда, что тому куда интереснее сами девушки, вольность или даже некоторая распущенность их поведения, а вовсе не то, к какому обществу они принадлежат. А разве не это привело Клайда к катастрофе в Канзас-Сити? Здесь, в Ликурге, отнюдь не следует забывать об этом, если он хочет чего-то добиться в жизни. Тем не менее в среду, в половине девятого, Клайд вышел из дому вместе с Диллардом, преисполненный всяческих ожиданий. В девять часов они были уже на месте, в самой гуще одного из тех отчасти религиозных, отчасти светских, отчасти благотворительных собраний, какие устраиваются формально для того, чтобы собрать некоторые средства для нужд местной церкви, а по существу больше затем, чтобы дать пожилым случай встретиться и посплетничать, а молодежи — покритиковать старших и пофлиртовать под шумок. Тут были киоски, торговавшие чем угодно — от пирожков, печенья и мороженого до кружев, кукол и всевозможных безделушек. Все это было пожертвовано прихожанами и продавалось в пользу церкви. Гостей принимали пастор, преподобный Питер Изрилс, и его жена. В числе гостей были дядя и тетка Дилларда, общительная, но скучная чета, явно не игравшая никакой роли в здешнем обществе. Они были очень добродушны и чересчур — до фамильярности — приветливы, хотя дядя Дилларда, Гровер Уилсон, будучи агентом по закупкам фирмы «Старк и К°», пытался иногда принять серьезный и важный вид. Этот невысокий, коренастый человек, по-видимому, не умел прилично одеваться или не имел для этого средств. В противоположность своему племяннику, одетому почти безукоризненно, он был облачен в плохо сидящий, не совсем чистый и невыутюженный костюм. Галстук был под стать костюму. Держался Уилсон как истый клерк: потирал руки, хмурил брови, почесывал в затылке, точно собираясь сказать нечто весьма важное, требующее от него крайнего умственного напряжения, — и, однако, изрекал лишь одни банальности. Под стать ему была и его толстуха жена; пока супруг старался придать себе важный вид, чтобы казаться достойным своего собеседника, миссис Уилсон стояла рядом, расплываясь в сияющей жирной улыбке. Грузная, с розовыми щеками и уже заметным двойным подбородком, она все улыбалась и улыбалась, потому что вообще была от природы веселой и доброй женщиной, а в частности, и потому, что Клайд был племянником такого человека. Ибо, как понял Клайд, Диллард не терял времени и постарался втолковать своим родственникам, что Клайд — из Грифитсов и что он, Диллард, уже подружился с этим новым Грифитсом и теперь вводит его в местное общество. — Уолтер сказал нам, что вы приехали работать на фабрике вашего дяди. Значит, вы поселились у миссис Каппи? Я не знакома с ней, но слышала, что у нее очень приличный, очень порядочный пансион. Там живет мистер Пароли, — когда-то мы с ним вместе ходили в школу, но теперь я редко его вижу. Вы еще не знакомы с ним? — Нет, не знаком, — ответил Клайд. — А знаете, в прошлое воскресенье мы ждали вас к обеду. Но Уолтеру пришлось съездить домой. Непременно приходите к нам поскорее. В любое время. Я буду вам очень рада. Она улыбнулась, и ее карие глазки весело блеснули. Клайд видел, что благодаря репутации своего дяди он — настоящая находка для этой четы. Но и все остальные — старые и молодые — отнеслись к нему так же: пастор Изрилс и его жена, Майк Бампас — местный торговец типографскими красками и его жена и сын; Максимилиан Пик — торговец сеном, зерном и кормовыми травами оптом и в розницу и его жена; мистер Уитнэс — торговец цветами, мистер Троп — агент по продаже земельных участков. Все много слышали о Сэмюэле Грифитсе и его семье и были крайне заинтересованы и удивлены тем, что среди них оказался племянник такого богача. Им только не нравилось, что Клайд держался очень мягко, нисколько не важничая — не слишком заносчиво и пренебрежительно; в большинстве это были люди того типа, что уважают заносчивость даже если на словах осуждают ее. Особенно заметно это было по поведению молодых девушек. Диллард считал своим долгом каждому сообщить о важных родственных связях Клайда. — Это Клайд Грифитс, племянник Сэмюэла Грифитса, двоюродный брат Гилберта Грифитса. Он приехал в Ликург, чтобы изучить производство воротничков на фабрике своего дяди. И Клайду, знавшему, как далеко это от истины, все-таки было очень приятно видеть, какое впечатление эти слова производили на слушателей. Но какова наглость Дилларда! Найдя в Клайде опору, он осмелел и со всеми разговаривал покровительственным тоном. Он не покидал Клайда ни на минуту и подводил его то к одному, то к другому. Он явно решил показать всем своим знакомым девушкам и молодым людям, кто такой Клайд, и внушить, что именно он, Диллард, вводит его в здешнее общество. Но с теми, кого он не любил, он Клайда не знакомил. «Она не заслуживает внимания, — предостерегал он. — Ее отец всего-навсего содержит маленький гараж. На вашем месте я не стал бы тратить время на такое знакомство». Или: «Он ничего не стоит — просто приказчик из нашего магазина». В то же время, говоря о тех, кто был ему симпатичен, он рассыпался в улыбках и комплиментах или, на худой конец, старался извинить перед Клайдом их недостаточно высокое положение. Наконец Клайд был представлен Зелле Шумэн и Рите Дикермен, которые по каким-то своим соображениям явились с некоторым опозданием. Скорее всего им хотелось показать, что они здесь самые искушенные в светских обычаях и не похожи на других. И в самом деле, как несколько позже убедился Клайд, они выделялись среди остальных девушек, с которыми познакомил его Диллард: были не так скромны и чопорны, менее тверды в правилах религии и морали. Сами себе в этом не признаваясь, они были совсем не прочь доставить себе далеко не благочестивые удовольствия, — но, разумеется, старались при этом не повредить своей репутации. И Клайда уже в первые минуты знакомства поразили манеры и обращение этих девушек, отличавшие их от всех других молодых прихожанок: Зелла и Рита держались не то чтобы распущенно, но гораздо свободнее, не так чопорно и церемонно, как остальные. — А! Так вы — мистер Клайд Грифитс! — сказала Зелла Шумэн. — Как вы похожи на вашего двоюродного брата! Я часто вижу его, когда он проезжает по Сентрал-авеню. Уолтер нам все о вас рассказал. Как вам нравится Ликург? Она произнесла «Уолтер» особым тоном, с какой-то собственнической, интимной ноткой в голосе, и Клайд почувствовал, что они с Диллардом гораздо более близки, чем говорил сам Диллард. Узкая, с маленьким бантом, красная бархатка на шее, маленькие гранатовые серьги в ушах и очень нарядное, плотно облегающее стан черное платье с пышными оборками внизу свидетельствовали, что Зелла не прочь показать свою фигуру и очень ценит ее, и если бы не подчеркнуто холодное выражение лица и сдержанные манеры, все это, несомненно, вызвало бы неодобрение в таком собрании. Рита Дикермен, толстенькая, беленькая, розовощекая девушка, со светло-каштановыми волосами и серо-голубыми глазами, была не так вызывающе бойка, как Зелла Шумэн, но и в ней, как в ее подруге, под внешней сдержанностью чувствовалось что-то очень вольное. В ее обращении было меньше скрытой бравады, но больше податливости, и она, видимо, хотела, чтобы Клайд это понял. Между подругами было решено, что Рита должна его заинтересовать. Рита была очарована Зеллой, рабски во всем ей подражала; подруги были неразлучны. Когда Клайда представили Рите, она улыбнулась ему многообещающей улыбкой, немало его смутившей. Он все время внушал себе, что здесь, в Ликурге он должен очень осторожно сходиться с людьми. Но, на его несчастье, Рита, как в свое время Гортензия Бригс, вызвала у него мысль о близости, хотя бы и мало вероятной и сомнительной, и это его испугало. Надо быть осторожнее! Вот такое свободное поведение, какое, видимо, свойственно Дилларду и этим девушкам, и было причиной его несчастья в Канзас-Сити. — Ну, теперь надо полакомиться мороженым и пирожными, — сказал Диллард, когда новые знакомые обменялись несколькими беглыми фразами. — А потом мы удерем отсюда. Но вам, пожалуй, нужно сперва пройтись по залу и поздороваться с кем полагается, — прибавил он, обращаясь к девушкам. — Встретимся у киоска с мороженым, а потом, если вы согласны, сбежим. Что вы на это скажете? Он посмотрел на Зеллу Шумэн, как бы говоря: «Вы лучше знаете, что нам делать». И она, улыбнувшись ему, ответила: — Правильно, мы не можем сразу уйти. Вон там моя двоюродная сестра Мэри, и мама, и Фред Бракнер. Мы с Ритой сперва походим здесь, а после встретимся с вами, ладно? А Рита Дикермен при этих словах нежно и влюбленно улыбнулась Клайду. Минут двадцать Диллард с Клайдом слонялись по залу; затем Зелла подала Дилларду какой-то знак, и они направились к киоску, где продавали мороженое. Через минуту к ним, как бы случайно, присоединились Зелла и Рита, и все вместе принялись за мороженое и пирожные. А так как официальная часть вечера закончилась и многие уже расходились, Диллард сказал: — Ну, давайте удирать. Можно пойти к вам, Зелла? — Конечно, конечно, — шепнула Зелла, и они направились в гардеробную. Клайд все еще немного сомневался, следует ли ему отправляться с этой компанией, и был молчалив. Он еще не знал, нравится ли ему Рита. Но как только они очутились на улице, вне поля зрения ханжей и сплетников, он оказался рядом с Ритой, а Зелла и Диллард пошли вперед. Клайд счел своим долгом взять ее под руку, но она высвободила руку и мягко и ласково сама взяла его под руку. И тотчас тесно прижалась плечом к его плечу и стала весело болтать о жизни в Ликурге. Что-то ласкающее, мягкое появилось в ее голосе. Клайду это нравилось. В теле Риты была какая-то томность, которая словно электризовала Клайда, притягивала помимо его воли. Ему хотелось погладить ее руку, и он чувствовал, что может это сделать, может даже обнять ее. И все это так скоро! Но ведь он — Грифитс, ликургский Грифитс, сообразил он, вот почему девушки на собрании интересовались им и были так любезны! Он все же тихонько сжал руку Риты, и она не протестовала. Дом семейства Шумэн оказался большим старомодным квадратным зданием с квадратным куполом; он стоял в глубине двора, окруженный деревьями. Компания расположилась вбольшой, красиво обставленной гостиной; Клайд еще никогда не видел в частном доме такой хорошей обстановки. Диллард сейчас же стал разбирать пластинки и быстро свернул два больших ковра, под которыми оказался паркетный пол, — видно было, что все это для него дело привычное. — Дом стоит очень удачно, вокруг деревья, и потом… эти иголки замечательные, они дают совсем тихий звук, — объяснил он Клайду; он все еще считал, что Клайд — человек очень хитрый и следит за каждым его шагом. — Поэтому с улицы не слышно, когда здесь играет граммофон. Правда, Зелла? И во втором этаже тоже ничего не слышно. Мы здесь играли и танцевали несколько раз до трех, до четырех утра, а наверху никто и не знал об этом. Правда, Зелла? — Да, это верно. Надо сказать, папа немножко туговат на ухо. И мама, когда заберется с книжкой в свою комнату, тоже ничего на свете не слышит. Но и вообще отсюда не слышно. — А что, разве тут у вас все так настроены против танцев? — спросил Клайд. — Ну, служащие на фабрике вовсе не против, — сказал Диллард. — Но набожные люди против этого. Вот, например, мои дядя и тетка. Да почти все, кто был сегодня на собрании, кроме Зеллы и Риты. — Он с одобрением поглядел на девушек. — Они не так глупы, чтобы волноваться из-за пустяков. Правда, Зелла? И девушка, не на шутку влюбленная в него, засмеялась и кивнула: — Ну конечно, я не вижу в этом ничего плохого. — И я тоже, — прибавила Рита. — И мои папа и мама. Только они не любят говорить об этом и не хотят, чтобы я уж слишком увлекалась танцами. Диллард поставил пластинку «Карие глаза», и сейчас же Клайд и Рита, Диллард и Зелла начали танцевать, и Клайд почувствовал, что между ним и Ритой возникает какая-то близость, невесть что предвещающая. Рита танцевала с увлечением, с жаром, ее гибкие движения, казалось, выдавали едва сдерживаемую пылкость. Танцуя, она улыбалась мечтательной улыбкой, говорившей о жажде романтических приключений. Она была прелестна. «Очаровательная девушка, — думал Клайд, — хотя и слишком податливая. В конце концов я танцую вовсе не лучше других, но, как видно, я ей нравлюсь, потому что она воображает, будто я важная персона». И, точно отвечая на его мысли, Рита сказала: — Ужасно приятно танцевать, правда? И вы очень хорошо танцуете, мистер Грифитс. — Ну нет, — возразил он, улыбаясь и глядя ей в глаза. — Это вы великолепно танцуете. Я хорошо танцую потому, что танцую с вами. Он почувствовал, что у нее полные, мягкие руки, а грудь очень пышна для такой молодой девушки. Опьяненная танцем, Рита одурманивала его, движения ее стали почти вызывающими. — Теперь поставим «Ладью любви», — объявил Диллард. — Вы потанцуйте с Зеллой, а я поверчусь немного с Ритой. Ладно, Рита? Он был так восхищен своим искусством танцора, испытывал от этого такое живейшее удовольствие, что даже не мог дождаться новой пластинки: нетерпеливо схватив Риту за руки, он начал выделывать замысловатые фигуры, которые были не под силу Клайду, и все признали Дилларда самым ловким танцором. Наконец он крикнул Клайду, чтобы тот поставил «Ладью любви». Однако, потанцевав раз с Зеллой, Клайд понял, что этот вечер был задуман для удовольствия двух пар, и они не должны мешать друг другу. Зелла танцевала хорошо, оживленно болтала, но Клайд все время чувствовал, что она занята одним только Диллардом и предпочитает быть с ним. После нескольких танцев Клайд и Рита уселись на диван поболтать и отдохнуть немного, а Диллард и Зелла ушли в кухню напиться. Однако Клайд заметил, что оставались они там гораздо дольше, чем нужно для того, чтобы выпить воды. А тем временем Рита, оставшись с Клайдом вдвоем, так и прильнула к нему. Выбрав минуту, когда разговор оборвался, она поднялась и потянула его за руку: ни с того ни с сего, даже без музыки, ей захотелось еще потанцевать с ним. Она будто бы хотела показать ему несколько па, которые перед тем выделывали они с Диллардом и которых Клайд не знал. Она стала рядом с Клайдом и тесно прижалась к нему, показывая эти па, которые требовали особенной близости; лицо Риты почти касалось его лица, и это было слишком для самообладания Клайда: он не выдержал и прижался щекою к ее щеке. Она в ответ улыбнулась и ободряюще посмотрела на него. Мгновенно вся его выдержка исчезла, и он поцеловал ее в губы, потом еще и еще. И вместо того, чтобы вырваться от него, как он ожидал, она преспокойно позволяла себя целовать. Чувствуя, как ее горячее тело прижимается к нему и губы отвечают на его поцелуй, Клайд вдруг понял, что позволил вовлечь себя в такие отношения, которые не очень-то легко будет изменить или порвать. И устоять будет трудно, раз Рита ему нравится, а он, очевидно, нравится ей.Глава 28
Эта волнующая и сладостная минута заставила Клайда вновь задуматься над тем, как ему следует держаться. Девушка так откровенно ведет себя с ним и, очевидно, готова на еще большую близость. И все это так быстро, а ведь совсем недавно он пообещал и сам себе, и своей матери, что здесь все будет иначе… Никаких связей и отношений вроде тех, что довели его до беды в Канзас-Сити. А все-таки… все-таки… Его одолевало искушение: он чувствовал, что Рита ждет от него дальнейших шагов… и скоро. Но как и где? Не в этом же большом, незнакомом доме. Здесь есть и еще комнаты, кроме кухни, куда будто бы ушли Диллард и Зелла. Да, но даже если у них установятся такие отношения… Что потом? Придется поддерживать эту связь — или столкнуться со всякими осложнениями, если он ее оборвет. Он танцевал с Ритой и дерзко ласкал ее, а в то же время думал: «Не надо бы этого делать. Это ведь Ликург. Я здесь один из Грифитсов. Ясно, чего хотят от меня эти девушки… и даже их родители. Так ли уж я влюблен в эту Риту? Пожалуй, она слишком быстро и легко поддается. Может, это и не опасно для моего будущего, а все-таки неприятно… Уж очень быстро все получается». И он почувствовал нечто похожее на то, что пережил в Канзас-Сити в публичном доме: Рита и влекла его, и вместе с тем отталкивала. Теперь он уже довольно сдержанно целовал и ласкал ее; наконец явились Диллард и Зелла, и вся эта интимность стала невозможной. Где-то часы пробили два, и Рита забеспокоилась: ей нужно идти, дома будут недовольны, что она возвращается так поздно. Диллард не проявлял ни малейшего желания расставаться с Зеллой, и Клайду, естественно, пришлось провожать Риту домой. Это не доставило большого удовольствия ни ей, ни ему: оба испытывали смутное разочарование. Он не оправдал ее ожиданий, думал Клайд. У него явно не хватает смелости воспользоваться ее уступчивостью, — так объясняла себе его поведение Рита. Разговор по дороге был пересыпан намеками на то, что они могут встретиться опять, более удачно и даже когда они прощались у дверей Риты, жившей неподалеку, она держалась многообещающе. Но когда они расстались, Клайд продолжал твердить себе, что их отношения развиваются слишком уж быстро. Вряд ли следует поддерживать такое знакомство. Где же его благие решения, принятые перед приездом сюда? Как теперь поступить? И в то же время чувственное обаяние Риты заставляло его злиться На свою сдержанность и свои опасения. Но тут произошло событие, которое заставило Клайда решиться. Оно было связано с Грифитсами. Все они, за исключением Гилберта, не были ни враждебны, ни вполне равнодушны к Клайду; но при этом ни Сэмюэл Грифитс, ни остальные члены семейства не подумали, что им следует проявить хоть немного внимания к нему, помочь ему время от времени добрым советом, иначе он окажется в ненормальном положении, едва ли не в полном одиночестве. Сэмюэл Грифитс, который всегда был очень занят, весь первый месяц почти не вспоминал о Клайде. Он слышал, что Клайд устроен в приличном пансионе, в дальнейшем о нем позаботятся, а пока чего же еще надо? Таким образом, прошел месяц, и, к удовольствию Гилберта Грифитса, для Клайда ничего не было сделано; ему предоставляли пребывать в обществе своих товарищей по подвалу и размышлять о том, что с ним будет дальше. Отношение к нему окружающих, в том числе Дилларда и девушек, делало его положение совсем странным. Однако через месяц после приезда Клайда (и главным образом потому, что Гилберт, казалось, не желал о нем говорить) Грифитс-старший спросил однажды: — Ну, как там твой двоюродный брат? Что он поделывает? И Гилберт, несколько встревоженный тем, что может предвещать этот вопрос, ответил: — С ним все в порядке: я устроил его в декатировочную. Ведь это правильно? — Да, начать он мог и с декатировочной, это ничем не хуже любого другого места. А теперь какого ты о нем мнения? — Не очень высокого, — ответил Гилберт с тем уверенным и независимым видом, который всегда восхищал его отца. — Он может работать. Но, я полагаю, он не из тех, кто способен выдвинуться. У него нет никакого образования, ты же знаешь, и это сразу видно. Кроме того, похоже, что он не особенно настойчив и энергичен. Слишком мягок, по-моему. Я не говорю, что он никуда не годится, — может быть, он и не так уж плох. Тебе он нравится, а я могу ошибаться. А все-таки, мне кажется, когда он ехал сюда, он рассчитывал главным образом на то, что ты ему поможешь просто как родственнику. — Ты думаешь? Ну, если он рассчитывал на это, так он ошибся! — сказал Грифитс-отец и тут же прибавил с добродушной улыбкой: — А может быть, он не так непрактичен, как тебе кажется? И вообще он еще слишком недавно здесь, чтобы мы могли что-нибудь сказать. В Чикаго он произвел на меня другое впечатление. Кроме того, у нас ведь найдется не одно местечко, куда его можно посадить без особого риска, и он справится, даже если он не самый талантливый парень на свете. А если он хочет довольствоваться в жизни скромным местом, так это его дело. Я тут ни при чем. Во всяком случае, я пока не собираюсь отсылать его и не хочу ставить на сдельную работу. Это не годится. В конце концов ведь он наш родственник. Пусть еще поработает немного в декатировочной, а ты посмотри, на что он способен. — Слушаю, — ответил сын в надежде, что отец по рассеянности оставит Клайда там, где он был сейчас, — на самой низкой должности, какая только существовала на фабрике. Но Сэмюэл Грифитс, к большому разочарованию сына, прибавил: — Надо как-нибудь на днях пригласить его к обеду. Я уже думал об этом, но мне все некогда поговорить с мамой. Он ведь еще не был у нас? — Нет, сэр, насколько мне известно, — ответил Гилберт угрюмо. Ему это вовсе не нравилось, но он был слишком тактичен, чтобы сразу же запротестовать. — Мы ждали, пока ты сам об этом заговоришь. — Ну, и прекрасно, — продолжал Сэмюэл. — Узнай, где он живет, и пригласи его. Можно в будущее воскресенье, если мы свободны. И, заметив тень сомнения и недовольства в глазах сына, прибавил: — Послушай, Гил, ведь он все же мой племянник и твой двоюродный брат, и мы не можем совсем от него отмахнуться. Так не годится, ты сам понимаешь. Поговори сегодня же вечером с мамой, или я поговорю, и устроим это. Он закрыл ящик стола, в котором искал какие-то бумаги, встал, взял пальто и шляпу и вышел из конторы. В результате этой беседы Клайду было послано приглашение на следующее воскресенье к семейному ужину, в половине седьмого. Обыкновенно по воскресеньям в половине второго у Грифитсов бывал торжественный обед, на который приглашались местные или приезжие друзья и знакомые; в половине седьмого почти все гости уже разъезжались, обычно уезжали куда-нибудь и Белла и Гилберт, а для мистера и миссис Грифитс и для Майры подавался холодный ужин. Но на этот раз миссис Грифитс, Майра и Белла порешили, что все они будут дома; только Гилберт, вообще недовольный этой затеей, заявил, что он приглашен в другое место и может в этот час заехать домой всего на несколько минут. Таким образом, к большому удовольствию Гилберта, Клайд будет принят в тесном семейном кругу и не встретится ни с кем из обычных посетителей дома Грифитсов, которые могут заехать днем, — не придется представлять его знакомым, как-то объяснять его присутствие… К тому же это удобный случай присмотреться к Клайду и составить себе представление о нем, не беря при этом на себя никаких обязательств. А к этому времени отношения с Диллардом, Ритой и Зеллой превратились для Клайда в трудную задачу, и тут-то на него серьезно повлияло решение Грифитсов. После вечера у Зеллы Шумэн, несмотря на уклончивость Клайда, Диллард, Зелла и Рита решили, что он должен быть и будет покорен чарами Риты. Клайду не раз намекали, что им следует снова встретиться, и наконец Диллард прямо предложил ему тесной компанией (они с Клайдом и обе девушки) съездить куда-нибудь на субботу и на воскресенье — лучше всего в Утику или Олбани. Девушки, конечно, согласятся. Если у Клайда есть какие-либо сомнения или опасения, Диллард сам через Зеллу сговорится с Ритой. — Вы же сами знаете, что вы ей понравились, — прибавил Диллард. — Она считает, что вы просто прелесть, мне Зелла говорила. Дамский угодник, а? И Диллард весело и развязно подтолкнул Клайда локтем. Прежде Клайда не покоробила бы эта фамильярность, но теперь она ему не понравилась: он уже считал себя причастным к новому, более высокому кругу и помнил, кем его считают в Ликурге. Да, можно сказать, усердствуют люди, когда им кажется, что ты стоишь немного выше их! Предложение Дилларда, конечно, очень заманчиво, но, с другой стороны, не грозит ли оно ему бесконечными неприятностями? Прежде всего у него нет денег. Он все еще получает пятнадцать долларов в неделю, и дорогие поездки ему не по карману. Железнодорожные билеты, еда, счет в гостинице, может быть, поездка вдвоем на автомобиле… И, кроме того, обязательная близость с Ритой, которую он едва знает. Пожалуй, Рита захочет, чтобы эта интимность продолжалась потом и здесь, в Ликурге… чтобы он приходил к ней домой… бывал с ней всюду… ну и ну! А если Грифитсы узнают, — если, скажем, его двоюродный брат Гилберт услышит об этом… или увидит их! Ведь вот Зелла говорила, что часто встречает Гилберта на улице; легко может случиться, что они как-нибудь всей компанией натолкнутся на Гилберта, и он решит, что Клайд дружит с этим ничтожеством Диллардом, с этим приказчиком! Как бы из-за этого не оборвалась его карьера в Ликурге! Кто знает, к чему это приведет… И Клайд закашлялся и стал извиняться. Сейчас он очень занят. И вообще надо подумать… Родственники, знаете ли… Кроме того, и в ближайшее и в следующее воскресенье у него на фабрике много срочной работы; он должен быть в городе. А дальше видно будет. Но минутами вспоминалась ему очаровательная Рита, и тогда, с обычной своей непоследовательностью, он обдумывал план, прямо противоречащий его прежнему решению: может быть, в ближайшие две-три недели как-нибудь сократить свои расходы и все-таки поехать? Он уже кое-что отложил на покупку фрака и складного цилиндра. Может быть, израсходовать часть денег… хотя он и понимал, что весь этот план никуда не годится. Ах, эта белокурая, пухленькая, пылкая Рита! И вот в эту пору пришло приглашение от Грифитсов. Как-то вечером Клайд вернулся с работы очень усталый, и в сотый раз обдумывая соблазнительное предложение Дилларда, нашел у себя на столе письмо на очень плотной красивой бумаге, принесенное в его отсутствие слугой Грифитсов. Клайд заметил выпуклые инициалы «Э.Г.» в углу конверта; он тотчас вскрыл письмо и с волнением прочитал: «Дорогой племянник! Мы хотели видеть вас раньше, но с тех пор как вы приехали, муж почти все время был в разъездах, и мы решили подождать, пока он будет немного свободнее. Теперь он не так занят, и мы будем очень рады, если вы придете поужинать с нами в ближайшее воскресенье в шесть часов. Мы ужинаем запросто, в семейном кругу, так что, если что-либо помешает вам, не затрудняйте себя предупреждением ни письменно, ни по телефону. Фрак не обязателен. Итак, приходите, если можете. Мы будем рады вас видеть. С искренним приветом ваша тетя Элизабет Грифитс». Клайд читал, и им снова овладели самые романтические мечты и надежды. Все это время, исполняя ненавистную работу в декатировочной, он все больше тяготился мыслью, что попытка его была напрасной: важные родственники, как видно, решили не поддерживать с ним никаких отношений. И вот перед ним изумительное письмо со словами: «будем рады вас видеть». Значит, они, наверно, думают о нем не так уж плохо. Сэмюэл Грифитс все это время был в отъезде. Вот в чем дело. А теперь Клайд увидит свою тетку и двоюродных сестер, побывает в этом великолепном доме. Замечательно! Может быть, теперь они займутся его судьбой, кто знает? И как удачно, что о нем вспомнили как раз теперь, когда он готов был потерять всякую надежду. Его слабость к Рите, не говоря уже об интересе к Зелле и Дилларду, мгновенно испарилась. Как! Поддерживать знакомство с людьми, стоящими настолько ниже его, Грифитса, на общественной лестнице, да еще рисковать тем самым испортить отношения с важными родственниками? Никогда! Это было бы огромной ошибкой. Письмо пришло как раз вовремя, чтобы его предостеречь. Счастье, величайшее счастье, что у него хватило здравого смысла не согласиться на эту поездку. Теперь он должен постепенно, без особого шума, прекратить близость с Диллардом, — если понадобится, он даже переедет от миссис Каппи… скажет, что дядя сделал ему замечание… словом, все что угодно, но он больше не будет иметь дело с этой компанией. Это не годится. Он не может рисковать своим будущим и надеждами, которые связаны с приглашением тетки. И вместо того чтобы мечтать о Рите и Утике, он теперь стал представлять себе частную жизнь Грифитсов: прекрасные места, куда они, должно быть, ездят, интересных людей, которые их окружают. Тут же он подумал, что для этого визита ему необходимо купить фрак или по крайней мере смокинг и брюки. И потому на следующее утро он попросил Кемерера отпустить его в одиннадцать часов и до часу успел купить на скопленные деньги смокинг, брюки, лакированные ботинки и белое шелковое кашне. После этого он успокоился: в таком наряде он, конечно, произведет хорошее впечатление. И все время, вплоть до воскресного вечера, он уже не думал ни о Рите, ни о Дилларде и Зелле, а только о предстоящем визите. Это действительно событие — попасть в такие высокие сферы! Единственная помеха всему — этот Гилберт Грифитс, который при встрече всегда смотрит на Клайда такими суровыми, холодными глазами. Он, возможно, будет дома и, наверно, примет надменный вид, чтобы заставить Клайда почувствовать себя ничтожеством (Клайд порою признавался себе, что Гилберту это удается). Несомненно, если Клайд попробует держаться с достоинством в доме Грифитсов, Гилберт потом постарается как-нибудь отплатить ему на фабрике. Он может, например, сообщать своему отцу о Клайде только плохое. Ясное дело, если человека держат в этом гнусном подвале и не дают никакой возможности проявить себя, — как надеяться на успех, на карьеру? И всегда ему так не везет: надо же было, приехав сюда, наткнуться на этого Гилберта, который так на него похож и неизвестно почему терпеть его не может. Однако, несмотря на все свои сомнения, Клайд решил возможно лучше использовать счастливый случай и в воскресенье, в шесть часов, направился к дому Грифитсов; ему предстояло трудное испытание, и нервы его были натянуты. Он подошел к большим железным воротам, приподнял тяжелую щеколду и зашагал по широкой, выложенной кирпичом дорожке к главному входу, ощущая внутреннюю дрожь, словно на пороге какого-то опасного приключения. Он шел, и ему казалось, что на него уже устремлены испытующие, критические взгляды. Может быть, мистер Сэмюэл, или мистер Гилберт, или какая-нибудь из его сестер глядят на него из-за этих тяжелых занавесей. Из окон нижнего этажа лился мягкий, приветливый свет. Впрочем, тревога Клайда была непродолжительна. Слуга открыл дверь, взял у него пальто и пригласил пройти в большую гостиную, которая произвела на Клайда сильное впечатление. Она показалась ему, даже после отеля «Грин-Дэвидсон» и клуба в Чикаго, необыкновенно красивой: такая прекрасная мебель, стенные часы, огромный стол, пышные ковры и драпировки. Огонь пылал в большом камине, перед которым полукругом расставлены были стулья и кресла; в разных концах комнаты горели лампы. В гостиной в эту минуту никого не было, но пока Клайд беспокойно оглядывался по сторонам, в глубине комнаты, где находилась большая лестница, ведущая наверх, зашуршало шелковое платье, и Клайд обернулся: к нему приближалась миссис Грифитс. Это была кроткая, худая, поблекшая женщина, двигалась она быстро, разговаривала любезно, хотя, по своему обыкновению, немного сдержанно, и через несколько минут Клайд уже чувствовал себя в ее присутствии легко и спокойно. — Мой племянник, не так ли? — улыбнулась она. — Да, — ответил Клайд просто и, благодаря волнению, с необычным для него достоинством. — Я — Клайд Грифитс. — Очень рада видеть вас у себя, — начала миссис Грифитс с известным светским апломбом, который она приобрела наконец за годы, проведенные в местном высшем обществе. — И мои дети, конечно, тоже будут рады. Беллы и Гилберта как раз нет дома, но, я думаю, они скоро вернутся. Муж отдыхает, но я уже слышала шаги в его комнате, значит, он сейчас будет здесь. Не присядете ли? — Она указала на большой диван. — По воскресеньям мы почти всегда ужинаем дома, и я думала, что будет очень приятно, если мы с вами встретимся в тесном семейном кругу. Как вам нравится Ликург? Она опустилась на диван перед камином, и Клайд довольно неловко уселся на почтительном расстоянии от нее. — Город мне очень понравился, — ответил он с улыбкой, стараясь попасть ей в тон. — Конечно, я видел еще слишком мало, но то, что я видел, мне понравилось. И я нигде никогда не видел такой красивой улицы, как ваша, — прибавил он восторженно. — Такие большие дома, такие прекрасные сады! — Да, мы все очень гордимся нашей улицей, — улыбаясь, ответила миссис Грифитс; она всегда с величайшим удовольствием думала о том, как красив и роскошен ее дом на Уикиги-авеню. Они с мужем так долго добивались всего этого! — Наша улица, кажется, всем нравится. Она была проложена давно, еще когда Ликург был просто деревней. Но обстроилась она и стала такой красивой только за последние пятнадцать лет… А теперь вы должны рассказать мне о своих родителях. Вы знаете, мне никогда не приходилось с ними встречаться, хотя, конечно, муж часто говорил о них, то есть о своем брате, — поправилась она. — Мне кажется, он не встречался с вашей матушкой. Как поживает ваш отец? — Спасибо, он здоров, и мама тоже, — просто ответил Клайд. — Они живут теперь в Денвере. Раньше мы жили в Канзас-Сити, но года три назад они оттуда переехали. На днях я получил письмо от мамы. Она пишет, что у них все благополучно. — Так вы с ней переписываетесь? Это очень хорошо. Миссис Грифитс улыбнулась Клайду; он все больше интересовал ее: ей понравилась его наружность. Он так изящен, так хорошо держится и, главное, так похож на ее собственного сына… вначале она даже испугалась немного, а потом заинтересовалась. Пожалуй, Клайд был несколько выше, лучше сложен и поэтому казался красивее Гилберта, но она никогда бы этого не признала. Да, Гилберт порою нетерпим и высокомерен даже с матерью, и в его обращении больше привычного притворства, чем подлинной нежности, — зато он энергичный, способный юноша, он умеет отстаивать себя и свои мнения. Клайд мягче, неопределеннее, неувереннее. Ее сын, должно быть, унаследовал свою энергию от отца и родственников по ее линии, а Клайд, вероятно, получил некоторую слабость характера в наследство от этих незначительных людей — своих родителей. Решив, таким образом, этот вопрос в пользу сына, миссис Грифитс собиралась расспросить Клайда о его сестрах и братьях, но тут вошел Сэмюэл Грифитс. Окинув Клайда, который встал при его появлении, проницательным взглядом и найдя, что он вполне приличен, по крайней мере внешне, Грифитс-старший сказал: — А, вот и вы! Надеюсь, вас и без меня устроили здесь как следует? — Да, сэр, — ответил Клайд почтительно, с легким поклоном. Он чувствовал, что находится в присутствии одного из великих мира сего. — Ну, вот и прекрасно. Садитесь, садитесь! Очень рад, что все в порядке. Я слышал, вы теперь в декатировочной? Не очень приятное место, но начинать хорошо именно оттуда, снизу! Иной раз и лучшие люди так начинают. — Он улыбнулся и прибавил: — Меня не было в городе, когда вы приехали, а то бы я с вами повидался. — Да, сэр, — ответил Клайд; он не решался сесть до тех пор, пока мистер Грифитс не погрузился в широкое кресло около дивана. В смокинге и крахмальной сорочке с черным галстуком — костюме, так не похожем на форму чикагского клуба, — Клайд еще больше понравился Сэмюэлу, чем при первой встрече, и совсем не показался незначительным и ничтожным, каким изображал его Гилберт. Однако Сэмюэл Грифитс почувствовал, что Клайд недостаточно напорист, ему не хватает деловых качеств, которые необходимы молодому человеку; хотелось бы видеть племянника более сильным и энергичным. Это было бы более по-грифитсовски и, вероятно, больше пришлось бы по душе Гилберту. — Нравится вам ваша работа? — снисходительно спросил Грифитс-старший. — Да, сэр, то есть, вернее сказать, не особенно, — откровенно ответил Клайд. — Но это не важно. Для начала, по-моему, всякая работа хороша. Он думал в эту минуту, что хорошо бы произвести на дядю впечатление человека, способного на нечто лучшее, и, так как Гилберта здесь не было, нашел в себе смелость ответить откровенно. — Вот это правильная мысль, — сказал Сэмюэл Грифитс, очень довольный. — Я знаю, это не очень приятная часть нашего производственного процесса, но для начала необходимо с ней познакомиться. И, конечно, в наши дни ни в одном деле нельзя выдвинуться сразу, на это нужно время. Тут Клайд мысленно спросил себя, надолго ли еще его оставят в мрачном подвале под лестницей. Пока он раздумывал об этом, вошла Майра; она с любопытством взглянула на него и очень обрадовалась, что он совсем не такой незначительный, каким его изображал Гилберт. Она уловила во взгляде Клайда какое-то беспокойство, выражение не то мольбы, не то тревожного испуга, и это ее тронуло; может быть, она почувствовала в нем что-то близкое, свое: она ведь и сама пользовалась не слишком большим успехом в обществе. — Это твой двоюродный брат Клайд Грифитс, Майра, — сказал небрежно Сэмюэл, когда Клайд встал. — Тот самый молодой человек, о котором я тебе говорил. Моя дочь Майра, — прибавил он, обращаясь к Клайду. Клайд поклонился и, пожимая холодную, несколько вялую руку Майры, почувствовал, что она отвечает ему более искренним, дружеским пожатием, чем все остальные. — Надеюсь, вы не жалеете, что приехали сюда, — приветливо начала она. — Мы все любим наш Ликург, но после Чикаго, я думаю, он показался вам довольно жалким. — Она улыбнулась. Клайд, который в присутствии своих именитых родственников держался несколько официально и натянуто, ответил ей церемонным «благодарю вас» и уже готов был сесть, но в это время открылась дверь, и вошел Гилберт Грифитс. (Перед этим на улице был слышен шум мотора, замолкший как раз у главного входа.) — Одну минуту. Додж! — крикнул он кому-то в дверь. — Я сейчас! — Затем, повернувшись к своим, прибавил: — Простите, я сейчас вернусь. — И быстро направился к лестнице, ведущей наверх. Через минуту он вернулся и, по обыкновению, бросил на Клайда ледяной, пренебрежительный взгляд, от которого Клайду и на фабрике всегда становилось не по себе. На Гилберте было светлое в яркую полоску пальто для автомобильной езды, перехваченное поясом, черное кожаное кепи и большие кожаные перчатки с крагами, которые делали его похожим на военного. Он сухо кивнул Клайду, сказал: «Здравствуйте», — потом подошел к отцу и покровительственно положил руку ему на плечо: — Привет, папа. Добрый вечер, мама! Очень жаль, но я не могу посидеть с вами. Мы с Доджем и Юстисом только что приехали из Амстердама за Констанцией и Жакелиной и сейчас едем к Бриджменам. Но я вернусь к утру. Во всяком случае, буду завтра в конторе. Надеюсь, у вас все в порядке, мистер Грифитс? — прибавил он, обращаясь к отцу. — Да, мне не на что жаловаться, — сказал отец. — А ты, кажется, намерен веселиться всю ночь? — Совсем нет, — ответил Гилберт, не обращая никакого внимания на Клайда. — Я просто хотел сказать, что если не смогу вернуться к двум, то переночую где-нибудь, вот и все. Он снова ласково похлопал отца по плечу. — Пожалуйста, не езди так быстро, как всегда, — попросила миссис Грифитс. — Это вовсе не безопасно. — Пятнадцать миль в час, мама, пятнадцать миль в час, я знаю правила! — Гилберт надменно улыбнулся. Клайд не мог не заметить, каким снисходительным и авторитетным тоном Гилберт разговаривает с родителями. Ясно, что и здесь, как на фабрике, он важная персона, с которой все считаются. По-видимому, он ни к кому, кроме отца, не питает особого уважения. «До чего высокомерен», — подумал Клайд. Должно быть, это великолепно — быть сыном богатого человека и без труда, без всякого усилия занять вот такое положение, держаться так гордо, пользоваться такой властью и таким авторитетом. Да, конечно, этот молодой человек смотрит на Клайда свысока и говорит с ним пренебрежительно. Но подумать только: такой молодой и обладает такой властью!Глава 29
В эту минуту горничная доложила, что ужин подан и Гилберт тотчас простился. Все встали; миссис Грифитс спросила у горничной: — Белла не звонила? — Нет еще, сударыня, — ответила та. — Тогда скажите миссис Трюсдейл, чтобы она позвонила к Финчли и вызвала Беллу. Пусть она сейчас же едет домой. Горничная вышла, а все общество проследовало в столовую, находившуюся в том же этаже, рядом с гостиной. Клайд увидел еще одну великолепно обставленную комнату, всю в светло-коричневых тонах; посредине стоял длинный стол орехового дерева, очевидно, предназначавшийся для особо торжественных случаев, вокруг него — стулья с высокими спинками. Стол освещали канделябры, расставленные на нем на равном друг от друга расстоянии. В глубине комнаты, в просторной полукруглой нише с окнами в сад, был накрыт для ужина другой, небольшой стол на шесть персон. (Клайд почему-то представлял себе это совсем иначе.) За столом Клайду пришлось отвечать на множество вопросов, главным образом о его семье, о том, как его родные жили прежде и как живут теперь. Сколько лет его отцу? А матери? Где они жили до переезда в Денвер? Сколько у него братьев и сестер? Сколько лет его старшей сестре Эсте? Чем она занимается? А остальные дети? Доволен ли отец своим делом — ведь он теперь содержит отель? А чем именно он занимался раньше, в Канзас-Сити? Сколько времени они там жили? Клайд не на шутку смутился и растерялся под градом этих вопросов, которые с важным видом задавали ему Сэмюэл Грифитс и его жена. По сбивчивым ответам Клайда оба они поняли, что вопросы эти — особенно о жизни семьи в Канзас-Сити — ставят его в затруднительное положение. Они, разумеется, приписали это чрезвычайной бедности своих родственников. Когда Сэмюэл Грифитс спросил: «Кажется, вы начали работать в отеле еще в Канзас-Сити, когда окончили школу?» — Клайд густо покраснел, вспомнив об истории с украденным автомобилем и о том, как мало, в сущности, пришлось ему ходить в школу. Больше всего ему не хотелось, чтобы здесь узнали что-нибудь о его жизни в качестве рассыльного в Канзас-Сити и особенно чтобы его имя связали с отелем «Грин-Дэвидсон». К счастью, в это время дверь отворилась, и вошла Белла в сопровождении двух девушек, которые, как сразу понял Клайд, также принадлежали к избранному обществу. Какой контраст между ними и Ритой и Зеллой, о которых он еще совсем недавно думал с таким волнением! Он узнал Беллу по ее фамильярному обращению с Грифитсами. Одна из ее спутниц была Сондра Финчли, о которой так часто говорили Белла и ее мать. Клайд никогда еще не видал такой изящной, красивой и гордой девушки, — она была совсем особенная, никто не мог сравниться с нею! Английский костюм плотно облегал ее гибкую фигуру, и с ним прекрасно гармонировала маленькая темная кожаная шапочка, кокетливо надвинутая на глаза. Через руку у нее перекинуто было элегантное пальто в черную и серую клетку, модного, почти мужского покроя, и она вела за собой на кожаном ремешке французского бульдога. Клайду показалось, что он в жизни своей не встречал такой очаровательной девушки. Она сразу произвела на него необычайное, потрясающее впечатление, точно его пронизал электрический ток, и он с жгучей болью ощутил, что значит жаждать недостижимого, мечтать о любви и мучительно чувствовать, что ему не суждено добиться от этой девушки хотя бы ласкового взгляда. Это и терзало и пьянило его. Ему до боли хотелось то закрыть глаза и больше не видеть ее, то смотреть на нее без конца, не отводя глаз, — так она его пленила. А Сондра сначала ничем не показала, что заметила его; она была занята только своей собакой: — Ну же, Биссел, веди себя как следуем, а то я выведу тебя отсюда и привяжу у лестницы. О, боюсь, мне придется сейчас же уйти, если он не будет вести себя прилично! (Биссел увидел кошку и старался до нее добраться.) Вторая девушка далеко не так сильно поразила Клайда, хотя она была по-своему не менее изящна, чем Сондра, и многим, наверно, показалась бы столь же прелестной. У нее были белокурые, почти льняные волосы, миндалевидные серо-зеленые глаза, маленькая, грациозная фигурка и вкрадчивые, кошачьи манеры. Едва войдя, она скользнула через комнату к столу, склонилась над миссис Грифитс и замурлыкала: — Как вы себя чувствуете, миссис Грифитс? Я так рада вас видеть! Как давно я у вас не была! Знаете, я уезжала с мамой. Сегодня они с Грэнтом поехали в Олбани, а я как раз встретила Беллу и Сондру у Лэмбертов. А вы, я вижу, сегодня ужинаете в семейном кругу?.. Как поживаете, Майра? — спросила она и, протянув руку из-за плеча миссис Грифитс, слегка, просто по долгу вежливости, дотронулась до руки Майры. Тем временем Белла, которая показалась бы Клайду самой очаровательной из этих девушек, не будь Сондры, воскликнула: — Ах, я опоздала! Мамочка, папочка, прошу прощения! Ну, пожалуйста, простите меня на этот раз! Потом, как будто только сейчас заметив Клайда, хотя он поднялся, когда девушки вошли в комнату, и все еще стоял, она, как и ее подруги, замолчала с притворно скромным видом. А Клайд, всегда чрезмерно чувствительный к подобным оттенкам в обращении и к разнице в материальном положении, ждал, пока его представят, и с мучительной остротой сознавал свое ничтожество. Юность и красота, стоящие столь высоко на общественной лестнице, казались ему высшим торжеством женщины. Его слабость к Гортензии Бригс (не говоря уже о Рите, далеко не такой привлекательной, как любая из этих трех девушек) показала, что он не в силах устоять перед женским изяществом, даже если у его победительниц нет иных достоинств. — Белла, — сказал внушительно Сэмюэл Грифитс, видя, что Клайд все еще стоит, — это твой двоюродный брат Клайд. — Вот как, — сказала Белла; она сразу заметила, до чего Клайд похож на Гилберта. — Здравствуйте! Мама мне говорила, что вы на днях приедете. — Она протянула ему два пальца, потом обернулась к своим спутницам и представила: — Мои подруги — мисс Финчли и мисс Крэнстон. Обе девушки сухо и чопорно кивнули, внимательно и довольно бесцеремонно разглядывая Клайда. — Как похож на Гила! — шепнула Сондра подошедшей к ней Бертине. И Бертина ответила: — Я никогда не видела подобного сходства. Но только он гораздо красивее, правда? Сондра кивнула. Она в первое же мгновенье с удовольствием заметила, что Клайд красивее брата Беллы (она не любила Гилберта) и что он явно восхищен ею. Она приняла это как должное, — ведь она всегда покоряла молодых людей с первого взгляда. Но, увидев, что глаза Клайда неотступно и беспомощно следят за ней, она решила, что пока не стоит обращать на него внимания. Уж слишком легкая победа. Миссис Грифитс, не ожидавшая этого визита, немного сердилась на Беллу: привела с собой подруг, когда здесь Клайд, и теперь придется упомянуть о том, что он не принадлежит к хорошему обществу. — Может быть, вы обе положите пальто и присядете? — предложила она. — Я скажу, чтобы поставили еще два прибора. Белла, садись рядом с отцом. — Нет, нет, нам пора домой! Мы не можем оставаться ни минуты, — в один голос заявили Сондра и Бертина. Однако теперь, когда они увидели Клайда и убедились, что он хорош собой, им непременно хотелось узнать, будет ли он блистать в обществе. Гилберт Грифитс не пользовался особым успехом, и они обе не любили его, хотя очень дружили с его сестрой: для самовлюбленных красавиц он был слишком самоуверен и упрям, держался порой чересчур высокомерно. А Клайд, насколько можно судить по внешности, гораздо мягче и податливее. Остается только узнать, какое положение он занимает и что думают о нем Грифитсы: если в этом доме он принят как равный, то почему бы и местному обществу не принять его? А главное, интересно знать, богат ли он… На это они почти немедленно получили ответ, так как миссис Грифитс решительно и с умыслом сказала Бертине: — Мистер Грифитс — наш племянник, он приехал с Запада; он пробует работать на фабрике моего мужа. Этот молодой человек вынужден сам пробивать себе дорогу, и муж мой так добр, что дал ему возможность испытать свои силы. Клайд вспыхнул: ему ясно указывали, что по сравнению с Грифитсами и с этими девушками он ничто. Он заметил, как на лице Бертины Крэнстон любопытство мгновенно сменилось полнейшим равнодушием; ее интересовали только молодые люди со средствами. Но Сондра Финчли, хоть и стояла в своем кругу ступенькой выше (она была гораздо красивей Бертины, а ее родители — еще богаче Крэнстонов), не отличалась такой практичностью, как подруга. Она снова взглянула на Клайда, и на лице ее ясно отразилось, что она огорчена услышанным. Такой красивый и симпатичный юноша! В это время Сэмюэл Грифитс, который был особенно расположен к Сондре (Бертину он не любил, как не любила ее и миссис Грифитс, считавшая ее слишком хитрой и неискренней), позвал: — Идите-ка сюда, Сондра! Привяжите собаку к креслу. Пальто бросьте на тот стул и садитесь вот здесь. — Он указал ей место рядом с собой. — Никак не могу, дядя Сэмюэл, — немного рисуясь, воскликнула Сондра таким фамильярно-ласковым тоном, словно ее с Сэмюэлом Грифитсом связывала самая нежная дружба. — Уже поздно, да и с Бисселом никак не сладишь. Правда же, нам с Бертиной пора домой. — Знаешь, папа, — вдруг вмешалась Белла, — лошадь Бертины наступила вчера на гвоздь и теперь хромает. И ни Грэнта, ни мистера Крэнстона нет дома. Бертина хотела с тобой посоветоваться. — Которая нога? — спросил заинтересованный Грифитс. (Во время этого разговора Клайд продолжал украдкой рассматривать Сондру. «Какая очаровательная, — думал он. — Носик такой маленький и чуть вздернутый, а верхняя губа так лукаво изогнута».) — Левая передняя, — пояснила Бертина Грифитсу. — Вчера я ездила по Ист-Кингстонской дороге. Джерри потерял подкову и, наверно, занозил ногу, но Джон не может найти занозу. — А вы долго ехали после этого? — Весь обратный путь. Миль восемь, я думаю. — Ну, скажите Джону, пусть смажет ногу какой-нибудь смягчающей мазью и забинтует. И надо позвать ветеринара. Ничего страшного. Я уверен, что лошадь скоро поправится. А Клайд, на время предоставленный самому себе, все думал о том, какой приятной, легкой жизнью живут люди этого круга. Как видно, ни у кого из них нет никаких забот. Они только и говорят, что о своих домах и лошадях, о встречах с друзьями, прогулках и развлечениях. Его двоюродный брат Гилберт только что укатил куда-то с приятелями на автомобиле. Белла и ее подруги легкомысленно и весело живут в великолепных домах на красивой улице, а он, Клайд, заперт в комнатушке на третьем этаже в пансионе миссис Каппи, и ему некуда пойти, и он получает всего пятнадцать долларов в неделю — и на это должен существовать! И завтра утром он снова будет работать в подвале, а эти девушки встанут с мыслью о новых развлечениях. А в Денвере его родители с их жалкими меблированными комнатами и миссией живут так, что он даже не смеет здесь рассказать о них правду. Внезапно обе девушки спохватились, что им пора идти. Клайд и Грифитсы остались одни, и Клайд ясно почувствовал, что ему здесь совсем не место: и сам Грифитс, и его жена, и Белла — все, кроме Майры, своим небрежным обращением показывали, что ему позволено только мельком заглянуть в общество, к которому он не принадлежит. Он понимал, что бедность помешает ему войти в это общество, сколько бы он ни мечтал ближе познакомиться с этими очаровательными девушками. Ему сразу стало очень грустно, и взгляд и настроение его так омрачились, что не только Сэмюэл Грифитс, но и его жена и Майра это заметили. Если бы только как-нибудь проникнуть в их мир! Но из всех Грифитсов одна лишь Майра почувствовала, как он одинок и подавлен. И когда все снова перешли в большую гостиную (Сэмюэл на ходу отчитывал Беллу за то, что она всегда опаздывает к ужину и заставляет себя ждать), Майра подошла к Клайду и сказала: — Мне кажется, когда вы еще немного поживете в Ликурге, вам здесь больше понравится. Кругом столько красивых мест! Вам надо съездить посмотреть наши озера. И Адирондакские горы тоже не так далеко — семьдесят миль к северу. А летом, когда мы переедем на Лесное озеро, мама и папа, наверно, захотят, чтобы вы у нас бывали. Она далеко не была уверена, что родители пригласят Клайда на дачу, но чувствовала, как нужно сказать сейчас Клайду что-нибудь в этом роде. И действительно, он приободрился и до конца вечера разговаривал больше всего с нею, стараясь только не казаться слишком невежливым в отношении остальных членов семейства. Наконец, около половины десятого, вдруг снова почувствовав себя совсем посторонним и одиноким, Клайд поднялся и сказал, что ему пора идти: завтра он должен встать очень рано. Сэмюэл Грифитс проводил его к выходу. В эту минуту он, как раньше Майра, почувствовал симпатию к Клайду, подумал о том, что и он сам и его семья будут и дальше пренебрегать этим юношей, потому что он беден, и чтобы как-то вознаградить Клайда, решил сказать ему на прощанье несколько ласковых слов. — Как хорошо на улице, — сказал он приветливо. — Подождите, весной наша Уикиги-авеню покажет себя во всей красе. — Он испытующе взглянул на небо и вдохнул свежий апрельский воздух. — Вот придете к нам через некоторое время, когда все тут будет в цвету,тогда сами увидите, как здесь мило. Доброй ночи! Он улыбнулся. Голос его звучал тепло и дружески, и Клайд еще раз почувствовал, что, как бы ни вел себя Гилберт, — Грифитс-старший, безусловно, не совсем равнодушен к своему племяннику.Глава 30
Шли дни за днями, и, хотя от Грифитсов больше не было писем, Клайд все еще преувеличивал значение единственного визита к богатым родственникам и по временам мечтал о новых встречах с этими очаровательными девушками и о том, какое было бы счастье, если бы одна из них полюбила его. Они живут в прекрасном мире, среди роскоши и блеска. Какой контраст с его собственной жизнью, с его окружением! Диллард! Рита! Они для него больше просто не существуют. Ему нужно совсем другое — или ничего. И он держался как можно дальше от Дилларда. В конце концов и тот отстранился от Клайда, считая его снобом, да Клайд и стал бы самым настоящим снобом, если бы достиг того положения, о котором мечтал. Но время шло, а он по-прежнему оставался на той же работе… Невеселая и нелегкая жизнь, скудный заработок и малоинтересное для него общество рабочих декатировочной приводили его в уныние. И постепенно он начал думать не о том, чтобы возобновить знакомство с Ритой и Диллардом — он больше не хотел иметь с ними дела, — а о том, чтобы оставить надежду устроиться здесь: надо вернуться в Чикаго или поехать в Нью-Йорк, где он в крайнем случае наверняка найдет работу в каком-нибудь отеле. Но тут, словно для того, чтобы оживить его мужество и прежние мечты, произошло событие, заставившее Клайда подумать, что он, несомненно, начинает подниматься во мнении отца и сына Грифитсов, хотя они и не вводят его в свое общество. Как-то весной, в одну из суббот, Сэмюэл Грифитс в сопровождении Джошуа Уигэма отправился в обход по фабрике. К полудню они дошли до декатировочной, и Грифитс впервые с некоторым смущением увидел Клайда в грубых штанах и нижней рубашке, работавшего у одной из двух сушилок (за это время его племянник научился достаточно ловко загружать и разгружать сушилки). И, вспомнив, каким изящным и представительным выглядел Клайд, когда его пригласили на ужин всего несколько недель назад, Сэмюэл Грифитс был совершенно потрясен контрастом. При прежних встречах — и в Чикаго и в тот вечер в доме Грифитсов — на Сэмюэла произвела наибольшее впечатление аккуратность и приятная внешность Клайда. А Грифитс-старший почти так же ревниво, как и его сын, относился к впечатлению, производимому на служащих фабрики и на всех жителей Ликурга не только именем Грифитсов, но и вообще их престижем. И теперь, увидя Клайда, так похожего на Гилберта, здесь, в декатировочной, в неприглядной одежде, среди этих людей, он почувствовал острее, чем когда-либо, что Клайд — его племянник и не должен больше оставаться на такой черной работе. Иначе другие служащие подумают, что Сэмюэл Грифитс неподобающе равнодушен к значению столь близкого родства. Однако он не сказал ни слова Уигэму или кому-либо другому, а подождал, пока сын не вернулся в понедельник утром из загородной поездки. — В субботу я осматривал фабрику и видел, что наш Клайд все еще внизу, в декатировочной, — сказал он Гилберту, вызвав его к себе в кабинет. — Ну и что же, отец? — спросил Гилберт, не понимая, почему отец вдруг заговорил о Клайде. — Очень многие работали там до него, и это им не повредило. — Правильно, но они не приходились мне племянниками. И не были похожи на тебя. (Это замечание сильно задело Гилберта.) Так не годится, вот что я тебе скажу. Боюсь, что мы поступили с Клайдом несправедливо, наверно, и другие тоже так думают, — ведь все видят, как вы похожи, и знают, что он твой двоюродный брат и мой племянник. Я этого сначала не сообразил, потому что не заходил в подвал, но теперь мне ясно, что его нельзя там держать. Так не годится. Нужно положить этому конец. Переведем его куда-нибудь в другое место, где он будет выглядеть приличнее. Он нахмурился, глаза его потемнели. Впечатление, которое произвел на него Клайд в старом платье и с каплями пота на лбу, было не из приятных. — Видишь ли, в чем дело, отец, — попытался возразить Гилберт (он органически не выносил Клайда и хотел во что бы то ни стало оставить его на прежнем месте), — я не уверен, что смогу найти для него подходящую должность в каком-нибудь другом цехе. Придется перемещать тех, кто давно уже у нас работает и кто с таким трудом добивался своего места. А у Клайда нет никакой подготовки, он пока только и может стоять у сушилки. — Ну, меня все это мало интересует, — сказал Грифитс-старший, чувствуя, что сын боится соперника и потому не вполне справедлив к Клайду. — В подвале ему не место, и я не хочу, чтобы он там оставался. Достаточно он там побыл… До сих пор в Ликурге имя Грифитс означало выдержку, энергию, способности и здравый смысл, и я не могу допустить, чтобы кто-либо из Грифитсов вызывал у людей другие мысли. Это плохо для дела. Устроить Клайда лучше — по меньшей мере наш долг. Ты меня понял? — Отлично понял, отец. — Значит, сделай, как я сказал. Потолкуй с Уигэмом. Сообразите, куда его можно перевести, чтобы он не был простым рабочим. С самого начала было ошибкой посылать его в этот подвал. Уж, наверно, у нас в каком-нибудь цехе найдется для него подходящее местечко. Можно его сделать помощником заведующего отделением, — скажем, даже вторым или третьим помощником, — чтобы он мог прилично одеваться и выглядеть как человек. В крайнем случае отправь его на некоторое время домой и полностью сохрани за ним его жалованье, пока не подыщешь для него подходящего места. Но я хочу, чтобы он был переведен. Кстати, сколько он сейчас получает? — Кажется, долларов пятнадцать, — покорно ответил Гилберт. — Маловато для того, чтобы всегда иметь приличный вид. Надо дать ему двадцать пять. Я знаю, он этого не стоит, но тут ничего не поделаешь. Пока он здесь, он должен иметь средства на жизнь. Я предпочитаю платить ему двадцать пять долларов — зато никто не сможет сказать, что мы поступаем с ним несправедливо. — Хорошо, хорошо! Пожалуйста, не волнуйся из-за этого, — сказал Гилберт просительным тоном, видя, что отец рассердился всерьез. — Я не так уж виноват. Ты же сам сначала согласился, когда я предложил отправить его в декатировочную. Но теперь я думаю, что ты прав. Предоставь это мне. Я подыщу для него приличное место. И он немедленно послал за Уигэмом, думая в то же время, как бы устроить все так, чтобы Клайд не вообразил, будто он что-то значит для Грифитсов; наоборот, пусть думает, что ему оказывают милость, никак не соответствующую его заслугам. И, когда явился Уигэм, Гилберт завел с ним дипломатический разговор о Клайде; Уигэм тотчас притворился ужасно озабоченным, стал потирать лоб, потом вышел из комнаты. Через некоторое время он вернулся и заявил, что в состоянии предложить единственный выход: поскольку у Клайда нет никакой технической подготовки, его можно устроить только помощником мистера Лигета, заведующего пятью большими швейными отделениями на пятом этаже. Под его началом, кроме того, было еще одно маленькое вспомогательное отделение, и для надзора за ним Лигету требовался специальный помощник или помощница. Это была штамповочная — особая комната, где штемпелевали перед шитьем выкроенные воротнички; ежедневно сюда из закройной, находившейся этажом выше, доставляли от семидесяти пяти до ста тысяч дюжин непростроченных воротничков всех фасонов и размеров. Здесь девушки-работницы ставили на каждый воротничок клеймо, в соответствии с прикрепленным к каждой пачке ярлычком, указывающим размер и фасон. Обязанности помощника заведующего в этой комнате, как хорошо знал Гилберт, были несложны: наблюдать за порядком и за тем, чтобы работа шла без перерывов. Кроме того, надо следить, чтобы все эти семьдесят пять или сто тысяч дюжин воротничков были должным образом проштемпелеваны и переданы в находящийся по соседству швейный цех и чтобы в приходной книге была сделана соответствующая запись. И, наконец, нужно аккуратно записывать, сколько дюжин воротничков проштемпелевала каждая работница, так как плата тут сдельная. Итак, здесь имелась небольшая конторка и на ней книги для всех этих записей. Кроме того, сюда же попадали нанизанные для удобства на специальные наколки те самые ярлыки, которые при раскройке прикреплялись к каждой пачке воротничков: штамповщицы снимали их и передавали помощнику заведующего для учета. Словом, это была самая несложная конторская работа; в прошлом эту должность занимали юноши, девушки, старики или пожилые женщины, смотря по тому, кто оказывался в данный момент под рукой. Уигэм опасался, что Клайд по своей молодости и неопытности не сумеет на первых порах быть достаточно требовательным и авторитетным, как подобает начальнику, и поспешил указать на это Гилберту. В отделении работают одни только молодые девушки, и некоторые очень хороши собою. Благоразумно ли назначать к ним молодого человека такого возраста и такой наружности? Если он влюбчив, а это естественно в его годы, он, пожалуй, будет держаться слишком снисходительно, без должной строгости. Девушки станут пользоваться этим, и тогда невозможно будет оставить его здесь. Но в данную минуту это единственное свободное место на фабрике. Почему бы пока не направить туда Клайда, просто для пробы? Через некоторое время выяснится, годен ли он для этой работы, а там, может быть, Лигет или сам Уигэм найдут для него Другое место — и тогда можно будет его перевести. И вот в тот же понедельник, около трех часов, Гилберт вызвал к себе Клайда, заставил его прождать с четверть часа (таков был метод Грифитса-младшего) и наконец принял его с самым суровым видом. — Как идет ваша работа? — спросил он холодным, инквизиторским тоном. И Клайд, которого неизменно подавлял уже один вид Двоюродного брата, ответил с вымученной улыбкой: — Все так же, мистер Грифитс! Не могу пожаловаться. В общем, я доволен. Мне кажется, я кое-чему научился. — Вам кажется? — Нет, я, конечно, знаю, что научился кое-чему, — поправился Клайд, слегка покраснев. В глубине души он был страшно возмущен и все же улыбался заискивающей, виноватой улыбкой. — Ну, это немного лучше. Вряд ли найдется человек, который, проведя там столько времени, не знал бы, научился он чему-нибудь или нет. — Затем, решив, что он, пожалуй, слишком суров, Гилберт слегка изменил тон и прибавил: — Но я не для этого послал за вами. Я хочу поговорить о другом. Скажите, вам никогда не приходилось руководить другими и отвечать за их работу? — Боюсь, что я не совсем понимаю вас, — ответил Клайд: он смутился и от волнения не уловил смысл вопроса. — Я спрашиваю, не приходилось ли вам распоряжаться людьми — руководить работой в каком-нибудь маленьком отделе или что-нибудь в этом роде? Может быть, вы были где-нибудь старшим? Или помощником мастера? — Нет, сэр, никогда, — ответил Клайд. Он так нервничал, что чуть не заикался: очень уж сурово, холодно и, главное, презрительно говорил с ним Гилберт. Но в то же время Клайд сообразил, к чему ведет этот вопрос. Несмотря на всю суровость двоюродного брата и его обидное недоброжелательство, хозяева явно намерены сделать его старшим, поручить ему командовать какими-то людьми. Конечно, так! И, чувствуя, что у него от волнения вспыхнули уши и вспотели ладони, Клайд поспешно прибавил: — Но я видел, как распоряжаются старшие в клубах и в отелях. Я думаю, что справился бы с этим, если бы мне дали попробовать. Он сильно покраснел, глаза его заблестели. — Ну, это не одно и то же. Совсем не одно и то же, — резко заметил Гилберт. — Видеть и делать — это совершенно разные вещи. Человек, не имеющий никакого опыта, может очень много думать о себе, а дойдет до дела — окажется, что он ни к чему не пригоден. Во всяком случае, наше производство требует людей знающих. Он смотрел на Клайда критически и насмешливо. А Клайд решил, что ошибся, что речь идет, должно быть, вовсе не о повышении его в должности, — и стал спокойнее. Щеки его вновь стали, как всегда, матово-бледными, блеск в глазах погас. — Да, сэр, мне кажется, это верно, — сказал он. — Но в данном случае вам ничего не должно казаться, — подчеркнул Гилберт. — Вы должны знать. Что за мученье с людьми, которые ничего не знают, — всегда им все кажется. Надо сказать, что Гилберта слишком раздражали необходимость дать место двоюродному брату, который ничем этого не заслужил, и он не мог скрыть свое желчное настроение. — Да, вы правы, — примирительно сказал Клайд. Он все-таки надеялся, что речь идет о повышении. — Дело в том, — заявил Гилберт, — что я мог бы с самого начала поместить вас в учетный отдел, если бы вы были технически натасканы. (Выражение «технически натасканы» повергло Клайда в благоговейный трепет: он плохо понимал, что это должно означать.) Мы сделали для вас все возможное, — небрежно продолжал Гилберт. — Мы знали, что декатировочная — не очень приятное место, но ничего другого тогда не могли вам предложить. — Он забарабанил пальцами по столу. — Теперь я вызвал вас, чтобы поговорить с вами вот о чем. У нас сейчас оказалось свободное место в одном отделении наверху. Мы с отцом задавали себе вопрос, можете ли вы справиться с этой работой. (Клайд воспрянул духом.) Мы с отцом давно уже думаем о том, чтобы сделать что-нибудь для вас, но, как я уже сказал, это оказалось для нас очень трудной задачей, потому что у вас нет никаких практических знаний. У вас нет ни технического, ни коммерческого образования, а это вдвойне усложняет дело. Он сделал длинную паузу, чтобы придать особую силу своим словам и заставить Клайда понять, что он бессовестно втерся туда, где ему не место. — Но поскольку мы вообще сочли нужным вызвать вас сюда, — заключил Гилберт, — мы решили испытать, не справитесь ли вы с работой на лучшем месте. Нельзя же без конца оставлять вас в подвале. Теперь слушайте, что я имею в виду. — И он стал объяснять, какого рода работа предстоит Клайду на пятом этаже. Затем был вызван Уигэм, и, когда он поздоровался с Клайдом, Гилберт сказал: — Уигэм, я только что рассказал двоюродному брату о нашем утреннем разговоре и сообщил ему то, что я вам уже говорил о нашем плане испробовать его в качестве заведующего штамповочным отделением. Так что, пожалуйста, проводите его к мистеру Лигету, и пусть сам Лигет или кто-нибудь еще объяснит ему характер работы. — Гилберт повернулся к столу. — А потом пришлите его обратно ко мне, я хочу еще поговорить с ним. Он встал с важным видом и отпустил обоих. А Уигэм, все еще сомневаясь в успехе этого опыта, но в то же время очень стараясь быть приятным Клайду (кто знает, кем он станет впоследствии!), повел его на пятый этаж к мистеру Лигету. Среди оглушительного жужжания машин Клайд прошел за Уигэмом в небольшое отделение в западном крыле здания, отгороженное от главного зала невысоким барьером. Здесь двадцать пять девушек-штамповщиц и их подручные, носившие корзины, старались справиться с непрерывным потоком непростроченных воротничков, которые спускались с верхнего этажа по особым деревянным желобам. Клайда представили мистеру Лигету и тотчас провели к отгороженной барьером конторке, за которой сидела маленькая, толстенькая и не особенно красивая девушка примерно его возраста; она поднялась им навстречу. — Это мисс Тодд, — представил ее Уигэм. — Она последние дни заменяет миссис Энджир. Будьте любезны, мисс Тодд, объясните мистеру Грифитсу как можно быстрее и понятнее, в чем заключаются ваши обязанности. А потом будете помогать ему, пока он не освоится с работой и не начнет справляться сам, — сделаете? — Конечно, мистер Уигэм, с удовольствием! — ответила мисс Тодд и, разложив книги на конторке, тотчас же стала объяснять Клайду, как учитывается прием и выпуск товара, как штампуются воротнички, как подносчицы собирают в корзины спускающиеся по желобам связки воротничков и поровну распределяют их среди штамповщиц, а потом другие девушки выносят уже проштемпелеванные воротнички в швейный цех. Клайд с интересом слушал, понимая, что легко справится с этой работой. Но он чувствовал себя странно среди такого множества женщин. Их было здесь очень много — несколько сотен. Они сидели и шили — и длинные ряды их тянулись в дальний конец огромного помещения с белыми стенами и белыми колоннами. Через высокие, от пола до потолка, окна вливались потоки света… Далеко не все девушки были красивы. Клайд исподтишка разглядывал их, пока мисс Тодд, а затем Уигэм и даже Лигет давали ему подробнейшие объяснения. — Самое важное, — сказал под конец Уигэм, — следить, чтобы не было ошибок при подсчете тысяч дюжин воротничков, которые поступают сюда на штамповку, и чтобы их штемпелевали и передавали швеям без задержки. И надо аккуратно записывать, сколько вырабатывает каждая девушка, чтобы не было ошибок при оплате. Наконец Клайд сообразил, что именно от него требуется, и сказал, что все понял. Он очень волновался, но быстро решил: раз такую работу может выполнять эта девушка, значит, сможет и он. А Уигэм и Лигет, помня о его родстве с Гилбертом, держались очень доброжелательно и уверяли, что он прекрасно справится. Потом Клайд вместе с Уигэмом вернулся в кабинет Гилберта, который, едва увидев их, спросил: — Ну, что скажете? Да или нет? Как по-вашему, справитесь вы с этим делом? — Я считаю, что справлюсь, — сказал Клайд с необычайной для него решительностью, но втайне опасаясь, что может и сплоховать, если судьба не будет милостива к нему. От столь многого зависит благожелательное отношение тех, кто стоит над ним, и тех, кто его окружает, — а всегда ли они будут к нему благосклонны? — Прекрасно, — продолжал Гилберт. — Присядьте на минутку. Я хочу еще немного поговорить с вами об этой работе. Она вам кажется простой, не так ли? — Нет, я не могу сказать, чтобы она показалась мне очень простой, — ответил Клайд, взволнованный и немного бледный: по своей неопытности он воображал, что это назначение — огромное событие и тут понадобятся все его способности и мужество. — Но все-таки я думаю, что справлюсь. Я даже уверен в этом и хотел бы попробовать. — Ну, вот это звучит уже лучше! — ответил Гилберт более милостиво. — А теперь я хочу вам сказать еще несколько слов. Вы, вероятно, не думали, что у нас тут есть целый этаж, переполненный женщинами? — Нет, сэр, я об этом не думал; я знал, что здесь работают женщины, но не знал, где именно. — В сущности, — сказал Гилберт, — всю фабрику сверху донизу обслуживают женщины. В производственном отделе на одного мужчину приходится десять женщин. Поэтому мы доверяем ответственные места на нашей фабрике только тем лицам, чье нравственное поведение и религиозность нам хорошо известны. Вы наш родственник, и поэтому мы вам доверяем, а если бы не это, мы никак не могли бы возложить на вас такую ответственность, пока не узнали бы вас лучше. Но не думайте, что, раз вы наш родственник, вам не придется отвечать за все происходящее у вас в отделении, так же как и за ваше собственное поведение. Наоборот, мы будем особенно строги и требовательны к вам именно потому, что вы — наш родственник. Вы поняли, что я хочу сказать? Вы представляете себе, что значит здесь имя Грифитс? — Да, сэр, — ответил Клайд. — Очень хорошо, — продолжал Гилберт. — Прежде чем ставить человека на какой-то ответственный пост, мы должны быть вполне уверены, что этот человек всегда будет вести себя как джентльмен, всегда будет соблюдать приличия в отношениях с нашими работницами. Недолго у нас продержится такой служащий — молодой или даже старый, — который вообразит, что, раз тут кругом женщины, значит, можно пренебрегать работой и позволять себе всякие вольности, флирт и прочее. Все, кто у нас работает, — и мужчины и женщины, — должны помнить, что они всегда и прежде всего наши служащие, они должны чувствовать это и вне стен фабрики. А если мы узнаем, что кто-нибудь об этом забыл, — с таким человеком будет все кончено. Такие нам не нужны. Мы с ними расстаемся сразу и навсегда. Он замолчал и посмотрел на Клайда, как бы говоря: «Кажется, я достаточно ясно выражаюсь: мы не желаем никаких неприятностей из-за вас». И Клайд ответил: — Да, я понимаю. Думаю, что это правильно. Только так и может быть. — И должно быть, — прибавил Гилберт. — И-должно быть, — как эхо, повторил Клайд. В то же время он спрашивал себя, вправду ли дело обстоит так, как говорит Гилберт. Он уже не раз слышал, что фабричные работницы ведут себя вольно. Впрочем, в ту минуту он не думал, что возможны какие-то внеслужебные отношения между ним и кем-либо из этих девушек. Клайду теперь казалось, что его интерес к женщинам чрезмерен, ненормален, а потому лучше совсем не иметь с ними дела, даже не разговаривать, держаться неприступно и холодно — вот как Гилберт держит себя с ним. Это необходимо, если хочешь остаться на новом месте. А Клайд твердо решил остаться и всегда вести себя так, как того требует двоюродный брат. — Ну, так вот, — продолжал Гилберт, точно желая дополнить мысль Клайда, — я хотел бы знать одно. Предположим, я назначу вас на это место хотя бы временно. Могу ли я быть уверен, что вы будете помнить о своих обязанностях и что у вас не закружится голова среди такого количества женщин? — Да, сэр, можете быть уверены, — ответил Клайд: краткое наставление двоюродного брата сильно подействовало на него, хотя, помня о Рите, он был не совсем уверен в своей выдержке. — Если это не так, вам следует именно сейчас сказать прямо, — настаивал Гилберт. — Вы связаны кровными узами с нашей семьей, и здесь, на фабрике, а тем более в такой должности, вы — представитель семьи. Поэтому ни в коем случае ничто не должно бросать на вас тень. Я хочу, чтобы вы с этого дня тщательно следили за собой, за каждым своим шагом. Даже в мелочах не должно быть ничего такого, что могло бы вызвать нежелательные разговоры на ваш счет. Понимаете? — Да, сэр, — торжественно ответил Клайд, — я понимаю. Я буду вести себя как следует, или меня уволят. В эту минуту Клайд всерьез думал, что сумеет выполнить свое обещание. Сотни девушек наверху казались ему сейчас чем-то очень далеким и незначительным. — Прекрасно! Теперь вот что. Не приступайте сегодня к работе. Отправляйтесь домой и обдумайте хорошенько все, что я вам сказал. И если не передумаете, тогда приходите завтра утром и принимайтесь за работу. С сегодняшнего дня вы будете получать двадцать пять долларов, и я хотел бы, чтобы вы были всегда одеты чиста и прилично и подавали хороший пример другим заведующим отделениями. Он встал, холодный и надменный; но Клайд, обрадованный тем, что его заработок вдруг повысили и что теперь можно одеваться прилично, был бесконечно благодарен за все своему двоюродному брату и потому искренне хотел сойтись с ним поближе. Конечно, Гилберт суров, холоден и заносчив, а все-таки, видимо, он, как и дядя, не забывает о Клайде, иначе они не перевели бы его на лучшее место, да еще так быстро. Если бы только подружиться с ним, завоевать его симпатию! Вот тогда Клайд мог бы занять действительно великолепное положение, тогда у него появились бы и знакомства и успех в свете. В отличном настроении, шагая бодро и уверенно, он вышел из огромной фабрики; он строил всевозможные планы на будущее, в частности, твердо решил испытать себя: на что он годен в жизни и в работе? Что бы ни случилось, он будет именно таким, каким явно хотят его видеть дядя и двоюродный брат; с работницами своего отделения он будет равнодушен, холоден и даже суров, если понадобится. И никаких отношений с Диллардом, с Ритой, с кем бы то ни было в этом роде, — во всяком случае, на ближайшее время.Глава 31
Получать двадцать пять долларов в неделю! Заведовать отделением, где работают двадцать пять девушек! Снова прилично одеваться! Сидеть за служебной конторкой в углу у окна, откуда открывается прекрасный вид на реку! — и, наконец, после двух месяцев тяжелой работы в жалком подвале чувствовать себя довольно значительной особой на этой огромной фабрике. И так как он — родственник Грифитсов и к тому же получил повышение, Уигэм и Лигет время от времени заходят к нему и любезно дают ему советы и указания. И некоторые заведующие других отделений и даже кое-кто из главной конторы — ревизор или агент по рекламе, проходя мимо, задерживаются, чтобы с ним поздороваться. Теперь, когда он достаточно освоился с новой работой, у него есть время осмотреться, узнать кое-что о фабрике в целом, о производственных процессах и снабжении. Он узнал, откуда берется это огромное количество полотна и бумажной ткани; узнал, что этажом выше, в огромном закройном цехе, сотни опытных высокооплачиваемых закройщиков выкраивают из этой ткани воротнички; узнал, что на фабрике есть особое бюро по найму рабочих и служащих, есть свой врач и своя больница, есть в главном здании своя столовая, где могут обедать одни только служащие фабрики, — теперь и Клайд, в качестве начальника отделения, мог бы завтракать здесь, если бы захотел и если бы решился тратить на это деньги. Скоро он узнал также, что в нескольких милях от Ликурга, на берегу реки Могаук, вблизи поселка Вантроуп, находится клуб для служащих ликургских фабрик; членами этого клуба состоят почти все начальники цехов окрестных фабрик, — но, увы, хозяева «Грифитс и К°» относятся неодобрительно к общению своих служащих со служащими других компаний — и мало кто решается пренебречь их неодобрением. Впрочем, как сказал однажды Лигет, Клайд — член семейства Грифитс — вероятно, мог бы записаться в клуб. Но помня о строгих наставлениях Гилберта и о своих высоких родственных связях, Клайд решил, что самое лучшее — держаться подальше от всех. И вот, неизменно любезный и приветливый с окружающими, он все же оказался теперь гораздо более одиноким, чем мог бы быть при других условиях; избегая Дилларда и ему подобных, он после работы одиноко сидел у себя в комнате, а в субботу и воскресенье вечерами бродил по улицам и бульварам Ликурга или соседних городов. Думая, что это будет приятно его дяде и двоюродному брату и поднимет его в их мнении, он даже начал посещать пресвитерианскую церковь, которую, как он узнал, посещали обычно Грифитсы. Однако он ни разу не встретил их там, потому что с июня до сентября они проводили субботы и воскресенья на Лесном озере, куда обычно перебиралось на лето все высшее общество Ликурга. В сущности, летом вся светская жизнь в Ликурге замирала. В самом городе в это время не происходило ничего интересного; а несколько раньше, в мае, все было по-другому. Клайд читал в местных газетах, а иногда и наблюдал издали, как развлекаются Грифитсы и их друзья: состоялся выпускной вечер и бал в школе Снедекер, где училась Белла; потом были устроены танцы у Грифитсов: над площадкой перед их домом был натянут полосатый тент, и на деревьях развешаны китайские фонарики. Клайд случайно увидел это, когда вечером, бродя в одиночестве по городу, дошел до их особняка. И снова он с жадным любопытством стал думать о Грифитсах, об их высоком положении и о своем родстве с ними. Но Грифитсы, удобно устроив его на незначительной и нетрудной должности, забыли и думать о нем. Ему теперь неплохо, а когда-нибудь после они, может быть, и пожелают снова его увидеть. Спустя некоторое время он прочел в ликургской газете «Стар», что 20 июня состоится традиционный праздник цветов и автомобильные состязания между соседними городами (Фондой, Гловерсвилом, Амстердамом и Скенэктеди); в этом году праздник состоится в Ликурге, и это будет, писала «Стар», последнее значительное событие в светской жизни города перед ежегодным переселением на озера и в горы всех тех, кто имеет возможность уехать в такие места. В числе участников состязания, которые должны защищать честь славного города Ликурга, были упомянуты Белла, Бертина, Сондра и, разумеется, Гилберт. Так как этот праздник пришелся на субботу, то Клайд (он был в своем лучшем костюме, но при этом старался остаться незамеченным в толпе зрителей) снова увидел девушку, Пленившую его с первого взгляда. Она плыла в челне на волнах белых роз, держа в руках весло, обвитое желтыми нарциссами, — все это изображало какую-то индейскую легенду, связанную с рекой Могаук. В волосах Сондры, убранных, как у индианки, красовалось желтое перо; она была так хороша, что не только завоевала приз, но и вторично поразила воображение Клайда. Что за счастье принадлежать к такому обществу! Затем Клайд увидел Гилберта в сопровождении очень красивой девушки: он правил одной из четырех машин, представлявших четыре времени года. Машина Гилберта изображала зиму, и девушка, закутанная в горностаи, стояла среди сплошной массы белых роз, заменявших снег. Следом шла другая машина, где Белла Грифитс олицетворяла весну; задрапированную в прозрачные ткани, ее наполовину скрывал водопад темных фиалок. Эффект был поразительный, и Клайдом овладели сладостные, но и мучительные мечты о любви, юности, любовных приключениях. В конце концов, быть может, напрасно он расстался с Ритой… А между тем жизнь Клайда шла по-прежнему, только у него теперь было больше времени предаваться своим мыслям. Когда ему повысили жалованье, он прежде всего подумал о том, чтобы найти себе комнату в каком-нибудь частном доме, хотя бы и дальше от фабрики, но на лучшей улице. Переехав от миссис Каппи, он окончательно расстанется с Диллардом. И, кроме того, теперь, когда его повысили в должности, может случиться, что кто-нибудь из приближенных Сэмюэла Грифитса или Гилберта зайдет к нему по делу. Что они скажут, если увидят, в какой комнатушке он живет? И через десять дней после нового назначения ему удалось благодаря своему звучному имени получить комнату в одном из лучших домов на Джефферсон-авеню — улице, которая шла параллельно Уикиги-авеню на расстоянии всего нескольких кварталов. Дом принадлежал вдове управляющего одной фабрики; ей приходилось сдавать две комнаты, чтобы справиться с расходами по дому, которые превышали ее скромные средства. Миссис Пейтон давно жила в Ликурге, много слышала о Грифитсах и сразу же заметила сходство Клайда с Гилбертом. Очень заинтересованная им и его приятной внешностью, она предложила ему прекрасную комнату всего за пять долларов в неделю, и он тотчас согласился. Шла своим чередом и его работа на фабрике; но хотя Клайд твердо решил не обращать внимания на подчиненных ему работниц, ему не всегда удавалось сосредоточиться на своих механически однообразных обязанностях и не замечать всех этих девушек, тем более, что некоторые из них были очень хорошенькие. Стояло жаркое лето — конец июня. К двум-трем часам дня на фабрике все уставали от бесконечного однообразия работы, и тогда всех охватывала слабость, какая-то почти чувственная истома. Тут были молодые женщины и девушки всех типов, с самыми характерами и настроениями, и все они, лишенные мужского общества, досуга, каких-либо развлечений, были, в сущности, заперты здесь наедине с Клайдом. Воздух в помещении почти всегда был душный и расслабляющий, а за раскрытыми огромными окнами виднелся Могаук, сверкающий мелкой рябью; берега его зеленым ковром устилала трава, кое-где росли группы тенистых деревьев. Казалось, все говорило о радостях, которые ждут тех, кто бродит по этим берегам. А так как работа была чисто механическая, то девушки могли размышлять о разных приятных вещах; большей частью они думали о себе и о том, что они стали бы делать, если бы не были прикованы к этой работе. Нередко их живое и пылкое воображение устремлялось на ближайший объект. А кроме Клайда, они здесь почти не видели мужчин; притом в эти летние дни он появлялся в лучшем своем костюме, — и невольно девушки сосредоточивали свое внимание на нем. Их головы были полны фантастических представлений о том, в каких он отношениях с Грифитсами и с подобными им людьми, где и как живет, какими девушками интересуется. В свою очередь, и Клайд, когда его не слишком угнетало воспоминание о наставлениях Гилберта, склонен был помечтать об этих девушках, особенно о некоторых из них, — и это были почти чувственные мечты. Вопреки всем пожеланиям «Компании Грифитс» и несмотря на разрыв с Ритой, а может быть, именно из-за этого, он постепенно заинтересовался тремя работницами. Они были не слишком набожны и нравственны, любили удовольствия и находили Клайда очень красивым. Вот каково было это трио. Руза Никофорич, американка русского происхождения, рослая чувственная блондинка с влажными темными глазами, вздернутым толстым носом и пухлым подбородком, сильно увлеклась Клайдом. Но он всегда держался так строго, что она даже самой себе не смела признаться в этом увлечении. Клайд, с его гладко причесанными на пробор волосами, в светлой в полоску рубашке, рукава которой он из-за жары засучивал до локтей, казался ей почти сверхъестественно красивым. Она восхищалась его начищенными до блеска коричневыми ботинками, черным кожаным поясом со сверкающей пряжкой, свободно и изящно завязанным галстуком. Была еще Марта Бордалу, крепкая, живая француженка из Канады, хорошо сложенная, хотя, пожалуй, слишком полная; у нее были медно-рыжие волосы, зеленовато-серые глаза, полные, розовые щеки и маленькие, пухлые руки. Невежественная и распущенная, она была бы в восторге, если бы Клайд пришел к ней хоть на час. При этом, необузданная и хищная по натуре, она ненавидела всех, кого подозревала в нежных чувствах к Клайду, и потому не выносила Рузу Никофорич. Она видела, что Руза пыталась задеть Клайда локтем или прислониться к нему, когда он подходил ближе. Между тем сама она пускала в ход все известные ей уловки: расстегивала блузку так, что видна была грудь, во время работы вздергивала юбку чуть не до колен, до плеч открывала полные, круглые руки, стараясь показать Клайду, что на нее стоит потратить время. Ее лукавые вздохи и томные взгляды, которые она бросала на Клайда, когда тот оказывался поблизости, заставили Рузу однажды воскликнуть: «Вот французская кошка! Станет он смотреть на нее!» Руза так ревновала, что ей ужасно хотелось ударить Марту. И, наконец, веселая толстуха Флора Брандт, типичная американка из низов, с вульгарным, но миловидным лицом; у нее были черные волосы, влажные черные глаза, затененные густыми ресницами, вздернутый нос, большой чувственный, но красивый рот и крупное, сильное и все же по-своему грациозное тело. Она изо дня в день смотрела на Клайда взглядом, который говорил: «Как! Я не нравлюсь тебе? Да как ты можешь меня не замечать? А ведь многие парни были бы в восторге, если бы им так повезло…» И, глядя на этих трех работниц, Клайд постепенно стал думать, что они совсем не похожи на других девушек: они проще, не так сдержанны и осторожны, не так связаны условностями в выборе знакомств, — а потому он, пожалуй, мог бы, не опасаясь впоследствии разоблачения с их стороны, позабавиться с одной из них — и даже со всеми тремя по очереди, если его интерес к ним под конец зашел бы так далеко. И все осталось бы в тайне, особенно если заранее дать им понять, что он оказывает им великую милость, удостаивая их хотя бы взглядом. Уж конечно, насколько можно судить по их поведению, они охотно вознаградят его и многое разрешат, и не будут в обиде, если он, чтобы сохранить свое место на фабрике, потом снова перестанет их замечать. Но он дал слово Гилберту Грифитсу и пока не собирался его нарушать. Все это были только мимолетные мысли, возникавшие потому, что Клайд «казался в слишком трудном положении. По натуре он был крайне чувствителен к женской красоте, всегда готов вспыхнуть, увлечься. Нелегко ему было противиться голосу пола. И заигрывания этих девушек порою, конечно, искушали его, особенно в эти жаркие, томительные летние дни, когда ему некуда было пойти и не с кем поговорить. Временами он не мог удержаться, чтобы не подойти к тем девушкам, которые с ним особенно кокетничали, впрочем, встречая их взгляды и замечая плохо замаскированные подчас попытки прикоснуться к нему, он сохранял непринужденный вид и поистине удивительное при его характере напускное равнодушие. В это время на фабрику поступило очень много заказов, и Уигэм и Лигет посоветовали Клайду взять дополнительно несколько девушек «на пробу»: речь шла о еще не обученных работницах, которые соглашались на очень низкую плату, поскольку, работая сдельно и не освоившись с техникой производства, они были не в состоянии зарабатывать больше. В отдел найма постоянно приходили люди, желавшие получить работу; в период затишья им отказывали или просто вывешивали объявления: «Рабочая сила не нужна». Так как Клайд все еще был сравнительно новичком в этом деле и ему до сих пор не приходилось кого-либо нанимать или рассчитывать, Уигэм и Лигет решили посылать ему только тех девушек, которых предварительно проверит сам Лигет; Лигету нужны были также добавочные швеи, и когда среди девушек, присланных к нему из отдела найма, он находил подходящих для штамповочной, то направлял их к Клайду на испытание. Лигет заранее объяснил ему установленный для этих случаев порядок: при найме и увольнении временных работниц новеньким, как бы они хорошо ни работали, нельзя давать понять, что ими довольны, пока не выяснится окончательно, на что они способны. Надо держать их в уверенности, что они работают только удовлетворительно, так как иначе из них не получится хороших сдельных работниц, которые постоянно стремились бы достигнуть наилучших результатов. В период, когда фабрика перегружена заказами, можно нанять таким образом сколько угодно девушек, а когда надобность минет, можно так же спокойно их рассчитать, — разве что какая-нибудь из них окажется особенно быстрой и ловкой работницей: такую всегда желательно сохранить на фабрике; для этого можно уволить какую-нибудь работницу похуже или перевести кого-нибудь из постоянных служащих на другую работу, чтобы дать место новому, усердному и энергичному человеку. На другой день после того, как было вывешено объявление, что на фабрике нужны работницы, Лигет в разное время привел к Клайду четырех девушек, каждый раз поясняя: «Вот мисс Тиндэл, — может быть, подойдет. Поставьте ее на испытание», или: «Посмотрите, может быть, эта девушка справится у вас с работой». Клайд задавал им обычные вопросы о том, где они работали раньше, какую именно исполняли работу, живут ли они здесь с семьей или одни (фабрика неохотно принимала одиноких девушек), объяснял, что представляет собой работа в штамповочной и как она оплачивается; затем подзывал мисс Тодд, и та вела девушке в гардеробную, указывала каждой шкафчик, куда можно повесить пальто, а потом подводила к рабочему столу и объясняла, что нужно делать. В дальнейшем Клайд и мисс Тодд должны были определить, стоит ли оставить ту или другую девушку на работе. До сих пор, если не считать тех трех девушек, которые определенно привлекали его, Клайду совсем не нравились здешние работницы. В большинстве они были неуклюжи и туповаты, и Клайд подумывал о том, что надо бы нанять хоть несколько хорошеньких. Почему бы нет? Неужели в Ликурге нет ни одной красивой работницы? А у всех этих штамповщиц такие широкие лица, большие, толстые руки и ноги! Многие работницы — польки по происхождению, дочери польских эмигрантов, живущих в трущобах к северу от фабрики, — даже говорят неправильно. Наверно, у них и мыслей никаких нет — разве лишь о том, чтобы найти себе «парнишку» и ходить с ним на танцы… Американки, как заметил Клайд, были другого типа, — более нервные, худощавые, и держались они в большинстве чопорно и сдержанно: расовые, моральные и религиозные предрассудки не позволяли им, видимо, сближаться ни с другими девушками, ни с кем-либо из мужчин. Но среди новых работниц, взятых на испытание в эти последние дни, появилась одна, которая заинтересовала Клайда больше всех девушек на фабрике. Она сразу показалась ему умнее и милее всех остальных, более одухотворенной; изящно и пропорционально сложенная, она, видимо, физически была не слабее других. Увидев ее впервые, Клайд решил, что в ней есть какое-то особенное очарование, не свойственное ни одной из этих девушек. В ней чувствовалась какая-то вдумчивость и пытливость и вместе с тем определенная смелость и решительность и вера в себя — черты человека с сильной волей и твердыми убеждениями. Тем не менее она призналась, что у нее нет опыта в подобной работе и она не знает, сумеет ли справиться с делом. Ее звали Роберта Олден; раньше она работала на маленькой трикотажной фабрике в городке Трипетс-Милс, в пятидесяти милях к северу от Ликурга. На ней была далеко не новая коричневая шляпка, низко надвинутая на лоб, совсем простой костюм, довольно поношенные туфли на толстой подошве. Небольшое, миловидное лицо с правильными чертами окружал золотистый ореол светло-каштановых волос. У нее были очень ясные серо-голубые глаза. Она казалась деловитой и серьезной и в то же время такой веселой, чистой и искренней, так была полна надежды и энергии, что сразу понравилась Клайду, как и Лигету, который говорил с нею первым. По своему развитию она явно была выше работниц штамповочной. Во время разговора с нею Клайда удивило ее волнение: она так беспокоилась, словно для нее было страшно важно поступить сюда. Она сказала, что до сих пор жила со своими родителями вблизи маленького городка Бильца, а теперь живет здесь у своих друзей. Она говорила так откровенно и просто, что Клайд почувствовал симпатию к ней и решил ей помочь. Но при этом он подумал, что она заслуживает лучшего, чем работа в штамповочной. У нее такие умные большие голубые глаза, а рот и нос, уши и руки такие маленькие и милые, любо посмотреть. — Значит, вы будете жить в Ликурге, если получите у нас работу? — сказал он просто для того, чтобы еще немного поговорить с нею. — Да, — ответила она, открыто и прямо глядя на него. — Стало быть, как вас зовут? — Клайд раскрыл блокнот. — Роберта Олден. — Ваш здешний адрес? — Тэйлор-стрит, двести двадцать восемь. — Я даже не знаю, где это, — заметил Клайд: ему нравилось разговаривать с ней. — Знаете, я тоже недавно в Ликурге. — Он сам удивился, почему ему вздумалось сразу же заговорить с нею о себе. Потом прибавил: — Не знаю, все ли вам объяснил мистер Лигет. У нас тут сдельная работа, надо штемпелевать воротнички. Пойдемте, я вам покажу. — И он провел ее к ближайшему столу, за которым работали штамповщицы. Он дал ей понаблюдать за ними, а затем, не прибегая к помощи мисс Тодд, взял со стола воротничок и подробно объяснил, что и как надо делать, — все это еще недавно объясняли ему самому. Она слушала так серьезно, такнапряженно следила за каждым его движением, что он даже смутился немного и взволновался. Ее взгляд был странно проницателен и пытлив. Когда Клайд снова повторил, сколько платят за каждую пачку воротничков, и как много вырабатывают некоторые штамповщицы, и как мало успевают другие, она захотела попробовать; он подозвал мисс Тодд, и та отвела девушку в гардеробную, чтобы она повесила в шкафчик пальто и шляпу. Вскоре она вернулась; пушистые светлые волосы обрамляли ее лоб, щеки слегка зарумянились, глаза смотрели внимательно и серьезно. По совету мисс Тодд она засучила рукава, обнажив до локтя красивые руки. И по первым же ее движениям Клайд понял, что она будет быстрой и аккуратной работницей. Видно было, что ей страстно хочется получить это место. Немного погодя он подошел к ней и стал смотреть, как она один за другим берет воротнички из лежащей рядом стопки, ставит штамп и потом быстро откладывает их в сторону. Она действительно работала проворно и аккуратно. И когда, обернувшись на мгновение, она наивно, но смело и весело улыбнулась ему, он ответил улыбкой, очень довольный. — Ну, я вижу, вы отлично справитесь, — отважился он сказать, чувствуя, что она и в самом деле справится. Она снова мельком улыбнулась ему, и Клайд невольно ощутил глубокое волнение. Она мгновенно пленила его, но его положение здесь и обещание, данное Гилберту, обязывали воздерживаться от проявления симпатий к своим подчиненным, даже и к такой очаровательной девушке. Иначе нельзя. Он должен быть так же осторожен с нею, как и со всеми остальными, — но это уже казалось ему странным, так сильно его влекло к ней. Она такая милая и хорошенькая. И, однако, она всего лишь работница, — фабричная девчонка, сказал бы Гилберт, — а он, Клайд, ее начальник… и все-таки она очень милая и хорошенькая. Он поспешно отошел к другим девушкам, принятым в тот же день, а затем попросил мисс Тодд поскорее дать ему отзыв о мисс Олден: он хочет знать, справляется ли она с работой. В ту самую минуту, когда он обратился к Роберте и та в ответ улыбнулась ему, Руза Никофорич, работавшая от нее через два стола, подтолкнула локтем свою соседку и незаметно, взглядом и легким кивком, показала на Клайда и Роберту. Ее подруга внимательно посмотрела на них. А когда Клайд отошел и Роберта вновь принялась за работу, эта девушка наклонилась и шепнула Рузе: — Он уже уверен, что она справится! — Она подняла брови и поджала губы. И Руза ответила так тихо, что больше никто не мог услышать: — Быстро пошло дело! А раньше он и смотреть ни на кого не хотел. И обе понимающе улыбнулись, уязвленные выбором Клайда. Руза Никофорич была ревнива.Глава 32
Совсем особые причины заставили Роберту Олден искать места на фабрике «Грифитс и К°», да еще столь скромного. Подобно Клайду, недовольная своей семьей и своей жизнью, она думала о собственной судьбе с чувством глубокого разочарования. У ее отца Тайтуса Олдена была ферма неподалеку от Бильца — городка в округе Маймико, милях в пятидесяти к северу от Ликурга. С самого детства Роберта не видела ничего, кроме бедности. Ее отец, младший из трех сыновей Эфраима Олдена, такого же фермера, был неудачником; в сорок восемь лет он жил все в том же доме, который достался ему от отца и еще тогда был стар и требовал ремонта, а теперь пришел в полную ветхость. Дом этот был некогда прелестным образцом превосходного вкуса, создавшего очаровательные домики с остроконечными крышами — украшение небольших городов Новой Англии, но стены его были давным-давно не крашены, недоставало многих черепиц на крыше и каменных плит на дорожке, ведущей от калитки к дверям, и весь он теперь выглядел так плачевно, словно готов был сказать со старческим кашлем: «Да, плохи мои дела!» Внутренность дома соответствовала его внешнему виду. Полы и ступени лестницы расшатались и отчаянно скрипели; далеко не на всех окнах уцелели ставни. Мебель — и старинная, и более позднего происхождения — вся обветшала и была перемешана в неописуемом беспорядке, который, впрочем, и нет нужды описывать. Родители Роберты были классическими американцами старого склада — из тех, что отвергают факты и чтут иллюзии. Тайтус Олден был одним из множества людей, которые рождаются, живут и умирают, так ничего и не поняв в жизни. Они появляются, бредут наугад и исчезают во мгле. Подобно своим двум старшим братьям — людям с весьма смутными, туманными понятиями и представлениями, — Тайтус жил словно вслепую; фермером он стал только потому, что и отец его был фермер. Ферма досталась ему по наследству, вот он и жил на ней: оставаться и кое-как работать здесь было проще, чем искать счастья где-то в другом месте. Он состоял в республиканской партии, потому что до него республиканцем был его отец и потому что весь их округ стоял за республиканцев. Ему и в голову не приходило, что может быть иначе. Свои политические и религиозные воззрения, все представления о том, что хорошо и что плохо, он заимствовал от окружающих. Никогда ни одному члену этой семьи не довелось прочесть ни одной серьезной, умной и правдивой книги. Но все же, с точки зрения религиозных и моральных условностей, это были превосходные люди, честные, прямые, почтенные и богобоязненные. Дочь таких родителей, хоть и одаренная от природы качествами, возвышавшими ее над окружающей средой, не могла не быть в значительной мере продуктом этой среды; в ее сознании отразились преобладавшие здесь религиозные и нравственные понятия — взгляды местных пасторов и их прихожан. Но при этом она отличалась пылким темпераментом и живым воображением, и уже лет с пятнадцати ею овладела старая, как мир, мечта всех дочерей Евы от самых безобразных до самых прекрасных: что ее красота и обаяние когда-нибудь — и скоро — с колдовской и неодолимой силой поразят некоего мужчину или мужчин. И хотя все годы детства и юности ей пришлось провести среди тяжкой бедности и лишений, она всегда мечтала о чем-то лучшем. Кто знает, быть может, где-то там, впереди — большой город вроде Олбайи или Утики… и новая, прекрасная жизнь! Какие мечты! Когда ей было четырнадцать, пятнадцать, восемнадцать лет, она любила выйти весенним утром в фруктовый сад; раннее майское солнце зажигало розовые огоньки на каждом старом дереве, землю розовым ковром устилали душистые опавшие лепестки, а она стояла, глубоко дыша, и порой смеялась или вздыхала, широко раскрывая объятия навстречу жизни. Она живет! Она молода — и перед ней весь мир! Она вспоминает глаза и улыбку юноши, что живет по соседству, — он случайно проходил мимо и взглянул на нее, и может быть, никогда больше не взглянет, а все же он пробудил столько грез в ее душе… И, однако, она была очень застенчива, а потому и необщительна; она побаивалась мужчин — особенно заурядных, грубых местных жителей, и они, в свою очередь, избегали ее: их отталкивала ее застенчивость и сдержанность, а ее красота казалась в этих краях слишком утонченной. Правда, шестнадцати лет она переехала в Бильц и поступила на службу в мануфактурный магазин Эплмена за пять долларов в неделю и здесь стала встречать молодых людей, которые ей нравились. Но она была слишком невысокого мнения о своей семье, и ее неопытному глазу казалось, что положение этих юношей куда лучше ее собственного, а потому они не могут ею интересоваться, — и она своим поведением сама отпугивала их. Все же она работала у Эплмена почти до девятнадцати лет, все время сознавая, что ничего не может для себя сделать, потому что слишком тесно связана с родными, которые нуждаются в ее помощи. А потом произошло событие, которое для этого уголка означало чуть ли не революцию. Так как в этой сугубо земледельческой местности был очень дешев труд, то в городке Трипетс-Милс открылась маленькая трикотажная фабрика. И хотя Роберта, следуя общепринятым здесь понятиям и нормам, воображала, будто такого рода труд ниже ее достоинства, все же ее соблазнили слухи, что на фабрике хорошо платят. Итак, она переехала в Трипетс-Милс, поселилась там у одной знакомой, жившей раньше в Бильце, и каждую субботу приезжала домой; она мечтала скопить немного денег, чтобы затем пройти курс в коммерческой школе где-нибудь в Ликурге или Гомере, изучить счетоводство или стенографию, словом — занятие, которое откроет перед нею какое-то лучшее будущее. В этих мечтах и попытках отложить немного денег прошло два года. Роберта зарабатывала все больше (под конец двенадцать долларов в неделю), но ее родные во многом нуждались, а ей хотелось по возможности уменьшить их лишения, от которых она сама так страдала, и потому почти весь ее заработок уходил на семью. Здесь, как и в Бильце, большинство молодых людей, которые были ближе ей по развитию и по характеру, смотрели на фабричных работниц свысока, словно на существа второго сорта. И хотя Роберта отнюдь не была работницей обычного типа, все же, постоянно общаясь с этими девушками, она усвоила их психологию, их пренебрежение к самим себе. Именно тогда она прониклась убеждением, что никто из молодых людей, которые ей нравятся, не заинтересуется ею, а если и заинтересуется, то уж, во всяком случае, не с серьезными намерениями. Два события заставили ее всерьез задуматься не только о браке, но и о будущем вообще, независимо от того, выйдет ли она замуж. Ее двадцатилетняя сестра Агнесса (она была тремя годами моложе Роберты) вновь встретила недавно молодого учителя, который преподавал раньше в школе по соседству с фермой Олденов; теперь он пришелся ей больше по вкусу, чем во времена, когда она была школьницей, и она решила выйти за него замуж. И Роберта поняла, что если она тоже не выйдет в ближайшее время замуж, ее станут считать старой девой, а пока она раздумывала об этом, фабрика в Трипетс-Милс внезапно и окончательно закрылась, и Роберта вернулась в Бильц, чтобы помогать матери по хозяйству, а заодно помочь сестре в приготовлениях к свадьбе. Но тут произошло еще и третье событие, изменившее планы и мечты Роберты. Грейс Марр, девушка, которую она знала по Трипетс-Милс, уехала в Ликург, через несколько недель устроилась там на фабрике Финчли и стала зарабатывать пятнадцать долларов в неделю. Она написала Роберте, что в Ликурге можно получить работу — фабрика «Грифитс и К°», мимо которой она проходит каждый день, вывесила объявление «Требуются работницы». Из расспросов выяснилось, что там девушкам на первых порах платят девять или десять долларов, но быстро обучают какой-нибудь специальности, и тогда, работая сдельно, можно заработать от четырнадцати до шестнадцати долларов в неделю, смотря по способностям. На стол и на комнату нужно только семь долларов, и Грейс разумно предлагала Роберте, к которой была очень привязана, приехать и поселиться с ней вместе. Роберта к этому времени почувствовала, что жизнь на ферме стала для нее невыносима, надо как-то устраивать свою судьбу; в конце концов она уговорила мать отпустить ее, — ведь, работая на фабрике, она сумеет помогать семье. Поселившись в Ликурге и получив место под начальством Клайда, Роберта под влиянием такой огромной перемены испытала короткую вспышку эгоистической радости; но очень скоро оказалось, что вся ее жизнь здесь — и материальное положение и круг знакомств — так же скудны, как в Бильце и Трипетс-Милс. Правда, к ней была искренне привязана Грейс Марр: эта бесцветная девушка надеялась, что красивая и веселая Роберта (чья веселость была несколько наигранной) внесет в ее жизнь то, чего ей так недоставало, — оживление и дружбу; но среда, в которой оказалась здесь Роберта, не отличалась ни большим разнообразием, ни большей свободой мысли, чем та, из которой она вышла. Начать с того, что Ньютоны — сестра и зять Грейс, у которых она жила, — люди, несомненно, добрые, были все же самыми заурядными рабочими из маленького провинциального городка, даже еще более религиозными и ограниченными, чем те, с кем Роберта постоянно сталкивалась раньше в Бильце и в Трипетс-Милс. Джордж Ньютон — это всякому бросалось в глаза — был славный малый, отнюдь не чувствительный и не романтик. Свои дела и планы на будущее он ставил превыше всего на свете. Он служил на фабрике Крэнстонов и откладывал из своего заработка все, что мог, рассчитывая скопить денег и открыть когда-нибудь собственное дело. Ради этой цели, чтобы как-то пополнить свои скудные сбережения, чета Ньютонов решила снять старый дом на Тэйлор-стрит, где можно было сдавать несколько комнат; это приносило кое-какой доход и даже позволяло сносно кормить и семью и пятерых постояльцев — а собственный труд и хлопоты, связанные со сдачей комнат, Ньютоны не ставили ни во что. Жена Ньютона Мэри да и сама Грейс Марр принадлежали к очень распространенному типу женщин, чьи интересы ограничены самыми узкими рамками: они вполне удовлетворены, если им удалось создать свой маленький семейный очаг, заслужить уважение незначительных, ограниченных соседей, и смотрят на жизнь и на людей сквозь призму чисто сектантских верований. Поселившись у Ньютонов, Роберта скоро убедилась, что если не во всем Ликурге, то по крайней мере в этой семье царят та же узость и ограниченность, как и во многих знакомых ей семьях в Бильце. Есть рамки, которые, по мнению Ньютонов и им подобных, необходимо строго соблюдать. Нарушение их ни к чему хорошему не ведет. Если ты работаешь на фабрике, тебе следует полностью приспособиться к жизни и обычаям лучшей, добропорядочной части фабричных рабочих… Итак, поселившись здесь, Роберта каждое утро в обществе Грейс и других постояльцев — двух работниц с фабрики Крэнстона и молодого монтера с городской электростанции — наспех глотала в столовой Ньютонов весьма посредственный завтрак и тотчас, выйдя на улицу, присоединялась к нескончаемой процессии, которая день за днем в этот час направлялась за реку, в фабричный район. Едва переступив порог, она неизменно попадала в поток рабочих и работниц примерно своего возраста, не говоря уже о множестве пожилых, изможденных женщин, куда больше похожих на привидения, чем на живые существа; они выходили из всех соседних домов, из всех близлежащих улиц. Ближе к Сентрал-авеню толпа густела, так как со всех сторон в нее вливались новые людские потоки, и всегда в этой толпе находились охотники завести знакомство с девушками покрасивее; Роберта замечала их взгляды и понимала, что они ищут легких развлечений, чтобы не сказать хуже. А иные девушки, — далеко не отличавшиеся строгостью нрава, присущей тем, кого она встречала до Ликурга, — отвечали на заигрыванье хихиканьем и глупыми улыбками. Какой стыд! А вечером, когда кончалась работа на фабриках, такая же толпа пускалась в обратный путь через мост у вокзала. И таково было воспитание Роберты и усвоенная ею мораль, что, несмотря на свою красоту, решительный вид и пылкий нрав, она оставалась одинокой и никем не замеченной. А как это грустно, когда все вокруг веселы, а ты живешь одиноко! Она всегда возвращалась домой в седьмом часу, а после обеда просто нечего было делать: нередко они с Грейс шли куда-нибудь в кино; иногда Роберта даже заставляла себя пойти вместе с Грейс и Ньютонами на собраний прихожан методистской церкви. И все же, войдя в эту семью и работая у Клайда, она радовалась перемене в своей жизни. Какой большой город! Как красива Сентрал-авеню с ее магазинами и кинематографом! И эти огромные фабрики! И мистер Грифитс — такой молодой, красивый, улыбающийся… И она ему нравится.Глава 33
Клайд тоже волновался при встрече с Робертой. Отношения его с Диллардом, Ритой и Зеллой оборвались, приглашение в дом Грифитсов, где ему удалось лишь мельком увидеть настоящих светских девушек — Беллу, Сондру Финчли и Бертину Крэнстон, — было, видимо, случайным и не имело последствий, и теперь он чувствовал себя очень одиноким. Ах, этот высший свет! Но Клайду явно закрыт доступ туда. А между тем в тщеславной надежде на это он порвал все другие знакомства. Для чего он это сделал? Никогда еще он не был так одинок. Общество миссис Пейтон! Только и остается по дороге на работу или с работы перекинуться иной раз ничего не значащими приветливыми словами с каким-нибудь владельцем магазина на Сентрал-авеню, если тому заблагорассудится его окликнуть, или раскланяться с кем-нибудь из работниц; но они его не интересовали, да он и не решался познакомиться с ними поближе. Но ведь это все равно что ничего! Да, но зато он — Грифитс, и уже по одному этому вправе рассчитывать на уважение и почтительность всех этих людей. Ну и неразбериха! Что же делать? Тем временем Роберта Олден немного привыкла к новой обстановке, лучше поняла, каково положение Клайда на фабрике и какой он привлекательный, заметила и его робкое, но все же несомненное внимание к ней, — и начала с тревогой думать о будущем. Живя в семье Ньютонов, она поняла, что принятые в Ликурге нормы поведения, видимо, раз и навсегда запрещают ей проявлять какой-либо интерес к Клайду или к кому бы то ни было из фабричного начальства: по местным понятиям, работница не имеет права влюбиться в начальника или допустить, чтобы начальник увлекся ею. Богобоязненные, порядочные и скромные девушки не позволяют себе этого. Она вскоре поняла, что граница, разделяющая в Ликурге бедных и богатых, столь резка, словно одни отделены от других взмахом ножа или высокой стеной. Было и еще одно «табу», касавшееся работниц и рабочих из иммигрантских семей: все они — неамериканцы, а значит, невежественны, безнравственны, люди низшей породы! С ними ни в коем случае нельзя иметь ничего общего! Роберта узнала также, что в том мелкобуржуазном кругу, к которому принадлежала она сама и ее друзья, в среде религиозной и строго нравственной, — такие развлечения, как танцы, прогулки по улицам, посещение кино, тоже под запретом. А она как раз в это время стала интересоваться танцами. Хуже того: молодые люди и девушки — прихожане той церкви, которую начали посещать Роберта и Грейс, — не склонны были относиться к ним, как к равным; все это была молодежь из сравнительно более зажиточных семей — старожилов Ликурга. Роберта и Грейс некоторое время посещали церковные богослужения и собрания, но жизнь их от этого не изменилась: они были безупречны, и их допускали в это общество, но не приглашали в гости и на вечера, и они не участвовали ни в каких развлечениях, доступных другим прихожанам, занимавшим лучшее положение. Встретив Клайда, Роберта увлеклась им и притом вообразила, что он принадлежит к некоему высшему обществу. И в душу ей проник тот же яд беспокойного тщеславия, который отравлял и Клайда. Каждый день на фабрике она невольно чувствовала на себе его настойчивый, пытливый и все же неуверенный взгляд. И чувствовала также, что он не решается сделать попытку к сближению, боясь встретить отпор. Уже две недели она работала здесь, и теперь ей часто хотелось, чтобы он с нею заговорил, чтобы стал предприимчивее, но она тут же пугалась: нет, он не должен приближаться к ней. Это ужасно! Невозможно! Другие девушки сразу заметят. Они явно считают, что он слишком хорош для них и слишком им чужд, — а если он станет относиться к ней иначе, чем ко всем остальным, они истолкуют это по-своему. Роберта знала — эти девушки найдут всему только одно объяснение: решат, что она распутная. А Клайд слишком хорошо помнил правила, о которых говорил ему Гилберт. До сих пор, строго соблюдая их, Клайд держался так, словно не замечал девушек и ни одной из них не оказывал предпочтения, но теперь, когда появилась Роберта, он часто, почти бессознательно, подходил к ее столу и смотрел, как быстро и ловко она работает. Как он и ожидал, она оказалась хорошей, толковой работницей, очень скоро, без чьих-либо советов и наставлений, сама поняла все хитрости и приемы работы и стала зарабатывать не меньше других — пятнадцать долларов в неделю. И по ней всегда было видно, что работа здесь для нее — удовольствие, счастье и что ее радует малейший знак внимания со стороны Клайда. Она казалась ему утонченной, совсем непохожей на других, и он с тем большим удивлением заметил в ее поведении вспышки своеобразной веселости, не только эмоциональной, но на особый, поэтический лад даже чувственной. Несмотря на свою сдержанность, она была в дружеских отношениях с девушками-иммигрантками, так непохожими на нее, и, видимо, прекрасно находила с ними общий язык. Прислушиваясь к ее разговорам о работе с Леной Шликт, Одой Петканас, Анжеликой Питти и другими девушками, которые быстро стали заговаривать с нею, Клайд решил, что она далеко не так строга и надменна, как остальные американки. Но и они, видимо, относились к ней с уважением. Как-то в полуденный перерыв, вернувшись из столовой раньше обычного, он увидел, что Роберта, несколько девушек-иммигранток и четыре американки окружили польку Марию; эта бойкая, развязная особа довольно громко рассказывала, как парень, с которым она познакомилась накануне, подарил ей бисерную сумочку и с какой целью. — Он хочет, чтоб я взяла эту вещичку и стала его милкой, — хвастливо объявила она, размахивая сумочкой перед глазами заинтересованных слушательниц. — Надо об этом подумать. А славная сумочка, верно? — Она подняла ее и повертела во все стороны, затем прибавила вызывающе, с напускной серьезностью махнув сумочкой в сторону Роберты: — Как мне быть, скажи? Взять сумку и стать его милкой или отдать ее назад? Мне ужасно нравится эта сумка, ей-богу! Клайд ожидал, что, в полном соответствии с правилами, в которых она воспитывалась, Роберта возмутится. Ничуть не бывало! Судя по ее лицу, она просто от души забавлялась. — Все зависит от того, красивый ли он, Мария, — ответила она, весело улыбаясь. — Если он очень славный, я бы немножко поводила его за нос, а пока что подержала бы сумочку у себя. — Но он не хочет ждать, — лукаво заявила Мария, явно сознавая пикантность положения (при этом она подмигнула Клайду, который подошел ближе). — Я должна сегодня же стать его милкой, не то придется отдать ему сумочку, а сама я никогда не смогу купить такую шикарную сумку! — Она с лукавым и озорным видом смотрела на сумочку, комически наморщив нос. — Как же мне быть? «Пожалуй, это слишком для такой скромной провинциалочки, как мисс Олден. Это ей не понравится», — подумал Клайд. Но Роберта оказалась на высоте: она притворилась встревоженной. — Ох, трудно тебе приходится, — сказала она. — Не представляю, что ты будешь делать! Она широко раскрыла глаза и изобразила на лице величайшую озабоченность. Клайд видел, что она только играет, но играет превосходно. И тут кудрявая голландка Лена заявила: — Ей-богу, я возьму сумку и парня тоже, если он тебе не нужен. Где его найти? У меня сейчас нет милого. Она протянула руку, словно собираясь взять у Марии сумочку; та столь же поспешно отступила, и почти все девушки, которые слышали все это и от души потешались над грубой шуткой, завизжали от восторга. Даже Роберта громко засмеялась, и Клайду это было приятно: ему нравился грубый юмор, пока дело ограничивалось невинной забавой. Когда послышался гудок и в соседнем помещении зажужжали сотни швейных машин, он услышал, как Роберта сказала: — Пожалуй, ты права, Лена. Хорошего человека встречаешь не каждый день. Ее глубокие глаза блестели, соблазнительные губы раскрылись в улыбке. Клайд понимал, что она поддразнивает и шутит, а не говорит всерьез, но чувствовал также, что она совсем не такая ограниченная, как он опасался. Оказывается, она и человечная, и веселая, и снисходительная, и добродушная, и чувство юмора у нее есть. И хотя она бедно одета и ходит все в той же коричневой шляпке и синем платье, в которых пришла на работу в первый день, она красивее всех остальных работниц. И ей незачем красить губы и щеки, как это делают девушки-иммигрантки, чьи лица иной раз походят на расписные пряники. А как хороши ее руки и шея, округлые и изящные, и с какой грацией и увлечением она работает, словно это доставляет ей истинное удовольствие! От напряженной работы в самые жаркие часы у нее на верхней губе, на лбу и на подбородке выступают капельки пота; прервав на мгновение работу, она вытирает их платком, а Клайду кажется, что они, как жемчужины, только делают ее еще очаровательнее. То были для Клайда удивительные дни. Снова — и в таких условиях, что он целыми днями мог быть вблизи нее, — в его жизни появилась девушка, о которой он думал, которой восхищался и к которой постепенно стал стремиться со всей страстностью, на какую был способен, — как стремился прежде к Гортензии Бригс, но с более приятным чувством, так как он видел, что Роберта гораздо проще, добрее и порядочнее. И хотя на первых порах она довольно долго казалась (или притворялась) совершенно равнодушной и словно не замечала его, на самом деле все это с самого начала было неправдой. Она просто не знала, как себя вести. Он красивый, думала она, руки у него красивые, и мягкие темные волосы, а черные глаза такие грустные и нежные. Он привлекателен — даже очень! Настоящий красавец! Однажды в отделение зашел Гилберт Грифитс и заговорил о чем-то с Клайдом — и поэтому Роберта вообразила, что Клайд человек гораздо более состоятельный и с лучшим положением в обществе, чем она думала раньше. К тому же, едва появился Гилберт, ее соседка Лена Шликт, наклонясь к ней, сказала: — Это мистер Гилберт Грифитс. Вся фабрика принадлежит его отцу, и, говорят, когда отец умрет, все перейдет к нему. Они двоюродные братья, — прибавила она, кивнув в сторону Клайда. — Очень похожи, правда? — Да, очень, — сказала Роберта, украдкой рассматривая обоих молодых людей. — Только мне кажется, мистер Клайд красивее, — как по-твоему? Ода Петканас, сидевшая по другую сторону Роберты и слышавшая ее слова, рассмеялась: — Это всем так кажется! И он не такой гордый, как мистер Гилберт. — А он тоже богатый? — спросила Роберта, думая о Клайде. — Не знаю. Говорят, что нет. — На лице Оды выразилось сомнение. Она, как и остальные девушки, живо интересовалась Клайдом. — Он прежде работал в декатировочной. По-моему, он просто работал поденно, как и все. Но, говорят, он только недавно приехал сюда, чтобы познакомиться с делом. Может быть, он здесь ненадолго. Роберта вдруг огорчилась, услышав это; до сих пор она старалась уверить себя, что не думает о Клайде как о человеке, которого могла бы полюбить, но теперь, представив себе, что он в любой день может неожиданно уехать и она никогда больше его не увидит, она почувствовала странное волнение. Он такой молодой, красивый, обаятельный. И ведь она ему нравится, это ясно. Нет, об этом не следует думать. И она не должна пытаться ни взглядом, ни движением привлечь его внимание. Ведь он здесь такая важная персона, настолько выше ее… Услыхав о высоких родственных связях Клайда и о его предполагаемом богатстве, верная своим понятиям Роберта решила, что он, конечно, не может интересоваться ею с серьезными намерениями. Ведь она — бедная работница. А он — племянник такого богача… Конечно, он не женится на ней. А какие же другие отношения могут быть между ними? Нет, осторожность прежде всего.Глава 34
В эти дни мысли Клайда о Роберте и его собственном положении в Ликурге были путаны и тревожны. Разве Гилберт не предупреждал его, чтобы он не заводил никаких знакомств с работницами? С другой стороны, у него все еще нет ни знакомых, ни какого-либо положения в обществе и по-прежнему он очень одинок. Правда, поселившись у миссис Пейтон, он оказался на лучшей улице, в лучшем районе, — но, в сущности, ему здесь даже хуже, чем у миссис Каппи. Там он, по крайней мере, встречался с молодежью вроде Дилларда и не скучал бы, если бы позволил себе сблизиться с нею. А здесь, кроме брата миссис Пейтон, холостяка примерно одних с нею лет, и ее тридцатилетнего сына, болезненного и замкнутого, служащего в одном из ликургских банков, он не видит никого, кто бы мог и хотел его развлечь. Как и все, с кем ему приходилось встречаться, его новые хозяева думают, что он не нуждается в их обществе: у него есть родные и знакомые, и было бы некрасиво ему навязываться. С другой стороны, хотя Роберта и не принадлежит к тому высшему обществу, к которому он теперь стремится, она прелестна! Клайда неудержимо влекло к этой девушке. День за днем полное одиночество, а еще больше властный инстинкт толкали его к ней; его то и дело тянуло посмотреть на нее, а ее — на него. Их взгляды на мгновение встречались исподтишка, напряженные, лихорадочные. И от одного беглого взгляда, который Роберта бросала на него украдкой, вовсе не желая, чтобы Клайд это заметил, его порой охватывали лихорадка и слабость. Какой у нее прелестный рот, большие ласковые глаза, сияющая и в то же время часто застенчивая и боязливая улыбка! А какие прелестные руки, какая гибкая фигурка, быстрые и ловкие движения! Если бы подружиться с ней, заговорить, встретиться где-нибудь… если б только она захотела, а он осмелился! Смущение. Страстное желание. Долгие часы жгучего томления. Что и говорить, Клайда не только озадачивали, но и возмущали нелепые, ненормальные противоречия, которыми была полна здесь его жизнь: он одинок и заброшен, а между тем все окружающие полагают, что он вращается в веселом и приятном обществе. И чтобы развлечься немного — так, как подобает ему в его теперешнем положении, и своим отсутствием поддержать общее заблуждение, будто он приятно проводит время в хорошем обществе, он стал уезжать на субботу и воскресенье в Гловерсвил, Фонду, Амстердам или на озера Серое и Крам: там были купальни, хорошие пляжи и можно было брать напрокат купальные костюмы и лодки. Клайд всегда думал, что на случай, если Грифитсы когда-нибудь приблизят его к себе, ему следует приобрести манеры и привычки светского человека; случайный знакомый — отличный спортсмен — научил его прекрасно плавать и нырять, но особенно увлекся он греблей. Он с удовольствием сознавал, что выглядит очень живописно, когда в рубашке с открытым воротом, в парусиновых туфлях выплывает на середину озера Крам в ярко-красной, зеленой или синей байдарке, — их давали напрокат по часам. В эту летнюю пору все вокруг казалось каким-то воздушным, сказочным, особенно если высоко над головой таяли в синеве два-три облачка. И Клайд среди бела дня начинал грезить о том, как бы он чувствовал себя, став членом одной из тех богатых компаний, которые посещают более модные северные окрестности Ликурга — озера Рэкет или Скрун, или Джордж и Чемплейн. Он представлял себе танцы, игру в гольф и теннис, катание по озеру на лодках в обществе самых богатых людей Ликурга — тех, кто может позволить себе ездить по таким местам. Примерно в это же время Роберта и ее подруга Грейс открыли существование озера Крам и выбрали его, с одобрения четы Ньютон, как лучшее и самое тихое местечко для купанья за городом. Им тоже понравилось приезжать сюда по субботам и воскресеньям после полудня; они шли по протоптанной пешеходами тропинке вдоль западного берега, на котором кое-где стояли отдельные группы деревьев, садились под деревом и смотрели на воду: они не умели ни грести, ни плавать. Вокруг росли полевые цветы и было вдоволь ежевики. Кое-где, пробравшись по топкому болотистому берегу, можно было дотянуться до белых водяных лилий с их нежными желтыми сердечками. Они были ужасно соблазнительны, и девушки уже два раза приносили миссис Ньютон целые охапки полевых и водяных цветов. В третье воскресенье июля Клайд, сняв пиджак и шляпу, по-прежнему одинокий и недовольный, скользил в темно-синей байдарке вдоль южного берега озера в полутора милях от купален; он чувствовал себя неудовлетворенным и обиженным и предавался тщеславным мечтам о жизни, какую ему хотелось бы вести. На озере там и сям виднелись байдарки и неуклюжие, по сравнению с ними, большие лодки, и до Клайда порою долетали обрывки разговора и веселый смех юношей и девушек, мужчин и женщин. Иной раз Клайд замечал вдалеке байдарку с другим таким же мечтателем и всегда решал, что это счастливый влюбленный… Не то что он в своем одиночестве. Уже один вид других молодых людей и их подруг будил в Клайде страстные желания, подавленные и мятежные. И тогда воображение рисовало ему иную картину: если бы только судьба была благосклоннее к нему, если бы он родился в другой семье, теперь он плыл бы в байдарке по озеру Скрун, или Рэкет, или Чемплейн с какой-нибудь девушкой вроде Сондры Финчли и любовался более красивыми берегами. И разве он не мог бы кататься верхом, играть в теннис, танцевать по вечерам, разъезжать повсюду вместе с Сондрой на мощной быстроходной машине? Он чувствовал себя таким отверженным и одиноким, что не находил покоя; окружающее терзало его: ему казалось, кругом, куда ни глянь, повсюду любовь, романтика, довольство. Что же делать? Куда деваться? Не может же он вечно жить в одиночестве. Он слишком несчастен. Его мысли и память обращались к прошлому, к немногим счастливым веселым дням, которые он провел в Канзас-Сити перед тем страшным несчастьем… Он вспоминал Ретерера, Хегленда, Хигби, Тину Когел, Гортензию, сестру Ретерера Луизу — словом, ту веселую компанию, с которой он начинал сживаться как раз перед катастрофой. А потом перед ним вставали Диллард, Рита, Зелла — с ними, конечно, было веселее, чем одному. Вдруг Грифитсы больше ничего для него не сделают? Неужели он приехал сюда только для того, чтобы Гилберт глумился над ним? Неужели дети его богатого дяди и все это блестящее общество никогда его не признают? По тысяче примет он видел, какой благополучной, беззаботной и, конечно, счастливой жизнью живут эти люди. Даже теперь, в этот мертвый сезон, местные газеты чуть ли не каждый день сообщают о том, как они веселятся, разъезжают по окрестностям… Иногда кто-нибудь из них ненадолго заглянет в город — и тогда веселую компанию светской молодежи можно увидеть у входа в отель «Ликург» или перед одним из прекрасных особняков на Уикиги-авеню. В дни, когда отец или сын Грифитсы бывали в городе, у подъезда главной конторы останавливались их дорогие роскошные машины. Гилберт и Сэмюэл появлялись в великолепных летних костюмах и, сопровождаемые высшими служащими фирмы, делали торжественный, прямо королевский обход огромного предприятия, выслушивая доклады и отдавая распоряжения. А вот он, двоюродный брат этого самого Гилберта, племянник знаменитого Сэмюэла, предоставлен самому себе просто потому — теперь это ясно, — что он, на их взгляд, слишком мелкая сошка. Его отец не такой способный делец, как этот важный дядя, мать (храни ее бог!) не такая светская дама, как холодная, надменная, равнодушная тетка. Не лучше ли бросить все это? В конце концов, пожалуй, он сделал глупость, приехав сюда. Может быть, его богатые родственники вовсе и не собираются больше помогать ему?Одиночество, обида и разочарование заставляли его мечтать уже не о Грифитсах и их обществе (с особенно жгучим волнением он всегда вспоминал о красавице Сондре Финчли), но о Роберте и о той среде, которая окружала его здесь так же, как и ее. Конечно, Роберта просто бедная работница, но она гораздо привлекательнее всех других девушек, которых он каждый день видит на фабрике. Как несправедливо и нелепо со стороны Грифитсов требовать, чтобы человек в положении Клайда не знакомился с такими девушками, как, например, Роберта, только потому, что она работает на фабрике! Из-за этого запрещения он не может даже просто подружиться с нею, съездить вдвоем куда-нибудь на озеро или пойти к ней в гости. И в то же время она не может завязать других, более подходящих знакомств, потому что у него нет денег и он ни с кем не встречается. А Роберта так хороша, неотразимо обаятельна… Он представлял себе ее за работой — быстрые, грациозные движения ее точеных рук, ее гладкую кожу, сияющие глаза, когда она ему улыбается. Его снова охватило чувство, которое теперь постоянно владело им на фабрике. Пусть эта девушка бедна и ей, по несчастью, пришлось стать простой работницей, он все равно был бы очень счастлив с нею, но только при одном условии: чтобы не нужно было жениться. Что касается брака, тут честолюбивый Клайд был словно под гипнозом: он женится на девушке из круга Грифитсов! И все же он пламенно стремился к Роберте. Если бы только решиться… если бы поговорить с нею, проводить ее как-нибудь домой после работы, привезти сюда, на озеро, в субботу или воскресенье, покатать ее на лодке — просто чтобы отдохнуть и помечтать вместе. Байдарка Клайда огибала мыс, поросший деревьями и кустарником и скрывавший мелкую бухточку, — здесь было множество водяных лилий, их широкие листья покоились на глади озера. На берегу стояла девушка и смотрела на цветы. Она была без шляпы и прикрывала рукой глаза, потому что солнце светило ей прямо в лицо. Губы ее приоткрылись в гримаске легкого недоумения. Она показалась Клайду очень хорошенькой, и, перестав грести, он стал смотреть на нее. Рукава ее голубой блузки доходили только до локтей; темно-синяя юбка облегала стройную фигуру. Неужели это Роберта? Нет, не может быть! Да, это она! И, не успев даже подумать о том, что он делает, Клайд оказался совсем рядом с нею, в каких-нибудь двадцати футах от берега; он смотрел на нее, сияющий, с видом человека, чьи грезы внезапно, сверх всяких ожиданий стали явью. И как будто он сам был чудесным видением, вдруг возникшим из небытия, плодом напряженного воображения, обретшим живую форму, — она тоже стояла и неподвижно смотрела на него, невольно улыбаясь той очаровательной улыбкой, которая всегда появлялась на ее губах в минуты радостного волнения. — Как, мисс Олден! Неужели это вы? — воскликнул он. — Я не был уверен. Никак не мог отсюда разглядеть, вы ли это! — Ну да, я, — засмеялась она, удивленная и чуточку растерянная. Она явно была рада видеть его, хотя в первые мгновения слегка сдерживала свою радость, — и, однако, сразу встревожилась, предвидя, сколько осложнений может повлечь за собою эта встреча. Завяжется знакомство, может быть, дружба, и ей вовсе не хочется больше противиться этому, — пусть люди думают о ней что угодно. Но все же ведь с нею подруга, Грейс Марр. Нужно ли говорить Грейс о Клайде и о том, как он нравится ей, Роберте? Все это волновало ее. И все-таки она не могла подавить радостную улыбку и смотрела на него открыто и приветливо. Она столько думала, столько мечтала о нем — это были мирные, скромные и радостные мечты. И вот он здесь! Разве может кто-либо поставить им в вину, что они оба случайно оказались здесь, на озере? — Гуляете? — вымолвил наконец Клайд, хотя от радости и из-за своих страхов он изрядно смутился, когда она оказалась перед ним. Но, тут же вспомнив, как она только что смотрела на цветы, прибавил: — Нарвать вам лилий? Мне показалось, вы хотели достать их. — Да-а, — ответила Роберта, все еще улыбаясь и пристально глядя на него, потому что Клайд со своими темными волосами, растрепавшимися на ветру, в бледно-голубой рубашке с открытым воротом и засученными рукавами, с желтым веслом в руках, поднятым над красивой синей лодкой, казался ей неотразимым. Если бы завоевать этого юношу, чтобы в целом мире никто, кроме нее, не имел на него права… Это было бы величайшим счастьем, больше ей ничего на свете не нужно. И вот он здесь, у самых ее ног — в ярко-синей байдарке, весь освещенный сияющим солнцем июля, — такой необыкновенный и милый. Он смеется и смотрит на нее с восхищением. А Грейс где-то далеко, собирает маргаритки… Но можно ли?.. Имеет ли она право?.. — Я смотрела, нельзя ли как-нибудь до них дотянуться, — продолжала она, сдерживая волнение, и голос ее чуть дрогнул. — До сих пор я не видела лилий у этого берега. — Я нарву их вам сколько угодно! — весело воскликнул Клайд. — Стойте здесь, сейчас я их вам доставлю. — Но тут же он подумал, что еще приятнее взять ее к себе в байдарку, и прибавил: — А почему бы вам не прокатиться со мной? Здесь достаточно места для двоих, и я отвезу вас, куда хотите. Вон там, немного подальше, за островком, лилии гораздо красивее; да и на другой стороне озера их сколько душе угодно. Роберта посмотрела на озеро. Мимо как раз проплывала другая байдарка — в ней сидели юноша одних лет с Клайдом и девушка не старше, чем она сама. На девушке было белое платье и розовая шляпа, а лодка была зеленая. А вдалеке, у того островка, о котором говорил Клайд, еще одна лодка, ярко-желтая, и в ней тоже парочка. Роберта предпочла бы покататься в лодке без подруги. Ей так хотелось побыть с ним вдвоем… Как жаль, что она здесь не одна! Если сейчас позвать Грейс в лодку и если потом Грейс когда-либо услышит что-нибудь про нее и Клайда, она, пожалуй, начнет болтать об этом катанье и выдумывать лишнее… А ответить Клайду отказом тоже страшно: он может потерять к ней всякий интерес, и это будет ужасно. Она стояла и думала, а Клайд, взволнованный и огорченный ее нерешительностью, своим одиночеством и неудержимым стремлением к ней, вдруг воскликнул: — Нет, пожалуйста, не отказывайтесь!.. Садитесь сюда! Мне очень хочется вас покатать. Вам понравится, вот увидите! И мы наберем лилий сколько хотите. И потом я в десять минут отвезу вас в любое место, куда только пожелаете. Она отметила про себя: «Мне очень хочется вас покатать» — и это успокоило ее и придало решимости. Он не собирается как-нибудь дурно воспользоваться ее согласием. — Но я здесь с подругой, — сказала она неуверенно, почти горестно: ей хотелось покататься с Клайдом вдвоем, и меньше всего на свете ей в эту минуту нужна была Грейс. И зачем только она взяла ее с собой? Грейс некрасивая, может не понравиться Клайду, и тогда все будет испорчено. — И потом, — прибавила Роберта без всякого перехода, обуреваемая самыми противоречивыми мыслями, — пожалуй, мне лучше не садиться. Может быть, это опасно? — Ну нет, пожалуй, вам лучше сесть! — засмеялся Клайд, видя, что она уступает. — Это ни капельки не опасно, — с жаром прибавил он. Затем, подведя байдарку к берегу, возвышавшемуся на целый фут над водой, и, ухватившись за корень дерева, сказал: — Право же, вам нечего бояться. Зовите свою подругу, если хотите, и я покатаю вас обеих. Места хватит и для троих, а там всюду водяных лилий сколько угодно. Он кивком указал на восточный берег озера. Роберта больше не в силах была противиться: она ухватилась за свисающую над водой ветку, чтобы легче было спуститься, и громко позвала: — Грейс, Грейс, где ты? Она наконец решила, что лучше взять с собой подругу. Издали послышался голос: — Да-а! В чем дело? — Иди сюда. Иди скорей, мне нужно тебе кое-что сказать. — Нет, лучше ты иди сюда. Здесь просто изумительные маргаритки. — Нет, ты иди сюда. Нас хотят покатать на лодке. Она хотела крикнуть это громко, но почему-тоголос ей изменил, и Грейс продолжала собирать цветы. Роберта нахмурилась. Она не знала, что делать. И вдруг решилась: — Ну, ладно, тогда мы подплывем туда, к ней, — хорошо? И Клайд воскликнул в восторге: — Вот и прекрасно! Конечно, подплывем. Идите сюда. Мы сперва нарвем тут лилий, а потом, если она не придет, подъедем к ней. Шагайте прямо на середину, тогда байдарка не качнется. Он смотрел на нее снизу вверх, и Роберта тревожным и вместе ласковым взглядом встретила его взгляд. Радость обволакивала ее, словно розовый туман. Она уже совсем приготовилась было шагнуть в байдарку. — А это не опасно? — опять спросила она. — Нет, конечно, — убеждал Клайд. — Я удержу байдарку, а вы хватайтесь покрепче за ветку и шагайте. Она прыгнула, и байдарка, которую Клайд удерживал на месте, едва заметно накренилась; Роберта слегка вскрикнула и упала на мягкую скамейку. Она показалась Клайду совсем девочкой. — Ну вот, все хорошо, — успокаивал он ее. — Теперь сядьте как раз посредине. Байдарка не перевернется… Вот забавно — я все еще не могу опомниться… Ведь я как раз перед этим думал о вас. Думал, что вам, наверно, понравилось бы здесь, на озере. И вдруг вы здесь, и мы с вами встретились, и все вышло совсем просто — вот так! И он прищелкнул пальцами, показывая, как просто это вышло. А Роберта, обрадованная и немного испуганная его признанием, сказала смущенно: — Это правда? Она вспомнила, что и сама думала о нем. — Да, и больше того, — продолжал Клайд. — Я весь день думал о вас. Правда, правда! Мне очень хотелось встретить вас сегодня утром и привезти сюда. — Ну, что вы, мистер Грифитс! Не надо так говорить, — умоляюще сказала Роберта, опасаясь, что эта неожиданная встреча может слишком быстро сблизить их. Разговор становился чересчур интимным, и это ей не нравилось: она боялась и Клайда и самой себя; теперь она старалась смотреть на него холодно или по крайней мере равнодушно, но это была не слишком успешная попытка. — Все равно это правда, — настаивал Клайд. — А тут в самом деле очень красиво, — сказала Роберта, — мы с подругой были здесь уже несколько раз. — Вот как! — Клайд опять пришел в восторг. Она так чудесно улыбалась! Он стал рассказывать о том, как ему нравится здесь и как он учился плавать и грести. — И подумать только! Поворачиваю сюда байдарку и вдруг вижу: вы стоите и смотрите на лилии. Правда, странно? Я чуть не свалился в воду. Вы стояли там, на берегу, такая хорошенькая, — я никогда еще не видел вас такой! — Ну, что вы, мистер Грифитс! — снова попыталась остановить его Роберта. — Не надо так говорить. Видно, вы ужасный льстец, — начинаете сразу говорить такие вещи! Клайд снова покорно взглянул на нее, и она улыбнулась ему и подумала, что он никогда еще не был так красив. Но что бы он сказал, мелькнула у нее мысль, если бы она призналась ему, что как раз перед тем, как он появился на своей байдарке из-за этого мыса, она тоже думала о нем и хотела, чтобы он был здесь с нею вместо Грейс. И в своих мечтах она видела, как они сидят рядом, разговаривают, может быть, даже держась за руки. В своих мечтах она даже позволяла ему обнять себя за талию. Конечно, многие люди сказали бы, что это ужасно. И он никогда не узнает об этом, никогда. Это слишком большая интимность, это бесстыдство. А все-таки она мечтала об этом. Но что подумали бы в Ликурге, если бы увидели, как Клайд катает ее по озеру? Он — заведующий отделением, ее начальник, а она — простая работница. Что об этом скажут! Может даже подняться скандал! Но ведь Грейс Марр скоро будет с ними. Конечно, Роберта ей все объяснит. Он плыл мимо, узнал ее и помог ей нарвать цветов. Что тут такого? Правда же, почти невозможно было не согласиться. Клайд направил байдарку так, что они плыли теперь среди водяных лилий. Отложив в сторону весло, он рвал цветы с длинными влажными стеблями и бросал к ее ногам. Она полулежала, откинувшись на сиденье, опустив одну руку в воду, как делали другие девушки. На время она успокоилась и любовалась Клайдом — его лицом, руками; растрепавшиеся волосы падали ему на глаза. Какой он красивый!
Глава 35
Все следующие дни и Клайд и Роберта были под впечатлением этой прогулки и не переставали думать о том, как романтично свел их счастливый случай; однако оба понимали, что им не следует быть знакомыми ближе, чем полагается начальнику и подчиненной. Тогда, на озере, они поболтали несколько минут, — Клайд говорил о том, как красивы лилии и как ему приятно собирать их для нее, — потом взяли в байдарку Грейс и возвратились к пристани. И, оказавшись на берегу, оба снова растерялись: они не знали, как быть дальше. Возвращаться в Ликург вместе? Роберта понимала, что это будет неосторожно: еще пойдут всякие толки. И Клайд, со своей стороны, думал о Гилберте и о других знакомых по Ликургу. Могут выйти неприятности. Что скажет Гилберт, если это дойдет до него? Поэтому и Роберта, и Клайд, и даже Грейс сомневались, благоразумно ли возвращаться вместе. Грейс беспокоилась за свою репутацию и вдобавок была обижена тем, что Клайд нисколько не интересовался ею. И Роберта, заметив настроение подруги, спросила: — Как нам быть, по-твоему? Может, извинимся и попрощаемся? Она старалась сообразить, как бы выйти из затруднительного положения, не оскорбив Клайда. Сама она была точно околдованная, — не будь здесь Грейс, она бы поехала с ним. Но с Грейс, которая к тому же так нервничает, это невозможно. Надо придумать какое-то извинение. И Клайд тоже думал, как ему поступить: поехать ли с девушками, рискуя, что кто-нибудь из знакомых увидит его и сообщит об этом Гилберту, или под каким-нибудь предлогом расстаться с ними. Однако он не мог ничего придумать и уже готов был вести их к трамваю, как вдруг их окликнул Шерлок, молодой электромонтер, живший в доме Ньютонов. Он как раз собирался обратно в город вместе с приятелем, у которого был маленький автомобиль. — Вот так встреча! — воскликнул он. — Как поживаете, мисс Олден! Здравствуйте, мисс Марр. Если вы собираетесь домой, мы можем вас подвезти. Не только Роберта, но и Клайд слышал это приглашение. И Роберта сейчас же сказала, что уже поздно, а они с Грейс должны быть сегодня в церкви вместе с Ньютонами, поэтому им было бы удобнее вернуться на машине. Роберта, впрочем, надеялась, что Шерлок пригласит и Клайда и что Клайд согласится. Шерлок действительно предложил Клайду ехать с ними, но Клайд решительно отказался. Он объяснил, что хочет побыть здесь еще немного. И Роберта простилась с ним, бросив ему взгляд, ясно говоривший, как она благодарна и счастлива. Они так приятно провели время! А Клайд, несмотря на все свои сомнения и угрызения совести, подумал: как грустно, что он и Роберта не могли остаться здесь дольше. И сразу после их отъезда он один вернулся домой. На следующее утро он с особенным нетерпением ждал встречи с Робертой. Во время работы, на глазах у всех, он не мог проявить свои чувства, но все же по беглой восхищенной улыбке, которая играла на его лице и вспыхивала во взгляде, Роберта поняла, что он настроен так же восторженно, как и накануне. И хотя она чувствовала, что надвигается какой-то серьезный перелом в их отношениях, и понимала, как необходимо (хоть это и очень неприятно) хранить все в тайне, — она, в свою очередь, не могла не ответить ему нежным и покорным взглядом. Подумать только, что он ею увлекся! Как странно и как тревожно! Клайд тотчас решил, что его ухаживание принимают благосклонно и надо воспользоваться первым же удобным случаем, чтобы заговорить с Робертой. Выбрав минуту, когда ее соседки отошли, он подошел к ней и, взяв в руки один из воротничков, которые она штемпелевала, сказал с таким видом, словно речь шла о ее работе: — Вчера мне было ужасно жаль, что нам пришлось так быстро расстаться! Я очень хотел бы сегодня опять поехать с вами на озеро, вместо того чтобы сидеть здесь. А вы? Роберта повернулась к нему, сознавая, что настала минута, когда нужно решить, будет ли она поощрять его ухаживание. В то же время она почувствовала, что не может оттолкнуть его, чем бы это ей не грозило. Какие у него глаза! А волосы! А руки! И вместо того чтобы ответить ему холодно или укоризненно, она только подняла на него беспомощные и ласковые глаза, полные такой растерянности и покорности, что Клайд понял: она так же не в силах бороться с влечением к нему, как и он с влечением к ней. Он тут же решил, как только будет удобно, заговорить с нею о том, где бы им встретиться без свидетелей; ясно, что ей, как и ему, не хочется, чтобы их видели… Сегодня отчетливее, чем когда-либо раньше, он понимал, что вступает на опасный путь. Он начал делать ошибки в подсчетах, чувствуя, что вблизи Роберты не в состоянии сосредоточиться на работе. Она слишком очаровательна, слишком влечет его к себе — такая живая, веселая, милая… Если бы ему добиться ее любви, он стал бы счастливейшим человеком на свете. Да, но это правило, о котором говорил Гилберт… Только накануне, на озере, Клайд пришел к выводу, что в его положении на фабрике нет ничего хорошего. Но теперь, когда есть надежда на сближение с Робертой, гораздо приятнее остаться. Разве он не может еще хотя бы некоторое время сносить равнодушие Грифитсов? А там — как знать! — может быть, они все-таки заинтересуются им и сочтут возможным ввести его в свое общество, если только он ничем перед ними не провинится. Однако сейчас его мучит искушение сделать как раз то, что запрещено. Но что значит этот запрет, которым связал его Гилберт? Если б только сговориться с ней, — может быть, они могли бы встречаться тайно, чтобы избежать пересудов. И Клайд, сидя за своей конторкой или расхаживая по штамповочной, обдумывал, как поступить. Даже здесь, на работе, он был занят почти исключительно Робертой и не мог думать ни о чем другом. Он решил предложить ей встретиться в маленьком парке на берегу реки Могаук — это было место загородных прогулок к западу от Ликурга. Но за весь день ему не удалось с ней поговорить. Во время перерыва он спустился в столовую, торопливо позавтракал и вернулся пораньше в надежде, что сумеет шепнуть ей о своем желании встретиться. Но она была окружена девушками, и он не мог сказать ей ни слова. В конце дня, выходя с фабрики, он подумал, что хорошо бы встретить ее одну на улице, — тогда он мог бы подойти к ней и заговорить. Он знал, что и ей хочется этого, хотя бы она и стала уверять его в противном. Нужно сделать так, чтобы и ей, как всем, эта встреча показалась совершенно случайной и, значит, невинной. Но когда после гудка Роберта вышла на улицу, ее провожала другая девушка, и Клайду пришлось придумывать что-то еще. В тот же вечер, вместо того чтобы скучать в доме миссис Пейтон или пойти в кино, как он теперь часто делал, или одиноко бродить по улицам, стараясь побороть свою тоску и тревогу, он решил поискать дом на Тэйлор-стрит, где жила Роберта. Дом этот оказался не слишком приятным, далеко не таким симпатичным, как дом миссис Каппи, или тот, где Клайд жил теперь. Это было побуревшее от старости здание, и все здесь по соседству было старомодным и ветхим и уж слишком бесцветным. Однако, несмотря на ранний час, в окнах тут и там уже виднелся свет — и это придавало дому уютный и приветливый вид. И несколько деревьев перед домом понравились Клайду. Что делает сейчас Роберта? Почему она не подождала его около фабрики? Почему не чувствует, что он здесь, и не выходит к нему? Вот если бы как-то дать ей почувствовать, что он здесь, и заставить ее выйти на улицу… Но Роберта не показывалась. Из дому вышел только Шерлок и быстро пошел в сторону Сентрал-авеню. А потом еще и еще люди выходили из соседних домов и скрывались в том же направлении. Клайд поспешно отошел подальше от дома Роберты, чтобы не обратить на себя внимание. Он то и дело вздыхал: вечер был так хорош… Около половины десятого взошла полная луна и повисла над дымовыми трубами, тяжелая и желтая. Клайд был так одинок!.. В десять часов свет луны стал слишком ярок, а Роберта все не появлялась, и Клайд решил уйти. Было бы неблагоразумно оставаться здесь дольше. Однако в такой прекрасный вечер ему противно было думать о возвращении домой, и он стал расхаживать взад и вперед по Уикиги-авеню, глядя на красивые дома, среди которых был и дом его дяди Сэмюэла. Все обитатели этих домов выехали на дачи. В окнах нигде ни огонька. А Сондра Финчли, Бертина Крэнстон и вся эта компания — что они делают в такой вечер? Где танцуют? Куда спешат? С кем флиртуют? Как тяжко быть бедняком, без денег, без положения в обществе и не иметь возможности жить так, как хочешь. На следующее утро, более нетерпеливый чем когда-либо, он вышел из дому без четверти семь: ему хотелось поскорее снова встретить Роберту, попытаться с ней заговорить. По Сентрал-авеню в сторону фабричного района двигался поток рабочих — и, конечно, Роберта в самом начале восьмого присоединится к этой толпе. Но по пути на фабрику Клайд ее не встретил. Проглотив чашку кофе в ресторанчике неподалеку от почты, он прошел по всей Сентрал-авеню в сторону фабрики, постоял у табачной лавочки, надеясь увидеть Роберту одну, — и был вознагражден лишь тем, что увидел ее опять с Грейс Марр. Что за нелепый, сумасшедший мир! — подумал Клайд. — Как трудно в этом несчастном городишке встретиться с кем-нибудь наедине! Чуть ли не все здесь знают друг друга. Но ведь Роберта должна понимать, что он ищет случая с ней поговорить. Неужели она не могла пойти на фабрику одна? Он достаточно выразительно смотрел на нее вчера. И все же она идет с Грейс Марр и, по-видимому, довольна. Что же это значит? На фабрику он пришел в самом мрачном настроении. Но вид Роберты, садившейся на свое место, ее приветливое: «Доброе утро!» — и ее веселая улыбка утешили его, и он почувствовал, что еще не все потеряно. К трем часам дня всех охватила сонливость: утомляли летний зной, непрерывная однообразная работа, слепил отблеск солнечных лучей — их отражала текущая под самыми окнами река. Тук-тук-тук — металлические печатки одновременно опускались на десятки воротничков. Этот звук, обычно едва различимый в жужжании и гуле швейных машин за барьером, сегодня слышался еще слабее, чем всегда. Кто-то из штамповщиц затянул песню — Руза Никофорич, Ода Петканас, Марта Бордалу, Анжелика Питти и Лена Шликт подхватили. Роберта, все время чувствуя на себе взгляд Клайда и поникая его настроение, спрашивала себя, скоро ли он подойдет в заговорит с нею. Ей очень этого хотелось, и, вспоминая слова, которые он шепнул ей накануне, она была уверена, что он недолго сумеет противиться желанию подойти к ней. Она прочла это во взгляде, каким он смотрел на нее вчера. Однако тут столько препятствий… Она знала, что ему нелегко придумать способ сказать ей хоть слово. Но минутами она радовалась, чувствуя себя в безопасности среди девушек. Занятая этими мыслями, она в то же время, как и все остальные работницы, продолжала быстро штемпелевать лежавшие перед ней воротнички — и вдруг заметила, что проштемпелевала номером «16» пачку воротничков меньшего размера. Она с огорчением посмотрела на испорченную пачку и решила, что остается только одно: отложить ее в сторону и ждать замечания от кого-нибудь из начальства, может быть, от Клайда… или можно сейчас же отнести бракованные воротнички прямо к нему — это, пожалуй, лучше всего: тогда никто из мастеров не увидит их до Клайда. Так делали все девушки, когда ошибались. И все опытные работницы должны были сами следить за подобными ошибками. Но сейчас, как ни хотелось ей пойти к нему, она не решалась: это даст ему желанную возможность заговорить с нею, а самое страшное, что и для нее это желанная возможность. Она колебалась: с одной стороны, долг перед Клайдом как заведующим, с другой — верность прежним правилам поведения, столь противоположным этому новому властному стремлению к Клайду и подавленному желанию услышать, что он ей скажет… Наконец она взяла испорченную пачку воротничков и положила к нему на конторку. Руки ее дрожали, лицо побледнело, она задыхалась. А Клайд в это время тщетно пытался подсчитать по талонам выработку штамповщиц: мысли его были далеки от этих подсчетов. Потом он поднял голову. Перед ним, наклонившись, стояла Роберта. Нервы его натянулись до предела, горло и губы пересохли: вот удобный случай, о котором он мечтал. Он видел, что Роберта едва не задыхается от волнения: она понимала, что поступает слишком смело и сама себя обманывает. — Там, наверху, ошиблись с этой пачкой, — начала она, путаясь в словах, — а я не заметила, пока почти все не проштемпелевала. Это размер пятнадцать с половиной, а я почти на всех воротничках поставила шестнадцать. Простите меня, пожалуйста. Клайд заметил, что она пытается улыбнуться и казаться спокойной, но щеки ее совсем побелели, а рука, держащая воротнички, дрожит. Он сразу понял, что, хотя она пришла к нему с этой ошибкой как добросовестная работница, знающая фабричные порядки, здесь кроется нечто большее. Слабая, испуганная и все же движимая любовью, она давала ему случай, которого он искал, и хотела, чтобы он этим воспользовался. И Клайд, в первую минуту смущенный и взволнованный ее внезапным появлением, тут же приободрился и осмелел чуть не до дерзости: он никогда еще не был так решителен по отношению к ней. Ее влечет к нему, это ясно. Он ей нравится, и она достаточно умна, чтобы дать ему возможность с ней поговорить. Замечательно! Как мила эта смелость! — Ну, это ничего, — сказал Клайд, притворяясь спокойным и уверенным, хотя даже сейчас робел перед нею. — Я отправлю их вниз, в прачечную, а потом посмотрим, нельзя ли будет поставить новый штамп. Это ведь, в сущности, не наша вина. Он ласково улыбнулся ей, и она, готовясь уже отойти, ответила ему сдержанной улыбкой, опасаясь, не слишком ли ясно показала, что привело ее сюда. — Нет, не уходите, — прибавил он быстро. — Я хочу вас кое о чем спросить. Я с воскресенья ищу случая поговорить с вами. Нам надо где-нибудь встретиться, хорошо? Правда, по здешним правилам заведующий не должен иметь ничего общего с работницей своего отделения — я хочу сказать, за пределами фабрики. Но мне все-таки хочется с вами встретиться, хорошо? Знаете, — и он улыбнулся ей нежно и вкрадчиво, — с тех пор как вы здесь работаете, я прямо без ума от вас, а после воскресенья стало еще хуже. И я не хочу, чтобы нас с вами разделяло какое-то глупое правило. А вы? — Право, не знаю… — ответила Роберта; теперь, когда все вышло, как она хотела, она была в ужасе от своей смелости. Она тревожно оглядывалась, и ей казалось, что глаза всех, кто есть в штамповочной, следят за нею. — Я живу у мистера и миссис Ньютон — это сестра и зять моей подруги, и они очень строгие. Другое дело, если бы… — Она хотела прибавить: «Если бы я была дома», — но Клайд прервал ее: — Только, пожалуйста, не отказывайтесь! Пожалуйста! Мне необходимо с вами поговорить! Я не хочу причинять вам никаких неприятностей, иначе я с радостью пришел бы к вам домой. — Нет, нет, это невозможно, — предостерегла Роберта. — Во всяком случае, пока нельзя. В своем смущении она бессознательно дала Клайду понять, что когда-нибудь позже хотела бы принять его у себя. — Ну хорошо, — улыбнулся Клайд, видя, что она отчасти уступает. — Тогда просто пройдемся, хотя бы по вашей улице, если хотите, в конец ее, там почти нет домов. Или давайте погуляем в маленьком парке, что на берегу Могаука, знаете? Приезжайте туда, я встречу вас у остановки. Согласны? — Но я боюсь… я боюсь ехать так далеко. Я никогда ничего такого не делала. — Она посмотрела на Клайда открытым, невинным взглядом. Он был в восторге, она такая милая, и у них будет свидание! — Знаете, — продолжала Роберта, — я просто боюсь ездить куда-нибудь одна. Здесь так любят сплетничать. Кто-нибудь, конечно, меня увидит. Но… — Но… что? — Боюсь, что я слишком долго стою здесь около вас. Как по-вашему? Она сказала это и сама чуть не ахнула. И Клайд, поняв, как откровенны ее слова, хотя в них, в сущности, не было ничего необычного, сказал быстро и настойчиво: — Ну, тогда давайте встретимся в конце той улицы, где вы живете. Выходите сегодня вечером на несколько минут, — скажем, на полчаса, хорошо? — Нет, сегодня я не могу… Не так быстро. Я должна сперва посмотреть… устроить… Как-нибудь в другой раз… — Взволнованная и смущенная этим необычайным событием в ее жизни, она, как иногда бывало и с Клайдом, то улыбалась, то хмурилась, сама того не замечая. — Тогда, может быть, в среду вечером, в половине девятого или в девять? Вы придете? Ну, пожалуйста! Роберта тревожно обдумывала, что ответить. В эту минуту она бесконечно нравилась Клайду: она оглядывалась, видимо, сознавая, что на нее смотрят и что она стоит около него слишком долго для первого разговора. — Мне пора вернуться на место, — сказала она, не отвечая на его вопрос. — Еще минутку, — просил Клайд. — Мы с вами не сговорились, в котором часу в среду. Ведь вы придете? Выходите в девять или в половине девятого, словом, когда хотите. Я буду ждать начиная с восьми. Придете? — Ну хорошо. Скажем, в половине девятого или между половиной девятого и девятью, если я смогу. Хорошо? Если смогу, я приду. А если что-нибудь случится, я скажу вам с утра. Она покраснела и опять оглянулась смущенно и тревожно, потом быстро направилась к своему месту; она вся дрожала с головы до ног и выглядела такой виноватой, словно ее уличили в страшном преступлении. А Клайд за своей конторкой едва не задохнулся от волнения. Не чудо ли, что он так говорил с ней и что она согласилась? Она решилась на свидание с ним здесь, в Ликурге, где его все хорошо знают! Потрясающе! А Роберта думала, как чудесно будет погулять и поговорить с ним при свете луны, ощущать пожатие его руки и слушать его нежный, ласковый голос.Глава 36
Было совсем темно, когда Роберта в среду вечером украдкой выскользнула из дому, чтобы встретиться с Клайдом. Но перед этим сколько сомнений и борьбы с самой собою! Ей не только трудно было преодолеть собственные внутренние колебания, — вызывала немало тревог и душная, пошлая и ханжеская атмосфера, окружавшая ее в доме Ньютонов. С тех пор как она приехала сюда, она никуда не выходила без Грейс Марр. А тут еще в эту среду, — Роберта совсем забыла обитом, разговаривая с Клайдом, — она условилась отправиться вместе с Ньютонами и Грейс в баптистскую церковь, где должна была состояться проповедь, а затем вечер для прихожан с разными играми, чаем, пирожными и мороженым. И она не знала, как быть, как ей освободиться в этот вечер, но потом вспомнила, что дня за два перед тем Лигет, заметив, как хорошо и быстро она работает, предложил ей поучиться шить у миссис Брейли, в соседнем со штамповочной швейном цехе. Теперь, когда приглашение Клайда совпало с собранием в церкви, Роберта решила сказать Ньютонам, что в этот вечер она должна явиться на дом к миссис Брейли. Она скажет это в среду вечером, перед обедом. Таким образом, она сможет встретиться с Клайдом. И успеет вернуться домой до возвращения Ньютонов и Грейс. Так сладко будет слушать его… снова услышать, как тогда, в лодке, что она показалась ему самой красивой девушкой на свете, когда стояла на берегу и смотрела на водяные лилии. Много, много мыслей — смутных, пугающих, ярких — осаждало ее: как и куда они пойдут и как потом станут встречаться, если она сумеет сделать так, чтобы они стали друзьями и чтобы это не повредило ни ей, ни ему. Если будет нужно, она уйдет с фабрики и поищет какое-нибудь другое место, — таким образом, с Клайда будет снята всякая ответственность за нее. Еще одно волновало ее: как одеться? Роберта видела, что в Ликурге многие работницы одеваются лучше, чем в Бильце и Трипетс-Милс. Но она значительную часть своего заработка посылала матери, — если бы не это, она тоже могла бы прекрасно одеться. Теперь, когда Клайд завладел всеми ее мыслями, она забеспокоилась о своей внешности; вечером, после того как они условились о встрече, она пересмотрела весь свой скромный гардероб и выбрала синюю шляпку, которую Клайд еще ни разу не видел, платье из дешевого сукна в белую и синюю клетку и белые парусиновые туфли, купленные прошлым летом в Бильце. Она решила дождаться, пока Ньютоны и Грейс уйдут в церковь, а затем быстро переодеться и выйти. В половине девятого, когда наконец совсем стемнело, она пошла по направлению к Сентрал-авеню, а оттуда кружным путем вернулась на условленное место в конце Тэйлор-стрит. Клайд был уже там. Он стоял, прислонясь к старому деревянному забору, окружавшему пятиакровое кукурузное поле, и смотрел на городок, огни которого светились сквозь листву деревьев. Воздух был насыщен пряными ароматами трав и цветов. Легкий ветерок шелестел в высоких стеблях кукурузы позади Клайда, в листве деревьев над его головой. А далеко в вышине сверкали звезды — Большая и Малая Медведица, Млечный Путь, их когда-то ему показывала мать. И Клайд думал о том, как изменилось его положение здесь по сравнению с Канзас-Сити. Там он робел перед Гортензией Бригс, да и перед любой другой девушкой, боялся им слово сказать. А здесь, особенно с тех пор как его назначили заведующим штамповочной, он убедился, что не так уж неинтересен, как ему казалось раньше. Девушки на него заглядываются, и он теперь уже не так боится их. Глаза Роберты сказали ему, как сильно он ей нравится. Вот и у него есть подруга. Когда она придет, он обнимет ее и поцелует. И она не сможет ему противиться. Он стоял, прислушивался, мечтал и смотрел вдаль; шорох кукурузы за его спиной будил в нем какое-то воспоминание. И вдруг он увидел Роберту. Нарядная, оживленная и тем не менее встревоженная, она остановилась в конце улицы, озираясь, как пугливый, осторожный зверек. Клайд тотчас поспешил к ней навстречу и тихонько окликнул ее: — Привет! Как мило, что вы пришли! Трудно было выбраться? (Он подумал, что она гораздо лучше Гортензии Бригс или Риты Дикермен: одна была такая расчетливая, а другая — чувственная и неразборчивая.) — Еще бы не трудно! И она стала подробно и красочно рассказывать о том, как неловко вышло с Ньютонами: она совсем забыла о своем обещании пойти с ними в церковь, а тут еще и Грейс заявила, что не пойдет без нее. И ей пришлось солгать, ужасно солгать: будто она идет к миссис Брейли учиться шить. Клайд ничего не знал о предложении Лигета и сразу же стал расспрашивать Роберту: у него явилась мысль, не хочет ли Лигет перевести ее от него. Он не дал ей вернуться к рассказу о Ньютонах, пока не выслушал всех подробностей насчет Лигета, и Роберте было очень приятно, что он так живо этим заинтересовался. — Но, знаете, я ведь пришла ненадолго, — быстро и ласково сказала она при первом удобном случае, когда Клайд, сжимая ее руку, повернул к реке, совсем безлюдной в этих местах. — Собрания в баптистской церкви почти всегда кончаются к половине одиннадцатого, и я должна быть дома раньше Ньютонов и Грейс. Она привела множество доводов, объясняя, почему ей нельзя задерживаться позже десяти часов, и Клайд, хотя и раздосадованный, не мог не согласиться, что она рассуждает благоразумно. Сначала он надеялся удержать ее дольше. Но, видя, что времени у него мало, он старался теперь скорее добиться большей близости; он стал расхваливать ее шляпу, жакет — они ей так к лицу! И тут же попытался обнять ее за талию, но Роберта, считая, что он слишком спешит, отвела его руку, вернее, пыталась отвести, ласково убеждая: — Ну, не надо! Это нехорошо! Разве вам недостаточно вести меня под руку? Или давайте я возьму вас под руку. Высвободившись из его объятий, она сразу крепко взяла его под руку и прижалась к его плечу, стараясь идти с ним в ногу. И Клайд подумал, как просто и естественно держится она теперь, когда лед между ними сломан. А как она щебетала! Ей нравится Ликург, но только она никогда еще не жила в таком строгом и набожном городе — тут в этом смысле даже хуже, чем в Бильце или Трипетс-Милс… И она стала рассказывать о Бильце и Трипетс-Милс, говорила и о своем доме, но мало: об этом ей не хотелось рассказывать. И снова — о Ньютонах и Грейс Марр, о том, как они следят за каждым ее шагом. А Клайд слушал и думал, что она совсем не похожа на Гортензию Бригс или Риту, да и ни на одну из девушек, которых он встречал: она гораздо проще и доверчивее, ей совершенно не свойственны ни распущенность Риты, ни тщеславие, резкость и самомнение Гортензии, но она такая же красивая и при этом гораздо симпатичнее. А как мило она выглядела бы, если бы была лучше одета… Что бы она подумала, если бы узнала, как он вел себя с Гортензией, — тогда все было по-другому, совсем по-другому… — Знаете, — сказал Клайд, когда Роберта на мгновенье замолчала, — мне хотелось заговорить с вами с самого начала, как только вы стали работать на фабрике. Но вы сами видите, тут все вечно следят друг за другом. Это возмутительно! Мне заявили, когда я получил это место, что я не должен заводить знакомство ни с одной девушкой на фабрике, и я старался соблюдать это правило. Но теперь я просто не могу сладить с собой. — Он крепко сжал ее руку, потом вдруг остановился и обнял ее. — Знаете, Роберта, я от вас без ума. Правда! Вы самая милая, самая очаровательная девушка на свете. Послушайте, вы не сердитесь, что я так говорю? С тех пор как я увидел вас, я почти потерял сон. Честное слово, правда! Я все думаю и думаю о вас. У вас такие дивные глаза и волосы! Вы сегодня ужасно красивая! Ах, Роберта! И он вдруг привлек ее к себе и поцеловал, прежде чем она успела уклониться. Он продолжал держать ее в объятиях, а она наперекор себе самой сопротивлялась, напрягая всю силу воли: оказалось, что ей хочется обнять его и прижаться к нему еще крепче, — это поразило и испугало ее. Какой ужас! Что подумают, что скажут люди, если узнают? Конечно, она дурная девушка, но ей хочется быть с ним вот так — совсем рядом… никогда еще ей так этого не хотелось. — Не надо, мистер Грифитс, — умоляла она. — Правда, не надо! Ну, пожалуйста! Нас могут увидеть. Кажется, кто-то идет. Она оглянулась, видимо, очень испуганная, но Клайд только рассмеялся. Он был в восторге: наконец-то жизнь порадовала его таким восхитительным подарком! — Я никогда в жизни не делала ничего подобного, — продолжала она. — Честное слово! Пустите меня. Это только потому, что вы сказали… Но Клайд, не отвечая, крепко прижал ее к себе; его бледное лицо и темные жадные глаза были совсем близко от ее лица. Он целовал ее снова и снова, несмотря на ее протесты; ее маленький рот, подбородок, щеки были так прелестны, что невозможно было устоять, и он, слишком взволнованный, чтобы говорить более мужественным тоном, шептал умоляюще: — Роберта, дорогая, ради бога, ну скажите, что вы меня любите? Скажите? Я знаю, что любите, Роберта! Я знаю! Я с ума схожу по вас! Скажите! У нас так мало времени! И он снова целовал ее щеки и губы. И вдруг почувствовал, что она слабеет. Она стояла безвольная и покорная в его объятиях; он смутно понял, что с ней творится что-то странное. Внезапно по лицу ее потекли слезы; ее голова упала ему на плечо, и он услышал шепот: — Да, да, да, я люблю вас! Да, люблю, люблю! В ее голосе послышалось рыдание, то ли от горя, то ли от блаженства, и Клайд был так глубоко тронут ее искренностью и простотой, что и у него на глазах выступили слезы. — Роберта, дорогая, все будет хорошо. Не надо плакать. Вы такая милая. Правда, правда, Роберта! Он поднял глаза и увидел на востоке, над низкими крышами домов, тоненький светящийся краешек восходящей июльской луны. И в это мгновение ему показалось, что жизнь дала ему все — все, чего только можно пожелать.Глава 37
Это свидание, как поняли и Клайд и Роберта, было только прелюдией к новым бесчисленным встречам и радостям, которые ждали их впереди. Они обрели любовь. Они были восхитительно счастливы, несмотря на все затруднения и препоны. Но как быть дальше, как найти способ видеться чаще? Уже само по себе положение Роберты в доме Ньютонов было серьезной помехой в ее отношениях с Клайдом, и особо приходилось задуматься над тем, как быть с Грейс Марр. Грейс была еще больше скована, чем Роберта, и своей внешней непривлекательностью и, главное, мещанскими предрассудками и строгими правилами сектантски-религиозного воспитания. Однако и она хотела повеселиться и почувствовать себя свободной. Роберта, веселая и подчас даже смелая, в сущности, была скована теми же условностями, что и Грейс, но Грейс воображала, будто ее подруга несравненно более свободна. Поэтому она очень льнула к Роберте, которую это несколько утомляло. Грейс воображала, что они с Робертой могут обмениваться признаниями, шутками, мыслями обо всем, что касается любви, могут безбоязненно поверять друг другу свои мечты. Это было единственным развлечением в ее довольно безрадостной жизни. Но Роберте, даже до того, как в ее жизнь вошел Клайд, совсем не нравилась эта навязчивость. Ей это надоедало. А затем она почувствовала, что не может говорить с Грейс о Клайде, — и не потому только, что Грейс, конечно, будет возмущаться и ревновать, но и потому, что Роберта не решалась даже наедине с собой разбираться в тех неожиданных мятежных чувствах, которые теперь ею завладели. Встретив и сразу полюбив Клайда, она боялась и думать, до чего она дойдет в своем отношении к нему. Ведь подобная близость между богатыми и бедными здесь под запретом. Нет, она вовсе не желала говорить о Клайде с Грейс. И когда в понедельник вечером, на другой день после поездки на озеро, Грейс весело и фамильярно спросила Роберту о Клайде, Роберта мгновенно решила притвориться, что она вовсе не так уж им интересуется, как Грейс, может быть, думает. Поэтому она сказала только, что он был очень любезен и спрашивал о Грейс. Услышав это, Грейс недоверчиво покосилась на подругу. Правду ли она говорит? — Он был так мил, что я подумала, не влюблен ли он в тебя. — Вот глупости, — слукавила Роберта, немного встревоженная. — Да он и не смотрит на меня никогда. И потом, на фабрике такое правило, что ему нельзя познакомиться со мной ближе, пока я там работаю. Это лучше всего успокоило подозрение Грейс: по самому складу своего ума она не представляла себе, как можно нарушить правила, установленные владельцами фабрики. Но Роберта, опасаясь, как бы ее имя в сознании Грейс не осталось связанным с именем Клайда, решила быть вдвойне осторожной и притворяться, будто она глубоко равнодушна к нему. Затем возникли новые трудности, новые огорчения, тревоги и страхи, не имевшие ничего общего с прежними. После того как они с Клайдом объяснились и окончательно поняли, что любят друг друга, Роберта все же не видела возможности встречаться с ним иначе, как тайком, очень редко и настолько случайно, что она никогда не могла наверняка назначить день следующей встречи. — Понимаете, — объясняла она Клайду через несколько дней (ей удалось вечером ускользнуть на час из дому, и теперь они вышли по Тэйлор-стрит к пологому берегу реки, за которой расстилались поля), — Ньютоны никуда не ходят, не пригласив меня с собой. И даже если бы они сами не приглашали, Грейс никуда без меня не пойдет. Мы с нею очень долго дружили, когда жили в Трипетс-Милс, и она привыкла ко мне, как к родной. Но теперь все по-другому, и я просто не знаю, какой найти выход. Что мне сказать — куда я иду, с кем? — Понимаю, милая, — нежно и ласково ответил Клайд. — Все это верно. Но как же нам быть? Или вы думаете, что мне достаточно видеть вас на фабрике? Он смотрел на нее так серьезно и умоляюще, что она, растроганная, захотела утешить его и поспешно прибавила: — Нет, я так не думаю, милый. Вы ведь знаете. Но что же делать? — Она нежно погладила его тонкую, нервную руку с длинными пальцами. — Вот что, — прибавила она, подумав: — Моя сестра живет в Гомере, это тоже в штате Нью-Йорк, тридцать пять миль к северу отсюда. Я как-нибудь скажу, что поеду к ней в субботу после обеда или в воскресенье. Она давно писала и звала меня, но раньше я не думала ехать. А теперь я могла бы съездить… то есть… я могла бы… — Ну, конечно! — с жаром воскликнул Клайд. — Великолепно! Прекрасная мысль! — Надо подумать, — продолжала она, не обращая внимания на его возгласы. — Если не ошибаюсь, сперва нужно доехать до Фонды, там пересадка. Отсюда я могу поехать на трамвае в любое время, а из Фонды по субботам идут только два поезда — в два часа и в семь. Значит, я могу выехать в любое время до двух, а потом, понимаете, я просто могу опоздать на двухчасовой поезд, вот и все. Тогда можно ехать семичасовым, правда? А вы будете там или встретите меня по дороге, чтобы здесь никто не видел нас вместе. В семь часов я поеду к сестре, а вы вернетесь в Ликург. С Агнессой я все устрою, я уверена. Я напишу ей. — А до тех пор как же? — спросил он, недовольный и огорченный. — Ведь это еще не скоро! — Я постараюсь что-нибудь придумать, милый, но не знаю, выйдет ли. И вы тоже подумайте. А теперь я должна идти, — прибавила она беспокойно. Она тотчас встала, заставила и Клайда подняться и посмотреть на часы; оказалось, что уже около десяти. — Но как же нам быть? — настаивал он. — Разве вы не можете сказать Ньютонам в воскресенье, что идете в какую-нибудь другую церковь? А вместо этого встретиться где-нибудь со мной. Откуда они узнают? Сказав это, Клайд тотчас заметил, что лицо Роберты омрачилось: он вторгался в область, которую она, верная своим убеждениям и воспитанию, пока еще считала неприкосновенной. — Ну нет, я так не хочу, — ответила она очень серьезно. — Я чувствовала бы себя виноватой. И это в самом деле нехорошо. Клайд сразу понял, что вступил на опасный путь, и забил отбой: он совсем не хотел ее оскорбить или испугать. — Да, вы правы. Я подумал об этом только потому, что вы, кажется, не находите другого выхода. — Ничего, милый, — ласково сказала Роберта, заметив, что он боится, не обиделась ли она. — Все хорошо, только мне не хотелось бы поступать так. Я не могу. Клайд кивнул. Он ведь и сам несколько лет назад чтил всякие правила. Пожалуй, нехорошо было предлагать Роберте кривить душой. Ничего не придумав, кроме поездки в Фонду, они повернули обратно к Тэйлор-стрит. Клайд только сказал, целуя ее на прощанье, что им надо постараться придумать, как бы увидеться поскорее. А Роберта на мгновенье порывисто охватила руками его шею — и побежала домой, и Клайд видел, как мелькала в лунном свете ее маленькая фигурка. Но если не считать еще одного краткого свидания вечером, которое Роберте удалось устроить под предлогом второго визита к миссис Брейли, они больше не встречались до следующей субботы, когда Роберта отправилась наконец в Фонду. Клайд выехал из Ликурга немного раньше и присоединился к ней на первой же остановке. С этой минуты до самого вечера, когда ей пришлось сесть на семичасовой поезд, они пробыли вместе, несказанно счастливые, блуждая по окрестностям почти незнакомого обоим городка. Не доезжая нескольких миль до Фонды, они увидели небольшой парк под названием «Звездный»; тут были всевозможные дешевые развлечения: подвесные аэропланы, воздушное колесо, карусель, старая мельница и площадка для танцев, а кроме того, маленькое озеро и лодки. Это было в своем роде идиллическое местечко: почти посредине озера, на островке — раковина для оркестра, а на берегу, в клетке, — мрачный медведь. За время жизни в Ликурге Роберта ни разу еще не решалась побывать в каком-нибудь из здешних увеселительных мест, — все они были похожи на это, только гораздо вульгарнее. При виде «Звездного парка» оба воскликнули в один голос: «Смотрите!» И Клайд сейчас же предложил: — Давайте сойдем здесь, хотите? Это ведь почти что Фонда. И тут нам будет веселее. Они быстро вышли из трамвая. Сдав на хранение чемоданчик Роберты, Клайд направился прежде всего к стойке, где продавали сосиски. Потом его внимание привлекла безостановочно кружившаяся карусель: Роберта должна непременно прокатиться с ним? В самом веселом настроении они взобрались на карусель; Клайд посадил Роберту на зебру и стал рядом, одной рукой обнимая и поддерживая ее; при этом оба пытались ухватиться за медный поручень. Все это было банально, вульгарно, безвкусно — и, однако, уже просто потому, что они были наконец вдвоем и никто за ними не следил, оба пришли в полный восторг, который никак не соответствовал пустячной дешевой забаве. Круг за кругом неслись они на громоздкой, трескучей машине, и перед ними мелькали другие любители развлечений — катающиеся на лодках по озеру, кружащиеся над землей на аляповатых бело-зеленых подвесных аэропланах, взлетающие на качелях. Клайд и Роберта глядели на деревья, на небо над озером. На большой площадке под взглядами зевак мечтательно и страстно кружились пары. И вдруг Клайд спросил: — Вы танцуете, Роберта? — Нет, не танцую, — ответила она не без грусти. В эту минуту, глядя на счастливых танцоров, она слегка завидовала им. Как жаль, что ей никогда не позволяли танцевать! Может быть, это не совсем хорошо, не совсем нравственно, — так учит церковь, — но все-таки… ведь они здесь, и так любят друг друга… и все эти пары кажутся такими веселыми и счастливыми, и так красив этот водоворот красок в своем непрерывном кружении на фоне деревьев… Все это не казалось ей таким уж плохим. Они с Клайдом молоды, почему бы им и не потанцевать? Ее младшие брат и сестра, несмотря на взгляды родителей, уже заявили, что при первом удобном случае начнут учиться танцевать. — Вот досада! — воскликнул Клайд, представляя себе, как было бы восхитительно, танцуя, держать Роберту в объятиях. — До чего было бы весело, если б вы умели. Я научу вас в несколько минут, хотите? — Ну не знаю, что из этого получится, — шутливо сказала она, но по ее глазам было видно, что предложение ей нравится. — Я, наверно, буду не слишком способной ученицей. Знаете, в наших краях не очень одобряют танцы. И церковь их осуждает. И мои родители тоже были бы недовольны. — Чепуха! — беспечно и весело воскликнул Клайд. — Это вздор, Роберта. Ведь теперь все танцуют или почти рее. Как вы можете думать, что это плохо? — Да, я знаю, — странным, несколько натянутым тоном возразила Роберта. — Может быть, в вашем кругу это так. Правда, я знаю, многие работницы тоже танцуют. Конечно, если человек богат и у него хорошее положение в обществе, тогда все можно. Но для девушки вроде меня — другое дело. И потом, я думаю, ваши родители не такие строгие, как мои. — Вы думаете? — засмеялся Клайд, который сразу отметил ее слова о «вашем круге» и о богатом человеке с положением в обществе. — Но ведь вы ничего не знаете о моих родителях, — продолжал он, — онитакие же строгие, как ваши, наверняка даже строже. А все-таки я танцую. В этом нет ничего дурного, Роберта! Давайте я вас научу. Право же, это замечательно. Хотите, дорогая? Он обнял ее и посмотрел ей в глаза, — и она почти сдалась, слабея от страстного влечения к нему. Карусель остановилась, и они, не раздумывая, направились к огороженной площадке, где кружились в танце немногочисленные, но неутомимые пары. Довольно большой оркестр играл фокстроты и уанстепы. У турникета сидела хорошенькая билетерша: с каждой пары взималось десять центов за танец. Это красочное зрелище, музыка и ритмические, скользящие движения танцующих совсем заворожили обоих. Оркестр умолк, танцующие выходили с площадки. Но не успели все они выйти, как кассирша стала продавать пятицентовые билетики на новый танец. — Нет, я не сумею, — говорила Роберта, когда Клайд вел ее к турникету. — Боюсь, что я слишком неуклюжая. Ведь я никогда не танцевала. — Вы неуклюжая, Роберта? — воскликнул он. — Какая чепуха! Вы такая грациозная, такая прелестная! Вот увидите, вы будете замечательно танцевать. Он заплатил, и они вошли. Клайда охватил порыв самоуверенности, которая на три четверти объяснялась убеждением Роберты, что он богат и принадлежит к сливкам ликургского общества. Он отвел Роберту в уголок и показал основные несложные па; при ее врожденной живости и грации они дались ей без труда. Когда оркестр заиграл и Клайд привлек ее к себе, она легко уловила ритм и безотчетно следовала каждому движению своего партнера. Какое это было блаженство — чувствовать себя в его объятиях, послушно скользить туда, куда он увлекал ее, ощущать, как в едином, чудесном ритме движутся их тела. — Милая, — шепнул Клайд. — Вы великолепно танцуете! Вы уже все поняли. Нет, вы просто удивительная, даже не верится! Они сделали второй круг, потом третий, и Роберту охватило такое блаженство, какого она еще никогда в жизни не испытывала. Подумать только — она танцует! Это так чудесно! Танцует с Клайдом! Он такой ловкий, изящный, он здесь красивее всех молодых людей, думала она. А Клайд, в свою очередь, думал, что никогда еще не встречал такой очаровательной девушки. Она такая веселая, милая и послушная. Она не заставит его томиться понапрасну. Ну, а что до Сондры Финчли, так ведь она не обращает на него внимания, и он с таким же успехом может вовсе не думать о ней… Однако даже здесь, с Робертой, он не мог окончательно ее забыть. Они танцевали до половины шестого, когда оркестр замолк, так как больше не было желающих танцевать, и на площадке вывесили объявление: «Следующий концерт в 7:30»; тогда они выпили содовой воды, поели мороженого, потом зашли в ресторан закусить, и так быстро прошло время, что оказалось, надо ближайшим же трамваем ехать в Фонду, чтобы Роберта могла попасть на вокзал до семи часов. По пути они выработали план на завтрашний день. Роберта постарается пораньше уехать от сестры, а Клайд снова приедет из Ликурга, они встретятся в Фонде и проведут вместе весь день, до одиннадцати часов, когда приходит последний поезд из Гомера. И если в трамвае, идущем в Ликург, не окажется никого из знакомых, они смогут возвратиться вместе. И они встретились, как было условлено. Они бродили по темным окраинам городка, болтали, строили планы, и Роберта рассказала Клайду кое-что — не очень много, впрочем, — о своей жизни дома, в Бильце. Но больше всего, если не считать их взаимной любви, объятий и поцелуев, занимал их вопрос о том, где и как встречаться впредь. Нужно было что-то придумать, и Роберта уже поняла, что придумывать придется ей — и поскорее. Хотя Клайд явно был очень нетерпелив и хотел видеть ее возможно чаще, он все же не мог ничего предложить — по крайней мере, ничего приемлемого. Но придумать что-нибудь реальное было нелегко, это тоже понимала Роберта. О второй поездке к сестре или к родителям в Бильц нельзя было и думать раньше чем через месяц. А какой другой предлог она могла изобрести? Новые подруги на фабрике или почта… библиотека… «Ассоциация молодых христианок»… Это придумал Клайд. Но все это давало Роберте свободу в лучшем случае часа на два, а Клайд мечтал о таких свиданиях, как это. И как мало оставалось летних суббот и воскресений!Глава 38
Роберта и Клайд думали, что их возвращение в Ликург и вся их совместная поездка прошли совершенно незамеченными. По дороге из Фонды в Ликург они не видели в трамвае ни одного знакомого. А когда Роберта пришла домой, Грейс была уже в постели. Она проснулась только для того, чтобы задать Роберте несколько случайных и равнодушных вопросов о ее поездке: как поживает сестра? Пробыла ли Роберта у нее весь день, или ездила в Бильц, или в Трипетс-Милс? (Роберта ответила, что она все время провела у сестры.) Грейс сказала, что ей надо вскоре съездить в Трипетс-Милс, повидаться с родителями, и быстро уснула. Но на следующий вечер девушки, жившие у Ньютонов, Опал Фелис и Олив Поп (утром они не выходили к завтраку, так как накануне поздно вернулись из Фонды, из тех же мест, где Роберта была в субботу), сидя за обеденным столом, встретили вошедшую Роберту веселыми и добродушными, но очень неприятными ей возгласами: — А, вот и вы! Сразу видно, что побывали в «Звездном парке»! Как вам понравилось танцевать там, мисс Олден? Мы видели вас, а вы нас и не заметили. — И прежде чем Роберта успела придумать какой-нибудь ответ, мисс Фелис прибавила: — Мы старались поймать ваш взгляд, но вы, кажется, никого не видели, кроме вашего кавалера. Могу вас поздравить, вы шикарно танцуете. Роберта была мало знакома с этими девушками, и к тому же ей всегда не хватало смелости и находчивости, чтобы быстро и ловко отшутиться, выпутаться из неожиданно трудного положения; она вспыхнула и минуту не могла вымолвить ни слова. Ведь она вчера сказала Грейс, что провела весь день у сестры! А Грейс сидела напротив и глядела ей прямо в лицо, приоткрыв рот, точно хотела воскликнуть: «Вот оно что! Танцы! Кавалер!» А на хозяйском месте за столом сидел Джордж Ньютон — тощий, дотошный, любопытный, — и его колючие глаза, тонкий нос и острый подбородок повернулись в сторону Роберты. Но она быстро поняла, что надо что-то ответить. — Да, я была там, — сказала она. — Я ездила туда с друзьями сестры. Она чуть не прибавила: «Мы пробыли там недолго!» — но сдержалась. В эту минуту на помощь ей пришло упорство, унаследованное от матери. В конце концов, почему она не могла поехать в «Звездный парк», если ей захотелось? И какое право имеют Ньютоны, или Грейс, или кто-либо другой требовать у нее отчета? Она живет на свои средства и сама за себя отвечает. Но в то же время она поняла, что уличена во лжи, — и все потому, что она живет здесь, где ее постоянно обо всем расспрашивают и следят за каждым ее шагом. — Мне кажется, этот молодой человек не из Ликурга, я его здесь не встречала, — с любопытством прибавила мисс Поп. — Да, он не отсюда, — кратко и холодно сказала Роберта. Она с ужасом думала, что ее уличили во лжи перед Грейс и та будет возмущена ее скрытностью и изменой их дружбе. Ей хотелось встать из-за стола и уйти, чтобы больше не возвращаться. Но она постаралась сдержать себя и твердо посмотрела в глаза обеим девушкам. Потом вызывающе взглянула на Грейс и мистера Ньютона. Если бы ее продолжали расспрашивать, она назвала бы каких-нибудь выдуманных друзей своего зятя или даже вовсе отказалась бы отвечать. С какой стати! В тот же вечер ей пришлось убедиться, что такой отказ неизбежен. Как только они после обеда вернулись в свою комнату, Грейс сказала с упреком: — Ты, кажется, говорила, что была все время у сестры? — Ну и что же? — вызывающе и даже резко ответила Роберта. Она не пыталась оправдываться, потому что звала: Грейс только делает вид, будто возмущается ее безнравственным поступком, а на самом деле она просто раздражена и обижена тем, что Роберта ускользнула без нее и, значит, пренебрегает ею. — Ладно, больше тебе не придется лгать мне: можешь ходить без меня куда угодно и видеться с кем угодно. Я больше никуда с тобой не пойду и даже не хочу знать, куда ты ходишь и с кем. Но я не желаю, чтобы ты ставила меня в такое положение перед Джорджем и Мэри. Ты мне говоришь одно, а потом оказывается, что это все неправда и ты просто хотела сбежать от меня, а они могут подумать, что я сама лгу им. Я не хочу! Она была очень обижена, огорчена и рассержена, и Роберта подумала, что ей ничего не остается, как уехать отсюда. Грейс прилипчива, как пиявка; у нее нет личной жизни, и она не умеет создать ее. Пока они вместе, Грейс будет требовать, чтобы Роберта посвятила себя ей, делилась с нею каждой своей мыслью, каждым чувством. Но если рассказать ей о Клайде, Грейс будет возмущена и шокирована и, несомненно, начнет упрекать и бранить ее или даже выдаст. Поэтому Роберта сказала только: — Как хочешь, пожалуйста. Мне все равно. Я и не собираюсь ничего говорить, пока сама не найду нужным. Из этого ответа Грейс поняла, что Роберта не желает больше дружить с нею и вообще не хочет иметь с нею ничего общего. Она сейчас же встала и вышла из комнаты, прямая как палка, с высоко поднятой головой. А Роберте стало ясно, что отныне Грейс — ее враг, и ей захотелось оказаться подальше отсюда. Все они тут слишком ограниченные: они никогда не поймут и не допустят ее тайных отношений с Клайдом. А соблюдать тайну ему необходимо — так он объяснил Роберте. Для нее это трудно и даже унизительно, и все же она безмерно дорожит этими отношениями. Она любит его, очень любит. И теперь она должна найти какой-то способ оградить себя и его от посторонних взглядов. Надо переехать. Но на это требовалось больше мужества и решимости, чем было у Роберты. Как это неестественно и даже страшно: жить в доме, где тебя никто не знает! Не сочтут ли это странным? Возможно, впоследствии придется объясняться с матерью и сестрой. Но и оставаться здесь после всего, что произошло, тоже невозможно. Грейс и Ньютоны — особенно миссис Ньютон — будут относиться к ней, как ранние пуритане к сестре или брату, уличенным в тяжком грехе. Она танцевала! И тайно! Тут замешан какой-то молодой человек, — поездка к сестре не совсем объясняет его присутствие, а тем более посещение «Звездного парка». Кроме того, Роберта понимала, что теперь за ней будут тщательно следить, и это, не говоря уже о диктаторском поведении Грейс, конечно, помешает ей встречаться с Клайдом так часто, как она жаждет. Она провела два дня в тяжком раздумье, посовещалась с Клайдом, — он всей душой был за то, чтобы она немедленно переехала в новую комнату, где она ни от кого не будет зависеть, где никто не будет знать ее и шпионить за ней, — и, получив разрешение уйти на два часа с работы, отправилась на поиски. Она выбрала юго-восточную часть города — здесь ей, вероятно, не придется сталкиваться с Ньютонами и с теми, кого она у них встречала. После недолгих поисков она нашла то, что ей понравилось: старый кирпичный дом на Элм-стрит; тут жил обойщик с женой и двумя дочерьми — одна была портниха, другая еще ходила в школу. Комната, которую предложили Роберте, находилась в первом этаже, направо от маленькой передней, с окнами на улицу. Из передней одна дверь вела в большую гостиную, которая отделяла сдающуюся комнату от всей остальной части дома, это позволяло приходить и уходить незаметно. А так как Роберта все еще предполагала встречаться с Клайдом тайно, то для нее это было очень важно. Кроме того, как она поняла из беседы с самой миссис Гилпин, хозяева в этом доме не были так строги и назойливо любопытны, как Ньютоны. Миссис Гилпин, полная, опрятная женщина лет пятидесяти, несколько вялая и не слишком сообразительная, сообщила Роберте, что вообще-то она не сдавала комнат и не держала пансионеров, потому что муж и дочь зарабатывают достаточно. Но так как комната рядом с передней совершенно отдельная и всегда пустует, то наконец она, с согласия мужа, решила ее сдать. И ей как раз хотелось впустить жилицу вроде Роберты, а не мужчину, — девушку-работницу, которой удобно было бы столоваться вместе со всей семьей. Миссис Гилпин ничего не спросила ни о родных Роберты, ни о ее знакомствах, а только с интересом поглядывала на нее и, видимо, осталась довольна; Роберта поняла, что здесь не придерживаются таких строгих правил, как у Ньютонов. И все же сколько сомнений вызвала у нее мысль о переезде! Во всей этой таинственности, казалось ей, есть что-то недозволенное, даже греховное, и вершина всего — ссора и разрыв с Грейс Марр, ее единственной подругой, а значит, и с Ньютонами; а ведь только благодаря Грейс она вообще попала в Ликург. Что, если ее родители или сестра в Гомере узнают обо всем через знакомых Грейс и найдут странной ее одинокую жизнь в Ликурге? Хорошо ли это? Как может она решиться на такой шаг — и так скоро после приезда сюда? Она чувствовала, что ее доныне безупречные нравственные устои рушатся. Но как же Клайд? Можно ли отказаться от него? После мучительных колебаний Роберта решила, что это невозможно. И потому, уплатив задаток и предупредив, что переедет в ближайшие же дни, она вернулась на работу, а вечером заявила миссис Ньютон, что хочет выехать. Она заранее придумала объяснение: она собирается вскоре выписать к себе младшего брата и сестру и должна устроиться так, чтобы они могли поселиться вместе с нею. И Ньютоны, как и Грейс, почувствовали, что переезд Роберты связан с новыми знакомствами, разъединившими ее с подругой, и были довольны, что она уходит от них. Она явно вступает на путь сомнительных приключений, которых они не могут одобрить. Теперь она не может быть полезной Грейс, как они сначала ожидали. Возможно, она и знает, что делает. Но еще вероятней, что ее здесь сбили с толку всякие развлечения и удовольствия, несовместимые со скромной жизнью, какую она вела в Трипетс-Милс. Да и сама Роберта, оказавшись после переезда в новой обстановке, хотя и могла теперь свободнее встречаться с Клайдом, все же сомневалась, правильно ли она поступает. Может быть… может быть, она слишком поспешила, погорячилась, может быть, еще придется об этом пожалеть. Но дело сделано, и теперь ничего не изменишь. Надо посмотреть, что получится… Главным образом для того, чтобы успокоить свою совесть, она сейчас же написала матери и сестре, довольно правдоподобно объясняя, почему ей пришлось уехать от Ньютонов. Грейс стала слишком требовательной и эгоистичной, слишком командовала ею. Это стало невыносимо. Но пусть мать не беспокоится: она поселилась в очень приличном доме. У нее отдельная комната, и теперь она может принять у себя Тома и Эмилию, мать или Агнессу, если им захочется ее навестить. И тогда она познакомит их с Гилпинами, которых она подробно описала. И все же, думая о Клайде и об их взаимной страсти, Роберта в глубине души сознавала, что играет с огнем и может оказаться опозоренной. В то время она едва ли отдавала себе отчет в том, что эта комната с первой же минуты привлекла ее именно своей обособленностью, но бессознательно все же чувствовала, что это так. Да, она вступила на опасный путь — и знала это. Но что же делать, часто спрашивала она себя в минуты, когда ее охватывали желания, противоречащие всем ее понятиям о допустимом и благопристойном, что же ей делать?Глава 39
В течение нескольких недель Роберта и Клайд встречались то здесь, то там, в парках и садах, куда легко можно добраться пригородным поездом. Однако между ними теперь бывали столкновения, главным образом из-за комнаты Роберты: Клайд считал, что это самое удобное место для их встреч, но Роберта не позволяла ему приходить к ней. Клайд никогда не признавался себе, что у него по отношению к Роберте далеко не такие намерения, какие должен питать молодой человек к девушке, которую он уважает, и, однако, теперь, когда она переехала в эту комнату, в нем пробудилось неодолимое желание, может быть, непохвальное, но естественное и почти неизбежное, — желание все большей и большей близости, все большей власти над Робертой, над всеми ее мыслями и поступками; в конце концов она должна всецело принадлежать ему! Но как? Будет ли это брак и, следовательно, самое обычное благопристойное существование? До сих пор он вовсе не думал жениться на Роберте. Он мог ухаживать за нею или за любой другой девушкой, стоявшей на общественной лестнице гораздо ниже здешних Грифитсов, Сондры Финчли или Бертины Крэнстон, но счел бы невозможным жениться на ней — главным образом из-за взглядов своих вновь приобретенных родственников и из-за их высокого положения в Ликурге. Что они подумают, если узнают? Теперь уже ясно: здесь считают, что он занимает иное, более высокое положение, чем Роберта и ей подобные. Хорошо бы этим воспользоваться. И потом, здесь слишком многие его знают, хотя бы в лицо. Но, с другой стороны, его так влечет к Роберте… Что ж, может быть, она его и достойна… как знать, может быть, он и был бы счастлив с нею, если бы мог и решил жениться. Возникало и еще одно осложнение: наступала осень с ледяными ветрами и холодными ночами. Приближался октябрь, и почти все загородные парки, где можно было развлекаться на безопасном расстоянии от Ликурга, закрылись. Закрыты были и дансинги, кроме больших залов в соседних городах, но сюда Роберта отказывалась ходить. Оставались, правда, церкви, кинематографы и рестораны в самом Ликурге, но там они не могли бывать из-за двусмысленного положения Клайда в городе. И, таким образом, теперь, когда Роберта освободилась от надзора Ньютонов, им некуда было пойти, — разве что, изменив как-то их отношения, Клайд сможет посещать Роберту у Гилпинов. Но он знал, что она не допускает и мысли об этом, а главное — у него не хватало мужества ей это предложить. Однажды вечером в начале октября, через полтора месяца после переезда Роберты в новую комнату, они гуляли по одной из дальних улиц. Ярко блестели звезды. Было холодно. Листья кружились в воздухе. Роберта уже надела свое зимнее пальто, зеленое в кремовую полоску; коричневая шляпа, отделанная кожей, очень ей шла. Снова и снова поцелуи, все тот же лихорадочный жар, что неотступно владел ими с первой встречи и все разгорался. — Становится холодно, правда? — сказал Клайд. Было около одиннадцати часов, подмораживало. — Да, прохладно. Скоро придется думать о более теплом пальто. — Не знаю, что мы будем делать дальше? Больше нет ни одного места, где мы могли бы посидеть, а разгуливать каждый вечер по улицам в такой холод не очень приятно. Как вы думаете, нельзя ли мне иногда заходить к вам? Ведь у Гилпинов не то, что у Ньютонов. — Да, конечно. Но по вечерам они всегда сидят в гостиной до половины одиннадцатого, даже до одиннадцати. И, кроме того, обе девушки все время бегают взад-вперед до двенадцати часов или просто сидят дома. Не знаю, как это устроить. Вы ведь сами говорили, что не хотите, чтобы вас видели со мной. А если вы придете, мне надо будет познакомить вас с Гилпинами. — Нет, я совсем не это имел в виду, — решительно ответил Клайд. Он подумал, что Роберта слишком щепетильна: пора бы ей держаться с ним свободнее, если она на самом деле так его любит. — Почему бы мне иногда и не зайти к вам ненадолго? Гилпинам вовсе незачем об этом знать. — Он вынул часы и чиркнул спичкой: оказалось, что уже половина двенадцатого; он показал часы Роберте. — Теперь в гостиной никого нет, верно? Она покачала головой. Эта мысль не только ужаснула, но и возмутила ее. Клайд стал слишком смел: как он решается предлагать ей такое? И притом в его словах воплотились все тайные страхи и владевшие ею настроения, в которых она до сих пор не хотела себе признаться. Тут есть что-то греховное, низменное, пугающее. Нет, на это она не пойдет. Ни за что. И в то же время в глубине ее существа все громче звучал голос долго подавляемого, страшного для нее желания, — теперь оно властно заявляло свои права. — Нет, нет, я не могу согласиться! Это нехорошо. Я не хочу. Нас могут увидеть. Вас могут узнать. В эту минуту отвращение к тому, что она с детства привыкла считать безнравственным, было так сильно, что Роберта бессознательно пыталась высвободиться из объятий Клайда. Он почувствовал, как искренне ее внезапное сопротивление. И оно только еще больше подхлестнуло в нем жажду обладать тем, что в эту минуту казалось почти недостижимым. Вкрадчивые речи полились из его уст: — Ну, кто может нас увидеть в такое время? Кругом нет ни души. Почему бы и не зайти к вам в комнату на несколько минут, раз нам хочется? Никто нас не услышит. Мы будет говорить тихо. Даже на улице никого нет. Пройдем мимо и посмотрим, — наверно, в доме уже все спят. До сих пор она никогда не позволяла ему близко подходить к дому и теперь горячо и взволнованно запротестовала. Но на этот раз Клайд заупрямился, и Роберта, всегда смотревшая на него с робким почтением, — не только как на возлюбленного, но и как на человека, стоящего выше ее, — не могла ему помешать. Они остановились в нескольких шагах от дома. Нигде не слышно ни звука, только лает собака. В окнах ни огонька. — Вот видите, все уже спят, — успокаивал Роберту Клайд. — Почему бы нам не войти на минутку? Кто об этом узнает? Нам незачем подымать шум. Да и что в этом дурного? Многие так делают. Нет ничего страшного, если девушка на минуту впустит друга к себе в комнату. — Вы думаете? Ну, может быть, в вашем кругу так принято. Но я знаю, что хорошо и что нет, а это, по-моему, нехорошо, и я так не сделаю. И, однако, сердце Роберты при этих словах больно сжалось. Она никогда еще не позволяла себе такой самостоятельности, даже дерзости в отношениях с Клайдом и никак не думала, что это возможно. Она сама испугалась. Вдруг он ее разлюбит, если она будет с ним так говорить? Клайд мгновенно помрачнел. Почему она не хочет исполнить его просьбу? Она слишком осторожна, слишком боится всего, что доставляет малейшую радость и удовольствие. Другие девушки не похожи на нее, — например, Рита или работницы на фабрике. А ведь она уверяет, что любит его. Она позволяет ему обнимать и целовать себя на улице. А когда ему хочется немножко большей близости, она никак не соглашается. Что же это за девушка? Что толку за ней ухаживать? Может быть, это все опять уловки и хитрости, как было тогда с Гортензией? Правда, она ничуть не похожа на Гортензию, но уж очень упряма. Роберта не видела его лица, но знала, что он очень рассердился, — так случилось впервые. — Ну, не хотите — не надо, — холодно сказал он. — Мне и без того есть куда пойти. Я вижу, вы никогда ни в чем не хотите мне уступить. А как мы, по-вашему, будем видеться дальше? Нельзя же каждый вечер ходить по улицам. Клайд сказал это мрачным тоном, не предвещавшим ничего хорошего, — никогда еще он не говорил с нею так резко и раздраженно. И его намек на другие места, куда он может пойти, так потряс и испугал Роберту, что ее настроение тотчас переменилось. Ну, конечно, встречается же он время от времени с девушками своего круга! И девушки на фабрике вечно строят ему глазки! Сколько раз она видела, как они на него поглядывали. Эта Руза Никофорич — такая грубая, но все-таки хорошенькая! А Флора Брандт! А Марта Бордалу! Бр-р! Подумать только, что такие негодницы бегают за таким красавцем! Она испугалась, что Клайд сочтет ее слишком несговорчивой, неопытной и робкой, — в высшем обществе он к этому не привык, — и оставит ее ради кого-нибудь из них. И тогда она его потеряет. Эта мысль ужаснула ее. Вся ее храбрость тотчас исчезла, и она стала жалобно уговаривать: — Ну, Клайд, ну пожалуйста, не сердитесь. Вы же знаете, я бы согласилась, если б могла. Но я никак не могу. Неужели вы не понимаете? Вы же знаете сами. Конечно, Гилпинам все станет известно. Что с вами будет, если нас увидят и кто-нибудь узнает вас? — Она умоляюще взяла его за руку, потом обняла, и он почувствовал, что, несмотря на все свое недавнее сопротивление, она мучительно огорчена и расстроена. — Ну, пожалуйста, не просите меня об этом, — добавила она умоляюще. — Зачем тогда было переезжать от Ньютонов? — спросил он угрюмо. — Не знаю, где еще мы можем теперь видеться, если вы не позволите мне иногда приходить к вам. Нам некуда больше пойти. Роберта не знала, что ответить. Очевидно, чтобы их отношения могли продолжаться, надо нарушить общепринятые правила поведения. И все же она не представляла себе, что можно согласиться. Это нехорошо, не принято, безнравственно. — Мне казалось, что нам достаточно ездить куда-нибудь по субботам и по воскресеньям, — сказала она мягко, стараясь его успокоить. — Да куда же теперь поедешь? Все закрыто. Роберта опять почувствовала, что находится во власти неразрешимых противоречий, которые завели их обоих в тупик. — Господи, если бы я знала, что делать! — воскликнула она в отчаянии. — Все очень просто, стоит вам только захотеть. Но в том-то и беда, что вы не хотите. Они стояли рядом. Ночной ветер кружил сухие, шуршащие листья. Роберта ломала голову над задачей, которая давно ее пугала. Разве так ее учили поступать? Можно ли послушаться Клайда? В ней боролись могучие противоречивые силы и желания. Она то готова была уступить, как ни было это мучительно для нее при ее понятиях о нравственности и приличии, то порывалась наотрез, раз и навсегда отвергнуть это, на ее взгляд, дерзкое и противоестественное предложение. Но все же наперекор негодованию любовь к Клайду заставляла ее по-прежнему говорить с ним нежно и просительно. — Нет, Клайд, не могу, не могу! Я бы согласилась, если б могла, но это просто невозможно. Ведь это нехорошо! Я никак не могу! Она вглядывалась в его лицо — бледный овал среди мрака, — стараясь увидеть на нем признаки сочувствия, понимания. Но он, обозленный этим, видимо, окончательным отказом, не склонен был смягчаться. Все это напоминало ему бесконечные неудачи, которыми сопровождалось его ухаживание за Гортензией Бригс. Но будьте уверены, теперь он не потерпит ничего подобного. Если она хочет вести себя так — пожалуйста, но только не с ним. У него теперь большой выбор, найдется сколько угодно девушек, которые будут обращаться с ним куда лучше. Он сердито пожал плечами и отвернулся. — Ну что ж, как вам угодно, — бросил он через плечо. Роберта стояла ошеломленная, охваченная ужасом. — Не уходите, Клайд! Пожалуйста, не уходите, — вдруг жалобно воскликнула она; вся ее решимость и мужество исчезли, глубокая печаль охватила ее. — Я не хочу, чтобы вы ушли, я так люблю вас, Клайд! Я все сделала бы, если б могла. Вы же знаете! — Да, конечно, знаю, можете не говорить мне об этом. — Он действовал так, как подсказывал ему опыт отношений с Гортензией и Ритой. Резко высвободился из ее объятий и быстро зашагал по темной улице прочь. Роберта, пораженная этой внезапной переменой в их отношениях, такой мучительной для обоих, крикнула: «Клайд!» — и побежала было за ним, надеясь, что он остановится и она еще сможет его смягчить. Но он не обернулся. Он быстро уходил. Нет, это невозможно, она должна хотя бы Силой удержать своего Клайда! Она побежала, но вдруг остановилась, потрясенная; впервые за всю свою жизнь она оказалась в таком жалком, постыдном, недостойном положении. Все ее воспитание, все прочно усвоенные представления и традиции требовали, чтобы она оставалась твердой и не унижала себя, а жажда любви, дружбы, понимания заставляла ее бежать за Клайдом, пока еще не поздно, пока он еще не ушел. Он так красив, у него такие красивые руки… А глаза… Еще слышалось эхо его шагов. И все же так сильны были связывающие ее условности, что хотя она мучительно страдала, ни одна из сил, боровшихся в ней, не могла взять верх, и она остановилась в нерешительности. Она не могла ни идти дальше, ни оставаться на месте. Почему, почему вдруг оборвалась их чудесная дружба? Сердце ее разрывалось, губы побелели. Она стояла оцепеневшая и молчаливая, не в силах произнести хоть слово, хотя бы позвать Клайда, — его имя замерло на ее устах. Она только мысленно молила: «Не уходи, Клайд, пожалуйста, не уходи!» — а он был уже далеко и все равно не услышал бы. Он быстро, неумолимо уходил, звук шагов доносился все слабее и слабее. Это была первая в жизни Роберты мучительная, ослепляющая, кровоточащая сердечная рана.Глава 40
Душевное состояние Роберты в эту ночь нелегко описать: она была охвачена настоящей жгучей любовью, а в юности трудно выдержать настоящую жгучую любовь. Притом к любви примешивались еще и ослепительные иллюзии относительно материального и общественного положения Клайда, — иллюзии эти возникли не столько благодаря словам или поступкам самого Клайда, сколько из-за догадок и сплетен, которые ходили о нем на фабрике и вовсе от него не зависели. А ее дом, семья и ее собственное положение были так жалки и не сулили ничего впереди, — все ее надежды были связаны только с Клайдом. И вдруг она поссорилась с ним, и он ушел рассерженный. Но, с другой стороны, он ведь настаивал на таких ужасных, чересчур коротких и вольных отношениях, с какими не могла примириться ее совесть, воспитанная в строгих нравственных правилах. Что ей делать теперь? Что сказать ему? В темноте своей комнаты Роберта медленно, задумчиво разделась и бесшумно забралась в широкую, старомодную кровать. «Нет, я не соглашусь, — говорила она себе. — Я не должна. Я не могу. Это было бы очень, очень нехорошо, я не послушаю его, хотя бы даже он грозил расстаться со мной навсегда. Стыдно ему просить меня об этом». А через мгновение она уже спрашивала себя, что еще им остается делать. Безусловно, Клайд отчасти прав: им некуда больше пойти, всюду они рискуют быть узнанными. Как несправедливы фабричные правила! Но, и не будь этого правила, Грифитсы, конечно, все равно решили бы, что она недостойна Клайда, и Ньютоны и Гилпины тоже, если бы услышали и узнали, кто он. И если они узнают, это может повредить обоим. А она не хочет делать ничего такого, что может повредить Клайду… Никогда! Потом ей пришло в голову, что, если она найдет работу в другом месте, вопрос будет разрешен, — вопрос, который как будто имел мало общего с другим, более неотложным и волнующим: с желанием Клайда приходить к ней, в ее комнату. Но это решение означало, что она по целым дням не будет видеть его, они будут встречаться только вечером. И, конечно, не каждый вечер. Нет, о том, чтобы искать другую работу, нечего и думать. Тут ее поразила другая мысль. Настанет утро — и она увидит Клайда на фабрике. Что если он не заговорит с нею? Она ведь тоже не сумеет с ним заговорить? Невозможно! Нелепо! Ужасно! При одной мысли об этом Роберта поднялась и села на постели, и перед нею всплыло равнодушное, холодное лицо Клайда. Мгновенно она вскочила и зажгла единственную лампочку, висевшую посреди комнаты. Она подошла к зеркалу над старым ореховым комодом в углу и пристально посмотрела на себя. Ей почудилось, что под глазами у нее уже легли темные круги. Она вся оцепенела и застыла от холода; в отчаянии она беспомощно качала головой. Нет, нет, он не может быть так низок и так жесток с ней. Если бы он знал, как трудно, как невозможно то, чего он от нее требует! Скорей бы наступил день, тогда она снова его увидит! Скорей бы наступил завтрашний вечер, тогда можно будет взять его руки в свои, почувствовать его объятия! — Клайд! Клайд! — воскликнула она чуть не вслух. — Ты не должен так поступать со мной, ты не можешь… Роберта опустилась в старое, выцветшее и расшатанное мягкое кресло, — оно стояло посреди комнаты около маленького столика, на котором лежало с полдюжины малоинтересных книг и журналов: «Садовые семена», «Сэтердэй ивнинг пост», ежемесячник «Наука для всех» и прочее, — и, опершись локтями о колени, сжала подбородок ладонями. Она старалась уйти от мучительных, беспорядочных мыслей, но они не оставляли ее. Почувствовав озноб, она взяла с кровати одеяло, закуталась, потом раскрыла каталог садовых семян и тотчас отбросила его. «Нет, нет, он не может, он не захочет так поступить со мной!» Она этого не допустит. Ведь Клайд столько раз повторял, что с ума сходит по ней, влюблен в нее до безумия, и они ездили вместе по разным чудесным местам! Почти не сознавая, что делает, Роберта то садилась в кресло или на край кровати и сидела, опершись локтями на колени и подбородком на руки, то стояла перед зеркалом, то тревожно вглядывалась в темноту за окном — не начинает ли светать. Настало шесть часов, потом в половине седьмого забрезжил рассвет и скоро уже надо было одеваться, а она все бродила от кресла к кровати, от кровати к зеркалу. Она приняла только одно твердое решение: как-то удержать Клайда. Только бы он не покидал ее. Этого не должно случиться. Что-то нужно сказать или сделать, чтобы он любил ее по-прежнему, если даже… если даже придется позволить ему навещать ее иногда — здесь или где-нибудь еще… Может быть, переехать в другое место, на квартиру, где она могла бы принимать Клайда, сказав, что он ее брат… Да, хотя бы так… Но Клайд был настроен совсем по-иному. Чтобы вполне понять его несговорчивость и внезапно овладевшее им злобное упрямство, следует вспомнить Канзас-Сити и то время, когда он попусту ходил на задних лапках перед Гортензией Бригс, а затем и то обстоятельство, что ему пришлось отказаться от Риты — и притом понапрасну. Правда, теперь положение было совсем другое, и он не имел права обвинять Роберту в том, что она ведет себя с ним нечестно и мучает его, как это было с Гортензией; но ведь это факт, рассуждал он, что девушки — все девушки вообще — упрямы, и чересчур заботятся о себе, и всегда ставят себя выше мужчины, и стараются заставить его всячески им угождать, и ничего не желают дать взамен! Притом Ретерер всегда говорил ему, что с девушками он ведет себя глупо: он слишком податлив, слишком быстро выдает себя и показывает, что влюблен. А между тем, как объяснял Ретерер, у Клайда есть козырь: он недурен Собой. С какой же стати ему бегать за девушками, которые не слишком в нем нуждаются? Это соображение и Комплимент Ретерера тогда произвели большое впечатление на Клайда. Потерпев фиаско в отношениях с Гортензией и Ритой, он был теперь настроен гораздо решительнее. И, однако, ему вновь грозит такая же неудача, как и тогда. В то же время он не мог не уличить себя мысленно в том, что его ухищрения явно ведут к отношениям незаконным, которые могут впоследствии оказаться опасными. Неопределенно и хмуро он думал о том, что, добиваясь связи, на которую Роберта в силу своих предрассудков и воспитания не может смотреть иначе как на грех, он дает ей известное право рассчитывать на его внимание в будущем — право, с которым, пожалуй, трудно будет не считаться… Ведь в конце концов зачинщик тут он, а не она, и поэтому, как бы там все ни сложилось дальше, она, пожалуй, сможет требовать от него больше, чем он захочет дать. Разве он собирается на ней жениться? В глубине его души звучал тайный голос, который даже сейчас подсказывал ему, что он никогда не захочет жениться на Роберте — да и не сможет, принимая во внимание его высокие родственные связи в Ликурге. А если так, следует ли ее добиваться? Ведь тогда он едва ли сможет впоследствии избежать претензий с ее стороны? Клайд далеко не столь отчетливо высказывал сам себе свои сокровеннейшие чувства, но в основном они были именно таковы. И, однако, его слишком неудержимо влекло к Роберте, и вопреки предчувствиям и настроениям, которые, казалось, подсказывали, как опасно ему упорствовать в своем требовании, он твердил себе, что расстанется с нею, если она не позволит ему приходить к ней домой, прекратит с нею всякое знакомство: в нем побеждало желание ею обладать. Борьба двух воль, которая всегда связана с первым сближением мужчины и женщины, будь то брак или нет, разыгралась на следующий день на фабрике. И, однако, ни слова не было сказано ни с той, ни с другой стороны. Хотя Клайд и воображал, что очень влюблен в Роберту, на самом деле чувство его было не столь глубоким, — свойственные ему эгоизм, тщеславие и стремление поставит!» на своем определяли все его поступки и побуждения. И он решил принять позу оскорбленного, не сохранять добрых отношений с Робертой и не идти ни на какие уступки, если она сама ему не уступит. Итак, в это утро он пришел в штамповочную с видом человека, поглощенного вопросами, не имеющими отношения к тому, что случилось накануне вечером. Однако он вовсе не чувствовал уверенности, что такой образ действий не кончится для него новой неудачей, и в глубине души был подавлен и встревожен. Ведь Роберта, бледная и рассеянная, была все же очаровательна, как всегда, работала с обычной энергией, и вид ее не давал оснований рассчитывать на близкую или даже отдаленную победу. Зная ее, — а Клайд воображал, будто знает ее неплохо, — он очень мало надеялся, что она уступит. Он то и дело посматривал на нее, когда она не глядела в его сторону. А она, в свою очередь, посматривала на него; сначала, когда он не смотрел на нее; потом она убедилась, что его глаза то прямо, то исподтишка следят за нею, но словно не узнавая. К горькому разочарованию Роберты, Клайд решил не только пренебрегать ею, но впервые с тех пор, как они увлеклись друг другом, стал довольно ясно и как бы не намеренно оказывать внимание другим девушкам, которые всегда восхищались им, всегда только и ждали (так воображала Роберта) малейшего знака, чтобы сделать для Клайда все, что он пожелает. Вот он смотрит через плечо Рузы Никофорич; она кокетливо повернула к нему свое широкое лицо со вздернутым носом и мягким подбородком, и Клайд что-то объясняет ей; вряд ли это непосредственно касается работы, так как оба беззаботно улыбаются. А немного позже он подошел к Марте Бордалу и наклонился над нею, едва не касаясь ее полных плеч и обнаженных рук; в этой пышной француженке было что-то непривычное, чуждое американскому глазу, но все-таки она могла нравиться. И Клайд пытался с нею шутить. Он не обошел вниманием и Флору Брандт, очень чувственную и миловидную американку; Роберта замечала, что он и раньше на нее посматривал. Но, как бы то ни было, она не могла поверить, чтобы он, Клайд, мог заинтересоваться кем-нибудь из этих девушек. Не может этого быть! А на нее он и не смотрит! Хоть бы улучил минутку, хоть слово сказал бы! Однако для других у него находится и шутка и веселый взгляд. О, как горько, как жестоко! И как ненавидела она всех этих девушек, которые откровенно заигрывали с ним и старались отнять его у нее! Ужасно! Конечно, он теперь враждебно относится к ней, иначе он не мог бы вести себя так… после всего, что было между ними… после их любви, поцелуев… Часы тянулись мучительно и для Клайда и для Роберты. Он всегда был лихорадочно нетерпелив в своих желаниях и болезненно переносил отсрочки и разочарования: это свойственно людям самого различного склада, когда они одержимы какими-либо честолюбивыми мечтами. Его ежечасно мучила мысль, что он должен либо потерять Роберту, либо подчиниться ее желаниям, чтобы ее вернуть. А ее мучил сейчас не столько вопрос, уступить ли на этот раз (это теперь было самой малой из ее тревог), сколько сомнение: удовлетворится ли Клайд тем, что она позволит ему заходить к ней в комнату? Между ними должны сохраниться строго приличные, дружеские отношения — и только, на большее она не согласится. Никогда! И все же эта неизвестность… Его мучительное равнодушие… Невыносимо медленно шли минуты, часы. Наконец, около трех часов, негодуя, что сама навлекла на себя такую пытку, она ушла в гардеробную и, подобрав на полу клочок бумаги, написала огрызком карандаша короткую записку: «Клайд, прошу вас, не сердитесь! Пожалуйста! Посмотрите на меня и поговорите со мной. Я очень жалею о вчерашнем, страшно жалею, правда! Я хочу встретиться с вами сегодня в 8:30 в конце Элм-стрит, если вы сможете. Мне нужно кое-что сказать вам. Пожалуйста, приходите. Посмотрите на меня и скажите, что придете, даже если сердитесь. Вы не пожалеете! Я так люблю вас, вы это знаете! Ваша печальная Роберта». Словно больной, который мучительно ищет успокоительного лекарства, она свернула бумажку и, возвращаясь в штамповочную, прошла вплотную мимо конторки Клайда. В это время он как раз сидел, склонившись над какими-то бумагами. Быстрым движением она бросила записку ему в руки. Клайд взглянул на нее, и взгляд его темных глаз, до этой минуты суровых и недовольных, полных тревоги, боли и решимости, вдруг смягчился; увидев записку и удалявшуюся Роберту, он сразу успокоился, удивление, довольство и радость охватили его и отразились на его лице. Он развернул записку и прочитал ее. И мгновенно почувствовал, словно все его тело пронизали теплые, расслабляющие лучи. А Роберта вернулась к своему столу и, опасаясь, что кто-нибудь наблюдал за нею, настороженно и беспокойно огляделась. Клайд смотрел прямо на нее торжествующим и все же покорным взглядом; улыбка играла на его губах; он радостно кивнул ей в знак согласия. И Роберта внезапно почувствовала головокружение, как будто ее судорожно сжатое сердце и натянутые нервы вдруг ослабли и кровь снова свободно потекла по жилам. И все иссохшие русла и потрескавшиеся и обожженные горем берега ее души, иссякшие ручьи и озера мгновенно были залиты щедрой, бьющей ключом силой жизни и любви. Он придет! Они снова будут вместе сегодня вечером. Он обнимет ее и будет целовать, как раньше. Она снова сможет глядеть в его глаза. Никогда больше они не будут ссориться, — никогда, если только она сумеет этому помешать!Глава 41
Необычайное счастье нового, более тесного сближения, сломленного протеста, побежденных сомнений! Дни, когда оба они после напрасной борьбы против большей близости — желанной обоим — с пугливым, лихорадочным нетерпением ожидали приближения ночи. Какие муки, какие протесты со стороны Роберты и какая решимость — однако не без сознания, что все это грех, совращение, обман, — со стороны Клайда! Когда же все совершилось, дикая, судорожная радость охватила обоих. Но еще прежде Роберта все же потребовала обещания, что Клайд никогда не покинет ее, что бы ни случилось (ее преследовала мысль о естественных последствиях этого безумного сближения), так как без него она беспомощна. Однако о браке ничего прямо сказано не было. И Клайд, совершенно порабощенный своим желанием, необдуманно дал слово, что никогда не оставит ее, никогда, — в этом по крайней мере она может на него положиться. Но и тут мысли о браке у него не было. На это он не пошел бы. И вот, откинув на время все сомнения, сколько бы ни терзалась и ни упрекала себя Роберта днем, они ночь за ночью предавались своей страсти. А потом безрассудно мечтали о новой блаженной ночи и жадно ждали, когда же кончится длинный день и наступит все скрывающая, за всевознаграждающая, лихорадочная ночь. И Клайд чувствовал то, в чем была твердо, мучительно убеждена Роберта: что это грех, великий, смертный грех; не раз он слышал речи матери и отца о соблазнителе, прелюбодее, что подстерегает жертву вне священных уз брака. А Роберта, тревожно всматриваясь вперед, в безвестное будущее, гадала, что станет с нею, если Клайд охладеет или оставит ее. Но приходила ночь, ее настроение снова менялось — и она, как и он, спешила на условленное место встречи, чтобы позже, в полуночной тишине проскользнуть вместе с ним в эту темную комнату, которая казалась им таким раем, какой обретаешь лишь однажды в жизни: безумный жар юности неповторим. А Клайда одолевало еще немало всяких сомнений и страхов, но благодаря тому, что Роберта так внезапно покорилась его желаниям, он порой, впервые за все эти лихорадочные годы, чувствовал себя наконец настоящим опытным мужчиной, который теперь и впрямь знает женщин. Весь его вид, его манеры яснее слов говорили: «Смотрите, я уже не тот неопытный, ничтожный простачок, каким был несколько недель назад: я теперь важная особа, я знаю кое-что о жизни. Чем могут удивить меня все эти самодовольные молодые люди и веселые, вкрадчивые, кокетливые девушки? И если б я захотел, если б я был не таким верным и постоянным, — чего бы я только не добился!» Случай с Робертой доказал ему, что он ошибался, думая (это убеждение сложилось у Клайда после истории с Гортензией Бригс, а более поздняя неудача с Ритой его укрепила), будто он обречен злосчастной судьбой на всегдашний неуспех у девушек. В сущности, наперекор всевозможным неудачам и запретам он настоящий донжуан, неотразимый сердцеед! Если Роберта добровольно жертвует собой, отдаваясь ему, то почему бы этого не сделать и другим? И хотя Грифитсы, видимо, совсем забыли о нем, он теперь важничал, как никогда прежде. Ни они, ни кто-либо из их знакомых не признавали его, но он нередко смотрел на себя в зеркало с уверенностью и восхищением, что раньше ему вовсе не было свойственно. Этому способствовала и Роберта: чувствуя, что все ее будущее зависит теперь от его воли и прихоти, она непрерывно льстила ему и восхищалась им. Ведь согласно своим воззрениям она теперь принадлежала ему, только ему, как всякая жена всецело принадлежит своему мужу, и должна была во всем покоряться его воле. И Клайд на время забыл о пренебрежении своих родственников и охотно посвятил себя Роберте, не слишком задумываясь о будущем. Лишь одно порою тревожило его: мысль о возможных последствиях их отношений; этого с самого начала очень боялась Роберта; она так сильно привязана к нему, что это может оказаться очень неприятным осложнением. Однако Клайд не слишком углублялся в эти размышления. У него есть Роберта. Их отношения, насколько оба могут судить, — тайна для всех. Радости их не совсем законного медового месяца были в полном разгаре. И последние теплые, часто солнечные дни ноября и первые дни декабря прошли как во сне: райские восторги среди условностей мелкого мирка и мизерной, плохо оплачиваемой работы. А Грифитсы, уехавшие в середине июня, все еще не возвратились в город; за это время Клайд часто думал о них, о том, какую они играют роль в его жизни и жизни Ликурга. Их большой дом, запертый и безмолвный (проходя мимо, можно было видеть только садовников да изредка шофера или слугу), казался Клайду чуть ли не священным ковчегом, символом той высоты, которой и он еще думал достигнуть благодаря какому-нибудь повороту судьбы. Он никак не мог отказаться от надежды каким-то образом приобщиться в будущем ко всему этому величию. Но пока о жизни Грифитсов он узнавал только из заметок, которые печатались в двух местных газетах, в разделе, отведенном светской хронике, где почти подобострастно описывался каждый шаг самых знаменитых семейств Ликурга. Порою, прочитав эти отчеты (даже если они с Робертой в это время были вдвоем где-нибудь в скромном загородном парке), Клайд представлял себе, как разъезжает в своем большом автомобиле Гилберт Грифитс, как Белла, Бертина и Сондра танцуют, играют в теннис, катаются на лодке при луне или скачут верхом в фешенебельной дачной местности, о которой упоминали газеты. Тогда порой совсем в особом свете, с уничтожающей ясностью представали перед Клайдом его отношения с Робертом, и сравнивать было горько, мучительно, почти невыносимо. В конце концов что такое Роберта? Фабричная работница! Ее родители живут и работают на ферме, и она должна сама зарабатывать свой хлеб. Тогда как он… он… Если б только судьба улыбнулась ему! Неужели же конец всем его мечтам о блестящей будущем? Такие мысли посещали его в минуты мрачного настроения, особенно с тех пор, как Роберта ему отдалась. В самом деле, она девушка не его круга, во всяком случае — не круга Грифитсов, к которому он все еще жадно стремился. Однако, какое бы настроение в нем ни пробуждали статьи в «Стар», он все-таки находил Роберту милой, очаровательной, в нее стоило влюбиться за ее красоту, нежность, веселый нрав — свойства и прелести, с которыми отождествляется всякий источник наслаждения. Но Грифитсы и их друзья вернулись в город, и Ликург снова стал оживленным, полным кипучей деятельности, каким он всегда бывал не менее семи месяцев в году. И Клайда все больше влекла жизнь ликургского высшего общества. Как красивы дома на Уикиги-авеню и в ближайших к ней кварталах! Как необычна и заманчива жизнь их обитателей! О, если б ему быть среди них!Глава 42
В один ноябрьский вечер Клайд шел по Уикиги-авеню, неподалеку от Сентрал-авеню, — с тех пор как он переселился к миссис Пейтон, он всегда проходил по этому фешенебельному кварталу, идя на работу и с работы; и тут случилось нечто, повлекшее за собой ряд важных для Клайда и для Грифитсов событий, которых никто из них не мог предвидеть. В эти дни Клайд был очень жизнерадостен, — таков удел честолюбивой юности в пору умирания старого года. У него хорошее положение. Его здесь все уважают. И зарабатывает он достаточно: после расходов на комнату и на стол у него остается не меньше пятнадцати долларов в неделю, которые он может истратить на себя и Роберту. Это, конечно, гораздо меньше, чем он зарабатывал в отеле «Грин-Дэвидсон» или в «Юнион клубе», но зато здесь он не связан с вечно нуждающейся семьей, как было в Канзас-Сити, и не страдает от одиночества, как в Чикаго. У него есть Роберта, ее тайная любовь. И, к счастью, Грифитсы ничего об этом не знают и не должны знать. Впрочем, он не давал себе труда подумать, как сохранить это в тайне, если возникнут осложнения. Ему вовсе не хотелось утруждать себя какими-либо заботами, разве что самыми неотложными. Правда, Грифитсы и их друзья не желали вводить его в свой круг, но все чаще другие видные люди, хотя и не принадлежащие к сливкам здешнего общества, оказывали ему внимание. Как раз в этот день (наверно, потому что Клайд с весны стал начальником отделения и к тому же Сэмюэл Грифитс недавно при всех немного поговорил с ним) к нему подошел сам Рудольф Смилли, один из вице-председателей компании, и любезно спросил, не играет ли он в гольф, и если играет, то не запишется ли весной в клуб «Эймоскинг», один из двух широко известных здешних гольф-клубов, находящихся в нескольких милях от города. Это могло значить только одно: что мистер Смилли начинает видеть в нем будущую величину и, подобно многим другим, начинает смотреть на него как на человека не безразличного для Грифитсов, хотя и не очень высоко стоящего на фабрике. Клайд радовался, думая об этом и еще о том, что сегодня он снова увидится с Робертой у нее дома, и притом скоро — в одиннадцать или даже раньше, и его походка и движения стали по-новому быстры, легки и веселы. Вообще, привыкнув немного к своим тайным встречам, и Клайд и Роберта, сами того не сознавая, стали смелее. Не разоблаченные до сих пор, они решили, что и не будут разоблачены. Если их увидят вдвоем, Роберта представит его как своего брата или кузена — в ту минуту этого будет достаточно, чтобы избежать скандала. А потом, решили они, во избежание сплетен и разоблачения Роберта могла бы переехать на другую квартиру, и там все пойдет по-старому. Это легче или, во всяком случае, лучше, чем вовсе не иметь возможности встречаться. И Роберте пришлось согласиться. Однако как раз в этот вечер произошла встреча, которая направила мысли Клайда совсем в другую сторону. Проходя мимо первого из самых великолепных особняков на Уикиги-авеню (он не имел ни малейшего представления о том, кто здесь живет), Клайд с любопытством поглядел сквозь высокую чугунную решетку ограды на лужайку перед домом, слабо освещенную уличными фонарями и покрытую сухими опавшими листьями, которые шуршали и кружились под порывами ветра. Все здесь казалось непоколебимо строгим, спокойным, замкнутым и прекрасным, и Клайд был поражен благородством и богатством этого особняка. Когда он подошел к главному входу, над которым сияли два фонаря, отбрасывая широкий круг света, у самых ворот вдруг остановился большой закрытый автомобиль. Шофер соскочил и открыл дверцу, и Клайд мгновенно узнал выглянувшую из автомобиля Сондру Финчли. — Ступайте к боковому входу, Дэвид, и скажите Мириам, что я не могу ее ждать, потому что еду на обед к Трамбалам, но вернусь к девяти. Если ее нет дома, оставьте эту записку — да поскорее, слышите? В ее голосе и манерах было что-то властное и все же чарующее, что так поразило его прошлой весной. А Сондре в это время показалось, что по тротуару идет Гилберт Грифитс. — Привет! — окликнула она. — Гуляете? Если подождете минутку, я могу вас подвезти. Я послала Дэвида с запиской, он сейчас вернется. Сондра Финчли дружила с Беллой, признавала богатство и престиж семьи Грифитс, но отнюдь не питала симпатии к Гилберту. Он с самого начала был к ней равнодушен и остался равнодушным, хотя она и пробовала с ним кокетничать. Ее гордость была уязвлена. Тщеславная и самовлюбленная, она не могла простить ему оскорбления. Она не выносила эгоизма в других и особенно не терпела тщеславного, холодного и самовлюбленного брата Беллы. Уж слишком он высокого мнения о своей особе, слишком надут и высокомерен, только о себе и думает. «Фу, какой гордый! И что он только из себя строит? Воображает, что он ужасно важная персона… Прямо Рокфеллер или Морган! И, по-моему, он ни чуточки не интересный. Мне нравится Белла. Она очень мила. Но этот фат!.. Ему, наверно, хочется, чтобы девушки ухаживали за ним. Ну, от меня он этого не дождется!» Так заявляла Сондра всякий раз, как с ней заговаривали о Гилберте. А Гилберт, выслушивая от Беллы рассказы о выходках и затеях Сондры, обыкновенно говорил: «Что? Эта самоуверенная девчонка? Что она только из себя строит? И откуда такая самонадеянность!» Но так узки были рамки ликургского общества и так немногочисленны великие мира сего, что немногим избранным поневоле приходилось встречаться и поддерживать дружеские отношения. Вот почему Сондра сейчас окликнула Гилберта, — вернее, того, кого принимала за Гилберта. Она подвинулась немного, давая ему место в автомобиле, и Клайд, который сперва чуть не окаменел от неожиданности и совершенно растерялся, не зная, верить ли своим ушам, подошел к машине, всем своим видом напоминая породистого пса, ласкового и немного грустного. — Добрый вечер, — сказал он, снимая шляпу и кланяясь. — Как поживаете? Он понял, что это действительно та самая прелестная Сондра, которую он встретил весной у дяди и о чьих светских успехах читал летом в газетах. И вот она здесь, перед ним, как всегда очаровательная, сидит в великолепном автомобиле и, видимо, обращается к нему… Однако Сондра тотчас сообразила, что ошиблась и что это не Гилберт; на мгновение она смутилась, не зная, как выйти из неловкого положения. — Ах, простите! — наконец сказала она. — Теперь я узнала вас, вы мистер Клайд Грифитс. Я приняла вас за Гилберта. Вы стояли в тени… Она говорила сбивчиво, запинаясь; Клайд заметил ее замешательство и понял, что Сондра ошиблась и эта ошибка неприятна ей самой и не слишком лестна для него. В свою очередь, он смутился, ему хотелось поскорее уйти. — Простите! Это ничего… Я не хотел навязываться… Я думал… Он покраснел и сделал шаг назад, очень огорченный. Но Сондра сразу заметила, что Клайд гораздо привлекательнее своего двоюродного брата, несравненно почтительней и что на него явно производит сильное впечатление ее красота и положение в обществе. Она быстро овладела собой настолько, чтобы сказать с очаровательной улыбкой: — Нет, нет, что вы! Позвольте, я подвезу вас куда вам нужно. Пожалуйста, садитесь! Мне будет очень приятно! Как только Клайд понял, что с ним заговорили просто по ошибке, приняв его за другого, его манеры сразу изменились, и Сондра увидела, что он огорчен, смущен и разочарован. Глаза его омрачились, на губах дрожала извиняющаяся, печальная улыбка. — Отчего же, я с радостью, — сбивчиво начал он, — то есть если вам угодно. Я понимаю, как это вышло. Это ничего, вы, пожалуйста, не беспокойтесь, если вам не хочется… Я думал… Он хотел уже уйти, но его так влекло к ней, что он невольно замешкался, и Сондра повторила: — Ну, пожалуйста, садитесь, мистер Грифитс! Очень вас прошу. И мне очень жаль, что вышло так неловко. Понимаете, мне ничего не стоит вас подвезти, и я совсем не хочу, чтобы вы думали, что раз вы не Гилберт… Помедлив, Клайд в растерянности шагнул к автомобилю и сел рядом с Сондрой. А она сразу же с интересом стала его рассматривать, очень довольная, что это оказался не Гилберт. Чтобы лучше разглядеть его, а заодно и показать себя (она не сомневалась, что ее чары неотразимо действуют на Клайда), она включила лампочку на потолке машины. Когда вернулся шофер, она спросила Клайда, куда его отвезти, и он не без колебания назвал свой адрес, — его улица была так малоаристократична по сравнению с той, где жила Сондра. Когда автомобиль помчался, Клайда охватило лихорадочное желание воспользоваться этим кратким случаем и произвести на Сондру хорошее впечатление, — кто знает, быть может, ей захочется еще как-нибудь встретиться с ним… Он так страстно хотел войти в это избранное общество. — Так мило с вашей стороны, что вы пожелали подвезти меня, — сказал он с улыбкой. — Я не знал, что вы приняли меня за моего двоюродного брата, а то бы не подошел. — Ах, это все равно, не стоит об этом говорить, — кокетливо и томно ответила Сондра (она находила теперь, что плохо рассмотрела Клайда в первый раз). — Это моя ошибка, не ваша. Но теперь я рада, что ошиблась, — прибавила она решительно, с чарующей улыбкой. — Мне гораздо приятнее подвезти вас, чем Гилберта. Знаете, мы с ним не очень ладим, каждый раз ссоримся при встрече. Она улыбнулась, вполне оправившись теперь от своего минутного смущения, и грациозно откинулась назад, с интересом рассматривая правильные черты его лица. «У него такие ласковые, улыбающиеся глаза, — думала она. — И в конце концов ведь он Двоюродный брат Беллы и Гилберта и не кажется бедняком». — Вот как? Очень жаль, — чопорно сказал Клайд; он хотел в ее присутствии казаться самоуверенным и смелым, но это ему плохо удавалось. — Но это, конечно, несерьезно. Просто мы иногда спорим из-за всяких пустяков, вот и все. — Сондра видела, что он нервничает и теряется в ее присутствии, и ей нравилось смущать его и кружить ему голову. — Вы все еще работаете у своего дяди? — О да, — с живостью ответил Клайд, словно сообщая весьма важную для Сондры новость, — я теперь заведую отделением. — Вот как, я не знала. Я ведь ни разу не видела вас с тех пор, помните? Вы нигде не бываете, вам, наверно, некогда? — Она многозначительно посмотрела на него, как бы собираясь сказать: «Ваши родственники не слишком вами интересуются». Но он определенно начинал ей нравиться, и потому она спросила только: — Вы все лето оставались в городе, да? — Да, пришлось! — просто и весело ответил Клайд. — Видите ли, меня удерживала работа. Но я часто встречал ваше имя в газетах, читал о ваших экскурсиях, о теннисных состязаниях и видел вас в июне во время праздника цветов. Вы были прекрасны, прямо как ангел! В его глазах светилось такое восхищение, что она была совсем очарована. Какой милый молодой человек, совсем не то что Гилберт! Подумать только, он так явно и безнадежно увлечен ею, а у нее он может вызвать лишь мимолетный интерес! Ей стало немножко грустно и жаль Клайда. А что подумал бы Гилберт, если бы узнал, что она совершенно покорила его двоюродного брата? Как бы он разозлился… он ведь считает ее пустой девчонкой. Для него было бы хорошим уроком, если бы кто-нибудь помог Клайду и проявил к нему такое внимание, на какое самому Гилберту нечего и рассчитывать. Эта мысль привела ее в восторг. На беду, в эту минуту автомобиль остановился у двери миссис Пейтон. Интересное для обоих приключение, по-видимому, окончилось. — Ужасно мило, что вы так говорите! Я этого не забуду. Она лукаво улыбнулась, шофер открыл дверцу, и Клайд выскочил из автомобиля; он был глубоко взволнован столь важной и необычной встречей. — Так вот где вы живете… Вы собираетесь всю зиму пробыть в Ликурге? — Да, безусловно. Во всяком случае, надеюсь, — прибавил он мечтательно, и глаза его ясно выразили его мысль. — Ну, тогда, может быть, мы с вами еще встретимся как-нибудь! Во всяком случае, надеюсь! Она кивнула ему и с самой очаровательной и лукавой улыбкой протянула руку, а он, до безумия обрадованный, воскликнул: — Я тоже! — Всего хорошего! — крикнула она, когда автомобиль уже тронулся. А Клайд, глядя вслед, спрашивал себя, увидит ли он ее когда-нибудь снова так близко, наедине? Неужели они еще когда-нибудь встретятся, как сегодня? И она говорила с ним теперь совсем не так, как в первый раз, — он хорошо помнил, что тогда она не проявила к нему никакого интереса. Задумчивый, полный надежд, он направился к своей двери. А Сондра… Почему это, — старалась она понять, пока автомобиль мчал ее по улицам Ликурга, — почему Грифитсы, видимо, так мало интересуются своим родственником?..Глава 43
Влияние этой нечаянной встречи во многих отношениях оказалось поистине гибельным. Как ни много удовлетворения и радости давала Клайду близость с Робертой, перед ним теперь снова в упор встал волнующий вопрос: может ли он добиться положения в обществе? И странно, это произошло благодаря встрече с богатой светской девушкой, которая воплощала и неизмеримо увеличивала в его глазах значение своего круга. Что за красавица эта Сондра Финчли! Какое прелестное лицо, как изящно одета, как непринужденно держится… Если бы только он сумел заинтересовать ее при первой встрече или хотя бы теперь! Своими новыми отношениями с Робертой Клайд не настолько дорожил, чтобы они могли удержать его теперь, когда его со всей силой темперамента и воображения влекло к такой девушке, как Сондра, и ко всему, что она собой олицетворяла. Ведь фабрика электрических пылесосов Уимблинджера Финчли была одним из крупнейших местных предприятий. Ее высокие стены и трубы были частью ломаной линии, вычерченной на фоне неба по ту сторону Могаука. Особняк Финчли на Уикиги-авеню, неподалеку от особняка Грифитсов, был одним из самых внушительных в этом ряду изысканных домов, созданных по последней архитектурной моде: в стиле итальянского ренессанса, из кремового мрамора в сочетании с песчаником. А сами Финчли принадлежали к тем семьям, о которых больше всего говорили в городе. Ах, познакомиться бы поближе с этой необыкновенной девушкой! Завоевать ее расположение и, может быть, благодаря ей войти в блестящее общество, к которому она принадлежит. Разве он не Грифитс? И разве по внешности он хуже Гилберта? Он был бы не менее привлекателен, будь у него столько денег, сколько у Гилберта, или хотя бы часть. Если бы он мог одеваться, как Гилберт, разъезжать в прекрасной машине! Тогда — будьте уверены! — даже такая девушка, как Сондра, с радостью обратила бы на него внимание… и может быть, даже влюбилась бы в него. Прямо сказка! Но теперь, сумрачно думал он, ему остается только надеяться, надеяться и надеяться. О, черт! Он не пойдет сегодня вечером к Роберте. Выдумает какое-нибудь извинение… скажет ей завтра, что дядя или двоюродный брат вызвали его по какому-нибудь делу. Он не хочет и не может идти к ней теперь, он слишком взволнован. Таково было влияние богатства, красоты, видного положения в обществе, к которому так стремился Клайд, на его характер, текучий и непостоянный, как вода. А Сондра, со своей стороны, после этой встречи всерьез увлеклась Клайдом, особенно потому, что его обращение с ней оказалось полной противоположностью обидному поведению его двоюродного брата. Его манеры, костюм, а также мимоходом брошенные слова о том, что он заведует на фабрике каким-то отделением, — все как будто говорило, что его положение лучше, чем она думала. Но она вспомнила также, что, хотя чуть не все лето провела с Беллой и часто встречалась с Гилбертом, Майрой и их родителями, они никогда ни словом не обмолвились о Клайде. В сущности, она знала о нем лишь то, что при первой встрече сказала миссис Грифитс: что Клайд бедный племянник, которого ее муж выписал сюда, желая немного ему помочь. Однако на этот раз Клайд вовсе не показался ей таким уж незначительным, жалким бедняком, — он очень интересен, красив, хорошо одет и явно хотел бы ей понравиться. А это лестно: ведь он тоже Грифитс, двоюродный брат Гилберта! Приехав к Трамбалам (глава семьи, вдовец Дуглас Трамбал, преуспевающий местный адвокат, благодаря знакомствам своих детей, а также собственным изысканным манерам и талантам опытного юриста сумел проникнуть в высшие сферы Ликурга), Сондра тотчас сообщила Джил Трамбал, старшей из двух дочерей адвоката, какое с ней случилось забавное недоразумение, и подробно рассказала обо всем, что произошло. А так как Джил нашла эту историю ужасно интересной, Сондра после обеда повторила ее Гертруде и Трейси Трамбалам. — А знаете, — заметил Трейси Трамбал, единственный сын адвоката, изучающий право в конторе своего отца, — я уверен, что раза три-четыре встречал этого парня на Сентрал-авеню. Он очень похож на Гила, правда? Только не так важничает. Я раза два даже принимал его за Гила и кланялся ему. — Да, я его тоже видела, — прибавила Гертруда Трамбал. — Он ходил в кепи и в пальто с поясом, совсем как Гилберт. Мне показала его Арабелла Старк, а потом мы с Джил видели его в субботу вечером: он проходил мимо дома Старков. По-моему, он гораздо красивее Гила. Это укрепило мнение Сондры о Клайде, и она сказала: — Как-то весной мы с Бертиной Крэнстон встретили его у Грифитсов. Тогда он показался нам слишком застенчивым. А видели бы вы его теперь — он по-настоящему красив, у него такие мягкие глаза и премилая улыбка. — Однако, Сондра! — воскликнула Джил Трамбал (они вместе учились в школе Снедекер, и Джил, так же как Бертина и Белла, была близкой подругой Сондры). — Я знаю кое-кого, кто стал бы ревновать, если бы слышал это. — А кстати, вряд ли Гилу Грифитсу было бы приятно узнать, что двоюродного брата считают красивее его самого, — вставил Трейси Трамбал. — Ну и пусть, — досадливо фыркнула Сондра. — Гилберт слишком много о себе думает. Держу пари, что это из-за него Грифитсы так невнимательны к своему родственнику. Теперь я просто уверена в этом. Белла, конечно, ничего не имеет против знакомства с ним, — она еще весной говорила мне, что считает его красивым. Майра никогда никого не обидит… А знаете, хорошо бы кому-нибудь из нас взять его под свое покровительство. Тогда его станут приглашать в разные дома! Любопытно посмотреть, как он будет себя держать и как это понравится Грифитсам! Уж конечно, ни мистер Грифитс, ни Белла, ни Майра не будут против, а Гил наверняка разозлится. Мне самой неудобно, я слишком близка с Беллой, но я знаю, кто может это устроить. — Она подумала о Бертине Крэнстон: Бертина не любит Гила и миссис Грифитс. — Не знаю только, умеет ли он танцевать, ездить верхом, играть в теннис и все такое… Поглощенная этой затеей, она умолкла и задумалась; остальные наблюдали за ней. Джил Трамбал, такая же порывистая и беспокойная, как Сондра, но далеко не такая хорошенькая, воскликнула: — Вот будет забавно! А как По-твоему, Грифитсы будут очень недовольны? — Не все ли равно? — сказала Сондра. — В крайнем случае, не будут обращать на него внимания. Кого это огорчит, спрашивается! Уж наверно, не тех, кто его пригласит. — Вы что же, хотите устроить в городе скандал? — спросил Трейси Трамбал. — Держу пари, что этим все и кончится. Гил Грифитс будет недоволен, это наверняка. Да и я был бы недоволен на его месте. Если вы хотите разжечь страсти — ваше дело, но я готов держать пари, что кончится скандалом. Сондре Финчли при ее характере очень понравилась эта затея. Однако вряд ли из этого что-нибудь вышло бы, если бы после всех ее разговоров с Бертиной Крэнстон, Джил Трамбал, Патрицией Энтони и Арабеллой Старк слухи об этом вместе с язвительными замечаниями по адресу Гилберта не дошли до его ушей через Констанцию Вайнант, с которой, как сплетничали в городе, он собирался обручиться. Констанция надеялась, что Гилберт и в самом деле на ней женится, и ее возмутила прихоть Сондры: чего ради Сондра вздумала говорить всем, будто Клайд красивее Гилберта? В надежде как-нибудь отплатить Сондре и заодно облегчить свою душу, она рассказала обо всем Гилберту; он в ответ сказал несколько резкостей по адресу Клайда и Сондры. Его замечания, приукрашенные Констанцией, были, в свою очередь, переданы Сондре и произвели желанный эффект. Сондра решила во что бы то ни стало отплатить Гилберту. Стоит ей только захотеть, и она станет очень любезна с Клайдом и других заставит делать то же. А это значит, что Гилберт найдет своеобразного соперника в лице собственного двоюродного брата, который хоть и беден, но может нравиться больше, чем Гилберт. Вот будет забавно! И она нашла легкий способ ввести Клайда в общество так, чтобы не выдать своего участия в этом и не скомпрометировать себя, если вся затея кончится неудачей. Дело в том, что младшие члены видных ликургских семейств — молодежь, которая воспитывалась в школе Снедекер, — устроили что-то вроде клуба под названием «Сейчас и после». У него не было ни определенной организации, ни своего помещения. Каждый, кто по своему положению в обществе мог состоять в этом клубе, имел право приглашать к себе членов клуба на обед, танцы или чай. Как это было бы просто, думала Сондра, подыскивая удобный способ ввести Клайда в свет, если бы кто-нибудь пригласил его на такой вечер. Можно, например, подсказать эту мысль Джил Трамбал: пусть она устроит вечеринку для членов клуба и пригласит Клайда. Эта хитрость даст Сондре случай снова увидеть его и определить, насколько он интересен и что собой представляет. И вот на первый четверг декабря был назначен обед для членов клуба и их друзей с Джил Трамбал в роли хозяйки. На обед были приглашены Сондра и ее брат Стюарт, Трейси и Гертруда Трамбал, Арабелла Старк, Бертина и ее брат, еще несколько человек из Утики и Гловерсвила — и Клайд. Но чтобы не дать Клайду сделать какой-либо промах и оберечь его от недоброжелательных замечаний, решили, что не только Сондра, но и Бертина, Джил и Гертруда будут внимательны и любезны с ним. Они позаботятся о том, чтобы он всегда имел партнершу для танцев, ни за столом, ни во время танцев не оставался один, — словом, они искусно будут передавать его с рук на руки, пока вечер не кончится. Таким образом, и другие могут заинтересоваться им, и не будет разговоров о том, что Сондра единственная из лучшего общества Ликурга любезна с ним, и все это будет вдвойне неприятно если не Белле и другим членам семьи Грифитс, то уж Гилберту во всяком случае. И этот план был приведен в исполнение. Итак, однажды, в начале декабря, недели через две после встречи с Сондрой, Клайд, вернувшись с фабрики, с удивлением увидел на комоде у зеркала кремовый конверт. Адрес был написан крупным и небрежным незнакомым почерком. Клайд взял конверт и с недоумением оглядел его, не понимая, от кого бы это могло быть. На обратной стороне были инициалы «Б.Т.» или «Д.Т.» — он не мог разобрать: буквы были переплетены в замысловатой монограмме. Распечатав конверт, он вынул карточку, на которой было написано: КЛУБ «СЕЙЧАС И ПОСЛЕ» в четверг 4 декабря дает свой первый зимний обед с танцами в доме Дугласа Трамбала, Уикиги-авеню, 135, куда вас просят пожаловать. Просьба ответить мисс Джил Трамбал. На обороте карточки тем же небрежным почерком, что и адрес на конверте, было написано: «Дорогой мистер Грифитс, думаю, что это доставит вам удовольствие. Все будет совсем запросто, и, я уверена, вам понравится. Если согласны, напишите Джил Трамбал. Сондра Финчли». Совершенно ошеломленный, Клайд стоял и смотрел на приписку. После второй встречи с Сондой он упорнее, чем когда-либо раньше, мечтал о том, чтобы как-то проникнуть в высшее общество, выбраться из своего теперешнего жалкого окружения. Право же, он слишком хорош для этого будничного мира. И вот перед ним приглашение светского клуба, о котором он, правда, никогда не слыхал, но, очевидно, это что-то исключительное, раз в него входят такие видные лица. И на обороте карточки — собственноручная приписка Сондры! Не чудо ли это! Он был так изумлен, что с трудом мог справиться со своей радостью: стал ходить взад и вперед, рассматривая себя в зеркале, вымыл руки, лицо и, решив, что галстук на нем недостаточно хорош, переменил его. Мысли его неслись то вперед, к предстоящему визиту (как ему одеться для этого случая?), то назад, к встрече с Сондрой. Как она смотрела на него, как улыбалась! В то же время он невольно спрашивал себя, что подумала бы Роберта, если бы каким-нибудь чудом увидела его в эту минуту, увидела, как он радуется этой записке. Да, конечно, не следуя больше моральным правилам своих родителей, он позволил себе вступить в такие отношения с Робертой, что она, несомненно, страдала бы, если бы открыла причину его теперешнего настроения. Мысль эта сильно смутила его, но нисколько не уменьшила его восхищения Сондрой. Удивительная девушка! Такая красавица! И так богата, и такое видное положение занимает в обществе! Мышление Клайда всегда было языческим, чуждым всяких условностей; и теперь он всерьез спрашивал себя, почему бы ему не перенести свое внимание с Роберты на Сондру, раз мечты о ней доставляют ему больше удовольствия. Роберта не должна об этом знать. Она не может прочитать его мысли, не может узнать о том, что с ним происходит, если он сам ей не скажет, а он, разумеется, ничего не собирается говорить. Да и что тут плохого, если он, бедняк, стремится попасть в высшие круги общества? Ведь бывали случаи, когда такие же бедняки женились на богатых девушках вроде Сондры. Несмотря на то, что произошло между ним и Робертой, — он ясно помнил это, — он никогда не обещал на ней жениться. Он, пожалуй, женился бы только в одном случае… Но такой случай, думал он, полагаясь на познания, приобретенные в Канзас-Сити, вряд ли возможен. Новая встреча с Сондрой, так внезапно ставшей на его пути, подстегнула его и без того пылкое воображение. Эта безмерно восхищавшая Клайда богиня в своем украшенном позолотой и мишурой храме соблаговолила вспомнить о нем и так открыто и прямо предложила его пригласить. И она сама, несомненно, будет там, — мысль эта волновала его безумно. Что подумают Гилберт и все Грифитсы, если услышат, что он будет на этом обеде, — а они, конечно, услышат… или встретят его еще где-нибудь, ведь Сондра может пригласить его и в другой раз… Подумать только! Рассердятся они или будут довольны? Станут думать о нем хуже или лучше? В конце концов, он здесь ни при чем. Его пригласили люди того же круга, что и сами Грифитсы, — люди, которых Грифитсы не могут не уважать. И тут не было никаких уловок с его стороны — все это чистая случайность, он никому не навязывался. И, как ни плохо разбирался Клайд в оттенках человеческих отношений, все же втайне он с насмешливым удовольствием думал о том, что теперь Гилберт и все Грифитсы должны будут волей-неволей признать его и даже пригласить к себе. В самом деле, если другие его приглашают, то как могут они, родственники, избегать его? О, радость! И это — наперекор презрению Гилберта. Клайд расхохотался при одной мысли об этом, чувствуя, что, как бы ни негодовал Гилберт, дядя и Майра вряд ли будут недовольны, и, значит, нечего бояться тайного желания Гилберта ему отомстить. Но что за чудо это приглашение! Что может значить приписка Сондры? Если бы она не интересовалась им хоть немного, она не написала бы ему, — конечно, нет! Мысль эта так взволновала Клайда, что он почти не мог есть за обедом. Он вынул карточку из конверта и поцеловал строки, приписанные Сондрой. И вместо того, чтобы отправиться, как обычно, к Роберте, он решил, как и после памятной поездки в автомобиле, немного пройтись, а затем вернуться домой и рано лечь спать. Завтра, как и в тот раз, он выдумает какое-нибудь извинение, — скажет Роберте, что его вызывали к Грифитсам или к кому-нибудь из начальства, чтобы выслушать доклад о работе. Подобные совещания бывали нередко. После того, что произошло, ему вовсе не хотелось в этот вечер видеть Роберту и говорить с ней. Он не мог. Другая мысль — о Сондре, о том, что она заинтересовалась им, — была слишком заманчива.Глава 44
Клайд ни слова не говорил Роберте о Сондре, а между тем и вблизи Роберты, на фабрике, и даже у нее дома, невольно продолжал мечтать о Сондре и о высших кругах ликургского общества, в которых она вращалась. Роберта порою чувствовала в нем какую-то рассеянность и отчужденность, словно он минутами совершенно забывал о ней, и спрашивала себя, что же так сильно занимает его в последнее время. А он, в свою очередь, когда Роберта не смотрела на него, думал… взвешивал… да, взвешивал (ведь Сондра сама напомнила ему о себе)… вдруг такая девушка заинтересуется им! Как тогда с Робертой? Как? Ведь они теперь стали так близки… (Проклятие! Черт!) И ведь Роберта нравится ему, да, очень, — впрочем, теперь, купаясь в лучах нового светила, он едва мог смотреть на Роберту, так сильны были невидимые лучи той, другой. Неужели он такой испорченный? Не грешно ли быть таким? Его мать сказала бы, что грешно! И отец тоже, и, может быть, все, кто правильно рассуждает о жизни. И Сондра Финчли, может быть, и Грифитсы — все. И все же… все же!.. Падал легкий, первый в этом году снежок, когда Клайд, в новом цилиндре и белом шелковом кашне (и то и другое ему посоветовал приобрести дружески расположенный к нему владелец небольшого галантерейного магазина Орин Шорт, с которым Клайд недавно познакомился), с новым шелковым зонтиком для защиты от снега, направлялся к своеобразному, хотя и не особенно внушительному особняку Трамбалов на Уикиги-авеню. Это было странное невысокое здание, без определенного стиля, и свет, пробивавшийся сквозь шторы, делал его похожий на рождественскую открытку. Перед домом даже сейчас — Клайд пришел точно к назначенному часу — уже стояло с полдюжины красивых автомобилей различных марок и цветов. Вид этих машин, осыпанных хлопьями снега, заставил Клайда остро почувствовать, как много ему недостает… вряд ли у него в скором времени будет достаточно денег для того, чтобы обзавестись столь необходимой вещью, как автомобиль. Подойдя к двери, он услышал голоса, смех и обрывки разговоров. Высокий худощавый слуга взял у него шляпу, пальто и зонтик, и Клайд оказался лицом к лицу с Джил Трамбал, которая, видимо, поджидала его: это была нежная кудрявая блондинка, не очень красивая, но живая и изящная, в белом атласном платье, с открытыми плечами и руками; лоб ее украшала диадема. — Не трудитесь называть себя, — сказала она весело, подходя к Клайду и протягивая ему руку. — Я Джил Трамбал. Мисс Финчли еще не приехала, но я постараюсь выполнить обязанности хозяйки не хуже ее. Пройдите сюда, здесь собрались почти все. Она провела его через несколько комнат, которые, казалось, примыкали одна к другой под прямым углом. — Вы страшно похожи на Гила Грифитса, правда? — сказала она. — Разве похож? — храбро сказал Клайд, очень польщенный этим сравнением. Потолки здесь были низкие. Красивые лампы с разрисованными абажурами заливали мягким ласковым светом темные стены. Камины в двух смежных комнатах бросали розовый отблеск на мягкую удобную мебель. Всюду были картины, книги, изящные безделушки. — Трейси, где ты? Иди сюда! — позвала Джил. — Мой брат Трейси Трамбал — мистер Грифитс. Мистер Клайд Грифитс — и все прочие, — прибавила она, обращаясь ко всему обществу, и все взгляды устремились на Клайда, пока Трейси Трамбал пожимал ему руку. Клайд, сконфуженный тем, что его внимательно рассматривают, все же старался приветливо улыбаться. Тут он заметил, что разговоры смолкли. — Прошу не прерывать из-за меня беседы, — осмелился он сказать улыбаясь; и почти все присутствующие решили, что он привык бывать в обществе и находчив. — Я не буду вас подводить к каждому, — сказал Трейси. — Мы постоим здесь, и я постараюсь вам всех показать. Вот моя сестра Гертруда, она разговаривает со Скоттом Николсоном. Клайд увидел маленькую темноволосую девушку в розовом платье, с хорошеньким, дерзким и пикантным личиком; она кивнула ему. Стоявший рядом с нею очень корректный, хорошо сложенный розовощекий юноша тоже кивнул Клайду. В нескольких шагах от них в глубокой оконной нише стояла высокая изящная девушка со смуглым некрасивым лицом и разговаривала с широкоплечим молодым человеком немного ниже ее ростом. Это были Арабелла Старк и Фрэнк Гарриэт. — Они спорят о недавнем футбольном матче, — пояснил Трейси. — А это Бэрчард Тэйлор и мисс Фэнт из Утики, и Перли Хайнс и мисс Ванда Стил, — продолжал он так быстро, что Клайд почти ничего не успевал запомнить. — Ну, пока, пожалуй, это все. Нет, вот еще идут Грэнт Крэнстон и Нина Темпл. Клайд увидел высокого молодого человека, щегольски одетого, с резкими чертами лица и мрачными серыми глазами; он вел под руку нарядную полную девушку в золотисто-коричневом платье; вокруг ее головы была тщательно уложена светло-каштановая коса. Молодой человек прошел на середину комнаты, восклицая: «Привет, Джил! Привет, Ванда! Хэлло, Вайнет!» Под эти возгласы Клайд был представлен вновь вошедшим; оба они почти не обратили на него внимания. — Мы не думали, что приедем, — продолжал Крэнстон, обращаясь ко всем сразу. — Нина не хотела ехать, но я обещал Бертине и Джил быть здесь, а то я тоже не приехал бы. Мы были у Бэгли. Угадай, Скотт, кто там был? Ван Петерсон и Рода Халл. Они приехали на один день. — Что ты говоришь! — воскликнул Скотт Николсон, судя по внешности, весьма решительный и самоуверенный молодой человек (Клайда поражали уверенные и непринужденные манеры всех этих людей). — Почему вы не привезли их сюда? — Нельзя было. Они сказали, что им надо рано вернуться. А может, они потом и заедут сюда на минутку. Ну, а что же обед? Я рассчитывал сразу сесть за стол. — Да ведь ты в доме адвоката, — а разве ты не знаешь, что они вообще едят не часто? — заявил Фрэнк Гарриэт, невысокий, но плечистый улыбающийся юноша, очень красивый и симпатичный, с ровными белыми зубами. Он понравился Клайду. — Ну, едят адвокаты или нет, а мы должны есть, иначе я ухожу… Слышали вы, кто будет в команде Корнуэла в будущем году? Студенческая болтовня о спортивных состязаниях, в которой приняли участие Гарриэт, Крэнстон и другие, была совершенно непонятна Клайду. Он очень мало слышал о различных колледжах, с которыми была тесно связана жизнь этой молодежи. Он был достаточно умен, чтобы не вмешиваться в разговоры на эти темы, но именно поэтому сразу почувствовал себя здесь чужим. Эта молодежь куда больше знает, чем он, все они учились в колледжах. Может быть, сказать, что он тоже был в какой-нибудь школе? Когда-то он слышал о Канзасском университете, — это недалеко от Канзас-Сити. Есть еще университет в Миссури. И он слышал, что в Чикаго тоже есть университет. Нельзя ли сказать, что и он учился в одном из них, например, в Канзасском, хотя бы недолго? Он решил, что так и скажет, если его спросят. Но что дальше? Вдруг его спросят, что он там изучал? Он кое-что слышал о математике. Предположим, что он изучал математику, — почему бы нет? Но скоро он заметил, что все эти юноши и девушки слишком заняты собой и мало интересуются им. Он может быть Грифитсом, и это может иметь большое значение где-то в другом месте, но не здесь: здесь это нечто само собою разумеющееся — и только. А так как в эту минуту Трейси Трамбал отвернулся, чтобы сказать несколько слов Вайнет Фэнт, Клайд почувствовал себя одиноким, заброшенным и беспомощным. Ему не с кем было поговорить. Но тут к нему подошла маленькая черноволосая Гертруда. — Наши не могут не опаздывать. Вечная история. Если назначить в восемь, они соберутся в половине девятого или в девять. Так всегда бывает, правда? — Да, конечно! — ответил благодарный Клайд, стараясь держаться возможно веселее и непринужденнее. — Я Гертруда Трамбал, — вновь отрекомендовалась она, — сестра вон той хорошенькой Джил, — она смотрела на него с дерзкой и веселой улыбкой. — Вы поклонились мне, но вы меня не знаете. А мы много слышали о вас. — Она поддразнивала Клайда, ей хотелось немного смутить его, если удастся. — Таинственный Грифитс в Ликурге, которого никто нигде не встречает. А я один раз видела вас на Сентрал-авеню, но вы этого не знали. Вы входили в кондитерскую Рич. Вы любите сладости? — Да, люблю, а что? — спросил Клайд; на мгновение он смутился и встревожился, потому что конфеты он покупал для Роберты. И в то же время он невольно чувствовал себя с этой девушкой несколько проще и увереннее, чем с остальными: она дерзкая и не очень привлекательная, зато веселая, и сейчас она спасает его от чувства одиночества и заброшенности. — Ну, вы это просто так говорите! — Гертруда засмеялась и лукаво взглянула на Клайда. — А я думаю, что вы покупали конфеты для какой-нибудь девушки. Ведь у вас, наверно, есть подружка? — Как?.. На какую-то долю секунды Клайд растерянно замолчал, у него мелькнула мысль о Роберте, и он с тревогой спросил себя, не видел ли его кто-нибудь с нею. И в то же время подумал: что за смелая, насмешливая и умная девушка эта Гертруда, он таких никогда еще не встречал! Но уже в следующее мгновение он ответил: — Нет, у меня никого нет. Почему вы спрашиваете? — И опять у него промелькнула мысль: что подумала бы Роберта,если бы слышала его? — Какой странный вопрос! — продолжал он, немного волнуясь: — Вы любите дразнить людей, да? — Кто? Я? О нет. Я никогда никого не дразню. Но я убеждена, что угадала. Мне нравится иногда задавать такие вопросы: любопытно послушать, что скажет человек, когда он не хочет показать, о чем на самом деле думает. — Она насмешливо и вызывающе улыбалась в лицо Клайду. — Все равно, я знаю, у вас есть приятельница, как у всех красивых молодых людей. — А разве я красивый? — Он слегка улыбнулся, заинтересованный и польщенный. — Кто это говорит? — Будто вы сами не знаете? Разные люди. Я, например. Сондра Финчли тоже думает, что вы красивый. Она замечает только красивых мужчин. И моя сестра Джил тоже. Я в этом отношении не похожа на них, потому что я и сама не очень красивая. Прищурясь, она смотрела ему в глаза вызывающим, дразнящим взглядом, и Клайд растерялся: он не знал, что отвечать, как держаться с этой девушкой, но в то же время она его занимала, и ее слова ему льстили. — Вы не думаете, что вы красивее вашего двоюродного брата? — продолжала она резко, почти властно. — Есть люди, которые считают, что это так. Клайд был не только польщен, но и слегка ошеломлен ее вопросом: он хотел бы и сам верить в свое превосходство над Гилбертом, притом его интриговало, что эта девушка так интересуется им; однако он и думать не смел о том, чтобы утверждать что-либо подобное, даже если бы был в этом уверен. Слишком живо он Представлял себе энергичное, решительное, подчас даже угрожающее лицо Гилберта; он, конечно, сразу же уволил бы Клайда, если бы узнал, что тот говорит такие вещи. — Ну что вы, я никогда не думал ничего подобного! — засмеялся он. — И не думаю, честное слово! — Что ж, может быть, вы и не думаете, но вы и в самом деле красивее его! Только это вам мало поможет, если вы хотите бывать в обществе тех, у кого есть деньги. — Она внимательно посмотрела на него и прибавила почти ласково: — Люди любят деньги даже больше, чем красивую внешность. «Какая умная девушка, — подумал Клайд, — и какие жестокие, холодные слова». Они больно резанули его, хотя у нее и не было такого намерения. Но в эту минуту вошла сама Сондра с неизвестным Клайду молодым человеком, высоким, угловатым, но великолепно одетым. Вслед за ними появились Бертина и Стюарт Финчли. — Вот и она, — сказала Гертруда не без досады: ей было неприятно, что Сондра красивее и ее самой и ее сестры и явно увлечена Клайдом. — Она сейчас посмотрит на вас, проверит, заметили ли вы, какая она сегодня хорошенькая. Смотрите, не разочаруйте ее. Это замечание, вполне справедливое, было излишне: Клайд и без того внимательно и даже жадно смотрел на Сондру. Она пленяла его не только своим положением, богатством, тонким вкусом в одежде и манерами, — она принадлежала к тому типу женщин, который особенно привлекал его: может быть, более утонченная, не такая необузданная, хотя вряд ли менее эгоистичная, она чем-то походила на Гортензию Бригс. В своем роде это была маленькая, но упрямая Афродита: она стремилась во что бы то ни стало доказать каждому сколько-нибудь привлекательному мужчине гибельную силу своих чар и в то же время старалась не связывать себя какими-либо узами и обязательствами. Однако по разным причинам, которые она и сама не вполне понимала, ее влекло к Клайду. У него не было ни денег, ни положения в обществе, но он ей нравился. Итак, она прежде всего проверила, тут ли он, затем постаралась не дать ему заметить, что она первая его увидела, и, наконец, приложила все усилия, чтобы его ослепить, — словом, вела себя в духе Гортензии (именно эта тактика всего сильнее действовала на Клайда). Клайд, не отрываясь, смотрел, как она переходила с места на место; ее прозрачное вечернее шифоновое платье отливало всеми оттенками от бледно-желтого до густо-оранжевого, и это необыкновенно шло к ней, к ее глазам и волосам. Обменявшись приветствиями и замечаниями почти со всеми в комнате, она наконец соблаговолила заметить и Клайда. — А, вот и вы! Решились наконец показаться? Я не была уверена, что вы сочтете это интересным. Вас уже, конечно, со всеми познакомили? — И она посмотрела кругом, как бы желая сказать, что если это еще не сделано, она сама познакомит его с остальными. А тех очень мало занимал Клайд, зато любопытство их было задето тем, что к нему так внимательна Сондра. — Кажется, я знаком уже почти со всеми. — Кроме Фредди Сэлса: он только что пришел со мной. Послушайте, Фредди, — окликнула она затянутого во фрак высокого стройного юношу с мягким овалом лица и явно завитыми волосами; он подошел и посмотрел на Клайда сверху вниз, как забияка-петух на воробья. — Это Клайд Грифитс, я вам о нем говорила, Фред, — быстро начала Сондра, — посмотрите, как он похож на Гилберта. — Очень похож? — воскликнул этот любезный юноша; он, должно быть, страдал близорукостью и потому близко нагнулся к Клайду. — Я слышал, вы двоюродный брат Гила? Я хорошо его знаю. Мы с ним вместе учились в Принстоне. Я жил здесь, прежде чем поступил в «Дженерал электрик» в Скенэктеди. Но я тут часто бываю. Вы, кажется, служите на фабрике? — Да, служу, — сказал Клайд, изрядно робея перед этим, как видно, очень образованным юношей. Клайд побаивался, что этот молодой человек заговорит с ним о таких вещах, в которых он, не получивший никакого специального технического образования, ничего не понимает. — Вы, вероятно, заведуете каким-нибудь отделением? — Да, заведую, — настороженно и беспокойно ответил Клайд. — Знаете, — оживленно продолжал мистер Сэлс (он очень интересовался коммерческими и техническими вопросами), — я никогда не мог понять, что хорошего в этом производстве воротничков, если, конечно, не говорить о прибыли. Мы с Гилом часто спорили об этом, когда учились в колледже. Он уверял меня, что изготовлять и распространять воротнички — дело большой социальной значимости, это придает некоторую шлифовку и приличные манеры тем людям, которые не могли бы приобрести их, если бы не было дешевых воротничков. Я думаю, он это где-нибудь вычитал. Я всегда над ним смеялся. Клайд пытался найти какой-то ответ, но все это было выше его понимания. «Социальная значимость»… что Сэлс хотел этим сказать? Вероятно, это связано с серьезными науками, которые он изучал в колледже. Клайд ответил бы как-нибудь уклончиво или вовсе невпопад, если бы его не выручила Сондра; даже не подозревая о том, в какое трудное положение он попал, она воскликнула: — Пожалуйста, без споров, Фредди! Это совсем неинтересно. И потом, я хочу познакомить его с моим братом и с Бертиной. Вы помните мисс Крэнстон? Тогда, весной, мы с ней вместе были у вашего дяди. Клайд обернулся. А Фред, получив щелчок, молча, влюбленными глазами посмотрел на Сондру. — Помню, конечно, — начал Клайд; он давно уже наблюдал за этой парой: после Сондры Бертина казалась ему самой привлекательной из всех девушек, хотя он ее совершенно не понимал. Скрытная, лукавая и неискренняя, она вызывала в нем тревожное сознание собственного ничтожества, растерянности перед нею и перед тем миром, который она олицетворяла. — А, здравствуйте! Очень приятно снова увидеть вас, — протянула она, окинув его улыбающимся и в то же время равнодушно-насмешливым взглядом серо-зеленых глаз. Она нашла, что он недурен, но предпочла бы видеть его более энергичным и уверенным в себе. — Вы, кажется, страшно заняты, много работаете? Но теперь, когда первый шаг сделан, я думаю, мы будем видеть вас чаще? — Да, надеюсь, — ответил он, показывая в улыбке свои превосходные зубы. Ее глаза словно говорили, что она сама не верит собственным словам, да ведь и Клайд тоже не верит в то, что сказал, но это необходимо, и, пожалуй, забавно — говорить такие вещи. Примерно в том же духе держал себя с Клайдом и брат Сондры, Стюарт. — Здравствуйте, — сказал он, — рад с вами познакомиться. Сестра говорила мне о вас. Предполагаете надолго остаться в Ликурге? Это было бы очень приятно. Надеюсь, мы с вами будем встречаться время от времени. Клайд совсем не был в этом уверен, но ему очень нравился легкий, беззаботный смех Стюарта — он смеялся громко, весело и равнодушно, показывая ровные белые зубы. С восторженным удивлением смотрел Клайд, как непринужденно Стюарт повернулся и взял за руку проходившую мимо Вайнет Фэнт. — Одну минуту, Вайн. Я хочу вас спросить кое о чем. И он пошел с нею в другую комнату, наклоняясь к ней и оживленно беседуя. Клайд отметил превосходный покрой его костюма. «Как у них тут весело, — думал он, — какие они все оживленные». В это время Джил Трамбал стала звать: — Идите все к столу! Я не виновата. Что-то не ладилось у повара, да и вы все собрались очень поздно. Покончим с обедом и будем танцевать. — Вы сядете между мною и мисс Трамбал, когда она усадит всех остальных, — успокоительно сказала Сондра. — Вот мило будет, правда? А теперь ведите меня в столовую. Она взяла Клайда под руку, и ему показалось, что он медленно, но верно возносится прямо в рай.Глава 45
Во время обеда шла болтовня о различных местах, лицах, планах, совершенно незнакомых Клайду. Однако присущее Клайду обаяние помогло ему отчасти победить пренебрежение и равнодушие окружающих, особенно девушек, заинтересованных тем, что он нравится Сондре. Джил Трамбал, сидевшая рядом с ним, пожелала узнать, откуда он приехал, как жил дома, с какими людьми встречался, почему решил переехать в Ликург? Вопросы эти, заданные вперемежку с пустыми шуточками по адресу присутствующих здесь девушек и их поклонников, нередко ставили Клайда в тупик. Он понимал, что не может сказать правду о своей семье. Поэтому он сообщил, что его отец управляет отелем в Денвере, — не очень большим, но все же отелем, а сам он приехал в Ликург потому, что дядя, встретясь с ним в Чикаго, предложил ему познакомиться с производством воротничков. Он еще не уверен, что дело в целом интересует его и что стоит этим заниматься дальше; просто он хочет выяснить, что эта работа может дать ему в будущем. Услышав это, Джил и Сондра сделали вывод, что, вопреки слухам, исходящим от Гилберта, у Клайда имеются кое-какие собственные средства и занятие, к которому он сможет вернуться, если потерпит неудачу в Ликурге. Это было очень важно не только для Сондры и Джил, но и для всех остальных. Как бы красив и симпатичен ни был Клайд и каковы бы ни были его родственные связи, неприятно было думать, что он просто ничто, человек без всякого положения в обществе, и только старается, как утверждала Констанция Вайнант, примазаться к семье своего двоюродного брата. К простому служащему или бедному родственнику, независимо от его кровных связей, можно относиться разве что с сочувствием, — но если у него есть хоть какие-то средства и там, откуда он родом, он принят в обществе, это совсем другое дело. И Сондра, успокоившись на этот счет и видя, что Клайд более приемлем в обществе, чем она предполагала, решила быть внимательней к нему. — Могу я надеяться, что вы согласитесь танцевать со мной после обеда? — это было чуть ли не первое, что сказал ей Клайд, поймав ее приветливую улыбку, когда за столом зашла речь о каком-то танцевальном вечере. — Конечно, если хотите, — кокетливо ответила она: ей хотелось, чтобы он еще больше увлекся ею. — Один танец? — А сколько же вам нужно? Здесь, как видите, есть еще с десяток молодых людей. Вы получили программу танцев, когда пришли? — Нет, я не видел никакой программы. — Ну, ничего. После обеда достанете. Вы можете записать для меня третий и восьмой, так что у вас останется время и для других. — Она чарующе улыбнулась. — Вы должны быть любезны со всеми, понимаете? — Конечно, понимаю. — Он не спускал с нее глаз. — Но с тех пор, как я увидел вас у дяди, я все время мечтал встретить вас снова. Я всегда искал ваше имя в газетах. Он посмотрел на нее вопросительно и умоляюще, и Сондра против воли была тронута этим наивным признанием. Ясно, он не мог бывать там, где бывала она, и все-таки следил за ней и за всем, что она делала, по газетам. Она не могла отказать себе в удовольствии поговорить еще на эту тему. — Неужели? Как это мило. Но что же вы читали обо мне? — Что вы были на Двенадцатом озере и на Лесном, что вы участвовали в состязаниях по плаванию на озере Шейрон и были у Пола Смита. И что вы интересуетесь кем-то, кто живет на озере Скрун, и, по-видимому, собираетесь выйти за него замуж. — Разве об этом писали? Как глупо. В газетах всегда пишут разные глупости. По ее тону Клайд понял, что позволил себе слишком много. Он смутился, и это смягчило Сондру: через минуту она возобновила разговор с прежним оживлением. — Вы любите ездить верхом? — спросила она ласково и примирительно. — Никогда не пробовал. Знаете, просто не приходилось. Но я думаю, что сумел бы, если бы попробовал. — Конечно, это не так трудно. Вам надо бы взять один-два урока, и тогда, — прибавила она, несколько понизив голос, — мы могли бы с вами иногда покататься вместе. У нас на конюшне масса лошадей, я уверена, что они вам понравятся. Клайда бросило в жар. Сондра приглашает его кататься! Да еще предлагает пользоваться одной из своих лошадей. — О, я был бы в восторге! — сказал он. — Это будет просто замечательно. Молодежь вставала из-за стола. Никто больше не интересовался обедом, потому что в соседней комнате уже появился камерный квартет и послышались звуки первого фокстрота; из этой и без того просторной комнаты была вынесена вся мебель, которая могла бы помешать танцам, оставались только стулья вдоль стен. — Вам надо позаботиться о программе и о первом танце: пригласите кого-нибудь, пока не поздно, — предупредила Сондра. — Да, я сейчас все сделаю. Но неужели вы обещаете мне только два танца? — Ну хорошо, запишите третий, пятый и восьмой в первой половине. — Она весело махнула ему рукой, и он поспешно пошел доставать программу. Танцевали только модные, очень быстрые фокстроты, и танцоры, в соответствии со своим темпераментом и настроением, вносили в них новые па собственного изобретения. Клайд весь прошлый месяц много танцевал с Робертой и теперь был в превосходной форме; притом его безмерно возбуждало сознание, что наконец-то он находится в обществе такой удивительной девушки, как Сондра, и даже может высказать ей свое восхищение. И хотя он старался казаться любезным и внимательным, танцуя с другими девушками, он не мог отвести глаз от Сондры. У него едва не кружилась голова, когда Сондра, мечтательно и томно скользя мимо в объятиях Гранта Крэнстона, бросала как бы случайный взгляд в его сторону и всем своим видом давала ему понять, как она грациозна, романтична и поэтична всегда и во всем — поистине прекраснейший цветок жизни. И вдруг Нина Темпл, с которой он танцевал, заметила: — Она очень грациозна, правда? — Кто? — спросил Клайд с невинным видом, но тут же покраснел до ушей. — Я не знаю, о ком вы говорите. — Не знаете? А почему же вы покраснели? Он понял, что выдал себя и что его попытка ускользнуть от прямого ответа просто смешна. Он отвернулся, но в эту минуту музыка смолкла, и танцоры направились к стульям. Сондра ушла с Грэнтом Крэнстоном, а Клайд подвел Нину к мягкому креслу в нише окна, в библиотеке. Следующий танец он танцевал с Бертиной и был слегка задет холодным, откровенным равнодушием, с каким она принимала его любезности. Клайд интересовал ее лишь постольку, поскольку им, видимо, интересовалась Сондра. — Вы хорошо танцуете, — сказала она ему. — Наверно, вы много танцевали там, где жили раньше. Вы ведь, кажется, приехали из Чикаго? Она говорила медленно и небрежно. — Да, я жил в Чикаго до того, как приехал сюда, но там я не так уж много танцевал: мне приходилось работать. Он подумал, что у таких девушек, как эта, есть все, чего они могут пожелать, а у таких, как Роберта, нет ничего. И все же в это мгновение Роберта больше нравилась ему. Она куда нежнее, мягче, добрее, не такая ледяная… Музыка заиграла снова; то и дело мелодию прерывал томный голос одинокого саксофона; Сондра подошла к Клайду, вложила правую руку в его левую, позволила ему обнять себя — и все это так легко, свободно, весело, что Клайд, застигнутый врасплох среди своих грез о ней, затрепетал от восторга. Она смотрела ему в глаза с обычным лукавым кокетством и улыбалась нежной, обманчивой и все же многообещающей улыбкой, от которой его сердце забилось быстрее, а горло судорожно сжалось. Тонкий свежий аромат ее духов щекотал его ноздри, точно благоухание весны. — Приятно проводите время? — Да, любуюсь вами. — Здесь еще много хорошеньких девушек, которыми можно любоваться! — Но ни одна не может сравниться с вами! — И я танцую лучше всех, и я гораздо красивее, чем все остальные девушки. Ну вот, все это я сказала за вас. А что вы теперь скажете? Она посмотрела на него насмешливо, и Клайд, поняв, что говорить с ней совсем не так легко, как с Робертой, смутился и покраснел. — Понимаю, — сказал он серьезно, — вам все говорят одно и то же, и вы не хотите слышать это еще раз от меня. — Ну нет, далеко не все. Очень многие вовсе не считают меня красивой. Простота его ответа и пробудила любопытство Сондры и сбила ее с толку. — Не считают вас красивой? — переспросил он весело, увидев, что она уже не смеется над ним. Но все же он побоялся сказать ей еще какой-нибудь комплимент. Он поискал другую тему и решил вернуться к начатому за столом разговору о верховой езде и теннисе. — Вы, наверно, любите всякий спорт на свежем воздухе, правда? — спросил он. — Еще как! — быстро и горячо ответила она. — Люблю больше всего на свете. До безумия люблю ездить верхом, плавать, грести, кататься на моторной лодке и на акваплане. А вы плаваете? — Ну конечно! — гордо сказал Клайд. — Играете в теннис? — Немного, только начинаю, — ответил он, боясь признаться, что совсем не играет. — Я обожаю теннис. Мы с вами как-нибудь сыграем. После этого Клайд совсем воспрянул духом. Легкая, как пушинка, Сондра кружилась с ним под заунывные звуки популярной любовной песенки и продолжала разговор: — Белла Грифитс, Стюарт, Грэнт и я отлично сыгрались. Прошлым летом мы всех победили на Лесном озере и на Двенадцатом тоже. А видели бы вы, как я ныряю с вышки! У нас, то есть у Стюарта, самая быстроходная моторная лодка: шестьдесят миль в час! Клайд сразу понял, что он коснулся того предмета, который не только занимал, но и волновал ее. И не только потому, что всякие физические упражнения доставляли ей удовольствие, но и потому, что она выходила победительницей в тех видах спорта, которыми особенно увлекались все ее друзья и знакомые, и упивалась успехом. И, наконец (это он понял только позднее), ее восхищала возможность часто переодеваться, показываться в обществе в самых необычайных нарядах, — а это для нее значило очень много. Как она выглядела в купальном костюме! А в костюме для верховой езды, или для тенниса, или для танцев, или для экскурсий в автомобиле! Они продолжали танцевать, взволнованные ощущением, что их одинаково влечет друг к другу; они пытливо и весело заглядывали друг другу в глаза — и в этих взглядах сквозили нежность и восхищение; Сондра намекала, что если в ее кругу Клайда сочтут подходящим человеком в спортивном, финансовом и во всех прочих отношениях, то она, пожалуй, сможет ввести его в дома своих друзей. И Клайд, который был в приподнятом настроении, почти поверил, что это возможно, что так и будет. Но под его напускной обманчивой уверенностью и спокойствием таилось неверие в себя; это сказывалось в нетерпеливом и в то же время печальном блеске его глаз; и хотя голос Клайда звучал как будто мужественно и твердо, но если бы Сондра умела в этом разбираться, она различила бы в нем нотки, очень далекие от подлинной уверенности. — Как жаль, что танец кончился, — сказал он печально. — Пускай сыграют еще раз! — сказала Сондра и захлопала в ладоши. Оркестр вновь заиграл тот же мотив, и они опять заскользили по паркету, наклоняясь и покачиваясь, всецело отдаваясь ритму музыки, словно две щепочки, уносимые бурным, но дружелюбным морем. — Я так рад, что я снова с вами… танцевать с вами… это так чудесно, Сондра… — Вы не должны меня так называть! Мы с вами еще недостаточно знакомы. — Я хотел сказать «мисс Финчли». Но вы не рассердитесь на меня опять? Нет? Он сильно побледнел, лицо у него снова стало грустное. Сондра это заметила. — Нет. Разве я сердилась на вас? Право, нет. Вы мне нравитесь… немного… когда не впадаете в сентиментальность. Музыка прекратилась. Кончился легкий, стремительный танец. — Пойдем посмотрим, идет ли еще снег. Хотите? — спросила Сондра. — Конечно, хочу! Скользя между прогуливающимися парами, они побежали к боковой двери в бесшумный мир, сплошь окутанный мягким, пушистым снегом. Воздух был полон тихо кружащихся и падающих хлопьев.Глава 46
Следующие дни декабря принесли Клайду несколько приятных, но в то же время тревожных и осложнивших его жизнь событий. Сондра Финчли, найдя в нем приятного поклонника, не собиралась упускать его из виду. Однако она занимала видное положение в обществе и потому не знала, как быть: Клайд был слишком беден и слишком явно пренебрегали им сами Грифитсы, чтобы она рискнула открыто проявить свой интерес к нему. Вначале Сондра обратила внимание на Клайда лишь по одной причине; ей хотелось позлить Гилберта дружбой с его двоюродным братом. Теперь к этой причине прибавилась другая: Клайд ей нравился. Он был обаятелен и преклонялся перед нею и ее положением, — это и занимало ее, и льстило ей. По своему характеру она жаждала именно такого обожания, искреннего и романтического. К тому же ей нравились и внешность Клайда и некоторые его внутренние качества: он был влюблен, но без излишней смелости, которая досаждала бы ей; он поклонялся ей, но так, как можно поклоняться живой женщине; и в нем чувствовалась та же живость души и тела, какая была свойственна и ей самой. И потому Сондра упорно думала о том, как бы продолжить знакомство с Клайдом, не привлекая слишком большого внимания и не вызывая неблагоприятных толков: мысль эта заставляла ее хитрый маленький мозг напряженно работать каждую ночь, когда она возвращалась домой. Однако на тех, кто видел Клайда в тот вечер у Трамбалов, произвели такое впечатление его мягкие, приятные манеры и интерес, который проявляла к нему Сондра, что все они, особенно девушки, готовы были принять его в свою компанию. Вот почему через две недели, когда Клайд, выбирая в магазине Старка недорогие рождественские подарки для матери, отца, сестер, брата и Роберты, встретил Джил Трамбал, тоже занятую покупками, она пригласила его на вечер с танцами, который устраивала Ванда Стил на следующий день — в канун рождества — у себя в Гловерсвиле. Джил собиралась туда с Фрэнком Гарриэтом, однако не знала точно, будет ли там Сондра: ее приглашали куда-то в другое место, но она все же предполагала приехать в Гловерсвил, если сможет. Но, прибавила Джил, ее сестра Гертруда будет рада, если Клайд согласится ее сопровождать. Это был вежливый способ обеспечить Гертруде кавалера. Кроме того, Джил знала: если Сондра услышит, что Клайд будет у Стилов, она постарается как-нибудь отделаться от другого приглашения. — Трейси охотно заедет за вами, — продолжала она, — или… — она поколебалась, — может быть, вы пообедаете у нас перед поездкой? Запросто, по-семейному. Мы будем вам очень рады. У Ванды начнут танцевать не раньше одиннадцати. Танцы были назначены на пятницу — именно этот вечер Клайд еще раньше обещал провести с Робертой, так как в субботу она уезжала на три дня рождественских праздников к своим родителям, — до сих пор они с Клайдом еще не расставались на такой долгий срок. Она приготовила ему подарок — самопишущую ручку и «вечный» карандаш, — и потому ей особенно хотелось, чтобы он пришел к ней в этот последний вечер, о чем она ему не раз говорила. И он, со своей стороны, хотел в этот вечер сделать ей сюрприз: подарить туалетный прибор. Но теперь он слишком обрадовался возможности вновь встретиться с Сондрой и потому решил нарушить свое обещание, хотя и понимал, что это будет нелегко и непорядочно по отношению к Роберте. Как ни захватило его увлечение Сондрой, все же он был привязан к Роберте и ему не хотелось ее огорчать. Он знал, как она будет разочарована! И в то же время он был так польщен и восхищен этим внезапным, хотя и запоздалым признанием общества, что ему и в голову не пришло отказаться от приглашения Джил. Пренебречь возможностью побывать в гостях у семейства Стил, да еще в обществе Трамбалов и без всякой помощи Грифитсов! Пусть это нехорошо, жестоко, пусть это предательство по отношению к Роберте, но зато он увидит Сондру! Итак, он заявил, что принимает приглашение, и тут же решил зайти к Роберте и извиниться перед нею: он придумает какое-нибудь объяснение, скажет, например, что Грифитсы пригласили его на обед. Для нее это достаточно веский, неотразимый довод. Но он не застал ее дома и решил, что объяснится с нею завтра утром на фабрике, — напишет записку, если понадобится. Чтобы утешить Роберту, Клайд решил, что он пообещает проводить ее в субботу до Фонды, и тогда передаст ей подарок. Но в пятницу утром на фабрике, вместо того чтобы поговорить с нею серьезно и показать, что он очень огорчен, Клайд только шепнул: — Я не могу прийти к тебе сегодня, дорогая. Я приглашен к дяде, мне непременно надо быть у него. Не знаю, сумею ли забежать после. Постараюсь, если будет не очень поздно. Но если мы сегодня не увидимся, я провожу тебя завтра до Фонды. Я хочу тебе кое-что подарить. Ты не сердись. Понимаешь, я только утром получил приглашение, а то я предупредил бы тебя раньше. Ты не будешь сердиться, правда? Он грустно посмотрел на нее, делая вид, что очень огорчен. Роберта покачала головой, как бы говоря: «Нет, я не сержусь», — но она была очень расстроена и подавлена тем, что Клайд с такой легкостью пренебрег и ее подарками, и возможностью провести с нею счастливый вечер. Это случилось впервые — и она спрашивала себя, что может предвещать такое внезапное равнодушие? До сих пор Клайд всегда был чрезвычайно внимателен к ней, свое увлечение Сондрой он скрывал под напускной неизменной нежностью, которой было вполне достаточно, чтобы обмануть Роберту. Может быть, он сказал правду, и ему нельзя было отказаться от приглашения. Но она так мечтала об этом вечере! А теперь они не увидятся целых три дня! На фабрике, а потом и дома она предавалась горестным сомнениям. Если бы Клайд по крайней мере зашел к ней от дяди, чтобы она могла отдать ему свои подарки… но он сказал, что обед скорее всего кончится поздно. Он не уверен, что сумеет освободиться. Возможно, что после обеда они все вместе еще куда-нибудь поедут. Между тем Клайд отправился сначала к Трамбалам, потом к Ванде Стил и везде встречал такое внимание, о котором месяц назад не мог и мечтать. В доме Ванды Стил его сразу познакомили со множеством людей, которые, видя, что он приехал с молодыми Трамбалами, и узнав, что он Грифитс, немедленно пригласили его к себе или дали понять, что скоро пригласят. В заключение он был самым любезным образом приглашен на новогодний вечер к Вендэмам в Гловерсвиле и на обед и танцы в сочельник к Гарриэтам в Ликурге; на этот вечер были приглашены Гилберт и Белла, а также Сондра, Бертина и другие. Наконец около полуночи появилась и сама Сондра в сопровождении Скотта Николсона, Фредди Сэлса и Бертины; сперва она притворялась, что не подозревает о присутствии Клайда, потом удостоила его приветственным: «А, это вы! Не ожидала встретить вас здесь!» Она была обольстительна в живописно накинутой на плечи темно-красной испанской шали. Но Клайд с самого начала чувствовал, что она все отлично знала, и, выбрав первую удобную минуту, подошел к ней и спросил вкрадчиво: — Вы будете танцевать со мной сегодня? — Да, конечно, если вы меня пригласите. Я думала, что вы, может быть, уже меня забыли, — пошутила она. — Разве я могу забыть вас! Я только потому и приехал сюда, что надеялся увидеть вас снова. После нашей последней встречи я не мог думать ни о ком и ни о чем, кроме вас. В самом деле, он так слепо восхищался ею, каждым ее шагом, каждой ужимкой, что и это ее притворное равнодушие не возмущало, а только еще больше привлекало его. И теперь сила и искренность его чувства совсем покорили Сондру. Его глаза сузились и горели такой страстью, что она почувствовала необычайное волнение. — О, вот какие милые вещи вы умеете говорить! И как это у вас мило получается! — Она смотрела на него, улыбаясь, поправляя большой испанский гребень в волосах. — Вы говорите так, точно в самом деле это чувствуете. — Вы хотите сказать, что не верите мне, Сондра? — спросил он пылко, и то, что он вторично назвал ее по имени, теперь взволновало ее так же, как и его. На этот раз она не стала сердиться, его дерзость была ей приятна. — Нет, конечно, я верю. — Впервые она говорила с ним нерешительно, без прежнего спокойствия. Она почувствовала, что теперь ей труднее находить правильную линию поведения и более или менее сдерживать Клайда. — Ну, говорите же, какой танец вам оставить, а то, я вижу, за мной идут. — И она с лукавой и вызывающей улыбкой протянула ему маленькую программу. — Хотите одиннадцатый? Это уже скоро, сейчас будет десятый. — И это все? — Ну, еще четырнадцатый, если вы такой жадный, — засмеялась она, глядя прямо в глаза Клайду, и этот смеющийся взгляд совсем его покорил. Танцуя затем с Фрэнком Гарриэтом, она узнала, что Клайд уже приглашен к Гарриэтам на сочельник и что Джессика Фэнт пригласила его в Утику на встречу Нового года; и Сондра решила, что он теперь на пути к настоящим успехам и, очевидно, совсем не будет такой обузой в обществе, как она боялась. В нем есть какое-то обаяние, это несомненно. И он так ей предан! Вполне возможно, думала она, что теперь, когда Клайд принят в семьях, занимающих видное положение, и другие девушки тоже настолько заинтересуются и даже увлекутся им, что пожелают зачислить его в свою свиту. Тщеславная и надменная, она решила, что не допустит этого. Поэтому, во второй раз танцуя с Клайдом, она сказала: — Вы, кажется, в сочельник приглашены к Гарриэтам? — Да, и всем этим я обязан вам! — горячо воскликнул он. — Вы тоже там будете? — Нет, и мне ужасно жаль. Я туда приглашена, и теперь мне очень хотелось бы пойти, но, понимаете, я еще раньше уговорилась поехать на праздники в Олбани и потом в Саратогу. Я уезжаю завтра и вернусь накануне Нового года. Но друзья Фредди устраивают в Скенэктеди грандиозную встречу Нового года, там будет ваша кузина Белла, и мой брат Стюарт, и Грэнт, и Бертина. Если хотите, можете поехать с нами. Она чуть было не сказала «со мной», но сдержалась. Она решила показать всем подругам свою власть над ним: они убедятся в этом, когда он ради нее откажется от приглашения мисс Фэнт. И Клайд тотчас согласился, в восторге, что можно будет снова встретиться с нею. В то же время его удивило и почти испугало, что она так небрежно, мимоходом и, однако, решительно устраивает его встречу с Беллой. Та, конечно, сразу сообщит дома, что он появляется в обществе Сондры и ее друзей. Что-то из этого выйдет? Как-никак Грифитсы до сих пор не приглашали его к себе — даже на рождество. А ведь им стало известно, что Сондра подвезла его в своей машине и что он был затем приглашен в клуб «Сейчас и после», но они ничего не предприняли. Гилберт был взбешен, его родители озадачены — и, не зная, как следует поступать дальше, пока отмалчивались. Но компания, в которую Сондра пригласила Клайда, должна была остаться в Скенэктеди до следующего утра, — обстоятельство, которое она не потрудилась сначала объяснить Клайду. А он совсем забыл, что Роберта к тому времени вернется из Бильца и, после того как он оставил ее одну в канун рождества и после этой трехдневной разлуки, будет, конечно, ждать, что он встретит с нею Новый год. Об этом осложнении Клайд подумал гораздо позже. А теперь он испытывал только блаженство от сознания, что Сондра позаботилась о нем, и тотчас с восторгом согласился. — Но знаете, — предостерегла его Сондра, — вы не должны оказывать мне слишком много внимания, когда мы с вами встречаемся. И не обижайтесь, если я буду не слишком внимательна к вам. Иначе мне нельзя будет часто с вами видеться. Мои родители, знаете ли, странные люди и некоторые мой друзья тоже… Но если вы будете просто в меру любезны и даже немножко равнодушны, — понимаете? — тогда мы все-таки сможем встречаться зимой. Вы поняли, да? Невыразимо взволнованный этим признанием, которое — он это знал — было вызвано его пылкостью, Клайд пытливо и страстно взглянул на Сондру. — Так я все-таки не совсем безразличен вам, правда? — сказал он требовательно и вместе с тем умоляюще; глаза его сияли страстным восторгом, это бесконечно нравилось Сондре. И, стараясь сохранить осторожность и все же поддаваясь увлечению, взволнованная и, однако, не уверенная, что поступает благоразумно, она ответила: — Хорошо, я скажу вам: и да и нет. Я еще не решила. Вы мне очень нравитесь. Иногда мне кажется, что вы мне нравитесь больше всех. Видите ли, мы еще так мало знаем друг друга… Но вы все-таки поедете со мной в Скенэктеди? — Поеду ли!.. — Я напишу вам об этом подробнее или позвоню. У вас есть телефон? Он дал ей свой номер. — А если что-нибудь изменится или я не смогу поехать, не обижайтесь. Мы потом еще увидимся с вами где-нибудь, непременно! Она улыбнулась, и Клайд почувствовал, что задыхается от волнения. Как она откровенна! Она сказала, что иногда он ей очень нравится, и этого было достаточно, чтобы он чуть не опьянел от радости. Подумать только: такая красавица старается ввести его в свою жизнь — такая удивительная девушка, окруженная столькими друзьями и поклонниками, среди которых она может сделать выбор.Глава 47
Следующее утро. Половина седьмого. Клайд проспал всего час после возвращения из Гловерсвила и встал встревоженный, не зная, как ему быть с Робертой. Сегодня она уезжает в Бильц. Он обещал проводить ее до Фонды. Но теперь у него нет желания ехать. Разумеется, он сочинит что-нибудь в извинение. Но что? К счастью, за день перед этим он слышал, как Уигэм сказал Лигету, что на сегодня назначается совещание начальников цехов, и Лигет должен после работы явиться в кабинет Смилли. Клайда не приглашали, потому что его маленькое отделение было лишь частью цеха Лигета. Теперь Клайд решил, что он может сослаться на это совещание, и перед полуденным перерывом положил Роберте на стол записку. В записке стояло: «Дорогая, страшно огорчен, но мне только что сказали, что сегодня в три часа я должен быть внизу, на совещании начальников цехов. Значит, я не сумею поехать с тобой в Фонду, но забегу к тебе на несколько минут после работы. У меня есть кое-что для тебя, так что жди! Не огорчайся уж слишком, я ничего не могу поделать. В среду, когда вернешься, обязательно увидимся. Клайд». В первую минуту, увидев записку, которую не могла сейчас же прочесть, Роберта обрадовалась: она подумала, что Клайд хочет точнее условиться о встрече. Но когда, несколько минут спустя, она вышла в гардеробную, чтобы украдкой прочитать эти несколько строк, лицо ее омрачилось. Вот еще новое огорчение вдобавок ко вчерашнему разочарованию, когда она напрасно прождала Клайда; к тому же сегодня он кажется рассеянным и даже холодным… Роберта спрашивала себя, в чем причина этой внезапной перемены. Может быть, он и в самом деле не может не явиться на это совещание, как не мог не пойти к дяде, когда его пригласили на обед. Но если бы он любил ее по-прежнему, то накануне, предупреждая, что вечером не придет к ней, он не мог бы оставаться таким веселым и спокойным, несмотря на ее отъезд. Ведь он знал, что она уезжает на три дня, знал, что разлука с ним для нее всегда большое огорчение. Ее радостные надежды сразу сменились глубокой тоской и унынием. Всегда у нее так получается в жизни! Через два дня рождество, ей надо ехать домой в Бильц, где вовсе не весело и только от нее ждут радости и веселья. И придется ехать одной, а Клайд забежит к ней только на несколько минут. Она вернулась на свое место, и лицо ее ясно говорило, что она глубоко несчастна. Она ничего не видела вокруг и двигалась, как автомат. Клайд заметил эту перемену, но, захваченный внезапным, непобедимым чувством к Сондре, не способен был раскаиваться. Как всегда по субботам, в час пополудни мощные гудки соседних фабрик возвестили о конце рабочего дня — и Клайд и Роберта порознь направились к ее дому. По дороге он обдумывал, что сказать Роберте. Что делать? Как притворяться нежным, когда он не чувствует нежности, когда увлечение его охладело и поблекло? Как продолжать эту связь, которая еще две недели назад была живой и страстной, а теперь стала поразительно слабой и бесцветной? Нельзя сказать или как-то показать Роберте, что он к ней охладел, это будет слишком жестоко, и кто знает, что она на это ответит? Как поступит? А с другой стороны, теперь, когда все его мечты и планы связаны с Сондрой, не годится успокаивать Роберту ласковыми словами и сохранять прежние отношения. Невозможно! Кроме того, если появится хоть малейшая надежда, что Сондра тоже полюбит его, конечно же, он сразу захочет оставить Роберту. А почему бы и нет? Что может дать ему Роберта? Можно ли сравнить ее по красоте и положению в обществе с Сондрой! Разве хорошо будет со стороны Роберты, если она станет требовать и ждать, чтобы он по-прежнему был занят только ею и отказался ради нее от всех связей и возможностей, какие открывает для него близость с Сондрой. Нет, право же, это несправедливо! Так рассуждал Клайд, а Роберта, уже успевшая вернуться домой, тем временем спрашивала себя, почему он вдруг стал к ней равнодушен. Почему он нарушил свое обещание и не пришел вчера вечером, почему теперь, когда она уезжает на праздники домой и не увидится с ним целых три дня, он не хочет даже проводить ее до. Фонды? Он говорит о совещании, но правда ли это? Она могла бы, если надо, подождать его до четырех часов, но не решилась это предложить, потому что чувствовала в поведении Клайда какую-то уклончивость, отчужденность… Что же все это значит? Ведь еще так недавно возникла эта близость, которая с самого начала и до сего дня, казалось, так прочно их соединяла. Неужели это — опасная перемена, быть может, даже конец их любви, их чудесной сказки? О, боже! А она отдала ему так много… теперь от его верности зависит все: ее будущее, ее жизнь… Она стояла посреди комнаты, раздумывая над всем этим, когда явился Клайд с рождественским подарком под мышкой и с напускной беспечностью на лице, никак не отвечавшей его твердому решению по возможности изменить свои отношения с Робертой. — Ох, до чего же я огорчен, Берта, — начал он оживленным тоном, в котором смешивались притворная веселость, сочувствие и неуверенность. — Понимаешь, еще два часа назад я и понятия не имел, что они собираются устраивать это совещание. Но ты же знаешь, как это бывает. От таких вещей просто невозможно уклониться. Ты не очень огорчена, дорогая? — По выражению ее лица и в эту минуту и еще раньше, на фабрике, он видел, что она в самом печальном настроении. — Хорошо еще, что мне удалось вырваться на минутку и принести тебе вот это, — прибавил он, протягивая ей подарок. — Я хотел принести вчера, но помешал этот обед. Мне ужасно жалко, что так вышло, правда, жалко! Если бы он принес свой подарок вчера вечером, Роберта была бы в восторге, но теперь она равнодушно поставила коробку на стол; вся прелесть подарка была для нее потеряна. — Ты хорошо провел вчера время, милый? — спросила она, желая узнать во всех подробностях, что же отняло его у нее. — Да, недурно, — ответил Клайд; он старался притвориться возможно более равнодушным, говоря об этом вечере, который так много значил для него и таил столько опасности для нее. — Я думал, что меня просто приглашают к дяде на обед, я ведь так и говорил тебе. А оказалось, что нужно проводить Беллу и Майру на вечер в Гловерсвил. Там живет богатая семья Стил, — знаешь, у которых большая перчаточная фабрика. Ну вот, они устроили танцевальный вечер, и мне пришлось проводить туда двоюродных сестер, потому что Гил не мог поехать. Но там было не особенно интересно. Я был рад, когда все это кончилось. Он произнес имена Беллы, Майры, Гилберта так, словно это было для него привычным делом, — такая интимность с Грифитсами неизменно производила на Роберту сильное впечатление. — А ты не мог уйти пораньше и зайти ко мне? — Не мог. Мне надо было дождаться их, чтобы вернуться всем вместе. А ты разве не хочешь взглянуть на мой подарок? — прибавил он, стараясь отвлечь ее от мыслей о вчерашнем: он знал как ей мучительно думать о том, что он оставил ее одну. Она стала развязывать ленту, которой была завязана коробка, но все время неотрывно думала о том, что еще мог таить в себе вчерашний вечер. Какие девушки, кроме Беллы и Майры, были на танцах у Стил? Может быть, Клайд в последнее время увлекся какой-нибудь другой девушкой и встретился там с нею? Раньше он часто упоминал о Сондре Финчли, Бертине Крэнстон и Джил Трамбал. Может быть, и они были там вчера? — А кто был там, кроме твоих двоюродных сестер? — спросила она вдруг. — О, масса народа, ты их не знаешь. Там съехались двадцать или тридцать человек из разных мест. — А из Ликурга, кроме твоих сестер, был кто-нибудь? — настаивала она. — Всего несколько человек. Мы захватили с собой Джил Трамбал и ее сестру. Это Белла придумала. Арабелла Старк и Перли Хайнс были уже там, когда мы приехали. Клайд не упомянул ни о Сондре, ни о других, кто его больше всех интересовал. Но в том, как он сказал это, в тоне его голоса и в блеске глаз было что-то странное, и его ответ не удовлетворил Роберту. Она очень встревожилась, но чувствовала, что сейчас неблагоразумно надоедать Клайду дальнейшими расспросами. Как бы он не рассердился. В конце концов в ее глазах он всегда был связан с этим миром. Она не хотела, чтобы он заподозрил, будто она старается получить какие-то права на него, хотя таково и было ее тайное желание. — А мне так хотелось вчера побыть с тобою и отдать тебе подарки, — сказала она, стараясь прогнать мрачные мысли и вызвать сочувствие Клайда. Он услышал печаль в ее голосе — прежде это всегда смягчало его, но теперь онне мог и не хотел поддаваться. — Но ты же знаешь, Берта, как было дело, — возразил он почти вызывающе. — Я ведь объяснил тебе. — Да, знаю, — грустно сказала она, пытаясь скрыть овладевшее ею уныние. Она развернула бумагу и открыла крышку коробки. Увидев туалетный прибор, она слегка повеселела: никогда еще у нее не было таких дорогих и изящных вещей. — Ах, как красиво! — воскликнула она с невольным интересом. — Я ничего подобного не ожидала! Рядом с этим мои маленькие подарки ничего не стоят. Она пошла достать их. Но Клайд видел, что даже его замечательный подарок не может рассеять уныние Роберты, вызванное его равнодушием. Его неизменная любовь была бы для нее несравнимо дороже всех подарков. — Нравится? — спросил он, наперекор всему горячо надеясь, что подарок отвлечет ее от грустных мыслей. — Конечно, милый, — ответила Роберта, с интересом рассматривая прибор. — Мои подарки куда скромнее, — прибавила она печально, подавленная крушением всех своих планов, — но они пригодятся тебе, и они всегда будут с тобой, у твоего сердца, это для меня главное. Она протянула ему коробочку с металлическим вечным карандашом и самопишущей ручкой; она выбрала их, думая, что они пригодятся Клайду в его работе на фабрике. Будь все это две недели назад, он горячо обнял бы ее и постарался бы утешить в том горе, которое ей причинил. Но теперь он только стоял и думал, как бы успокоить ее, не показавшись при этом слишком холодным, но и не проявляя обычной нежности. И он поспешил выразить бурный, но неискренний восторг по поводу ее подарка: — О, вот это великолепно, дорогая! Именно это мне и нужно! Ты просто не могла придумать ничего удачнее! Я теперь всегда буду ими пользоваться. Он сделал вид, что с величайшим удовольствием рассматривает карандаш и ручку, затем укрепил их в боковом кармане. И видя, как она стоит перед ним, печальная и задумчивая, — воплощение всего, что было так соблазнительно в их прежних отношениях, — он обнял ее и поцеловал. Вне всякого сомнения, она очень мила! И когда она охватила его шею руками и горько расплакалась, он прижал ее к себе и сказал, что ей незачем огорчаться: в среду она вернется, и все пойдет по-старому. И в то же время он подумал, что это неправда… а как это странно, — ведь всего какой-нибудь месяц назад он горячо любил Роберту… Удивительно, как быстро захватила его другая девушка! И все же это так. Роберта, наверно, думает, что он любит ее по-прежнему, но любви уже нет и никогда не будет. И поэтому он искренне жалел Роберту. Что-то странное было в его поведении в эту минуту. Роберта почувствовала это, слушая его слова и ощущая его ласки: им не хватало искренности. Он был слишком беспокоен, поцелуи его слишком равнодушны, в голосе не слышалось подлинной нежности. Вдобавок он в следующую же минуту постарался высвободиться из ее объятий и, взглянув на часы, сказал: — Однако мне пора, дорогая. Уже без двадцати три, а совещание назначено в три. Я бы очень хотел проводить тебя, но что делать — увидимся, когда вернешься. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и на этот раз Роберта окончательно поняла, что его чувство к ней изменилось, охладело. Он ласков, добр, но мысли его далеко… Она постаралась собрать все свои силы, призвала на помощь все свое самолюбие — это отчасти удалось ей — и сказала довольно холодно и решительно: — Ну что ж, я не хочу, чтобы ты опаздывал, Клайд. Иди скорее. Но я не собираюсь задерживаться дома надолго. Как ты думаешь, если я вернусь рано в первый день праздника, ты сможешь прийти ко мне вечером? Я не хочу опаздывать в среду на работу. — Разумеется, дорогая, я зайду, — сказал он весело и даже искренне, считая, что он никуда не приглашен на тот вечер, и радуясь возможности ускользнуть от нее сейчас. — Когда ты рассчитываешь вернуться? Она предполагала быть дома к восьми, и Клайд решил, что на этот раз, во всяком случае, сможет ее навестить. Он снова вынул часы. — А теперь мне все-таки пора, — сказал он и направился к двери. Обеспокоенная, охваченная тревогой за будущее, Роберта подошла к нему, взяла его за отвороты пальто и, глядя ему в глаза, умоляюще и настойчиво сказала: — Это верно, Клайд, ты придешь, как уговорились, на этот раз ты не отправишься еще куда-нибудь? — Не беспокойся, — ответил он. — Ведь ты знаешь меня. А вчера я ничего не мог поделать, дорогая. Но во вторник я приду наверняка. Он поцеловал ее и поспешил уйти, чувствуя, что, быть может, вел себя не совсем разумно, но не представляя себе, как же действовать иначе. Когда мужчина хочет порвать с девушкой, как он теперь, думал Клайд, следует быть тактичным и даже отчасти дипломатом. Он оказался не слишком искусен: вероятно, был какой-нибудь лучший способ… Но его мысли уже уносились к Сондре. Они вместе будут встречать Новый год в Скенэктеди, и тогда он сможет выяснить, так ли она заинтересована им, как казалось вчера. Когда Клайд вышел, Роберта подошла к окну и устало и печально посмотрела ему вслед, думая о том, что ее ждет. Что, если он ее разлюбит? Она все ему отдала. От него, от его отношения к ней зависит ее будущее. Неужели она уже надоела ему и он больше не хочет ее видеть? Ужасно, если так! Что тогда делать? Зачем она отдалась ему, зачем так быстро и легко уступила его настояниям? Она взглянула на голые, осыпанные снегом ветви деревьев и вздохнула… Праздники! Ехать домой в таком настроении… Притом Клайд занимает такое положение в здешнем обществе… Там столько блеска, столько развлечений, а что она может ему предложить? Она печально покачала головой, взглянула на себя в зеркало, потом уложила свои вещи и подарки, которые везла родным, и вышла из дому.Глава 48
После Ликурга, после общества Клайда, Бильц и его окрестности и фермы, похожие на грибы, произвели на Роберту гнетущее впечатление: все здесь слишком явственно говорило о нужде и лишениях, и потому бледнели чувства, естественные для человека, который вновь видит родные места. Сойдя с поезда подле сумрачного ветхого здания, служившего вокзалом, Роберта увидела своего отца; он был в том же старом зимнем пальто, что служило ему уже десятки лет, и ожидал ее со старой, но еще крепкой бричкой, в которую была запряжена лошадь, такая же костлявая и изнуренная, как он сам. Отец всегда казался Роберте усталым и несчастным. Лицо его просветлело, когда он увидел свою любимицу Роберту, и он весело заговорил с ней; она забралась в бричку, села рядом с ним, и они пустились в путь; дорога, ведущая к ферме, была ухабистая, извилистая, грязная, хотя в это время превосходные автомобильные шоссе везде уже стали обычным явлением. По пути Роберта отмечала каждый поворот, каждое дерево, каждую знакомую примету! Но мысли ее были печальны. Все кругом наводило уныние. Отец был хронически болен и не способен вести хозяйство, а младший брат Том и мать не умели и не могли помочь по-настоящему, и поэтому ферма, как и прежде, была для семьи тяжким бременем; много лет назад ее заложили за две тысячи долларов, и этот долг никак не удавалось выплатить. Труба с северной стороны по-прежнему нуждалась в починке, ступеньки еще больше осели, стены, заборы и надворные постройки были под стать остальному, хотя теперь все это и казалось несколько живописнее под снежным покровом зимы. Даже мебель была все та же — старый хлам с бору да с сосенки. Здесь ее ждали мать, младшая сестра и брат; они ничего не знали об ее истинных отношениях с Клайдом (его имя для них — пустой звук), и все полагали, что она от души рада вернуться домой и вновь увидеться с ними. А она думала обо всем, что с нею произошло, о странном и неопределенном поведении Клайда, — и на душе у нее становилось все тяжелее. В сущности, несмотря на все свои видимые успехи за последнее время, она опозорила себя и восстановить свою честь могла бы, только выйдя замуж за Клайда; без этого родители никогда не поймут и не одобрят ее поведения. Вместо того, чтобы помочь родным, постепенно и скромно достигнув лучшего положения, она, пожалуй, еще повредит им, опорочит доброе имя семьи… Мысли эти давили и жгли Роберту, и она совсем приуныла. Еще тягостнее и мучительней было думать, что иллюзии, связанные с Клайдом, не позволяют ей быть откровенной ни с кем, даже с матерью. Как бы мать не сочла, что она в своих мечтах занеслась слишком высоко. Кроме того, мать может задать такие вопросы о ее отношениях с Клайдом, на которые нелегко будет ответить. Нет, если она не найдет человека, которому можно всецело довериться, все ее тревоги и сомнения должны остаться тайной. Поговорив несколько минут с Томом и Эмилией, она прошла в кухню, где мать была занята рождественскими приготовлениями. Роберта хотела подготовить почву, сказать несколько слов о ферме и о своей жизни в Ликурге, но, когда она вошла, мать, взглянув на нее, заговорила первая: — Ну как, Бобби, довольна, что вернулась?.. Наверно, теперь в деревне тебе все кажется жалким по сравнению с Ликургом, — с грустью прибавила она. Она окинула дочь восхищенным взглядом — и по этому взгляду, и по тону матери Роберта поняла, что мать считает ее положение в городе очень завидным. Роберта быстро подошла к ней и горячо ее обняла. — Ах, мамочка! — воскликнула она. — Лучшее место в мире — там, где ты! Ты же знаешь! Вместо ответа мать только посмотрела на нее добрыми, ласковыми глазами и погладила по плечу. — Ну, Бобби, — сказала она мягко, — ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Что-то в голосе матери напомнило Роберте долгие годы, когда они нежно любили и прекрасно понимали друг друга — понимали не только потому, что горячо желали счастья друг другу, но и потому, что всегда до сих пор чистосердечно делились всеми своими чувствами и настроениями. Это воспоминание растрогало Роберту чуть не до слез. В горле застрял кои, и глаза увлажнились, как ни старалась она скрыть свое волнение. Как было бы хорошо все рассказать матери! Но, поддавшись своей любви к Клайду, опозорив себя, она сама воздвигла между собой и матерью преграду, которую — теперь она видела это — было нелегко разрушить. Здесь, в провинции, нравы были слишком строги — даже ее мать не составляла исключения. Она колебалась несколько мгновений: ей хотелось быстро и ясно описать матери всю тяжесть своего положения и встретить если не помощь, то сочувствие. Но она сказала только: — Как бы мне хотелось, чтобы ты все время была со мной в Ликурге, мама! Может быть… Роберта спохватилась, чувствуя, что заговорила без должной осторожности. Она едва не сказала, что если бы мать была с рею в Ликурге, она сумела бы, пожалуй, устоять против настойчивых требований Клайда. — Да, я верю, что тебе меня недостает, — сказала мать. — Но все-таки тебе лучше жить в городе, ведь правда? Ты же знаешь, как нам тут живется. А там у тебя работа, которая тебе нравится. Разве я ошибаюсь? — Да, работа неплохая. Мне нравится. Хорошо, что я могу немного помогать вам, но только не слишком приятно жить одной… — А почему ты ушла от Ньютонов, Бобби? Разве Грейс так уж несносна? Я думала, что она составит тебе компанию. — Сначала так и было, — ответила Роберта, — только у нее совсем нет знакомых молодых людей, и она ужасно ревновала меня к каждому, кто был хоть капельку внимателен ко мне. Я никуда не могла пойти одна: она хотела непременно всюду бывать вместе со мной. Ты же понимаешь, мама, две девушки не могут гулять с одним молодым человеком… — Понимаю, Бобби, — засмеялась мать и прибавила: — А кто же он? — Мистер Грифитс, мама, — сказала Роберта после минутного колебания. Словно при внезапной вспышке света она ясно увидела, как необычайно это знакомство, какой разительный контраст со здешним обыденным мирком… Каковы бы ни были страхи Роберты, самая возможность соединить свою жизнь с жизнью Клайда была восхитительна. — Но ты никому не называй это имя, — прибавила она, — он не хочет, чтобы об этом знали. Его родные очень богаты, понимаешь. Им принадлежит фабрика, то есть его дяде. Но на фабрике есть такое правило, что никто из служащих — никто из начальников — не должен заводить знакомства с работницами. Он ни с кем и не знакомится. Но он любит меня, а я — его. Это — другое дело. И потом, я хочу перейти на другое место, тогда эти правила не будут нас касаться. Тогда нам можно будет не скрывать, что мы знакомы. Роберта тут же подумала, что теперь все это, пожалуй, не совсем верно. Клайд в последнее время так изменился к ней, а она отдалась ему так неосторожно, не получив от него обещания жениться… Может быть (это было пока смутное, неясное опасение), может быть, он не позволит ей говорить об их близости не только теперь, но никогда! И ведь если он разлюбит ее и не женится, она тоже не захочет, чтобы кто-нибудь знал об этом. В какое жалкое, трудное и позорное положение она себя поставила! А миссис Олден, узнав так случайно о странном и, по-видимому, тайном характере этого знакомства, не только встревожилась, но и смутилась: она очень беспокоилась о счастье Роберты. Правда, говорила она себе, Роберта такая хорошая, чистая и осторожная» — лучшая из ее детей, наименее эгоистичная и самая разумная, — однако все возможно… Но нет, вряд ли кто-нибудь может легко обмануть и обесчестить ее. Она слишком скромная и порядочная девушка. И миссис Олден спросила: — Так ты говоришь, он родственник владельца фабрики, мистера Сэмюэла Грифитса, о котором ты писала? — Да, мама, племянник. — Этот молодой человек служит на фабрике? — с удивлением спросила мать. Она не понимала, как могла Роберта привлечь человека, занимающего такое видное положение, потому что с самого начала не сомневалась, что он член семьи Сэмюэла Грифитса, владельца фабрики. Это уже само по себе было тревожно. Обычный результат подобных отношений всегда и везде один, и потому, естественно, она очень боялась за Роберту. И все же ей казалось, что девушка с красотой и практичностью Роберты, пожалуй, сумеет без ущерба для себя поддержать это необычайное знакомство. — Да, — просто ответила Роберта. — А какой он, Бобби? — Он ужасно милый! Такой красивый, и так мил со мной! Моя работа была бы совсем не так приятна, если б он не был такой благовоспитанный. Он умеет поставить всех этих девушек на место. Он племянник председателя компании, понимаешь, и поэтому работницы очень его уважают. — Ну, это в самом деле очень хорошо. Лучше работать у благовоспитанных людей, чем невесть у каких хозяев. Я помню, ты была не очень довольна работой в Трипетс-Милс… И ты часто видишься с ним, Бобби? — Да, в общем часто, — ответила Роберта, слегка краснея от сознания, что она не может быть вполне откровенна с матерью. Миссис Олден заметила, что дочь покраснела, и, приписав это смущению, спросила поддразнивая: — Видно, ты его очень любишь? — Очень, мама, — просто и искренне ответила Роберта. — А он? Он любит тебя? Роберта отошла к окну. За окном, на склоне, который вел к колодцу и к наиболее плодородному полю фермы, тянулись полуразвалившиеся постройки — их вид больше чем что-либо другое вокруг говорил о жалком материальном положении семьи. В самом деле, за последние десять лет эти постройки стали символом нужды и неумелого хозяйничанья. В эту минуту, унылые, засыпанные снегом, они олицетворяли в глазах Роберты полную противоположность всему, о чем она мечтала. И Не удивительно, что все, к чему ее влекло, воплощалось в Клайде. Мрачность и уныние несовместимы со счастьем, как неудачи в любви — с успехом. Если только он любит ее и увезет отсюда, тогда, может быть. И мать избавится от этого беспросветного уныния. Если же он не любит, то плоды ее страстных, но, быть может, ошибочных мечтаний падут не только на ее голову, а и на головы родных, и прежде всего — матери. Роберта не знала, что сказать, и наконец ответила: — Он говорит, что любит. — Как ты думаешь, он намерен жениться на тебе? — спросила миссис Олден робко и выжидающе, потому что она любила Роберту больше других детей и возлагала на нее все свои надежды. — Знаешь, что я тебе скажу, мама… Фраза осталась неоконченной, потому что в эту минуту вбежала Эмилия с криком: — Гиф приехал! В автомобиле! Наверно, его кто-нибудь подвез, и у него какие-то большие пакеты! И вслед за тем в комнату вошел Том со старшим братом; Гиф был в новом пальто — первый результат его службы в «Дженерал электрик» в Скенэктеди. Он ласково поздоровался с матерью и с Робертой. — Гифорд, ты? — воскликнула мать. — А мы не ждали тебя раньше девяти. Как это тебе удалось приехать так рано? — Я и сам не думал, что так получится. Я зашел к мистеру Ририку в Скенэктеди, и он предложил мне поехать вместе с ним. Знаешь, — обратился он к Роберте, — старина Майерс достроил наконец второй этаж своего дома. Пожалуй, еще через годик будет готова и крыша. — Наверно, — согласилась Роберта, вспоминая своего старого знакомого по Трипетс-Милс. Она взяла у брата пальто и отнесла пакеты на обеденный стол. — Руки прочь, Эм! — крикнул Гиф младшей сестренке, которая с любопытством стала разглядывать пакеты. — До завтрашнего утра нечего их трогать. А кто-нибудь уже срубил елку? В прошлом году это была моя обязанность. — И в этом году тоже, Гифорд, — сказала мать. — Я велела Тому подождать тебя, уж ты всегда выберешь хорошую елочку. В это время в кухню вошел отец с охапкой дров; сутулый, с изможденным лицом, острыми локтями и коленями, он был так непохож на бодрых, хорошо сложенных молодых Олденов. Роберту поразил этот контраст, когда отец, улыбаясь, остановился перед сыном. Как бы ей хотелось, чтобы все они стали наконец счастливы! Взволнованная, она подошла к отцу и обняла его. — А Санта-Клаус принес кое-что моему папочке, и, наверно, это ему понравится, — сказала она. Она привезла отцу непромокаемый плащ на темно-красной клетчатой подкладке; Роберта знала, что в таком плаще старику будет тепло работать на дворе, и с нетерпением ждала утра, чтобы отдать ему свой подарок. Потом она надела фартук, чтобы помочь матери готовить праздничный ужин. Больше они ни минуты не оставались одни и не могли поговорить о том, что так занимало обеих: о Клайде. Лишь несколько часов спустя Роберта, наконец, улучив минуту, сумела шепнуть матери: — Только ты никому ничего не Говори, мама. Я обещала ему молчать, и ты тоже молчи. — Нет, я ничего не скажу, дорогая! Хотя, по-моему, это странно. Но, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ты уже достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Правда, Бобби? — Ну конечно. И ты не должна беспокоиться обо мне, мамочка, — прибавила она, заметив, что по родному лицу прошла тень — не то чтобы недоверия, но тревоги. Надо быть осторожнее, не нужно тревожить мать: у нее и без того немало забот. На следующее утро приехала сестра Агнесса с мужем, и начались бесконечные рассказы об их жизни в Гомере, о материальных и иных успехах. Сестра была не так хороша собой, как Роберта, и Фред Гейбл, ее муж, был отнюдь не таким человеком, которым Роберта могла бы когда-либо заинтересоваться. И, однако, после Всех тревожных мыслей о Клайде вид Агнессы — спокойной, любимой и довольной скромным благополучием, которым ее сумел окружить скучный, заурядный супруг, — вновь пробудил в Роберте тягостные мысли и сомнения, угнетавшие ее второй день. Не лучше ли, думала она, выйти замуж даже за такого неэнергичного и непривлекательного, но постоянного в своих чувствах человека, как Фред Гейбл, чем оказаться в таком ненормальном положении, в каком оказалась она теперь из-за своих отношений с Клайдом? Гейбл оживленно рассказывал о том, чего они с Агнессой достигли за год, прошедший со времени их свадьбы. Он отказался от должности учителя в Гомере и стал совладельцем небольшого книжного и писчебумажного магазина. Это хорошее дело, больше всего дохода они получают от продажи игрушек и содовой воды. Если все пойдет хорошо, Агнесса сможет будущим летом заново обставить гостиную. Фред уже купил ей на рождество граммофон. В доказательство своего благосостояния они привезли всем Олденам неплохие подарки. Гейбл захватил с собой ликургскую газету «Стар» и за завтраком, необычно поздним из-за гостей, читал различные новости о Ликурге (в этом городе жила семья его компаньона). — Я вижу, в вашем городе жизнь бьет ключом, — сказал он Роберте. — Вот «Стар» сообщает, что «Компания Грифитс» получила заказ на сто двадцать тысяч воротничков из одного только Буффало. Как видно, они здорово загребают деньги. — В моем отделении всегда много работы, — отозвалась Роберта. — Уж не знаю, идут дела хорошо или плохо, а мы всегда заняты. Мне кажется, на фабрике дела всегда хороши. — Везет же этим фабрикантам, — сказал Гейбл. — Им не о чем беспокоиться. Мне говорили, что они строят в Илионе новую фабрику для производства рубашек. Ты что-нибудь слышала об этом? — Нет, не слыхала. Может быть, это другая фирма. — Кстати, как зовут молодого человека, который заведует вашим отделением? Ты говорила, кажется, что он тоже Грифитс? — спросил он, переворачивая лист газеты и просматривая светскую хронику города Ликурга. — Да, его зовут Грифитс, Клайд Грифитс. А что? — Кажется, я только что видел его имя. Я просто хотел проверить, тот ли это. Вот смотри: это он? Гейбл передал газету Роберте, указав пальцем заметку. И Роберта прочитала: «У мисс Ванды Стил (Гловерсвил) в пятницу состоялся танцевальный вечер, на котором присутствовали некоторые видные представители ликургского общества, в том числе мисс: Сондра Финчли, Бертина Крэнстон, Джил и Гертруда Трамбал и Перли Хайнс и мистеры: Клайд Грифитс, Фрэнк Гарриэт, Трейси Трамбал, Грэнт Крэнстон и Скотт Николсон. Как всегда бывает на собраниях молодежи, танцы затянулись до поздней ночи, и гости из Ликурга выехали домой только на заре. По слухам, то же общество собирается весело встретить Новый год у Эллерсли (Скенэктеди)». — Видно, он там важная особа, — заметил Гейбл, пока Роберта читала. Прочитав эту заметку, Роберта прежде всего подумала, что описанная в ней вечеринка совсем не похожа на ту, где Клайд, по его словам, был со своими двоюродными сестрами. Здесь вовсе не упоминалось о Майре и Белле Грифитс. С другой стороны, здесь были названы все имена, которые она раньше очень часто слышала от Клайда: Сондра Финчли, Бертина Крэнстон, сестры Трамбал, Перли Хайнс; Клайд сказал ей, что вечер был неинтересный, а тут говорится, что было очень весело. Его называют в числе приглашенных на другую такую же вечеринку под Новый год, то есть в тот вечер, который она рассчитывала провести с ним, а он даже не сказал ей Об этом приглашении. И, наверно, в последнюю минуту придумает какое-нибудь оправдание, как было в пятницу. О, господи! Что же все это значит? И мгновенно рождество в семейном кругу утратило для Роберты всю свою романтическую прелесть. Она спрашивала себя, действительно ли Клайд любит ее так, как говорит. Отчаянное положение, в котором она оказалась из-за своей безрассудной страсти к Клайду, невыразимо ее мучило. Если у нее не будет Клайда, не будет мужа, дома и детей и достойного места в окружающем скромном мирке, в котором она живет, — что тогда останется у нее в жизни? И, кроме его любви к ней, — если она не угасла! — в чем найти поруку, что он в конце концов не бросит ее, раз он может вот так обманывать ее и оставлять одну? Если так, что ждет ее впереди! Едва ли она сможет выйти замуж за кого-нибудь другого, и никакой уверенности в Клайде… Она была не в силах говорить, и хотя Гейбл спросил у нее: «Ведь это тот самый Грифитс?» — она, не отвечая, встала из-за стола. — Простите, я на минутку, — сказала она. — Мне нужно достать кое-что из чемодана, — и бросилась вверх по лестнице в бывшую свою комнату. Здесь она села на кровать и оперлась подбородком на руки: ее привычная поза в минуты тревожного раздумья. Пристально, невидящими глазами она глядела в пол. Где сейчас Клайд? С какой именно из этих девушек он ездил к Стил? Очень ли она ему нравится? До этого дня Роберта была уверена в любви Клайда и вовсе не задумывалась над тем, что его внимание может привлечь какая-нибудь другая девушка. Но теперь, теперь… Она встала, подошла к окну и поглядела в сад, где еще подростком так часто трепетала пред красотою жизни. Теперь все было мрачно и голо. Тонкие обледенелые ветви деревьев, серые качающиеся прутья, кое-где одинокий дрожащий лист… и снег… И жалкие полуразрушенные постройки… И Клайд становится равнодушен к ней… Внезапно она подумала, что ей нельзя здесь оставаться. Надо уехать как можно скорее, даже сегодня, если удастся. Она должна вернуться в Ликург и быть вблизи Клайда хотя бы затем, чтобы напомнить ему о его прежней привязанности и самим своим присутствием удержать от сближения с другими девушками. Неразумно было уехать вот так, да еще в праздничные дни. В ее отсутствие он может совсем покинуть ее ради другой девушки, и если это случится, то не по ее ли собственной вине? Она уже начала обдумывать, под каким предлогом можно вернуться в Ликург сегодня же, но сообразила, что теперь, накануне праздника, всем, и прежде всего матери, ее отъезд покажется необъяснимым и бессмысленным. И она решила, как и предполагала раньше, дотерпеть до завтрашнего вечера. Но больше никогда она не будет расставаться с Клайдом на такой долгий срок. И в то же время она упорно думала о том, как убедиться, любит ли ее Клайд, будет ли он поддерживать ее и намерен ли на ней жениться? И если он солгал ей, как добиться, чтобы он больше этого не делал? Как заставить его почувствовать, что лжи не должно быть места между ними? И прежде всего, — как утвердиться в его сердце и вытеснить мечты, порожденные очарованием другой? Как?Глава 49
Но рождественский вечер, когда Роберта вернулась в Ликург, не принес ей ни встречи с Клайдом, ни хотя бы записки с объяснением. Дело в том, что в семье Грифитсов произошло событие, которое очень заинтересовало бы и Клайда и Роберту, если бы они о нем узнали. Та самая газетная заметка о танцах у Ванды Стил, которую прочитала Роберта, попала также на глаза Гилберту. В воскресенье утром он сидел за завтраком и уже поднес к губам чашку кофе, как вдруг увидел эту заметку. Зубы его внезапно щелкнули, как крышка закрываемых карманных часов. Вместо того чтобы выпить кофе, он отставил чашку и внимательно прочитал газетное сообщение. За столом не было никого, кроме матери, и он, зная, что она, более чем кто-либо в семье, разделяет его мнение о Клайде, протянул ей газету. — Посмотри, кто теперь делает успехи в обществе, — сказал он резко и язвительно, и во взгляде его отразились гнев и презрение. — Скоро он появится и у нас! — Кто? — спросила миссис Грифитс, беря газету; она спокойно прочла заметку; имя Клайда удивило ее, хотя она и постаралась этого не показать. Правда, до семьи Грифитс доходили слухи о том, что Сондра подвезла как-то Клайда в своем автомобиле, а затем — что он был приглашен на обед к Трамбалам, но заметка в светской хронике — это совсем другое дело. — Не представляю, кто мог пригласить его туда? — задумчиво сказала миссис Грифитс: она хорошо понимала, как относится ко всему этому сын. — Конечно, эта кривляка и болтушка Финчли, кто же еще, — фыркнул Гилберт. — Она вообразила почему-то, — наверно, под влиянием Беллы, — будто мы недостаточно внимательны к нему, и сочла, что это остроумный способ отплатить мне за все, в чем я перед ней провинился. То есть это она полагает, будто я провинился перед ней. Во всяком случае, она считает, что я ее не люблю. И в самом деле не люблю. Белла тоже это знает. И, наверно, тут не обошлось без этой выскочки Крэнстон. Она и Сондра неразлучны с Беллой. Они чересчур зазнаются и швыряют деньгами — и эти девицы, и их братья тоже — Грэнт Крэнстон и Стюарт Финчли, — словом, вся эта компания. Я готов держать пари, что не сегодня-завтра кто-нибудь из них плохо кончит. Попомни мое слово! Все они ничего не делают, круглый год только играют, танцуют, разъезжают туда и сюда, как будто на свете нет других занятий. Не могу понять, почему вы с отцом позволяете Белле проводить столько времени в этой компании! Тут мать запротестовала. Она не может запретить Белле знакомство с одной половиной здешнего общества и заставить ее сблизиться с другой половиной. В светских кругах Ликурга все связаны между собой и постоянно встречаются. Белла уже становится взрослой и может поступать по-своему. Но оправдания матери нисколько не уменьшили враждебности Гилберта, которого возмущало, что Клайд стремится проникнуть в общество и, судя по заметке, получает для этого кое-какие возможности. Несносно! Этот жалкий нищий двоюродный брат уже нанес ему непростительное оскорбление, во-первых, тем, что осмелился быть похожим на него, Гилберта, во-вторых, тем, что явился сюда, в Ликург, и вторгся в их благородное семейство. И ведь Гилберт с самого начала ясно показал этому Клайду, что не желает его знать и, будь его, Гилберта, воля, ни минуты не потерпел бы присутствия такого братца! — У него нет ни гроша, — с раздражением заявил в конце концов Гилберт, — а он изо всех сил старается пролезть в общество. И чего ради? Если даже эта публика свела с ним знакомство — что дальше? Все равно он не может бывать с ними и вести такой образ жизни, как они: у него нет для этого средств, и ему негде их взять, а кто станет платить за него? И даже если бы он мог достать деньги, работа на фабрике все равно не позволит ему вращаться в этой компании. Не знаю, как он может сочетать свою работу со всеми этими развлечениями. Ведь эти молодые люди непрерывно разъезжают. В сущности Гилберта интересовало, будут ли теперь всюду принимать Клайда и, если так, что делать? Как Гилберту и всей семье избежать необходимости оказывать внимание Клайду, если тот войдет в общество? Ведь по всему видно, что отец не намерен отослать его прочь. После этого разговора, когда пришел к завтраку муж, миссис Грифитс показала ему газету и изложила точку зрения Гилберта на происходящее. Но Сэмюэл Грифитс, по-прежнему сохранявший симпатию к Клайду, не склонен был разделять мнение сына. Наоборот, он, казалось, полагал, что газетная заметка лишь подтверждает ту оценку, которую он дал Клайду с самого начала. — Должен сказать, — начал он, выслушав жену, — я не вижу ничего плохого в том, что Клайд появляется на вечерах то тут, то там и что его приглашают, хотя у него и нет денег. С этим можно только поздравить и его и нас. Я знаю, как относится к нему Гил. Но, на мой взгляд, Клайд несколько лучше, чем кажется Гилу. Во всяком случае, я не могу и не хочу ничего по этому поводу предпринимать. Я выписал его сюда, и самое меньшее, что я могу сделать, — это дать ему случай выдвинуться. Работает он, по-видимому, хорошо. Да и как бы это выглядело, если б я поступил иначе? И когда жена передала ему еще несколько замечаний Гилберта, Сэмюэл прибавил: — Безусловно, я предпочитаю, чтобы он поддерживал знакомство с лучшими, а не с худшими людьми. Он хорошо одет, вежлив и, судя по всему, что я слышал на фабрике, недурно справляется с работой. И, уж конечно, следовало послушать меня и пригласить его летом к нам на дачу, хотя бы на несколько дней. Если мы ничего не предпримем в самое ближайшее время, выйдет, как будто мы просто из снобизма не желаем с ним знаться, а ведь другие находят возможным принимать его у себя. Мой совет — пригласи его к нам на рождество или на Новый год. Надо показать, что мы относимся к нему не хуже, чем наши друзья. — Пусть меня повесят! — воскликнул Гилберт, когда мать передала ему решение отца. — Ну ладно, но не думайте, что я стану с ним любезничать! Удивительное дело: если отец такого высокого мнения о нем, почему он не даст ему на фабрике места получше? Возможно, что все эти разговоры Ни к чему бы не привели, если бы не Белла: она в этот день вернулась из Олбани, поговорила по телефону с Сондрой и Бертиной, потом встретилась с ними и узнала все новости, связанные с Клайдом. Ей сообщили также, что он должен сопровождать их под Новый год к Эллерсли в Скенэктеди, — Белла была приглашена туда задолго до того, как они подумали о Клайде. Услыхав от Беллы эту неожиданную и многозначительную новость, супруги Грифитс вопреки настроениям Гилберта решили примириться с обстоятельствами и пригласить Клайда в первый день рождества на обед — большое торжество со множеством гостей. Таким образом, Грифитсы решили показать всем раз и навсегда, что они не так уж пренебрегают Клайдом, как некоторые, может быть, воображают. Это был теперь единственный разумный выход из положения. Гилберт, услышав об этом, понял, что на сей раз он проиграл. — Ну и прекрасно, — кисло заявил он, — приглашайте его, если вам с отцом так хочется. Я лично и теперь не вижу никакой необходимости в этом. Но вы можете поступать, как вам угодно. Мы с Констанцией собираемся на весь день в Утику, так что я все равно не смогу быть на этот обеде, даже если бы и хотел. Он был вне себя от мысли, что Сондра Финчли, которую он терпеть не мог, своими интригами все же сумела всучить им этого двоюродного брата, и он, Гилберт, не в состоянии этому помешать. И каким жалким нищим должен быть этот Клайд, чтобы навязываться таким образом, зная, что его не желают принимать. Ну и тип! Итак, в понедельник утром Клайд получил второе письмо от Грифитсов, на этот раз подписанное Майрой, в котором его приглашали на рождественский обед в два часа дня. Этот обед, как казалось тогда Клайду, не мешал ему быть в восемь часов вечера у Роберты, и он всецело отдался своей безмерной радости: наконец-то он действительно займет известное положение в обществе — право, не хуже других! Хоть у него и нет денег, его теперь все принимают, даже Грифитсы! И Сондра так интересуется им, — право же, она разговаривает и ведет себя так, словно готова в него влюбиться. Он признан ликургским обществом — значит, Гилберт потерпел поражение. А что вы скажете об этом письме? Оно свидетельствует по меньшей мере о том, что родственники о нем не забыли, или же что после его недавних успехов в обществе они сочли необходимым быть с ним любезнее, — мысль эта была для Клайда все равно, что победные лавры для борца. Он наслаждался ею, точно в его отношениях с родственниками не было никакого изъяна.Глава 50
К несчастью, праздничный обед у Грифитсов, на который были приглашены Старки с дочерью Арабеллой, супруги Вайнант (их дочь Констанция уехала с Гилбертом в Утику), Арнольды, Энтони, Гарриэты, Тэйлоры и другие видные семейства Ликурга, произвел слишком сильное и даже ошеломляющее впечатление на Клайда, и ни в пять, ни в шесть часов он просто не в состоянии был хотя бы подумать о своем обещании навестить Роберту. Около шести большая часть гостей начала раскланиваться и прощаться — и тогда ему, уж во всяком случае, следовало бы поступить так же, вспомнив наконец о своем уговоре с Робертой, но тут к нему подошла Вайолет Тэйлор (представительница той же молодой компании) и сообщила, что все они собираются еще повеселиться сегодня вечером у Энтони. — Вы поедете с нами? Ну конечно, поедете! — настойчиво сказала она, и Клайд сейчас же согласился, хотя и вспомнил о Роберте, которая, вероятно, уже возвратилась и ждет его. Но он еще успеет, подумал он, времени много. А там, у Энтони, в болтовне и танцах, воспоминание о данном слове постепенно потускнело. Все же часов в девять он начал беспокоиться. Теперь она, должно быть, уже дома и удивляется, не понимая, что сталось с ним и его обещанием. И это в рождественский вечер, да еще после трехдневной разлуки! Его все больше мучило беспокойство, но внешне он по-прежнему держался, как человек, находящийся в наилучшем расположении духа. К счастью, вся эта компания танцевала и веселилась всю неделю напролет и теперь дошла до полного изнеможения; поэтому все невольно покорились усталости и в половине двенадцатого единодушно решили разъехаться. Проводив Беллу до особняка Грифитсов, Клайд поспешил на Элм-стрит в надежде, что Роберта еще не спит. Подходя к дому Гилпинов, он увидел сквозь осыпанные снегом ветви кустов и деревьев свет ее одинокой лампы. Тревожно обдумывая, что сказать ей, как оправдать это необъяснимое опоздание, он остановился под большим деревом. Что же ей все-таки сказать? — спрашивал он себя. Уверять, что он снова был у Грифитсов или где-то в другом месте? По его прежним рассказам Роберта считает, что он был там совсем недавно — в пятницу. Раньше, когда у него не было никаких знакомств и он только мечтал о них, выдумки, которые он рассказывал на этот счет Роберте, не влекли за собой угрызений совести. Все это было только фантазией, не отнимало у него времени и не мешало желанным для обоих свиданиям. Но теперь это стало реальностью, притом он считал, что новые знакомства имеют огромное значение для его будущего, и потому колебался. Наконец он решил объяснить свое отсутствие в этот вечер вторым приглашением, полученным позже; кроме того, надо убедить Роберту, что от Грифитсов зависит все его материальное благополучие, и потому бывать у них, когда им угодно, — прямой его долг, а не просто удовольствие, ради которого он бросает ее одну. Может ли он поступать иначе? И утвердившись мысленно в этой полуправде, он прошел по снегу и тихонько стукнул в окно. Свет сейчас же погас, штора на окне поднялась. Через минуту Роберта, которая провела все эти часы в мрачном раздумье, открыла дверь и впустила его; как всегда, она зажгла свечу, чтобы их не выдал слишком яркий свет лампы. И Клайд сразу же зашептал: — Ну, знаешь, дорогая, от этих светских обязанностей у меня уже просто голова кругом пошла. Я еще никогда не видал такого города. Как только попадешь к кому-нибудь, — кончено, уже не знаешь, когда освободишься. Сначала обед, потом танцы, потом прогулка или еще что-нибудь — им все мало! Когда я был у Грифитсов в пятницу (он ссылался на свою прежнюю ложь), я думал, что это последнее приглашение до конца праздников. А вчера я как раз собирался в другое место — и вдруг получил от них записку, что сегодня они опять ждут меня к обеду. Понимаешь, обед был назначен в два, и я думал, что освобожусь рано и успею прийти сюда к восьми, как обещал. А на самом деле начали в три и вот только сейчас стали расходиться. Просто невозможно! Я все время порывался уйти, но никак не мог. Ну, а ты как, дорогая? Надеюсь, хорошо провела время? Понравился твоим родителям мой подарок? Он сыпал вопросами, а она отвечала скупо и отрывисто и все время пристально смотрела на него, словно говоря: «Как ты можешь так обращаться со мной?» Но Клайд слишком усердно доказывал свое алиби, слишком старался заставить Роберту поверить ему; ни в первые минуты, ни позже, когда он снял пальто, кашне и перчатки и пригладил волосы, он ни разу не взглянул на нее ласково, да и вообще не смотрел ей в глаза и ничем не показал, что в самом деле рад снова увидеться с нею. Напротив, он был так суетлив и возбужден, что, несмотря на все его прежние признания и поступки, Роберта почувствовала: ему, в общем, приятно видеть ее, но он куда больше занят собой и своими сбивчивыми объяснениями. Потом он наконец обнял ее и поцеловал, и все же она чувствовала, как и в субботу, что душою он только наполовину с нею. Иные мысли — о том, что помешало ему и в пятницу и сегодня прийти к ней, — волновали сейчас обоих. Роберта смотрела на Клайда, не вполне веря ему, — и все-таки ей хотелось хоть немного верить. Может быть, он и в самом деле был у Грифитсов и они его задержали. А может быть, и нет. Она невольно вспомнила, что в прошлую субботу он сказал, будто в пятницу обедал у Грифитсов, а между тем газетная заметка сообщала, что он был в Гловерсвиле. Но если спросить его об этом сейчас, он, пожалуй, только рассердится и опять солжет… В конце концов, думала она, у нее нет никаких прав на него, кроме тех, что дает его любовь к ней. Но она не могла себе представить, чтобы его чувства могли так быстро перемениться. — Значит, поэтому ты не мог прийти сегодня вечером? — спросила она не без досады, — так она никогда не говорила с ним раньше, — и прибавила печально: — Ты ведь уверял, что тебе ничто не сможет помешать… — Да, верно, — подтвердил Клайд. — Мне ничто и не помешало бы, если бы не это письмо. Пойми, я ни с кем другим не стал бы считаться, но не могу же я не пойти, если дядя зовет меня на праздничный обед. Это слишком важный визит. Очень неудобно было бы отказаться. И потом, ведь днем тебя здесь еще не было. Он сказал это таким тоном, который яснее всех слов показал Роберте, как высоко ценит он близость с семьей дяди и как мало значит для него по сравнению с этим все, что так дорого ей в их отношениях. Она поняла, что, хотя он и был в начале их любви таким восторженным и пылким, в его глазах она стоит гораздо ниже, чем в своих собственных. Значит, все ее мечты и жертвы напрасны. Ей стало страшно. — А все-таки, — продолжала она неуверенно, — разве ты не мог оставить мне записку, Клайд? Я бы застала весточку от тебя, как только вернулась… Она сказала это как могла мягче, ей не хотелось его сердить. — Но я же сказал, дорогая, я не ожидал, что так задержусь. Я думал, обед кончится к шести, не позже. — Да… хорошо… я знаю… но все-таки… Она смотрела на него растерянно и взволнованно; на лице ее смешались страх и печаль, уныние и недоверие, следы обиды и отчаяния, — все это отражалось в устремленных на Клайда больших строгих глазах и заставляло его мучительно сознавать, что он нехорошо, низко поступил с нею. Ее глаза, казалось, ясно говорили об этом — под этим взглядом Клайд вдруг вспыхнул, его всегда бледные щеки густо покраснели. А Роберта, словно не заметив этого внезапного румянца или не придав ему значения, прибавила: — Я читала в газете о вечере в Гловерсвиле, но там ничего не сказано о твоих двоюродных сестрах. Они были там? И впервые в ее вопросе прозвучало сомнение, словно она ему не доверяла. Этого Клайд никак не ожидал от нее — и это его особенно смутило и рассердило. — Конечно, были, — солгал он. — Почему ты опят спрашиваешь, ведь я уже сказал тебе, что они там были! — Просто так, милый. Я только хотела знать. Но я заметила, что в газете были названы другие девушки из Ликурга, ты часто говорил о них раньше: Сондра Финчли Бертина Крэнстон. А ты сказал мне только о сестрах Трамбал. Ее тон должен был возмутить и обозлить Клайда, она это сразу поняла. — Да, я тоже читал заметку, но это неправда. А если они и были там, я их не видел. Газеты вечно все перевирают. Он был раздражен и зол оттого, что так глупо попался, но все его возражения прозвучали неубедительно,и он сам это понял. Тогда он возмутился тем, что Роберта его допрашивает. С какой стати? Как будто он не имеет права бывать, где ему угодно, и должен спрашивать у нее разрешения. Роберта уже не упрекала и не спорила, а только смотрела на него, и лицо у нее было грустное и оскорбленное. Она не вполне верила ему — и не совсем не верила. Быть может, в его словах есть доля правды. Важнее другое: ему следовало бы любить ее так, чтобы и незачем и невозможно было лгать ей или дурно с нею обращаться. Но что делать, если он не хочет быть добрым и правдивым? Она отошла от него и беспомощно покачала головой. — Тебе вовсе не нужно что-то выдумывать, Клайд, — сказала она. — Неужели ты не понимаешь? Мне все равно, где ты был, только надо было предупредить меня заранее и не оставлять вот так, совсем одну, в рождественский вечер. Вот что мне обидно. — Но я ничего не выдумываю, Берта, — сердито возразил он. — Я не могу изменить то, что было, — мало ли что пишут в газетах. Грифитсы там были, я могу это доказать. А сегодня я пришел к тебе, как только освободился. Чего ради ты сразу вышла из себя? Я сказал тебе правду: я не всегда могу делать то, что мне хочется. Меня пригласили в последнюю минуту, и я должен был пойти. А потом я не мог вырваться. Чего ж тут сердиться? Он вызывающе посмотрел на нее, и Роберта, побежденная этими рассуждениями, не знала, как быть дальше. Она вспомнила то, что говорилось в газете о предполагаемой встрече Нового года, но чувствовала, что неблагоразумно заговорить об этом теперь. Ей было сейчас особенно горько думать, что Клайд — постоянный участник той веселой, счастливой жизни, которая доступна лишь для него, но не для нее. И все же она не решалась показать ему, какая жгучая ревность ею владеет. В этом высшем обществе все так весело проводят время — и Клайд, и его знакомые, — а у нее так мало всего. И потом эти девушки — Сондра Финчли и Бертина Крэнстон… он столько о них говорил, о них пишут в газетах… Может быть, он влюблен в одну из них? — Тебе очень нравится мисс Финчли? — внезапно спросила она, вглядываясь в Полутьме в его лицо; ее охватило беспокойство, ей мучительно хотелось узнать что-то такое, что могло бы пролить хоть слабый свет на его поведение, которое теперь так ее тревожило. Клайд мгновенно почувствовал значение вопроса: тут было и сдерживаемое желание знать, и беспомощность, и ревность, — это прорывалось в голосе Роберты еще явственней, чем во взгляде. Ее голос звучал так мягко, ласково и печально, особенно в минуты, когда она бывала огорчена и расстроена. Клайда поразила ее проницательность, особое чутье, с каким она сосредоточила свои подозрения на Сондре. Он чувствовал, что она не должна ничего знать, это выведет ее из себя. Но он слишком гордился своим положением в обществе — положением, которое, по-видимому, с каждым часом становилось все более прочным, и это заставило его сказать: — Немного нравится, конечно. Она очень хорошенькая и превосходно танцует. И потом, она очень богата и великолепно одевается. Он хотел прибавить, что в остальном Сондра не производит на него большого впечатления, но Роберта почувствовала, что он, пожалуй, по-настоящему увлечен этой девушкой, что целая бездна лежит между нею и всем его миром, — и вдруг воскликнула: — Еще бы! С такими деньгами всякий сумеет хорошо одеться! Будь у меня столько денег, я бы тоже хорошо одевалась! К его удивлению и даже ужасу, голос ее вдруг задрожал и оборвался рыданием. Он понял, что она глубоко обижена, жестоко, мучительно страдает и ревнует, и уже готов был снова вспылить, повысить голос, но вдруг смягчился. Мысль, что девушка, которую он до последних дней так горячо и преданно любил, должна из-за него терзаться ревностью, причинила ему настоящую боль, — он ведь хорошо знал, что такое муки ревности: он испытал их из-за Гортензии. Он представил себя на месте Роберты и потому сказал ласково: — Ну, Берта, неужели мне слова ни о ком нельзя сказать, не рассердив тебя? Это же вовсе не значит, что я как-то по-особенному к ней отношусь. Ты хотела знать, нравится ли она мне, вот я и ответил, — только и всего. — Да, я знаю, — ответила Роберта. Она стояла перед ним взволнованная, бледная, беспокойно сжимая руки, и смотрела на него с сомнением и мольбой. — У них все есть, ты сам знаешь, а у меня ничего нет. Где же мне тягаться с ними, когда у них так много всего… Ее голос снова оборвался, глаза наполнились слезами, и губы задрожали. Она поспешно закрыла лицо руками и отвернулась. Отчаянные, судорожные рыдания сотрясали ее плечи и все тело. Клайд, удивленный, смущенный и растроганный этим внезапным взрывом долго сдерживаемого чувства, сам был глубоко взволнован. Все это было не хитростью, не притворством, не попыткой повлиять на него, но внезапным, потрясающим прозрением; он догадывался, что Роберта вдруг с ужасом увидела себя одинокой, покинутой, без друзей, без надежд на будущее, тогда как у тех, других, кем он теперь так занят, все есть в избытке. А в прошлом у нее — годы горького одиночества, омрачавшего ее юность… их так живо напомнила ей недавняя поездка на родину. Роберта, потрясенная и беспомощная, была поистине в отчаянии. — Если бы мне посчастливилось, как другим девушкам! — вырвалось у нее из глубины души. — Если бы я могла куда-нибудь поехать, увидеть что-нибудь!.. Как ужасно — вырасти вот так, в глуши… Ни денег, ни платьев — ничего у меня никогда не было! Ничего и никого!.. Не успела она договорить, как ей стало стыдно своей слабости и унизительных признаний: она была убеждена, что именно это в ней и неприятно Клайду. — Роберта, милая! — быстро и нежно сказал Клайд, обнимая ее, искренне огорченный своей небрежностью. — Не надо так плакать, хорошая моя! Не надо! Я не хотел делать тебе больно, честное слово, не хотел! Я знаю, ты очень огорчалась, это были плохие дни для тебя. Я знаю, как тебе тяжело и сколько ты перенесла. Только не Плачь так! Я люблю тебя, как раньше, правда же, и всегда буду любить. Мне так жаль, что я тебя обидел! Честное слово, жаль! Я никак не мог уйти сегодня вечером и в ту пятницу тоже. Это было просто невозможно! Но больше я не буду так… я постараюсь вести себя лучше, честное слово! Ты моя милая, дорогая девочка. У тебя такие чудные волосы, и глаза, и такая прелестная фигурка. Правда, Берта! И танцуешь ты не хуже других. И ты очень красивая. Перестань, дорогая, ну пожалуйста! Мне так жаль, что я тебя обидел. По временам, как почти каждый человек при подобных обстоятельствах, Клайд был способен на подлинную нежность, вызываемую воспоминаниями о пережитых им самим разочарованиях, печалях и лишениях. В такие минуты голос его звучал кротко и нежно. Он становился ласков, как может мать быть ласкова с ребенком. Это бесконечно привлекало Роберту. Но эти порывы нежности были так же непродолжительны, как и сильны. Они походили на летнюю грозу: вдруг налетали и столь же быстро проносились. Но этой минуты было довольно, чтобы Роберта почувствовала: он понимает и жалеет ее и, может быть, за это любит еще больше. Не так уж все плохо. Клайд принадлежит ей, и ей принадлежат его любовь и сочувствие. И эта мысль, и его ласковые слова утешили ее, она стала вытирать глаза и вслух пожалела, Что оказалась такой плаксой. Пусть он простит ее за то, что она своими слезами смочила манишку его безупречной белой сорочки. Она больше не будет такой, пусть только Клайд простит ее на этот раз. И Клайд, растроганный силой страсти, которой он и не подозревал в Роберте, целовал ее руки, щеки, губы. Среди этих ласк и поцелуев он вновь уверял ее безумно и лживо (ведь теперь хотя и по-другому, но так же сильно, а быть может, и сильнее, его влекла Сондра), что она — и первая, и последняя, и самая большая его любовь. И Роберта подумала, что была к нему несправедлива. Ее положение, может быть, и не блестяще, но куда прочнее, чем было в прошлом, прочнее, чем положение тех, других: они могут встречаться с Клайдом в обществе, но им не известно, как сладостна его любовь.Глава 51
И вот Клайд стал признанным членом ликургского светского общества, участником всех зимних развлечений. После того как Грифитсы представили его своим друзьям и знакомым, его, естественно, стали принимать почти во всех видных домах. Но в этом крайне замкнутом кругу, где буквально все, кто занимал какое-то положение, знали друг друга, состояние кошелька значило не меньше, а в некоторых отношениях даже больше, чем родство и связи. В видных семействах считалось неоспоримой истиной, что не только происхождение, но богатство — основа основ всякого счастливого и добропорядочного супружества. Поэтому, хотя и признавалось, что Клайд, безусловно, приемлем в обществе, родители, однако, не считали его подходящим женихом для своих дочерей, так как, по слухам, средства его были весьма скудны. И, не забывая посылать ему приглашения, они в то же время не забывали предупредить своих детей и родственников, что слишком частые встречи с ним нежелательны. Однако Сондра и ее компания отнеслись к нему очень дружелюбно, а предостережения и замечания родителей и друзей пока были не слишком строги, и потому Клайда часто приглашали на такие вечера и собрания молодежи, которые его больше всего интересовали: на те, которые начинались и заканчивались танцами. И хотя кошелек его был тощ, он делал успехи. Сондра, которая не на шутку увлеклась им, очень скоро поняла, что денег у него в обрез, и старалась сделать так, чтобы дружба с нею была для него возможно менее разорительна. Ее примеру последовали Бертина и Грэнт Крэнстоны и многие другие — поэтому в большинстве случаев Клайд мог принимать участие в различных вечерах и развлечениях, особенно если они происходили в самом Ликурге, и ничего при этом не тратить. А когда его приглашали за город, кто-нибудь из компании подвозил его в своем автомобиле. После новогодней поездки в Скенэктеди, сыгравшей большую роль в отношениях Клайда и Сондры, — в тот раз яснее, чем когда-либо прежде, Сондра почувствовала, как сильно ее влечет к нему, — чаще всего именно она заезжала за ним в своем автомобиле. Он и в самом деле очень ей нравился. Его поклонение льстило ее тщеславию и в то же время задевало более тонкую струнку ее натуры: ей так хотелось иметь рядом кого-то вроде Клайда — юношу, который нравился бы ей, был из хорошего общества и притом всецело от нее зависел. Она знала, что родители не одобрят ее сближения с Клайдом, потому что он беден. Вначале она и не думала ни о какой близости с ним, но теперь ей смутно этого хотелось. Однако первый удобный случай для новых откровенных разговоров представился только недели через две после встречи Нового года. Они возвращались из Амстердама с веселой вечеринки. Доставив домой Беллу Грифитс, а затем Грэнта и Бертину Крэнстон, Стюарт Финчли, правивший автомобилем, обернулся и крикнул: — Теперь мы отвезем вас, Грифитс! Но Сондра, которой еще не хотелось расставаться с Клайдом, сейчас же предложила: — Давайте заедем сначала к нам, я напою вас горячим шоколадом, а потом вы пойдете домой. Хотите? — Еще бы, конечно, хочу, — весело ответил Клайд. — Ладно, поехали, — отозвался Стюарт. — Но только я сразу лягу спать. Уже четвертый час. — Вот хороший брат, — сказала Сондра. — Ты у нас спящая красавица, это известно! Поставив машину в гараж, все трое через черный ход прошли в кухню. Стюарт ушел, а Сондра, усадив Клайда за стол прислуги, занялась приготовлением шоколада. Клайда поразила сложная кухонная утварь: он никогда не видел ничего подобного и с удивлением разглядывал все эти признаки богатства и благоденствия. — Какая огромная кухня, — сказал он. — Сколько тут всяких приспособлений для стряпни! Она поняла, что все это непривычно для него и едва ли он бывал в такой обстановке до приезда в Ликург, а значит, его нетрудно удивить, — и ответила небрежно: — Вы находите? Разве не все кухни одинаковы? Клайд, слишком хорошо знакомый с бедностью, понял из слов Сондры, что она едва ли имеет представление о более скромной обстановке, чем эта, и проникся еще большим благоговением перед миром, в котором она жила, — миром изобилия. Какое богатство! Что за счастье жениться на такой девушке и каждый день пользоваться всей этой роскошью. Иметь повара и слуг, огромный дом, автомобиль, не работать на кого-то, а только отдавать приказания. Эта мысль совсем захватила его. Кокетливые обдуманные движения Сондры показались ему теперь еще более очаровательными. Видя, как много значат для Клайда вещи, Сондра захотела подчеркнуть, что все окружающее неотделимо от нее самой. Она поняла, что для Клайда она, как ни для кого на свете, яркая звезда, воплощение роскоши и социального превосходства. Приготовив шоколад в простой алюминиевой кастрюльке, она, чтобы поразить Клайда, принесла из соседней комнаты серебряный сервиз великолепной работы, налила шоколад в серебряный чеканный бокал и поставила его перед Клайдом. Затем, легко подпрыгнув, уселась тут же на столе. — Здесь очень уютно, правда? — сказала она. — Я ужасно люблю забираться на кухню, но это можно только когда нет повара. Он никого сюда не пускает. — Да что вы? — воскликнул Клайд, не представлявший, как ведут себя повара в частных домах. Это изумленное восклицание окончательно убедило Сондру, что он вырос в очень бедной семье. Однако это ее не оттолкнуло: Клайд уже слишком много для нее значил. И когда он воскликнул: «Как это чудесно, что мы сейчас вместе, — правда, Сондра? Подумать только, ведь я весь вечер не мог сказать вам ни слова наедине!» — такая фамильярность ничуть ее не рассердила. — Вам приятно? Я очень рада. И улыбнулась слегка надменно, но ласково. Она сидела перед ним в вечернем платье из белого атласа, ее ножки в маленьких туфельках были так близко от него, тонкий аромат ее духов щекотал ему ноздри… Клайд был взволнован. Она воспламеняла его воображение. Пред ним было воплощение юности, красоты, богатства. Какая в этом сила! А она, чувствуя, как горячо он восхищается ею, понемногу заражалась его восторженным волнением, — и ей уже казалось, что она могла бы полюбить его, очень полюбить… У него такие блестящие, темные, такие выразительные глаза! А волосы! Они так красиво падают на его белый лоб — прямо тянет погладить их, дотронуться до его щеки. И руки у него такие тонкие, нервные, изящные! Она заметила их красоту, как замечали до нее Роберта, Гортензия и Рита. Но теперь Клайд молчал. Это было трудное, напряженное молчание, ибо он боялся дать волю словам. Он думал: «Если б только я мог сказать ей, какая она красавица! Если бы я мог обнять ее и целовать, целовать, целовать, и чтобы она тоже целовала меня!» И странно, в отличие от того, что он с самого начала испытывал к Роберте, его мысли о Сондре не были чувственными, ему просто хотелось любовно и нежно заключить в объятия эту совершенную красоту. И его глаза красноречиво говорили о силе этого желания. Сондра заметила это и немного смутилась: такое настроение Клайда пугало ее, но при этом и любопытство одолевало — что же дальше? И она сказала на смешливо: — Вы, кажется, хотите сказать мне что-то очень важное? — Я хотел бы сказать вам очень многое, Сондра, если бы только вы позволили! — с жаром ответил он. — Но вы запретили мне… — Да, запретила. Самым серьезным образом. И я рада, что вы так послушны. И она с лукавой улыбкой посмотрела на него, словно говоря: «А вы в самом деле верите, что я это всерьез?» Взволнованный этим многозначительным взглядом, Клайд вскочил, взял ее руки в свои и, глядя ей прямо в глаза, спросил: — Неужели вы совсем запретили мне говорить, Сондра? Нет, не может быть! Я так хотел бы сказать вам все, что думаю! Его глаза говорили яснее слов. Сондра сознавала, что его слишком легко воспламенить, и все же ей хотелось дать ему волю. Она немного отстранилась. — Ну, конечно, запретила. Вы уж слишком серьезно ко всему относитесь, — сказала она и тут же невольно улыбнулась. — Но я не могу справиться с собой, Сондра, не могу! Не могу! — начал он горячо, почти неистово. — Вы не знаете, что вы со мной делаете. Вы так прекрасны! Да, прекрасны, вы это знаете. Я все время думаю о вас. Это правда, Сондра! Вы сводите меня с ума. Я ночей не сплю — все думаю о вас. Да, да, я просто как безумный! Я места себе не нахожу. После каждой встречи с вами я ни о чем больше думать не могу. Вот сегодня вы танцевали со всеми этими молодыми людьми… прямо не знаю, как я это выдержал! Я хотел бы, чтобы вы танцевали только со мной, больше ни с кем. У вас такие дивные глаза, Сондра, и такой прелестный рот, и подбородок, и вы так очаровательно улыбаетесь! Он поднял руки, словно для того, чтобы приласкать ее, но сразу опустил их и мечтательно и восторженно смотрел ей в глаза, как может смотреть верующий в глаза святого… и вдруг обнял ее и привлек к себе. Охваченная трепетом, наполовину завороженная его речами, Сондра, вместо того чтобы решительно отстраниться, как она сделала бы в любом другом случае, только глядела на него. Она была зачарована его восторгом, захвачена и опьянена его страстью, ей казалось, что она могла бы полюбить его так сильно, как он этого жаждет, очень, очень полюбить… если бы только посмела. Он такой красивый, и ее влечет к нему. Он просто удивительный, хоть и беден, зато в нем столько энергии и страсти, как ни в одном из знакомых ей молодых людей. Если бы только ей не мешала мысль о родителях и о положении в обществе! Как хорошо было бы поддаться этому чудесному волнению наравне с Клайдом! И в ту же минуту она подумала, что, если родители узнают все это, ей придется не только отказаться от удовольствия еще больше сблизиться с Клайдом, но и вовсе прекратить знакомство с ним. Эта мысль испугала и отрезвила Сондру, — но лишь на мгновение: ее все равно тянуло к нему. В ее глазах было столько тепла и нежности, на губах играла улыбка. — Я не должна позволять вам говорить такие вещи. Конечно, не должна, — слабо протестовала она, нежно глядя на него. — Это нехорошо, я знаю, но все-таки… — Почему нехорошо? Что в этом дурного, Сондра? Почему мне нельзя говорить, ведь я так люблю вас! Его глаза затуманились печалью. Она это заметила. — Ну вот! — воскликнула она. — Но я… я… — и запнулась; она чуть не сказала: «Не думайте, что нам позволят продолжать в том же духе», — но вместо того прибавила: — Я еще слишком мало знаю вас. — О, Сондра, но ведь я так люблю вас, я с ума схожу! Неужели вы совсем, совсем равнодушны ко мне? Она колебалась, не зная, что ответить, — и тогда в его глазах отразились мольба, страх, печаль. Это подействовало на Сондру. Она в нерешительности смотрела на Клайда, спрашивала себя, к чему может привести такая безрассудная любовь. А он, заметив неуверенность в ее взгляде, притянул ее к себе и поцеловал. Вместо того чтобы рассердиться, она несколько мгновений добровольно и радостно лежала в его объятиях, потом быстро выпрямилась: сознание, что она позволила ему целовать себя, и мысль о том, как он может это истолковать, разом заставили ее опомниться. — Теперь вам, пожалуй, лучше уйти, — сказала она решительно, но без гнева. И Клайд, сам удивленный и немного испуганный своей смелостью, спросил робко и покорно: — Рассердились? Сондра почувствовала его покорность, покорность раба пред владыкой (это было ей и приятно и в то же время неприятно, потому что она, подобно Роберте и Гортензии, предпочитала покоряться, а не властвовать) и покачала головой. — Очень поздно, — сказала она и ласково и чуть грустно улыбнулась. Клайд понял, что нельзя больше ничего говорить, и у него не было ни мужества, ни оснований для того, чтобы настаивать; он взял пальто, печально и послушно посмотрел на Сондру и вышел.Глава 52
Роберта скоро убедилась, что ее предчувствия и опасения не были напрасными. Точно так же, как и прежде, Клайд в последнюю минуту отменял свои обещания или просто не являлся в назначенный день, не предупредив ее, а потом, по обыкновению, уверял, что не виноват и никак не мог иначе. Порой она жаловалась и упрекала его, а иногда только молчаливо и сдержанно тосковала, — но этим уже ничего нельзя было изменить и исправить. Клайд был теперь отчаянно влюблен в Сондру, и, что бы ни делала Роберта, ничто не могло повлиять на него, тронуть его. Сондра была слишком очаровательна! И, однако, Роберта каждый день проводила долгие рабочие часы в одной комнате с Клайдом, а потому он не мог не чувствовать, какие мысли гнетут ее, — печальные, мрачные, безнадежные мысли. По временам он, казалось, слышал их с такой мучительной ясностью, точно это были жалобные и обвиняющие голоса. И тогда невольно — просто чтобы утешить ее — он говорил, что хотел бы провести с нею вечер и зайдет к ней, если она будет дома. А она была в таком смятении и все еще так любила его, что не могла противиться искушению видеть его у себя. Когда же Клайд приходил к ней, воспоминания прошлого и даже сама эта комната содействовали новой вспышке прежнего чувства. Однако Клайд, безумно — наперекор всем реальным условиям — надеясь на какое-то светлое будущее, сильнее чем когда-либо, опасался, как бы нынешние отношения с Робертой ему не повредили. Что, если об этом как-нибудь узнает Сондра? Тогда все погибло! Или вдруг Роберте станет известно о его увлечении Сондрой, и она в порыве обиды и негодования разоблачит его… Ведь после Нового года он очень часто по утрам на фабрике говорил Роберте, что неожиданное приглашение от Грифитсов, Гарриэтов или других светских знакомых помешает ему прийти к ней вечером, хотя и обещал ей это днем или двумя раньше. И потом, уже три раза бывало так, что Сондра заезжала за ним в своем автомобиле, и он исчезал, ни словом не предупредив Роберту, надеясь, что до следующего утра сумеет придумать какое-нибудь оправдание и этим все загладит. То была ненормальная, хотя и не столь беспримерная, как может показаться, смесь тяготения и неприязни; и в конце концов Клайд решил: будь что будет, он должен как-то разорвать эти узы, даже если это окажется для Роберты смертельным ударом (что ему до того? Он никогда не обещал на ней жениться!). Он должен порвать с нею, даже рискуя своим положением на фабрике, если Роберта не согласится безропотно его отпустить. Но временами он казался самому себе коварным, бесстыдным и жестоким соблазнителем: ведь он обманул девушку, которая сама никогда не подумала бы о сближении с ним. И так странны капризы сладострастия: именно благодаря этому настроению — вопреки лжи, уверткам, невниманию, нарушенным обещаниям и несостоявшимся встречам — вновь сбывалось наложенное на Адама и его потомке в адское — или небесное — заклятие: «И будет к жене твоей влечение твое». Надо еще заметить, что гак как Роберта и Клайд были неопытны и несведущи, они пользовались только самыми простыми и неудовлетворительными противозачаточными средствами. И вот странное совпадение: в середине февраля Клайд, видя все большую благосклонность Сондры, почти уже решил раз и навсегда положить конец не только физической связи, но и вообще всяким отношениям с Робертой; в это же время и она тоже начала ясно понимать, что, хотя Клайд еще колеблется, а сама она по-прежнему его любит, все попытки удержать его тщетны, и, быть может, для ее гордости, если не для душевного спокойствия, ей лучше уехать, найти другую работу, которая давала бы возможность жить и немного помогать родным, — и постараться забыть Клайда. Но, к ее отчаянию и ужасу, вышло иначе. Однажды утром, когда она пришла на фабрику, ее лицо выражало сомнения и страхи еще более тяжкие и мучительные, чем те, что одолевали ее до сих пор. Вдобавок к горьким мыслям о том, что Клайд к ней охладел, ее вдруг потрясло страшное подозрение: даже уехать теперь не удастся! Оба они были слишком нерешительны и сентиментальны, и она не могла побороть своей любви к нему, — и вот теперь, когда это было наименее желательно для них обоих, она забеременела. С тех пор как она уступила обольщениям Клайда, она всегда считала дни и радовалась, убеждаясь, что все благополучно. Но теперь прошло уже сорок восемь часов после точно высчитанного срока — и ничего! А Клайд уже четыре дня не приходил к ней и на фабрике вел себя сдержаннее и равнодушнее, чем когда-либо. А теперь — это! У нее нет никого, кроме Клайда, ей не к кому больше обратиться. А он стал таким чужим и равнодушным. Роберту охватил страх, она чувствовала, что, поможет ли ей Клайд или нет, нелегко будет выйти из такого трудного и опасного положения, и она представила себе дом, мать, родных и знакомых — что они подумают, если с нею случится такое! Что скажут люди? Это приводило ее в безмерный ужас. Клеймо преступной связи! Позор незаконного рождения для ребенка! Как трудно приходится женщине, — всегда думала она, слушая рассказы о жизни и браке, об изменах и несчастьях, выпадавших на долю девушек, которые уступали мужчинам и бывали потом покинуты, — трудно, даже когда женщина замужем и находит поддержку в муже, в его любви — так любит, например, ее зять Гейбл Агнессу, и, конечно, так ее отец прежде любил мать, а Клайд — ее, в те времена, когда он пылко клялся ей в любви. Но теперь… теперь! Однако что бы ни думала она о его прежних или теперешних чувствах, медлить было нельзя. Как бы ни изменились их отношения, он должен ей помочь. Она не знает, что делать, куда обратиться. А Клайд, наверно, знает. Во всяком случае, он когда-то сказал, что поможет ей, если что-нибудь случится. Сначала она пробовала утешать себя, что, может быть, ее страхи преувеличены и все еще окончится благополучно, но когда и на третий день эти надежды не оправдались, ее охватил невыразимый ужас. Остатки мужества покинули ее. Если он теперь не придет ей на помощь, она будет совсем одинока, а ей необходима поддержка, совет — добрый, дружеский совет. О, Клайд, Клайд! Если бы только он не был так равнодушен! Он не должен быть таким! Что-то нужно сделать — немедленно, сейчас же, иначе… Боже, какой это будет ужас! Между четырьмя и пятью часами она прервала работу и бросилась в гардеробную. Там она поспешно нацарапала истерическую записку: «Клайд, я должна видеть тебя вечером непременно, непременно. Ты должен прийти. Мне надо сказать тебе кое-что. Пожалуйста, приходи сразу после работы или давай встретимся где-нибудь. Я ни на что не сержусь и не обижаюсь. Но мне необходимо видеть тебя сегодня, необходимо. Пожалуйста, ответь сейчас же, где мы встретимся». И Клайд, читая эту записку, тотчас почувствовал в ней что-то новое, странное и пугающее; он сразу оглянулся через плечо на Роберту и, увидев ее бледное, осунувшееся лицо, дал знак, что встретится с нею. По ее лицу он понял, что она хочет сказать ему нечто чрезвычайно важное, — иначе откуда это волнение и тревога? Правда, он с беспокойством вспомнил, что его пригласили в этот вечер обедать у Старков. Но все-таки нужно сперва повидаться с Робертой. Однако что же случилось? Может быть, кто-нибудь умер или заболел? Какое-нибудь несчастье с ее матерью или с отцом, братом, сестрой? В половине шестого он отправился в условленное место, стараясь догадаться, почему Роберта так бледна и встревожена. И в то же время он говорил себе, что его мечты, связанные с Сондрой, по-видимому, могут осуществиться, а потому он не должен запутываться, проявляя слишком большое сочувствие к Роберте: ему следует сохранить свою новую позицию, держаться на известном расстоянии, — пусть она поймет, что он относится к ней не так, как прежде. К шести часам он пришел на место свидания и застал там Роберту, которая печально стояла в тени, прислонясь к дереву. Она казалась подавленной, охваченной отчаянием. — В чем дело, Берта? Тебя что-то напугало? Что случилось? Она так явно нуждалась в помощи, что даже его гаснувшее чувство несколько ожило. — Ах, Клайд, — сказала она наконец, — я просто не знаю, как сказать! Такой ужас, если это правда… Уже в самом ее голосе, напряженном и тихом, ясно чувствовались неуверенность и тоска. — Но что такое, Берта? Почему ты не говоришь? — повторял Клайд настойчиво и все же осторожно, стараясь сохранить независимый и уверенный вид (это ему не совсем удавалось). — Что произошло? Из-за чего ты так взволновалась? Ты вся дрожишь. Еще никогда в жизни он не оказывался в подобном положении и потому даже теперь не догадывался, в чем несчастье Роберты. Притом он уже охладел к ней, ему было неловко за свое недавнее поведение, и он не знал, как держать себя теперь, когда с Робертой явно случилось что-то неладное. Он был все же слишком чувствителен к правилам морали и приличий — и не мог поступить с нею бесчестно, даже если этого требовали его самые честолюбивые стремления, не ощутив при этом некоторого, сожаления или хотя бы стыда. Вдобавок он боялся из-за всего этого опоздать на обед к Старкам и не умел скрыть, как ему не терпится уйти. Это не ускользнуло от Роберты. — Помнишь, Клайд, — начала она серьезно и решительно: трудность положения делала ее смелее и настойчивее. — Ты говорил, что если со мной случится несчастье, ты мне поможешь. Клайд вспомнил о недавних редких и, как видел теперь, безрассудных свиданиях с Робертой, когда какие-то остатки чувства и взаимного влечения снова приводили его к случайной и, конечно, неразумной физической близости с нею, — и сразу понял, в чем дело. Если это правда, перед ним встает очень нелегкая задача; он сам виноват, что все так запуталось, и теперь нужно действовать быстро и решительно, иначе возникнет еще худшая опасность. И тут же в нем властно заговорило лишь недавно родившееся, но неодолимое равнодушие к Роберте, он чуть не заподозрил, что все это просто хитрость, выдумка: она чувствует, что он ее разлюбил, и хочет всеми правдами и неправдами удержать его, воскресить его любовь… Однако он быстро отверг эту мысль: слишком подавленной и несчастной казалась Роберта. Ему смутно представилось, какую катастрофу означало бы для него подобное осложнение, и тревога заглушила его досаду. — Но почему ты так думаешь? — воскликнул он. — Разве ты уже можешь знать наверняка? Может быть, завтра все будет в порядке. Но в голосе его вовсе не было уверенности. — Нет, не думаю, Клайд. Мне очень хотелось бы, чтобы все уладилось. Но прошло уже два дня, раньше так никогда не бывало. Роберта сказала это с таким глубоким отчаянием, что Клайд тотчас отказался от мысли, будто она хитрит и притворяется. Но он все еще не решался взглянуть в лицо случившемуся и потому прибавил: — Ну, это еще, пожалуй, ничего не значит. Опоздание может быть и больше, чем на два дня, — разве нет? Его тон так явно изобличал неуверенность и совершенную неопытность, которой Роберта в нем до сих пор не знала, что она совсем встревожилась. — Нет, нет, не думаю. Но какой ужас, если это правда! — воскликнула она. — Как по-твоему, что мне надо делать? Ты не знаешь, что бы такое я могла принять? Клайд был так боек и самоуверен, когда добивался близости с Робертой, он производил на нее впечатление опытного, искушенного молодого человека, знающего о жизни гораздо больше, чем она могла надеяться когда-либо узнать, — человека, для которого все опасности и затруднения такого рода сходят безнаказанно… а теперь он совсем растерялся. В сущности — теперь он и сам это понял — он был так же мало осведомлен обо всех тайнах пола и о возможных в подобном случае осложнениях, как почти всякий юноша его лет. Правда, прежде чем приехать сюда, он вращался в Канзас-Сити и Чикаго в обществе столь опытных наставников, как Ретерер, Хигби, Хегленд и другие рассыльные, и наслушался от них сплетен и хвастливых рассказов. Но теперь он догадывался, что, сколько они ни хвастали, все их познания были получены от девушек столь же беспечных и несведущих, как и они сами. Он весьма смутно представлял себе, как скудны были их познания: им было лишь известно кое-что о различных специфических лекарствах и предупредительных средствах, изобретенных врачами-шарлатанами и сомнительными аптекарями, с какими обычно имеют дело люди, стоящие на уровне развития Хегленда и Ретерера. Но если бы даже он знал столько, сколько они, — где раздобыть подобные средства в таком городке, как Ликург? С тех пор как он расстался с Диллардом, у него не было ни приятелей, ни тем более верных друзей, на чью помощь он мог бы рассчитывать в таком трудном деле. Самое лучшее, что он мог сейчас придумать, это обратиться к какому-нибудь аптекарю, который за известную плату дал бы ему какое-нибудь полезное средство или указание. Но сколько это может стоить? И ведь говорить с аптекарем небезопасно. Не станет ли он расспрашивать? Будет ли молчать? Не расскажет ли кому-нибудь, что к нему обратились с такой просьбой? Клайд очень похож на Гилберта Грифитса, которого все в Ликурге хорошо знают, и кто-нибудь может принять его за Гилберта… пойдут всякие толки, и все это может плохо кончиться. И такая беда настигла его как раз теперь, когда он уже многого добился в отношениях с Сондрой, — она уже позволяет ему потихоньку целовать ее и даже доказывает ему свою привязанность маленькими подарками: возвращаясь домой, он не раз находил доставленные в его отсутствие галстуки, золотой карандашик, коробку изящнейших носовых платков и при них маленькую карточку с ее инициалами. И в нем крепла уверенность, что будущее сулит ему все больше и больше. Может быть, если Сондра будет все так же влюблена в него, будет вести себя так же хитро и умно и если ее семья будет к нему не слишком враждебна, он даже сможет на ней жениться. Конечно, он в этом не уверен. Свои подлинные чувства и намерения Сондра до сих пор скрывала под дразнившей его уклончивостью, и это делало ее еще более желанной. И, однако, все подсказывало ему, что он должен как можно скорее, как можно осторожнее и безболезненнее положить конец своей близости с Робертой. А потому теперь он с притворной уверенностью заявил: — Сегодня я на твоем месте не беспокоился бы. Может быть, все обойдется благополучно. Еще ничего нельзя знать. Во всяком случае, мне нужно время. Посмотрим, что можно сделать. Я думаю, что смогу достать для тебя что-нибудь. Только, пожалуйста, не волнуйся так! Но он был далеко не столь спокоен, как хотел показать. В глубине души он был потрясен. Его первоначальное решение держаться возможно дальше от Роберты теперь не так просто выполнить: он оказался лицом к лицу с серьезной опасностью, — разве что удастся какими-то доводами снять с себя всякую ответственность за случившееся. Ведь Роберта все еще работает под его начальством; он писал ей записки; малейшее ее слово повлечет за собой расследование, которое будет для него роковым. Поэтому ясно, что он должен помочь ей быстро и тайно, чтобы никто ничего не узнал и не услышал. Клайд, надо отдать ему справедливость, после всего, что было между ними, был вовсе не против того, чтобы помочь Роберте, насколько он только сможет. Но если не сможет (его мысли забегали вперед: возможен ведь и такой, неблагоприятный оборот дела), ну, тогда… тогда… в конце концов, разве нельзя будет отрицать всякие отношения с ней и сбежать отсюда? Многие так делают. Это может оказаться единственным выходом… Если б только он не был здесь, как в ловушке, — совершенно некому довериться. Но, что хуже всего, он понятия не имел, как можно помочь Роберте, не обращаясь к врачу. И все это, наверно, связано с тратой денег и времени, с риском и мало ли с чем еще… Он увидит Роберту завтра утром, решил он, и тогда, если ничего не изменится, начнет действовать. И Роберта, в первый раз покинутая так холодно и равнодушно, да еще в столь критическую минуту, вернулась домой, предоставленная своим мыслям и страхам, охваченная такой мучительной тоской, какой она еще никогда в жизни не испытывала.Глава 53
Но возможности Клайда в таком сложном положении были невелики. Кроме Лигета, Уигэма и некоторых младших заведующих отделениями, правда очень любезных, но державшихся довольно отчужденно (все они считали его теперь видной персоной, с которой недопустима какая-либо фамильярность), ему не с кем было посоветоваться. А в том обществе, где он теперь бывал и где так стремился утвердиться, нелепо было бы спрашивать у кого-либо совета, как бы хитро он ни попытался это сделать. Конечно, молодые люди этого круга бывали где угодно, их внешность, вкусы и средства позволяли им распутничать вволю, предаваться таким развлечениям, о каких Клайд и ему подобные не смели и мечтать, но он, в сущности, был чужой этим людям и не мог даже думать о том, чтобы их расспрашивать. Как только он расстался с Робертой, ему пришла в голову здравая мысль, что не следует обращаться к аптекарю, доктору и вообще к кому бы то ни было в Ликурге (особенно к доктору, потому что все представители этой профессии казались ему холодными и безучастными, — они, наверно, отнесутся недоброжелательно к такому безнравственному поступку и потребуют много денег); надо съездить в один из ближайших городов, лучше всего в Скенэктеди, — он и близко, и притом больше других, — и там разузнать, как можно выйти из создавшегося положения. Он должен найти какое-то средство. Необходимо было действовать возможно скорее — и уже по пути к Старкам, не представляя еще, какое именно лекарство ему нужно искать, Клайд решил отправиться в Скенэктеди на следующий же вечер. Однако, сообразил он затем, в таком случае пройдет еще целый день, прежде чем будут приняты какие-нибудь меры, а и ему и Роберте казалось, что малейшее промедление очень опасно. Поэтому он решил, что постарается действовать немедленно: извинится перед Старками и поедет в Скенэктеди сегодня же вечером, пока не закрыты аптеки. Но что потом? Как заговорить с аптекарем? Чего попросить? Он беспокойно гадал, как посмотрит на него аптекарь, что подумает, что скажет? Если бы здесь были Ретерер или Хегленд! Они, конечно, с радостью помогли бы ему. И даже Хигби. А теперь он совсем один, ведь Роберта ничего не знает… Но должно же быть какое-то средство. Если в Скенэктеди он потерпит неудачу, он немедленно напишет Ретереру в Чикаго, но, чтобы не выдать себя, скажет, что это нужно его приятелю. И ведь в Скенэктеди, где его никто не знает, он может сказать (эта мысль вдруг осенила его), что недавно женился, — почему бы и нет? Он уже достаточно взрослый и вполне может быть женатым человеком. Он скажет, что у его жены «прошел срок» (он вспомнил фразу, слышанную от Хигби), а так как им невозможно сейчас иметь ребенка, то он хотел бы получить какое-нибудь средство, которое помогло бы ей в ее состоянии. Право, это неплохая мысль! Юная супружеская чета легко может оказаться в таком затруднительном положении. Возможно, что аптекарь посочувствует им и охотно подскажет Клайду выход. Почему бы и нет? Тут нет никакого преступления. Разумеется, один или двое могут отказать, но третий, может быть, не откажет. И тогда он избавится от всех этих неприятностей. И до тех пор, пока не будет знать гораздо больше, чем сейчас, уже никогда не позволит себе снова попасть в такое положение. Никогда! Это слишком страшно! Он отправился на обед к Старкам в сильном волнении и с каждой минутой нервничал все больше. Тотчас же после обеда, когда было только половина десятого, он заявил, что в самую последнюю минуту на фабрике у него потребовали очень сложного отчета о работе отделения за весь месяц, и так как на службе ему невозможно этим заниматься, то он должен теперь отправиться домой и поработать над отчетом. Такая энергия и рвение юноши, явно желающего сделать карьеру, очень понравилась Старкам. Клайда охотно извинили. Но, приехав в Скенэктеди, он увидел, что у него остается совсем мало времени до последнего поезда в Ликург. Мужество стало покидать его. Похож ли он на женатого человека, поверят ли ему? И, кроме того, такие средства очень опасны и предосудительны, — так полагают даже сами аптекари… Он прошел из конца в конец всю главную улицу, еще ярко освещенную в этот час, заглядывая в окна то одной, то другой аптеки, и каждый раз приходил к заключению, что именно эта аптека по какой-либо причине ему не подходит. В одной он увидел за прилавком толстого, хмурого, гладко выбритого человека лет пятидесяти, чьи очки и седеющие волосы испугали Клайда: конечно, такой человек откажет молодому клиенту — скажет, что не торгует такими средствами, не поверит, что Клайд женат, и еще заподозрит его в незаконной связи с какой-нибудь девушкой. У этого аптекаря такой степенный, богобоязненный, добропорядочный и благопристойный вид… Нет, не стоит к нему обращаться. У Клайда не хватало храбрости войти и очутиться лицом к лицу с такой особой. В другой аптеке Клайд увидел маленького, сморщенного, но проворного и неглупого на вид человека лет тридцати пяти; этот показался ему подходящим; но тут Клайд заметил, что аптекарю помогает женщина лет двадцати — двадцати пяти. Что, если именно она спросит Клайда, чего он желает? Трудное, невозможное положение. Или вдруг она услышит, как он будет говорить с аптекарем? Таким образом, он отказался и от этой аптеки, потом и от третьей, четвертой, пятой по различным, но одинаково серьезным причинам: тут были покупатели, там юноша и девушка пили содовую воду, в одном месте сам аптекарь стоял недалеко от стеклянной двери, видел, как Клайд заглянул внутрь, — и этим спугнул его прежде, чем он успел решить, стоит ли сюда зайти. Но в конце концов после стольких неудач он решил, что должен что-то предпринять, иначе придется уехать обратно в Ликург ни с чем, напрасно потратив время и деньги на дорогу. Он вернулся к небольшой аптеке на боковой улице, — несколько минут назад он заметил там сидевшего без дела аптекаря, — и, призвав на помощь все свое мужество, вошел. — Я хотел бы знать кое-что, — начал он. — Не можете ли вы мне сказать… Видите ли, в чем дело… я недавно женат, и у моей жены прошел срок, а нам сейчас совершенно невозможно иметь ребенка. Нельзя ли как-нибудь ей помочь?.. Он говорил быстро и держался довольно уверенно, хотя и нервничал, внутренне убежденный, что аптекарь ему не поверит. Но он и не подозревал, что обращается со своей просьбой к закоренелому ханже, члену методистской церкви, человеку, который ни в коем случае не позволил бы себе препятствовать природе. Такого рода уловки не угодны богу — и аптекарь не держал у себя средств, в какой-либо мере противоречащих законам творца. Но в то же время он был достаточно хорошим купцом и не желал навсегда оттолкнуть от себя возможного покупателя. Поэтому он сказал: — Очень сожалею, молодой человек, но боюсь, что в данном случае я ничем не могу вам помочь. У меня нет никаких средств подобного рода, — я совсем не держу таких вещей, потомучто не верю в них. Но, может быть, в какой-нибудь другой здешней аптеке вы и найдете что-нибудь, право, не знаю. Он говорил серьезно и торжественно, с видом поборника нравственности, убежденного в своей правоте. Клайд тотчас понял, что этот человек его осуждает. Это еще больше пошатнуло его и без того непрочную веру в успех. И все же аптекарь ведь не высказал напрямик своего неодобрения и даже сказал, что, может быть, у кого-нибудь другого найдется нужное средство… Поэтому немного погодя Клайд снова набрался храбрости, походил еще взад и вперед, заглядывая в окна, и наконец в седьмой по счету аптеке заметил одиноко стоявшего продавца. Он вошел и повторил свое первое объяснение; продавец (это был не сам владелец аптеки) — худощавый, смуглый и, видимо, очень хитрый субъект — таинственно и в то же время небрежно сообщил, что такое средство есть. Да. Угодно получить коробку? Это стоит (Клайд спросил о цене) шесть долларов — потрясающая сумма для Клайда при его заработке. Однако, поскольку этот расход казался неизбежным, — хорошо уже, что удалось вообще что-то найти, — он тотчас заявил, что берет лекарство. Продавец принес коробочку и, заворачивая ее, намекнул, что это очень «эффективное» средство. Клайд заплатил и вышел. Он почувствовал такое огромное облегчение, — его нервы были безмерно напряжены до этой минуты, — что теперь готов был плясать от радости. У него в руках лекарство, и оно, конечно, подействует, за это говорит непомерная, возмутительно высокая цена. И обстоятельства таковы, что он даже может считать эту сумму не слишком большой: ведь он так легко избавился от стольких затруднений! Забыв спросить, не могут ли ему дать еще какие-либо полезные сведения и наставления, он положил пакетик в карман, поздравил себя с удачей и, очень довольный собственным бесстрашием и энергией, проявленной в столь критическую минуту, сейчас же вернулся в Ликург и поспешил к Роберте. Она, как и сам Клайд, очень обрадовалась, что ему удалось добыть какое-то средство: оба они боялись, что такого лекарства вовсе не существует или же его будет очень трудно достать. На нее вновь произвели большое впечатление его ловкость и энергия — качества, которыми она до сих пор всегда наделяла его. И он оказался гораздо великодушнее и внимательнее, чем она ожидала. По крайней мере, не бросил ее на произвол судьбы, а она сначала с ужасом думала, что это может случиться. И одного этого было довольно, чтобы, несмотря на его недавнее равнодушие, она снова смягчилась. Возбужденная, воспрянув духом в надежде на эти пилюли, она развернула коробку, прочла наставление и горячо поблагодарила Клайда, уверяя, что никогда не забудет, как он был добр к ней в этот трудный час. Но тут же, пока она развязывала пакетик, у нее мелькнула мысль: а вдруг лекарство не поможет? Что тогда?.. Как условиться с Клайдом на этот счет? Однако пока что, рассудила она, нужно удовлетвориться тем, что есть, — и она немедля приняла одну пилюлю. Но как только Клайд выслушал ее восторженную благодарность и почувствовал, что Роберта, пожалуй, считает возможной дальнейшую близость с ним, он сразу снова принял тот же равнодушный вид, который сохранял в последнее время на фабрике. Ни в коем случае он не должен больше позволять себе никаких обольщений и нежностей в этом доме. И если, как он от души надеется, лекарство подействует, это должно быть их последним свиданием, разве что случится какая-нибудь совершенно нечаянная и ничего не значащая встреча. Все эти неприятности доказали, что отношения с Робертой для него чересчур опасны… Он слишком многим рискует, в сущности всем, а взамен — одни только заботы, тревоги и расходы. И поэтому он опять стал сдержанным и холодным. — Ну, теперь все уладится, правда? Во всяком случае, будем надеяться. Тут сказано, что нужно принимать по одной пилюле через каждые два часа в течение восьми или десяти часов, и если ты почувствуешь себя не совсем хорошо, это ничего, не нужно обращать внимания. Может быть, надо будет день или два не ходить на фабрику, но не беда, — зато разделаешься со всей этой историей. Я зайду завтра вечером узнать, как ты себя чувствуешь, если ты не придешь на работу. Он весело улыбнулся, а Роберта удивленно смотрела на него, не понимая, откуда эта черствость. Ведь еще недавно он был такой пылкий, такой нежный и заботливый. Как он ее любил! А теперь! И все же, искренне благодарная ему в эту минуту, она от души улыбнулась в ответ. Но когда он вышел, не обменявшись с нею ни одним ласковым словом, и дверь за ним закрылась, Роберта опустилась на постель и с сомнением покачала головой. Вдруг это средство все-таки не подействует? А Клайд останется все таким же холодным и чужим… Что тогда? Он так равнодушен, что, если лекарство не подействует, он, пожалуй, больше не захочет ей помогать. Но может ли он так поступить? Ведь это он виноват в ее несчастье. Ведь она не хотела этого, а он так настойчиво уверял, что с нею ничего не случится. А теперь она должна лежать здесь одинокая и измученная, и нет ни одного человека, кроме того, к кому она могла бы обратиться за помощью, а он уходит от нее к другим, заявив, что все уладится. А ведь это он виноват во всем! Разве это справедливо? О, Клайд, Клайд!Глава 54
Но купленное им лекарство не подействовало. Роберту тошнило, и, следуя совету Клайда, она не пошла на фабрику, а лежала дома, терзаясь тревогой. Не дождавшись спасительного результата и желая, чего бы это ей ни стоило, ускользнуть от настигшей ее страшной беды, она стала принимать пилюли каждый час, и не по одной, а по две, и почувствовала себя совсем больной. Когда Клайд в половине седьмого пришел к ней, он был по-настоящему тронут: какое у нее мертвенно-бледное лицо, какие впалые щеки и огромные, лихорадочно блестящие глаза, с неестественно расширенными зрачками! Она явно страдала, и все из-за него, — это его испугало, и ему стало ее жаль. В то же время он был крайне смущен и растерян: раз ее состояние не изменилось, перед ним вставали новые трудности, и он стал торопливо обдумывать возможные последствия этой неудачи. Очевидно, необходимо обратиться за советом и помощью к доктору. Но к какому доктору, где и как его найти? И, кроме того, спрашивал он себя, где достать на это денег? Не придумав ничего другого, он решил опять отправиться к тому же аптекарю и попросить, чтобы он дал какое-нибудь новое средство или хоть посоветовал бы, что можно сделать. Или пусть укажет какого-нибудь недорогого, тайно практикующего врача, который помог бы Роберте за небольшое вознаграждение или согласился бы получить гонорар в рассрочку. Но хотя все это было так серьезно, почти трагично, настроение Клайда поднялось, как только он вышел на улицу: он вспомнил, что в этот вечер в девять часов ему предстоит встретиться у Крэнстонов с Сондрой и со всей остальной компанией. Однако там, на веселой вечеринке, несмотря на все очарование Сондры, он не мог не думать о положении Роберты, которая стояла перед ним, словно призрак. Что, если бы у кого-нибудь из собравшихся здесь — у Надины Гарриэт, Перли Хайнс, Вайолет Тэйлор, Джил Трамбал, у Беллы, Бертины или Сондры — явилось малейшее подозрение о том, где он сейчас был и что видел? И хотя Сондра, сидевшая за роялем, приветливо улыбнулась ему через плечо, когда он вошел, его не покидала мысль о Роберте. Когда вечеринка окончится, он опять зайдет к ней; может быть, ей лучше, тогда и у него станет легче на душе. Если с нею все по-прежнему, надо скорей написать Ретереру и просить у него совета. Несмотря на все свое беспокойство, он старался казаться, как всегда, веселым и беззаботным. Он танцевал сперва с Перли Хайнс, потом с Надиной; затем, в ожидании случая потанцевать с Сондрой, подошел к группе, старавшейся помочь Ванде Стил сложить новую картинку-головоломку, и объявил, что он умеет читать письма в запечатанных конвертах (старый фокус, объяснение которого он нашел в старинном сборнике игр, валявшемся на полке в гостиной Пейтонов). Он еще раньше собирался при помощи этого фокуса удивить всю компанию своей ловкостью и теперь воспользовался им, чтобы отвлечься от угнетавшей его куда более сложной задачи. С помощью Надины, которую он посвятил в секрет своего трюка, ему вполне удалось мистифицировать всю компанию, но мысли его были далеко. Перед ним неотступно стояла Роберта. Что, если положение в самом деле серьезное и он не сумеет помочь ей от этого избавиться? Пожалуй, она потребует, чтобы он на ней женился: ведь она так боится и родителей, и всех окружающих. Что ему тогда делать? Он потеряет прекрасную Сондру, и она еще, пожалуй, узнает, что заставило его с нею расстаться! Но нет, со стороны Роберты было бы безумием ожидать, что он на ней женится. Он на это не пойдет. Он не может. Одно несомненно: он должен сейчас помочь Роберте. Должен! Но как? Как? В двенадцать часов Сондра сделала ему знак, что собирается уходить и что он может, если хочет, проводить ее до дому и даже зайти к ней на несколько минут. В воротах, в тени широкой арки, она позволила ему поцеловать себя и сказала, что он начинает все больше нравиться ей и что весною, когда Финчли переедут на Двенадцатое озеро, она постарается устроить так, чтобы он мог приезжать туда по воскресеньям. Но Клайд был слишком удручен необходимостью немедленно что-то сделать для Роберты и не мог даже как следует обрадоваться этому новому, столь необычайному и волнующему свидетельству привязанности Сондры — этой новой, удивительной светской и личной победе. Надо сегодня же послать письмо Ретереру. Но сначала он должен, как обещал, зайти к Роберте и узнать, не лучше ли ей. А завтра утром непременно надо съездить в Скенэктеди и поговорить с тем аптекарем. Необходимо что-то предпринять, если только Роберте не стало лучше сегодня вечером. И вот, еще чувствуя на губах поцелуи Сондры, он отправился к Роберте; бледное лицо и страдальческий взгляд Роберты ясно сказали ему, едва он переступил порог, что в ее положении не произошло никакой перемены. Она чувствовала себя даже хуже, чем прежде: от слишком больших доз лекарства она совсем расхворалась. Но это было ничего, — сказала она, — если бы только лекарство подействовало… Лучше смерть, чем то, что ее ожидает! Клайд понимал, что она хочет сказать, и, всерьез опасаясь за себя, заодно, по-видимому, огорчался и за нее. Однако равнодушие, которое она замечала в нем в последнее время, и то, как он сегодня ушел и оставил ее одну, было для Роберты знаком, что на сколько-нибудь прочное сочувствие с его стороны рассчитывать не приходится. И это было ей очень горько: она понимала, что он больше не любит ее, хоть и уговаривает не беспокоиться и обещает, если лекарство не подействует, достать другое, более верное, и для этого завтра же утром еще раз съездит к аптекарю в Скенэктеди. Но у Гилпинов не было телефона, а Клайд никогда не рисковал заходить днем в комнату Роберты и не позволял ей звонить к миссис Пейтон; поэтому было решено, что он пройдет мимо ее дома завтра утром, по дороге на работу. Если все уладится, штора на ее окне будет поднята до самого верха, если же нет, то только до половины. В этом случае он немедленно отправится в Скенэктеди, предупредив по телефону мистера Лигета, что его задержали неотложные дела. Оба они были безмерно угнетены и напуганы нависшей над ними бедой. Клайд далеко не был уверен, что, если положение Роберты не изменится, ему удастся ускользнуть, не позаботившись о ней; она может потребовать не просто временной помощи, а чего-нибудь большего, — может быть, женитьбы. Ведь она уже напоминала, что он обещал не оставлять ее. Но что, собственно, он имел тогда в виду, обещая это, спрашивал он себя теперь. Конечно, не брак: он никогда не думал жениться теперь на Роберте, а хотел только веселой любовной игры, хотя, как он прекрасно знал, Роберта совсем по-другому понимала его пылкое чувство. Он должен был признаться себе, что она считала его намерения серьезными, иначе бы ни в коем случае ему не уступила. Вернувшись домой, Клайд написал и отправил письмо Ретереру; он провел тревожную ночь, а на следующее утро отправился к аптекарю в Скенэктеди, так как, когда он проходил мимо дома Роберты, штора на окне была поднята) лишь до половины. Но аптекарь не мог предложить никаких новых средств, только посоветовал сделать горячую ванну, — об этом он забыл упомянуть в первый раз. Полезна также утомительная гимнастика. Заметив беспокойство на лице Клайда и поняв, что он чрезвычайно встревожен создавшимся положением, аптекарь прибавил: — А знаете, ведь если у вашей жены произошла задержка на один месяц, это еще ничего не значит. У женщин это иногда бывает. Во всяком случае, вы не можете быть уверены раньше, чем кончится второй месяц. Каждый доктор вам это скажет. Если она нервничает, пусть продолжает принимать пилюли. Но даже если они не подействуют, пока ничего нельзя утверждать: все-таки через месяц все может окончиться благополучно. Слегка ободренный этими утешениями, Клайд уже готов был уйти. Возможно, что Роберта ошиблась, и оба они тревожатся понапрасну. Но тут же он подумал, что, может быть, она и права, им грозит несчастье, и ждать еще целый месяц, ничего не предпринимая, значит только терять время. Он похолодел от этой мысли и сказал аптекарю: — А на случай, если все это не сойдет благополучно, вы не знаете такого доктора, к которому она могла бы пойти? Для нас это очень серьезно, и я хотел бы помочь ей, если можно. Что-то в поведении и тоне Клайда — его чрезвычайная нервозность, его желание пойти на незаконную операцию (по какой-то своей особой логике фармацевт полагал, что это совсем другое дело, нежели просто проглотить пилюлю, которая должна вызвать тот же самый результат) — показалось аптекарю подозрительным. У него мелькнула мысль, что Клайд, вероятно, вовсе не женат; наверно, тут обычная история: распущенный юнец вовлек в беду какую-нибудь неопытную девушку. Поэтому настроение аптекаря изменилось, доброжелательность и готовность помочь исчезли, и он холодно сказал: — Видите ли, здесь, может быть, и найдется подходящий доктор, но я такого не знаю. И не могу посылать кого-либо к таким докторам. Это дело противозаконное. Плохо придется врачу, которого уличат в таких вещах. Но это, конечно, ваше дело, можете поискать кого-нибудь, если хотите, — угрюмо прибавил он, испытующе и подозрительно глядя на Клайда и решая про себя, что лучше держаться подальше от такого субъекта. Итак, Клайд вернулся к Роберте с тем же самым лекарством, хотя она решительно запротестовала, говоря, что если не помогла первая коробка, то бесполезно было брать вторую. Но так как он настаивал, она согласилась попробовать новый способ приема. Однако его доводы, что, может быть, во всем виноваты простуды или нервы, убедили ее только в одном: Клайд не в силах ничего сделать для нее или же просто не понимает, как это важно для них обоих. А если и новый способ лечения не поможет, что тогда? Неужели Клайд больше ничего не намерен предпринять? Однако у Клайда был своеобразный характер: хоть его и преследовал страх за будущее, но так неприятны были все эти волнения, они оказались такой помехой другим его интересам, что он с радостью поверил, будто через месяц все может кончиться благополучно, и готов был преспокойно ждать. Роберта могла ошибиться. Может быть, она подняла тревогу понапрасну. Надо посмотреть, не подействует ли на этот раз лекарство. Но лечение не помогло. И хотя Роберта с отчаяния вернулась на фабрику, надеясь работой изнурить себя и, может быть, этим добиться желанного результата (все девушки в отделении уверяли ее, что у нее совершенно больной вид и что ей не следует работать, раз она чувствует себя так плохо), все было напрасно. А Клайд, полагаясь на слова аптекаря, продолжал успокаивать себя тем, что задержка на месяц не имеет значения, — и это еще больше угнетало и пугало ее… Дело в том, что в этих критических обстоятельствах Клайд представлял собою интереснейший пример того, как невежество, молодость, бедность и страх непомерно осложняют жизнь. Он не знал даже точного значения слова «акушерка», ни характера тех услуг, которые она может оказать женщине. Между тем в иммигрантском квартале Ликурга было в то время три акушерки. Притом он жил в Ликурге слишком недавно и никого здесь не знал, кроме светской молодежи, Дилларда, знакомство с которым он прекратил, и кое-кого из начальников цехов на фабрике; что до случайных знакомых, вроде парикмахера, галантерейщика, продавца сигар и прочих, все они, казалось ему, слишком тупы или слишком невежественны, чтобы помочь. Но главное, из-за чего он в нерешительности медлил, не принимаясь за поиски доктора, это вопрос: как и кто к нему пойдет? О том, чтобы пойти самому, Клайд и помыслить не мог. Во-первых, он слишком похож на Гилберта Грифитса, которого все здесь великолепно знают и за которого могут его принять. Во-вторых, безусловно, он слишком хорошо одет, и на этом основании доктор, пожалуй, потребует с него больше, чем он может заплатить, да еще станет задавать всякие затруднительные вопросы… А вот если бы все это устроил кто-нибудь другой… объяснил бы все подробно еще до прихода Роберты… Но почему бы Роберте не пойти самой? Почему? Она с виду такая простая, невинная, такая скромная и трогательная. И особенно теперь, когда она так удручена и подавлена, право же… В конце концов, хитроумно рассуждал он сам с собой, ведь именно перед нею, а не перед ним непосредственно стоит эта требующая неотложного разрешения задача. И, кроме того, подумал он еще, если она пойдет одна, наверно, она сумеет устроить это дешевле. У нее теперь такой несчастный вид… Если бы еще уговорить ее сказать, что она брошена каким-нибудь молодым человеком, имя которого она, конечно, откажется назвать… неужели доктор, увидя несчастную, покинутую, совсем одинокую девушку, откажет ей? Может быть, он даже поможет ей даром, как знать? И тогда со всей этой ужасной историей будет покончено навсегда. Итак, Клайд отправился к Роберте, собираясь подготовить ее к тому, что, если ему удастся найти врача, она должна будет сама с ним поговорить: для него, при его родственных связях, это невозможно. Но еще прежде, чем он заговорил, она стала спрашивать, успел ли он что-нибудь сделать или узнать. Не продается ли где-нибудь какое-нибудь другое лекарство? И Клайд воспользовался удобным случаем, чтобы заговорить о докторе. — Да, я спрашивал чуть ли не во всех аптеках, и мне всюду говорили, что если это лекарство не подействовало, так и другие не помогут. Так что я теперь ничего не могу поделать, остается только одно: чтобы ты пошла к доктору. Но, понимаешь, беда в том, что очень трудно найти такого доктора, который все сделает и будет держать Язык за зубами. Я уже расспросил нескольких приятелей, — конечно, не объясняя, для кого это нужно. Но тут нелегко найти кого-нибудь: все очень боятся делать такие операции. Понимаешь, ведь это незаконно. Но я вот что хочу знать. Предположим, я найду доктора, который на это согласится, — решишься ли ты пойти к нему и рассказать, в чем дело? Мне надо это знать. Роберта изумленно посмотрела на него, не вполне понимая, что он предлагает ей пойти совсем одной, и думая, что он, конечно же, собирается ее сопровождать. Затем, представив себе, что придется говорить с врачом в присутствии Клайда, испуганно воскликнула: — Господи, страшно подумать, что нам надо идти с этим к доктору! Значит, он будет все знать о нас?! И потом, ведь это опасно, правда? Хотя, наверно, не намного хуже этих ужасных пилюль. Ей хотелось знать подробнее, что и как надо делать, но Клайд не мог просветить ее на этот счет. — Не нужно так нервничать, — сказал он. — Это никак не может повредить тебе, я знаю. И нам очень повезет, если мы найдем доктора, который это сделает. Но вот что я хочу знать: если я найду доктора, согласишься ты пойти к нему одна? Роберта вздрогнула, словно ее ударили, но Клайд, не смущаясь, продолжал: — Видишь ли, я не могу пойти с тобой, это ясно. Меня здесь многие знают, и, кроме того, я слишком похож на Гилберта, а уж его-то знают все. Если меня примут за него или узнают, что я его двоюродный брат или родственник, мне — крышка. Его глаза говорили не только о том, как он будет несчастен, если его изобличат перед всем Ликургом, в них таилась еще одна тень: уж очень подлую роль он играл по отношению к Роберте, пытаясь вот так спрятаться за ее спину, воспользоваться ее безвыходным положением. И, однако, его слишком мучил страх перед тем, что с ним будет, если этот план не удастся, и теперь он приготовился стоять на своем, что бы Роберта ни думала и что бы ни говорила. Но Роберта поняла только одно — что он собирается послать ее одну, и не могла этому поверить. — Нет, Клайд, только не одна! — воскликнула она. — Я не могу! Нет, нет! Я боюсь до смерти! Я, наверно, совсем растеряюсь от страха. Подумай, каково мне будет объяснять ему все! Я просто не сумею. Я Даже не знаю, что ему сказать! Как начать? Нет, ты должен пойти со мной и все ему объяснить, или я ни за что не пойду… Мне все равно: будь что будет! Ее глаза расширились и горели, лицо, на котором только что отражались уныние и страх, исказилось упрямым протестом. Но и Клайд был непоколебим. — Ты же знаешь, Берта, в каком я тут положении! Я не могу пойти, вот и все. Только представь себе, что меня увидят… кто-нибудь меня узнает… Что тогда? Просто безумие требовать, чтобы я пошел с тобой. И потом, тебе это гораздо легче, чем мне. Ни один доктор не станет много раздумывать о том, кто ты такая, особенно если ты придешь одна. Он поймет, что ты попала в беду и что некому помочь тебе, вот и все. Но если приду я и он узнает, что я из Грифитсов, начнется невесть что. Он сразу вообразит, будто у меня куча денег. А если я не заплачу, сколько он потребует, он может отправиться к моему дяде или двоюродному брату — и тогда прощай все! Тогда мне конец. Я потеряю место, останусь без денег, буду замешан в такой скандальной истории, — а тогда, как ты думаешь, куда мне деваться, да и тебе тоже? Конечно, я не смогу тебе помогать. Что ты тогда станешь делать? Надеюсь, ты опомнишься и поймешь, что положение очень тяжелое. Если мое имя будет впутано в эту историю, нам обоим будет худо. Обо мне никто ничего не должен знать, а для этого я не должен ходить ни к каким докторам. Кроме того, тебе он больше посочувствует, чем мне. Ты не можешь с этим спорить! Его глаза были полны отчаяния и решимости; в его лице, в каждом его жесте Роберта видела бессердечие или по меньшей мере вызов — плоды страха. Он решил во что бы то ни стало сберечь свою репутацию, и на Роберту, привыкшую покоряться ему, это подействовало. — О, боже, боже! — пугливо и жалобно восклицала она, с каждой минутой яснее сознавая весь ужас случившегося. — Не знаю, что делать, просто не знаю! Я не могу решиться на это, вот и все. Это так жестоко, так ужасно! Я умру от стыда и страха, если пойду одна. Но, говоря это, она уже чувствовала, что в конце концов пойдет одна. Что ей оставалось делать? У Клайда есть свои опасения и страхи, — как она может заставить его рисковать своим положением? А он снова начал, скорее для самозащиты, чем из каких-либо других побуждений: — И потом, надо постараться, чтобы все это стоило не очень дорого, Берта, иначе не знаю, как я справлюсь. Право, не знаю! Видишь ли, я зарабатываю не так уж много: всего двадцать пять долларов (необходимость наконец заставила его быть откровенным). И у меня нет никаких сбережений — ни цента. Ты не хуже меня знаешь, почему так вышло. Почти все, что я получал, мы тратили вместе. Если я пойду и доктор подумает, что у меня есть деньги, он может потребовать больше, чем я в силах заплатить. А если пойдешь ты и просто скажешь, как обстоит дело… и что у тебя ничего нет… если бы, к примеру, сказать, что я сбежал… понимаешь? Он замолчал, увидев, как лицо Роберты вспыхнуло от стыда, презрения, отчаяния при мысли, что ей пришлось коснуться чего-то столь низменного и пошлого. Но хотя это была с его стороны хитрая и даже грязная уловка, так велика властная и умудряющая сила необходимости, что Роберта все же увидела некоторый смысл в его доводах. Пусть он хочет воспользоваться ею как ширмой, как маской, за которой оба они на этот раз попытаются укрыться. Но все равно, как это ни было постыдно, действительность вставала перед нею голым, суровым утесом, и у его подножья бились яростные волны необходимости. — Ты можешь не называть своего настоящего имени, — услышала она слова Клайда, — и не говорить, откуда ты. Я ведь не собираюсь связываться с докторами здесь, в Ликурге. И потом, если ты скажешь ему, что у тебя нет никаких средств, только твой еженедельный заработок… Роберта бессильно опустилась на стул, стараясь собраться с мыслями, а он все плел свою убедительную ложь — и большинство его доводов попадало прямо в цель. Ибо, как ни был фальшив и безнравствен весь этот план, все же Роберта понимала, что и она и Клайд в безвыходном положении. В нормальных условиях она могла быть до щепетильности честна и правдива в словах и поступках, но тут явно разыгралась одна из тех жизненных бурь, при которых обычные карты и компасы моральных критериев становятся бесполезными. Итак, было решено, что они обратятся к какому-нибудь доктору подальше от Ликурга, хотя бы в Утике или Олбани (тем самым подразумевалось, что к доктору она все-таки пойдет), и на этом разговор оборвался. Одержав победу, добившись того, что сам он не будет в это замешан, Клайд набрался храбрости и решил немедленно, всеми правдами и неправдами отыскать доктора, к которому можно послать Роберту. Тогда всем этим ужасным волнениям придет конец. А после она сможет — она должна! — пойти своей дорогой. И он, сделав для нее все, что можно, тоже пойдет своей дорогой — к тем блистательным свершениям, которые ожидают его, если только сейчас все уладится.Глава 55
Однако проходили часы, дни, прошла неделя, потом десять дней, а Клайд ни слова не сообщил о докторе, к которому Роберта могла бы пойти. Несмотря на все свои уговоры и обещания, он все еще не знал, к кому обратиться. А каждый день, каждый час был такой грозной опасностью и для него и для нее! В ее взглядах и вопросах сказывалось сильнейшее, жгучее, минутами нестерпимое страдание. Да и сам Клайд был предельно измучен своим неумением найти быстрый и верный выход и помочь ей. Где живет врач, к которому можно послать ее, на которого можно положиться? Как это разузнать? Перебрав поименно всех своих знакомых, он в конце концов обрел слабую надежду в образе некоего Орина Шорта, которому принадлежал небольшой магазин мужского белья, обслуживавший главным образом богатую молодежь Ликурга. Шорт был молод, приблизительно того же возраста, что и Клайд, и, кажется, с такими же наклонностями; со времени своего переезда в Ликург Клайд постоянно пользовался его советами относительно своих галстуков, костюмов и вообще стиля одежды. Клайд давно отметил, что это — очень живой, тактичный и любознательный молодой человек; Шорт очень нравился девушкам; к тому же он всегда был чрезвычайно любезен со своими клиентами, особенно с теми, кого считал стоящими выше себя на общественной лестнице, — в том числе и с Клайдом. Узнав о родстве Клайда с Грифитсами, Шорт в надежде, что это поможет ему выдвинуться, изо всех сил старался завязать с ним как можно более дружеские отношения. Но Клайд из-за своих важных родственников до сих пор не считал возможным принимать всерьез подобное знакомство. Однако Шорт был так приветлив и услужлив, что Клайд не мог не поддерживать с ним хотя бы поверхностных полуприятельских отношений, которыми тот был, по-видимому, очень доволен. В самом деле, он держался заискивающе, порою даже подобострастно. И вот среди всех, с кем Клайду приходилось встречаться. Шорт оказался едва ли не единственным, кого он мог попытаться расспросить в надежде получить какие-нибудь полезные сведения. Надумав посоветоваться с Шортом, Клайд утром и вечером, проходя мимо его магазина, счел необходимым по меньшей мере три дня подряд кланяться и улыбаться ему особенно дружески. Затем, решив, что этим он, насколько допускает его положение, уже подготовил почву, Клайд зашел в магазин; вовсе не уверенный, что с первого раза сумеет затронуть опасную тему, он заранее придумал для Шорта целую историю. Он скажет, будто к нему обратился на фабрике один молодой рабочий, который недавно женился: ему грозит появление наследника, а он пока не может справиться с неизбежными в таком случае расходами — и просил Клайда посоветовать, где найти доктора, который мог бы тут помочь. К этому Клайд собирался прибавить лишь одну оригинальную подробность: дело в том, что молодой человек очень беден, робок и не слишком сообразителен, а потому не может сам о себе позаботиться. Клайд живет здесь слишком недавно и потому не мог указать никакого врача, но, как человек более сведущий, рекомендовал рабочему одно временное средство (Клайд намерен был внушить Шорту, что сам-то он далеко не беспомощен и едва ли нуждался бы в подобных советах). К сожалению, однако, это средство не подействовало. Поэтому нужны более решительные меры, необходим врач. Шорт же давно живет в Ликурге, а до того жил в Гловерсвиле и, уж, конечно, — так уверял себя Клайд, — сможет указать хотя бы одного врача. Чтобы отвести от себя всякое подозрение, Клайд решил прибавить, что он, конечно, мог бы расспросить на этот счет своих знакомых, но случай слишком необычный (заговорить о таких вещах в его кругу, значит вызвать всякие толки и пересуды), вот почему он обращается к Шорту и просит его молчать об этом. Случилось так, что торговля у Шорта в тот день шла на славу, и поэтому он был особенно весел и разговорчив. И когда Клайд зашел к нему — будто бы лишь затем, чтобы купить носки, — Шорт воскликнул: — Очень рад вас видеть, мистер Грифитс! Как поживаете? Я как раз думал, что пора бы уже вам заглянуть ко мне! Хочу показать вам кое-какие вещи — я их получил после того, как вы были у меня в последний раз. Как дела «Компании Грифитс»? Всегда приветливый, он был вдвойне любезен с Клайдом, который ему нравился. Но Клайд, поглощенный своим дерзким замыслом, был до того взвинчен, что, сколько ни старался сохранить непринужденный вид, ему это плохо удавалось. Тем не менее он зашел в магазин и, следовательно, уже как бы приступил к осуществлению своего плана. Поэтому он начал: — Дела идут прекрасно, нельзя жаловаться, и работы у меня всегда много… Он стал рассеянно перебирать галстуки, висящие на подвижных никелевых вешалках. Шорт тотчас обернулся, снял с полки несколько особых коробок и поставил их на стеклянный прилавок перед Клайдом. — Те не стоит смотреть, мистер Грифитс, — сказал он, — взгляните лучше сюда. Вот галстуки, которые я хотел вам показать, для вас они не будут стоить дороже. Я только сегодня утром получил их из Нью-Йорка. Он развернул несколько пачек, по шести галстуков в каждой, и пояснил, что это самые модные. — Видели вы в Ликурге что-нибудь подобное? Я уверен, что нет. Он с улыбкой смотрел на Клайда; ему от души хотелось, чтобы этот молодой человек, с такими прекрасными связями, хотя и не очень богатый, с ним подружился. Это подняло бы Шорта в глазах жителей Ликурга. Клайд перебирал галстуки, понимая, что Шорт сказал ему правду; он был взволнован, мысли его путались, и он не мог подыскать слов, чтобы заговорить так, как собирался. — Очень красивые… конечно… — сказал он, чувствуя, что при других обстоятельствах ему было бы очень приятно купить хотя бы два из них. — Я, пожалуй, возьму вот этот и еще этот. Он отобрал два галстука, напряженно думая, как бы заговорить о гораздо более важном деле, которое привело его сюда… И зачем он покупает эти галстуки, тратит время на всякие пустяки, когда просто нужно спросить Шорта о том деле? Но это так трудно… очень трудно! Однако он должен это сделать… только, может быть, не сразу. Сперва он посмотрит еще что-нибудь, чтобы не вызвать подозрений… попросит показать хотя бы носки… Но зачем они ему? Он ни в чем не нуждается; Сондра только недавно подарила ему дюжину носовых платков, несколько воротничков, галстуки и носки. И все же каждый раз, как он решал заговорить, у него начинало сосать под ложечкой от страха, что он не сумеет все сказать так спокойно и свободно, как нужно. Придуманная история сомнительна и ненадежна и легко может привести к позорному разоблачению… Кажется, он просто не сумеет сегодня заговорить с Шортом. И в то же время он спрашивал себя: представится ли еще когда-нибудь такой удобный случай? Шорт тем временем отошел ненадолго в глубину магазина и теперь вернулся. — Если не ошибаюсь, я видел вас в прошлый вторник, часов в девять вечера, когда вы входили к Финчли, — сказал он с самой любезной и даже льстивой улыбкой. — До чего у них красивый дом и сад! Клайд знал что его связи в здешнем обществе производят на Шорта большое впечатление; в тоне торговца звучало величайшее восхищение с примесью подобострастия. И это сразу придало Клайду храбрости; находясь в такой позиции превосходства, можно сказать что угодно, — понял он: всякое слово его почитатель примет с благоговейным уважением. Выбрав пару носков, чтобы как-то сгладить впечатление от своей просьбы, он сказал: — Да, кстати, чтобы не забыть. Я хотел спросить вас кое о чем. Может быть, вы сможете мне сказать. У нас на фабрике есть один рабочий, молодой парень, он недавно женат — всего месяца четыре, кажется… так вот, он сейчас очень беспокоится из-за жены… Клайд запнулся, не зная, есть ли смысл продолжать: он заметил, что выражение лица Шорта несколько изменилось. Однако, зайдя так далеко, он уже не мог отступить и с нервным смешком прибавил: — Право, не знаю, почему они всегда приходят ко мне со своими заботами! Вероятно, думают, что я должен отлично разбираться в таких вещах (он снова засмеялся). Но я здесь совершенный новичок и просто не знаю, что ему сказать. А вы, по-моему, уже давно в Ликурге, вот я и решил спросить вас… Он говорил так развязно и небрежно, как только мог, но уже понимал, что совершает ошибку; Шорт наверняка сочтет его глупцом или чудаком. Однако, хотя Шорта и поразило, что Клайд обратился к нему с подобным вопросом (он заметил неожиданную натянутость и нервозность в поведении Клайда), ему очень польстило такое доверие, хотя бы и в столь щекотливом деле. Он тотчас оправился от удивления и ответил прежним любезным тоном: — Ну, разумеется, мистер Грифитс, я буду очень рад, если только смогу чем-нибудь вам помочь. А в чем же дело? — Так вот, видите ли, — вновь начал Клайд, немного ободренный этим доброжелательным ответом, и несколько понизил голос, чтобы придать подобающую таинственность разговору на эту ужасную тему, — у его жены прошло уже два месяца сверх срока, а он пока не может позволить себе иметь ребенка и не знает, как теперь этого избежать. С месяц назад, когда он пришел ко мне в первый раз, я посоветовал попробовать одно лекарство, которое обычно помогает (это было сказано для того, чтобы показать Шорту свою осведомленность и находчивость в подобных положениях: стало быть, лично ему, Клайду, такие сведения ни к чему), но они, видно, не сумели воспользоваться этим лекарством как надо. Во всяком случае, он теперь очень волнуется и хотел бы отправить ее к доктору, понимаете? А я в Ликурге никого не знаю. Я слишком недавно здесь. Будь это в Канзас-Сити или в Чикаго, я бы знал, что делать. Там мне известны три или четыре врача (стараясь произвести большее впечатление на Шорта, он многозначительно улыбнулся). Но здесь — другое дело. Если я начну спрашивать знакомых и это дойдет до моих родных, они могут не так это истолковать. Вот я и подумал, — может быть, вы кого-нибудь знаете и укажете мне. В сущности, меня это совершенно не касается, но мне жаль парня. Он замолчал; и так как Шорт слушал внимательно и сочувственно, Клайд теперь смотрел на него с большим доверием, чем вначале. Шорт, хотя и удивленный, был очень рад случаю оказать ему услугу. — Вы говорите, прошло уже два месяца? — Да. — И лекарство, о котором вы говорили, не помогло? — Нет. — А она принимала его и на второй месяц? — Да. — Ну, это и правда скверно. Боюсь, что дела ее плохи. Видите ли, мистер Грифитс, беда в том, что я ведь тоже не так давно в Ликурге. Я купил этот магазин всего полтора года назад. Конечно, будь я в Гловерсвиле… — Он замолчал на мгновенье, словно тоже, как и Клайд, усомнился, благоразумно ли вдаваться в такого рода подробности, но через несколько секунд продолжал: — Вы понимаете, это не так-то легко устроить и здесь и в любом другом городе. Доктора всегда боятся неприятностей. Правда, я слышал, был тут один случай, когда девушка обратилась к врачу, — он живет в нескольких милях отсюда. Но она была из очень хорошей семьи, и молодой человек, который отвел ее к доктору, был всем известен. Не знаю, согласится ли этот врач сделать что-нибудь для незнакомого человека. Впрочем, такие вещи делаются постоянно, и вы можете попытаться. Но если вы пошлете этого рабочего к доктору, скажите ему, чтобы он не называл меня. Видите ли, меня тут все знают, и я совсем не хочу быть замешанным в это дело. Особенно если выйдет что-нибудь неладное. И Клайд с признательностью ответил: — Ну конечно! Он это поймет. Я скажу ему, чтобы он никого не называл. Вынув из кармана блокнот и карандаш, он записал имя и адрес врача, чтобы не забыть этих важных сведений. Шорт заметил, с каким облегчением вздохнул Клайд, и мысленно спросил себя, существует ли в действительности этот рабочий. Не сам ли Клайд попал в беду? Чего ради стал бы он беспокоиться о каком-то молодом рабочем? Все же он был рад услужить Клайду, но одновременно подумал, что выйдет недурная сплетня для всего Ликурга, если он когда-нибудь впоследствии вздумает об этом рассказать. Нет, если только Клайд сам не довел до беды какую-нибудь девушку, очень глупо с его стороны вмешиваться в такое дело, да еще из-за рабочего. Что-то не верится. Несмотря на все эти соображения, он еще раз повторил имя и фамилию доктора, постарался точнее вспомнить, как к нему доехать и на какой станции сойти, и подробно описал дом. Клайд, получив нужные сведения, поблагодарил и ушел; торговец весело и немного подозрительно посмотрел ему вслед. «Уж эти богатые молодчики, — подумал он. — Странно, что он с такой просьбой пришел ко мне. У него тут столько знакомых и приятелей, — кажется, мог бы ему кто-нибудь удружить в этом деле скорее, чем я. А может быть, он как раз и боится, как бы об этом не прослышали знакомые. Почем знать, кого он довел до беды! Может быть, даже эту молоденькую Финчли. Все может быть! Я не раз видел их вместе, и она такая бойкая! Ну и ну, вот уж…»Глава 56
Добытые таким образом сведения лишь отчасти облегчили положение. Теперь для Клайда и Роберты не могло быть ни минуты спокойствия, пока эта задача не будет окончательно решена. Узнав подробный адрес и фамилию врача. Клайд немедленно отправился к Роберте и сказал ей, что у него есть наконец доктор, который может ей помочь. Теперь предстояло еще нелегкое дело, подбодрить ее настолько, чтобы она решилась одна пойти к врачу; она должна объяснить ему все так, чтобы полностью выгородить Клайда и вызвать у врача побольше сочувствия к себе; тогда он потребует лишь самой незначительной платы. Но вместо того, чтобы протестовать, чего сначала опасался Клайд, Роберта сразу согласилась. Очень многое в поведении Клайда, начиная с рождества, так возмущало ее, что она совсем растерялась и думала лишь о том, чтобы без огласки выпутаться из беды и потом пойти своей дорогой, как бы ни было это горько и тяжело. С тех пор как она поняла, что он больше не любит ее и явно хочет от нее отделаться, она вовсе не желала удерживать его насильно. Пусть уходит. Она и одна проживет. Да, она сможет жить и без него, лишь бы только выпутаться из этой истории. Но, говоря себе все это и ясно сознавая, что счастливые дни ее жизни прошли безвозвратно, Роберта закрывала лицо руками и утирала неудержимые слезы. Могла ли она думать, что все так кончится… И когда, побывав у Шорта, Клайд в тот же вечер пришел к ней, ужасно довольный собой и своим подвигом, она внимательно выслушала его объяснения и сказала только: — Ты точно узнал, где это, Клайд? Можно спокойно доехать поездом или там придется еще далеко идти пешком? Когда он объяснил, что это близко от Гловерсвила — в сущности пригород — и что врач живет всего в четверти мили от станции, она спросила еще: — А он бывает дома по вечерам или нам надо будет прийти днем? Лучше бы, если можно, поехать вечером. Меньше опасности, что кто-нибудь нас увидит. Клайд успокоил ее: от Шорта он знал, что доктор принимает вечером. — А ты не знаешь, старый он или молодой? — продолжала она. — Мне было бы гораздо легче, если бы он был старый. Я не люблю молодых докторов. У нас дома всегда бывал старый доктор. Мне было бы легче говорить с таким, как он. Этого Клайд не знал. Он и не подумал спросить об этом Шорта, но, чтобы успокоить Роберту, наугад сказал, что доктор средних лет, — так оно действительно и было. На следующий вечер оба они — порознь, как обычно, — выехали в Фонду, где пришлось сделать пересадку. Но вот и нужная станция. Они вышли из вагона и пошли по ровной зимней дороге, покрытой твердым, слежавшимся снегом. Идти по ней было легко, и они шли быстро, потому что между ними уже не существовало той близости, которая прежде заставила бы их медлить. Еще совсем недавно, думала Роберта, если б они с Клайдом очутились в таком безлюдном месте, он с радостью замедлил бы шаг, обнял бы ее за талию и стал бы весело болтать обо всем понемножку: о погоде, о работе на фабрике, о мистере Лигете, о своем дяде, о новых фильмах, о том, как приятно было бы съездить вдвоем туда-то, сделать то-то и то-то… А теперь… ведь именно теперь она, как никогда прежде, нуждается во всей его преданности и поддержке. Но он — Роберта видела это — был весь поглощен тревожными размышлениями: не струсит ли она, оставшись одна, не сбежит ли, сумеет ли сказать то, что нужно, в нужный момент, чтобы убедить доктора помочь ей, и притом за наименьшую плату. — Ну, Берта, как ты? Ничего? Не струсишь, а? Уж пожалуйста, не надо! Помни, ты идешь к врачу, который уже делал такие вещи. Я это точно узнал. Ты только скажи ему, что с тобой случилась беда, вот и все, и что ты не знаешь, как быть, если он как-нибудь не поможет тебе, потому что у тебя нет друзей и тебе совсем не к кому пойти. И вообще дело такое, что ты не можешь ни к кому обратиться, если бы и хотела, потому что знакомые могут тебя выдать, понимаешь? А если он будет спрашивать,где я и кто я, ты просто скажи, что был тут один молодой человек, но он уехал… не называй никаких имен, а просто скажи, что уехал и ты не знаешь куда… удрал, понимаешь? А если он спросит, почему ты обратилась к нему, скажи, что слышала, как он помог одной девушке, — что она тебе рассказала. И объясни, что ты очень мало зарабатываешь, а то он представит такой счет, который я не смогу оплатить. Лучше всего попроси его сделать рассрочку на несколько месяцев или что-нибудь в этом роде, понимаешь? Клайд так нервничал, стараясь внушить Роберте мужество и энергию, необходимые, чтобы пройти через все это и добиться успеха, что не понимал, как нелепы и непрактичны почти все его советы и наставления. А Роберта думала, что легко ему стоять в стороне и поучать ее, а она должна пойти и выдержать такую пытку одна. И притом он явно заботится о себе куда больше, чем о ней. Пусть она сама выпутывается, да так, чтобы ему это все обошлось подешевле и без особых забот! И, однако, несмотря ни на что, ее даже сейчас влекло к нему: она любила его бледное лицо, тонкие руки, его нервное изящество. Она знала: у него самого не хватило бы ни смелости, ни находчивости для того, что он заставляет ее делать, — и все же не сердилась. Она только сказала себе, что хоть он и поучает ее, как ей себя вести, она не очень-то будет слушаться его советов. Она вовсе не собиралась говорить, будто она покинута, — это было бы слишком тяжело и стыдно. Она скажет, что она замужем, но они с мужем слишком бедны и пока не могут иметь ребенка, — все это, как она помнила, рассказывал Клайд аптекарю в Скенэктеди. В конце концов разве знает Клайд, что она переживает? Он даже не идет с ней, чтобы облегчить ей мучительный разговор. Однако, повинуясь чисто женскому прирожденному стремлению найти в ком-то поддержку, она обернулась к Клайду, взяла его за руки и замерла. Ей хотелось, чтобы он обнял ее, приласкал, сказал, что ей нечего бояться — все будет хорошо… В этом невольном порыве отразилось ее прежнее доверие к Клайду, — и хотя он больше не любил ее, он высвободил руки и обнял ее, просто для того, чтобы ободрить. — Ну, смелее, Берта! — сказал он. — Послушай, нельзя же так. Неужели у тебя не хватит храбрости теперь, когда мы уже пришли? Надо только войти — и тогда все будет не так уж страшно, уверяю тебя. Ты только поднимись на крыльцо и позвони. А когда выйдет он или кто-нибудь другой, скажи, что хочешь поговорить с доктором наедине, понимаешь? Тогда он поймет, что это дело секретное, и тебе будет легче. Он продолжал давать советы в том же роде, и она, не найдя в нем в эту минуту искренней нежности, ясно поняла, как безнадежно ее положение, собрала все свои силы и сказала: — Ну, хорошо, подожди меня здесь. Не уходи далеко, ладно? Может быть, я очень скоро вернусь. И она торопливо пошла к воротам и дальше по дорожке, ведущей к крыльцу. Дверь открыл сам доктор; вопреки представлению Шорта и Клайда, это был и по внешности и по характеру человек очень трезвый и умеренный — типичный провинциальный врач: солидный, осторожный, строго нравственный и даже довольно набожный; он считал себя отчасти либералом, но человек сколько-нибудь либеральный увидел бы во многих его воззрениях ограниченность и упрямство. Невежество и глупость большинства окружающих позволяли ему считать себя образованным человеком. Он постоянно сталкивался со всяческими проявлениями косности и упадка, с одной стороны, и здравомыслия, энергии, осмотрительности и преуспеяния — с другой, и в тех случаях, когда действительность готова была опрокинуть его ранее сложившиеся взгляды, предпочитал не вмешиваться в нее и предоставлял силам неба или ада самим решать исход событий. Он был небольшого роста, коренастый, с шарообразной головой, но с красивыми и правильными чертами лица, живыми серыми глазами и приятной улыбкой. У него были короткие полуседые волосы, лоб прикрывала челка — невинное щегольство сельского жителя. Толстые руки с пухлыми, но чуткими пальцами были спокойно опущены. Ему было пятьдесят восемь лет; он был женат, отец троих детей, и старший сын уже изучал медицину, готовясь наследовать практику отца. Введя Роберту в просто обставленную неуютную приемную, доктор попросил ее подождать, пока он кончит обедать. Вскоре он появился в дверях небольшого кабинета, тоже очень просто обставленного: тут стояли письменный стол, два стула, книжный шкаф и стол с медицинскими инструментами; в глубине, видимо, находилась еще комнатка с разными медицинскими принадлежностями. Доктор провел Роберту в кабинет и указал ей на стул. Его седые волосы, солидность, важность, странная привычка щурить глаза — все это немало напугало Роберту; однако доктор отнюдь не произвел на нее такого неблагоприятного впечатления, как она ожидала: во всяком случае, он старый и кажется если не приветливым, то хотя бы умным и осторожным. А он посмотрел на нее с любопытством, словно вспоминая, не встречал ли ее раньше, и затем сказал: — Ну, давайте познакомимся! Чем я могу вам помочь? Он говорил негромко, ободряюще, и Роберта была глубоко благодарна ему за это. Однако, испуганная тем, что вот сейчас, здесь, придется наконец признаться в ужасной истине, она сидела неподвижно и молча; сначала она смотрела на доктора, потом опустила глаза и стала судорожно теребить сумочку. — Видите ли… — начала она серьезно и взволнованно; в ее лице и голосе внезапно прорвалось страшное внутреннее напряжение. — Я пришла… я пришла… то есть… я не знаю, как сказать вам. Когда я шла сюда, я думала, что сумею сказать, но теперь… теперь я увидела вас… — Она замолчала, сделала движение, словно собираясь встать, и вдруг воскликнула: — Господи, как это все ужасно! Я так нервничаю… — Ну, ну, успокойтесь, дорогая, — сказал он ласково и ободряюще; ему понравилась эта хорошенькая, но совсем не кокетливая посетительница, и он слегка удивился, не понимая, что могло привести в волнение такую, видимо, скромную, серьезную и сдержанную девушку; притом его очень позабавило это детское: «Теперь я увидела вас». — Стало быть, вы пришли и «увидели меня», — повторил он. — Но чем же я вас так напугал? Я всего только сельский врач, знаете ли, и, право, я не такой уж страшный, как вам кажется! Вы можете вполне довериться мне, можете рассказать о себе все, что хотите, вам нечего бояться. Если я могу что-нибудь сделать для вас, я это сделаю. Он в самом деле славный, подумала Роберта, но такой почтенный и серьезный и, наверно, очень строгий… и, наверно, будет неприятно поражен, когда она скажет, зачем пришла. Что тогда? Захочет ли он чем-нибудь помочь? А если захочет, как все устроится с деньгами? Это ведь будет очень серьезный вопрос. Если бы Клайд или хоть кто-нибудь из близких мог быть здесь и говорить за нее! А все же она должна говорить, раз уж она пришла сюда. Теперь нельзя отступать. Роберта опять беспокойно задвигалась, теребя пальцами большую пуговицу жакета, и наконец с запинкой проговорила: — Но, видите ли, это… это совсем другое, не то, что вы, наверно, думаете… я… я… И опять она замолчала, не в силах продолжать, то Краснея, то бледнея. Ее тревожная застенчивость, чистый белый лоб и ясные глаза, скромность и сдержанность в манерах и одежде заставили врача подумать, что посетительница попросту крайне наивна, вернее, неопытна во всем, что касается деятельности человеческого тела, и оттого мучительно стесняется, — это столь характерно для неискушенного молодого существа. В первую минуту он не мог заподозрить ничего дурного — и уже собирался повторить обычную в таких случаях формулу: что ему можно сказать решительно все, без всяких страхов и сомнений. Но тут мелькнула другая мысль, подсказанная зрелой красотой Роберты, а пожалуй, и ее собственные мысли передались ему: он решил, что ошибся. В конце концов, может быть, это просто одна из неприятных историй, обычных среди молодежи. Очевидно, здесь какая-нибудь незаконная связь! Эта девушка молода, здорова, красива; притом такие истории всегда выходят наружу — и нередко это случается как раз с девушками самого скромного и приличного вида. И всегда это влечет за собой волнения и неприятности для врача. По разным причинам — и из-за своего замкнутого, сдержанного характера и из-за взглядов, принятых в его среде, — он не любил иметь дело с такими историями. Это было незаконно, опасно, как правило, почти не оплачивалось, и он знал, что местное общественное мнение строго это осуждает. Притом его и самого возмущали дрянные девчонки и мальчишки, которые вначале позволяют себе с такой легкостью уступать требованиям природы, а потом так же легко отказываются нести налагаемые этим обязательства и не желают ни брака, ни детей. И хотя за последние десять лет он помог нескольким девушкам, нарушившим приличия и не имевшим иного выхода, избавиться от последствий своего легкомыслия (в случае, если это были девушки из хороших, близко знакомых ему семейств или если к этому его побуждали соображения религиозного порядка или добрососедские отношения), все же он был против того, чтобы вызволять из беды всех остальных, кто не имел такой прочной поддержки. Это слишком опасно. Обыкновенно в таких случаях он советовал немедленный и обязательный брак. Если же это оказывалось невозможным, так как виновник позорного события успел скрыться, доктор твердо и решительно отказывался от какого-либо вмешательства в это дело. Вмешиваться в таких случаях слишком опасно для врача: не только дурно с этической и общественной точки зрения, но и преступно. Поэтому теперь он смотрел на Роберту серьезно и холодно. Ни в коем случае, думал он, нельзя позволить себе растрогаться и как-либо впутаться в эту историю. И чтобы помочь и себе и ей сохранить известное равновесие, которое даст им обоим возможность спокойно закончить трудный разговор, он пододвинул к себе книгу для записей в черном кожаном переплете и открыл ее со словами: — Ну, давайте разберемся, в чем ваша беда. Как вас зовут? — Рут Говард, миссис Говард, — нервно и с усилием ответила Роберта, назвавшись тем именем, которое подсказал ей Клайд. Услышав, что она замужем, врач вздохнул с облегчением. Но откуда же эти слезы? Что за причина у молодой замужней женщины так сильно робеть и волноваться? — Имя вашего мужа? — продолжал он. Этот простой вопрос, на который было так легко ответить, однако, смутил Роберту; и она не сразу заставила себя сказать: «Гифорд» (имя ее старшего брата). — Вы, вероятно, живете здесь? — В Фонде. — Так. Сколько вам лет? — Двадцать два. — Давно вы замужем? И этот вопрос, так тесно связанный с тем, что мучило ее, снова заставил ее смутиться. — Позвольте… да… три месяца. И опять доктор Глен был охвачен сомнением, хотя и не показал этого. Ее нерешительные ответы удивляли его. Откуда эта неуверенность? Он снова спрашивал себя: действительно ли перед ним порядочная женщина, не справедливы ли его первоначальные подозрения? — Итак, миссис Говард, в чем же дело? Вы можете без всяких колебаний сказать мне все. Изо дня в день я выслушиваю всевозможные признания и привык к нем. Прислушиваться к человеческим страданиям моя обязанность. — Видите ли, — бледнея и запинаясь, начала Роберта. Это страшное признание сжимало ей горло и едва не парализовало язык. Она все крутила пуговицу жакета и упорно не поднимала глаз. — Дело в том, что… понимаете… у моего мужа нет средств… мне приходится работать, чтобы помочь справиться с расходами, но мы оба зарабатываем так мало (она сама удивлялась, что может так бесстыдно лгать, — она, всегда ненавидевшая ложь)… Так вот… конечно, мы не можем позволить себе… мы не можем сейчас иметь детей… так скоро, понимаете, и… Она замолчала, у нее перехватило дыхание, и она просто не в силах была дальше так лгать. Доктор решил, что понял ее: она в самом деле недавно замужем и боится, как бы дети не стали слишком большой обузой для мужа; он не собирался идти на какое-либо незаконное лечение, но в то же время не желал быть слишком суровым к молодой чете, едва вступающей в жизнь, и потому посмотрел на нее более сочувственно. Явно затруднительное положение этих молодых людей и подобающая обстоятельствам благопристойная скромность посетительницы тронули его. Все это очень печально. Молодым людям в наше время приходится нелегко, особенно на первых порах. У них, конечно, тяжелое материальное положение. Это участь чуть ли не всей молодежи. Тем не менее насильственное прекращение беременности, вмешательство в нормальные, установленные богом жизненные процессы — это в лучшем случае щекотливое и противоестественное дело, такими вещами он, по возможности, не хотел бы заниматься. Притом молодые и здоровые люди, хотя бы и бедные, вступая в брак, знали, на что шли. Они могут работать (во всяком случае, муж) и, значит, как-нибудь справятся. Он выпрямился на стуле и очень спокойно и авторитетно начал: — Мне кажется, я понял, что вы хотите сказать, миссис Говард. Но, боюсь, вы не совсем ясно представляете себе, как серьезно и опасно то, что вы задумали. Однако позвольте, — прибавил он вдруг (его поразила новая мысль: не ходят ли в округе какие-нибудь слухи о прежних случаях из его практики, слухи, способные повредить его репутации). — Почему вы обратились именно ко мне? Что-то в тоне его вопроса и в выражении лица, — опасение и, может быть, негодование оттого, что кто-то подозревал его в такого рода Практике, — заставило Роберту заколебаться: она чувствовала, что опасно ответить, как советовал Клайд, будто она слышала имя этого врача, будто ее направила к нему какая-то девушка. Пожалуй, лучше не говорить, что ее кто-либо сюда послал. Доктор может рассердиться, принять это как оскорбление своей врачебной репутации. Природный такт помог ей и на этот раз, и она ответила: — Я часто хожу мимо, видела табличку у вас на двери и слышала от многих, что вы хороший доктор. Его сомнения рассеялись, и он продолжал: — Во-первых, моя совесть не позволяет мне советовать вам то, о чем вы меня просите. Я понимаю, конечно, что вы считаете это необходимым. Вы и ваш муж оба очень молоды и, вероятно, недостаточно обеспечены. Вы боитесь, что рождение ребенка очень затруднит вашу жизнь. Без сомнения, так оно и будет. Однако я должен сказать вам, что брак священен, и дети — это благословение, а не проклятие. Когда вы шли к алтарю три месяца назад, вы, вероятно, понимали, что обстоятельства могут сложиться так, как они сложились теперь. Все юные пары, вступающие в брак, понимают это, я полагаю. («Алтарь, — печально подумала Роберта, — если бы так!»). Я знаю, что в наше время многие семьи прибегают к этому, о чем я очень сожалею. Есть люди, которые, не чувствуя угрызении совести, стараются увильнуть от нормальной ответственности при помощи операции, но это очень опасно, миссис Говард, это противозаконно и притом глубоко неправильно с точки зрения и морали и медицины. Многие женщины, стараясь избежать материнства, умирают от этой операции. А кроме того, врачу, сделавшему подобную операцию, окончилась ли она благополучно или нет, грозит тюремное заключение. Я думаю, вам все это известно. Во всяком случае, я лично со всех точек зрения решительно возражаю против таких операций. Единственное оправдание для такой вещи — случай, когда без подобной операции нельзя сохранить жизнь матери. Ничего другого я не признаю. Такие исключения медицина допускает. Но в данном случае, я уверен, оснований для операции нет. Вы, по-видимому, крепкая и здоровая женщина. Материнство не будет Для вас тяжело. А что касается денежных затруднений, — поверьте, если родится ребенок, вы сумеете с ними справиться. Вы, кажется, сказали, что ваш муж электротехник? — Да, — ответила Роберта, волнуясь, напуганная и подавленная этой торжественной проповедью. — Ну, вот видите, — продолжал он, — профессия довольно выгодная. Все электротехники недурно зарабатывают. И если вы подумаете как следует и представите себе, как серьезно то, что вы хотите совершить, — уничтожить человеческую жизнь, у которой имеются те же права на существование, что и у вас… — Он сделал паузу, чтобы смысл сказанного глубже проник в ее сознание. — Я уверен, вы еще обсудите это с должной серьезностью — и вы и ваш муж. Притом, — прибавил он дипломатично, почти отеческим тоном, — когда у вас будет ребенок, он с избытком вознаградит вас за некоторые тяготы, связанные с его появлением. Скажите, — спросил он вдруг с любопытством, — а ваш муж знает об этом? Может быть, это вы сами надумали спасти и его и себя от излишних забот и затруднений? Он посмотрел на Роберту с улыбкой, почти весело, воображая, что уличил ее не только в нервном страхе, но и в чисто женских соображениях экономического порядка; в таком случае, решил он, не трудно будет рассеять эти ее настроения. Но Роберта, поняв, к чему он клонит, и чувствуя, что, солжет ли она лишний раз, нет ли, от этого уже не будет ни вреда, ни пользы, — быстро ответила: — Он знает. — Вот как, — сказал доктор, немного разочарованный тем, что его догадка неверна, но все-таки с твердым намерением разубедить пациентку и ее мужа. — Я думаю, что вы оба должны серьезно взвесить все, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги. Я знаю, когда молодая пара впервые оказывается в таком положении, она всегда видит в этом одну только мрачную сторону, но ведь не обязательно все будет так плохо! Я помню, мы с женой думали так же, когда ждали первого ребенка. Но все прошло хорошо. И если вы теперь спокойно обсудите это, я уверен, вы увидите все в другом свете. И впоследствии вас не будет мучить совесть. Он замолчал, уверенный, что ему удалось рассеять страхи молодой женщины и уничтожить решимость, которая привела ее к нему: это обыкновенная рассудительная жена, и, конечно, она теперь не станет настаивать, откажется от своих планов и уйдет. Но вместо того чтобы весело согласиться с ним или просто подняться, как он ожидал, она вдруг посмотрела на него широко раскрытыми, полными ужаса глазами и зарыдала. Под влиянием его речи в сознании Роберты с необычайной ясностью ожило нормальное, общепринятое представление о ее положении. Все время она старалась об этом не думать. В обычных условиях, будь она в самом деле замужем, она, конечно, поступила бы именно так, как он советовал. Но теперь, когда она убедилась, что у нее нет выхода, — по крайней мере этот человек не поможет ей выпутаться из беды, — ее охватил смертельный, панический страх. Она сплетала и расплетала пальцы, колени ее дрожали, лицо исказилось страданием и ужасом. — Вы не понимаете, доктор, нет, вы не понимаете! — воскликнула она. — Я должна от этого освободиться любым способом. Должна! Я вам сказала неправду! Я не замужем. У меня нет мужа. Ах, вы не знаете, что это для меня значит! У меня семья, отец, мать! Я не могу вам объяснить. Вы не знаете… Но я должна освободиться, должна, должна! Она раскачивалась из стороны в сторону, словно в трансе. Доктор Глен был поражен и тронут этим внезапным взрывом отчаяния. Однако он отметил, что его первое подозрение оказалось справедливым и Роберта лгала ему, и, не желая никоим образом вмешиваться в это дело, решил держаться твердо и даже бессердечно. — Значит, вы не замужем? — строго спросил он. Вместо ответа Роберта только покачала головой, продолжая плакать. Поняв наконец, как безысходно ее горе, доктор Глен поднялся; на лице его попеременно отражались волнение, осторожность и сочувствие. Он молча смотрел на рыдающую Роберту. — Да, да, это очень печально. Мне вас жаль, — сказал он наконец, но тут же замолчал, опасаясь сделать какой-нибудь неосторожный шаг; потом прибавил мягко и неуверенно: — Не надо плакать, это не поможет. И снова он замолчал, с прежней решимостью отнюдь не вмешиваться в это дело. Но ему все-таки хотелось узнать правду, и потому он задал новый вопрос: — Ну, а где же молодой человек, который виноват в вашем несчастье? Он здесь? Роберта, подавленная стыдом и отчаянием, все еще не могла произнести ни слова и только отрицательно покачала головой. — Но он знает, в каком вы положении? — Да, — тихо ответила Роберта. — И он не желает жениться на вас? — Он уехал. — Так, понимаю. Уж эти молодые негодяи! И вы не знаете, куда он уехал? — Нет, — малодушно солгала Роберта. — Давно он оставил вас? — Около недели, — еще раз солгала она. — И вы не знаете, где он теперь? — Нет. — А как давно вы нездоровы? — Уже больше двух недель. Она всхлипнула. — Раньше у вас всегда было все правильно? — Да. — Ну, что ж, во-первых… — Он говорил теперь мягче и ласковее, чем прежде: казалось, он ищет благовидного предлога, чтобы устраниться от участия в таком деле, которое не обещает ему ничего, кроме опасности и затруднений. — Это, может быть, еще не так серьезно, как вы думаете. Я понимаю, вы очень напуганы, но ведь у женщин нередко бывают такие неправильности. Во всяком случае, без особого исследования нельзя быть в этом уверенным. А самое лучшее — подождать еще две недели. Очень возможно, что все кончится благополучно. Я бы этому не удивился. Вы, видимо, чрезвычайно чувствительны и нервны, а нервность часто влечет за собою такого рода задержки. Если хотите послушать моего совета, то сейчас, во всяком случае, ничего не предпринимайте. Отправляйтесь домой и ждите. Пока не будет полной уверенности, уж никак не следует что-либо делать. — Но я уже принимала пилюли, и они не помогли, — жалобно сказала Роберта. — Какие пилюли? — с интересом спросил доктор Глен и, выслушав ее объяснение, заметил: — А, эти! Ну, они едва ли по-настоящему помогли бы вам, если вы действительно беременны. Но я вам снова советую подождать. Через две недели все выяснится, и тогда у вас еще будет достаточно времени, чтобы принять меры. Но я все-таки серьезно советую вам отказаться от этой мысли. Я считаю большой ошибкой нарушать законы природы. Будет гораздо лучше, если вы решитесь иметь ребенка и станете о нем заботиться. Тогда на вашей совести не будет еще нового греха — убийства. Он говорил сурово и важно, с сознанием собственной правоты. Но Роберта, терзаемая ужасом, которого врач, видимо, просто не мог понять, воскликнула с прежним трагическим отчаянием: — Но я не могу, доктор! Говорю вам, не могу! Не могу!.. Вы не понимаете… Не знаю, что я буду делать, если не смогу от этого освободиться! Не знаю! Не знаю! Она качала головой, стиснув руки и раскачиваясь взад и вперед. Доктор Глен видел, как глубок ее ужас, и ему было жаль, что легкомыслие довело ее до такого отчаянного положения. Однако, как профессионал, он холодно относился к случаю, который мог навлечь на него одни только неприятности, и потому решительно заявил: — Как я уже сказал вам, мисс… (он помедлил) Говард, если это ваше настоящее имя, — я решительно против операций такого рода, так же как и против того легкомыслия, которое доводит девушек и молодых людей до положения, когда эта операция кажется им необходимой. Врач не может вмешиваться в подобные случаи, если он не желает провести десять лет в тюрьме, и я считаю этот закон справедливым. Не думайте, что я не понимаю, каким тяжким кажется вам сейчас ваше несчастье. Но поверьте, всегда найдутся люди, которые охотно помогут девушке, оказавшейся в таком состоянии, если только она не захочет больше пренебрегать нравственностью и законом. Итак, вот наилучший совет, который я могу вам дать: не предпринимайте ничего — ни теперь, ни позже. Идите домой и признайтесь во всем вашим родителям. Так будет лучше, гораздо лучше, уверяю вас. Это не так тяжко, как вам сейчас кажется, и не так дурно, как то, что вы задумали. Не забывайте, что если ваши теперешние опасения справедливы, речь идет о человеческой жизни. Вы хотите уничтожить уже зародившуюся жизнь, и в этом я не могу вам помочь. Никак не могу. Я знаю, есть врачи, которые относятся не так серьезно к своей профессиональной этике, но я не из их числа и не могу позволить себе стать таким. Весьма сожалею… весьма!.. Итак, могу сказать вам одно: вернитесь домой и расскажите все своим родителям. Сейчас это кажется очень трудным, но в конце концов вам станет легче. Если они захотят, пусть придут и потолкуют со мной. Я постараюсь убедить их, что это еще не самое страшное несчастье на свете. Но сделать то, о чем вы просите… Мне очень, очень жаль, но я не могу. Совесть мне не позволяет. Он замолчал и посмотрел на нее сочувственно, но в то же время решительно и твердо. И Роберта, потрясенная внезапным крушением всех своих надежд и видя, что не только была введена в заблуждение рассказами Клайда об этом докторе, но и сама не сумела справиться со своей задачей и разжалобить доктора, неверными шагами двинулась к выходу; ею снова овладел страх перед будущим. Доктор любезно и с сожалением закрыл за нею дверь, — и, очутившись на улице, во тьме, она беспомощно прислонилась к дереву; все силы душевные и телесные оставили ее. Он отказался помочь ей! Отказался помочь! Что же теперь?Глава 57
На первых порах отказ доктора безмерно потряс и перепугал обоих — и Роберту и Клайда. Значит, впереди — незаконнорожденный ребенок, бесчестие Роберты, разоблачение и гибель Клайда. Видимо, ничего иного не остается… Но затем — по крайней мере перед Клайдом — тяжкая завеса стала понемногу приподыматься. Может быть, в конце концов, как предполагал доктор (едва придя в себя, Роберта подробно все пересказала Клайду), дело вовсе не так плохо. Вполне возможно — об этом говорили и аптекарь, и Шорт, и доктор, — что Роберта ошибается. Роберту эти соображения не успокаивали, но они плохо повлияли на Клайда: он впал в своеобразное оцепенение, вызванное прежде всего неотступным страхом, что он ничего не сумеет придумать и, значит, ему неизбежно грозит разоблачение. И вот вместо того, чтобы бороться тем отчаяннее, он медлил и ничего не предпринимал. Такова уж была его натура: хотя он и ясно представлял себе возможные трагические последствия своего бездействия, но так мучительно снова искать, к кому обратиться, не навлекая на себя опасности. Ведь доктор выпроводил ее, и совет Шорта ничего не дал! Так прошли еще две недели, но Клайд только тщетно напрягал мозг, раздумывая, у кого теперь просить помощи. Так трудно об этом спрашивать. Просто невозможно. Да и кого спросить? Кого? На все это нужно время. А между тем дни проходили — и у Роберты и Клайда было достаточно времени, чтобы обдумать, как же поступать дальше, чего каждому требовать от другого, если Роберта останется без врачебной помощи. Роберта все торопила и торопила Клайда, если не словами, то выражением лица и настроением во время работы. Она твердо решила, что не должна, не может быть покинута в этой борьбе. С другой стороны, она видела, что Клайд ничего не делает. После своих первых попыток он решительно не знал, что и как предпринять. У него не было друзей, и поэтому в надежде получить нужные сведения он мог бы лишь мимоходом заговаривать то с одним, то с другим о своих затруднениях, как о каком-то воображаемом случае. И в то же время, как ни было это нелепо и легкомысленно, Клайда по-прежнему влекло в тот веселый мир, где жила Сондра. По вечерам, по воскресеньям его приглашали то туда, то сюда, и он шел, несмотря на Отчаянное состояние и настроение Роберты, потому что в гостях можно было забыть о неотступном, грозном призраке катастрофы. Если б только он мог выручить Роберту! Если б мог! Но как? Без денег, без друзей, без более близкого знакомства с медицинским, или, точнее, с особым подпольным миром, где черпали знания о тайнах пола, скажем, рассыльные из отеля «Грин-Дэвидсон». Правда, он написал Ретереру, но ответа не было, так как Ретерер переехал во Флориду и письмо еще не дошло до него. А здесь все, кого он лучше знал, были связаны либо с фабрикой, либо со светским обществом: с одной стороны, были люди слишком неопытные и опасные, с другой — слишком чужие и тоже опасные, и ни с кем из них он не был настолько близок, чтобы довериться им и рассчитывать, что они сохранят его тайну. Однако надо было что-то делать: нельзя же спокойно плыть по течению! Конечно, Роберта не позволит ему долго бездействовать: ведь скоро всем станет известно ее положение. Подчас Клайд по-настоящему терзался и, как утопающий за соломинку, хватался за всякую, чаще всего мнимую, надежду. Так, например, когда один из мастеров на фабрике однажды случайно упомянул, что работница его отделения «попала в беду» и ей предложили уйти, Клайд тут же спросил мастера: а что, по его мнению, такая девушка могла сделать, если б не хотела ребенка? Но тот, столь же неопытный, как и сам Клайд, сказал только, что ей, вероятно, пришлось бы пойти к врачу, если бы она знала подходящего, или уж «довести дело до конца», — и, таким образом, Клайд не подвинулся ни на шаг в своих познаниях. В другой раз в парикмахерской обсуждали происшествие, о котором сообщила местная газета: одна девушка подала жалобу в суд на некоего бездельника за нарушение обещания жениться. «Уж поверьте, — сказал кто-то, — не стала бы она судиться с этим малым, если б не было для этого причины». Клайд воспользовался случаем и спросил: — А разве ей нельзя выпутаться как-нибудь иначе и не выходить за него, если она его не любит? — Ну, это не так просто, как вам кажется, особенно здесь, у нас, — заявил мудрец парикмахер. — Во-первых, это против закона. Потом, тут нужна куча денег… Ну, а без денег, сами знаете, и шагу не ступишь. Он защелкал ножницами, а Клайд, поглощенный собственными делами, подумал, что это очень верно. Будь у него деньги — хоть несколько сот долларов, — кто знает, может быть, удалось бы уговорить Роберту, чтобы она уехала куда-нибудь одна и сделала операцию. Каждый день Клайд говорил себе, что нужно найти какого-нибудь врача. И Роберта тоже говорила себе, что нужно действовать, — нельзя больше полагаться на Клайда, если он будет так медлить. Никто не может шутить или мириться с такой грозной опасностью. Это значило бы жестоко обмануть ее, Роберту. Очевидно, Клайд не понимает, как ужасно это будет и для нее и для него самого. Нет, если он не поможет ей, — а он сначала твердо обещал помочь, — тогда пусть не надеется, что она выдержит неминуемую катастрофу одна. Никогда, никогда, никогда! Клайду хорошо, ведь он мужчина, занимает неплохое положение, не он, а она оказалась в этой ужасной западне — и не в силах выбраться одна. Прошли две недели, о которых говорил доктор, потом еще два дня, и Роберта окончательно убедилась, что ее худшие подозрения справедливы. И она не только всеми возможными способами постаралась показать Клайду свое невыразимое отчаяние, но на третий день написала ему, что решила в этот же вечер снова отправиться к доктору в Гловерсвил, несмотря даже на его первый отказ: слишком уж ей нужна помощь! Она спрашивала, не может ли Клайд проводить ее, и, поскольку сам он ничего не сделал, он немедленно согласился, хотя в этот вечер его ждала Сондра. Он чувствовал, что это важнее всего остального. Он извинится перед Сондрой, сославшись на работу. Итак, состоялась эта вторая поездка, и по дороге — длинный, напряженный и бесплодный разговор, который свелся к объяснениям, почему именно Клайд все еще ничего не сумел сделать, и к комплиментам Роберте за ее решимость действовать самостоятельно. Однако доктор опять ответил отказом. Роберта прождала его около часа и потом рассказала ему, что ее состояние не изменилось, что она измучилась от страха; он выслушал ее, но не подал никакой надежды, хотя, конечно, мог сделать то, о чем она просила. Это было против его правил. И снова Роберта вернулась ни с чем, настолько подавленная тяжким предчувствием неминуемой беды и всех связанных с нею ужасов и несчастий, что даже не могла плакать. И Клайд, услышав об этой новой неудаче, погрузился в тревожное, мрачное молчание, даже не пытаясь хоть чем-то утешить Роберту. Он не знал, что сказать, и больше всего боялся, как бы она теперь не потребовала от него чего-нибудь такого, чего ему не позволит выполнить безденежье и более чем неопределенное положение в ликургском обществе. Но Роберта почти ничего не говорила на обратном пути. Она сидела неподвижно и смотрела в окно, думая о том, что она совсем беззащитна и ее положение становится с каждым часом все ужаснее. Чтобы оправдать свое молчание, она пожаловалась на головную боль. Ей хотелось остаться одной, подумать еще, решить, что делать дальше. Она должна что-то предпринять. Это она знала. Но что? Как? Что она может сделать, как спастись? Она чувствовала себя, как загнанный зверь, который вынужден бороться не на жизнь, а на смерть. Она думала о тысяче маловероятных или просто неосуществимых способов спастись — и каждый раз возвращалась к единственному решению, которое представлялось ей действительно возможным, единственно разумным и надежным: этим решением был брак. Почему бы Клайду не жениться на ней? Разве она не пожертвовала для него всем вопреки своей воле и своим убеждениям? Он настоял на этом. В конце концов, кто он такой, чтобы ею пренебрегать? Действительно, по временам, особенно с тех пор, как пришла эта беда, Клайд в страхе, как бы из-за всего этого не рухнули его мечты и планы, связанные с Сондрой и Грифитсами, вел себя так, что Роберта не могла не понять: его любовь мертва, и он озабочен ее несчастием не ради нее самой, а лишь потому, что оно может повредить ему, Клайду. Чаще всего это безмерно пугало ее, но иногда и возмущало, и понемногу она пришла к мысли, что, оказавшись в таком отчаянном положении, она вправе потребовать того, о чем и не мечтала бы при обычных обстоятельствах, — даже брака, раз нет другого выхода. А почему бы и нет? Разве ее жизнь не так же ценна, как его? И разве Клайд не связал добровольно свою жизнь с ее жизнью? Так пусть он постарается помочь ей теперь, а если это не удастся, пусть принесет последнюю жертву — единственную, которая, видимо, может ее спасти. В конце концов, кто все эти светские люди, с которыми он так считается? Как может он требовать, чтобы она в такую критическую минуту пожертвовала собою, своим будущим, своим добрым именем только потому, что он заинтересован в этих людях! Они сделали для него не так-то много, — уж конечно, меньше, чем она. Он убедил ее уступить ему, а теперь она ему наскучила, и только поэтому он покидает ее в такой тяжелый час? В конце концов, каковы бы ни были его отношения с людьми, которыми он так дорожит, разве не признают эти люди, что она вправе поступить так, как она вынуждена поступить? Она много размышляла об этом, особенно после второго безуспешного визита к доктору Глену. В иные минуты на лице ее под влиянием тяжких мыслей вдруг появлялось столь несвойственное ей вызывающее, решительное выражение. Она крепко стискивала зубы. Решение принято. Клайд должен на ней жениться. Она заставит его, если другого выхода не будет. Она должна! Должна! У нее семья, мать. А что подумают Грейс Марр, Ньютоны, все, кто ее знает? Какой ужас, и стыд, и горе ожидают всех ее родных — отца, братьев, сестер! Невозможно, невозможно! Этого не должно и не может быть. Трудно ей будет настаивать, зная, как много значат для Клайда его надежды на будущее. Но что же, что ей остается делать? И поэтому на другой же день, к немалому своему удивлению (так как накануне они провели вместе весь вечер), Клайд получил новую записку, в которой говорилось, что вечером он опять должен быть у Роберты. Ей нужно с ним поговорить. В тоне записки было что-то вызывающее и требовательное, чего никогда не бывало раньше в ее письмах к нему. И сразу он с тревогой подумал, что это новое настроение, если его не удастся рассеять, легко может оказаться гибельным для него; и ему пришлось принять кроткий вид и согласиться: он пойдет и выслушает все ее соображения или жалобы. Придя поздно вечером к Роберте, Клайд нашел ее такой спокойной, какой она не была ни разу за весь последний месяц, — это его немного удивило: он ожидал увидеть ее в слезах. Но Роберта казалась настроенной более примирительно; в тревожных раздумьях, в поисках спасительного выхода пробудилась и теперь пришла ей на помощь ее врожденная изворотливость. — Что ж, Клайд, нашел ты другого доктора или придумал еще что-нибудь? — спросила она, прежде чем сказать о своем решении. — Нет, Берта, — ответил он мрачно и устало: его мозг был измучен и напряжен до предела. — Я пытался, ты же знаешь, но чертовски трудно найти кого-нибудь, кто не побоится впутаться в такую историю. По совести говоря, я совсем стал в тупик. Не знаю, как нам быть, разве что ты что-нибудь придумаешь. А ты не слыхала, к кому можно обратиться? Еще тогда, когда они возвращались после первого визита к врачу, Клайд предложил Роберте поближе сойтись с девушками из иммигрантских семей: через них постепенно можно было бы получить полезные сведения. Но у Роберты был неподходящий характер для такой легкой дружбы, и из этого ничего не вышло. Заявив, что он «стал в тупик», Клайд дал ей желанную возможность предложить ему тот выход, который она считала неизбежным и неотложным. Однако она не знала, как примет Клайд ее решение, и потому колебалась, подбирая нужные слова. Она покачала головой и наконец с неподдельным волнением заговорила: — Ну, вот что я тебе скажу, Клайд. Я много думала обо всем и не вижу никакого выхода… если… если только ты не женишься на мне. Ты сам знаешь, прошло уже два месяца. Если мы не поженимся сейчас же, все откроется, понимаешь? Она сказала это с видимой твердостью, порожденной убеждением, что она права, но в глубине души с тревогой ждала, как примет ее слова Клайд. На его лице внезапно отразились изумление, негодование, растерянность и страх, и из этой сложной мимической игры можно было понять только одно: что ему нанесли жестокую, несправедливую обиду. Сближаясь все больше и больше с Сондрой, он слишком высоко занесся в своих надеждах, — вот почему теперь, выслушав требование Роберты, он сразу нахмурился, и его хоть и тревожную, но сравнительно мягкую предупредительность сменил испуг, смешанный с возмущением и решимостью во что бы то ни стало избежать столь тяжких последствий. Для него это означало бы полный крах: потерю Сондры, потерю места, крушение всех надежд на карьеру и честолюбивых замыслов, связанных с Грифитсами, — словом, всего! Мысль эта была ему отвратительна, и в то же время он не знал, как быть дальше. Но он не согласен! Не согласен! Он никогда на это не пойдет! Никогда! Никогда! Никогда!!! Однако после короткой паузы он сказал уклончиво: — Ну, видишь ли, это хорошо для тебя, потому что тогда все устроится без всяких хлопот. А как со мной? Не забывай, что мне нелегко это сделать при теперешнем положении вещей. Ты же знаешь, у меня совсем нет денег. У меня только одно и есть — моя работа. И потом мои родственники о тебе пока ничего не знают, решительно ничего. И если теперь вдруг откроется, что мы с тобой все это время были в связи и что получилась такая история и я должен немедленно жениться… Уж я и не знаю! Они увидят, что я врал им, и наверняка рассердятся. И что тогда? Они могут даже выгнать меня. Он замолчал, чтобы посмотреть, как подействуют его объяснения на Роберту, но заметил особое недоверчивое выражение, которое в последнее время всегда появлялось на ее лице, как только он начинал оправдываться. И он прибавил бодро и вместе с тем уклончиво, пытаясь какой-нибудь хитростью оттянуть развязку: — И потом, я еще не потерял надежды найти доктора. До сих пор мне не очень везло, но это еще не значит, что и дальше ничего не выйдет. Ведь у нас еще есть немножко времени, правда? До трех месяцев, во всяком случае, можно подождать, ничего страшного в этом нет (он получил письмо от Ретерера, который сообщал ему эти сведения). Я слышал на днях, что в Олбани есть один доктор, который может помочь. Я хотел сперва повидаться с ним, а потом уже сказать об этом тебе. Клайд сказал это с таким неуверенным видом, что Роберта поняла: он просто лжет, чтобы выиграть время. Никакого доктора в Олбани нет. Кроме того, совершенно ясно, что он обозлен ее предложением и думает лишь о том, как бы вывернуться. Она хорошо знала, что он никогда не обещал ей жениться. Правда, она может настаивать, но в конечном счете принудить его к чему-либо невозможно. Он попросту уедет из Ликурга — так он сказал ей однажды, когда зашла речь о том, что он может из-за нее потерять место. И желание уехать станет неизмеримо сильнее, если он лишится общества, которое так его влечет, и окажется перед необходимостью связать себя женою и ребенком. Это соображение сделало ее осторожнее и заставило отказаться от первого властного побуждения говорить решительно и резко. А Клайд представлял себе сияющий мир, центром которого была Сондра и который теперь был поставлен на карту, и, потрясенный, не мог собраться с мыслями. Неужели он должен отказаться от всего этого для той жизни, какая ждет его с Робертой: тесный домишко… ребенок… скучное, будничное существование в заботах о том, как прожить с нею и с ребенком на скудный заработок, и никакой надежды снова стать свободным! О боже! Ему едва не стало дурно. Нет, нет, он на это не пойдет! И, однако, он понимал, что стоит ему сделать один ложный шаг, и Роберта с легкостью разрушит все его мечты. Это вернуло ему осторожность и заставило впервые в жизни понять необходимость выдержки и хитрого расчета. Но в глубине души он со стыдом сознавал, что в нем произошла глубокая внутренняя перемена. — Ну да, Клайд, — ответила ему Роберта, — но ведь ты сам говоришь, что стал в тупик. А для меня страшен каждый лишний день. Вдруг мы не сумеем найти доктора? Не можем же мы пожениться так, чтобы ребенок родился слишком быстро после свадьбы, ты это и сам понимаешь. Тогда все станет известно всему свету. Кроме того, видишь ли, я должна думать не только о тебе, но и о себе, и о маленьком тоже. (При одном лишь упоминании о ребенке Клайда передернуло, и он отпрянул, точно от удара. Роберта это заметила.) Одно из двух: либо нам надо сейчас же, немедленно обвенчаться, либо я должна от этого избавиться. А ты, как видно, не можешь найти доктора, ведь правда? Раз ты уж так боишься дяди — что он подумает и как поступит, если ты жениться на мне, — продолжала она тревожно, но мягко, — давай сейчас обвенчаемся, но будем пока держать это в тайне… столько времени, сколько сможем или сколько ты найдешь нужным, — прибавила она колко. — Тем временем я могу поехать домой и сказать родителям, что я замужем, но что пока это нужно держать в тайне. А потом, когда нельзя будет больше скрывать, мы можем уехать куда-нибудь, если захотим, — то есть если ты не захочешь сказать дяде, — или сможем тогда объявить, что мы уже довольно давно женаты. Теперь многие так делают. А насчет заработка, —продолжала она, заметив, что по лицу Клайда вдруг прошла мрачная тень, — что ж, мы всегда сумеем найти работу. Я наверняка сумею, во всяком случае, сразу после рождения ребенка. Когда Роберта начала говорить, Клайд сидел на краю кровати и беспокойно и недоверчиво слушал, что она предложит. Однако когда она заговорила о браке и об отъезде, он вскочил: непреодолимое желание двигаться охватило его. А когда она в заключение заявила, что сразу после рождения ребенка пойдет работать, он взглянул на нее чуть ли не с паническим ужасом. Подумать только — жениться на Роберте! Ему придется на это пойти!.. А если бы не она и если бы ему еще немного повезло, он мог бы жениться на Сондре! — Да, конечно, тебя это вполне устраивает. Твои дела таким образом отлично улаживаются, а со мной как будет? Вот ловко выходит: только я начал здесь работать — и вдруг все брошу и уеду! Придется уехать, если все узнают об этой истории… И уж не знаю, что мне тогда делать! У меня нет никакой специальности. Все это может плохо кончиться для нас обоих. И, кроме того, дядя дал мне место на фабрике потому, что я просил, а если я теперь уеду, он никогда больше не станет мне помогать. В своем волнении он забыл, что раньше не раз говорил Роберте, будто его родители довольно состоятельные люди и, если ему здесь не понравится, он может вернуться на Запад и найти себе там какое-нибудь занятие. А Роберта теперь вспомнила об этом и потому спросила: — Но разве мы не можем поехать хотя бы в Денвер? Неужели твой отец не захочет тебе помочь, по крайней мере на первое время? Она говорила очень мягко, почти умоляюще, стараясь заставить Клайда почувствовать, что будущее не так плохо, как он воображает. Но простое упоминание об отце в связи со всем этим, предположение, что именно он может спасти их обоих от нужды, — нет, это было уже слишком! Это показывало, до чего плохо она представляет себе действительное положение Клайда. Хуже: она ждет помощи с этой стороны! И, не дождавшись — кто знает, — быть может, впоследствии станет упрекать его за то, что он ей лгал. Ясно, что необходимо сейчас же, немедля разбить все ее замыслы насчет брака. Этого не будет — никогда! Но как без риска для себя заставить ее отказаться от этой мысли? Ведь Роберта считает, что имеет на него права! Как сказать ей открыто и холодно, что он не может и не хочет жениться на ней? А если не сделать этого теперь же, она вообразит, что будет справедливо и законно попросту заставить его жениться! Пожалуй, она сочтет себя вправе пойти к его дяде, к двоюродному брату (он представил себе холодные глаза Гилберта) — пойдет и выдаст его! И тогда гибель! Крушение! Конец всем его мечтам о Сондре и обо всем, что с нею связано. Но он только и сумел сказать: — Я не могу сделать этого, Берта… по крайней мере сейчас. — Эти последние слова — «по крайней мере сейчас» — сразу заставили Роберту предположить, что при создавшихся условиях у него не хватит решимости воспротивиться этой ее идее о браке. Но едва она так подумала, Клайд продолжал торопливо: — И потом, я не хочу жениться так скоро. Это слишком сложно для меня сейчас. Во-первых, я еще очень молод и у меня нет средств, чтобы жениться, и потом — я не могу отсюда уехать. В других местах я не заработаю и половины того, что получаю здесь. Ты не понимаешь, что для меня значит эта служба. У отца, конечно, положение неплохое, но он не может сделать для меня то, что может дядя. Если бы ты это понимала, ты никогда не предложила бы мне уехать. Он замолчал. На лице его застыло выражение замешательства, страха и упрямства. Он походил на затравленное животное; за которым по пятам гонится охотник с собаками. Но Роберта думала, что он сопротивляется главным образом из страха перед ликургским общественным мнением (ведь она простая работница), а вовсе не потому, что без памяти влюбился в другую девушку; и она воскликнула с раздражением, которого не сумела скрыть: — О да, я хорошо знаю, почему ты не можешь уехать отсюда! Твоя служба тут ни при чем, — это все из-за общества, где ты постоянно бываешь. Я знаю! Ты меня больше не любишь, Клайд, вот в чем дело, и ты не желаешь ради меня расстаться с этими людьми. Я знаю, в этом все дело. А ведь так недавно ты любил меня, хотя, кажется, уже не помнишь об этом. — Ее щеки раскраснелись, глаза сверкали. Она остановилась на миг, а он пристально смотрел на нее, не понимая, чем все это кончится. — Но все равно, ты не бросишь меня на произвол судьбы, я не допущу этого, Клайд! Я не могу! Не могу, говорю тебе! — Ее голос звенел и срывался. — Это слишком важно для меня. Я не знаю, что я буду делать одна, мне не от кого больше ждать помощи, и ты должен мне помочь. Мне надо выбраться из беды — вот и все. Я не могу явиться к родным вот так — одна, без мужа, без поддержки. — Взгляд ее стал и умоляющим и яростным; как бы подчеркивая сказанное, она трагически сжимала руки. — Раз ты не можешь выручить меня тем способом, каким хотел, значит, должен выручить по-другому, вот и все, — с отчаянием вырвалось у нее. — Ты не можешь меня бросить, по крайней мере сейчас, пока я не могу обойтись без тебя. Я не прошу тебя жениться и остаться со мной навсегда, — прибавила она: у нее явилась мысль, что, смягчив таким образом свое требование, она скорее убедит Клайда согласиться на брак, а потом его чувства, быть может, изменятся к лучшему. — После ты можешь оставить меня, если захочешь. После, когда со всем этим будет покончено. Я не могу помешать этому и не захочу мешать, даже если бы и могла. Но теперь ты не можешь меня бросить! Не можешь! Кроме того, — прибавила она, — я ведь не хотела, чтобы со мной случилось такое, и никогда бы этого не случилось, если бы не ты. Ты заставил меня, ты настоял, чтобы я позволила тебе сюда приходить. А теперь ты хочешь меня бросить, чтобы я выкручивалась сама, и все потому, что боишься: вдруг тебя не станут больше пускать в общество, если узнают про меня. Роберта замолчала: ее усталые нервы не выдерживали напряжения этой борьбы. Она начала негромко, судорожно всхлипывать, видно было, что она изо всех сил старается снова овладеть собой. Они стояли друг против друга: Клайд — тупо глядя на нее и не зная, что отвечать, Роберта — силясь взять себя в руки; наконец ей это удалось, и она продолжала: — Скажи, разве я теперь другая, чем два месяца назад? Я хочу понять, почему ты так изменился? В чем причина? До рождества ты был так ласков со мной… кажется, нельзя быть ласковее. Ты проводил со мной все свободное время, а теперь я каждый раз должна умолять, чтобы ты пришел. В чем тут дело? В ком? Я хочу знать: что это — другая девушка? Эта Сондра Финчли, или Бертина Крэнстон, или кто-нибудь еще? Говоря так, она зорко следила за ним. Клайд всегда со страхом думал о том, что скажет и сделает Роберта, узнав о Сондре, и теперь с радостью убедился, что она до сих пор не только ничего не знает наверняка, но даже не подозревает какую-либо определенную девушку. Горе Роберты его почти не трогало, потому что он больше не любил ее. Но положение Роберты было слишком серьезно, ее требования слишком опасны, а Клайд не отличался храбростью. Как ей сказать, в ком и в чем истинная причина перемены? И он трусливо ответил: — Ты ошибаешься, Берта. Ты не понимаешь, в чем дело. Здесь все мое будущее. Если я оставлю это место, у меня никогда не будет другого такого случая выдвинуться. Если я должен буду жениться вот таким образом или уехать отсюда, все пойдет прахом. Я хочу подождать, понимаешь, сперва устроиться, скопить немного денег, а уж потом жениться. А если я сейчас все брошу, нам обоим не на что будет надеяться, — прибавил он беспомощно, забыв на минуту, как перед этим старался показать ей, что впредь не желает иметь с нею ничего общего. — И, кроме того, Берта, — продолжал он, — если ты найдешь кого-нибудь, кто тебе поможет, или уедешь куда-нибудь на время и справишься с этим одна, я буду на все посылать тебе деньги. Я могу взять это на себя до тех пор, пока ты не придешь в нормальное состояние. На лице его при этих словах отразилась полная беспомощность, и Роберта увидела, что все его недавние планы и намерения помочь ей пошли прахом. И, поняв, до какой степени дошло его равнодушие, если он готов так небрежно, так бессердечно отделаться от нее и от их будущего ребенка, она не только возмутилась, но и испугалась. — Как ты переменился, Клайд! — воскликнула она горячо, с такой смелостью и вызовом, каких еще ни разу не обнаруживала за все время их знакомства. — Каким жестоким ты можешь быть! Ты хочешь отослать меня одну, просто ради собственной выгоды, чтобы самому остаться здесь и жить по-прежнему. А когда я не буду стоять у тебя на дороге и тебе больше не надо будет заботиться обо мне, ты женишься на какой-нибудь другой девушке. Нет, я так не хочу! Это несправедливо. И я не хочу, вот и все. Не хочу — и кончено… Либо найди доктора, который мне поможет, либо женись на мне и уедем куда-нибудь, хотя бы до тех пор, пока не родится ребенок, чтобы потом я могла спокойно смотреть в глаза моим родителям и всем, кто меня знает. После можешь меня оставить, мне все равно. Раз ты больше не любишь меня и не хочешь иметь со мной дела, я тоже не хочу. Но все равно, ты должен помочь мне, должен! Господи!.. — Она снова тихо, горько заплакала. — Если б я знала, что наша любовь кончится так… Что ты предложишь мне уехать куда-то одной, совсем одной… а сам останешься здесь… Господи боже мой!.. Одна, с ребенком на руках, без мужа… Она ломала руки и в отчаянии качала головой. А Клайд понимал, конечно, как жестоко и бессердечно то, что он предлагает, но в своем страстном увлечении Сондрой считал, что ничего лучше или по крайней мере безопаснее нельзя придумать, и теперь стоял перед Робертой, не находя слов. Еще долго тянулся этот тяжелый разговор, и под конец было решено, что Клайд в течение недели или двух постарается найти врача или кого-нибудь, кто помог бы Роберте. А через две недели, если за это время ничего не удастся сделать, ну, тогда (это была подразумевающаяся, хоть и не высказанная напрямик угроза)… тогда он на ней женится. Пусть брак их будет хотя бы временный, но все же вполне законный, — это нужно до тех пор, пока она не сможет снова существовать самостоятельно. Это была угроза, тяжкая и унизительная для Роберты, невыносимо страшная для Клайда.Глава 58
Когда стремления двух людей столь противоположны и когда к тому же оба не способны выпутаться из создавшегося затруднительного положения, это может привести лишь к еще большим трудностям и даже к катастрофе, если только не придет на помощь какой-то счастливый случай. Но случай не приходил. А присутствие Роберты на фабрике не позволяло Клайду забывать о грозящей беде. Если б только убедить ее уехать куда-нибудь, найти работу где-нибудь в другом месте, чтобы она не была все время у него перед глазами! Тогда он мог бы обдумать все более спокойно… Но сейчас, когда она всем своим видом непрерывно спрашивала, что он намерен предпринять, он совсем не мог думать. А его теперешнее равнодушие к ней заставляло его забывать о том, что он обязан считаться с ее интересами. Он был слишком влюблен в Сондру и потому совсем сбит с толку. Как ни сложна была стоявшая перед Клайдом задача, он все-таки продолжал мечтать о Сондре, и тяжелые затруднения, связанные с Робертой, казались ему подчас всего лишь тенью, облаком, омрачавшим эту мечту. И вот по вечерам, так часто, как только позволяли ему еще не порванные отношения с Робертой, он стремился насладиться всем тем, что могли дать ему светские знакомства. К его величайшей гордости и удовлетворению, его приглашали то на обед к Гарриэтам или Тэйлорам, то на вечеринку к Финчли или Крэнстонам, и он либо должен был сопровождать Сондру, либо шел в радостной надежде с нею встретиться. А она теперь уже не прибегала к хитростям и притворству, которыми раньше прикрывала свой интерес к Клайду, и зачастую открыто искала встречи с ним в обществе. Но так как эти встречи происходили на обычных для ее круга сборищах молодежи, то старшие, разумеется, не придавали им особого значения. Правда, миссис Финчли, крайне щепетильная и проницательная при выборе знакомств, вначале была не слишком довольна тем вниманием, которое проявляли к Клайду ее дочь и все остальные. Но, видя, что его все более охотно принимают не только у нее в доме, но и в компании, к которой принадлежит Сондра, да и в других домах, чуть ли не повсюду, она в конце концов стала думать, что Клайд, вероятно, занимает более солидное положение в свете, чем ей говорили раньше. Она попробовала расспросить о нем сына и даже Сондру. Но Сондра лишь сказала уклончиво, что раз он двоюродный брат Гила и Беллы Грифитс и его всюду охотно приглашают, потому что он очень милый, — даже если у него и нет денег, — так почему бы ей и Стюарту не принимать его? Миссис Финчли решила пока удовлетвориться этим и только посоветовала дочери ни в коем случае не заводить с Клайдом слишком большой дружбы. Сондра понимала, что мать отчасти права, но ее слишком тянуло к Клайду, и потому она решила обманывать мать, — во всяком случае, тайком она будет вести себя с Клайдом так свободно, как ей вздумается. Так оно и шло, и всякий, кто был свидетелем их встреч, мог бы сказать, что близость Сондры и Клайда становится все более тесной, и, знай об этом Финчли-родители, они бы, конечно, очень встревожились. Не говоря уже о том, как мечтал о ней Клайд, и сама Сондра была теперь во власти таких мыслей и настроений, которые граничили с самыми гибельными проявлениями таинственной алхимии любви. В самом деле, кроме рукопожатий, поцелуев и обмена восхищенными взглядами в минуты, когда предполагалось, что никто этого не видит, тут были и туманные, но возникавшие снова и снова мечтания о будущем, которое каким-то образом, еще не ясным ни Клайду, ни Сондре, должно было их соединить. Вот настанут летние дни — до этого уже недалеко, — и они вдвоем поплывут на байдарке по Двенадцатому озеру… Длинные тени прибрежных деревьев протянулись по серебристой воде, ветерок рябит водную гладь, Клайд лениво гребет, а она полулежит на корме и мучает его намеками на будущее… Поросшая мягкой травой, пестрая от солнечных пятен лесная тропинка, уходящая на юго-запад от дач Крэнстонов и Фэнтов, неподалеку от владений Финчли, — по ней в июне и в июле они будут ездить верхом к живописному мысу Вдохновения (около семи миль к западу)… Благотворительный базар в Шейроне, где она в цыганском костюме — воплощенная романтика — будет хозяйничать в каком-нибудь киоске или в щегольской амазонке показывать свое искусство наездницы… Пикники, танцы днем и при лунном свете, когда, томно покоясь в его объятиях, она будет смотреть ему в глаза… Никаких материальных забот. Никаких мыслей о возможном сопротивлении со стороны ее родителей. Одна только любовь, лето и идиллическое, полное счастья приближение к той минуте, когда в конце концов, наперекор всем препятствиям, прочные узы соединят их навеки. А тем временем прошло еще два долгих, тоскливых и страшных месяца, и Роберта все не решалась на тот шаг, который должен был погубить Клайда. Хотя она и была убеждена, что Клайд только обдумывает, как бы ускользнуть от ответственности, и вовсе не собирается на ней жениться, однако и она, как он, плыла по течению, боясь действовать решительно. Ибо после того разговора, когда она сказала ему о необходимости обвенчаться, Клайд уже несколько раз неясно, намеками угрожал, что не женится на ней, даже если она обратится к его дяде, — просто возьмет и уедет отсюда. Клайд изображал дело так, что, если ему помешают сохранить его нынешнее положение в Ликурге, он будет не в состоянии жениться, более того, он, вероятно, ничем не сможет помочь Роберте как раз тогда, когда она будет чрезвычайно нуждаться в помощи. Этот намек навел Роберту на размышления об известной жестокости в характере Клайда, которая до сих пор в полной мере еще не обнаруживалась; впрочем, если бы Роберта как следует поразмыслила, она бы заметила эту его черту уже давно, когда Клайд впервые настоял, чтобы она впустила его в свою комнату. Однако, видя, что Роберта ничего не предпринимает, и все же побаиваясь, как бы она не отважилась его разоблачить, Клайд несколько изменил свое поведение: вместо полнейшего равнодушия, с каким он держался до тех пор, пока она не стала ему угрожать, он проявлял теперь притворное внимание, доброжелательство и дружелюбие. Положение, в котором оказался Клайд, было достаточно: опасным и пугающим, чтобы развить в нем изворотливость, прежде ему несвойственную. Кроме того, Клайд весьма наивно надеялся, что, пожалуй, ему удастся смягчить, обезоружить Роберту: нужно вести себя так, словно он по-прежнему живо озабочен ее положением и, на худой конец, если не найдется другого выхода, даже готов на ней жениться (в действительности никто никогда не убедил бы его взять на себя такое обязательство). Тогда она не станет заставлять его немедленно что-то предпринимать, и он, выиграв время, постарается всеми правдами и неправдами увильнуть от брака и при этом не бежать из Ликурга. Роберта понимала, чем вызвана эта внезапная перемена, но она была так безнадежно одинока и растерянна, что охотно прислушивалась к его притворно сочувственным, лишенным подлинной сердечности рассуждениям и советам. И Клайд уговорил ее подождать еще немного. Тем временем он не только накопит денег, но и постарается так устроить свои дела на фабрике, что можно будет уехать хоть на время из Ликурга и где-нибудь обвенчаться. Потом он устроит Роберту с ребенком в другом городе, где она в качестве замужней женщины сможет жить спокойно, а сам (хотя в то время он этого ей и не сказал) вернется в Ликург и будет посылать ей деньги, сколько сможет. Но все это, разумеется, при одном условии: пока он не позволит, она никому не должна говорить, что он ее муж и отец ее ребенка. Подразумевалось также (Роберта снова и снова твердила об этом, лишь бы он женился на ней), что она постарается получить развод, сославшись хотя бы на то, что муж оставил ее, и сделает это побыстрее и где-нибудь подальше от Ликурга, чтобы здесь никто ничего не узнал. Впрочем, Клайд вовсе не был уверен, что она это сделает, если уж он на ней женится. Разумеется, Клайд не был искренен, когда обещал все это, а потому его мало заботило, искренне ли говорит Роберта. Он вовсе не собирался добровольно уезжать из Ликурга, даже на то короткое время, которое требовалось, чтобы выручить ее из беды. Ведь это значило бы расстаться с Сондрой, а такая разлука сильно повредила бы его планам. И вот он по-прежнему бездействовал и порою праздно фантазировал о какой-нибудь мнимой, поддельной свадьбе, вроде той, которую он видел когда-то в кино, в каком-то мелодраматическом фильме: с фальшивым священником и лжесвидетелями, сговорившимися обмануть какую-то деревенскую дурочку, но Роберта была совсем не такая, да и требовалось для этого слишком много времени, денег, смелости и ловкости, и потому Клайд после недолгого размышления сообразил, что это ему не под силу. Он понимал, что идет прямо навстречу близкой и неминуемой катастрофе, от которой его могла спасти лишь какая-нибудь совершенно непредвиденная случайность. А порою он даже мечтал, что в роковой час, когда Роберту уже нельзя будет обмануть никакими уловками и она захочет обличить его, он просто будет все отрицать: заявит, что ни в какой связи с нею не состоял и знает ее только как работницу своего отделения, не больше. Его просто шантажируют. В начале мая Роберта, чувствуя себя плохо и опасаясь, как бы ее состояние не заметили окружающие, стала настойчиво внушать Клайду, что при самых героических усилиях она сможет оставаться на фабрике не дольше первого июня: ведь к тому времени девушки, наверно, станут уже замечать, что она в положении, и этого ей не вынести. Но тут как раз Сондра сообщила ему, что не позднее пятого июня она, ее мать и Стюарт с несколькими слугами переезжают на новую дачу на Двенадцатом озере, чтобы устроиться как следует, прежде чем начнется настоящий сезон. И затем, не позже восемнадцатого, когда туда же переедут Крэнстоны, Гарриэты и еще кое-кто (возможно, что приедут погостить Белла и Майра), Клайд может ждать приглашения на субботу и воскресенье от Крэнстонов, — она устроит это через Бертину. Потом (все обстоятельства этому благоприятствуют) последуют, конечно, и приглашения от Гарриэтов, Фэнтов и от некоторых других обитателей Двенадцатого озера, а пожалуй, и от Грифитсов на Лесное — туда он свободно может поехать благодаря Белле. А во время своего двухнедельного отпуска, в июле, он мог бы поселиться в «Казино» на Сосновом мысе; возможно, что Крэнстоны или Гарриэты даже пригласят его к себе по ее совету. Во всяком случае, Клайд понял, что при вполне посильных расходах (для этого надо лишь немножко урезать себя сейчас) он сможет изведать дачную жизнь на озерах, о которой он столько читал в местных газетах, а главное — часто видеться с Сондрой то на одной, то на другой даче, где хозяева не так неприязненно относятся к нему, как родители Сондры. Теперь Сондра впервые объяснила ему, что ее мать и отец недовольны постоянным и явным ухаживанием Клайда и стали уже поговаривать о продолжительном путешествии по Европе: возможно, что Сондра и Стюарт вместе с матерью пробудут за границей не меньше двух лет. Но, увидя, как от этой новости омрачилось лицо и упало настроение Клайда, Сондра, сама очень огорченная, сейчас же прибавила, что не надо принимать это слишком близко к сердцу, не надо! Все уладится, она уверена. До тех пор что-нибудь, если не само по себе страстное увлечение Клайдом, так какая-нибудь хитрая затея, поможет Сондре повлиять на мать и заставить ее изменить отношение к Клайду… а если нет, в свое время ей придется принять нужные меры, чтобы перехитрить мать. Какие именно меры, Сондра пока не хотела сказать, хотя в пылком воображении Клайда уже рисовалось бегство с нею и тайный брак, который ее родители потом не смогут расторгнуть, что бы они о нем ни думали. И действительно, мысль об этом, пока еще смутная и несмелая, возникала и в уме Сондры. Дело в том, объяснила она Клайду, что мать явно хочет выдать ее замуж за одного светского молодого человека, который ухаживал за нею и в прошлом году. Но теперь, когда Сондра полюбила Клайда, не так-то легко будет ее уговорить! — Вся беда в том, что я несовершеннолетняя, — бойко и бесцеремонно объясняла она. — Поэтому я у них в руках. Но в октябре мне исполнится восемнадцать, и тогда — так и знайте! — ничего они со мной не поделают. Надо полагать, я могу выйти замуж, за кого пожелаю. А если не могу здесь, в Ликурге, — ну что ж, найдется другой выход, не только свету, что в окошке. Мысль эта была сладким, разлагающим ядом для Клайда. Она бросала его в жар и сводила с ума. Если бы… если бы только не Роберта! Страшная и почти неразрешимая задача. Если бы не это и не сопротивление родителей Сондры, которое она надеялась преодолеть, разве не райское блаженство ожидает его? Сондра, Двенадцатое озеро, светское общество, богатство, любовь, красота. У него кружилась голова, когда он об этом думал. Если они с Сондрой поженятся, что останется делать ее родным? Только покориться и принять их в великолепное лоно своего роскошного дома в Ликурге или обеспечить их каким-нибудь другим способом. Он, без сомнения, в конце концов получит какое-нибудь место в «Компании электрических пылесосов» Финчли. И тогда он будет равен самому Гилберту Грифитсу и всем тем, кто вначале пренебрегал им в Ликурге (а то и выше!): вместе со Стюартом он будет наследником всего богатства Финчли! И в центре всего и превыше всего — Сондра, драгоценнейший камень в этом великолепии, внезапном и сказочном, словно из «Тысячи и одной ночи». И никаких мыслей о том, как поступать пока, до октября. Никаких серьезных планов относительно Роберты, которая вот теперь, сейчас, требует, чтобы он на ней женился. Надо как-нибудь от нее отделаться, думал Клайд. И в то же время он болезненно и тревожно ощущал, что никогда еще за всю свою жизнь не был так близок к страшному несчастью. Быть может, его долг (так считает общество, так сказала бы его мать) по меньшей мере помочь Роберте выпутаться из беды. Но разве кто-нибудь пришел на помощь Эсте? Ее возлюбленный? Он со спокойной совестью бросил ее, и она от этого не умерла. А Роберте приходится ничуть не хуже, чем пришлось тогда его сестре. Почему же она стремится его погубить? Почему она заставляет его отказаться от карьеры и положения в обществе, от стремления к красоте, к любви и страсти? Для него это почти самоубийство! А ведь если бы она сейчас избавила его от всего этого, впоследствии он мог бы сделать для нее гораздо больше… конечно, с помощью денег Сондры. Нет, он не допустит, чтобы она так с ним поступила, не даст загубить ему жизнь!Глава 59
Два незначительных случая, которые произошли в это время, привели к тому, что намерения Роберты и Клайда стали еще непримиримее. Как-то вечером Роберта случайно увидела Клайда на Сентрал-авеню: он стоял на краю тротуара перед зданием почты и разговаривал с Арабеллой Старк, которая ожидала своего отца, сидя в большом, внушительном автомобиле. Мисс Старк, одетая по последней моде в соответствии с требованиями сезона, вкусами своего круга и собственным претенциозным вкусом, сидела за рулем в жеманной позе, рассчитанной не только на Клайда, но и вообще на публику. Роберте, которая к этому времени была доведена до отчаяния медлительностью Клайда и не знала, как заставить его помочь ей, эта девушка показалась воплощением-беззаботности, роскоши и бездумного отношения к жизни — всего, что так прельщало Клайда и заставляло медлить и относиться с полнейшим равнодушием к ее ужасному положению. И в самом деле, у нее есть права, обусловленные ее теперешним состоянием, но что может она дать Клайду взамен той жизни, от которой он должен будет отказаться, уступив ее требованию? Ничего… Мысль не слишком ободряющая. И вот в эту минуту, когда она сравнила свой жалкий, презренный удел с уделом хотя бы этой мисс Старк, ею овладели такая горечь и враждебность, каких она никогда еще не испытывала. Это неправильно! Несправедливо! Уже несколько недель прошло с тех пор, как они в последний раз обсуждали свои дела, и за это время Клайд почти не заговаривал с нею на фабрике и тем более избегал приходить к ней домой, опасаясь обычных ее вопросов, на которые ему нечего было отвечать. И она чувствовала, что он относился к ней теперь не только невнимательно, но и с настоящим озлоблением. А все же, когда она шла домой после этой ничтожной, но очень выразительной сценки, ее сердце полно было не столько гневом, сколько печалью и болью, потому что любовь и спокойствие исчезли, и видно, никогда уже не возвратятся… никогда… никогда, никогда… Это ужасно… ужасно! С другой стороны, Клайду почти в это же время пришлось увидеть нечто такое, что имело прямое отношение к Роберте и было словно нарочно подстроено насмешливой и злобной судьбой. В следующую же субботу маленькая компания молодежи, по предложению Сондры, отправилась на автомобиле к озеру Стрелы (к северу от Ликурга) на дачу Трамбалов, чтобы провести воскресенье на лоне весенней природы. Ехать следовало прямо по направлению к Бильцу, но в одном месте пришлось сделать крюк, и через некоторое время компания оказалась на пересечении двух дорог, как раз возле фермы Олденов — родного дома Роберты. Трейси Трамбал, который в это время вел машину, предложил, чтобы кто-нибудь отправился на ферму и узнал, какая дорога ведет в Бильц. И Клайд, сидевший с краю, выскочил из машины. Взглянув на почтовый ящик на перекрестке, явно имевший отношение к полуразрушенному ветхому дому, стоявшему тут же на пригорке, Клайд с немалым удивлением прочитал написанное на этом ящике имя отца Роберты: Тайтус Олден. Он вспомнил, как она говорила, что ее родители живут неподалеку от Бильца, — значит, это и есть ее дом. На мгновение он растерялся, не зная, идти ли ему туда: когда-то он подарил Роберте свою маленькую фотографическую карточку, и она могла показать ее здесь. И притом уже одного сознания, что это заброшенное, разоренное жилье имеет прямое отношение к Роберте, а значит, и к нему самому, было достаточно, чтобы Клайду захотелось повернуться и убежать. Но Сондра, сидевшая в автомобиле рядом с Клайдом, заметила его нерешительность и крикнула: — В чем дело, Клайд? Испугались собачки? Гав-гав, укусит! Клайд понял, что, если он сейчас же не двинется дальше, это привлечет общее внимание, и быстро пошел по дорожке к дому. Но едва он взглянул на этот дом повнимательнее, в мозгу его пробудились самые тревожные и мрачные мысли. Ну и дом! До чего он одинок и гол даже в этот светлый весенний день. Ветхая, осевшая крыша. Одна труба развалилась, и у ее основания валяются обломки кирпичей; другая покосилась, чуть не падает, и ее удерживают на месте только подпорки. А заросшая, невычищенная дорожка, по которой медленно поднимается Клайд! На него произвели удручающее впечатление разбитые камни перед входной дверью — остатки развалившегося крыльца. А некрашеные надворные постройки! Ну и ну! И это дом Роберты. И она еще требует, чтобы он женился на ней, когда такие мечты, такие надежды связаны у него с Сондрой и со всем ее кругом! И Сондра здесь, в автомобиле, и видит все это, хоть ничего и не знает… Какая нищета! Какая беспредельная мрачность во всем! И его жизнь начиналась так же, но как далеко позади осталось все это! Ощущая слабость и тупую ноющую боль под ложечкой, будто от удара, он подошел к дверям. И тут, словно для того, чтобы еще больше его расстроить — если только это было возможно, — дверь открыл Тайтус Олден в старой, изношенной куртке с продранными локтями, в мешковатых потертых штанах и грубых, нечищеных и непомерно больших деревенских башмаках. Он вопросительно взглянул на Клайда. И Клайд, пораженный костюмом Тайтуса и его сходством с Робертой (особенно похожи были глаза и линии рта), торопливо спросил, идет ли дорога, проходящая мимо, в Бильц и можно ли по ней доехать до северного шоссе. Он предпочел бы услышать краткое «да», повернуться и уйти, но Тайтус спустился с ним во двор и, размахивая руками, подробно объяснил, что, если они хотят выехать на лучшую часть дороги, им надо проехать по прежней еще около двух миль и потом свернуть на запад. Не дослушав, Клайд кратко поблагодарил, повернулся и поспешил прочь. Безмерно угнетенный, он вспомнил: как раз теперь Роберта думает, будто он готов отказаться от всего, что обещает ему Ликург (от Сондры, от наступающей весны и лета, от любви и поэзии, от веселья, продвижения в обществе, власти… от всего!), уехать с нею и обвенчаться! Забраться в какую-нибудь дыру! Что за ужас! И с ребенком — в его-то годы! Ах, почему он был так глуп и слаб, что связал себя с нею? И все из-за нескольких одиноких вечеров! Почему, почему он не подождал, пока перед ним откроется этот новый мир? Если бы он сумел подождать! А теперь, бесспорно, — если только ему не удастся быстро и легко освободиться от Роберты — все это великолепие наверняка будет для него потеряно. И другой мир, тот, из которого он вышел, протянет к нему свои страшные нищие руки и снова завладеет им, — так бедность родителей держала его в тисках с самого начала и едва не задушила. И ему даже смутно подумалось: как странно, что Роберту и его, с их поразительно схожим происхождением, вначале так сильно влекло друг к другу… Почему так случилось? Какая странная штука — жизнь! Но много больше мучила его стоявшая перед ним задача: найти выход. С этой минуты всю дорогу мысль его работала в поисках какого-то решения. Одно слово жалобы со стороны Роберты или ее родителей его дяде или Гилберту — и он погиб! Мысль об этом так волновала его, что, вернувшись в машину, он сидел совсем молча, хотя перед этим вместе со всеми превесело болтал о чем попало. И Сондра, сидевшая рядом с ним и потихоньку поверявшая ему свои планы на лето, теперь, вместо того чтобы продолжать прежний разговор, шепнула: — Что случилось с маленьким? (Когда Клайд бывал хоть немного грустен, Сондра любила разговаривать с ним, как с младенцем, и ее ребячливый лепет действовал на него как электрический ток: ему было и сладко и мучительно. Он называл ее иногда «моя лепетунья».) Рожица совсем мрачная. А только недавно мы улыбались вовсю. Пусть мой мальчик станет опять веселым. Пусть улыбнется Сондре. Пусть Клайд, как паинька, пожмет руку Сондре! Она повернулась и заглянула ему в глаза, чтобы посмотреть, как действует на него эта ласковая ребяческая болтовня, и Клайд, разумеется, постарался принять веселый вид. И, однако, несмотря на всю ее удивительную любовь, перед ним неотступно стоял призрак Роберты и всего, что было в ней теперь воплощено; ее состояние, ее недавнее решение и очевидная невозможность сделать что-либо, кроме одного — уехать вместе с нею… Да, но… чем так запутываться — и из-за чего!.. — уж не лучше ли (даже если он при этом навсегда потеряет Сондру) сбежать отсюда, как он сбежал из Канзас-Сити, когда убили ту девочку… и чтобы о нем здесь больше не слыхали. Но это значит потерять Сондру, все здешние связи, дядю, все! Все потерять! Что за несчастье снова скитаться в поисках пристанища! Опять придется писать матери о некоторых обстоятельствах, связанных с его бегством, — ведь впоследствии кто-нибудь отсюда может написать ей и дать всему гораздо более убийственное объяснение. А что подумают о нем родные? В последнее время он писал матери, что так преуспевает! Что же у него за судьба, почему его преследуют неудачи? И неужели его жизнь всегда будет такой? Бежать то от одного, то от другого и где-то на новом месте опять начинать все сначала… быть может, только для того, чтобы потом пришлось бежать от чего-то еще худшего. Нет, он не может снова бежать. Он должен взглянуть беде прямо в лицо и найти какой-то выход. Должен! Боже!Глава 60
Настало пятое июня, и Финчли уехали, как и предупреждала Сондра; но перед отъездом она не раз напоминала Клайду, чтобы он приготовился поехать к Крэнстонам на второе или на третье воскресенье (потом она сообщит точнее). Отъезд Сондры так подействовал на Клайда, что он без нее просто не знал, куда деваться, как ни угнетали его запутанные отношения с Робертой. И именно в это время страхи Роберты и ее требования стали такими настойчивыми, что невозможно было дольше успокаивать ее уверениями, будто нужно только еще немножко подождать, а он скоро подготовит все, чтобы ей помочь. Что бы он ни говорил, Роберта понимала: того и гляди, все откроется и шутить с этим больше нельзя. Она утверждала (хотя это было в значительной мере подсказано страхом), будто ее фигура настолько уже изменилась, что ей невозможно больше скрывать свое положение, и девушки, которые работают вместе с нею на фабрике, очень скоро все узнают. Она уже не может ни работать, ни спать спокойно, ей больше нельзя здесь оставаться. Она уже чувствует боли (чистейшая фантазия, плод перепуганного воображения). Клайд должен, как было условлено, жениться на ней и немедленно уехать с нею куда-нибудь — близко, далеко, куда угодно, — на то время, пока не минует эта ужасная опасность. И она согласна, это святая правда (Роберта теперь почти умоляла), чтобы он оставил ее тотчас после рождения ребенка, — и больше она ни о чем его никогда не попросит… никогда! Но теперь, на этой же неделе, никак не позже пятнадцатого, он должен сделать, как обещал, — позаботиться о ней, пока все не будет кончено. Это означало, что Клайду придется уехать с Робертой даже раньше, чем можно будет навестить Сондру на Двенадцатом озере, уехать, ни разу больше с нею не повидавшись. А кроме того, он прекрасно знал, что далеко еще не скопил суммы, необходимой для того, чтобы отважиться на то рискованное предприятие, на котором настаивала Роберта. Напрасно Роберта сообщила ему, что у нее отложено больше сотни долларов и можно воспользоваться этими деньгами после свадьбы или же пустить их на необходимые расходы при переезде из Ликурга. Клайд понимал и чувствовал только одно: это значит, что он теряет все. Он должен уехать с нею куда-нибудь, не очень далеко, и взяться за любую работу, чтобы добывать ей и себе средства к существованию. Какая ужасная перемена! Крушение всех его великолепных грез! И все же, напрягая мозг, он не мог придумать ничего лучшего, как убедить Роберту бросить работу и поехать на некоторое время домой к родителям; он доказывал — и очень хитро, как думал сам, — что ему нужно еще несколько недель, чтобы подготовиться к перемене в их жизни. Дело в том, лживо уверял он, что, несмотря на все усилия, ему еще не удалось накопить столько денег, сколько он надеялся. Ему нужно по крайней мере еще три или четыре недели, чтобы собрать ту сумму, которую он считает необходимой для задуманного ими отъезда. Ведь она сама говорила, что им понадобится полтораста или двести долларов, не меньше — изрядная сумма в ее глазах. А у Клайда сверх его еженедельного заработка было отложено только сорок долларов, и он мечтал употребить их и все, что ему еще удастся сберечь, на кое-какие расходы, необходимые в связи с предполагаемой поездкой на Двенадцатое озеро. И чтобы это туманное предложение о кратковременной поездке Роберты домой прозвучало убедительнее, Клайд прибавил, что она ведь, наверно, и сама хочет немного привести себя в порядок. Не может же она пустится в такое путешествие, включающее и свадьбу и перемену всех знакомств и связей, не позаботившись как-то о своем гардеробе. Пусть она употребит на это свои сбережения или хотя бы часть их… Положение Клайда было отчаянное, и он не останавливался даже перед такими советами. Роберта до сих пор была слишком не уверена в завтрашнем дне и не решалась шить или покупать что-либо для себя и для будущего ребенка; но теперь она подумала, что, какова бы ни была истинная цель его совета, связанного, как и все советы Клайда, с новой проволочкой, ей и в самом деле следовало бы потратить две-три недели и с помощью недорогой, но приличной портнихи, которая иногда помогала ее сестре, сшить себе одно или два подходящих платья. Можно сшить платье из набивной серой тафты — она видела такое в кино. В нем она может венчаться, если Клайд сдержит свое слово. Это будет очень милый наряд; она прибавит к нему модную серую шелковую шляпку с маленькими полями (и на полях в одном месте — розовые или ярко-красные вишни) и скромный дорожный костюм из синей саржи; все это, вместе с коричневыми туфлями и коричневой шляпой, сделает ее нарядной, не хуже всякой другой невесты. Эти приготовления означали новую отсрочку и лишние расходы. Клайд мог еще и раздумать, не жениться на ней, к тому же для них обоих этот предполагаемый брак был чем-то довольно непривлекательным и мрачным; и, однако, все это не могло изменить представления Роберты о браке как о большом событии, о таинстве, которому присущи особая красота и поэтичность, неотделимые от него даже при таком вот несчастливом стечении обстоятельств. И — странное дело! — несмотря на тяжелые и натянутые отношения с Клайдом, она все еще видела его в том же свете, что и вначале. Он прежде всего Грифитс, юноша из светского общества, хотя и небогатый, — все девушки ее круга и даже многие, стоящие гораздо выше, были бы счастливы выйти за него замуж. Пусть ему не хочется на ней жениться, но все равно он человек значительный. И он единственный, с кем она была бы совершенно счастлива, если бы он хоть немного любил ее. И, во всяком случае, когда-то он ее любил. А говорят (она слышала это и от своей матери и от знакомых), что мужчины, по крайней мере некоторые, нередко совсем по-другому, с новой нежностью начинают относиться к матери своего ребенка. Как бы там ни было, а если все, о чем они уговорились, будет в точности выполнено, то хоть недолго — очень недолго, — но они все же будут вместе, он поможет ей пережить этот тяжелый кризис, даст свое имя ребенку и поддержит ее, пока она не сможет снова так или иначе устроиться самостоятельно. Итак, на этом она пока и порешила, хотя ее и мучили тревожные предчувствия и сомнения, потому что она видела, как равнодушен к ней Клайд. В таком настроении Роберта через пять дней уехала домой, заранее написав родителям, что приедет не меньше чем на две недели, чтобы сшить одно или два платья и отдохнуть немного, так как чувствует себя не совсем хорошо; Клайд проводил ее до Фонды. У него, в сущности, не было никакой определенной и приемлемой идеи, и ему казалось, что только молчание, одно молчание для него теперь единственно важно и существенно. Под грозящим ножом катастрофы ему необходима возможность думать еще, и еще, и еще, чтобы никто не принуждал его ни к каким действиям, чтобы его не мучила ежеминутно мысль о Роберте: ведь когда-нибудь в нервном, неистовом состоянии она может сказать или сделать что-нибудь такое, что помешает ему (если он нападет на какую-нибудь спасительную идею) осуществить планы, связанные с Сондрой. А в это время Сондра с дачи на Двенадцатом озере писала ему веселые записки о том, что ждет его в близком будущем, когда он приедет. Голубая вода… белые паруса… теннис… гольф… верховая езда… катание на автомобиле. Она обо всем уже сговорилась с Бертиной. И поцелуи, поцелуи, поцелуи…Глава 61
Два письма, которые Клайд получил одновременно, еще больше осложнили положение. «Сосновый мыс, 10 июня. Клайди, маленький! Как поживает мой крошка? Все хорошо? Здесь просто великолепно. Приехало много народу, и с каждым днем становится все оживленнее. Ресторан «Казино» и площадка для гольфа уже открыты, и там тоже масса народу. Сейчас Стюарт и Грэнт на своих лодках отправляются по озеру, — мне слышно, как стучат моторы. Не задерживайтесь, милый, и приезжайте поскорее. Тут так хорошо, что и описать нельзя. Ездим верхом по зеленым лесным дорогам, купаемся, каждый день с четырех часов танцуем в «Казино». Только что замечательно прокатилась на своем Дикки и после завтрака опять поскачу — отвезу письма на почту. Бертина сказала, что напишет вам сегодня или завтра и пригласит на любое воскресенье или на любой другой день, так что, когда Сонда напишет «приезжайте», вы сейчас же приедете, слышите? А то Сонда вас накажет, гадкий, милый мальчик! Наверно, мальчик много работает на этой гадкой фабрике? А Сонда хочет, чтобы он был здесь… Мы бы ездили и верхом, и на автомобиле, и плавали бы, и танцевали… Не забудьте захватить свою теннисную ракетку и палки для гольфа. При «Казино» шикарные площадки. Сегодня утром, когда я каталась на Дикки, какая-то птичка вылетела у него из-под копыт. Он испугался и понес, и Сонду всю исхлестало ветками. Клайду жалко свою бедную Сонду? Сонда пишет сегодня массу всяких писулек.После завтрака она поедет и отправит их, а потом пойдет в «Казино» с Бертиной и с Ниной. А Клайд не хотел бы пойти с нами? Мы бы потанцевали «Тодди». Сонда очень любит эту песенку. А теперь ей надо одеваться. Завтра напишу еще, гадкий мальчик! А когда вам напишет Бертина, отвечайте сейчас же. Видите, сколько я тут наставила точек? Это поцелуи. Большие и маленькие. Все для гадкого мальчика. Пишите Сонде каждый день, и она тоже будет писать. Целую много раз». На это письмо Клайд ответил пылко, в таком же духе и в тот же час, как получил его. Но чуть ли не с той же почтой, по крайней мере в тот же день, пришло письмо от Роберты: «Бильц, 10 июня. Дорогой Клайд! Я уже приготовилась лечь спать, но сперва хочу написать тебе несколько строк. Поездка была такая утомительная, что я теперь почти больна. Прежде всего, как ты знаешь, мне не очень хотелось ехать одной. Я страшно расстроена и очень тревожусь, хотя и говорю себе, что теперь у нас все решено и ты приедешь за мной, как обещал». (Дочитав до этого места, Клайд с отвращением вспомнил жалкую деревенскую глушь под Бильцем; к несчастью, именно в этом мире живет Роберта, и потому он вдруг, как бывало, ощутил жалость и угрызения совести. В конце концов это не ее вина. Что могло ее ждать в жизни? Только работа или самое прозаическое замужество. Впервые за много дней вдали от обеих девушек он был способен по-настоящему ясно думать и глубоко, хоть и угрюмо, сочувствовал Роберте. Потом стал читать дальше.) «Но здесь сейчас очень хорошо. Деревья такие зеленые, и кругом все цветет. Когда подходишь к окнам, слышно, как в саду жужжат пчелы. По пути сюда, вместо того чтобы поехать прямо домой, я решила остановиться в Гомере и повидаться с сестрой и зятем. Ведь неизвестно, когда мы увидимся опять и увидимся ли вообще, потому что я хочу встретиться с ними только как порядочная женщина — или пускай они больше никогда меня не увидят. Не думай, что я хочу этим сказать что-нибудь плохое или неприятное. Просто мне грустно. У них такой уютный домик, красивая мебель, и граммофон, и все, и Агнесса так счастлива с Фредом. Надеюсь, что она всегда будет счастлива. Я невольно подумала, как бы мы могли славно устроиться, если бы мои мечты сбылись. И почти все время, пока я была у них, Фред дразнил меня, спрашивал, почему я не выхожу замуж. В конце концов я сказала: — Откуда ты знаешь, может быть, я на днях выйду замуж. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать. — Да, конечно, только смотри, не просиди всю жизнь в зале ожидания, — ответил он. Я очень рада снова видеть маму, Клайд. Она такая любящая, терпеливая, готова всем помочь. Самая милая, самая чудная мама на свете. Я ни за что и ничем не хотела бы ее огорчать. И Том и Эмилия тоже милые. Каждый вечер, с тех пор как я здесь, к ним приходят друзья, и они зовут и меня в компанию, но я слишком плохо себя чувствую, чтобы развлекаться вместе с ними, играть в карты и в разные игры и танцевать». (Читая эти строки, Клайд невольно с преувеличенной яркостью представил себе жалкую жизнь этой семьи — ее семьи, и все, что он недавно видел: этот полуразвалившийся дом, эти покосившиеся трубы, а ее нескладный отец!.. И как не похоже это письмо на письмо Сондры!) «Отец, мать. Том и Эмилия не отходят от меня и стараются все для меня сделать. И меня мучает совесть, когда я думаю, как бы они горевали, если б узнали о моей беде. Конечно, мне приходится делать вид, будто я такая усталая и скучная оттого, что переутомилась на фабрике. Мама все время говорит, что я должна пожить у них подольше или совсем бросить работу, чтобы отдохнуть и поправиться, но она ничего не подозревает, бедная. Если б она знала! Не могу передать тебе, Клайд, как это меня иногда мучает. Господи! Но я не должна портить тебе настроение. Я и не хочу этого, я ведь говорила тебе. Только ты приезжай и увези меня, как мы уговорились. Я не буду такая, как сейчас, Клайд. Я ведь не всегда такая. Я уже начала готовиться к отъезду и занялась шитьем. Дела хватит на три недели, и за это время я ни о чем другом не буду думать. Но ты приедешь за мной, правда, милый? Ты больше не обманешь меня и не заставишь так мучиться, как до сих пор? Боже, как давно я терзаюсь, — с тех самых пор, как ездила домой на рождество! А ведь ты и вправду хорошо ко мне относился. Я обещаю не быть тебе в тягость. Я знаю, ты меня больше не любишь, и мне все равно, что будет дальше, только бы мне сейчас выпутаться из беды… Но я честно обещаю, что не буду тебе в тягость. Милый, не сердись за это пятно. Видно, я сейчас просто не в силах владеть собой так, как раньше. Ну, а теперь о моих здешних делах. Родные думают, что платья мне нужны для вечеринки в Ликурге и что я, должно быть, там очень веселюсь. Что ж, пускай лучше думают так, чем по-другому. Мне, наверно, придется съездить за некоторыми покупками в Фонду, если я не смогу послать миссис Энс, портниху. Если я поеду и ты захочешь со мной увидеться до того, как приедешь сюда (хотя я в этом сомневаюсь), мы могли бы там встретиться. Если бы ты захотел, я была бы очень рада повидать тебя, поговорить с тобой, прежде чем мы уедем. Все кажется мне таким странным: я шью разные вещи и так хочу тебя видеть, а тебе этого вовсе не хочется — я ведь знаю. Надеюсь, ты доволен, что уговорил меня поехать домой и теперь сможешь в Ликурге приятно проводить время, — ты ведь так это называешь? Неужели ты в самом деле проводишь его намного приятнее, чем прошлым летом, когда мы ездили с тобой на озера и повсюду? Но, во всяком случае, Клайд, ты, конечно, можешь сделать, что обещал. И не очень сердись на меня. Я знаю, по-твоему, это очень тяжело, но не забывай, что если б я была похожа на других, я могла бы требовать большего. Но я уже говорила тебе, я не такая, как другие, и никогда не могла бы стать такой. Если ты сам не захочешь остаться со мной, после того как меня выручишь, — можешь уйти. Пожалуйста, Клайд, напиши мне длинное, веселое письмо, даже если тебе и не хочется, и расскажи мне, как ты ни разу не вспомнил меня и ни капельки обо мне не скучал, с тех пор как я уехала (а ведь, бывало, тебе недоставало меня), и как не хочешь, чтобы я возвращалась, и как не можешь приехать раньше, чем через две недели, считая с этой субботы, если вообще приедешь. Милый, я вовсе не думаю всех гадостей, которые пишу. Но я так устала, мне так тоскливо и одиноко, что я иногда не могу сдержаться. Мне нужно поговорить с кем-нибудь, а здесь не с кем. Они не понимают, в чем дело, и я никому ничего не могу рассказать. Вот видишь, я говорила, что не буду тосковать, унывать и злиться, и все-таки сейчас у меня это не совсем получается, правда? Но я обещаю вести себя лучше в следующий раз — завтра или послезавтра, потому что мне становится легче, когда я пишу тебе, Клайд. Пожалуйста, не сердись и напиши хоть несколько слов, чтобы подбодрить меня. Я буду ждать, мне это так нужно. И ты, конечно, приедешь. Я буду так счастлива и благодарна и постараюсь не слишком надоедать тебе. Твоя одинокая Берта». Контраст между двумя этими письмами привел Клайда к окончательному решению: он никогда не женится на Роберте. Никогда! И не поедет к ней в Бильц и, если только сумеет, не допустит, чтобы она вернулась в Ликург. Разве его поездка к ней или ее возвращение сюда не положат конец всем радостям, которые лишь так недавно пришли к нему вместе с Сондрой? Он не сможет быть с Сондрой на Двенадцатом озере этим летом, не сможет бежать с нею и жениться на ней. Господи, неужели же нет выхода? Неужели никак нельзя избавиться от этого ужасного препятствия, на которое он натолкнулся? И, прочитав оба письма (это было в жаркий июньский вечер, когда он только что вернулся с работы), Клайд в припадке отчаяния бросился на постель и застонал. Какое несчастье! Ужасная, почти неразрешимая задача! Неужели никак нельзя убедить ее уехать куда-нибудь… надолго… или пусть она подольше останется дома, а он будет посылать ей десять долларов в неделю, даже двенадцать — добрую половину всего своего заработка. Или пускай она поселится в каком-нибудь соседнем городке: в Фонде, Гловерсвиле, Скенэктеди; пока она еще может сама заботиться о себе, может снять комнату и спокойно ожидать рокового срока, когда понадобится доктор или сиделка. Он помог бы ей найти кого-нибудь, когда придет время, если только она, согласится не упоминать его имени. А она требует, чтобы он приехал в Бильц или встретился с нею еще где-нибудь, и все в эти две недели, не позже. Нет, он не хочет, он не поедет! Если она попробует его заставить, он решится на какой-нибудь отчаянный поступок… сбежит отсюда… или, может быть, отправится на Двенадцатое озеро, пока она будет ждать его в Бильце, и постарается уговорить Сондру (но какой страшный, безумный риск!) бежать с ним и обвенчаться, хоть ей еще и не исполнилось восемнадцати лет. И тогда… тогда… они будут женаты, и ее семья не сможет развести их, и Роберта не сможет его найти, а только, может быть, подаст на него жалобу… Ну что ж, разве нельзя от всего отпереться? Он скажет, что это ложь, что у него не было с ней ничего общего, кроме чисто деловых отношений, как у заведующего с работницей. Ведь его никогда не видели Гилпины, и он не был с Робертой у доктора Глена под Гловерсвилом, и она сказала ему тогда, что не называла его имени. Но какая выдержка нужна, чтобы все это отрицать! Сколько нужно мужества! Сколько мужества нужно, чтобы смотреть Роберте в глаза, — ведь труднее всего на свете будет встретить прямой и полный ужаса взгляд ее обвиняющих, невинных голубых глаз! Сможет ли он выдержать? Хватит ли его на это? И если даже хватит, сбудутся ли его надежды? Поверит ли ему Сондра, когда услышит?.. И все же, следуя своему замыслу, — все равно, осуществит ли он его в конце концов или нет, даже если и приедет на Двенадцатое озеро, — он должен написать Сондре, что собирается ехать. И Клайд немедленно написал ей горячее и страстное письмо. В то же время он решил совсем не писать Роберте. Может быть, он позвонит ей: она говорила, что у соседа есть телефон и если Клайду что-нибудь понадобится, он может ее вызвать. А писать об их делах, хотя бы и очень осторожно, значит, дать ей в руки (да еще теперь, когда он твердо решил не жениться на ней) доказательство их близости, — как раз то, в чем она будет очень и очень нуждаться. Все это надувательство! Это низко и подло, да, конечно. Но ведь если бы Роберта согласилась вести себя немного разумнее по отношению к нему, никогда бы он и не подумал унизиться до такого подлого и хитрого плана. Но Сондра! Сондра! И огромные владения Финчли, раскинувшиеся на западном берегу Двенадцатого озера… Она столько о них пишет… как там, должно быть, красиво! Нет, он не может иначе! Он должен рассуждать и действовать именно так. Должен! Клайд встал и пошел отправить письмо Сондре. По пути он купил вечернюю газету, издававшуюся в Олбани (ему хотелось немного отвлечься, читая о людях, которых он знал), и увидал на первой странице следующее сообщение: ДВОЙНАЯ ТРАГЕДИЯ НА ОЗЕРЕ ПАСС ВБЛИЗИ ПИТСФИЛДА. НА ВОДЕ ОБНАРУЖЕНЫ ОПРОКИНУТАЯ ЛОДКА И ДВЕ ШЛЯПЫ. ДВОЕ КАТАЮЩИХСЯ, ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ, СТАЛИ ЖЕРТВОЙ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. ТЕЛО ДЕВУШКИ НАЙДЕНО, НО ЕЩЕ НЕ ОПОЗНАНО. ТЕЛО ЕЕ СПУТНИКА ПОКА НЕ УДАЛОСЬ НАЙТИ. Так как Клайд интересовался всяким водным спортом и сам хорошо управлял байдаркой, плавал и нырял, он с любопытством прочитал заметку: «Пэнкост, Массачусетс, 7 июня. Третьего дня на озере Пасс, в четырнадцати милях к северу от нашего города, перевернулась лодка, в которой катались неизвестный мужчина и женщина, приехавшие, видимо, из Питсфилда. Во вторник около десяти часов утра мужчина и девушка, сказавшие Тому Лукасу, владельцу здешнего небольшого ресторана и лодочной пристани, что они приехали из Питсфилда, взяли напрокат маленькую лодку и, захватив с собой корзиночку, очевидно, с завтраком, отправились в северный конец озера. В семь часов вечера, так как они не вернулись, мистер Лукас со своим сыном Джефри объехал озеро на моторной лодке и нашел перевернутую лодку на отмели вблизи северного берега, но никаких следов катавшейся парочки не обнаружил. Решив в тот момент, что они просто удрали, чтобы не платить за прокат лодки, Лукас отвел ее к своей пристани. Однако на другое утро, предположив, что тут мог иметь место несчастный случай, мистер Лукас с сыном Джефри и помощником Фредом Уолшем сделал второй круг по северной части озера и в конце концов обнаружил в прибрежных камышах две шляпы — мужскую и женскую. Немедленно начались поиски при помощи багров, и к трем часам дня было найдено тело девушки, о которой ничего не известно, кроме того, что она и ее спутник брали лодку. Тело передано властям. Тело мужчины до сих пор не найдено. Поскольку в том месте, где, видимо, произошла катастрофа, глубина кое-где превышает тридцать футов, нет уверенности, что второй труп удастся разыскать. Лет пятнадцать назад, когда в этих местах произошло подобное несчастье, тела так и не были найдены. На подкладке жакета, который был на девушке, обнаружена марка питсфилдского торговца. Туфли ее, судя по штемпелю внутри, куплены в том же городе. Нет никаких других указаний, которые позволили бы опознать погибшую. Предполагают, что сумочка, если она и была, осталась на дне озера. Спутник девушки, по рассказам видевших его, — высокий брюнет лет тридцати пяти; на нем был светло-зеленый костюм и соломенная шляпа с белой и синей лентами. Девушке на вид не больше двадцати пяти лет; рост — пять футов пять дюймов, вес — сто тридцать фунтов. Волосы длинные, темно-каштановые, заплетены в косы и уложены вокруг головы. На среднем пальце левой руки тонкое золотое кольцо с аметистом. Полиция Питсфилда и других ближайших городов извещена о происшествии, но личность девушки до сих пор установить не удалось». Это довольно обычное сообщение — летом всегда масса таких несчастных случаев — не особенно заинтересовало Клайда. Конечно, казалось странным, как это девушка и ее спутник могли погибнуть на таком небольшом озере среди бела дня. Странно также, что никто не мог опознать ни ее, ни его. Однако так уж оно вышло. Мужчина исчез бесследно. Клайд отбросил газету, мало этим озабоченный, и мысли его обратились к другим темам… Перед ним стояла серьезная задача: как быть дальше? Но потом, когда он потушил лампу и уже собирался лечь в постель, все еще обдумывая сложную путаницу своей жизни, в его мозгу внезапно возникла мысль (что это — дьявольский шепот? Коварное внушение злого духа?): предположим, он и Роберта, — нет, скажем, он и Сондра (нет, Сондра прекрасно плавает, и он тоже), — итак, он и Роберта плывут в лодке, и лодка опрокидывается… и как раз теперь, когда его так терзают все эти ужасные осложнения. Вот и выход! Как просто разрешилась бы эта головоломная, мучительная задача! Однако… стоп!.. не спешить. Может ли человек, хотя бы в мыслях, допустить для себя такой выход из тупика, не совершая преступления в своем сердце — поистине ужасного, чудовищного преступления? Нет, нельзя даже и думать об этом. Это скверно… очень скверно, ужасно! И, однако, если бы, — разумеется, нечаянно — несчастье все же случилось? Ведь это был бы конец всем его тревогам из-за Роберты… И потом — не бояться ее, не переживать никаких страхов и сердечных мук из-за Сондры. Тихое, спокойное, без криков и ссор разрешение всех его теперешних затруднений, и впереди одна только радость, навсегда! Просто случайная, непредвиденная катастрофа — и потом блестящее будущее! Но уже сама мысль об этом и о Роберте (почему его мозг упорно связывает это с Робертой?), сама эта мысль ужасна, и он не должен, не должен пускать ее в свое сердце. Никогда, никогда, никогда! Не должен! Это отвратительно! Ужасно! Ведь это мысль об убийстве! Убийстве?! Но он был до того взвинчен письмом Роберты и полной его противоположностью — письмом Сондры… в таких очаровательных и соблазнительных красках рисовала Сондра свою — и его — жизнь, что он и под страхом смерти не мог отделаться от мысли о таком как будто легком и естественном разрешении всех своих затруднений… если бы только такой случай произошел с ним и с Робертой. В конце концов разве он замышляет преступление? Нет, он просто думает, что если бы случилось такое несчастье, если бы только оно могло случиться… Да, но если бы только оно могло случиться! Темная и злая мысль, которую он не должен, не должен допускать. НЕ ДОЛЖЕН. И все же… все же… Он превосходный пловец, он, без сомнения, доплыл бы до берега, каково бы ни было расстояние. А Роберта — он это знает (ведь прошлым летом они ездили на озера и купались) — не умеет плавать. И тогда… тогда… Ну, тогда, если он ей не поможет, то, конечно… Он сидел в своей комнате, в темноте, между половиной десятого и десятью вечера и думал об этом, — и у него было странное, беспокойное ощущение, словно мурашки бегали по всему телу, от корней волос и до кончиков пальцев. Удивительная и страшная мысль! И ее подсказала ему эта газета. Разве не странно? И вдобавок в той местности, куда он теперь поедет к Сондре, повсюду много, очень много озер, десятки, как она говорила… А Роберта любит дальние прогулки и любит кататься на лодке, хотя она и не умеет плавать, не умеет плавать… не умеет плавать. И вот они или, по крайней мере, он едет туда, где множество озер… Они могут поехать вдвоем — он и Роберта, — почему бы и нет? Почему? Ведь они уже говорили о том, чтобы съездить куда-нибудь за город четвертого июля, когда обдумывали свой окончательный отъезд. Но нет, нет! Как бы он ни хотел отделаться от Роберты, самая мысль о несчастье с нею слишком гнусна, преступна, ужасна! Нет, он ни на одно мгновение не должен пускать в свое сердце такие мысли. Это слишком мерзко, слишком низко, слишком страшно! Ужасная мысль! Подумать только, что она пришла ему в голову! И как раз теперь, теперь, когда Роберта требует, чтобы он уехал вместе с нею. Смерть! Убийство! Убийство Роберты! Но надо же спастись от нее, от этого бессмысленного, настойчивого, непреклонного требования. Уже при одной мысли о нем Клайд весь похолодел и покрылся потом. И теперь, когда… когда… Но об этом нельзя думать, нельзя! И вдобавок — смерть еще не родившегося ребенка! Но как же можно думать о таких вещах с расчетом, преднамеренно? И все же… сколько людей тонет вот так в летнее время… юноши и девушки… мужчины и женщины… здесь и там… повсюду! Разумеется, он не желает, чтобы что-либо подобное случилось с Робертой. И особенно теперь. Он не такой, как бы ни был плох. Нет. Нет. Он не такой. От одной мысли об этом холодный пот выступил на его лице и руках. Он не такой. Порядочные, здравомыслящие люди не думают о таких вещах. И он тоже не будет… с этой минуты. Крайне недовольный собою — тем, что такая страшная мысль могла завладеть им, — Клайд встал, зажег лампу и перечитал заметку в газете со всем спокойствием, на какое был способен, словно этим осуждал и отвергал раз навсегда все, что она ему внушила. Потом оделся и вышел из дому: он прошелся по Уикиги-авеню и по Сентрал-авеню, затем по Дубовой и кружным путем снова вышел на Сентрал-авеню, чувствуя, что он как бы уходит от соблазна, от наваждения, которое так тревожило его до сих пор. И через некоторое время почувствовав себя лучше, спокойнее, нормальнее, человечнее, — ему так этого хотелось! — он вернулся домой и лег спать с ощущением, что ему и вправду удалось освободиться от коварного и страшного соблазна. Никогда больше он не должен думать об этом! Он не должен больше думать об этом. Никогда, никогда, никогда он не должен думать об этом… никогда. Вскоре он заснул неспокойным, тревожным сном, и ему приснилась свирепая черная собака, которая пыталась его укусить. Спасаясь от клыков этого чудовища, он проснулся в ужасе, потом снова заснул. На этот раз он увидел себя в каком-то странном, мрачном месте, не то в густом лесу, не то в пещере, не то на дне глубокого и узкого ущелья между высокими горами; отсюда шла вверх тропинка, вначале хорошо заметная. Но чем дальше он шел, тем тропинка становилась уже, неразличимее и, наконец, исчезла совсем. И тогда, обернувшись, чтобы попытаться пройти обратно той же дорогой, Клайд увидел позади себя громадный клубок змей; на первый взгляд он больше походил на кучу хвороста, но над ним угрожающе раскачивались десятка два змеиных голов с раздвоенными жалами и агатовыми глазами. А когда он снова поспешно повернул обратно, дорогу ему преградило огромное рогатое чудовище, — под его тяжкой поступью трещали кусты; и с криком беспредельного отчаяния Клайд в ужасе проснулся и уже не заснул до утра.Глава 62
Однако мысль о происшествии на озере, так упорно возникавшую среди мыслей о его собственном запутанном положении, Клайд не в силах был отогнать, как ни старался. Она родилась из случайного сопоставления его личных тревог, которые потрясли и едва не расстроили его не слишком устойчивый рассудок, и этого, быть может, ужасного, но какого-то тихого и как бы невинного исчезновения двух людей на озере Пасс. Тело девушки — какая-то странная сила заставляла его все время думать об этом — было найдено, а тело мужчины нет. В этой своеобразной подробности словно таился навязчивый намек: Клайд невольно думал, что мужчина, быть может, вовсе и не утонул. Ведь есть же злодеи, жаждущие отделаться от неугодных им людей, — так, может быть, и этот мужчина отправился с девушкой на озеро, желая от нее отделаться? Это, разумеется, дьявольская выдумка, однако в данном случае она, по-видимому, превосходно удалась. Но чтобы он сам поддался этому злому внушению и поступил так же… Никогда! Однако его положение с каждым часом становилось все безвыходное: чуть ли не ежедневно приходили письма от Роберты или записочки от Сондры, и снова его поражал контраст между ними — между богатством и бедностью, между весельем и мрачным отчаянием и неуверенностью. Роберте он решил не писать, но иногда разговаривал с нею по телефону, стараясь отделываться ничего не значащими фразами. Как она поживает? Он очень рад, что она у своих, в деревне, — в такую погоду там, должно быть, гораздо лучше, чем на фабрике. Тут, конечно, все идет гладко, все по-старому, только вдруг посыпались заказы, и в последние два дня пришлось очень много работать. Он всеми силами старается скопить денег для известной ей цели, а больше его ничто не тревожит, и она тоже не должна тревожиться. Он не писал ей, потому что много работы, и вряд ли сумеет писать, — так много всяких дел. Но он скучает, не видя ее на обычном месте, и надеется, что скоро они опять встретятся. Если она собирается приехать в Ликург, как говорит, и считает, что ей нужно повидаться с ним, то это, пожалуй, можно устроить. Но действительно ли это необходимо именно сейчас? Он так занят, он рассчитывает встретиться с нею несколько позже. И в то же время он писал Сондре, что, возможно, в следующую субботу, а уж восемнадцатого наверняка, приедет и увидится с нею. Так он хитрил сам с собой и изворачивался, подстрекаемый страстью к Сондре и совершенно неспособный смотреть в лицо действительности, когда дело касалось Роберты; благодаря этому он дождался наконец желанной возможности вновь встретиться с Сондрой, и притом в такой обстановке, какой ему еще никогда в жизни не приходилось видеть. Когда он добрался до шейронской пристани, примыкающей к веранде гостиницы на Двенадцатом озере, его встретили Бертина с братом и Сондра: они приехали сюда за ним на моторной лодке Грэнта, спустившись по реке Чейн. Прозрачные синие воды реки. Высокие, темные островерхие ели выстроились по берегам, как часовые. Вдоль западного берега легла на воду полоса черной тени; отражения деревьев отчетливы, как в зеркале. Повсюду, большие и маленькие, белые, розовые, зеленые и коричневые дачи, навесы для лодок, купальни у самой воды. Кое-где, перед какой-нибудь роскошной дачей, вроде тех, что принадлежат Крэнстонам или Финчли, изящная пристань. Зеленые и синие байдарки и моторные лодки. Веселый, яркий отель и купальни на Сосновом мысе, где уже собралось много нарядной, рано выехавшей за город публики. А затем лодочный сарай и пристань у дачи Крэнстонов. Две овчарки — новая покупка Бертины — лежат на берегу в траве, очевидно, поджидая возвращения хозяйки. Слуга Джон, один из шести слуг, взятых Крэнстонами на дачу, стоит на пристани, готовый взять у Клайда его единственный чемодан, теннисную ракетку и палки для гольфа. Однако самое сильное впечатление производит на Клайда большой дом, построенный не по строгим канонам, но со вкусом, — к нему ведут дорожки, обсаженные яркой геранью; с огромной веранды, уставленной плетеными креслами, открывается прекрасный вид на озеро, там и сям виднеются автомобили; многочисленные гости в спортивных костюмах отдыхают на веранде или прогуливаются в саду. По распоряжению Бертины Джон провел Клайда в просторную комнату с окнами на озеро, чтобы он мог принять ванну и переодеться для игры в теннис с Сондрой, Бертиной и Грантом. После обеда, как объяснила Сондра, заехавшая ради него к Крэнстонам, он отправится с Бертиной и Грантом в «Казино», где его познакомят со всей местной публикой. Там будут танцы. Завтра рано утром, до первого завтрака, он может, если угодно, поехать с нею, Бертиной и Стюартом верхом по чудесной лесной тропинке к мысу Вдохновения, откуда открывается самый лучший вид на озеро. И Клайд узнал, что, за исключением нескольких тропинок вроде этой, в лесу на сорок миль кругом нет никаких дорог. Без компаса или проводника там можно заблудиться и даже погибнуть, — так трудно определить направление тому, кто не знает этого леса. А после завтрака и купания она, Бертина и Нина Темпл покажут ему свое новое искусство — катание на акваплане Сондры. Потом второй завтрак, теннис или гольф и поездка в «Казино», где они будут пить чай. После обеда на даче у Брукшоу из Утики — танцы. Через час после приезда Клайд увидел, что все время его пребывания здесь — суббота и воскресенье — будет занято до отказа. Но он понял также, что они с Сондрой сумеют проводить вместе не только минуты, а пожалуй, и целые часы, и благодаря этой чудесной возможности он увидит новые стороны ее многогранной натуры! Наперекор гнетущим мыслям о Роберте — может же он отогнать их хотя бы на эти дни! — он чувствовал, что попал в рай. И право, никогда прежде Сондра не казалась ему такой веселой, грациозной и счастливой, как здесь, на теннисной площадке Крэнстонов, в белоснежном теннисном костюме — блузке и короткой юбке, с волосами, повязанными пестрым, в желтый и зеленый горошек, шелковым платком. А ее улыбка! А сколько сулил веселый блеск ее смеющихся глаз, когда она бросала на него быстрый взгляд! Точно птица, носилась она, высоко подняв руку с ракеткой, едва касаясь ногами земли, закинув голову и не переставая улыбаться. Клайд трепетал от счастья и печали: ведь Сондра могла бы принадлежать ему, будь он сейчас свободен. Но между ними неодолимая преграда, возведенная им самим! А яркое солнце заливает кристальным светом зеленую лужайку, протянувшуюся от высоких елей к серебряным водам озера. По озеру скользят во всех направлениях маленькие лодки с ослепительно-белыми парусами и вспыхивают в лучах солнца белые, зеленые, желтые яркие пятна — байдарки, на которых катаются влюбленные пары. Лето, праздность, тепло, яркие краски, безмятежность, красота, любовь — все, о чем он мечтал прошлым летом, когда был так страшно одинок. Минутами Клайду казалось, что у него кружится голова от радости: близкое и верное исполнение всех желаний чуть ли не у него в руках… А в другие минуты (мысль о Роберте вдруг пронизывала его, как порыв ледяного ветра) он чувствовал: не может быть ничего печальнее, страшнее, губительнее для грез о красоте, любви и счастье, чем то, что угрожает ему теперь. Это страшное газетное сообщение об озере и о двоих утонувших… И вероятность, что, несмотря на свой безумный замысел, через какую-нибудь неделю-две, самое большее через три, он должен будет навсегда отказаться от всего… А потом он вдруг приходил в себя и понимал, что прозевал мяч, что играет очень плохо и Бертина, Сондра или Грант кричат ему: «Клайд, о чем вы думаете?» И из самых темных глубин своего сердца он мог бы ответить: «О Роберте». Потом вечером, у Брукшоу, нарядная компания — друзья Сондры, Бертины и остальных. На площадке для танцев новая встреча с Сондрой; она вся — улыбка: для всех собравшихся, а главным образом для своих родителей, она притворяется, будто еще не видела Клайда, даже и не знала, что он приехал. — Как, вы здесь? Вот замечательно! У Крэнстонов? Просто великолепно, совсем рядом с нами. Ну, значит, будем часто видеться, правда? Хотите завтра покататься верхом, часов в семь утра? Мы с Бертиной скачем почти каждый день. Если ничто не помешает, мы завтра устроим пикник, покатаемся на байдарках и на моторной лодке. Это ничего, что вы не очень хорошо ездите верхом, — я скажу Бертине, чтобы вам дали Джерри: он смирный, как овечка. И насчет костюма тоже не беспокойтесь: у Грэнта куча всяких вещей. Ближайшие два танца я танцую с другими, а во время третьего выйдем и посидим, хотите? Тут на балконе есть чудный уголок. И она отошла, сказав ему взглядом: «Мы понимаем друг друга…» А потом в этом темном уголке, где никто их не видел, она притянула его голову к себе и горячо поцеловала в губы. Прежде чем окончился вечер, им удалось уйти от всех, и они бродили, обнявшись, по тропинке вдоль берега при свете луны. — Сондра так рада, что Клайд здесь! Она так соскучилась! Она гладила его по волосам, а он целовал ее — и вдруг, вспомнив о мрачной тени, которая их разделяла, порывисто, с отчаянием сжал ее в объятиях. — Моя дорогая маленькая девочка, — воскликнул он, — моя прелестная, прелестная Сондра! Если бы вы только знали, как я люблю вас, если б вы знали! Как бы я хотел рассказать вам все! Как бы я хотел… Но он не мог рассказать — ни теперь, ни потом, — никогда. Как бы он осмелился сказать ей хотя бы слово о мрачной преграде, стоящей между ними? Сондра с ее воспитанием, с усвоенными ею понятиями о любви и браке никогда его не поймет, никогда не согласится принести так много в жертву любви, как бы она его ни любила. Она тотчас оставит его, покинет, — и какой ужас отразится в ее глазах! Однако теперь, когда он сжимал ее в объятиях, она, глядя в его глаза, — от лунного света в них вспыхивали электрические искорки, — в его бледное, напряженное лицо, воскликнула: — Клайд так сильно любит Сондру! Милый мальчик! Сондра тоже его любит, очень-очень! — Она охватила его голову обеими руками и стала быстро и горячо целовать. — И Сондра не откажется от своего Клайда. Ни за что. Только подождите — и увидите. Теперь что бы ни случилось — все пустяки! Может быть, это будет нелегко, но Сондра не оставит Клайда! — А потом вдруг деловым тоном — это было так характерно для нее — заявила: «Ну, теперь мы должны идти, сейчас же. Нет, больше никаких поцелуев. Нет, нет! Сондра сказала: нет. Нас могут хватиться». И, поправив прическу, она взяла его за руку и побежала обратно к дому, как раз вовремя, так как навстречу им попался Палмер Тэрстон, который уже искал ее. На следующее утро, около семи часов, как и обещала Сондра, состоялась поездка на мыс Вдохновения. Бертина и Сондра были в ярко-красных жакетах для верховой езды, в белых бриджах и черных сапогах, волосы их свободно развевались по ветру; они то и дело уносились вперед, а потом снова возвращались к Клайду; или же Сондра весело окликала его, предлагая догнать их; или обе они, смеясь и болтая, скрывались от него далеко впереди, меж деревьев, словно в потаенном уголке лесного храма, где он не мог их видеть. Бертина, заметив, как Сондра в эти дни поглощена Клайдом, начала думать, что дело может окончиться свадьбой, если только не помешают семейные осложнения, а потому сияла улыбками, вся — воплощенное радушие; она премило настаивала, чтобы Клайд приехал к ним на все лето, и обещала покровительствовать влюбленным, — тогда никто не сможет придраться. И Клайд то трепетал от восторга, то вдруг мрачнел, невольно возвращаясь к мысли, которую подсказало ему газетное сообщение, и все же боролся с нею, пытаясь ее отбросить. В одном месте Сондра свернула по крутой тропинке вниз к роднику, который пробивался среди мхов и камней в тени деревьев. — Сюда, Клайд! — позвала она. — Джерри знает дорогу, он не поскользнется. Выпейте воды! Говорят, кто напьется из этого источника, тот скоро опять сюда вернется. И когда он соскочил с седла, она сказала: — Я хочу вам кое-что сказать. Видели бы вы вчера вечером мамино лицо, когда она услышала, что вы здесь! Конечно, она не может знать наверно, что я просила пригласить вас, — ведь она думает, что это Бертина вами интересуется. Я ее в этом убедила. Но все-таки, мне кажется, она подозревает, что и я тут замешана, и это ей очень не нравится. Но она ничего не может прибавить к тому, что сказала раньше. А я сейчас поговорила с Бертиной, и она согласна помогать мне, чем только может. Но нам надо быть как можно осторожнее, потому что, если мама станет слишком много подозревать, я даже не знаю, что она сделает… пожалуй, решит сейчас же уехать отсюда, чтобы мне нельзя было с вами видеться. Понимаете, она не допускает и мысли, что я могу увлечься кем-то кто ей не по душе. Вы знаете, как это бывает. Она и со Стюартом так. Но вы будьте осторожнее и делайте вид, что я вас очень мало интересую, особенно когда поблизости есть кто-нибудь из наших, — и тогда, я думаю, она ничего не станет предпринимать, — по крайней мере сейчас. А потом, осенью, когда мы вернемся в Ликург, все будет по-другому. Я уже буду совершеннолетняя, и тогда посмотрим! Я еще до сих пор никого не любила, но вас я люблю и не откажусь от вас — вот и все. Не хочу. И они не смогут меня заставить, ни за что! И она топнула ногой. Лошади мирно и безучастно глядели по сторонам. А Клайд, восхищенный и удивленный этим вторым, столь решительным изъявлением ее чувств, воспламененный мыслью, что именно теперь он может предложить ей бегство и брак и, значит, избавиться от нависшей над ним угрозы, смотрел на Сондру с тревожной надеждой и страхом. Ведь она может отказать, может сразу перемениться, шокированная его неожиданным предложением. И потом у него нет денег, и он не представляет себе, куда они могли бы уехать, если бы она согласилась. Но, может быть, она что-нибудь придумает? Если уж она согласится, так почему бы ей не помочь ему? Это ясно. Во всяком случае, он должен заговорить, а там — будь что будет! И он начал: — А почему бы вам не уехать со мной теперь же, Сондра, дорогая? До осени еще так далеко, а я так люблю вас! Давайте уедем? Все равно, ваша мама никогда не позволит вам выйти за меня замуж. Но если мы уедем теперь, она ничего не сможет сделать. А после, через несколько месяцев, вы ей напишете, и она вас простит. Уедем, Сондра? Его голос звучал горячей мольбой, глаза были полны печали, страха перед отказом и перед тем, что ждало его после. Сондре передался его трепет, порожденный глубоким волнением, и она медлила с ответом; ее нимало не оскорбило его предложение, напротив — она была по-настоящему взволнована и польщена мыслью, что могла пробудить в Клайде такую нетерпеливую и безрассудную страсть. Он так стремителен, так пылает огнем, который она сама зажгла, хотя она и не способна чувствовать столь же пылко… Никогда еще она не видела такой пламенной любви. И разве не чудесно — бежать с ним теперь… тайно… в Канаду, Нью-Йорк или Бостон — куда-нибудь! А какое волнение поднялось бы тогда здесь, в Ликурге, в Олбани, в Утике! Какие разговоры и тревога у нее дома и повсюду! И Гилберт волей-неволей оказался бы с нею в родстве, и все Грифитсы, которыми так восхищаются ее Мать и отец. Одно мгновение в ее глазах читалось желание и почти решимость сделать, как он просил: бежать с ним, превратить свою пылкую, неподдельную любовь в грандиозную шалость. Раз они поженятся, что могут сделать ее родители? И разве Клайд недостоин ее и ее семьи? Конечно, достоин, хотя почти все в ее кругу воображают, будто он не бог весть какое сокровище, просто потому, что у него не так много денег, как у них. Но ведь деньги у него будут… Он женится на ней — и получит такое же хорошее место на предприятии ее отца, какое занимает Гил Грифитс на фабрике своего отца. Но через мгновение, подумав о своей жизни здесь, о том, в какое положение она поставит своих родителей, уехав таким образом, в самом начале летнего сезона и о том, что это разрушит все ее собственные планы и чрезвычайно рассердит мать (может быть, она даже потребует расторжения брака на том основании, что дочь несовершеннолетняя), Сондра опомнилась, и задорный блеск в ее глазах сменился столь характерной для нее серьезной практичностью. В сущности, что стоит подождать несколько месяцев! А это, конечно, спасет Клайда от разлуки с нею, тогда как бегство может повести к тому, что их разлучат навсегда. Поэтому она ласково, но решительно покачала головой, и Клайд понял, что он потерпел поражение — самое тяжкое и непоправимое поражение, какое только могло его постигнуть. Она не уедет с ним! Значит, он погиб… погиб… и она, быть может, навсегда для него потеряна. Господи! А лицо Сондры озарилось нежностью, необычайной для нее даже в минуты самого глубокого волнения. — Я согласилась бы, милый, если б не думала, что нам лучше этого не делать, — сказала она. — Это было бы слишком поспешно. Мама сейчас ничего не предпримет, я знаю. И потом, у нее столько планов, она хочет устроить этим летом целую массу приемов, — все для меня. Она хочет, чтобы я была любезна с… ну, вы знаете, о ком я говорю. Ну и что ж, все это нам никак не помешает; я не сделаю ничего такого, что могло бы напугать маму. — Сондра ободряюще улыбнулась ему. — Но вы можете приезжать сюда так часто, как захотите, и ни у мамы, ни у кого другого это не вызовет никаких подозрений, потому что вы будете не нашим гостем, понимаете? Я обо всем уговорилась с Бертиной. И, таким образом, мы можем видеться с вами здесь все лето, сколько захотим, понимаете? А осенью я вернусь в Ликург, и если тогда я никак не смогу расположить к вам маму и убедить ее, что мы помолвлены, — ну, тогда я с вами убегу. Да, убегу, милый, это чистая правда! Милый! Осенью!.. Она замолчала, и ее взгляд говорил, что она очень ясно представляет себе все стоящие перед ними практические затруднения. Она взяла его за руки и посмотрела в лицо. Потом порывисто обвила руками его шею и поцеловала. — Неужели вы не понимаете, дорогой? Ну, пожалуйста, милый, не глядите так печально. Сондра так любит своего Клайда! Она сделает все, все, чтобы он был счастлив. Сделает! И все будет хорошо. Подождите — и увидите. Сондра никогда не откажется от своего Клайда, никогда! Клайд понимал, что у него нет ни одного довода, чтобы переубедить ее, — решительно ни одного, который не заставил бы ее почувствовать, как странно и подозрительно его тревожное нетерпение, — и что из-за требования Роберты (если только… если только… ну, если Роберта его не отпустит) отказ Сондры означает для него катастрофу. И он печально, даже с отчаянием, смотрел ей в лицо. Какая она красивая! Как прекрасен ее мир! А ему не дано владеть ни ею, ни этим миром — никогда! Всему преграда — Роберта, ее требование и его обещание. И нет никакого спасения, кроме бегства. Боже! Взгляд его стал напряженным, почти безумным — в нем появилась необычайная сила, — это был взгляд человека, стоящего на грани помешательства; так еще никогда не случалось с Клайдом за всю его жизнь, и Сондра заметила странную силу этого взгляда. Клайд казался таким больным, надломленным, безмерно отчаявшимся, что Сондра воскликнула: — Да что с вами, Клайд, милый? У вас глаза такие… даже не знаю какие… несчастные или… Клайд так сильно меня любит? Но разве он не может подождать только три или четыре месяца? Да нет же, конечно, может! Это не так страшно, как ему кажется. Он почти все время будет со мной, милый мой мальчик. А когда его здесь не будет, Сондра будет писать ему каждый день, каждый день! — Но, Сондра, Сондра если б я мог сказать вам все! Если б вы знали, как много это для меня значит! Он запнулся, потому что увидел в это мгновение в глазах Сондры чисто деловой, практический вопрос: почему ей так необходимо сейчас же с ним бежать? И Клайд тотчас же почувствовал, какое огромное влияние имеет на нее среда… как безраздельно она принадлежит этому миру… и как легко ее спугнуть чрезмерной настойчивостью: пожалуй, она начнет в нем сомневаться, побоится сделать неосторожный шаг… Надо отказаться от этой попытки. Иначе она, конечно, станет его расспрашивать — и это может настолько охладить ее чувство, что не останется даже мечты об осени… И поэтому, вместо того, чтобы объяснить, почему ему так необходимо ее решение, он попросту отступил: — Это все потому, что вы так нужны мне, дорогая, — все время нужны. В этом все дело. Иногда мне кажется, что я больше ни минуты не могу жить вдали от вас. Я так жажду вас! Но Сондра, хотя и очень польщенная его пылким чувством, которое отчасти разделяла, все же в ответ только повторила то, что уже сказала раньше. Они должны ждать. Осенью все окончится благополучно. И Клайд, совершенно ошеломленный своей неудачей, не мог отрицать, что он и теперь счастлив с нею; он постарался, как умел, скрыть свое настроение… и думал, думал, думал… быть может, есть какой-то выход… какой-нибудь… может быть, даже та мысль насчет лодки… или что-нибудь еще… Но что? Но нет, нет, нет — только не это! Он не убийца и никогда не будет убийцей. Не будет, никогда… никогда… никогда… Значит — потерять все. Неизбежная катастрофа. Неизбежная катастрофа. Как же избежать ее и завоевать Сондру? Как, как, как?Глава 63
А рано утром в понедельник, вернувшись в Ликург, он нашел следующее письмо от Роберты: «Дорогой Клайд! Я часто слышала поговорку: «Пришла беда — отворяй ворота», — но только сегодня узнала, что это значит. Чуть ли не первым, кого я увидела сегодня утром, был наш сосед мистер Уилкокс. Он пришел сказать, чтобы я не рассчитывала сегодня на мисс Энс, потому что ей нужно кое-что сшить для миссис Динуидди в Бильце, хотя вчера, когда она уходила, все уже было приготовлено: мне нужно было бы сегодня только немного помочь ей с шитьем, чтобы ускорить дело. А теперь она придет только завтра. Потом нас известили, что сестра мамы, миссис Николс, серьезно больна, и маме пришлось поехать к ней в Бейкерс-Понд (это почти двенадцать миль отсюда). Том повез ее, хотя ему нужно было помогать отцу, — ведь на ферме столько работы. И я не знаю, сможет ли мама вернуться до воскресенья. Если бы я чувствовала себя лучше и не была бы так занята шитьем, я бы, наверно, тоже поехала с нею, хотя она и уверяла, чтоэто ни к чему. Вдобавок Эмилия и Том, считая, что мои дела идут прекрасно и я могу повеселиться, пригласили на сегодняшний вечер четырех девушек и четырех молодых людей: они задумали что-то вроде летней вечеринки при лунном свете. Эмилия хотела с моей и маминой помощью приготовить мороженое и пирог. И теперь ей, бедняжке, приходится звонить во все концы от мистера Уилкокса и откладывать вечеринку до будущей недели. И она, конечно, совсем расстроилась и приуныла. Что касается меня, то я изо всех сил стараюсь держать себя в руках. Но знаешь, милый, должна признаться, это очень трудно. Ведь до сих пор я говорила с тобой только три раза по телефону и услышала, что у тебя, наверно, не будет до пятого июля необходимых денег. И в довершение всего я только сегодня узнала, что мама и папа думают съездить к дяде Чарли в Хемилтон; они погостят у него с четвертого до пятнадцатого и хотят взять меня с собой, если только я не решу вернуться в Ликург. А Том и Эмилия поедут к сестре в Гомер. Но я не могу ехать, ты сам понимаешь. Я слишком больна и измучена. Прошлую ночь у меня была страшная рвота, а сегодня весь день я едва держусь на ногах и просто с ума схожу от страха. Милый, как же нам быть? Может быть, ты приедешь за мной до третьего июля? Третьего они уезжают в Хемилтон, и ты непременно должен за мной приехать, ведь я никак не могу поехать с ними. Это за пятьдесят миль отсюда. Я могла бы сказать им, что согласна ехать, если б только ты наверняка приехал за мной до их отъезда. Но я должна точно знать, что ты приедешь, — совершенно точно! Клайд, с тех пор как я здесь, я только и делаю, что плачу. Если бы ты был со мной, мне не было бы так плохо. Я стараюсь быть храброй, милый, но иногда поневоле думаю, что ты, может быть, никогда не приедешь за мной. Ведь ты ни разу не написал мне ни строчки и только три раза говорил со мной по телефону за все время, что я здесь. Но я убеждаю себя, что ты не можешь быть таким низким, тем более что ты мне обещал… Ведь ты приедешь, правда? Почему-то меня теперь все так тревожит, и я так боюсь. Клайд, милый. Я думаю о прошлом лете и о теперешнем, и обо всех своих мечтах… Милый, ведь ты, наверно, мог бы приехать и на несколько дней раньше, — какая разница? Все равно, пускай у нас будет немножко меньше денег. Не бойся, мы проживем и так. Я буду очень бережливой и экономной. Постараюсь, чтобы к этому времени мои платья были готовы, а если нет, — обойдусь и старыми, а эти закончу после. И постараюсь быть совсем мужественной, милый, и не очень надоедать тебе, лишь бы ты приехал. Ты должен приехать. Клайд, ты же знаешь! Иначе невозможно, хотя ради тебя я хотела бы найти другой выход. Пожалуйста, Клайд, пожалуйста, напиши мне, что ты действительно будешь здесь в конце того срока, который ты сам назначил. Я так беспокоюсь, и мне так одиноко здесь. Если ты не приедешь вовремя, я сразу же вернусь в Ликург, чтобы тебя увидеть. Я знаю, ты будешь недоволен, что я так говорю, но, Клайд, я не могу оставаться здесь, вот и все. И с папой и мамой я тоже не могу поехать, так что выход только один. Наверно, я ни на минуту не засну сегодня ночью. Умоляю тебя, напиши мне и повтори еще и еще, что мне нечего беспокоиться насчет твоего приезда. Если б ты мог приехать сегодня, милый, или в конце этой недели, я бы не тосковала так. Но ждать еще почти две недели!.. У нас в доме уже все улеглись, и мне пора кончать. Пожалуйста, милый, напиши мне сейчас же или, если не можешь, обязательно позвони завтра по телефону, потому что у меня не будет ни минуты покоя, пока я не получу от тебя хоть какой-нибудь весточки. Твоя несчастная Роберта. P.S. Письмо вышло ужасное, но я просто не могла написать лучше. Я так убита». Но в тот день, когда это письмо пришло в Ликург, Клайда там не было, и он не мог сейчас же ответить. И потому Роберта в самом мрачном, истерическом настроении, наполовину убежденная, что он, вероятно, уже уехал куда-нибудь далеко, ни словом ее не известив, в субботу написала ему снова — и это было уже не письмо, а крик, истерический вопль: «Бильц, суббота, 14 июня. Дорогой Клайд! Предупреждаю тебя, что возвращаюсь в Ликург. Я просто не в силах оставаться здесь дольше. Мама тревожится и не понимает, почему я так много плачу. Я теперь чувствую себя совсем больной. Я знаю, что обещала пробыть здесь до двадцать пятого или двадцать шестого, но ведь ты обещал писать мне, а ничего не пишешь, только иногда скажешь несколько слов по телефону, и я просто с ума схожу. Я проснулась сегодня утром и сразу расплакалась — никак не могла сдержаться, и теперь у меня ужасно болит голова. Я так боюсь, что ты не захочешь приехать, мне так страшно, милый! Умоляю тебя, приезжай и увези меня куда-нибудь, все равно куда, лишь бы мне уехать отсюда и не мучиться так. Я очень боюсь, что сейчас, когда я в таком состоянии, папа и мама могут заставить меня рассказать им все или сами обо всем догадаются. Клайд, ты никогда не поймешь, что со мной. Ты сказал, что приедешь, и я иногда этому верю. А иногда я начинаю думать совсем другое, особенно когда ты не пишешь и не звонишь по телефону, и уже не сомневаюсь, что больше тебя не увижу. Если б ты написал, что приедешь я могла бы еще потерпеть здесь. Как только получишь это письмо, сейчас же напиши мне и точно укажи день, когда приедешь. Но не позже первого, пожалуйста, потому что я больше не могу. Дольше первого я здесь не останусь. Клайд, я самая несчастная девушка на свете, и это все из-за тебя. Нет, милый, я не то хотела сказать. Ты был добр ко мне когда-то и теперь тоже, ведь ты обещал за мной приехать. Я буду так благодарна тебе, если ты приедешь поскорее! Когда ты будешь читать это письмо, ты, наверно, подумаешь, что я неблагоразумна, но, пожалуйста, не сердись, Клайд! Только пойми: я просто с ума схожу от горя и беспокойства, просто не знаю, что мне делать. Умоляю тебя, напиши мне, Клайд! Если бы ты знал, как я жду хоть слова от тебя! Роберта». Этого письма, вместе с угрозой приехать в Ликург, было достаточно, чтобы привести Клайда почти в такое же состояние, в каком была Роберта. Подумать только, что у него больше нет ни одного благовидного предлога, чтобы убедить Роберту подождать с этим ее окончательным и бесповоротным требованием. Он отчаянно напрягал мозг. Нельзя писать ей длинные Компрометирующие письма: это было бы безумием, раз он решил не жениться на ней. Притом он весь еще был под впечатлением объятий и поцелуев Сондры. В таком настроении он не мог написать Роберте, даже если бы и хотел. И, однако, он понимал: Роберта в отчаянии, и надо немедленно что-то сделать, как-то успокоить ее. Через десять минут после того, как он дочитал второе письмо, он уже пытался вызвать ее по телефону. После получасовых нетерпеливых усилий ему наконец удалось дозвониться и он услышал ее голос, слабый и, как ему вначале показалось, раздраженный (на самом деле им просто было плохо слышно друг друга). — Алло, Клайд, алло! Я так рада, что ты позвонил. Я страшно волновалась. Ты получил мои письма? А я уж собиралась утром уехать отсюда, если ты до тех пор не позвонишь. Я просто не могу, когда от тебя нет никаких вестей. Где ты был, дорогой? Ты помнишь, что я писала тебе о моих родителях? Они уезжают. Почему ты не пишешь, Клайд, или хоть не звонишь чаще? Как насчет того, что я тебе писала про третье число? Ты приедешь, это наверно? Или мне встретить тебя где-нибудь? Я так нервничала последние три-четыре дня, но теперь, когда я опять с тобой поговорила, может быть, я смогу немножко успокоиться. Пиши мне каждые два-три дня хоть по нескольку слов, непременно! Почему ты не хочешь, Клайд? Ты мне ни разу не написал за то время, что я здесь. Я не могу рассказать тебе, в каком я состоянии. Мне слишком трудно держать себя в руках. Очевидно, Роберта была очень расстроена и встревожена, если говорила так. В сущности, казалось Клайду, она разговаривает очень неосторожно; правда, дом, откуда она говорит, в это время совершенно пуст. Она объяснила, что она там совсем одна и никто не может ее услышать, но Клайда это мало успокоило. Он не желал, чтобы она называла его по имени и упоминала о своих письмах к нему. Стараясь говорить не слишком ясно, он дал ей понять, что очень занят и что ему трудно писать ей так часто, как она считает нужным. Ведь он же говорил ей, что приедет двадцать восьмого или около этого, если сможет. Он и приехал бы, если бы мог, но похоже, что ему придется отложить свой приезд еще на неделю, даже немного больше: до седьмого или восьмого июля. Тогда он успеет собрать еще пятьдесят долларов, — у него на этот счет есть кое-какие соображения, эти деньги ему совершенно необходимы. А на самом деле (такова была задняя мысль Клайда) тогда он успеет в конце следующей недели, — он так жаждал этого, — еще раз навестить Сондру. И вдруг это требование Роберты. Не может ли она поехать со своими родителями на неделю-другую, а потом он приедет за ней или она приедет к нему? Тогда у него будет больше времени… Но Роберта в ответ разразилась потоком горьких упреков и заявила, что, если так, она, безусловно, сейчас же вернется в Ликург, к Гилпинам, и не станет тратить здесь время на то, чтобы готовиться к отъезду и понапрасну ждать Клайда, раз он и не собирается приезжать… И тут Клайд вдруг решил, что можно с таким же успехом пообещать ей приехать третьего; а если он и не приедет, то в крайнем случае тогда сговориться с нею, где им встретиться. Ибо даже теперь он не решил, что будет делать. Ему нужно еще немного времени, чтобы подумать… немного времени, чтобы подумать… И потому он сказал совсем другим тоном: — Ну послушай, Берта! Не сердись на меня, пожалуйста. Ты так говоришь, будто у меня нет никаких забот в связи с нашим отъездом. Ты не знаешь, чего мне может стоить такой шаг. Не так-то просто со всем покончить, а тебя, видно, это мало трогает. Я знаю, тебе тяжело и все такое, ну а мне каково? Я делаю все, что только в моих силах; я должен обо всем подумать. Неужели ты не можешь просто потерпеть до третьего? Пожалуйста, потерпи. Я обещаю писать, а если не смогу, то буду через день тебе звонить. Хорошо? Но я ни в коем случае не хочу, чтобы ты называла меня по имени, как только что. Это наверняка может привести к неприятностям. Пожалуйста, не делай этого. В следующий раз, когда я буду звонить тебе, я просто скажу, что тебя спрашивает мистер Бейкер, понимаешь? А ты после можешь сказать, что это кто-нибудь из твоих знакомых. А если в крайнем случае что-нибудь помешает нам выехать именно третьего, — ну, тогда, если хочешь, приезжай сюда или куда-нибудь поблизости от Ликурга, и потом мы двинемся при первой же возможности. Он говорил так мягко и умоляюще (но лишь потому, что был вынужден к этому), в его голосе слышалась прежняя нежность и кажущаяся беспомощность, которая когда-то совершенно покоряла Роберту и даже теперь пробудила в ней странное, лишенное всякого основания чувство благодарности. И она сразу же кротко, даже ласково ответила: — Нет, нет, милый, теперь я потерплю. Я не хочу беспокоить тебя, ты же знаешь. Это только сейчас так вышло, потому что мне было очень плохо, и я не могла с собой справиться. Ты это понимаешь, Клайд, правда? Я не могу не любить тебя. И, наверно, всегда буду любить. И я совсем не хочу огорчать тебя, милый, правда! Я постараюсь больше так не делать! И Клайд, услышав в ее голосе нотку искренней нежности и вновь почувствовав свою прежнюю власть над нею, готов был снова разыграть влюбленного, лишь бы только Роберта была не слишком непреклонна и не требовала, чтобы он немедленно ее увез. Хотя он больше не любит ее, говорил себе Клайд, и не думает на ней жениться, но ради той, другой, ради своей мечты он может по крайней мере быть добрым к ней, не так ли? Притвориться! Итак, этот разговор кончился примирением, основанным на их новом уговоре.Накануне (в этот день кипучая жизнь на озерах, откуда он только что возвратился, немного стихла) Клайд, Сондра, Стюарт и Бертина вместе с Ниной Темпл и юношей по имени Харлей Бэгот, гостившим у Тэрстонов, проехали на автомобиле сначала к Бухте Третьей мили (небольшое дачное место, примерно в двадцати пяти милях к северу от Двенадцатого озера), а оттуда, между двух стен огромных елей, — на озеро Большой Выпи и другие меньшие озера, затерянные в глуши бора, простиравшегося на север от озера Трайн. Клайд вспомнил теперь, какое странное впечатление произвели на него эти глухие, почти безлюдные места. Это были дебри — в самом полном смысле слова. Узкие, размытые дождем грязные дороги с глубокими колеями извивались меж высоких, молчаливых и сумрачных деревьев, повитых траурными гирляндами ядовитых ползучих растений, и, лесу этому, казалось, не будет конца. Жуткие, таинственные, непролазные трясины и топи виднелись по сторонам этих дорог; там и сям они были, точно покинутые поля сражений, усеяны трупами деревьев: пропитанные сыростью гниющие стволы, наваленные Друг на друга, иногда в четыре яруса, вязли, в зеленом иле. На поросших лишаями или мхом пнях и гнилых корягах блестели глаза и спинки лягушек, безмятежно греющихся в лучах июньского солнца; в воздухе вилась мошкара; изредка мелькал хвост змеи, потревоженной неожиданным появлением машины и нырявшей в густые заросли ядовитых трав и водяных растений. Почему-то при виде одного из этих болот Клайд вспомнил о несчастном случае на озере Пасс. Сам того не понимая, он подсознательно оценивал уединенность этого заброшенного места: она может иной раз оказаться полезной. И вдруг странная водяная птица с резким криком пролетела где-то близко и скрылась в темной чаще леса. От этого крика Клайд вздрогнул и привстал в автомобиле: никогда в жизни он не слыхал, чтобы так кричала птица. — Что это? — спросил он у Харлея Бэгота, который сидел рядом с ним. — Что именно? — Как будто птица… что-то сейчас пролетело там, позади… — Я не слышал никакой птицы. — Ну, разве? И такой странный крик… У меня просто мороз пошел по коже! В этом почти необитаемом краю Клайда особенно поражало множество уединенных озер, о существовании которых он никогда прежде не слыхал. Вся местность, по которой они сейчас ехали так быстро, как только позволяли покрытые непролазной грязью дороги, была испещрена озерами, затерянными среди густых хвойных лесов. И лишь очень редко можно было заметить какие-нибудь признаки жилья, к которому вела едва приметная тропинка либо песчаная или ухабистая дорога, исчезавшая среди темных деревьев. В большинстве берега самых дальних озер были почти необитаемы, и одинокая хижина или далекий домик, видневшиеся над гладью вод какого-нибудь самоцвета в оправе из елей, вызывали всеобщее любопытство. Но почему ему все вспоминается то озеро в Массачусетсе! Та лодка! Тело девушки нашли, а тело ее спутника — нет… Какой все-таки ужас! Потом, сидя у себя в комнате после разговора с Робертой, он вспомнил, что еще через несколько миль машина наконец выехала на открытое пространство в северной части длинного узкого озера. Южную часть его отделял островок или мыс, за которым, должно быть, озеро тянулось еще далеко, с изгибами и поворотами, не видными с того места, где остановился автомобиль. Оно казалось совсем пустынным, если не считать небольшой гостиницы и сарая для лодок в ближнем конце. На всем озере они не увидели в этот час ни одной байдарки или лодки. И как у всех других озер, мимо которых они проезжали, по берегам его, вплоть до самой воды, стояли на страже все те же высокие темно-зеленые островерхие ели с раскидистыми ветвями, совсем как дерево за его окном в Ликурге. А вдалеке на юго-западе вздымались горбатые спины мягко очерченных зеленых Адирондакских гор. По озеру шла рябь от легкого ветерка, вода его, блестевшая на солнце, была густого тона берлинской лазури, почти черная; это означало, как после сообщил проводник, бездельничавший на низкой веранде маленькой гостиницы, что здесь очень глубоко: — Тут все семьдесят футов будет, — и это в каких-нибудь ста футах от пристани. Харлея Бэгота интересовало, хороша ли здесь рыбная ловли (его отец предполагал через несколько дней приехать в эти места), и он спросил у проводника, который, казалось, и не глядел на сидевших в автомобиле: — А какой длины это озеро? — Около семи миль. — А как насчет рыбы? — Закиньте удочку и увидите. Лучшее место во всей округе для рыбы вроде черного окуня. Вон там, за островом, на южной стороне, есть маленькая бухта, так она считается лучшим местом для рыбной ловли на всех здешних озерах. Я раз видел, как двое наловили семьдесят пять рыбин за два часа. Этого, пожалуй, хватит всякому, кто не собирается начисто разорить наше озеро. — И проводник, высокий, сухощавый человек с длинной узкой головой, с лицом, изрезанным морщинами, грубовато засмеялся, оглядывая приезжих маленькими проницательными ярко-голубыми глазами. — Думаете нынче попытать счастья? — Нет, это я не для себя спрашиваю… Может быть, сюда приедет на будущей неделе мой отец. Я хотел знать, можно ли тут прилично устроиться. — Ну, удобства здесь, конечно, не такие, как на озере Рэкет, зато и рыбка там не такая, как у нас. Он улыбнулся хитрой, многозначительной улыбкой. Клайд никогда еще не видел таких людей. Его заинтересовал весь этот уединенный мир, со своими странностями и противоречиями, столь не похожий ни на ту городскую жизнь, какую он только и знал до сих пор, ни на экзотическую роскошь, окружавшую его у Крэнстонов и их друзей. До чего пустынный и странный край, как все здесь непохоже на людный, оживленный Ликург, до которого отсюда меньше ста миль, если идти к югу. — Эти места просто угнетают меня, — заявил Стюарт Финчли. — Так близко от нас — и такая огромная разница! Похоже, что здесь вообще никто не живет. — Да так и есть, — отозвался проводник. — Тут только и попадаются летние лагеря, да кое-кто приезжает осенью поохотиться на оленей и лосей, а больше тут никого не встретишь после первого сентября. Я в этих местах ставлю капканы и служу проводником уже лет семнадцать — и все остается по-старому, разве что больше народу стало приезжать летом на озера вроде Двенадцатого. Нужно здорово знать этот край, если хочешь свернуть куда-нибудь с главных дорог. Правда, в пяти милях западнее проходит железная дорога. Станция Ружейная. Летом от нашей гостиницы туда ходит автобус. И еще есть что-то вроде дороги к Серому озеру и к Бухте Третьей мили. Вы, верно, проезжали по ней: к нам только так и можно добраться. Говорят, что будут прокладывать еще дорогу к Длинному озеру, но пока это одни разговоры. А ко многим здешним озерам и вовсе нет таких дорог, чтобы автомобилю проехать. Одни тропы и даже лагерей приличных нет. Мы с Бадом Эллисом ходили прошлым летом на Серое озеро — это тридцать миль отсюда, — так нам пришлось все тридцать миль идти пешком и весь свой багаж тащить на себе. Но уж зато и рыбы и дичи вдоволь. Олени и лоси приходят сюда на водопой. Видал их так ясно, как вон то бревно на берегу. И Клайду вспомнилось впечатление, с которым он и его спутники уезжали оттуда: едва ли, думалось им, найдется еще где-нибудь такой пустынный край, полный такой таинственности и странного очарования. И подумать только, что это совсем недалеко от Ликурга: каких-нибудь сто миль по шоссе и не больше семидесяти по железной дороге, как он случайно узнал. Теперь, в Ликурге, вернувшись к себе после объяснения с Робертой, он снова увидел на письменном столе газету с заметкой о трагедии на озере Пасс и невольно еще раз тревожно, но решительно пробежал глазами все до последнего слова, — все многозначительные подробности и намеки. Как просто и непринужденно эти двое пришли на пристань; самым обычным образом, не внушая никому никаких подозрений, взяли лодку напрокат, чтобы покататься, и скрылись в северной части озера; а потом — перевернувшаяся лодка и плавающие у берега весла и шляпы… Он читал, стоя у окна; было еще довольно светло. За окном раскинулись темные ветви ели, о которой он думал накануне, — теперь она напомнила ему ели на берегах озера Большой Выпи. Но — великий боже! — что же это? О чем он думает? Он, Клайд Грифитс! Племянник Сэмюэла Грифитса! Что закралось ему в душу? Убийство! Вот что это такое! Эта страшная газета… по воле какого злого рока она все время попадается ему на глаза? Ужаснейшее преступление, и если в нем уличат — посадят на электрический стул. И, кроме того, он никого не может убить, — уж во всяком случае, не Роберту. Нет, нет! Конечно, нет, — после всего, что между ними было… Да, но тот, другой мир… Сондра… он наверняка все потеряет, если теперь же не начнет как-то действовать. Его руки тряслись, веки подергивались, потом трепет охватил его до корней волос, и по всему телу волной пробежала холодная нервная дрожь. Убить! Или по крайней мере опрокинуть лодку на большой глубине — это, конечно, может произойти где угодно и совершенно случайно, как на озере Пасс. И Роберта не умеет плавать. Он это знает. Но все-таки она может спастись… закричать… схватиться за лодку… и тогда… если кто-нибудь окажется поблизости и услышит ее… потом она расскажет!.. Холодный пот выступил у него на лбу, губы дрожали, в горле вдруг пересохло. Чтобы предупредить такую возможность, ему придется… придется… но нет… он не такой. Он не может сделать подобную вещь… ударить кого-нибудь… девушку… Роберту… да еще когда она будет тонуть или постарается выплыть… Нет, нет… только не это! Невозможно! Он взял соломенную шляпу и вышел на улицу, чтобы никто не мог подслушать, как он думает (так он называл это про себя) эти ужасные, страшные думы. Он не мог, не хотел больше думать об этом. Он не такой человек… И все же… и все же эти мысли… Это решение… если он вообще хочет найти решение. Это способ остаться здесь… не уезжать… жениться на Сондре… избавиться от Роберты, от всего… от всего! — надо лишь немного мужества, смелости… Но нет! Он шел все дальше и дальше, за город, по шоссе, которое вело на юго-восток, через бедные, глухие пригороды; здесь он был совсем один и мог думать, — он чувствовал, что здесь никто не подслушает его мыслей. Сумерки сгущались. Там и тут в домах зажигались огни. Очертания деревьев в полях и вдоль дороги становились смутными и расплывчатыми, как дым. И хотя было жарко и воздух безжизнен и недвижим, Клайд шел быстро, обливаясь потом, продолжая думать, — он словно старался обогнать, заглушить в себе, обмануть некое внутреннее «я», которое предпочитало быть неподвижным и думать… Мрачное, уединенное озеро! Остров в южной его части! Кто увидит? Кто услышит? Станция Ружейная, откуда к озеру в летнее время ходит автобус… (Так он вспомнил и это? А, черт!) Ужасно, что это вспомнилось в связи с теми мыслями. Но если вообще думать о таких вещах, так уж лучше обдумать все как следует, — надо признаться себе в этом или же перестать об этом думать раз и навсегда… навсегда… Но Сондра! Роберта! И если его схватят — электрический стул! Да, но ужас его нынешнего положения! Безысходность, тупик! Опасность потерять Сондру! Да, но убить… Он вытер разгоряченное влажное лицо, остановился и посмотрел на группу деревьев среди поля, — они чем-то напомнили ему те деревья… там… не нравится ему эта дорога. Становится слишком темно. Лучше возвратиться в город. Но та дорога, ведущая к югу, к Бухте Третьей мили и к Серому озеру… По ней можно дойти до Шейрона и до виллы Крэнстонов. Он мог бы пойти по ней после… Боже! Озеро Большой Выпи… в сумраке деревья на берегу будут похожи на вот эти — неясные и угрюмые. Это должно случиться под вечер, конечно. Никому и в голову не придет попробовать… словом… сделать это… утром, когда так светло… Так поступил бы только дурак. Но вечером, в сумерки, вот как теперь, или немного позже… Но нет, к чертям эти мысли, он не желает их слушать! И однако… никто, наверно, не увидит там ни его, ни Роберту. Это так просто — поехать куда-нибудь на озеро, хотя бы на Большую Выпь… под предлогом свадебного путешествия… скажем, четвертого июля… или позже — после пятого, когда там будет меньше народу. И записаться не под своей фамилией… под чужой, чтобы не оставить следов… И потом так просто вернуться в Шейрон и на дачу к Крэнстонам поздно вечером или, может быть, рано утром на следующий день и сказать, что он приехал с утренним поездом, который приходит около десяти… А потом… К черту! Почему его сознание упорно возвращается к этой мысли? Неужели он в самом деле замышляет такое? Да нет же! Он не может! Он, Клайд Грифитс, не может серьезно думать ни о чем подобном. Это невозможно. Он не может, нет. Это невозможно и слишком гнусно, нельзя даже представить себе, что он, Клайд Грифитс, способен совершить подобный поступок. И все же… И тотчас в нем настойчиво заговорило гнетущее сознание собственной никчемности и неспособности к такому мрачному преступлению. Он решил вернуться в Ликург, — там по крайней мере он будет среди людей.
Глава 64
У людей с болезненной чувствительностью и обостренным воображением, если их интеллект — притом не наделенный особой силой — сталкивается с трудной и сложной задачей, бывают такие минуты, когда рассудок, еще не сброшенный со своего пьедестала, все же выходит из равновесия и корчится, словно в пламени; когда человек потрясен и сознание до того одурманено, что — по крайней мере на время — безрассудство или смятение, заблуждение или ошибка могут одержать верх над всем остальным. В таких случаях воля и мужество, встретив серьезные трудности, которых они не могут ни перенести, ни победить, как бы отступают, обращаются в поспешное бегство, оставляя место панике и временному безумию. И рассудок Клайда можно было сравнить теперь с маленькой разбитой армией, бегущей перед сильным противником; иногда среди поспешного бегства она останавливается на мгновение, обдумывая, как спастись от полного разгрома, — и в своем паническом страхе хватается за самые роковые, самые рискованные планы спасения от грозящей и совершенно неизбежной судьбы. Взгляд Клайда становился напряженным, порою безумным; минута за минутой, час за часом он снова и снова возвращался все к тем же мыслям и поступкам, проверяя их шаткое равновесие. Но выхода не было — нигде ни малейшей лазейки. И тогда снова напрашивалось решение, как будто подсказанное газетной заметкой, но психологически порожденное его собственными мучительными, страстными и безуспешными поисками выхода и потому особенно навязчивое. В самом деле, словно из глубин какого-то низшего или высшего мира, о существовании которого он никогда не догадывался и куда ни разу не проникал, из мира, находящегося вне жизни и смерти и населенного совсем иными существами, чем он сам, — как дух от случайного прикосновения к лампе Аладдина, как джин, возникший в виде дыма из таинственного кувшина, попавшего в сеть рыбака, перед ним вдруг предстал некий коварный, дьявольский замысел, таившийся в его душе, чудовищный, но властный, коварный, но манящий, дружелюбный, но жестокий; он предоставлял Клайду выбор между злом, грозившим ему гибелью (несмотря на его сильнейшее сопротивление), и другим злом, которое хотя и наполняло его душу отвращением и жгучим ужасом, но все же обещало впереди свободу, успех и любовь. Его мозг можно было в это время сравнить с запертым безмолвным залом, где, против собственной воли, он оказался в полном одиночестве и вот размышляет над таинственными и страшными желаниями или советами какой-то темной, первобытной части своего «я», не в силах ни отречься от нее, ни бежать и не находя в себе мужества как-либо действовать. Ибо теперь заговорило его худшее и слабейшее «я». Оно говорило: «Хочешь избежать требований Роберты, которые доныне, до этой самой минуты, казались тебе совершенно неотвратимыми? Слушай! Я укажу тебе путь. Он ведет через озеро Пасс. Та газета — ты Думаешь, напрасно она Попала тебе в руки? Вспомни Большую Выпь, глубокую иссиня-черную воду, остров на юге, пустынную дорогу к Бухте Третьей мили. Как раз то, что тебе нужно. Перевернись лодка или байдарка на таком озере — и Роберта навсегда уйдет из твоей жизни. Она не умеет плавать! Озеро… то озеро… которое ты видел, которое я показал тебе… разве оно не идеально подходит для этой цели? Такое уединенное, редко посещаемое и в то же время сравнительно близкое — не больше ста миль отсюда. И как просто вам с Робертой отправиться туда, — как будто в это мнимое свадебное путешествие, о котором вы уже уговорились. Ты должен сделать только одно — изменить свою и ее фамилии… или даже и этого не нужно. Пусть она сохранит свою, а ты — свою. Ты никогда не позволял ей говорить о тебе и ваших отношениях, и она никому не говорила. Ты писал ей только самые официальные записки. И теперь, если ты встретишься с ней где-нибудь, как вы уже уговорились, и никто вас не увидит, ты можешь отвезти ее на озеро Большой Выпи или куда-нибудь по соседству, как раньше ездил с ней в Фонду». «Но на Большой Выпи нет гостиницы, — тотчас поправил Клайд, — просто лачуга, где могут поместиться лишь несколько человек, да и то кое-как» «Тем лучше. Значит, там будет меньше народу». «Но нас могут заметить по дороге, в поезде. Меня потом опознают как ее спутника». «Разве вас заметили в Фонде иди Гловерсвиле? Вы всегда ездили в разных вагонах иди купе, — разве нельзя и теперь сделать то же? Ведь предполагается, что это будет тайный брак, — тогда почему же не тайный медовый месяц?» «Верно… верно». «И когда все будет устроено и вы приедете на озеро Большой Выпи или на какое-нибудь другое — их столько кругом, — как просто будет поехать покататься на лодке! Никаких вопросов. Никаких записей под твоей или ее фамилией. Нанять лодку на час, или на полдня, или на день. Ты видел остров в южной части того пустынного озера. Правда, красивый остров? Его стоит осмотреть. Почему бы не совершить такой приятной прогулки перед свадьбой? Роберта будет очень рада… она теперь так утомлена и измучена, а тут — загородная прогулка… отдых перед испытаниями новой жизни. Ведь это разумно? Правдоподобно? И, очевидно, ни один из вас не вернется. Вы оба утонете, не так ли? Кто может вас увидеть? Один или два проводника, лодочник, который даст вам лодку, хозяин гостиницы. Но откуда им знать, кто ты или кто она. А ты слышал, как там глубоко?» «Но я не хочу ее убивать, не хочу убивать. Не хочу причинять ей никакого вреда. Если только она согласится отпустить меня и пойти своей дорогой, я буду так рад, так счастлив больше никогда ее не видеть». «Но она не отпустит тебя и не пойдет своей дорогой, если ты не пойдешь с нею. Если же ты от нее убежишь, значит, потеряешь Сондру, и все, что связано с Сондрой, и все удовольствия твоей здешней жизни: свое положение у дяди, у его друзей, их автомобили, танцы, поездки на дачу. А что потом? Ничтожное место! Ничтожный заработок! Снова скитания, как после несчастья в Канзас-Сити. Больше никогда и нигде не представится тебе такой счастливый случай. Ты предпочитаешь это?» «Но ведь и здесь возможен какой-нибудь несчастный случай, который разрушит все мои мечты… мое будущее… как было в Канзас-Сити?» «Несчастный случай? Конечно… но только не такой. Теперь весь план в твоих руках… Ты можешь устроить все, как пожелаешь. И как это просто! Сколько лодок опрокидывается каждое лето… и катающиеся тонут, потому что большинство не умеет плавать. А откуда станет известно, умел ли плавать мужчина, который был на озере с Робертой Олден? Ведь из всех видов смерти самый легкий — утонуть… ни шума, ни крика… может быть, случайный удар веслом или бортом лодки… А потом безмолвие! Свобода… Труп никогда не будет найден. Или, если он будет найден и опознан, разве не легко будет сделать вид (дай лишь себе труд подумать об этом), что ты был в другом месте, на каком-нибудь другом озере, прежде чем отправился на Двенадцатое. Чем плохо придумано? Где тут уязвимое место?» «Но предположим, я опрокину лодку, а Роберта не утонет. Что тогда? Она будет цепляться за лодку, кричать, ее спасут, и потом она расскажет, что я… Нет, я так не могу… и не хочу. Я не ударю ее. Это слишком страшно, слишком подло…» «Но легкий удар… самого легкого удара при таких обстоятельствах достаточно, чтобы оглушить ее и все кончить. Печально, да, но ведь у нее есть возможность идти своей дорогой, не так ли? А она не хочет — и не дает тебе идти твоей. Что ж, в таком случае… разве это уж так несправедливо? И не забывай, что тебя ждет Сондра… красавица Сондра… жизнь с нею в Ликурге… богатство, высокое положение в обществе, — нигде и никогда больше ты не добьешься ничего подобного… никогда… никогда! Любовь и счастье… и будешь из первых в ликургском обществе… даже выше, чем твой двоюродный брат Гилберт». Голос умолк на время, затерявшись в сумраке… в тишине… в мечтах… Но Клайд, обдумывая все слышанное, не был, однако, им убежден. Темные опасения или лучшие чувства заглушали советы голоса, звучавшего в большом зале. Но стоило Клайду подумать о Сондре, обо всем, что она олицетворяет, а потом о Роберте, — таинственный некто тотчас же возвращался, еще более хитрый и вкрадчивый. «А, все еще размышляешь о том же! И не находишь выхода — и не найдешь. Я указал тебе верный путь, спасительный, единственный путь… единственный путь: через озеро. Разве так трудно, катаясь по нему, отыскать какой-нибудь укромный уголок, незаметную бухточку поближе к южному берегу, где вода глубока? И как легко оттуда пройти лесом к Бухте Третьей мили или к Серому озеру! А оттуда к Крэнстонам. Туда ходит пароходик, ты же знаешь. Фу, какая трусость! Какое малодушие! Ведь ты можешь приобрести то, чего больше всего жаждешь: красоту, богатство, положение в обществе… утолить все свои материальные и духовные желания. А в противном случае — бедность, скука, тяжелый, плохо оплачиваемый труд… Ты должен сделать выбор! И потом — действовать. Ты должен! Должен! Должен!» Так закончил голос, глухо раздававшийся откуда-то из дальнего угла огромного зала. И Клайд слушал — сначала с ужасом и отвращением, потом с бесстрастным философским спокойствием человека, которому, каковы бы ни были его мысли и поступки, все же дано право обдумывать даже самые дикие, самые отчаянные планы спасения. Под конец, из-за присущей ему духовной и физической склонности к наслаждениям и мечтам, которую он не в силах был преодолеть, он внутренне до того запутался, что такой выход стал казаться ему возможным. Почему бы и нет? Ведь — как говорил тот голос — это единственно разумный и доступный выход… совершить одно лишь злое дело — и тогда исполнятся все желания и все мечты. Однако Клайд, при болезненной слабости своей шаткой и крайне изменчивой воли, не мог решить трудную задачу при помощи таких соображений… ни тогда, ни в последующие десять дней. В сущности, предоставленный самому себе, он никогда не мог бы решиться и не решился бы на такой шаг. Как всегда, ему оставалось либо ждать, что его заставят действовать, либо отказаться от этой дикой, ужасной мысли. Но в это время пришло много писем — семь от Роберты, пять от Сондры, — и первые мрачными, а вторые самыми радужными красками с поразительной наглядностью подчеркнули противоположные стороны лежавшего перед Клайдом страшного ребуса. На мольбы Роберты, как ни были они убедительны и угрожающи, Клайд не решился ответить даже по телефону: он рассудил, что отвечать — значит только ускорить ее гибель — решительную развязку, подсказанную ему трагедией на озере Пасс. В то же время в нескольких письмах Сондре он дал волю самым страстным признаниям… Его дорогая, его чудесная девочка!.. Он так мечтал утром четвертого июля приехать на Двенадцатое озеро… Он безумно жаждет снова увидеть ее! Но увы! — писал он также (настолько он был не уверен даже и теперь в том, что будет делать), — некоторые обстоятельства в связи с работой могут задержать его на день, два или три, — он еще не может сказать точно, но напишет ей не позднее второго числа, когда все окончательно выяснится. И при этом он говорил себе: если б только она знала, что за обстоятельства… если бы только знала! Но и написав это — и притом не ответив на последнее настойчивое письмо Роберты, — он все-таки продолжал говорить себе, что это еще вовсе не значит, будто он рассчитывает поехать с Робертой, а если даже и так, — это вовсе не значит, что он собирается ее убить. Ни разу он честно — или, вернее сказать, прямо, смело, хладнокровно — не признался себе, что задумал совершить такое жестокое преступление. Наоборот, чем ближе подходил он к окончательному решению, тем более отвратительной и страшной представлялась ему эта мысль, отвратительной и почти неосуществимой, и потому все невероятнее казалось, что он когда-либо это сделает. Правда, в иные минуты, — по обыкновению, споря с собой, внутренне содрогаясь и отступая перед всеми. ужасами, какими грозили мораль и правосудие, — он думал о том, что можно бы съездить на озеро Большой Выпи, чтобы успокоить Роберту, которая сейчас так донимает его своими настояниями и угрозами, и, значит (снова отговорка, увертка перед самим собой), получить еще отсрочку, возможность окончательно обдумать, как же ему быть. Путь через озеро. Путь через озеро. Но по приезде на озеро — будет ли целесообразно так поступить, нет ли… как знать. Может быть, он даже сумеет переубедить Роберту. Ведь что ни говорите, а она, конечно, поступает очень несправедливо, она слишком многого от него требует. Поглощенный роковой мечтой о Сондре, он считал, что Роберта напрасно делает такую грандиозную трагедию из самого обыкновенного случая. Если уж говорить прямо, она оказалась в таком же положении, как и Эста. Однако Эста никого не пыталась на себе женить. А чем Олдены, бедные фермеры, лучше его собственных родителей, бедных проповедников? И чего ради так беспокоиться о том, что подумают родители Роберты, — ведь Эста вовсе не думала, каково будет ее родителям? Что бы там ни говорила Роберта о его вине, разве она сама ни в чем не виновата? Да, конечно, он старался обольстить и соблазнить ее, если угодно, — пусть так, но разве это снимает вину с нее? Разве она не могла отказать ему, если уж она была так строго нравственна? Но она этого не сделала. А что касается несчастья, которое случилось с ней по его вине, — так разве он не сделал все, что мог, чтобы ее выручить? К тому же у него так мало денег. И положение у него такое сложное. Нет, она достойна порицания в такой же мере, как и он. И, однако, Роберта упорно толкает его на этот путь, настаивает на браке, тогда как, согласись она пойти своей дорогой, — а почему бы ей этого не сделать при его помощи? — она избавила бы и его и себя от всех ужасов. Но нет, она не желает, — ну, а он не желает жениться на ней, вот и все! Напрасно она думает, что сможет его заставить. Нет, нет, нет! По временам, приходя в подобное настроение, он чувствовал, что способен на все, что с легкостью утопит Роберту и она сама будет в этом виновата. А потом возвращалось устрашающее сознание того, что подумают в обществе и как поступят, когда узнают, и что он сам впоследствии должен будет думать о себе. И Клайд убеждался, что, как ни велико его желание остаться в Ликурге, он не способен действовать и, следовательно, должен бежать отсюда. Так прошли вторник, среда и четверг после последнего письма Роберты, полученного в понедельник. А в четверг вечером (и его и Роберту весь этот день терзали тяжелые мысли) Клайд получил следующее письмо: «Бильц, среда, 30 июня. Дорогой Клайд! Предупреждаю тебя, что, если я не дождусь от тебя телефонного звонка или письма до полудня пятницы, я приеду в Ликург в тот же вечер, и все узнают, как ты со мной поступил. Я не могу и не стану ждать и мучиться ни часу больше. Мне жаль, что я вынуждена сделать такой шаг, но все это время ты так упорно молчишь, а суббота — уже третье июля, и я ничего не знаю о твоих намерениях и планах. Вся моя жизнь разбита, и твоя тоже будет отчасти испорчена, но не я одна в этом виновата. Я сделала все, что могла, чтобы облегчить тебе эту жертву, и, конечно, мне очень тяжело причинять столько горя моим родителям и друзьям и всем, кто тебе дорог, тоже. Но я ни часу больше не стану ждать и мучиться. Роберта». Держа это письмо в руках, Клайд оцепенел от сознания, что теперь он, безусловно, должен действовать. Она приезжает! Если только он не сумеет успокоить ее и как-нибудь задержать, завтра, второго, она будет в Ликурге… Однако ни второго, ни третьего он не может ехать с нею, это возможно лишь после четвертого июля. В праздничные дни везде будет слишком много народу, их могут увидеть, узнать… А тут нужно все держать в тайне. И ему нужно еще немного времени, чтобы подготовиться. Теперь он должен быстро все обдумать и затем — действовать. Великий боже! Подготовиться. Может быть, сказать ей по телефону, что он был болен, или слишком озабочен поисками денег, или еще что-нибудь в этом роде, и потому не мог писать… и что, кроме того, дядя пригласил его на Лесное озеро как раз на четвертое. Дядя! Дядя! Нет, это не годится. Он слишком часто ссылался на дядю. И какое теперь имеет значение для него или для нее, увидится ли он лишний раз с дядей. Ведь он уезжает из Ликурга навсегда, так он говорил Роберте. Пожалуй, самое лучшее — сказать ей, что он отправляется к дяде, чтобы как-то объяснить ему свой отъезд: может быть, тогда он сумеет вернуться сюда, скажем, через год. Она этому поверит. Во всяком случае, он должен сказать ей что-нибудь, что успокоит ее и задержит в Бильце хотя бы до пятого, до тех пор, пока он не составит окончательного плана… пока не приготовится сделать либо одно, либо другое… Одно либо другое… Не медля ни минуты, не раздумывая больше, он бросился к ближайшему телефону, где его вряд ли могли подслушать. Он вызвал Роберту и приступил к длинным, уклончивым и на сей раз вкрадчивым объяснениям; он уверял ее, что был по-настоящему болен, простужен, не выходил из дому и потому не мог добраться до телефона… далее, он решил, что ему следует как-то объясниться с дядей, чтобы иметь возможность когда-нибудь впоследствии сюда вернуться… Он говорил самым умоляющим и почти ласковым тоном, просил Роберту понять, в каком состоянии он был в эти дни, — и в конце концов не только сумел заставить ее поверить, будто в самом деле есть какие-то оправдания его медлительности и молчанию, но и изложил ей свой новый план. Пусть она подождет до шестого, — и тогда он наверняка, непременно встретит ее в любом месте, какое она выберет, — в Гомере, Фонде, Ликурге, Литл-Фолз… Но поскольку они хотят сохранить все в тайне, он предложил бы ей приехать шестого утром в Фонду, чтобы дневным поездом выехать в Утику. Там они смогут переночевать, — нельзя же им обсуждать свои планы и принимать решения по телефону, — а затем поступят так, как будет решено. Кроме того, он тогда сможетрассказать ей подробнее, как именно, по его мнению, им надо действовать. У него явилась одна идея — совершить маленькое путешествие, прежде чем они поженятся, или после, как ей захочется… но… во всяком случае, это будет приятная прогулка… (При этих словах голос его стал хриплым, а колени и руки слегка задрожали, но Роберта не могла заметить его внезапного смятения.) Она не должна сейчас его расспрашивать. Он не может рассказать ей все по телефону. Но шестого в полдень он непременно будет на вокзале в Фонде. Когда она увидит его, ей останется только купить билет до Утики и сесть в вагон, а он купит билет отдельно и сядет в другой вагон, в соседний. Если она не увидит его на станции до отхода поезда, он пройдет по вагону, чтобы она видела, что он здесь, но не больше: ей не следует с ним заговаривать. В Утике она сдаст на хранение свой чемодан, а он пройдет за ней до ближайшего спокойного уголка, потом сходит за ее вещами, они вместе отправятся в какую-нибудь скромную гостиницу, а обо всем остальном он позаботится сам. Она должна сделать, как он говорит. Может же она настолько ему поверить! Тогда он позвонит ей завтра — третьего и потом, конечно, утром шестого; таким образом, оба они будут знать, что все в порядке: что она выезжает, а он будет на месте. Что? Она хочет взять с собой сундучок? Маленький? Конечно, раз он ей нужен, пусть возьмет. Но на ее месте он не стал бы сейчас брать с собой много вещей. Когда они устроятся где-нибудь, нетрудно будет переслать все, что ей понадобится. Клайд говорил все это, стоя в телефонной будке в маленькой аптеке на окраине (аптекарь сидел в задней комнатушке, среди своих банок и склянок, погруженный в чтение какого-то глупого романа), и казалось, великан-джинн, что прежде являлся в молчаливом зале в его мозгу, снова встал за его плечом, — поистине это он говорил устами Клайда, а не сам Клайд, застывший, оцепеневший, испуганный. «Поезжай на то озеро, где ты был вместе с Сондрой! Достань путеводитель по этой местности в отеле «Ликург» или на вокзале. Плыви к южному концу озера, а после оттуда иди на юг. Выбери лодку, которая легко опрокидывается, — лодку с круглым дном, какие ты видел на озере Крам и на других здешних озерах. Купи новую шляпу, не похожую на твою, чтобы она не могла тебя выдать, и оставь ее на воде. Можно даже вырвать подкладку, чтобы неизвестно было, где куплена шляпа. Уложи все свои вещи в сундук, но оставь его дома; в случае неудачи можно будет, вернувшись сюда, тотчас взять его и скрыться. Возьми с собой только такие вещи, которые ты мог бы взять для поездки на дачу, на Двенадцатое озеро, а не для окончательного отъезда; если тебя разыщут на Двенадцатом озере, все будет выглядеть так, словно ты только туда и ехал, — никуда больше. Скажи Роберте, что ты намерен с ней обвенчаться, но после того, как вы вернетесь из этой поездки, не раньше. И если будет необходимо, нанеси легкий удар — только чтобы оглушить ее, не больше… чтобы, упав в воду, она легче потонула. Не бойся! Не будь слабым! Пройди через лес вечером, а не днем, — чтобы тебя могли увидеть только в Шейроне или в Бухте Третьей мили и чтобы ты мог сказать, что приехал с озера Рэкет, или с Длинного, или из Ликурга. Называй себя вымышленным именем и, насколько можешь, меняй почерк. Твердо верь в успех. И говори с Робертой тихо, совсем тихо, — мягко, нежно, даже влюбленно. Так надо, чтобы подчинить ее теперь твоей воле». Так говорило его второе, темное «я».Глава 65
И вот вторник шестого июля, полдень, платформа на станции железной дороги, соединяющей Утику с Фондой; Роберта выходит из поезда, который пришел из Бильца, чтобы ждать здесь Клайда, — поезд, которым они поедут в Утику, придет только через полчаса. И спустя четверть часа сам Клайд выходит из боковой улицы и приближается к станции с южной стороны, так что Роберта не может его видеть, — он же, обойдя западный угол вокзала и остановившись за грудой корзин, может наблюдать за ней. До чего же она бледная и худая! И в противоположность Сондре как плохо одета: в синем дорожном костюме и коричневой шляпке, купленных для этого случая, — предвестие скудной и нелегкой жизни, так не похожей на ту, которую предлагает ему Сондра. И Роберта думает заставить его отказаться от Сондры ради женитьбы на ней, — и выпутаться из этих брачных уз ему удастся в лучшем случае тогда, когда Сондра и все, что в ней воплощено, станет лишь воспоминанием. Как по-разному относятся к нему эти две девушки: Сондра, все имея, все ему предлагает и ничего не требует; Роберта, не имея ничего, требует все. Глухое и горькое чувство обиды охватило Клайда, и он с невольной симпатией подумал о том неизвестном мужчине с озера Пасс и в глубине души пожелал ему успеха. Может быть, и он был точно в таком же положении. И, может быть, в конце концов он именно так и сделал, поэтому его и не нашли. Нервы Клайда были натянуты до предела. Взгляд стал мрачным, злым и тревожным. Сойдет ли успешно и на этот раз? И вот он на одном перроне с Робертой (результат ее упорных и неразумных требований) и должен подумать о том, как бы смело и быстро осуществить планы, Которые он вынашивал четыре дня — с тех пор как говорил с ней по телефону (а более смутно — еще и в предыдущие десять дней). Он принял решение — и теперь ничто не должно стать у него на пути. Он должен действовать! Он не допустит, чтобы страх помешал ему осуществить задуманное. И он шагнул вперед, чтобы Роберта увидела его, и при этом взглянул на нее многозначительно и как будто дружески, словно говоря: «Видишь, я здесь». Но что скрывалось за этим взглядом! Если бы только она могла проникнуть глубже под эту маску и почувствовать его мрачное и страшное настроение, как поспешно она убежала бы! Но теперь, когда она увидела, что он в самом деле приехал, мрачная тень, затаившаяся в ее глазах, исчезла, опущенные углы губ расправились; Не показывая вида, что узнала его, она тем не менее вся расцвела и тотчас пошла к кассе, чтобы, согласно наставлениям Клайда, купить билет в Утику. Наконец, наконец-то он приехал, думала Роберта. Теперь он ее увезет. Душа ее преисполнилась благодарности. Ведь они проживут вместе по меньшей мере семь или восемь месяцев. Должно быть, потребуются и такт и терпение для того, чтобы все шло гладко, а все-таки, наверно, это возможно. Отныне она должна быть воплощенной осторожностью — не говорить и не делать ничего, что может почему-либо рассердить Клайда, — ведь, естественно, он будет сейчас не слишком хорошо настроен. Но он, кажется, немного переменился… Может быть, он будет добрее к ней, будет ей немножко больше сочувствовать… Похоже, что он наконец искренне и добровольно подчинился неизбежному. И в то же время, увидев его светло-серый костюм, новую соломенную шляпу, до блеска начищенные ботинки, чемодан темной кожи и — тут он проявил странную рассеянность и легкомыслие — штатив недавно купленного фотографического аппарата, вместе с теннисной ракеткой в парусиновом чехле прикрепленный ремнями к чемодану (главным образом для того, чтобы скрыть инициалы «К.Г.»), она снова ощутила былую нежность и влечение к нему. Ей нравились и его внешность и его характер. Хоть он теперь и равнодушен к ней, а все-таки он ее Клайд! Увидев, что она купила билет, Клайд, в свою очередь, подошел к кассе, затем снова понимающе посмотрел в сторону Роберты, словно говоря взглядом, что все хорошо, и вернулся на восточный конец платформы; Роберта тоже вернулась на прежнее место. (Почему этот старик в старом Зимнем коричневом костюме и шапке, с птичьей клеткой в оберточной бумаге, так на него смотрит? Неужели он что-то почувствовал? Неужели он его знает? Может быть, он работал в Ликурге и видел его раньше?) Надо купить сегодня в Утике вторую соломенную шляпу — только бы не забыть — соломенную шляпу со штампом местного магазина на подкладке; он наденет ее вместо той, которая на нем сейчас. Когда Роберта не будет на него смотреть, он спрячет старую шляпу в свой чемодан вместе с другими вещами. Для этого ему придется оставить Роберту на несколько минут, когда они приедут в Утику, — на вокзале, в библиотеке, где-нибудь… может быть, — таков был его первоначальный план, — он отвезет ее в какой-нибудь маленький отель и запишется там, как мистер Карл Грэхем с супругой, или Клифорд Голден, или Геринг (на фабрике была девушка с такой фамилией). Таким образом, если их выследят, возникнет предположение, что она уехала с каким-то мужчиной, носящим эту фамилию. (Вдалеке — свисток паровоза. Поезд должен сейчас подойти. Его часы показывают двадцать семь минут первого.) Надо решить, как держаться с нею в Утике: ласково и сердечно или холодно. По телефону, правда, он говорил с нею очень мягко, дружелюбно, иначе нельзя было. Пожалуй, следует продолжать в том же духе, не то она начнет раздражаться, станет подозрительной, упрямой — и тогда все будет очень трудно и сложно. (Да подойдет ли когда-нибудь этот поезд?) Но ему будет очень нелегко быть таким приветливым, — ведь в конце концов она командует им, хочет, чтобы он выполнял ее требования, и еще обращайся с нею ласково! Проклятие! Да, но если он не будет ласковым?.. Вдруг она как-нибудь разгадает его мысли, откажется поехать с ним и разрушит все его планы… (Только бы колени и руки не дрожали так!) Но нет, как она может заподозрить что-либо подобное, когда он и сам еще не вполне уверен, сможет ли это сделать. Ясно только одно: не уедет он с ней никуда, и все тут. Может быть, он и не перевернет лодку, как решил накануне, но все равно с нею не уедет. Но вот и поезд. Роберта поднимает свой чемодан. Не слишком ли он тяжел для нее в ее теперешнем положении? Вероятно, тяжел. Да, нехорошо. К тому же сегодня очень жарко. Во всяком случае, он поможет ей после, когда они будут в таком месте, где никто их не увидит. Она смотрит в его сторону — хочет удостовериться, что он действительно поедет; как это на нее похоже, — в последние дни она относится к нему так подозрительно, недоверчиво. А вот и свободное место в глубине вагона, на теневой стороне. Здесь недурно. Он устроится поудобнее и будет смотреть в окно. Тут, как раз за Фондой, в каких-нибудь двух милях, есть река — тот самый Могаук, что протекает через Ликург, мимо фабрики; по берегам его они с Робертой гуляли в прошлом году, примерно в это же время. Но теперь Клайду неприятно это воспоминание, и он переводит взгляд на купленную только что газету и, прикрывшись ею, как щитом, снова во всех подробностях представляет себе картину, которая занимает его сейчас гораздо больше, — местность вокруг озера Большой Выпи: после того решающего разговора с Робертой по телефону она интересует его больше всей остальной географии мира. В пятницу, после того разговора, он зашел в отель «Ликург» и взял там три различных путеводителя с описаниями отелей, дач, гостиниц и других мест, где можно остановиться в глухих окрестностях озер Большой Выпи и Длинного. (Если бы можно было как-нибудь добраться до одного из тех совершенно безлюдных озер, о которых говорил проводник на Большой Выпи… Только, пожалуй, на таких озерах нет никаких лодок!) А потом в субботу он взял на вокзале еще четыре путеводителя (они сейчас у него в кармане). И все они подтверждают, что вдоль вот этой самой железной дороги, ведущей на север к Большой Выпи, есть множество маленьких озер и гостиниц, где они с Робертой могут остановиться на день-два, если она захочет, или, во всяком случае, на ночь, прежде чем отправиться на озеро Большой Выпи или Луговое. Клайд обратил особое внимание на это последнее озеро — очень красивое и недалеко от станции, как говорилось в путеводителе; там есть три недурных маленьких пансиона, и плата за двоих всего двадцать долларов в неделю. Значит, если они вдвоем остановятся там на ночь, это обойдется не дороже пяти долларов. Итак, он скажет Роберте, как и придумал за эти дни, что ей необходимо немного отдохнуть перед отъездом в чужие места; скажет, что если они съездят на Луговое озеро в тот же вечер, как приедут в Утику, или на следующее утро и переночуют там, то это будет стоить, как говорится в путеводителе, не очень дорого — около пятнадцати долларов, считая проезд и все остальные расходы. Он изобразит это как приятную маленькую экскурсию, своего рода, свадебное путешествие перед тем, как они обвенчаются. И ни в коем случае нельзя уступать, если она захочет, чтобы они сначала обвенчались, — это не годится. (Пять птиц летят к рощице, что виднеется вон там, у подножия холма…) Конечно, нельзя ехать прямо из Утики на Большую Выпь только ради катания по озеру — на один день — за семьдесят миль. Это покажется странным и Роберте и кому угодно. Это может даже вызвать у нее подозрения. Может быть, лучше — поскольку в Утике ему нужно будет ненадолго оставить ее, чтобы купить себе шляпу, — провести эту первую ночь именно в Утике, в каком-нибудь скромном, недорогом отеле, и только потом предложить поездку на Луговое озеро. А оттуда они наутро отправятся на озеро Большой Выпи. Он скажет, что там красивее… или что они едут в Бухту Третьей мили (в сущности, простую деревушку), где можно будет обвенчаться, но по дороге для развлечения заглянут на Большую Выпь. Он скажет, что хочет показать ей озеро и сделать несколько снимков — сфотографировать ее и себя. Для этого он и взял аппарат… и для того чтобы потом снимать Сондру. Какой мрачный замысел! (А вот девять белых и черных коров на зеленом склоне холма.) Глядя на его чемодан с привязанным сбоку штативом и теннисной ракеткой в чехле, встречные станут думать, что он и Роберта проезжие туристы, прибывшие откуда-то издалека, и если они оба исчезнут… ну что ж, ведь они нездешние… Разве не сказал проводник, что в этом озере семьдесят пять футов глубины, — как на озере Пасс? А что касается чемодана Роберты… да, как быть с чемоданом? Раньше он об этом как-то не подумал. (Вон три автомобиля, они мчатся почти так же быстро, как поезд.) Ну вот, они переночуют на Луговом озере и двинутся дальше: он скажет Роберте, что они обвенчаются в Бухте Третьей мили, на Сером озере, где живет знакомый ему пастор; он уговорит ее оставить чемодан на станции Ружейной, — оттуда они поедут автобусом до озера Большой Выпи, — а свой чемодан возьмет с собой. Он просто скажет кому-нибудь — хотя бы лодочнику или шоферу автобуса, — что там у него фотографический аппарат, и спросит, где здесь самые красивые виды. Или в чемодане будет завтрак. Пожалуй, эта мысль лучше: взять с собой завтрак и этим заодно обмануть в Роберту и шофера. Это тоже может ввести в заблуждение, не так ли? Многие кладут фотоаппарат в чемодан, когда едут на озеро. Во всяком случае, ему совершенно необходимо взять чемодан с собой. Иначе для чего этот план — проплыть к острову и оттуда идти лесами на юг? (Какой безобразный, ужасный план! Неужели он его исполнит?) Но как странно кричала та птица на озере! Большая Выпь… Не хотел бы он еще раз услышать ее или увидеть того проводника: проводник может теперь его вспомнить. Правда, Клайд совсем не разговаривал с ним и даже не выходил из автомобиля, а только смотрел в окно… и, насколько он может вспомнить, проводник ни разу даже не взглянул на него, а говорил только с Грэнтом Крэнстоном и Харлеем Бэготом, которые вышли из машины и беседовали с ним. А вдруг все-таки этот проводник будет там и узнает его? Нет, не может быть, ведь проводник, в сущности, его не видел, да и не обязательно ему быть на Большой Выпи… Но почему так дрожат колени, и руки теперь всегда такие холодные, влажные… (Поезд следует за всеми поворотами реки… а прошлым летом они с Робертой… Не надо…) Как только они приедут в Утику, нужно сделать вот что (и он должен хорошенько все запомнить и ни в коем случае не теряться. Сбиться нельзя… никак нельзя…) На улице он пропустит Роберту вперед и пойдет за нею, скажем, на расстоянии сотни шагов, чтобы никто не мог подумать, будто он ее провожает. А потом, когда они будут где-нибудь совсем одни, он догонит ее и объяснит ей все свои планы… и при этом будет очень ласков, как будто любит ее по-прежнему… так надо, раз он хочет, чтобы она была сговорчива. А потом… потом… ах, да… она подождет где-нибудь, пока он пойдет и купит эту вторую шляпу, которая… ну, которую он, может быть, оставит потом на воде. И весла тоже, конечно. И ее шляпу… и… (Как протяжен, печален свисток этого поезда. Проклятие! Он уже нервничает!) Но прежде чем идти в гостиницу, надо будет вернуться на вокзал и положить новую шляпу в чемодан; лучше даже носить его с собой, пока не удастся подыскать подходящую гостиницу, и тогда уже, перед тем как пойти за Робертой, купить шляпу и спрятать в чемодан. Затем он проводит Роберту до гостиницы, и она будет ждать его у входа, пока он не принесет чемоданы. И, конечно, если поблизости никого не будет, они войдут в гостиницу вместе; только пускай она побудет хотя бы в дамской комнате, пока он не запишется в книге посетителей… На этот раз, скажем, под именем Чарльза Голдена. Ну, а наутро, если она согласится, или даже сегодня, если только есть подходящий поезд (это он узнает), они могут поехать на Луговое озеро — опять в разных вагонах, — во всяком случае, пока не проедут Двенадцатого озера и Шейрона. (Там — великолепная дача Крэнстонов… и Сондра.) А потом… потом… (А вот большой красный амбар и по соседству — маленький белый домик. И ветряная мельница. Совсем такие же амбары и домишки он видел в Иллинойсе и Миссури. И в Чикаго тоже.) А в это время Роберта, сидя в соседнем вагоне, думала, что Клайд, видимо, не очень уж недружелюбно настроен. Конечно, ему тяжело вот так, поневоле, уезжать из Ликурга, где он может развлекаться, как ему хочется. Но, с другой стороны, что же ей было делать… У нее не было никакого другого выхода. Теперь она должна быть веселой и доброй, но не слишком навязчивой и не докучать ему. Однако не следует быть чересчур покладистой и мягкой, ведь в конце концов это Клайд виноват во всем, что с ней случилось. И то, что он делает теперь, только справедливо и не так уж много… У нее будет ребенок, ей предстоит столько тревог и забот… И потом еще придется объяснить родителям всю эту таинственность, свое теперешнее внезапное исчезновение и брак, если только Клайд в самом деле с ней обвенчается. Но она должна настоять на этом… и поскорее… может быть, в Утике… в первом же месте, куда они приедут… и должна получить копию брачного свидетельства и сохранить ее в своих интересах и в интересах ребенка. Клайд может потом развестись с ней, если пожелает. А все-таки она будет миссис Грифитс. И их ребенок тоже будет Грифитс. Это что-нибудь да значит. (Какая красивая речка! Точь-в-точь Могаук, напоминает прошлогодние прогулки с Клайдом, когда они только что познакомились. Ах, прошлое лето! А теперь!..) Они поселятся где-нибудь… наверно, снимут комнатку или две. Где-то это будет, в каком городе? Далеко ли от Ликурга или Бильца? Чем дальше от Бильца, тем лучше, хотя, конечно, ей хотелось бы увидеться опять с отцом и матерью, и поскорее… как только все будет позади. Но это уж не важно, ведь они уедут вместе, и она будет замужем. Заметил ли Клайд ее синий костюм и коричневую шляпку? Может быть, он подумал, что все же она очень мила, даже если и сравнить ее с этими богатыми девушками, с которыми он постоянно проводил время? Надо быть как можно деликатнее… ничем его не раздражать… Но… как счастливо они жили бы, если бы только… если бы только он немного любил ее… хоть немножко. Но вот и Утика, и на пустынной улице Клайд догоняет Роберту. На лице его — смесь простодушной веселости и доброжелательства с озабоченностью и досадой; а в сущности, это маска, скрывающая страх перед своим же замыслом, перед собственной неспособностью исполнить задуманное и перед тем, что ждет его в случае неудачи.Глава 66
А на следующее утро они, как было условлено с вечера, отправились на Луговое озеро (опять в разных вагонах). Но, приехав туда, Клайд с удивлением убедился, что берега гораздо более многолюдны, чем он ожидал. Его очень расстроило и испугало царившее здесь оживление: он воображал, что это озеро так же пустынно, как Большая Выпь. А оказалось, что здесь — сборный пункт и летняя резиденция маленькой религиозной секты из Пенсильвании: напротив станции на берегу озера виднелись молитвенный дом и многочисленные коттеджи. И Роберта сразу воскликнула: — Вот хорошо! Мы можем пойти к здешнему священнику и обвенчаться, правда? И Клайд, ошеломленный этим неожиданным осложнением, поспешил согласиться: — Ну что же, конечно… Я съезжу туда немного погодя и узнаю… Но мысленно он уже изыскивал способ перехитрить Роберту. После того как они снимут комнату в гостинице, он повезет ее кататься на лодке и задержится на озере подольше. А может быть, найдется какой-нибудь пустынный и незаметный уголок… но нет, здесь слишком много народу. Озеро недостаточно большое и, вероятно, не очень глубокое. Вода в нем черная, как смола, а на восточном и северном берегах сомкнутым строем, точно стража, стоят высокие темные ели. Клайду показалось, что это — вооруженные копьями зоркие великаны, чуть ли не сказочные людоеды, — так он был мрачен, подозрителен, так взбудоражена была его фантазия. Да еще Столько народу кругом, — на озере не меньше десятка лодок. Как все это зловеще! Как трудно! И вдруг шепот: «Отсюда лесом никак не дойти до Бухты Третьей мили. Нет, нет. До нее еще добрых тридцать миль. И, кроме того, это озеро не такое пустынное, — наверно, за ним все время наблюдают эти сектанты». Нет, нет… надо сказать Роберте… он скажет ей… но что сказать? Что он спрашивал и говорят, здесь нельзя получить разрешение на брак? Или что священник сейчас в отъезде, или требует документы, которых у Клайда нет, или… или… Ах, все равно, лишь бы заставить Роберту замолчать до завтра до того часа, когда отсюда отойдет поезд на Большую Выпь и Шейрон, а там они, конечно, обязательно обвенчаются! Почему она так требовательна? Чего ради в конце концов (если не считать этого ее упрямого желания непременно поставить на своем) он должен таскаться с ней то туда, то сюда? Для него это ежечасные, ежеминутные страдания, поистине жестокая и нескончаемая душевная пытка, тогда как если бы он мог от нее отделаться… О Сондра, Сондра, если бы ты снизошла со своей высоты и помогла мне! Не лгать больше! Больше не страдать! Не знать никаких унижений и горя! Но вместо этого снова ложь. Долгие, нудные и ненужные поиски водяных лилий. Клайд был так беспокоен и нервен, что вся эта прогулка скоро надоела Роберте не меньше, чем ему. Почему, спрашивала она себя, он так равнодушен к возможности обвенчаться? Это можно было бы уладить заранее, и тогда эта прогулка была бы осуществлением ее грез… так было бы, если бы… если бы он устроил все раньше, в Утике, как она хотела. Опять промедление, опять уклончивость… всегдашняя, такая характерная для Клайда неопределенность и нерешительность. Роберта снова начала сомневаться — правда ли, что он обвенчается с ней, сдержит свое слово? Но завтра или в крайнем случае послезавтра все выяснится. Зачем же теперь тревожиться? А назавтра в полдень — станция Ружейная, и Клайд выходит из вагона и провожает Роберту к ожидающему приезжих автобусу. На ходу он убеждает ее, что, так как они вернутся этим же путем, будет удобнее, если она оставит свой чемодан здесь; он же свой чемодан возьмет с собой, потому что там фотографический аппарат и заранее приготовленный завтрак, — они ведь решили позавтракать на озере… Но, подойдя к автобусу, Клайд с испугом обнаружил, что шофер — тот самый проводник, которого он Видел на озере Большой Выпи. Вдруг теперь окажется, что этот проводник видел его и запомнил! Разве он не может вспомнить красивый автомобиль Финчли, Бертину и Стюарта на переднем сиденье, Клайда и Сондру позади, Грэнта и Харлея Бэгота, вышедших из машины, чтобы поговорить с ним? И мгновенно — как все последнее время в минуты особенного волнения и страха — холодный пот покрыл его лицо и руки. О чем же он думал раньше? Как строил свои планы? Да как же можно рассчитывать, что он справится с таким делом, если он так плохо все обдумал? Вот так же он не сообразил надеть кепку в дорогу от Ликурга до Утики или хотя бы достать ее из чемодана еще до покупки соломенной шляпы, и вообще надо было купить шляпу заранее. Однако проводник не вспомнил его, слава богу! Наоборот, с любопытством спросил, как у совершенно незнакомого: — Едете на Большую Выпь? В первый раз здесь? И Клайд с огромным облегчением и все же с внутренней дрожью ответил: — Да. — Затем в нервном возбуждении спросил: — Много там сегодня народу? Не успел он договорить, как этот вопрос показался ему почти безумным. Зачем, зачем, ради всего святого, он задал такой вопрос? Неужели не будет конца этим дурацким, пагубным для него оплошностям? Он был так взволнован, что почти не слышал ответа проводника, голос которого, казалось, доносился откуда-то издали: — Не так уж много. Пожалуй, человек семь-восемь. А четвертого у нас было человек тридцать, но вчера почти все уехали. Безмолвие деревьев, выстроившихся вдоль вязкой глинистой дороги, по которой они ехали; прохлада и тишина; в чаще даже теперь, в самый полдень, — темные глуби и закоулки, лиловый сумрак. Если проскользнуть туда, ночью ли, днем ли, кого там встретишь? Из чащи доносится металлический крик сойки; жаворонок вдалеке наполняет серебристую мглу своей звонкой песней. А когда тяжелый закрытый автобус переезжал через журчащие ручьи по грубым бревенчатым мостам, Роберта восхищалась прозрачной сверкающей водой. «Как здесь чудесно, Клайд! Слышишь, как звенит ручей? А какой свежий воздух!» И все же она скоро умрет! Боже! Но допустим, что на Большой Выпи — в гостинице, на пристани — тоже много народу. Может быть, на озере полно рыболовов, они рассеялись поодиночке там и тут, и нигде нет ни одного безлюдного, тихого уголка. Как странно, что он об этом не подумал! Это озеро, вероятно, далеко не так пустынно, как он воображал, — и как раз сегодня тут может оказаться не меньше народу, чем на Луговом, что тогда? Ну что же, тогда бежать… бежать… и будь что будет. Такое напряжение ему не по силам… к черту! Эти мысли его убьют. И как он мог мечтать о том, чтобы достигнуть счастья при помощи такого дикого и жестокого замысла — убить и потом сбежать… вернее, убить и подстроить так, чтобы их обоих сочли погибшими… тогда как он — убийца — вернулся бы к жизни и счастью. Какой отвратительный план! Но как же иначе? Как? Разве он не подготовился к этому? Неужели теперь отступить? А Роберта, сидя рядом с ним, воображала, будто ее ждет не что иное, как свадьба, — завтра утром уж наверно. А пока для развлечения она посмотрит на красивое озеро, о котором говорил Клайд, — говорил так, словно эта прогулка — самое приятное и значительное событие и в его и в ее жизни. Но вот проводник снова заговорил, обращаясь к Клайду: — Вы, похоже, сюда ненадолго? Я видел, вы оставили вещи молодой леди на станции. Он кивнул в сторону Ружейной. — Нет, мы уезжаем сегодня вечером, поездом восемь десять. Вы отвозите публику к этому времени? — Ну, конечно. — Мне так и говорили на Луговом озере. Ну, для чего он прибавил это — насчет Лугового озера? Этим он показал, что они с Робертой были там, прежде чем приехали сюда. И чего он привязался, этот дурак. Со своим замечанием о «вещах молодой леди» и о том, что они остались на станции! Вот дьявол! Почему он суется в чужие дела? И почему он решил, что они с Робертой не муж и жена? Или, может быть, он этого не думал? Во всяком случае, почему этот вопрос, когда у них было два чемодана? Откуда ему знать, что остался именно ее чемодан? Странно! И что за наглость! Как он мог знать или догадаться… А впрочем, не все ли равно — женаты они или нет? Если ее не найдут, замужем она или не замужем — это не будет иметь никакого значения. А если найдут и будет установлено, что она не была замужем, это только докажет, что она приезжала сюда с кем-то, но не с ним, не так ли? И теперь об этом нечего беспокоиться. — А там есть еще меблированные комнаты или гостиницы, кроме той, куда мы едем? — спросила Роберта проводника. — Нет, ни одной, мисс, только наша. Вчера тут была целая толпа молодых парней и девушек, — они раскинули лагеря на восточном берегу, пожалуй, в миле от нас. А там они еще или уехали, — не знаю. Никого из них сегодня не видал. Толпа молодых парней и девушек! Только этого недоставало! Может быть, все они и теперь на озере… катаются на лодках… А тут он с Робертой! Может быть, среди них есть приезжие с Двенадцатого озера, — вот как он, Сондра, Гарриэт, Стюарт и Бертина приезжали сюда две недели назад… Может быть, это друзья Крэнстонов, Гарриэтов или Финчли приехали сюда на пикник и, конечно, узнают его. Кроме того, значит, к востоку от озера есть какая-то дорога. Из-за всего этого, из-за присутствия этой молодой компании поездка сюда может оказаться напрасной. Какой глупый план! Как бессмысленно он это придумал… Надо было все выяснить заранее, выбрать еще более далекое озеро… но он так мучился все последние дни, что совсем не мог думать. Ну, а теперь он может сделать только одно — поехать и посмотреть. Если там окажется много народу, он должен отыскать какой-нибудь действительно глухой, пустынный уголок… или вернуться на Луговое озеро… или поехать еще куда-нибудь? Господи, что ему делать, если здесь будет много народу? Но в это время деревья впереди раздвинулись, словно кончился длинный лесной коридор, по которому ехал автобус, и Клайд узнал зеленую лужайку, озеро Большой Выпи, маленькую гостиницу с верандой, выходящей прямо на темно-синие воды озера. А вот и низкий маленький сарай для лодок, справа, у самой воды, — его красную крышу Клайд заметил в прошлый раз. И Роберта воскликнула: — О, какая прелесть! Как красиво! А Клайд, поглядев вдаль на темный невысокий остров и заметив, что вокруг совсем мало народу, а на самом озере нет ни души, сказал поспешно: — Еще бы, очень красиво! — но при этом едва не задохнулся. Навстречу им вышел сам хозяин гостиницы — человек среднего роста, широкоплечий и краснолицый — и спросил с любопытством: — Пробудете здесь несколько дней? Но Клайд, разозленный этим новым осложнением, ответил резко, подавая проводнику доллар: — Нет, нет. Мы уезжаем сегодня вечером. — Тогда, может быть, пообедаете у нас? Поезд уходит только в восемь пятнадцать. — Да, тогда конечно… Ну хорошо, пообедаем. Ясное дело, Роберта в свой медовый месяц, накануне свадьбы и во время такой экскурсии, рассчитывает на праздничный обед. Черт побери этого коренастого краснорожего дурака! — Ладно, тогда я отнесу ваш чемодан в комнату, а вы запишитесь в книге посетителей. Ваша супруга, наверно, желает немного освежиться? Он пошел вперед, подхватив чемодан, хотя Клайду ужасно хотелось вырвать чемодан у него из рук. Он совсем не собирался ни записываться здесь, ни оставлять свой чемодан. И не оставит! Он сейчас же заберет его назад и наймет лодку. Но, как бы то ни было, ему пришлось записаться в книге: Клифорд Голден с женой — «простая формальность», как сказал хозяин, — и только после этого он получил обратно свои вещи. И как будто затем, чтобы усилить его волнение, замешательство и тревожные мысли о том, какие еще новые события и люди станут у него на дороге, прежде чем он пустится в это опасное плавание, Роберта вдруг заявила, что так как сейчас жарко и они вернутся сюда обедать, то она оставит здесь шляпу и пальто: на ее шляпе Клайд заметил фабричную марку — Броунстайн в Ликурге — и уже размышлял о том, что благоразумнее: оставить ее или уничтожить. Но он решил, что, может быть, после… после… если он действительно сделает это… будет безразлично, останется ли на шляпе фабричная марка или нет. Разве без этого ее не опознают, если найдут? А если не найдут, то все равно никто не будет знать, кто она и откуда. Встревоженный и сбитый с толку, почти не сознавая, что думает и что делает, Клайд взял свой чемодан и направился к пристани. Потом, бросив чемодан в лодку, спросил у лодочника, где тут лучшие виды, — хотелось бы их сфотографировать. И наконец, выслушав какое-то ненужное ему объяснение, помог Роберте (она казалась ему теперь почти бесплотной тенью, вступающей в нереальную лодку на чисто воображаемом озере), спрыгнул сам, сел на среднюю скамью и взялся за весла. Гладь озера, спокойная, глянцевитая, с радужным отливом, походила не на воду, а скорее на нефть или на расплавленное стекло, что огромной, плотной и тяжелой массой покоится на тверди земной, сокрытой где-то глубоко внизу. Легкое, свежее, пьянящее дуновение лишь едва заметно рябило поверхность озера. И густые, пушистые ели по берегам — повсюду ели, высокие, с копьевидными верхушками. А за ними — горбатые спины темных, далеких Адирондакских гор. Ни одной лодки на озере. Ни дома, ни хижины по берегам. Клайд искал глазами лагерь, о котором говорил проводник, но ничего не видел. Он прислушивался, не звучат ли где-нибудь голоса. Но если не считать тихого плеска его собственных весел да голосов лодочника и проводника, которые беседуют в двухстах… трехстах… пятистах… в тысяче футов позади, — ниоткуда ни звука. — Как здесь мирно и тихо, правда? — Это сказала Роберта. — Так спокойно все! По-моему, тут очень красиво, гораздо красивее, чем на том, другом озере. Какие высокие деревья! А горы! Когда мы ехали сюда, я все время думала, какая прохладная и тихая эта дорога, хотя и немного тряская. — Ты говорила с кем-нибудь здесь, в гостинице? — Нет, ни с кем. А почему ты спрашиваешь? — Я думал, может быть, ты кого-нибудь встретила. Хотя сегодня здесь, кажется, мало народу. — Да, на озере никого не видно. А там я видела только двух мужчин в бильярдной и одну девушку в дамской комнате — вот и все. Какая холодная! Она опустила руку за борт, в сине-черную воду, потревоженную его веслами. — Холодная? Я еще не пробовал. Клайд перестал грести, опустил руку в воду и задумался. Не следует сразу плыть к тому острову на юге. Он слишком далеко… и еще слишком рано… это может показаться ей странным. Лучше немного подождать. Подумать еще немного… еще раз осмотреться. Роберта захочет позавтракать (господи, еще завтрак!), а вон примерно в миле отсюда виднеется живописный мыс. Можно пристать там и сначала позавтракать… это она позавтракает, — он ничего не будет есть сегодня. А потом… потом… Роберта смотрела на тот же мыс: изогнутая полоска земли, густо поросшая высокими елями, далеко врезалась в озеро и сворачивала к югу. И Роберта сказала: — Милый, ты не присмотрел местечка, где можно пристать и поесть? Я уже немножко проголодалась, а ты? (Если бы только она не называла его каждую минуту «милым»!) Маленькая гостиница и сарай для лодок на северном берегу становились все меньше и меньше; теперь они напоминали купальню и пристань на озере Крам в тот день, когда он в первый раз катался там на лодке; тогда ему хотелось поехать на такое озеро, как это, близ Адирондакских гор; он мечтал о таком озере… и о встрече с такой девушкой, как Роберта… И над головой плывет такое же пушистое облачко, как то, что плыло над ним в тот роковой день на озере Крам. Как все ужасно и как трудно! Они могут сегодня поискать здесь водяные лилии, чтобы убить время, прежде чем… убить время… убить (боже!)… Нельзя больше думать об этом, если он хочет в конце-концов это сделать. Во всяком случае, сейчас нечего задумываться. И Клайд причалил к тому месту, которое облюбовала Роберта, — в глубине крошечной бухты с небольшим, желтым, как мед, песчаным пляжем; с северной и восточной стороны изгиб берега надежно укрывал ее от любопытных взглядов. Они высадились. Клайд осторожно вынул завтрак из чемодана и, пока Роберта раскладывала его на газете, разостланной на песке, ходил по берегу, делая вымученные замечания о красоте пейзажа, о том, как хороши ели, как мила бухточка… и при этом думал… думал об острове в дальней части озера и о какой-нибудь другой бухте за островом, о том месте, где, несмотря на свое слабеющее мужество, он должен все же совершить предстоящее ему жестокое, страшное дело… нельзя упустить понапрасну этот старательно подстроенный случай, если… если только он и впрямь не собирается бежать… и навсегда покинуть то, что больше всего хотел бы сохранить. Но какое черное дело — и опасное… теперь все это придвинулось вплотную… опасно совершить какую-нибудь ошибку… вдруг, например, он не сумеет перевернуть как следует лодку… или не сможет… не сможет… господи!.. А потом, может быть, обнаружится, что он… он… убийца! Его арестуют. Будут судить. (Он не может, он не сделает этого, — нет, нет нет!) А Роберта сидела рядом с ним на песке, умиротворенная и, видимо, довольная всем на свете. Она что-то напевала, потом начала высказывать всякие практические соображения о будущем, о том, каково теперь будет их материальное положение, куда и как они поедут отсюда (пожалуй, лучше всего в Сиракузы, и Клайд как будто ничего не имеет против) и что они будут там делать. Роберта слышала от своего зятя, Фреда Гейбла, что в Сиракузах открывается новая фабрика воротничков и рубашек. Может быть, Клайд устроится там хоть на время. Позже, когда самое трудное останется позади, она и сама поступит туда же или на какое-нибудь другое предприятие. А пока, так как у них очень мало денег, им надо бы снять небольшую комнату в какой-нибудь семье, — или, если ему это не нравится (ведь они теперь не так близки, как раньше), может быть, две комнатки рядом. Дело в том, что за его показной любезностью и предупредительностью она все же чувствовала упорный протест. А Клайд все думал. Ну, что толку теперь в этих разговорах? Какая разница — согласится он с нею или не согласится? Он говорит с нею так, словно завтра она еще будет здесь. А ее не будет. Ведь его — и ее — ждет совсем другое. Великий боже! Если бы только у него не дрожали колени! Да еще этот холодный пот, покрывающий руки, лицо, все тело… Потом они поплыли дальше, к западному берегу озера, к тому острову, и Клайд, тревожно и устало оглядываясь по сторонам, убеждался что кругом нет ни души — нигде ни души, — ни на берегу, ни на воде. Никого! Здесь так тихо, так пустынно, слава богу. Здесь или где-нибудь поблизости можно сделать это, если только у него хватит мужества… но мужества не было — пока… Роберта опять опустила руку в воду и спросила, нельзя ли поискать где-нибудь водяных лилий или полевых цветов на берегу. Водяные лилии! Полевые цветы! А он тем временем убеждается, что нигде не видно ни дорог, ни тропинок, ни хижины, ни палатки — ни признака жилья среди этих высоких, тесно сомкнувшихся елей, ни одной лодки на широком просторе прекрасного озера в этот прекрасный день. Но что, если какой-нибудь одинокий охотник, проводник или рыболов скрывается в лесах или на берегу? Разве этого не может быть? Что, если здесь сейчас кто-нибудь есть и следит за ними? Рок! Гибель! Смерть! Но нигде — ни звука, ни дымка. Только… только одни эти высокие, островерхие темно-зеленые ели, угрюмые и безмолвные; кое-где среди них — пепельно-серое под палящим полуденным солнцем мертвое дерево, его иссохшие, изможденные ветви протянуты, словно грозящие руки. Смерть! Пронзительный металлический крик сойки в чаще леса, странное, потустороннее «тук-тук-тук» одинокого дятла; изредка метнется красной молнией кардинал или мелькнет черно-желтое оперение дрозда. О, как ярко светит солнце У меня в Кентукки дома! Это весело запела Роберта, опустив руку в темно-синюю воду. А немного погодя она запела другую популярную песенку: «Если хочешь, я приду в воскресенье». Прошел еще целый час в катании, мрачных размышлениях, пении, поисках живописных уголков и тихих заливов с лилиями, и Роберта уже сказала, что надо следить за временем и не задерживаться здесь слишком долго… и вот наконец бухта с южной стороны острова — красивая, но печальная, в тесном кольце берегов, в траурной раме елей, похожая на маленькое озеро; узкий пролив соединяет ее с большим озером, но и сама по себе она довольно внушительна: размером около двадцати акров и почти совершенно круглая. Со всех сторон, если не считать узкого пролива, отделяющего с севера остров от суши, это озерко сплошной стеной окружают деревья. А у берегов тут и там камыши и лилии. И что-то подсказывает, что это озерко, эта тихая заводь предназначена для тех, кто устал от жизни и забот, кто жаждет уйти от житейской борьбы и раздоров: здесь, мудрый и печальный, обретет он пристанище. И когда лодка скользнула в эту бухту, тихие темные воды всецело завладели Клайдом: еще никогда и ни от чего не менялось так внезапно его настроение. Клайда как будто завлекло, затянуло сюда, он обогнул тихие берега бухты — и его словно стало сносить куда-то… куда-то в бесконечное пространство, где не было ничего… ни коварных замыслов, ни планов… ни практических задач, требующих разрешения… ничего. Предательская красота этой бухты! Она словно дразнила его… неведомая темная заводь, окруженная со всех сторон чудесными пушистыми елями. И сама она была точно огромная черная жемчужина; чья-то могучая рука, быть может, в минуту гнева или каприза, или просто играя, зашвырнула ее сюда, на грудь темно-зеленой бархатной долины… И когда Клайд пристально смотрел в воду, глубь ее казалась бездонной. И все же о чем она говорила ему так властно? О смерти! О смерти! О смерти! Яснее, чем все, что он когда-либо видел. О смерти! Притом о смерти спокойной, тихой, добровольной, которой по своему выбору или под чьим-то гипнозом, или от невыразимой усталости отдаешься радостно и благодарно. Так мирно… так спокойно… так безмятежно… Даже Роберта вскрикнула от удивления. А Клайд впервые почувствовал, что чьи-то сильные, но дружеские руки легли ему на плечи. Какое утешение, какая теплота, какая сила исходит от них! Они успокаивают его, поддерживают — и они ему дороги. Только бы они его не покинули! Только бы оставались с ним всегда — эти дружеские руки. Разве когда-либо в своей жизни он испытывал чувство такого успокоения и даже нежности? Нигде и никогда… а теперь он спокоен и как бы ускользает от реальности. Правда, здесь Роберта, но она теперь только поблекшая тень, туманный образ, скорее плод воображения, чем живое существо. Пусть она обладает какими-то красками и очертаниями, говорящими о реальности, а все же она стала бесплотной, совсем призрачной… и вдруг Клайд опять почувствовал себя странно одиноким: сильные руки друга исчезли. Он снова был одинок, так ужасно одинок и затерян в этом сумрачном, прекрасном царстве, словно его сюда завлекли ипокинули. И вдруг он задрожал всем телом: обаяние этой странной красоты пронизало его ледяным холодом. Для чего он явился сюда? Что он должен сделать? Убить Роберту? Нет, нет! И он снова опустил голову, неотрывно глядя в пленительные и коварные глубины этой синей, отливающей серебром заводи, которая, казалось, под его взглядом меняла форму, превращаясь в огромный хрустальный шар. Но что движется там, в этом хрустале? Какая-то фигура… вот она ближе, яснее… и он узнает Роберту: она бьется, взмахивает тонкими белыми руками над водой, протягивает их к нему. Боже, как страшно! Какое у нее лицо! Как же он мог задумать такое? Смерть! Убийство! И вдруг, осознав, что мужество (на которое он все время так рассчитывал) оставляет его, Клайд тотчас усилием воли стал погружаться в глубины своего «я», тщательно пытаясь вновь обрести это мужество. Кыт-кыт-кыт… кра-а-а-а! Кыт-кыт-кыт… кра-а-а-а! Кыт-кыт-кыт… кра-а-а-а! (Опять этот странный, зловещий крик неведомой птицы… такой холодный, такой резкий! Снова он раздается, словно чтобы вернуть Клайда из призрачного мира, где витает его душа, к той реальной или мнимой, но мучительной задаче, которая требует немедленного практического разрешения…) Он должен это сделать! Должен! Кыт-кыт-кыт… кра-а-а-а! Кыт-кыт-кыт — кра-а-а-а! Что было в этом крике: предупреждение?.. протест?.. приговор? Криком этой самой птицы отмечено было зарождение его злосчастного замысла. Вот она там, на том мертвом дереве, окаянная птица… А теперь она летит к другому дереву — тоже мертвому, засохшему — немного дальше в глубь леса… Летит и кричит… Боже!.. И снова — против воли — Клайд направил лодку к берегу. Ведь он взял с собой чемодан, чтобы сделать несколько снимков, — и теперь надо предложить Роберте сниматься; может быть, он и сам снимется — на берегу и на воде. Таким образом, когда она снова войдет в лодку, его чемодан останется на берегу, сухой и невредимый. И Клайд вышел на берег и, притворяясь, будто ищет особенно живописные виды, на самом деле старался получше заметить то дерево, под которым он оставит чемодан до своего возвращения. Теперь он должен скоро вернуться… скоро… Но они уже не выйдут на берег вместе. Никогда! Никогда! И он все мешкает, хоть Роберта и жалуется, что она устала, да и он ведь предполагал, что они вернутся очень быстро. А теперь, наверно, уже больше пяти. И Клайд уверяет ее, что они сейчас поплывут обратно: он только снимет ее еще раз или два в лодке, на фоне этих замечательных деревьев, и острова, и темной водяной глади.Но какие у него потные, беспокойные руки! И темные, влажные, полные тревоги глаза, они смотрят куда угодно, только не на нее… И вот они снова на воде, в пятистах футах от берега: лодка почти уже на середине бухты, и Клайд бесцельно вертит в руках маленький, но тяжелый фотографический аппарат; и вдруг он испуганно осматривается. Теперь… теперь… почти против его желания настала решающая минута — он так долго ее избегал… И нигде на берегу — ни голоса, ни звука, ни живой души… Бездорожье, и ни хижины, ни дымка. Вот она — минута, подготовленная им или чем-то вне его, — критическая минута, которая решит его судьбу; время действовать! Теперь он должен сделать только одно: резко и быстро повернуть вправо или влево… рывком наклонить левый или правый борт и перевернуть лодку; или, если это не удастся, быстро раскачать ее. А если Роберта будет слишком громко кричать, надо ударить ее фотографическим аппаратом или одним из лежащих сейчас в лодке весел. Это можно сделать… можно сделать быстро и просто… будь у него решимость и мужество. И тотчас плыть прочь… а там — свобода… успех и, конечно, Сондра, в счастье… новая, прекрасная, радостная, еще не изведанная жизнь. Так почему же он медлит? Что с ним? Почему он медлит? В эту роковую минуту, когда надо было действовать, — сейчас же, во что бы то ни стало! — его постиг внезапный паралич воли и мужества, ему не хватает ненависти и гнева. И Роберта со своего места на корме смотрит на его взволнованное, внезапно исказившееся гримасой, но в то же время нерешительное и даже растерянное лицо… вместо злобы, ярости, свирепости на этом лице отразилось вдруг смятение, оно стало почти бессмысленным. На нем можно было прочесть борьбу между страхом (реакция при мысли о смерти или бесчеловечной жестокости, которая повлечет за собой смерть) и дьявольской, неугомонной и все же подавленной жаждой действовать — действовать — действовать. Это было временное оцепенение, момент равновесия между двумя одинаково властными стремлениями: действовать и не действовать. Зрачки Клайда расширились и потемнели; лицо, и руки, и все тело конвульсивно сжались; его неподвижность и душевное оцепенение становились все более и более зловещими, но означали, в сущности, не жестокую смелую волю к убийству, а только столбняк или судорогу. И Роберта, вдруг заметив его странное состояние, — как бы приступ темного безумия, напряженную внутреннюю борьбу с самим собой, так странно и тягостно противоречившую всему, что их окружало, — испуганно вскрикнула: — Клайд, Клайд, что ты? Что с тобой? У тебя такое лицо… ты такой… такой странный. Я никогда не видела тебя таким! Что с тобою? Она поднялась и, согнувшись, очень медленно и осторожно, чтобы не качнуть лодку, попыталась добраться к нему, потому что казалось, он вот-вот упадет ничком на дно лодки или свалится за борт. И Клайд мгновенно почувствовал всю безмерность своей неудачи, своей трусости и неумения воспользоваться таким случаем, и так же внезапно его охватила волна ненависти не только к самому себе, но и к Роберте, за то, что она — или сама жизнь — с такой силой связывает и порабощает его. И все же он боялся действовать… он не хотел… он хотел только сказать ей, что никогда, никогда не женится на ней… никогда, даже если она донесет на него, он не уедет из Ликурга, чтобы обвенчаться с ней… он любит Сондру и будет любить ее одну! Но он не в силах был даже заговорить. Он был только зол и растерян и в бешенстве смотрел на Роберту. И когда она, придвинувшись ближе, попыталась взять его руку в свои, забрать у него аппарат и положить на дно лодки, Клайд порывисто оттолкнул ее, но и теперь у него не было иного намерения, кроме одного: избавиться от нее, от ее прикосновения, ее жалоб, ее сочувствия… ее соседства… Боже!.. И, однако, он рванулся с такой силой, что не только ударил Роберту по губам, носу и подбородку фотографическим аппаратом (бессознательно он все еще сжимал его в руках), но и отбросил ее в сторону, на левый борт, так что лодка накренилась и едва не зачерпнула воды. Роберта пронзительно вскрикнула, — и от боли в разбитом лице и от испуга, что накренилась лодка. Пораженный этим криком, Клайд вскочил и сделал движение к ней, отчасти затем, чтобы помочь ей, поддержать, отчасти чтобы просить прощения за нечаянный удар, и этим движением окончательно перевернул лодку: и Роберта и Клайд внезапно очутились в воде. Опрокидываясь, лодка левым бортом ударила Роберту по голове как раз тогда, когда она, погрузившись на миг в воду, снова появилась на поверхности и Клайд увидел перед собой ее обезумевшее, искаженное лицо. Он уже пришел в себя. А она была оглушена, перепугана и ничего не понимала от боли и безмерного, безумного страха: страшна вода, страшно утонуть, страшен этот удар, который Клайд нанес ей случайно, почти бессознательно… — Помогите! помогите!.. О, боже, я тону! Тону! Помогите!.. Клайд! Клайд!..
И вдруг голос у него в ушах: «Но ведь это… это… Не об этом ли ты думал, не этого ли желал все время в своем безвыходном положении? Вот оно! Вопреки твоим страхам, твоей трусости, это свершилось. Несчастный случай, твой нечаянный, ненамеренный удар избавляет тебя от усилия, которое ты жаждал и все же не осмелился сделать. Неужели же теперь — хотя в этом вовсе нет надобности, ведь это просто несчастный случай — ты придешь ей на помощь и, значит, снова погрузишься в мучительную безысходность, которая так терзала тебя и от которой ты теперь избавлен? Ты можешь спасти ее. Но можешь и не спасти! Смотри, как она бьется. Она оглушена ударом. Она не в состоянии спастись сама, а если ты приблизишься к ней теперь, она в своем безумном ужасе потопит и тебя. Но ведь ты хочешь жить! А если она останется жива, твоя жизнь утратит всякий смысл. Останься спокойным только на мгновение, на несколько секунд! Жди, жди, не обращай внимания на этот жалобный призыв. И тогда… тогда… Ну вот, смотри. Все кончено. Она утонула. Ты никогда, никогда больше не увидишь ее живой, никогда. А вон твоя шляпа на воде, как ты хотел. А на лодке ее вуаль, зацепившаяся за уключину. Оставь их. Разве это не доказательство, что тут произошел несчастный случай?» И больше ничего… легкая рябь на воде… поразительная тишина и торжественность вокруг. И снова презрительный и насмешливый крик той зловещей таинственной птицы: Кыт-кыт-кыт… кра-а-а-а! Кыт-кыт-кыт… кра-а-а-а! Кыт-кмт-кыт… кра-а-а-а! Крик дьявольской птицы на засохшем дереве. Взмахи крыльев. И Клайд тяжело, угрюмо и мрачно плывет к берегу. Крики Роберты еще звучат в его ушах, он видит последний безумный и умоляющий взгляд ее закатившихся глаз. И мысль, что в конце концов он ведь не убил ее. Нет, нет. Слава богу! Он этого не сделал. И все же (он выходит на берег и отряхивается от воды) убил? Или нет? Ведь он не пришел ей на помощь, а мог ее спасти. И ведь, в сущности, это его вина, что она упала в воду, хотя у него это и вышло нечаянно. И все же… все же… Сумрак и тишина угасающего дня. Глушь все тех же гостеприимных лесов; подле своего сухого чемодана стоит насквозь вымокший Клайд и в ожидании ночи старается высушить свою одежду. Пока что он отвязывает от чемодана оставшийся неиспользованным штатив фотоаппарата и, отыскав подальше в лесу неприметный, лежащий на земле высохший ствол, прячет под ним штатив. Не видел ли кто-нибудь? Не смотрит ли кто-нибудь? Потом он возвращается и задумывается: куда идти? Надо пойти на запад, потом на юг. Нельзя сбиться с пути. Но вот опять крик этой птицы — резкий, бьющий по нервам. И потом — мрак, который бессильны рассеять летние звезды. И юноша пробирается через угрюмый, безлюдный лес; на голове его сухая соломенная шляпа, в руке чемодан, он идет быстро и все же осторожно на юг… на юг…
Часть 3
Глава 67
Округ Катараки простирается от окраины селения, известного под названием Бухты Третьей мили, на пятьдесят миль к северу до канадской границы и от Сенашета и Индейских озер на востоке на тридцать миль в ширину до рек Скалистой и Скарф. Большую часть этого пространства составляют необитаемые леса и озера, но там и сям разбросаны деревушки и поселки вроде Кунц, Грасс-Лейк, Северного Уоллеса, Браун-Лейк; в главном городе Бриджбурге насчитывается не менее двух тысяч жителей из пятнадцати тысяч населения всего округа. На центральной площади города — здание суда, старое, но не безобразное, украшенное башней с большими часами, а над ними всегда несколько голубей; на эту площадь выходят четыре главные улицы городка. Пятница, девятое июля; в здании суда в своем кабинете сидит следователь, некий Фред Хейт, — рослый, широкоплечий, с седеющей бородой, какою смело мог бы гордиться старейшина мормонов. У него широкое лицо, огромные руки и ноги и соответствующих размеров туловище. В то время, когда начинается наш рассказ, — около половины третьего пополудни, — Хейт лениво перелистывал выписанный им по просьбе жены каталог магазина, высылающего покупки почтой. Присматриваясь к ценам на башмаки, куртки, шапки и шапочки для своих всеядных пятерых детишек, он заметил зимнее пальто для себя — пальто солидных размеров, с большим воротником, широким поясом и крупными, внушительными пуговицами — и печально задумался: при своем бюджете — три тысячи долларов в год — он никак не может позволить себе в эту зиму подобную роскошь, тем более что его жена, Элла, уже не меньше трех лет мечтает о меховой шубке. Но каковы бы ни были его размышления на этот счет, их прервал трезвон телефона. — Да, Хейт слушает… Это Уоллес Айхэм с Большой Выпи? Да, слушаю вас, Уоллес… утонула молодая пара? Хорошо, обождите минутку… И он обернулся к бойкому молодому человеку, который недавно приступил к государственной деятельности в должности секретаря следователя. — Записывайте данные, Эрл, — и затем в телефон: — Хорошо, Уоллес, теперь сообщите мне факты — подробности, да. Тело женщины найдено, а тело ее мужа нет… так… Опрокинутая лодка у южного берега… так. Соломенная шляпа без подкладки… так. Следы ушибов у нее около рта и глаза… Ее пальто и шляпа в гостинице… так… В одном из карманов пальто письмо… кому адресовано? Миссис Олден, Бильц, округ Маймико? Так… А тело мужа еще ищут? Так… Пока никаких следов? Понимаю… Ну, хорошо… Вот что я вам скажу, Уоллес: пальто и шляпа пускай остаются на месте. Дайте сообразить… сейчас половина третьего, — я приеду четырехчасовым поездом. Кажется, к нему высылают автобус из гостиницы? Ладно, я им и приеду, это точно… Да, Уоллес, запишите имена всех, кто присутствовал, когда нашли тело. Что еще? Восемнадцать футов глубины, не меньше? Так… За уключину зацепилась вуаль… Так… Коричневая вуаль… Это все? Так. Ладно, прикажите оставить все в том же виде, как вы нашли. Я сейчас же еду. Да. Благодарю вас, Уоллес… до свиданья. Мистер Хейт медленно повесил трубку, так же неторопливо поднялся со своего широкого, отделанного под орех кресла, погладил густую бороду и посмотрел на Эрла Ньюкома, секретаря (он же секретарь-машинистка, и клерк, и все что угодно). — Вы все записали, Эрл? — Да, сэр. — Тогда берите пальто и шляпу и едем. Нам нужно попасть на поезд три десять. Вы сможете в поезде заполнить несколько повесток для вызова свидетелей. Возьмите с собой на всякий случай бланков пятнадцать — двадцать: надо будет записать имена свидетелей, которых мы найдем на месте. Да позвоните, пожалуйста, миссис Хейт и скажите, что я вряд ли поспею сегодня к обеду и даже к последнему поезду. Возможно, что мы пробудем там и до завтра. В таких случаях никогда нельзя знать, как обернется дело, — следует приготовиться ко всему. Хейт подошел к платяному шкафу в углу старой сырой комнаты и достал оттуда соломенную панаму. Ее широкие, опущенные книзу поля придавали некоторое благородство его лицу со свирепыми, но, в сущности, добродушными глазами навыкате и густейшей бородой. Снарядившись таким образом, он сказал секретарю: — Я на минутку зайду к шерифу, Эрл. А вам надо бы позвонить в «Республиканец» и в «Демократ» и рассказать им об этой истории: пусть газеты не думают, что мы от них что-либо скрываем. Встретимся на вокзале. И он тяжелой походкой вышел из комнаты. А Эрл Ньюком, высокий, худощавый молодой человек лет девятнадцати, с взъерошенными волосами, очень серьезный, хотя порою и рассеянный, тотчас схватил пачку бланков для вызова в суд и, запихивая их в карман, стал звонить по телефону миссис Хейт. Затем позвонил в редакции газет, сообщил о несчастном случае на озере Большой Выпи и, схватив свою соломенную шляпу с синей лентой (шляпа была номера на два больше, чем требовалось), сбежал вниз; у распахнутой двери в кабинет знаменитого в этих краях и весьма энергичного прокурора Орвила Мейсона он столкнулся с Зиллой Саундерс, старой девой и единственной стенографисткой прокурора. Она собиралась идти в канцелярию аудитора, но, пораженная стремительностью и озабоченным видом Ньюкома, обычно гораздо более медлительного, окликнула его: — Что случилось, Эрл? Куда вы так спешите? — Несчастный случай. На озере Большой Выпи утонули двое. А может быть, здесь и что-нибудь похуже. Мистер Хейт едет туда, и я с ним. Нам надо попасть на поезд три десять. — Откуда вы узнали? Это кто-нибудь из здешних? — Еще не знаю, но думаю, что нет. В кармане у женщины было письмо, адресованное в Бильц, округ Маймико, некоей миссис Олден. Я все расскажу, когда мы вернемся, или позвоню вам. — Ах, господи, если это преступление, то мистер Мейсон, наверно, заинтересуется. — Ну конечно. Я ему позвоню по телефону, или сам мистер Хейт позвонит. Если увидите Бада Паркера или Кэрел Бэднел, скажите им, что я уехал за город. И потом, Зилла, позвоните, пожалуйста, моей матери и предупредите ее тоже. Я боюсь, что сам не успею. — Не беспокойтесь, позвоню. — Спасибо! И, очень заинтересованный этим событием, ворвавшимся в однообразное существование его начальника, Ньюком, перескакивая через две ступеньки, весело и бойко сбежал по лестнице окружного суда. А мисс Саундерс, зная, что ее начальник уехал по каким-то делам, связанным с предстоящей окружной конференцией республиканской партии, и что в его кабинете не с кем поделиться новостью, направилась в канцелярию аудитора: уж там-то можно будет всем и каждому пересказать все, что она успела узнать о трагедии на озере.Глава 68
Сведения, собранные следователем Хейтом и его помощником, были странные и настораживали. На другое утро после исчезновения лодки с такой, по-видимому, счастливой и симпатичной четой туристов, по настоянию хозяина гостиницы, начались поиски — и в Лунной бухте, за островом, были найдены перевернутая лодка, шляпа и вуаль. И немедленно все служащие гостиницы, проводники и постояльцы, которых удалось для этого завербовать, стали нырять в озеро и обшаривать дно длинными баграми с крюками на конце, пытаясь отыскать и извлечь из воды тела утонувших. Проводник Сим Шуп, хозяин гостиницы и арендатор лодочной станции рассказали, что погибшая женщина была молода и хороша собой, а ее спутник — по-видимому, довольно состоятельный молодой человек, и поэтому происшествие вызвало у немногочисленных местных жителей — лесорубов и служащих гостиницы — не только интерес, но и сочувствие. К тому же все недоумевали, каким образом в прекрасный безветренный день мог произойти такой странный несчастный случай. Но еще большее волнение поднялось, когда в полдень, после непродолжительных поисков, один из работавших багром — Джон Поль, лесоруб, — вытащил из воды Роберту, зацепив крюком ее платье; на лице ее — у рта, у носа, над правым глазом и под ним — явственно виднелись следы ушибов, и всем присутствующим это обстоятельство сразу показалось подозрительным. Джон Пол, который вместе с Джо Райнером, сидевшим на веслах, вытащил ее из воды, взглянув на нее, воскликнул: — Ах ты бедняжка! Легкая, как перышко! Не пойму даже, как она могла утонуть. Он перегнулся через борт и, подхватив Роберту своими сильными руками, втащил ее, мокрую и бездыханную, в лодку; тем временем его товарищи подали знак другим лодкам, и те быстро приплыли на зов. Отведя в сторону длинные густые каштановые волосы девушки, спутанные водою и скрывавшие ее лицо, Джон прибавил: — Вот так штука! Смотри, Джо! Сдается мне, малютку чем-то стукнули! Погляди-ка! Скоро все лесорубы и постояльцы гостиницы, подплыв на лодках, стали рассматривать кровоподтеки на лице Роберты. И как только тело ее повезли на север, к лодочной станции, а на озере возобновились поиски тела ее спутника, были высказаны догадки: «Что-то здесь неладно… Синяки… и вообще… И как это лодка могла опрокинуться в такой тихий день?» «Сейчас увидим, есть ли там кто-нибудь на дне…» А когда многочасовые бесплодные поиски ни к чему не привели, все окончательно решили, что трупа мужчины на дне скорее всего нет и не было, — страшная, тревожная мысль… Вслед за тем в разговоре между проводником, который привез Клайда и Роберту со станции, и хозяевами гостиниц на озере Большой Выпи и на Луговом было установлено следующее: 1) что утонувшая девушка оставила свой чемодан на станции Ружейной, тогда как Клифорд Голден взял чемодан с собою; 2) что было подозрительное противоречие между записями в гостинице на Луговом озере и на Большой Выпи: в одной — Карл Грэхем, в другой — Клифорд Голден, хотя, судя по внешности (в чем убедились оба хозяина гостиниц после тщательного обсуждения), это был, несомненно, один и тот же человек; и 3) что названный Клифорд Голден или Карл Грэхем справлялся у проводника, который вез его на озеро Большой Выпи, много ли там в этот день народу. После этого смутные подозрения перешли в полную уверенность, что дело здесь нечисто. Едва ли на этот счет оставались какие-либо сомнения. Прибывшему следователю Хейту немедленно дали понять, что жители северных лесов глубоко взволнованы всем происшедшим и уверены в справедливости своих подозрений. Они полагают, что тела Клифорда Голдена или Карла Грэхема никогда и не было на дне озера. И Хейт, осмотрев тело неизвестной девушки, которое бережно положили на койку в домике при лодочной станции, и увидев, что утопленница молода и красива, был тоже странно взволнован — не только ее внешностью, но и всей окружающей атмосферой, насыщенной подозрениями. Более того, вернувшись в контору гостиницы и прочитав письмо, найденное в кармане пальто Роберты, он окончательно склонился в сторону самых мрачных подозрений, ибо прочел он следующее: «Луговое озеро, штат Нью-Йорк, 8 июля. Дорогая мамочка! Мы теперь здесь и собираемся обвенчаться, но это я пишу только для тебя одной. Пожалуйста, не показывай мое письмо папе и вообще никому, потому что это пока еще секрет. Я тебе говорила на рождестве, в чем дело, так что ты не беспокойся, ничего не спрашивай и никому обо мне не говори. Можно сказать только, что ты получила от меня письмо и знаешь, где я. Не бойся, все будет хорошо. Обнимаю тебя, мамочка, и крепко целую в обе щеки. Не волнуйся и постарайся убедить папу, что все в порядке, но только не говори ничего ни ему, ни Эмилии, ни Тому, ни Гифорду, ладно? Целую тебя много, много раз. Любящая тебя Берта. Все это пока секрет и должно оставаться между нами, а немного погодя, когда это перестанет быть тайной, я тебе сразу напишу». В верхнем правом углу листка, так же как и на конверте, был штемпель: «Гостиница «Луговое озеро», штат Нью-Йорк, владелец Джек Ивенс». Очевидно, письмо было написано утром, после того как они провели ночь в этой гостинице, записавшись под именем мистера и миссис Грэхем. Ох, уж это девичье легкомыслие! Из письма было ясно, что эти двое остановились в гостинице как муж и жена и, однако, не были женаты. Хейта передернуло при чтении этого письма, потому что и у него были дочери и он их горячо любил. Но тут у него явилась одна мысль. В округе приближается время выборов; в ноябре должны быть переизбраны на следующее трехлетие все местные власти, включая и следователя, вдобавок в этом же году предстоят выборы окружного судьи (срок его полномочий — шесть лет). В августе, то есть примерно через полтора месяца, должны состояться окружные конференции республиканской и демократической партий, и тогда будут выдвинуты кандидаты на соответствующие должности. Однако ни на одну должность, кроме поста окружного судьи, не мог пока рассчитывать нынешний прокурор, поскольку он занимал место прокурора уже два срока подряд. Этим он был обязан не только своему таланту провинциального политического оратора, но и тому, что в качестве высшего судебного чиновника имел возможность оказывать своим друзьям различные услуги. Но теперь, если только ему не посчастливится быть выдвинутым, а затем и избранным на пост окружного судьи, должен наступить конец его политической карьере. Беда в том, что за весь период его полномочий не было ни одного значительного судебного процесса, который помог бы ему выдвинуться и, следовательно, дал бы право рассчитывать и впредь на признание и уважение избирателей. Но теперь… Происшествие на озере Большой Выпи, размышлял проницательный следователь, вполне может оказаться таким делом, которое привлечет внимание и симпатии населения к этому человеку — нынешнему прокурору, его, Хейта, близкому и весьма полезному другу. Это благотворно отразится на его влиянии и репутации, а тем самым и на всем списке кандидатов его партии, так что на предстоящих выборах все они могут быть избраны. Нынешний прокурор сможет добиться того, что его не только выдвинут кандидатом, но и изберут в ноябре судьей на шестилетний срок. Случались в политическом мире и более странные вещи… И Хейт сразу решил не отвечать ни на какие вопросы относительно найденного письма, потому что оно обещало быстро раскрыть тайну преступления, если таковое имело место, и при существующей политической ситуации сулило славу и почет каждому, кто будет причастен к раскрытию этой тайны. Одновременно он приказал Эрлу Ньюкому и проводнику, который привез Роберту и Клайда на озеро Большой Выпи, отправиться на станцию Ружейную и сказать, что оставленный там чемодан не может быть выдан никому, кроме самого Хейта или представителя прокурора. Затем он собирался уже звонить по телефону в Бильц, чтобы проверить, проживает ли в тех местах семья Олден, с дочерью Бертой или Альбертой, но тут (по воле самого провидения, как ему показалось) его прервали: двое мужчин и мальчик — здешние охотники — в сопровождении толпы тех, кто уже знал о трагедии на озере, ворвались к нему в комнату. У них имеются сведения чрезвычайной важности, заявили они и, то и дело перебивая и поправляя Друг друга, рассказали, что в тот день, когда утонула Роберта, часов в пять вечера они вышли из Бухты Третьей мили (около двенадцати миль к югу от Большой Выпи), собираясь поохотиться вблизи этого озера и половить здесь рыбу. И вот, единогласно показали они, в тот же вечер около девяти часов, когда они подходили к южному берегу Большой Выпи, — может быть, мили за три до него, — им встретился молодой человек, которого они приняли за туриста, идущего из гостиницы на озере Большой Выпи в поселок Бухты Третьей мили. Он был очень хорошо, щегольски одет, совсем не как здешний житель. На голове его была соломенная шляпа, в руках чемодан, и их тогда удивило, почему он идет пешком, да еще в такое странное время, когда наутро мог бы поездом доехать до Бухты Третьей мили за один час. И потом почему, встретившись с ними, он так испугался? По их словам, столкнувшись с ними в лесу, он шарахнулся в испуге, больше того — в ужасе, точно хотел бежать. Правда, фитиль в фонаре, который нес один из них, был сильно прикручен, так как вечер был лунный, и шли они очень тихо, шагом людей, привыкших выслеживать всякого лесного зверя. Но ведь эти места совершенно безопасные, тут встречаются только такие же честные граждане, как они сами, и незачем было молодому человеку кидаться в сторону, точно он хотел спрятаться в кусты. Впрочем, когда Бад Брюнинг, паренек, который нес фонарь, прибавил в нем света, прохожий как будто пришел в себя, ответил на их приветствие и спросил, далеко ли до Бухты Третьей мили. Они ответили, что около семи миль, и он пошел дальше, а они продолжали свой путь, обсуждая странную встречу. И теперь, поскольку приметы молодого человека в точности совпадали с тем, как его описывали проводник, везший Клайда до станции Ружейной, и владельцы гостиниц на озере Большой Выпи и на Луговом, стало совершенно ясно: это — тот самый человек, который поехал на лодке с той, что утонула в озере. Эрл Ньюком сразу же попросил у своего начальника разрешения справиться по телефону у хозяина единственной гостиницы в Бухте Третьей мили, не останавливался ли там случайно таинственный незнакомец. Оказалось что нет. По-видимому, никто, кроме этих трех охотников, нигде его не видел. Он точно растаял в воздухе, хотя вечером в тот же день было установлено, что молодого человека схожей внешности, с чемоданом в руке, но не в соломенной шляпе, а в кепке, на следующее утро после встречи в лесу видели в Шейроне; он сел на маленький озерный пароход «Лебедь», курсирующий между Бухтой Третьей мили и Шейроном. Но потом, его след потерялся. Никто в Шейроне до сих пор не мог припомнить, чтобы приезжал или уезжал такой человек. Даже сам капитан показал впоследствии, что он не заметил, как высадился этот пассажир: на пароходе в тот день было пятнадцать пассажиров, и капитан не мог толком припомнить ни одного из них. Однако все обитатели Большой Выпи постепенно пришли к непоколебимому убеждению, что, кто бы ни был этот субъект, он — отъявленный, хладнокровный злодей! И все с удвоенной, утроенной силой желали, чтобы он был схвачен и арестован. Негодяй! Убийца! И немедленно повсюду из уст в уста, по телефону, по телеграфу, вплоть до местных газет, вроде «Аргус» и «Таймс юнион» в Олбани или «Стар» в Ликурге, разнеслась весть о волнующей трагедии на озере; при этом делались намеки, что тут, возможно, кроется страшное преступление.Глава 69
Исполнив свой служебный долг, следователь Хейт на обратном пути обдумывал, как поступать дальше. Каков должен быть его следующий шаг в этом прискорбном деле? Перед отъездом он еще раз пошел взглянуть на Роберту и был глубоко, непритворно взволнован: она казалась такой юной, невинной и хорошенькой. Влажные тяжелые складки скромного синего платья из саржи облегали ее тело; маленькие руки были сложены на груди, золотисто-каштановые волосы, еще не просохшие после двадцати четырех часов пребывания в воде, чем-то наводили на мысль о былой живости и страстности, — и все это, казалось, говорило о мягком обаянии, бесконечно далеком от преступления. Но была в этом, без сомнения очень печальном, деле и еще одна сторона, касающаяся лично его, следователя. Должен ли он отправиться в Бильц к миссис Олден, которой адресовано письмо, сообщить ей ужасную весть о смерти ее дочери и при этом расспросить, кто был спутник погибшей и где он находится? Или же ему следует сперва явиться в Бриджбург к прокурору Мейсону и сообщить ему все подробности случившегося, с тем чтобы этот джентльмен принял на себя печальную обязанность нанести сокрушительный удар почтенной, видимо, семье? Тут надо учесть политическую ситуацию. И хотя следователь имеет право действовать самостоятельно и выдвинуться на этом деле, нужно принять во внимание общее положение партии: сильный человек, безусловно, должен стать во главе партийного списка и укрепить позиции партии на осенних выборах, трагедия на озере — для этого блестящая возможность. Значит, второй вариант наиболее разумен: для прокурора, друга Хейта, это — великолепный случай! С такими мыслями Хейт приехал в Бриджбург и торжественно явился в кабинет к прокурору Орвилу Мейсону, который мгновенно насторожился, почувствовав по поведению следователя, что произошло нечто значительное. Мейсон был человек небольшого роста, плечистый и физически очень сильный; но в юности он, к несчастью, случайно сломал себе нос; и это очень испортило его приятное и даже своеобразное лицо, придав ему мрачное, почти зловещее выражение. Но Мейсон был личностью отнюдь не мрачной, а скорее чувствительной и романтичной. В детстве он испытал нужду и унижения и поэтому позднее, в более счастливые годы, смотрел на людей, к которым жизнь была снисходительнее, как на баловней судьбы. Его мать, вдова бедного фермера, с великим трудом сводила концы с концами, и к двенадцати годам он отказался чуть ли не от всех ребяческих игр и удовольствий, чтобы ей помогать. А в четырнадцать лет, катаясь на коньках, он упал и так разбил нос, что это навсегда его обезобразило. Поэтому он постоянно оказывался побежденным в юношеском соперничестве из-за девушек: их внимание, которого он так жаждал, доставалось другим — и постепенно он стал крайне чувствителен к своему уродству. Дело кончилось тем, что фрейдисты обычно называют психосексуальной травмой. Однако в семнадцать лет Мейсон сумел завоевать симпатию издателя бриджбургской газеты «Республиканец» и стал ее постоянным хроникером. Позже его корреспонденции по округу Катараки печатались уже в таких газетах, как «Таймс юнион» в Олбани и «Стар» в Утике, а к девятнадцати годам он уже имел возможность изучать юриспруденцию в конторе бывшего бриджбургского судьи Дэвиса Ричофера. Еще через несколько лет он получил право заниматься адвокатской практикой, завоевал симпатии некоторых местных политиков и коммерсантов, и они позаботились о том, чтобы провести его в законодательное собрание штата; там он заседал шесть лет кряду и своей скромной, но дальновидной и честолюбивой готовностью поступать, как прикажут, добился благосклонности столичных заправил, сохранив при этом и симпатии своих покровителей в родном городе. Он обладал и кое-каким ораторским даром и, когда вернулся в Бриджбург, получил сперва место помощника прокурора, затем, через четыре года, был избран аудитором и, наконец, на два четырехлетия подряд — прокурором. Заняв столь высокое положение в обществе, он женился на дочери местного аптекаря, человека со средствами, и стал отцом двоих детей. О происшествии на озере Большой Выпи Мейсон уже слышал от мисс Саундерс все, что она узнала сама, и, как и следователь Хейт, сразу понял, что шумиха, которая наверняка подымется вокруг этого преступления, будет ему очень на руку. Возможно, она поможет укрепить его шаткий политический престиж и даже, пожалуй, разрешит проблему всего его будущего. Во всяком случае, он был чрезвычайно заинтересован и теперь, при виде Хейта, не скрыл своего живейшего интереса к этому происшествию. — Ну, что нового, Хейт? — Так вот, Орвил, я только что с Большой Выпи. Мне кажется, я нашел для вас дело, на которое вам придется потратить толику времени. Большие выпуклые глаза Хейта говорили гораздо больше, чем это ни к чему не обязывающее вступление. — Вы имеете в виду несчастный случай на озере? — Да, сэр, именно. — У вас есть основания думать, что тут что-то нечисто? — Видите ли, Орвил, я нимало не сомневаюсь, что это — убийство. — Хмурые глаза Хейта мрачно сверкнули. — Конечно, осторожность прежде всего, и все это пока между нами. Я, правда, еще не вполне убежден, что тело молодого человека не отыщется на дне озера. Но все это, по-моему, очень подозрительно, Орвил. Не меньше пятнадцати человек вчера и сегодня целый день обшаривали баграми южную часть озера. Я велел нескольким парням измерить глубину в разных местах — нигде нет больше двадцати пяти футов. И до сих пор — никаких следов мужчины. А ее вытащили вчера, около часу дня, не так уж долго искали. Очень красивая девушка, Орвил, совсем молоденькая, лет восемнадцать — двадцать, не больше. И тут есть несколько очень подозрительных обстоятельств, почему я и думаю, что трупа ее спутника там нет. По правде говоря, я еще не видел случая, который бы так походил на дьявольское преступление. Сказав это, он начал рыться в правом кармане своего изрядно поношенного и мешковатого пиджака и наконец извлек оттуда письмо Роберты; протянув его другу, он придвинул стул и уселся; тем временем прокурор принялся за чтение. — Да, все это выглядит довольно подозрительно, — сказал Мейсон, дочитав письмо. — И вы говорите, его до сих пор не нашли… Ну, а мать покойной вы уже видели? Что она знает об этом деле? — Нет, Орвил, я ее не видел, — медленно и задумчиво ответил Хейт, — и скажу вам почему. Я еще вчера решил, что лучше мне сперва потолковать с вами, а потом уже предпринимать что-либо по этому делу. Вы сами знаете, какая у нас сейчас политическая ситуация. Такое дело, если его правильно повести, может изрядно повлиять на общественное мнение этой осенью. Я, конечно, не думаю, что мы должны примешивать политику к такому преступлению, а все-таки почему бы нам не вести это дело так, чтобы его поставили нам в заслугу? Вот я и решил сначала поговорить с вами. Конечно, если хотите, я туда съезжу. Но только, по-моему, лучше бы вы поехали сами и выяснили, кто этот парень и что он собою представляет. Сами понимаете, что может означать такое дело с политической точки зрения, если только мы доведем его до конца. А я знаю, что вы можете это сделать, Орвил. — Спасибо, Фред, спасибо, — торжественно ответил Мейсон, постукивая письмом по столу и косясь на приятеля. — Очень вам благодарен за лестное мнение обо мне. Думаю, что вы избрали самый верный путь. А вы уверены, что никто, кроме вас, не видел этого письма? — Только конверт. Да и его видел только один мистер Хаббард, хозяин гостиницы. Он мне сказал, что нашел письмо в кармане ее пальто, побоялся, как бы оно не исчезло или не было распечатано до моего приезда, и потому забрал его к себе. Он говорит, что сразу почуял неладное, как только услышал о несчастье. По его словам, молодой человек очень нервничал и вел себя как-то странно. — Очень хорошо, Фред. И пока никому больше ничего не говорите об этом деле, ладно? Я сейчас же еду туда. Но, может быть, вы еще что-нибудь узнали? Мистер Мейсон был теперь очень оживлен и полон энергии, непрерывно задавал вопросы и даже со своим старым другом стал разговаривать повелительным тоном. — Да, узнал немало, — глубокомысленно и важно ответил следователь. — На лице девушки есть подозрительные синяки и ссадины, Орвил: под правым глазом и над левым виском и еще на губе и на носу; похоже, что бедняжку чем-то ударили — камнем, или палкой, или, может быть, одним из весел; они там плавали неподалеку. На вид она еще совсем ребенок, такая маленькая, и знаете, Орвил, очень хорошенькая девушка… но вела себя не так, как полагается. Сейчас я вам объясню. — Тут следователь замолчал, вытащил из кармана огромный носовой платок и шумно высморкался, а затем тщательно расправил бороду. — Там у меня не было времени достать врача, и, кроме того, я постараюсь организовать здесь в понедельник вскрытие и следствие. Я уже распорядился: братья Луц сегодня перевезут ее сюда. Но всего подозрительнее показания двух охотников и мальчугана, которые живут в Бухте Третьей мили: они шли в четверг вечером на Большую Выпь охотиться и ловить рыбу. Я велел Эрлу записать их имена, заполнить повестки и вызвать их в понедельник для допроса. И следователь подробно передал показания этих людей об их случайной встрече с Клайдом. — Так, так! — то и дело восклицал прокурор, глубоко заинтересованный. — И еще одно, Орвил, — продолжал следователь. — Я поручил Эрлу навести по телефону справки в Бухте Третьей мили — у хозяина гостиницы, почтмейстера и тамошнего начальника полиции, но как будто того юнца видел только один человек. Это капитан пароходика, который ходит между Бухтой Третьей мили и Шейроном, — капитан Муни, вы, наверно, его знаете. Я велел Эрлу вызвать его тоже. По его словам, в пятницу утром, около половины девятого, как раз, когда его «Лебедь» отправлялся в первый рейс до Шейрона, этот самый молодой человек или кто-то очень похожий по описанию сел на пароход и взял билет до Шейрона. Он был с чемоданом и в кепке, а когда те трое встретили его в лесу, на нем была соломенная шляпа. Капитан говорит, что это очень красивый малый. Ладно скроен, хорошо одет, по виду — человек из светского общества. Держался особняком. — Так, так, — заметил Мейсон. — Я поручил Эрлу позвонить в Шейрон, расспросить кого только можно, не видали ли там такого приезжего. Правда, там его, видимо, никто не припомнил, — по крайней мере до вчерашнего вечера, когда я уезжал, сведений не было. Но я распорядился, чтобы Эрл по телеграфу сообщил его приметы во все здешние гостиницы, дачные местности и на железнодорожные станции, так что, если он где-нибудь в этих краях, его быстро выследят. Я считал, что вам будут по душе мои действия. А теперь, если вы дадите мне ордер, я бы доставил вам тот чемодан со станции Ружейной. В нем могут оказаться такие вещи, о которых нам следует знать. Я сам за ним съезжу. И потом я хочу сегодня же побывать на Луговом озере, в Бухте Третьей мили и в Шейроне, если успею. Посмотрю, что там еще можно выяснить. Боюсь, что здесь самое настоящее убийство. Подумайте, он привез ее сперва в гостиницу на Луговое озеро, а потом на Большую Выпь и записался под разными именами! Ее чемодан оставил на станции, а свой взял с собой! — Тут Хейт многозначительно покачал головой. — Вы же понимаете, Орвил, порядочные люди так не поступают. Одного не пойму, как ее родители позволили ей уехать с этим человеком, не узнав сперва, что он собой представляет. — Это верно, — тактично согласился Мейсон. С жгучим любопытством он думал о том, что эта девушка, как видно, была отнюдь не безупречного поведения. Незаконное сожительство! И конечно, с каким-то богатым молодым горожанином, откуда-нибудь с юга. Какую популярность, какое положение может приобрести он, Мейсон, в связи с этим делом! Он порывисто встал, ощущая прилив энергии. Только бы ему поймать этого преступного негодяя! Такое жестокое убийство, конечно, вызовет бурю негодования. А тут августовская конференция, выдвижение кандидатов! И осенние выборы! — Пусть меня повесят! — воскликнул он; присутствие Хейта, человека верующего и степенного, заставило его удержаться от выражения покрепче. — Мы наверняка напали на след чего-то очень серьезного, Фред. Я в этом просто убежден. По-моему, тут скверная история — гнуснейшее преступление. Первым делом, я думаю, надо связаться по телефону с Бильцем и узнать, есть ли там семья Олден и где именно они живут. Автомобилем напрямик до Бильца всего миль пятьдесят, а то и меньше. Правда, дорога отвратительная, — прибавил он. — Несчастная мать! Я просто боюсь встречи с нею. Конечно, это будет очень тяжело… Он позвал Зиллу и попросил проверить, живет ли в окрестностях Бильца некто Тайтус Олден и как его найти. Затем прибавил: — Но сначала вызовите сюда Бэртона (Бэртон Бэрлей, его помощник, уехал за город на субботу и воскресенье). Он будет вам полезен, Фред, если понадобится отдать какое-нибудь предписание и прочее, а я поеду к этой бедной женщине. И буду вам очень признателен, если вы пошлете Эрла за чемоданом. А я привезу сюда отца девушки, чтобы установить ее личность. Но только, пока я не вернусь, никому ни слова — ни о письме, ни о том, что я уехал в Бильц, понимаете? — Он пожал руку приятелю. — А сейчас, — продолжал он немного высокопарно, уже предвкушая свою роль в великих событиях, — я должен поблагодарить вас, Фред. Я очень вам обязан и никогда этого не забуду, поверьте. — Он посмотрел старому другу прямо в глаза. — Все это может для нас обернуться лучше, чем мы думаем. Мне кажется, это самое большое, самое серьезное дело за всю мою службу, и если мы сумеем быстро и успешно разобраться в нем до осенних событий, это всем нам очень пригодится, как по-вашему? — Верно, Орвил, совершенно верно, — согласился Хейт. — Я уже вам говорил, по-моему, не следует примешивать политику к таким делам, но раз уж это само собой получается… — И он в раздумье умолк. — А пока что, — продолжал прокурор, — поручите Эрлу сделать несколькоснимков: пусть точно зафиксирует, где нашли лодку, весла, шляпу и в каком месте найдена утонувшая девушка. И вызовите как можно больше свидетелей. Я договорюсь с аудитором, чтобы вам были возмещены все расходы. А завтра или в понедельник я буду здесь и сам примусь за работу. Он сжал руку Хейта и похлопал его по плечу. А Хейт, очень польщенный его вниманием и, следовательно, преисполненный надежд на будущее, надел свою чудовищную соломенную шляпу, застегнул широчайшее пальто и возвратился в канцелярию, чтобы вызвать по междугородному телефону верного Эрла, дать ему инструкции и известить, что и сам он, Хейт, снова выедет на место преступления.Глава 70
Орвил Мейсон сразу проникся сочувствием к Олденам, потому что с первого же взгляда понял: этой семье, должно быть, как и ему, знакомы удары судьбы, унижения и оскорбления. В субботу, около четырех часов дня, приехав на своем служебном автомобиле из Бриджбурга, он увидел перед собою старый, жалкий и ветхий дом и у подножия холма, в дверях хлева — самого Тайтуса Олдена в рубашке с короткими рукавами и комбинезоне; его лицо, фигура, весь облик говорили, что это — неудачник, который хорошо сознает бесплодность своих усилий. И теперь Мейсон пожалел, что не позвонил по телефону перед отъездом из Бриджбурга: он понял, что для такого человека известие о смерти дочери будет страшным ударом. Тем временем Тайтус, увидев шедшего к нему Мейсона, подумал, что это приезжий, который хочет спросить дорогу, и из вежливости пошел ему навстречу. — Вы мистер Тайтус Олден? — Да, сэр, это я. — Мистер Олден, моя фамилия Мейсон, я из Бриджбурга, прокурор округа Катараки. — Так, сэр, — ответил Тайтус, недоумевая, для чего он мог понадобиться прокурору, да еще из такого далекого округа. А Мейсон смотрел на Тайтуса, не зная, с чего начать. Трагическое известие, которое он привез, будет, пожалуй, убийственно для этого явно слабого и беспомощного человека. Они стояли под одной из высоких темных елей, росших перед домом. Ветер в ее иглах нашептывал свою песню, старую, как мир. — Мистер Олден, — начал Мейсон с необычной для него серьезностью и мягкостью. — У вас есть дочь по имени Берта или, может быть, Альберта? Я не совсем точно знаю ее имя. — Роберта, — поправил Тайтус Олден, внутренне вздрогнув от недоброго предчувствия. И Мейсон, опасаясь, что потом этот человек будет не в состоянии рассказать ему толком все, что он хотел узнать, поспешно спросил: — Кстати, вы случайно не знаете здесь молодого человека по имени Клифорд Голден? — Насколько помню, никогда не слыхал о таком, — медленно ответил Тайтус. — Или Карл Грэхем? — Нет, сэр. И с таким именем человека не припомню. — Так я и думал, — воскликнул Мейсон, обращаясь не столько к Тайтусу, сколько к самому себе, и продолжал строго и властно: — А кстати, где сейчас ваша дочь? — В Ликурге. Она теперь там работает. Но почему вы спрашиваете? Разве она сделала что-нибудь плохое… или просила вас о чем-нибудь? Он криво, с усилием улыбнулся, но в его серо-голубых глазах было смятение и тревожный вопрос. — Одну минуту, мистер Олден, — продолжал Мейсон мягко, но в то же время решительно. — Сейчас я вам все объясню. Но сначала я должен задать вам два-три вопроса. — И он посмотрел на Тайтуса серьезно и сочувственно. — Когда вы в последний раз видели вашу дочь? — Да вот, она уехала во вторник утром, потому как ей надо было возвращаться в Ликург. Она там работает на фабрике воротничков и рубашек Грифитса. Но… — Еще минуту, — твердо повторил прокурор, — я сейчас все объясню. Вероятно, она приезжала домой на субботу и воскресенье. Так? — Она приезжала в отпуск и прожила у нас примерно с месяц, — медленно и подробно объяснил Тайтус. — Она не совсем хорошо себя чувствовала и приехала домой немножко отдохнуть. Но когда она уезжала, она была совсем здорова. Вы ведь не привезли дурных вестей, мистер Мейсон? С ней ничего неладного не случилось? — С недоумевающим видом он поднес свою длинную загорелую руку к подбородку. — Да нет, не может этого быть… — Он растерянно провел рукой по редким седым волосам. — А вы не имели от нее вестей, с тех пор как она уехала? — спокойно продолжал Мейсон с твердым намерением получить возможно больше сведений, прежде чем нанести тяжелый удар. — Она не сообщала, что поедет не в Ликург, а еще куда-нибудь? — Нет, сэр, мы ничего не получали. Но скажите, с нею не случилось никакой беды? Может быть, она сделала что-нибудь такое… Да нет же, не может этого быть! Но вы так спрашиваете… Вы так говорите… Его пробирала дрожь, и он бессознательно дотрагивался рукой до тонких бледных губ. Но прокурор, не отвечая, достал из кармана письмо Роберты к матери, и, показывая старику одну только надпись на конверте, спросил: — Это почерк вашей дочери? — Да, сэр, это ее почерк, — ответил Тайтус, слегка возвышая голос. — Но в чем же дело, господин прокурор? Почему это письмо попало к вам? Что в этом письме? — Он судорожно стиснул руки, уже ясно читая в глазах Мейсона весть о каком-то страшном несчастье. — Что это? Что там?.. Что она пишет в этом письме? Вы должны мне сказать, что случилось с моей дочерью! Он в волнении оглянулся, словно собираясь бежать в дом, позвать на помощь, поделиться с женой своим ужасом… И Мейсон, видя, в какое состояние привел он несчастного старика, с силой, но дружески схватил его за руки. — Мистер Олден, — начал он, — у каждого из нас бывают в жизни такие тяжелые минуты, когда необходимо собрать все свое мужество. Я не решаюсь сказать вам, в чем дело, потому что я и сам многое испытал в жизни и понимаю, как вы будете страдать. — Она ранена! Может быть, она умерла? — пронзительно закричал Тайтус, расширенными глазами глядя на прокурора. Орвил Мейсон кивнул. — Роберта! Дитя мое! Господи! — Старик согнулся, точно от удара, и прислонился к дереву, чтобы не упасть. — Но как? Где? Ее убило машиной на фабрике? Боже милостивый! Он повернулся, чтобы пойти домой, к жене, но прокурор, человек с изувеченным лицом и сильными руками, удержал его: — Одну минуту, мистер Олден, одну минуту! Вы не должны пока идти к жене. Я знаю, это очень тяжело, это ужасно, Но позвольте объяснить. Не в Ликурге и не машиной, нет. Она утонула. В озере Большой Выпи. Она поехала за город в четверг, понимаете? Слышите, в четверг. Она утонула в озере Большой Выпи в четверг, катаясь на лодке. Лодка перевернулась. Горе Тайтуса, его полные отчаяния слова и жесты взволновали прокурора, и он не мог с должным спокойствием объяснить, каким образом все произошло (если даже предположить, что это был несчастный случай). Услышав, что Роберта умерла, потрясенный Олден едва не лишился рассудка. Выкрикнув свои первые вопросы, он начал глухо стонать, будто раненый зверь, ему не хватало дыхания. Он согнулся, скорчился, как от сильной боли, потом всплеснул руками и сжал ладонями виски. — Моя Роберта умерла! Моя дочь! Нет, нет! Роберта! О, господи! Утонула! Не может этого быть! Мать говорила о ней только час назад. Она умрет, когда услышит. И меня это убьет. Да, убьет. Моя бедная, моя дорогая девочка! Детка моя! Я не вынесу этого, господин прокурор! И он тяжело и устало оперся на Мейсона, который, как мог, старался его поддержать. Через минуту старик оглянулся на дом и посмотрел на дверь недоуменным, блуждающим взглядом помешанного. — Кто скажет ей? — спросил он. — Кто решится ей сказать? — Послушайте, мистер Олден, — убеждал Мейсон, — ради вас самих и ради вашей жены прошу вас: успокойтесь и помогите мне разобраться в этом деле, помогите трезво и тщательно, как будто речь идет не о вашей дочери. Я вам еще далеко не все рассказал. Но вы должны успокоиться. Дайте мне все объяснить. Это ужасно, и я от всей души вам сочувствую. Я знаю, как вам тяжело. Но тут есть ужасные и тягостные обстоятельства, о которых вы должны узнать. Выслушайте же меня! Выслушайте! И тут, продолжая держать Тайтуса под руку, Мейсон так быстро и убедительно, как только мог, сообщил различные факты и подозрения, связанные со смертью Роберты, потом дал ему прочитать ее письмо и под конец воскликнул: — Здесь преступление! Преступление, мистер Олден! Так мы думаем в Бриджбурге, — по крайней мере мы этого опасаемся, — несомненное убийство, мистер Олден, если можно употребить такое жестокое, холодное слово. Он помолчал, а Олден, потрясенный упоминанием о преступлении, неподвижно смотрел на него, словно не вполне понимая, что ему говорят. — Как я ни уважаю ваши чувства, — снова заговорил Мейсон, — однако, как главный представитель закона в моем округе, я счел своим долгом приехать сегодня сюда, чтобы узнать, что известно вам об этом Клифорде Голдене, или Карле Грэхеме, или о ком бы то ни было, кто завлек вашу дочь на это безлюдное озеро. Я понимаю, мистер Олден, вы сейчас испытываете жесточайшие страдания. И все же я утверждаю, что ваш долг — и это должно быть и вашим желанием — всеми силами помочь мне распутать это дело. Данное письмо показывает, что ваша жена, во всяком случае, знает кое-что об этом субъекте, знает хотя бы его имя. И он многозначительно постучал пальцем по письму. Как только Олден понял, что его дочь, видимо, стала жертвой злодейского насилия, к чувству горькой утраты примешался какой-то звериный инстинкт, смешанный с любопытством, гневом и страстью прирожденного охотника, — все это помогло ему овладеть собой, и теперь он молча и мрачно слушал, что говорил прокурор. Его дочь не просто утонула — она убита, и убил ее какой-то молодой человек, за которого, как видно из письма, она собиралась выйти замуж! И он, ее отец, даже не подозревал о существовании этого человека! Странно, что жена знала, а он — нет. И Роберта не хотела, чтобы он знал. И тотчас у него возникла мысль, порожденная его религиозными верованиями, условностями и обычным для деревенского жителя подозрительным отношением к городу и ко всей городской запутанной и безбожной жизни: наверно, какой-нибудь молодой богатый горожанин, соблазнитель и обманщик, с которым Роберта встретилась в Ликурге, обольстил ее, обещая жениться, а потом, конечно, не пожелал сдержать слово. И в нем мгновенно вспыхнуло жестокое, неукротимое желание отомстить тому, кто мог пойти на такое гнусное преступление против его дочери. Негодяй! Насильник! Убийца! И он и жена думали, что в Ликурге Роберта спокойно, серьезно и счастливо идет своим трудным и честным путем, работает, чтобы содержать себя и помогать им, старикам. А между тем с четверга до утра пятницы тело ее лежало на дне озера. А они спали на мягкой постели, ходили, разговаривали, не подозревая о ее страшной судьбе. И теперь ее тело где-то в чужой комнате или, может быть, в морге, и родные, любящие руки не позаботились о нем, и завтра равнодушные, холодные чиновники отвезут его в Бриджбург. — Если есть бог, — в волнении воскликнул Олден, — он не допустит, чтобы такой негодяй остался безнаказанным! Нет, не допустит!.. «Увижу я еще, — вдруг процитировал он, — детей праведника покинутыми и потомков его просящими хлеба». И внезапно, охваченный жгучей жаждой деятельности, он прибавил: — Теперь я должен все рассказать жене. Да, да, сейчас же! Нет, вы подождите здесь. Сначала я скажу ей все наедине. Я сейчас вернусь. Сейчас. Подождите меня здесь. Я знаю, это ее убьет. Но она должна знать все. Может быть, она скажет нам, кто он, тогда мы поймаем его, пока он не удрал подальше… Бедная моя дочка! Бедная маленькая Роберта! Моя милая, добрая, честная девочка! И так, бессвязно бормоча, со страдальческим, почти безумным лицом он повернулся и, угловатый и нескладный, походкой автомата направился к пристройке, которая служила кухней: там, как он знал, жена готовила какие-то особенные блюда к завтрашнему — воскресному — обеду. Но на пороге он остановился, у него не хватило мужества идти дальше. Он был живым воплощением трагической беспомощности человека перед безжалостными, непостижимыми и равнодушными силами жизни. Миссис Олден обернулась и, увидев его искаженное лицо, бессильно опустила руки; его предвещавший недоброе взгляд разом согнал с ее лица усталое, но мирное и простодушное спокойствие. — Тайтус, ради бога! Что случилось? Воздетые к небу руки, полуоткрытый рот, жуткие, невольно и неестественно сузившиеся и снова широко раскрывшиеся глаза и, наконец, одно слово: — Роберта! — Что с ней? Что с ней, Тайтус? Что с ней? Молчание. Снова нервные подергивания рта, глаз, рук… И потом: — Умерла! Она… она утонула! — И он без сил опустился на скамью, стоявшую тут же, у двери. Секунду-другую миссис Олден смотрела на него, не понимая, потом поняла и, не вымолвив ни слова, тяжело рухнула на пол. А Тайтус смотрел на нее и кивал, словно говоря: «Вот, вот. Только так и могло быть. Вот она и избавилась от этого ужаса». Он медленно встал, подошел к жене и, опустившись на колени, попытался приподнять ее. Потом так же медленно поднялся, вышел из кухни и, обойдя дом, направился к полуразрушенному крыльцу, где сидел Орвил Мейсон, глядя на заходящее солнце и раздумывая о том, какое горе поведал этот жалкий, неудачливый фермер своей жене. Ему даже захотелось на минуту, чтобы все было по-иному, чтобы этого дела, хоть оно и выгодно ему, Мейсону, вовсе не существовало. Но при виде похожей на скелет фигуры фермера он вскочил и, обогнав Олдена, поспешил к пристройке. Увидев на полу безмолвную и бесчувственную миссис Олден, почти такую же маленькую и хрупкую, как и ее дочь, он поднял ее своими сильными руками, пронес через столовую в большую общую комнату и положил здесь на расшатанную кушетку. Потом нащупал ее пульс и бросился за водой. При этом он огляделся по сторонам, нет ли поблизости сына, дочери, соседки, кого-нибудь, но никого не увидел и, поспешно вернувшись к миссис Олден, слегка обрызгал водой ее лицо и руки. — Есть тут где-нибудь доктор? — обратился он к Тайтусу, которого застал стоящим на коленях подле жены. — В Бильце есть… доктор Крейн. — А у вас или у кого-нибудь по соседству есть телефон? — У мистера Уилкокса. — Тайтус махнул рукой по направлению к дому Уилкокса, телефоном которого лишь недавно пользовалась Роберта. — Присмотрите за ней. Я сейчас вернусь. Мейсон бросился к телефону, чтобы вызвать Крейна или любого другого врача, и почти сейчас же вернулся вместе с миссис Уилкокс и ее дочерью. А затем — нескончаемое ожидание, пока не явились соседи и, наконец, доктор Крейн; с последним Мейсон посовещался о том, можно ли будет сегодня же поговорить с миссис Олден о важном и секретном деле, которое привело его сюда. И доктор Крейн, на которого произвели большое впечатление внушительные, официальные манеры мистера Мейсона, признал, что это, пожалуй, будет для нее даже лучше. С помощью лекарств, а также сочувственных уговоров и соболезнований миссис Олден привели в чувство, и, все вновь подбадриваемая и успокаиваемая, она смогла наконец выслушать обстоятельства дела, а потом и ответить на вопросы Мейсона о загадочной личности, упоминавшейся в письме Роберты. Она припомнила, что Роберта говорила лишь об одном человеке, который оказывал ей особое внимание, да и говорила-то о нем только раз, в минувшее рождество. Это был Клайд Грифитс, племянник богатого ликургского фабриканта Сэмюэла Грифитса, заведующий тем отделением, где работала Роберта. Но это, разумеется, отнюдь не означало, как сразу почувствовали и Мейсон и Олден, что племянник такого важного лица может быть обвинен в убийстве Роберты. Богатство! Положение в обществе! Понятно, Мейсон склонен был поразмыслить и помедлить, прежде чем выступить с таким обвинением. Слишком огромная была, на его взгляд, разница в общественном положении этого человека и утонувшей девушки. А все же могло быть и так. Почему нет? Пожалуй, юноша, занимающий такое положение, скорее, чем кто-либо другой, способен мимоходом завести тайный роман с такой девушкой, как Роберта, — ведь Хейт говорил, что она очень хорошенькая. Она работала на фабрике его дяди и была бедна. И к тому же, как сообщил Фред Хейт, кто бы ни был человек, с которым была эта девушка в час своей смерти, она решилась на сожительство с ним до брака. Разве это не характерно? Именно так и поступают богатые и развращенные молодые люди с бедными девушками. Мейсон в юности перенес немало ударов и обид, сталкиваясь с преуспевающими счастливцами, и эта мысль показалась ему очень убедительной. Подлые богачи! Бездушные богачи! А мать и отец, конечно, непоколебимо верили в невинность и добродетель дочери. Из дальнейших расспросов выяснилось, что миссис Олден никогда не видела этого молодого человека, но и никогда не слыхала о ком-либо другом. Она и ее муж могли дополнительно сообщить только, что в последний раз, когда Роберта приезжала на месяц домой, она чувствовала себя не совсем здоровой, ходила вялая и часто ложилась отдыхать. И еще что она все писала письма, которые отдавала почтальону или сама опускала в ящик внизу на перекрестке. Отец и мать не знали, кому были адресованы эти письма, но Мейсон тут же сообразил, что почтальон, вероятно, это знает. Далее, за месяц, который Роберта провела дома, она сшила себе несколько платьев — кажется, четыре. А в последнее время ее несколько раз вызывал к телефону какой-то мистер Бейкер, — это Тайтус слышал от Уилкокса. Уезжая, она взяла с собой только те вещи, с которыми приехала: небольшой сундучок и чемодан. Сундучок она сама сдала на станции в багаж, но Тайтус не мог сказать, отправила она его в Ликург или еще куда-нибудь. Мейсон обдумывал весьма важное, на его взгляд, сообщение о Бейкере, и тут ему вдруг пришло в голову: «Клифорд Голден — Карл Грэхем — Клайд Грифитс!» Одни и те же инициалы и сходное звучание этих имен поразили его. Поистине странное совпадение, если только этот самый Клайд Грифитс никак не замешан в преступлении! И ему уже не терпелось найти почтальона и допросить его. Но Тайтус Олден нужен был не только как свидетель, который опознает тело Роберты и установит, что именно ей принадлежали вещи в чемодане, оставленном на станции Ружейной, — он мог также убедить почтальона говорить начистоту, и потому Мейсон попросил старика одеться и поехать с ним, уверяя, что завтра же отпустит его домой. Предупредив миссис Олден, чтобы она никому ничего не говорила, Мейсон отправился на почту допрашивать почтальона. Почтальон был разыскан и допрошен в присутствии Олдена, который стоял около прокурора, похожий на гальванизированный труп. Роберта за время последнего пребывания здесь передала ему несколько писем — двенадцать, а то и пятнадцать, — сообщил почтальон и вспомнил даже, что все они были адресованы в Ликург, какому-то… как его?.. да, верно, Клайду Грифитсу, до востребования. Мейсон немедленно отправился с почтальоном к местному нотариусу, который по всем правилам закона запротоколировал эти показания. Потом прокурор позвонил к себе в канцелярию и, узнав, что тело Роберты уже доставлено в Бриджбург, поспешил туда со всей скоростью, какую только можно было развить на его машине. В десять часов вечера в приемной «Похоронного бюро братьев Луц» вокруг утопленницы собрались Бэртон Бэрлей, Хейт, Эрл Ньюком. Тайтус, едва не теряя рассудок, смотрел в лицо дочери. И тут Мейсон получил возможность, во-первых, убедиться, что это действительно Роберта Олден, и, во-вторых, решить для себя вопрос; можно ли считать ее девушкой из тех, которые с легкостью идут на недозволенную связь, на какую указывала запись в гостинице на Луговом озере. Нет, решил он, она не такая. Здесь налицо хитрый и злой умысел — совращение и убийство! Ах, негодяй! И до сих пор не пойман! Политическая значимость этого дела отошла в представлении Мейсона на задний план, уступив место гневу и ненависти ко всем богачам. Но эти минуты возле покойницы и вид Тайтуса Олдена, который, упав на колени перед дочерью, страстно прижимал к губам ее маленькие ледяные руки и неотрывно, лихорадочным, протестующим взглядом всматривался в ее восковое лицо, обрамленное длинными каштановыми волосами, — все предвещало, что едва ли общество формально и беспристрастно отнесется к этому делу. Глаза всех присутствующих были полны слез. И тут Тайтус Олден усилил драматизм этой сцены. В то время как братья Луц, трое их приятелей — владельцы автомобильной мастерской по соседству, — Эверет Бикер, представитель газеты «Республиканец», и Сэм Тэксон, редактор газеты «Демократ», стоя в дверях, через голову друг друга с почтительным страхом заглядывали в комнату, он вдруг вскочил и неистово кинулся к Мейсону с криком: — Найдите негодяя, который в этом виноват, господин прокурор! Пускай его заставят страдать, как страдала моя добрая, чистая девочка. Ее убили, вот что! Только убийца мог вот так завезти девушку на озеро и так ударить — он ее ударил, это всякому ясно! — И Тайтус указал на лицо мертвой дочери. — У меня нет денег, чтобы судиться с таким негодяем, но я буду работать… Я продам ферму… Голос его оборвался. Он снова повернулся к Роберте и едва не упал. И тогда Орвил Мейсон, которому передался скорбный и мстительный порыв несчастного отца, выступил вперед и воскликнул: — Пойдемте отсюда, мистер Олден. Мы знаем теперь, что это ваша дочь. Призываю всех вас, джентльмены, в свидетели: тело опознано. И если подтвердится предположение, что ваша бедная девочка убита, мистер Олден, я как прокурор торжественно обещаю вам не пожалеть ни времени, ни денег, ни сил, чтобы выследить этого негодяя и отдать его в руки властей. И если правосудие в округе Катараки стоит на высоте — а я в этом убежден, — вы можете положиться на любой состав присяжных, который будет подобран нашим здешним судом. И вам не придется продавать вашу ферму! Искреннее, хотя и внезапное волнение, а также присутствие потрясенных слушателей привело к тому, что ораторский талант мистера Мейсона проявился во всей своей силе и великолепии. И один из братьев Луц — Эд, исполнитель всех дел похоронного бюро, связанных со случаями внезапной и насильственной смерти, — в волнении заявил: — Верно, Орвил! Вот такой прокурор, нам и нужен. А Эверет Бикер закричал: — Действуйте, мистер Мейсон! Мы вас поддержим все как один, когда надо будет. Фред Хейт и его помощник, взволнованные драматическим выступлением Мейсона и его чрезвычайно живописным, даже героическим видом, подошли ближе. Хейт взял друга за руку, а Эрл воскликнул: — Желаю успеха, мистер Мейсон! Мы все сделаем, что можем, будьте уверены. И не забудьте про чемодан, который она оставила на Ружейной. Он у вас в канцелярии. Я передал его Бэртону два часа назад. — Да, верно. Я чуть не забыл о нем, — сказал Мейсон спокойно и деловито. Недавний порыв красноречия и чувствительности прошел. Теперь Мейсон находился под впечатлением необычайных похвал: никогда еще за все годы своей деятельности не переживал он ничего подобного.Глава 71
В сопровождении Олдена и должностных лиц Мейсон шел в свою канцелярию, спрашивая себя, чем могло быть вызвано это гнусное преступление. В юности ему очень не хватало женской близости, и потому у него развилась склонность к такого рода размышлениям. Он думал о красоте и обаянии Роберты и, с другой стороны, о ее бедности и строгом нравственном и религиозном воспитании и пришел к убеждению, что, судя по всему, этот молодой человек или мальчишка соблазнил ее, а потом, когда она ему надоела, выбрал такой способ, чтобы отделаться от нее, — мнимую, предательскую «свадебную поездку» на озеро. И тут Мейсон почувствовал безмерную личную ненависть к этому человеку. Подлые богачи! Праздные богачи! Порочные и злые бездельники! И молодой Клайд Грифитс — достойный представитель этой породы! Только бы его поймать! И в то же время он вдруг подумал, что, судя по некоторым обстоятельствам (девушка явно была в сожительстве с этим человеком), она могла быть беременна. Этой догадки было достаточно, чтобы возбудить в нем не только специфическое любопытство ко всем подробностям романа, приведшего к такому концу, но и нетерпеливое желание проверить, насколько справедливы его подозрения. И Мейсон стал думать, что нужно найти подходящего врача для вскрытия — если не в Бриджбурге, то в Утике или в Олбани, — а также сообщить об этом подозрении Хейту и, наконец, определить характер ударов, оставивших следы на лице Роберты. Но прежде всего надо было осмотреть чемодан и его содержимое, и тут Мейсону посчастливилось найти новую, крайне важную улику. Ибо, кроме платьев и шляп Роберты, белья, пары красных шелковых подвязок (они так и лежали в коробочке, в которой были куплены у Броунстайна в Ликурге), в чемодане оказался еще и туалетный прибор — рождественский подарок Клайда. И в уголке футляра, в складку серой шелковой подкладки была засунута маленькая, простенькая белая карточка с надписью: «Берте от Клайда. Поздравляю с рождеством!» Но фамилии не было. А почерк — торопливые каракули, потому что, когда Клайд писал это, он стремился отнюдь не к Роберте. Это поразило Мейсона: как же убийца не знал, что туалетный прибор вместе с карточкой лежит в чемодане? А если знал и не вынул карточки, тогда возможно ли, чтобы этот самый Клайд был убийцей? Мог ли человек, задумавший убийство, упустить из виду такую карточку, надписанную его собственной рукой? Что это за странный злоумышленник и убийца? И тут прокурор подумал: «Не стоит ли скрыть существование этой карточки до суда и потом неожиданно предъявить ее в случае, если преступник станет отрицать всякую близость с девушкой или то, что он подарил ей туалетный прибор?» И он взял карточку и сунул себе в карман, но сперва Эрл Ньюком, внимательно осмотрев ее, сказал: — Я не вполне уверен, мистер Мейсон, но мне кажется, что это очень похоже на запись в гостинице на Большой Выпи. И Мейсон ответил: — Ну, это мы скоро установим. Он знаком позвал Хейта в соседнюю комнату, где никто не мог их видеть и слышать, и сказал: — Ну, Фред, все в точности так, как вы думали. Она знает, с кем уехала дочь (он имел в виду то, что уже говорил Хейту по телефону из Бильца: что получил от миссис Олден сведения о предполагаемом преступнике). Но вы и через тысячу лет не отгадаете, кто это, если я вам не скажу. И он пристально посмотрел на Хейта. — Без сомнения, Орвил. Не имею ни малейшего понятия. — А вы знаете фирму «Грифитс и Компания» в Ликурге? — Не те, что делают воротнички? — Да, те самые. — Но не сын же? Глаза Фреда Хейта раскрылись так широко, как не раскрывались уже много лет. Большая загорелая рука ухватила длинную бороду. — Нет, не сын. Племянник. — Племянник Сэмюэла Грифитса?! Быть не может! Следователь, человек пожилой, набожный, строго нравственный, интересующийся политикой и коммерцией, теребил бороду и растерянно смотрел на Мейсона. — Пока что все обстоятельства указывают на это, Фред. Во всяком случае, я сегодня ночью еду в Ликург и надеюсь, что завтра буду знать больше. Но, видите ли, этот самый Олден — фермер, совершеннейший бедняк, его дочь работала на фабрике Грифитсов в Ликурге; а этот племянник Клайд Грифитс, как видно, заведовал тем отделением, где она работала. — Так, так, гак, — произнес следователь. — До этой поездки, до вторника, она провела месяц дома, — была больна (Мейсон сделал ударение на этом слове). За это время она написала ему по крайней мере десять писем, а может быть, и больше. Это я узнал от местного почтальона. Он дал показания под присягой, по всей форме, вот они! — Он похлопал по карману пиджака. — Все письма были адресованы в Ликург Клайду Грифитсу. Я даже знаю номер его дома. И знаю фамилию семьи, где жила девушка. Я звонил туда из Бильца. Сегодня прихвачу с собой в Ликург старика: вдруг там обнаружится что-нибудь такое, о чем он может знать. — Так, так, Орвил. Понимаю… понимаю… Но шутка ли, Грифитс!.. — И Хейт прищелкнул языком. — А главное, я хочу с вами поговорить насчет медицинской экспертизы, — продолжал Мейсон быстро и резко. — Знаете, я не думаю, чтобы он решил ее убить только потому, что не хотел на ней жениться. Это, по-моему, неубедительно. И Мейсон сообщил Хейту основные соображения, которые заставили его прийти к выводу, что Роберта была беременна. Хейт сразу согласился с ним. — Стало быть, требуется вскрытие, — сказал Мейсон, — и медицинское заключение о характере ран и ушибов. Прежде чем тело заберут отсюда, Фред, мы должны знать точно, без тени сомнения, была ли девушка сперва убита и потом выброшена из лодки, или только оглушена и выброшена, или лодка перевернулась. Это очень существенно для дела, сами понимаете. Мы ничего не сможем сделать, если не будем знать все это в точности. Но как насчет здешних врачей? Как, по-вашему, сумеет кто-нибудь из них сделать все это как следует, чтобы на суде никто не мог подкопаться под их заключение? Мейсон волновался: он уже строил план обвинения. — Не знаю, Орвил, — медленно ответил Хейт, — не могу сказать точно. Об этом вам лучше судить. Я уже просил доктора Митчелла зайти завтра и взглянуть на нее. Можно позвать Бетса. Но если вы предпочитаете кого-нибудь другого… Бево или Линкольна… Что вы скажете насчет Бево? — Пожалуй, лучше Уэбстера из Утики, — сказал Мейсон, — или Бимиса, или обоих сразу. В таком деле и четыре и пять экспертов не помешают. И Хейт, понимая всю тяжесть возложенной на него ответственности, прибавил: — Я думаю, вы правы, Орвил. Может быть, четыре или пять умов лучше, чем один или два. Но это значит, что мы должны отложить освидетельствование на день или на два, пока не соберем всех врачей. — Верно, верно, — подтвердил Мейсон. — Но это даже лучше. Я тем временем съезжу в Ликург и, возможно, сумею еще что-нибудь выяснить. Никогда нельзя знать заранее. Может быть, я там его и захвачу. По крайней мере надеюсь. Или хотя бы узнаю что-нибудь новое, что прольет свет на все дело… Я чувствую, что это будет большое дело, Фред. Самое трудное дело во всей моей практике, да и в вашей тоже, и мы должны взвешивать каждый свой шаг. Тут никакая осторожность не лишняя. Он, по-видимому, богат, — значит, будет бороться. И, кроме того, родные его поддержат. Он нервно взъерошил свои густые волосы. — Ничего, я думаю, справимся, — прибавил он. — Первым делом надо вызвать из Утики Бимиса и Уэбстера, — пожалуй, телеграфируйте-ка им сегодня, что ли, или позвоните по телефону. И Спралу в Олбани. А чтобы не нарушать мир в собственном доме, пригласим и здешних: Линкольна и Бетса. И, пожалуй, Бево. — Тут он разрешил себе слегка улыбнуться. — Ну вот, Фред, а я пока что начну собираться в дорогу. Устройте так, чтобы они приехали сюда не завтра, а в понедельник или во вторник. К тому времени я, должно быть, вернусь и тогда смогу сам быть при этом. А если можно, давайте в понедельник… чем скорее, тем лучше! Посмотрим, что тогда выяснится. Он достал из шкафа еще несколько бланков, потом вышел в приемную и сообщил Олдену, что им придется поехать вместе в Ликург, а Бэрлею поручил вызвать к телефону миссис Мейсон и объяснить ей, что прокурор должен был уехать по срочному делу и вернется не раньше понедельника. Всю дорогу до Утики — три часа езды и час, проведенный в ожидании поезда на Ликург, и еще час двадцать минут в вагоне этого поезда (в Ликург они прибыли около семи утра) — Орвил Мейсон усиленно вытягивал из подавленного и мрачного Тайтуса отрывочные сведения о скромном прошлом его и Роберты, и ее щедрости, послушании, порядочности, о ее добром и нежном сердце, о том, где именно она прежде работала, сколько получала и на что тратила деньги, — то была скромная повесть, и она глубоко тронула Мейсона. Приехав с Тайтусом в Ликург, Мейсон тотчас отправился в отель «Ликург» и, сняв номер, оставил там старика, чтобы тот мог отдохнуть. Оттуда он поспешил к местному прокурору, от которого ему нужно было получить разрешение действовать на его территории. Ему в помощь дали полицейского для поручений — рослого сыщика в штатском, — и он проследовал в комнату Клайда на Тэйлор-стрит, надеясь наперекор всему застать его дома. Однако вышедшая к ним миссис Пейтон сообщила, что Клайд, хотя и живет здесь, но в настоящее время отсутствует (уехал во вторник, вероятно, к своим друзьям на Двенадцатое озеро). И Мейсон не без некоторой неловкости вынужден был объяснить, во-первых, что он прокурор округа Катараки, и, во-вторых, что ввиду некоторых подозрительных обстоятельств, связанных с гибелью на озере Большой Выпи одной девушки, спутником которой, по-видимому, был Клайд, он, прокурор, должен произвести обыск в его комнате. Это заявление так потрясло миссис Пейтон, что она отпрянула и на лице ее отразились крайнее изумление, ужас и недоверие. — Как, мистер Клайд Грифитс!.. Да нет же, это нелепо! Он племянник мистера Сэмюэла Грифитса, и его здесь все знают. Если вам нужны какие-то сведения о нем, обратитесь к его родным: они вам, конечно, все скажут. Но чтобы такая вещь… да этого быть не может! И она так глядела на Мейсона и на местного сыщика, который уже успел показать ей свой значок, словно сомневалась и в их честности и в их полномочиях. А тем временем сыщик, привычный к такого рода обстоятельствам, уже встал за спиной миссис Пейтон, внизу лестницы, ведущей в верхний этаж. А Мейсон вынул из кармана предусмотрительно заготовленный ордер на производство обыска. — Мне очень жаль, сударыня, но я должен просить вас показать нам его комнату. Вот ордер, дающий мне право произвести обыск, а это подчиненный мне полицейский агент. И, сразу поняв всю тщетность борьбы с законом, миссис Пейтон дрожащей рукой указала на комнату Клайда, хотя и думала при этом, что произошло какое-то бессмысленное, глубоко несправедливое и оскорбительное недоразумение. А те двое, войдя в комнату Клайда, стали ее осматривать. Оба сразу заметили в углу небольшой и не очень прочный запертый сундук, и Фауне, сыщик, сейчас же попытался приподнять его, чтобы определить вес, а Мейсон стал осматривать одну за другой все вещи в комнате, содержимое всех ящиков и коробок, а также всех карманов в одежде. И в ящике шифоньерки, среди вышедших из употребления кальсон и рубашек и старых приглашений от Трамбалов, Старков, Грифитсов и Гарриэтов, он нашел листок блокнота, на котором Клайд записывал для памяти, куда он приглашен: «Среда 20 февраля. Обед у Старков», ниже: «Пятница, 22, Трамбалы». Сравнив этот почерк с почерком на карточке, которая была у него в кармане, Мейсон сейчас же убедился по их сходству, что действительно находится в комнате именно того человека, который ему нужен. Он спрятал листок в карман и посмотрел в угол, где сыщик внимательно разглядывал запертый сундук. — Как быть с этим, начальник? Заберем отсюда или вскроем здесь? — Я думаю, — внушительно сказал Мейсон, — что нам следует вскрыть его здесь. Фауне. Позже я пришлю за ним, но я хотел бы теперь же знать, что в нем есть. Сыщик сейчас же извлек из кармана тяжелую стамеску и посмотрел, нет ли где-нибудь молотка. — Сундук не такой уж прочный, — сказал он, — думаю, что смогу взломать его, если вам угодно. Но тут миссис Пейтон, безмерно удивленная таким оборотом дела, не выдержала и вступилась в надежде помешать столь грубым действиям. — Я могу дать вам молоток, если хотите, — заявила она, — но разве нельзя послать за слесарем? Никогда в жизни не слыхала ничего подобного! Тем не менее сыщик завладел молотком и сбил замок. В небольшом верхнем отделении оказалась всяческая туалетная мелочь: носки, воротнички, галстуки, кашне, подтяжки, потрепанный свитер, пара высоких зимних сапог весьма среднего качества, мундштук, красная лакированная пепельница и коньки. Но среди всего этого, в углу, лежали также связанные вместе-последние пятнадцать писем Роберты, отправленные из Бильца, и небольшой ее портрет, который она ему подарила в прошлом году. И тут же — другая, маленькая пачка, в которой были собраны все записочки и приглашения, написанные ему Сондрой до того дня, когда она уехала на Сосновый мыс. Письма, написанные оттуда, Клайд носил с собой на груди, у сердца. Нашлась и третья пачка, еще более компрометирующая, — одиннадцать писем от матери, причем первые два были адресованы Гарри Тенету в Чикаго до востребования — обстоятельство, явно очень подозрительное, а остальные — Клайду Грифитсу в Чикаго, а затем в Ликург. Прокурор не стал ждать и смотреть, что еще окажется в сундуке, а взялся за письма: сначала он прочитал первые три письма Роберты, после чего ему стала совершенно ясна причина ее отъезда в Бильц; затем три первых письма от матери на трогательно простой, дешевой бумаге: она намекала на безрассудное поведение Клайда в Канзас-Сити и на несчастный случай, из-за которого ему пришлось оттуда уехать, и настойчиво и нежно убеждала его в будущем не сбиваться с пути. И Мейсон, который с юности привык подавлять свои страсти и очень плохо знал людей и человеческие отношения, тут же вообразил, что этот субъект с ранней юности отличался неустойчивым характером, легкомыслием и распущенностью. В то же время Мейсон с удивлением узнал, что хотя Клайд и пользуется здесь поддержкой богатого дяди, но принадлежит к бедной и притом очень религиозной ветви семейства Грифитс. В обычных условиях это могло бы несколько смягчить его отношение к Клайду. Однако теперь под влиянием записочек Сондры, трагических писем Роберты и намеков матери на какое-то прежнее преступление в Канзас-Сити он пришел к убеждению, что Клайд по складу своего характера вполне способен был не только задумать это новое преступление, но и хладнокровно его осуществить. Что же там было, в Канзас-Сити? Необходимо телеграфировать тамошнему прокурору и запросить о подробностях. Думая об этом, он стал бегло, но все так же зорко и критически просматривать различные записочки, приглашения и любовные письма Сондры. Все они были сильно надушены, написаны на великолепной бумаге с монограммой и становились раз от разу все ласковее и интимнее, а более поздние неизменно начинались словами: «Клайди, маленький», или «мой милый черноглазик», или «мой милый мальчик», и были подписаны либо по-детски «Сонда», либо «Ваша Сондра»… Некоторые из них были совсем недавние: от десятого, пятнадцатого, двадцать шестого мая, — как раз в это время, как мгновенно отметил Мейсон, стали приходить самые печальные письма от Роберты. Теперь все ясно. Он тайно обольстил одну девушку, и при этом у него хватило нахальства добиваться взаимности другой, на сей раз принадлежащей к высшему кругу здешнего общества. Захваченный и ошеломленный этим поразительным открытием, Мейсон, однако, понимал, что теперь не время сидеть в раздумье. Отнюдь нет. Этот сундук надо немедленно переправить в отель «Ликург». Далее он должен, если только возможно, выяснить, где именно находится этот субъект, и изловить его… Он приказал сыщику позвонить в полицейское управление и позаботиться, чтобы сундук доставили в его номер в отеле, а сам поспешил в особняк Сэмюэла Грифитса, но там узнал, что вся семья за городом, на Лесном озере. В ответ на его телефонный запрос с Лесного озера сообщили, что, насколько там известно, Клайд Грифитс находится теперь на даче Крэнстонов, на Двенадцатом озере, неподалеку от Шейрона, рядом с дачей Финчли. И фамилия Финчли и городок Шейрон уже были связаны в сознании Мейсона с Клайдом, и он сразу решил, что если Клайд еще не удрал подальше от этих мест, то он должен быть именно там, возможно, на даче у девицы, которая писала все эти записочки и приглашения, этой Сондры Финчли. И ведь капитан «Лебедя» заявил, что молодой человек, ехавший из Бухты Третьей мили, сошел в Шейроне. Эврика! Он поймал его! И, тщательно обдумав дальнейший образ действий, Мейсон тут же решил самолично отправиться в Шейрон и на Сосновый мыс. А пока, получив точное описание наружности Клайда, он сообщил и эти приметы и то обстоятельство, что Клайд разыскивается по подозрению в убийстве, не только прокурору и начальнику полиции в Ликурге, но также шерифу в Бриджбурге Ньютону Слэку, Хейту и своему помощнику, предлагая всем троим немедленно выехать в Шейрон, где он с ними встретится. Затем, якобы по поручению миссис Пейтон, он связался по междугородному телефону с дачей Крэнстонов на Сосновом мысе и спросил дворецкого, нет ли у них случайно мистера Клайда Грифитса. «Да, сэр, он здесь, сэр, но сейчас его нет поблизости, сэр. Должно быть, он отправился на прогулку по озеру, сэр. Что прикажете передать, сэр?» На дальнейшие расспросы дворецкий не мог ответить точно: все общество отправилось, вероятно, на Медвежье озеро — это милях в тридцати; когда они вернутся, трудно сказать, должно быть, через день-два, не раньше. Но ясно было, что Клайд уехал с этой компанией. И Мейсон тотчас вторично вызвал бриджбургского шерифа и дал ему указание взять с собой четырех или пятерых агентов, для того чтобы преследователи могли в Шейроне разделиться, схватить этого самого Клайда, где бы он ни был, и посадить в бриджбургскую тюрьму. А там пускай он объяснит в соответствии с процедурой, установленной законом, странные обстоятельства, которые до сих пор, казалось бы, неопровержимо указывали на него как на убийцу Роберты Олден.Глава 72
С тех пор как воды озера сомкнулись над Робертой, а Клайд доплыл до берега и, переменив платье, добрался до Шейрона, а потом до дачи Крэнстонов, он находился в состоянии почти полного умственного расстройства и в своем смятении и страхе никак не мог понять, виновен он или не виновен в безвременной гибели Роберты. В то же время он ясно понимал: если случайно заметят, как он украдкой пробирается к югу, вместо того чтобы повернуть на север к гостинице и сообщить об этой как будто нечаянной катастрофе, то его поведение сочтут настолько черствым и жестоким, что всякий с полной убежденностью обвинит его в убийстве. И эта мысль терзала его, ибо теперь ему казалось, что на самом деле он не виноват, — ведь в последнюю минуту в душе его совершился переворот! Но кто поверит этому теперь, раз он не вернулся и не сообщил о случившемся! А сейчас уже невозможно вернуться. Если Сондра услышит, что он был на этом озере с фабричной работницей, что он записал ее в гостинице как свою жену… Боже! А потом объяснять все это дяде или холодному, жестокому Гилберту… и всей этой шикарной, циничной молодежи в Ликурге?.. Нет, нет! Зайдя так далеко, он не может отступить. Иначе катастрофа… быть может, смерть. Он должен использовать, насколько возможно, это ужасное положение, использовать свой замысел, который привел к такой странной,словно оправдывающей его развязке. Но эти леса! Наступающая ночь! Жуткое одиночество и опасности, таящиеся всюду и во всем! Что делать, что сказать, если кто-нибудь встретится? Он был в полном смятении, на грани душевного и нервного расстройства. Хрустни сучок — и он бросится бежать, как заяц. В таком состоянии он дождался темноты и углубился в лес, но прежде отыскал свой чемодан, переменил костюм и, выжав мокрую одежду и попытавшись кое-как высушить ее, уложил в чемодан, покрыл сухими ветвями и хвоей, а затем спрятал штатив фотографического аппарата под стволом упавшего дерева. И все упорнее он думал о своем странном и опасном положении. Что, если кто-нибудь был на берегу в ту самую минуту, когда он нечаянно ударил Роберту, и оба они упали в воду, и она так пронзительно и жалобно закричала? Что, если кто-нибудь видел это… один из тех сильных, здоровенных парней, которых он заметил здесь днем… быть может, вот сейчас кто-то поднимает тревогу — и уже в эту ночь десятки людей пустятся его преследовать. Охота на человека! Они схватят его, и никто не поверит, что он ударил ее нечаянно! Его даже могут линчевать, не дожидаясь законного суда. Это возможно. Это бывало. Веревка на шею. Или, может быть, пристрелят здесь, в лесу. И даже не выслушают, не дадут объяснить, как это случилось… как долго она преследовала и мучила его! Никто никогда его не поймет! И, думая об этом, он шел все быстрей и быстрей — так быстро, как позволяли крепкие, густо растущие колючие молодые деревца и зловеще потрескивающие под ногами сухие ветки, — шел, твердя мысленно, что дорога к Бухте Третьей мили должна быть у него справа, а луна, когда взойдет, слева. Но, боже, что-это? Ужасный звук! Словно жалобный и зловещий стон некоего духа во тьме! Вот! Что это? Он выронил чемодан, весь в холодном поту опустился на землю и в страхе съежился у подножия высокого ветвистого дерева, оцепеневший и недвижимый. Ужасный крик! Да это же сова! Он слышал ее крик несколько недель назад, когда был на даче Крэнстонов. Но здесь! В этой чаще! В этой тьме!.. Надо идти, надо поскорее выбраться отсюда, это ясно. Надо прогнать эти страшные, ужасающие мысли, иначе у него вовсе не останется ни сил, ни мужества. Но взгляд Роберты! Тот последний молящий взгляд! Боже! Ее глаза и сейчас перед ним. И эти отчаянные, ужасные крики! Неужели они будут все время звучать у него в ушах… до тех пор, пока он не выберется отсюда? Поняла ли она, когда он ее ударил, что это случилось без злого умысла… что это было только мгновение гнева и протеста? Знает ли она это теперь, где бы она ни была — на дне озера или, быть может, здесь, в темной чаще, с ним рядом? Ее призрак!.. Нет, нужно скорей бежать прочь… прочь! Нужно… и все же… здесь, в чаще, он в безопасности! Надо взять себя в руки, не следует выходить на большую дорогу. Там прохожие. Там, может быть, люди, которые ищут его!.. Но верно ли, что человек живет и после смерти? Что существуют приведения? И они знают всю правду? Тогда она должна знать… но тогда они знает и о его прежних замыслах. Что она подумает! Может быть, это она сейчас с мрачным укором преследует его своими ошибочными обвинениями? Ошибочными — хоть и правда, что сперва он хотел ее убить. Он замышлял это! Замышлял! И это, конечно, великий грех. И хотя он и не убил ее, но что-то сделало это за него. Все это правда. Но привидения!.. Боже, призраки тех, кто уже умер… они преследуют тебя, чтобы разоблачить и наказать… быть может, они стараются направить людей по твоему следу… как знать? Мать когда-то призналась ему, Фрэнку, Эсте и Джулии, что она верит в привидения. И, наконец, луна (к этому времени уже три часа он шел вот так, спотыкаясь, прислушиваясь, выжидая, весь дрожа и обливаясь потом). Кругом, слава богу, никого! И высоко над головой звезды, яркие и ласковые, как над Сосновым мысом, где Сондра… Если бы она видела его сейчас, как он бежит от Роберты, погребенной в водах озера, на поверхности которого плавает его шляпа! Если бы она слышала крики Роберты! Странно… никогда, никогда, никогда он не сможет рассказать ей, что из-за нее — ее красоты, страсти к ней, из-за всего, что она для него значит, — он мог… мог… ну… попытаться совершить это ужасное дело — убить девушку, которую прежде любил. И всю жизнь его будет преследовать эта мысль. Никогда он не сможет от нее отделаться — никогда, никогда, никогда! Прежде он об этом не думал. А ведь это ужасно! И вдруг во мраке, около одиннадцати часов, как он потом сообразил — от воды его часы остановились, — когда он уже выбрался на большую дорогу, ведущую «на запад, и прошел милю или две, из темной чащи внезапно, как призраки, вышли те трое! Сперва он подумал, что они видели его в тот миг, когда он ударил Роберту, или сразу после этого, и теперь пришли его схватить. Какая страшная минута! А мальчик поднял фонарь, чтобы лучше рассмотреть его лицо! И, несомненно, увидел на этом лице подозрительный испуг и смятение, ибо как раз в ту минуту Клайд был поглощен самым мрачным раздумьем о случившемся: его неотступно преследовала мысль, что он нечаянно оставил какую-нибудь улику, которая легко может его выдать. Он отпрянул, уверенный, что это люди, посланные его изловить. Но в эту минуту высокий тощий человек, шедший впереди, запросто окликнул, словно его только позабавила явная трусость Клайда: «Здорово, прохожий!» — а мальчуган, не проявляя ни малейшего удивления, шагнул вперед и прибавил света в фонаре. И тут только Клайд понял, что это просто здешние крестьяне или проводники, а вовсе не отряд, посланный за ним в погоню, и, если он будет спокоен и вежлив, они никогда не заподозрят в нем убийцу. Но потом он сказал себе: «А ведь они запомнят меня. Запомнят, что я шел по пустынной дороге в такой час с чемоданом…» И тут же решил, что должен спешить… спешить… и никому больше не попадаться на глаза. А через несколько часов, когда луна уже заходила и от изжелта-бледного, болезненного света, разлитого в лесу, ночь стала еще тоскливее и тягостней, Клайд подошел к Бухте Третьей мили — селению, состоявшему из кучки убогих хижин и дачных коттеджей, лепившихся на северном отроге Индейских гор. С поворота дороги он увидел, что кое-где в окнах еще мерцают слабые огоньки. Лавки. Дома. Уличные фонари. Но в бледном свете луны они казались совсем тусклыми — тусклыми и призрачными. Ясно одно: в этот час, в таком костюме, с чемоданом в руке, ему нельзя появиться здесь. Своим видом он, несомненно, возбудит любопытство и подозрения, если его кто-нибудь заметит. Пароходик, который ходит между этим поселком и Шейроном (откуда Клайд должен был отправиться дальше, к Сосновому мысу), отойдет только в половине девятого, — значит, пока нужно скрыться где-нибудь и по возможности привести себя в приличный вид. И Клайд вновь вошел в лес, подступавший к самой окраине поселка, думая там дождаться утра; оттуда он мог следить за часами на башне маленькой церквушки, чтобы знать, когда настанет время выйти. А пока он старался сообразить, благоразумно ли поступает. Вдруг кто-нибудь уже поджидает его здесь? Те трое… или, может быть, еще кто-нибудь, кто видел… Или извещенный кем-нибудь полицейский агент?.. И немного погодя он решил, что все же лучше спуститься в поселок. Стоит ли пробираться лесами по западному берегу озера… да еще ночью, потому что днем его могут увидеть… Ведь если сесть на этот пароходик, он через полтора часа, самое большее через два будет у Крэнстонов в Шейроне! А пешком он попадет туда только завтра — это глупо, это гораздо опаснее. И, кроме того, он обещал Сондре и Бертине приехать во вторник, а сегодня уже пятница. И притом завтра, может быть, уже поднимется шум, начнется погоня… во все концы сообщат его приметы… а сегодня утром… разве Роберту могли найти так быстро? Нет, нет. Это лучший путь. Кто здесь знает его, кто сможет установить, что он и есть Карл Грэхем или Клифорд Голден? Лучше всего поспешить, прежде чем станет известно что-либо о Роберте. Да, так. И наконец, когда башенные часы показывали десять минут девятого, с сильно бьющимся сердцем он вышел из лесу. Улица вела к пристани, откуда должен был отойти пароходик в Шейрон. Клайд медлил и вдруг увидел подъезжающий автобус с озера Рэкет. И ему подумалось, что, если на пристани или на палубе он столкнется с кем-нибудь из знакомых, можно будет сказать, что он только сейчас приехал с озера Рэкет, где у Сондры и Бертины много Друзей: а если он встретит одну из них, то скажет, что был на озере Рэкет третьего дня. Назовет любую фамилию или дачу, в крайнем случае вымышленную. Итак, он направился к пароходу и взошел на палубу, а потом сошел в Шейроне и при этом, как ему казалось, не привлек к себе ничьего внимания. На пароходе было с десяток пассажиров, но ни одного знакомого, и никто из них, если не считать молодой девушки в голубом платье и белой соломенной шляпе, по-видимому, здешней жительницы, не обратил внимания на Клайда. А взгляд этой девушки выражал скорее восхищение. Впрочем, этого было достаточно, чтобы Клайд, старавшийся поменьше бросаться в глаза, ушел на корму, тогда как остальные предпочитали носовую часть палубы. По прибытии в Шейрон, зная, что большинство пассажиров направится на железнодорожную станцию к первому утреннему поезду, он быстро пошел за всеми, но свернул в первое попавшееся кафе в надежде замести следы. Хотя он прошел пешком немалый путь от озера Большой Выпи, а перед тем полдня греб и, завтракая с Робертой, только притворялся, что ест, он даже теперь не был голоден. Потом, увидев кучу идущих со станции пассажиров — среди них не было никого знакомого, — он присоединился к ним, делая вид, что тоже направляется прямо с поезда к гостинице и на пристань. Это, наверно, пришел поезд с юга, из Олбани и Утики, подумал он, и, следовательно, покажется вполне правдоподобным, что он приехал с этим поездом. Он сделал вид, будто идет со станции, но По дороге, разыскав телефон, сообщил Бертине и Сондре о своем приезде и, услышав, что за ним пришлют не моторную лодку, а автомобиль, предупредил, что будет ждать на веранде гостиницы. По пути он купил утреннюю газету, хотя и понимал, что там еще не может быть, никаких сообщений о случившемся. Как только он дошел до гостиницы и сел на веранде, подъехал автомобиль Крэнстонов. На приветствие и гостеприимную улыбку хорошо знакомого ему шофера Крэнстонов Клайд все-таки сумел ответить веселой и как будто непринужденной улыбкой, хотя в глубине души и сейчас терзался страхом. Несомненно, твердил он про себя, те трое, что встретились с ним в лесу, уже пришли на озеро Большой Выпи. А там теперь, конечно, уже хватились его и Роберты, и, может быть — кто знает, — уже обнаружены опрокинутая лодка, его шляпа, ее вуаль. И те трое, может быть, уже сообщили, что видели молодого человека с чемоданом, пробиравшегося ночью по направлению к югу. А если так, независимо от того, найдено ее тело или нет, могут возникнуть сомнения, действительно ли они оба утонули. А что, если по какой-нибудь странной случайности тело Роберты уже всплыло на поверхность? Что тогда? Может быть, на лице у нее остались следы от удара — он ведь сильно ударил ее. Если так, станут подозревать, что тут убийство. И раз его тело не найдут, а эти люди опишут внешность повстречавшегося им мужчины, не сочтут ли убийцей Клифорда Голдена или Карла Грэхема? Но Клифорд Голден или Карл Грэхем — не Клайд Грифитс. Разве можно установить, что Клайд Грифитс и Клифорд Голден или Карл Грэхем одно и то же лицо? Ведь он принял все меры предосторожности и, когда они были на Луговом озере, даже обыскал чемодан и сумочку Роберты, пока она по его просьбе выходила, чтобы позаботиться о завтраке. Правда, он нашел два письма от одной девушки, Терезы Баузер, адресованные Роберте в Бильц, но он их уничтожил еще перед отъездом на Ружейную. Туалетный прибор в футляре с клеймом «Уайтли, Ликург» пришлось оставить, но ведь миссис Голден или миссис Грэхем могла сама купить этот прибор в магазине Уайтли, такая вещь никак не может навести на его след. Разумеется, нет. Да, еще платья Роберты. Но даже если они помогут опознать ее, разве ее родители, как и все прочие, не подумают, что она отправилась в это путешествие с каким-то неизвестным человеком по фамилии Голден или Грэхем? Пожалуй, они предпочтут не предавать огласке эту историю. Так или иначе Клайд решил надеяться на лучшее, сохранять самообладание, держаться спокойно, бодро и весело, чтобы здесь никто не мог ни в чем его заподозрить, тем более что ведь, в сущности, он и не убивал Роберту! И вот он едет в великолепном автомобиле. Сондра и Бертина его ждут. Придется сказать, что он приехал прямо из Олбани: ездил туда по поручению дяди, которое отняло у него все время, начиная со вторника. Он будет наслаждаться обществом Сондры, и все же ему придется всегда, все время думать об этих ужасах… Вдруг он совершил какую-нибудь оплошность, не сумел скрыть все следы, которые могут привести к нему… Что, если так? Разоблачение! Арест! Быть может, его второпях несправедливо осудят… даже покарают… если только он не сумеет объяснить, что это был нечаянный удар. Тогда конец всем его мечтам о Сондре… о Ликурге… надеждам на блестящее будущее. Но сумеет ли он объяснить? Сможет ли? О боже!Глава 73
С утра пятницы до полудня следующего понедельника Клайда окружало все, что раньше так восхищало и радовало его, и все же он непрерывно терзался мучительнейшими страхами и опасениями. С той минуты, как Сондра и Бертина встретили его у входа на дачу Крэнстонов и проводили в отведенную для него комнату, он не переставая думал о контрасте между всеми здешними радостями и грозящей ему близкой и безвозвратной гибелью. Едва он вошел, Сондра, надув губки, шепнула ему, так чтобы не могла услышать Бертина: — Гадкий! Сидел там целую неделю, когда мог быть здесь. А Сондра для него все устроила! Надо бы вас хорошенько отшлепать. Я уже хотела звонить вам сегодня, чтобы узнать, где вы! А глаза ее говорили, что она в него страстно влюблена. И, несмотря на свои тревожные мысли, Клайд весело улыбнулся ей, потому что в ее присутствии все ужасы — и смерть Роберты и опасность, грозившая ему самому, — казалось, разом отошли на задний план. Только бы все сошло благополучно, только бы ничего его не выдало! Впереди широкая дорога! Великолепное будущее! Красавица Сондра! Ее любовь! Богатство! И, однако, пройдя в свою комнату, куда еще раньше доставили его чемодан, Клайд сразу стал нервничать из-за костюма. Ведь он мокрый и мятый, его необходимо спрятать, хотя бы в шкаф, на верхнюю полку. Как только Клайд остался один и запер дверь на ключ, он вынул костюм из чемодана — непросохший, измятый, с грязью берегов озера Большой Выпи на брюках — и тут же решил, что, пожалуй, лучше оставить его в запертом чемодане до ночи: тогда можно будет лучше обдумать, как с ним быть. Но все остальное, что было на нем в тот день, он связал в узелок, чтобы отдать в стирку. И, делая это, ясно, до ужаса, до тошноты сознавал всю таинственность, весь трагизм и пафос жизни… сколько он пережил после переезда в восточные штаты, как мало хорошего видел в юности! И как мало, в сущности, дано ему теперь. Какой контраст между этой просторной, роскошной комнатой и его комнаткой в Ликурге. Как странно, что он вообще здесь после вчерашнего… Голубые воды этого сверкающего озера за окном так непохожи на темные воды Большой Выпи!.. А на зеленой лужайке, расстилающейся от этого светлого, прочного и просторного дома с его широкой верандой и полосатыми маркизами до самого озера, Стюарт Финчли, Вайолет Тэйлор, Фрэнк Гарриэт и Вайнет Фэнт в шикарных спортивных костюмах играют в теннис, а Бертина и Харлей Бэгот отдыхают в тени навеса. И вот Клайд, приняв ванну и переодевшись, делает веселое лицо, хотя нервы его по-прежнему натянуты и его терзают страхи, и, выйдя из дому, подходит к Сондре, Бэрчарду Тэйлору и Джил Трамбал: они хохочут над каким-то забавным приключением, которое произошло во время вчерашнего катанья на моторной лодке. Джил встречает его веселым возгласом: — Привет, Клайд! Где вы пропадали? Я вас, кажется, сто лет не видела. А он, многозначительно улыбнувшись Сондре — никогда еще он так не жаждал ее понимания и любви, — подтянулся на руках, уселся на перилах веранды и ответил насколько мог спокойно: — Со вторника работал в Олбани. Жарко там! Ужасно рад, что попал сюда сегодня. А кто здесь есть? — Почти все, по-моему, — улыбнулась Джил. — Вчера у Рэнделов я встретила Ванду. А Скотт писал Бертине, что приедет в будущий вторник. Похоже, что на Лесном в этом году будет не очень-то много народу. Тут начался долгий и оживленный спор: почему Лесное озеро теперь уже не то, что прежде. Вдруг Сондра воскликнула: — Боже, я совсем забыла! Я должна сегодня позвонить Белле. Она обещала на будущей неделе поехать в Бристол на выставку лошадей. Заговорили о лошадях и собаках. Клайд внимательно слушал, изо всех сил стараясь казаться таким, как все, но продолжая мучительно думать все о том же. Те трое встречных… Роберта… Может быть, ее тело уже нашли… А впрочем, уговаривал он себя, к чему столько страхов? Вряд ли можно найти ее на такой глубине — ведь там футов пятьдесят! И как могут узнать, что он и есть Клифорд Голден и Карл Грэхем? Как узнают? Ведь он же замел все следы… вот только те трое встречных… те трое встречных! Он невольно вздрогнул, словно в ознобе. И Сондра почувствовала, что он чем-то угнетен. Еще в первый приезд Клайда она заметила, как скуден его гардероб, и теперь решила, что причина его плохого настроения — недостаток средств. Она непременно сегодня же возьмет семьдесят пять долларов из своих сбережений и заставит его принять их, пускай на этот раз, пока он здесь, его не смущают всякие неизбежные мелкие расходы. А через несколько минут, подумав, что небольшая партия в гольф дает массу удобных случаев для мимолетных объятий и поцелуев в укромном уголке, она вскочила с возгласом: — Кто на партию в гольф? Джил, Клайд, Бэрч! Давайте сыграем вчетвером? Пари держу, что вам двоим не одолеть нас с Клайдом. — Согласен! — воскликнул Бэрчард Тэйлор, вставая и оправляя свой желтый в синюю полоску свитер. — Хоть я и вернулся сегодня домой в четыре утра. А как вы, Джилли? Сонни, условие: проигравший угощает всех завтраком, согласны? Клайд вздрогнул и похолодел, он подумал о жалких двадцати пяти долларах, которые остались у него после всех его ужасных приключений. А завтрак на четверых будет стоить в клубе долларов восемь или десять, не меньше! А может быть, и больше! Но тут Сондра, заметив его смущение, воскликнула: «Идет!» — и, подойдя ближе к Клайду, легонько стукнула кончиком туфли по его ботинку. — Но мне надо переодеться. Это одна минута! А вы вот что, Клайд… вы пока найдите Эндрью и скажите, чтобы он принес палки для гольфа, ладно? Мы поедем в вашей лодке, правда, Бэрчи? Клайд побежал искать Эндрью, раздумывая о том, сколько будет стоить завтрак, если они с Сондрой проиграют, но Сондра догнала его и схватила за руку: — Подождите здесь, милый, я сию минуту вернусь! Она бросилась по лестнице наверх, в свою комнату и тотчас вернулась, крепко сжимая в маленькой руке пачку кредиток. — Вот, милый, скорее, — шепнула она и торопливо сунула деньги в карман его пиджака. — Шш… ни слова! Скорее! Это чтобы заплатить за завтрак, если мы проиграем, и для всяких прочих вещей… я скажу после. А как я люблю вас, мальчик мой маленький! Секунду она с восхищением смотрела на него своими ласковыми карими глазами, потом снова взбежала по лестнице и уже сверху крикнула: — Да не стойте вы тут, глупенький! Идите за палками! Быстро! И она исчезла. А Клайд, потрогав карман, понял, что она дала ему очень много денег, — несомненно, хватит не только на все траты здесь, но и на бегство, если понадобится. «Дорогая! Милая девочка!» — воскликнул он про себя. Прелестная, нежная, щедрая Сондра! Она так любит его, по-настоящему любит. Но если она когда-нибудь узнает… О боже! И ведь все это ради нее… если бы только она знала! Все ради нее! Потом он отыскал Эндрью и вернулся к остальным, неся палки. И вот снова появилась Сондра. Она бежит к ним в модном зеленом вязаном спортивном костюме. Джил в шапочке и блузе, похожая на жокея, смеется и шутит с Бэрчардом, уже сидящим у руля моторной лодки. А Сондра на берегу кричит Бертине и Харлею Бэготу: — Эй, друзья! Не хотите ли с нами? — Куда? — В гольф-клуб при «Казино»! — Нет, слишком далеко. Увидимся после завтрака на пляже. И Бэрчард сразу берет такую скорость, что лодка прыгает, как дельфин. А Клайд смотрит на все как во сне, то с блаженством и надеждой, то словно сквозь темное облако ужаса, — за этой тьмой, быть может, уже вплотную подкрались к нему арест и смерть! Несмотря на все его прежние рассуждения, ему теперь стало казаться, что он сделал ошибку, когда, не скрываясь, вышел сегодня утром из лесу. И все же это было, пожалуй, самое лучшее, иначе ему пришлось бы сидеть в лесу целыми днями, а по ночам выбираться на дорогу, идущую вдоль берега, и по ней шагать до самого Шейрона. На это надо было потратить два или три дня. И тогда Сондра, удивленная и встревоженная его опозданием, могла позвонить в Ликург, пошли бы разговоры, расспросы о нем, которые впоследствии могли бы оказаться опасными… Но здесь в этот сияющий день, кажется, нет и не может быть никаких забот, по крайней мере остальные так беспечны… а в глубине его души холодный мрак… И Сондра, в восторге от того, что Клайд с нею, вдруг вскакивает — в руке ее, точно вымпел, развевается яркий шарф — и восклицает с веселым озорством: — Клеопатра плывет по морям навстречу… навстречу… да кого же она там встречала? — Чарли Чаплина, — подсказал Тэйлор, заставляя лодку выделывать неистовые скачки, чтобы Сондра потеряла равновесие. — Ну и глупо! — ответила Сондра, шире расставляя ноги, чтобы сохранить устойчивость. — Нет, вы тоже не знаете, Бэрчи, — прибавила она. — Клеопатра мчится… м-м… знаю — на акваплане! Она закинула голову назад и широко распростерла руки, а лодка все шарахалась то вправо, то влево, как перепуганная лошадь. — Все равно вам не свалить меня, Бэрчи! Вот увидите! — крикнула Сондра, и Бэрчард, то и дело меняя курс, стал резко, насколько хватало смелости, бросать лодку из стороны в сторону, а Джил в испуге закричала: — Что вы делаете? Хотите нас всех утопить? Клайд вздрогнул и побледнел, словно громом пораженный. Он вдруг почувствовал тошноту и слабость. Он никак не думал, что придется так страдать и мучиться. Ему казалось, что все будет совсем по-другому. И вот он бледнеет от каждого случайного, нечаянного слова. Но что, если ему придется вынести серьезное испытание… если неожиданно нагрянет полицейский агент и спросит, где он был вчера и что знает о смерти Роберты… Ведь он начнет мямлить, дрожать, не сможет, пожалуй, выговорить ни слова и, конечно, выдаст себя! Нет, надо взять себя в руки, держаться просто и весело… Надо… по крайней мере в этот первый день. К счастью, все были так веселы и возбуждены быстрой ездой, что, видимо, не заметили как ошеломил Клайда возглас Джил, и ему постепенно удалось вновь принять спокойный вид. А в это время лодка подходила к «Казино», и Сондра решила закончить поездку какой-нибудь эффектной выходкой: подпрыгнув, она ухватилась за перила пристани и подтянулась на руках, тогда как лодка проскользнула мимо и только после поворота причалила. И Клайда, которому при этом была послана сияющая улыбка, неудержимо потянуло к ней — к любящей, прелестной, великодушной, смелой Сондре, — и, чтобы быть достойным ее улыбки, он вскочил, помог Джил подняться по ступенькам пристани, а сам подтянулся на руках и вслед за Сондрой быстро взобрался наверх, стараясь казаться веселым и оживленным. Но это оживление было столь же фальшиво внутренне, как правдоподобно внешне. — Здорово! Вы настоящий гимнаст! И позже, на поле для игры в гольф, Клайд под руководством Сондры играл настолько успешно, насколько позволяли его неопытность и мучительное волнение. А она, в восторге от того, что они вместе, только вдвоем, и в ходе игры то и дело оказываются в тенистых уголках, где можно целоваться, стала рассказывать ему, что она, Стюарт, Фрэнк Гарриэт, Вайнет Фэнт, Бэрчард и Вайолет Тэйлор, Грэнт и Бертина Крэнстон, Харлей Бэгот, Перли Хейнс и Джил Трамбал собираются на экскурсию на целую неделю. Они двинутся в путь завтра днем — сначала тридцать миль по озеру на моторной лодке, дальше сорок миль автомобилем на восток, к так называемому Медвежьему озеру; там они разобьют палатки и постепенно объедут на байдарках его берега, — там есть всякие живописные уголки, известные только Харлею и Фрэнку. Каждый день на новом месте. Мальчики станут охотиться на белок и ловить рыбу на обед. А прогулки при лунном свете! И, говорят, там есть гостиница, до которой можно добраться на лодке. С ними поедут двое или трое слуг и приличия ради кто-нибудь из старших. А прогулки по лесу! И сколько удобных случаев для влюбленных — катанье на байдарке по озеру, долгие часы вдвоем! Они будут неразлучны целую неделю! И хотя события последних дней могли бы заставить Клайда поколебаться, он все же невольно подумал: что бы ни случилось, не лучше ли поехать с ними? Как чудесно, что Сондра его так любит? Да и что ему делать иначе? Это позволит ему уехать отсюда… дальше от места этого… этого… несчастного случая. И если, допустим, кто-то будет искать кого-то похожего на него… что ж, его просто не будет в тех местах, где могли бы его видеть и толковать о нем… Те трое встречных. Но тут же он сообразил, что ни в коем случае нельзя уезжать отсюда, не разузнав возможно точнее, не подозревают ли уже кого-нибудь. Поэтому после гольфа, оставшись на минутку один, он справился в киоске о газетах, но оказалось, что раньше семи или половины восьмого не будет ни газет из Утики и Олбани, ни местной вечерней. Значит, до тех пор он ничего не узнает. После завтрака все купались, танцевали, потом Клайд вместе с Харлеем Бэготом и Бертиной вернулся на дачу Крэнстонов, а Сондра отправилась на Сосновый мыс, условившись позже встретиться с Клайдом у Гарриэтов. Но все это время Клайд напряженно думал, как бы ему при первом же удобном случае достать газеты. Если не удастся зайти сюда сегодня по дороге от Крэнстонов к Гарриэтам и раздобыть все газеты или хотя бы одну, то надо ухитриться попасть в это «Казино» завтра с утра, до отъезда на Медвежье озеро. Он должен получить газеты. Он должен знать, говорят ли что-нибудь — и что именно — об утонувшей паре и начались ли розыски. По дороге Клайду не удалось купить газеты: их еще не доставили. И когда он пришел к Гарриэтам, там тоже еще не было ни одной газеты. Но через полчаса, когда он вместе со всеми сидел на веранде и весело разговаривал (впрочем, думая все о том же), появилась Сондра со словами: — Внимание, друзья! Я вам сейчас кое-что расскажу! Не то вчера, не то сегодня утром на озере Большой Выпи перевернулась лодка и двое утонули. Мне это сейчас сказала по телефону Бланш Лок, она сегодня в Бухте Третьей мили. Она говорит, что девушку уже нашли, а ее спутника еще нет. Они утонули где-то в южной части озера. Клайд мгновенно окаменел и стал бледен как полотно. Губы его казались бескровной полоской, и глаза, устремленные в одну точку, видели не то, что находилось перед ними, а берег далекого озера, высокие ели, темную воду, сомкнувшуюся над Робертой. Значит, ее уже нашли. Поверят ли теперь, как он рассчитывал, что его тело тоже там, на дне? Но надо слушать! Надо слушать, как ни кружится голова. — Печально! — заметил Бэрчард Тэйлор, переставая бренчать на мандолине. — Кто-нибудь знакомый? — Бланш говорит, что она еще не слышала подробностей. — Мне это озеро всегда не нравилось, — вставил Фрэнк Гарриэт. — Оно слишком пустынное. Прошлым летом мы с отцом и с мистером Рэнделом ловили там рыбу, но быстро уехали. Уж очень там мрачно. — Мы были на этом озере недели три назад. Помните, Сондра? — прибавил Харлей Бэгот. — Вам там не понравилось. — Да, помню, — ответила Сондра. — Ужасно пустынное место. Не представляю, кому и для чего хотелось туда поехать. — Надеюсь, что это не кто-нибудь из знакомых, — в раздумье сказал Бэрчард. — Это надолго испортило бы все наши удовольствия. Клайд бессознательно провел языком по сухим губам и судорожно глотнул: у него пересохло в горле. — Наверно, ни в одной сегодняшней газете об этом еще ничего нет. Кто-нибудь видел газеты? — спросила Вайнет Фэнт, которая не слышала первых слов Сондры. — Никаких газет нет, — заметил Бэрчард. — И все равно они еще ничего не могли сообщить. Ведь Сондре только что сказала про это по телефону Бланш Лок. Она сейчас в тех краях. — Ах, верно. «А все-таки, может быть, в шейронской вечерней газетке — как ее… «Бэннер», что ли?.. — уже есть какие-нибудь сообщения? Если бы достать ее еще сегодня!» — подумал Клайд. И тут другая мысль. Господи, только сейчас он впервые подумал об этом: его следы!.. вдруг они отпечатались там в грязи, на берегу? Он даже не обернулся, не посмотрел, так он спешил выбраться оттуда. А ведь они могли остаться. И тогда по ним пойдут… Пойдут за человеком, которого встретили те трое! За Клифордом Голденом! Его утренние странствия… Поездка в автомобиле Крэнстонов… И у них на даче его мокрый костюм! Что, если кто-нибудь в его отсутствие уже побывал в его комнате, все осмотрел, обыскал, всех расспросил… Может быть, открыл чемодан? Какой-нибудь полицейский! Господи! Этот костюм в чемодане! Почему он оставил его в чемодане и вообще при себе? Надо было еще раньше спрятать его… завернуть в него камень и закинуть в озеро хотя бы. Тогда он остался бы на дне. О чем он только думал, находясь в таком отчаянном положении? Воображал, что еще наденет этот костюм? Клайд встал. Все в нем окоченело, застыло: и душа и тело. Глаза на мгновение остекленели. Надо уйти отсюда. Надо сейчас же вернуться туда и избавиться от этого костюма… забросить его в озеро… спрятать где-нибудь в лесу, за домом!.. Да, но нельзя же уйти так вдруг, сразу после этой болтовни об утонувшей паре. Как это будет выглядеть? Нет, тотчас подумалось ему. Будь спокоен… старайся не проявить ни малейших признаков волнения… будь холоден… и попробуй сказать несколько ни к чему не обязывающих слов. И вот, напрягая вся свою волю, он подошел к Сондре и вымолвил: — Печально, правда? Его голос звучал почти нормально, но мог в любую минуту сорваться и задрожать, как дрожали его колени и руки. — Да, конечно, — ответила Сондра, оборачиваясь к нему. — Я ужасно не люблю, когда рассказывают о таких вещах, а вы? Мама вечно так беспокоится, когда мы со Стюартом болтаемся по этим озерам. — Да, это понятно. Голос его стал хриплым и непослушным. Он выговорил эти слова с трудом, глухо и невнятно. Губы его еще плотнее сжались в узкую бесцветную полоску, и лицо совсем побелело. — Что с вами, Клайди? — вдруг спросила Сондра, посмотрев на него внимательнее. — Вы такой бледный! А глаза какие! Что случилось? Вам нездоровится сегодня или это виновато освещение? Она окинула взглядом остальных, сравнивая, потом снова обернулась к Клайду. И, понимая, как важно ему выглядеть возможно естественнее, Клайд постарался хоть немного овладеть собой и ответил: — Нет, ничего. Вероятно, это от освещения. Конечно, от освещения. У меня… у меня был тяжелый день вчера, вот и все. Пожалуй, мне не следовало приезжать сюда сегодня вечером. — И он через силу улыбнулся невероятной, невозможной улыбкой. А Сондра, глядя на него с искренним сочувствием, шепнула: — Мой Клайди-маленький так устал после вчерашней работы? Почему же мой мальчик не сказал мне этого утром, вместо того чтобы прыгать с нами весь день? Хотите, я скажу Фрэнку, чтобы он сейчас же отвез вас назад, к Крэнстонам? Или, может быть, вы подниметесь к нему в комнату и приляжете? Он и слова не скажет. Я спрошу его, ладно? Она уже хотела заговорить с Фрэнком, но Клайд, смертельно испуганный ее последним предложением и в то же время готовый ухватиться за подходящий предлог, чтобы уйти, воскликнул искренне, но все же неуверенно: — Нет, пожалуйста, не надо, дорогая! Я… я не хочу! Это все пройдет. Я подымусь наверх потом, если захочется, или, может быть, уеду пораньше домой, если вы тоже немного погодя уйдете, но только не сейчас. Я чувствую себя не так уж хорошо, но это пройдет. Сондра, удивленная его неестественным и, как ей показалось, почти раздраженным тоном, сразу уступила. — Ну, хорошо, милый. Как хотите. Но если вам нездоровится, лучше бы вы позволили мне позвать Фрэнка, чтобы он отвел вас в свою комнату. Он не будет в претензии. А немного погодя — примерно в половине одиннадцатого — я тоже распрощаюсь, и мы вместе доедем до Крэнстонов. Я отвезу вас туда, прежде чем ехать домой, а то кто-нибудь другой соберется уходить и захочет вас подвезти. Разве моему мальчику такой план не нравится? И Клайд ответил: — Хорошо, я только пойду чего-нибудь выпить. И он забрался в одну из просторных ванных комнат дома Гарриэтов, запер дверь, сел и думал, думал… о том, что тело Роберты найдено, что на лице ее, может быть, остались синяки от удара, что следы его ног могли отпечататься на влажном песке и в грязи у берега… думал о мокром костюме на даче у Крэнстонов, о тех троих в лесу, о чемодане Роберты, о ее шляпке и пальто и о своей оставшейся на воде шляпе с выдранной подкладкой… и спрашивал себя, что делать дальше. Как поступить? Что сказать? Пойти сейчас к Сондре и убедить ее уехать немедленно или остаться и переживать новые муки? И что будет в завтрашних газетах? Что? Что? И если есть сообщения, судя по которым можно думать, что его в конце концов станут разыскивать, что заподозрят его причастность к этому происшествию, — благоразумно ли пускаться завтра в эту предполагаемую экскурсию? Может быть, умнее бежать подальше отсюда? У него теперь есть немного денег. Он может уехать в Нью-Йорк, в Бостон, в Новый Орлеан — там Ретерер… Но нет, только не туда, где его кто-либо знает!.. О боже, как глупы были до сих пор все его планы! Сколько промахов! Да и правильно ли он рассчитал с самого начала? Разве он представлял себе, например, что тело Роберты найдут на такой глубине? Но вот оно появилось — и так скоро, в первый же день, — чтобы свидетельствовать против него! И хотя он записался в гостиницах под чужими фамилиями, разве не могут его выследить благодаря указаниям тех трех встречных и девушки на пароходе? Надо думать, думать, думать! И надо выбраться отсюда поскорее, пока не случилось что-нибудь непоправимое из-за этого мокрого костюма. Его разом охватила еще большая слабость и ужас, и он решил вернуться к Сондре и сказать, что он и вправду чувствует себя совсем больным и, если она не возражает и может это устроить, предпочел бы поехать с нею домой. Поэтому в половине одиннадцатого, задолго до конца вечеринки, Сондра заявила Бэрчарду, что она чувствует себя не совсем хорошо и просит отвезти ее, Клайда и Джил домой; но завтра они все встретятся, как условлено, чтобы ехать на Медвежье озеро. С тревогой думая, что, может быть, и этот его ранний уход — еще одна злосчастная ошибка из числа тех, которыми до сих пор был отмечен, кажется, каждый его шаг на этом отчаянном и роковом пути, Клайд сел наконец в моторную лодку и мгновенно был доставлен на дачу Крэнстонов. Сойдя на берег, он возможно более непринужденным тоном извинился перед Бэрчардом и Сондрой, и, бросившись в свою комнату, обнаружил, что костюм лежит, как и лежал, на прежнем месте — незаметно было, чтобы кто-либо нарушал без Клайда спокойствие его комнаты. Все же он поспешно и боязливо вынул костюм, завязал в узелок, прислушался и, дождавшись минутного затишья, когда можно было проскользнуть незамеченным, вышел из дому, словно желая немного прогуляться перед сном. Отойдя по берегу озера примерно на четверть мили от дома, он отыскал тяжелый камень, привязал к нему костюм и, размахнувшись, изо всей силы швырнул далеко в воду. Потом так же тихо, мрачный и беспокойный, возвратился к себе и снова сумрачно и тревожно думал, думал… о том, что принесет ему завтрашний день и что он скажет, если явится кто-нибудь, чтобы его допросить.Глава 74
После почти бессонной ночи, истерзавшей Клайда мучительными снами (Роберта, люди, явившиеся его арестовать, и прочее в том же роде), настало утро. Наконец он поднялся; у него болел каждый нерв, болели глаза. Часом позже он решился сойти вниз, увидел Фредерика (шофера, который накануне привез его сюда), выезжающего на одном из автомобилей, и поручил ему достать все утренние газеты, выходящие в Олбани и Утике. И около половины десятого, когда шофер вернулся, Клайд прошел с газетами к себе, запер дверь и, развернув одну из них, сразу увидел ошеломляющий заголовок.ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ДЕВУШКИ. ТЕЛО НАЙДЕНО ВЧЕРА В ОДНОМ ИЗ АДИРОНДАКСКИХ ОЗЕР. ТЕЛО СПУТНИКА НЕ ОБНАРУЖЕНО.Весь побелев от волнения, Клайд опустился на стул у окна и начал читать: «Бриджбург (штат Нью-Йорк), 9 июля. Вчера около полудня в южной части озера Большой Выпи было извлечено из воды тело неизвестной молодой женщины, как предполагают, жены молодого человека, который записался в среду утром в гостинице на Луговом озере как «Карл Грэхем с женой», а в четверг в гостинице на озере Большой Выпи как «Клифорд Голден с женой». В так называемой Лунной бухте обнаружены перевернутая лодка и мужская соломенная шляпа. Ввиду этого там весь день производились поиски при помощи багров и сетей. Однако до семи часов вечера тело мужчины не было найдено, и, как полагает следователь Хейт из Бриджбурга, вызванный к двум часам на место катастрофы, оно вообще вряд ли может быть найдено. Ссадины и кровоподтеки на голове и лице погибшей, а также показания трех человек, прибывших на место происшествия, когда поиски все еще продолжались, и заявивших, что прошлой ночью в лесу южнее озера они встретили молодого человека, похожего по описанию на Голдена или Грэхема, заставляют многих предполагать, что тут имело место убийство и что убийца пытается скрыться. Коричневый кожаный чемодан погибшей был сдан на хранение на железнодорожной станции Ружейной (пять миль к востоку от озера Большой Выпи), а шляпа и пальто оставлены в гостинице на озере Большой Выпи, тогда как свой чемодан Грэхем или Голден, как говорят, взял с собой в лодку. Хозяин гостиницы на озере Большой Выпи сообщил, что эта пара записалась по приезде как Клифорд Голден с женой из Олбани. В гостинице они пробыли всего несколько минут; затем Голден пошел на лодочную станцию, находящуюся рядом с гостиницей, нанял маленькую лодку и, захватив свой чемодан, отправился вместе со спутницей кататься по озеру. Они не вернулись, а вчера утром лодка, опрокинутая вверх дном, была найдена в небольшом заливе в южной части озера, так называемой Лунной бухте; здесь же вскоре был разыскан и труп молодой женщины. Поскольку в этой части озера нет подводных камней, а на лице погибшей ясно видны следы ушибов, сразу возникло подозрение, что спутник ее чем-то ударил. Все это вместе с показаниями упомянутых трех человек и тем обстоятельством, что у мужской соломенной шляпы, найденной вблизи лодки, вырвана подкладка и нет никакой метки, по которой можно было бы опознать ее владельца, дает мистеру Хейту основания заявить, что, если труп молодого человека не будет найден, тут следует предположить убийство. Голден или Грэхем, как его описывают хозяева и постояльцы гостиниц и проводники на озерах Луговом и Большой Выпи, не старше двадцати четырех — двадцати пяти лет, строен, смугл, ростом не выше пяти футов и восьми или девяти дюймов. Он был в светло-сером костюме, коричневых ботинках и соломенной шляпе и нес коричневый чемодан, к которому был привязан зонтик и еще какой-то предмет, возможно, трость. Шляпа, оставленная молодой женщиной в гостинице, темно-коричневая, пальто светло-коричневое, платье темно-синее. По всем окрестным железнодорожным станциям разослано извещение о розысках Голдена или Грэхема, чтобы его могли задержать, если он жив и пытается скрыться. Тело утонувшей будет перевезено в Бриджбург, главный город округа, где в дальнейшем будет вестись следствие». Клайд сидел, немой и похолодевший, и думал. Известие о столь подлом убийстве (таким оно должно показаться), да еще совершенном совсем поблизости, наверно, вызовет такое возбуждение, что многие, даже все вокруг станут теперь усиленно разглядывать каждого встречного и приезжего в надежде обнаружить преступника, чьи приметы сообщены в газетах. Но раз они уже почти напали на его след, не лучше ли обратиться к властям здесь или на Большой Выпи и откровенно рассказать обо всем: о своем первоначальном плане и о причинах, которые к этому привели, и объяснить, что в конце концов он все же не убил Роберту, так как в последнюю минуту в душе его произошел переворот и он был не в состоянии исполнить то, что задумал… Но нет! Это значило бы открыть Сондре и Грифитсам всю историю своих отношений с Робертой, еще прежде чем он окончательно убедился, что для него здесь действительно все кончено. Да притом поверят ли ему теперь, после его бегства, после этого сообщения о следах удара на лице Роберты? Ведь и вправду все выглядит так, будто он убил ее, сколько бы он ни старался объяснить, что он этого не делал. С другой стороны, кто-нибудь из тех, кто ему повстречался, может узнать его по приметам, опубликованным в газетах, хотя он уже не в сером костюме и не в соломенной шляпе. Его ищут, — вернее, не его, а Клифорда Голдена или Карла Грэхема, который на него похож, — ищут, чтобы обвинить в убийстве! Но ведь он в точности похож на Голдена, — и вдруг явятся те трое! Клайда охватила дрожь. Хуже того, новая страшная мысль (в эту минуту она впервые, как молния, вспыхнула в его мозгу): инициалы Голдена и Грэхема те же, что и его собственные. Раньше он вовсе не замечал в них ничего плохого, но теперь понял, что они могут его погубить. Почему же он прежде ни разу об этом не подумал? Почему? Почему? О боже! И как раз в это время Сондра вызвала его по телефону. Ему сказали, что это она. И все же он должен был сделать над собой усилие, чтобы хоть голос его звучал естественно. Как сегодня с утра чувствует себя ее мальчик? Ему лучше? Что за ужасная болезнь вдруг напала на него вчера? А сейчас он чувствует себя совсем хорошо, это правда? И сможет отправиться с ними в путешествие? Вот это великолепно! Она так испугалась, она всю ночь беспокоилась, что он будет совсем болен и не сможет поехать. Но он едет — значит, теперь опять все хорошо. Милый! Дорогой мальчик!Мальчик любит ее? Очень? Она просто убеждена, что эта поездка будет ему очень полезна. Все утро она будет ужасно занята разными приготовлениями, но в час или в половине второго вся компания должна собраться на пристани «Казино». И тогда — о, тогда! До чего там будет великолепно! Он должен явиться с Бертиной, Грэнтом и прочими, кто там едет от Крэнстонов, а на пристани он перейдет в моторную лодку Стюарта. Им наверняка будет очень весело, страшно весело, но сейчас ей некогда! До свиданья, до свиданья! И она исчезла, словно яркая птичка. Значит, нужно ждать: только через три часа он сможет уехать отсюда и избегнет таким образом опасности столкнуться с кем-нибудь, кто может разыскивать Клифорда Голдена или Карла Грэхема! Пройтись пока по берегу, уйти в лес? Или уложить чемодан, сесть внизу и следить за всяким, кто приближается по длинной извилистой дороге, ведущей от шоссе к даче, либо в лодке по озеру? Ведь если появится кто-нибудь слишком подозрительный, еще можно будет убежать… Так он и сделал: сначала пошел в лес, то и дело оглядываясь, как затравленный зверь; потом вернулся на дачу, но и здесь, сидя или расхаживая взад и вперед, все время настороженно следил за тем, что происходит вокруг. (Что это за человек? Что там за лодка? Куда она направляется? Не сюда ли случайно? Кто в ней? Что, если полицейский… сыщик? Тогда, конечно, бежать… если еще есть время.) Но вот наконец прошли эти три часа, и Клайд вместе с Бертиной, Грэнтом, Харлеем и Вайнет отправился на моторной лодке Крэнстонов к пристани у «Казино». Там к ним присоединились еще участники поездки вместе со слугами. А на тридцать миль севернее, в Рыбачьем заливе на восточном берегу, их встретили автомобили Гарриэтов, Бэготов и других и вместе со всеми припасами и байдарками отвезли на сорок миль к востоку, к Медвежьему озеру, почти такому же своеобразному и пустынному, как озеро Большой Выпи. Какой радостью была бы для него эта поездка, если бы то, другое, не нависло над ним! Какое наслаждение быть подле Сондры, когда ее глаза непрестанно говорят о том, как она его любит! Она так весела и оживлена оттого, что он с нею. И все же тело Роберты найдено! Идут поиски Клифорда Голдена — Карла Грэхема. Его приметы сообщены повсюду по телеграфу и через газеты. Вся эта компания в лодках и автомобилях, вероятно, уже знает их. Но все они хорошо знакомы с ним, всем известны его отношения с Сондрой и Грифитсами, и поэтому никто его не подозревает, никто даже и не думает об этих приметах. А если бы подумали! Если бы догадались! Ужас! Бегство! Разоблачение! Полиция! Все эти девушки и молодые люди первыми отвернутся от него — все, кроме Сондры, может быть. Нет, и она тоже. Конечно, и она отвернется… Да еще с таким ужасом во взгляде… В тот же вечер, на закате, вся компания расположилась на западном берегу Медвежьего озера, на открытой лужайке, ровной и гладкой, как хорошо подстриженный газон; пять разноцветных палаток окружали костер наподобие индейской деревни; палатки поваров и слуг стояли поодаль; полдюжины байдарок лежали на поросшем травою берегу, как вытащенные из воды пестрые рыбы. Потом ужин у костра. После ужина Бэгот, Гарриэт, Стюарт и Грэнт стали напевать модные песенки, пока остальные танцевали, а потом уселись играть в покер при ярком свете большой керосиновой лампы. А все остальные запели бесшабашные лагерные и студенческие песни; Клайд не знал ни одной из них, но пробовал подтягивать. И взрывы смеха. И пари: кто выудит первую рыбу, подстрелит первую белку или куропатку, выйдет победителем на первых гонках. И, наконец, торжественно обсуждаемые планы: завтра после завтрака перенести лагерь по крайней мере еще миль на десять восточнее — там идеальный пляж, а в пяти милях гостиница «Метисская», где они смогут пообедать и танцевать до упаду. И потом тишина и красота этого лагеря ночью, когда предполагается, что все уже спят. Звезды! Загадочные темные воды покрыты едва заметной рябью, загадочные темные ели перешептываются под дуновением ветерка, крики сов и еще каких-то ночных птиц… Все слишком тревожит Клайда, и он прислушивается к ночи с глубокой тоской. Как все было бы чудесно, изумительно, если бы… Если бы не преследовал его, как выходец из гроба, этот ужас, — не только то, что он совершил над Робертой, но и грозное могущество закона, который считает его убийцей… А когда все улеглись в постель или скрылись во тьме, Сондра выскользнула из палатки, чтобы обменяться с ним несколькими словами и поцелуями в мерцании звезд. И он шепчет ей, как он счастлив, как благодарен ей за всю ее любовь и доверие, — и почти готов спросить: если она когда-нибудь узнает, что он совсем не такой хороший, как ей сейчас кажется, будет ли она все-таки любить его немножко, не возненавидит ли его… Но он сдержался, опасаясь, как бы Сондра не связала его теперешнее настроение со вчерашним (ведь накануне вечером его явно охватил приступ паники!) и не разгадала как-нибудь страшной, гибельной тайны, которая гложет его сердце. А после он лежит на своей койке в одной палатке с Бэготом, Гарриэтом и Грэнтом и часами беспокойно прислушивается ко всякому шуму снаружи: не слышно ли крадущихся шагов, которые могут означать… могут означать… боже, чего только не означали бы они для него даже здесь? — правосудие! арест! разоблачение! И смерть. Дважды в эту ночь он просыпался от ужасных, убийственных снов — и ему казалось (и это было страшно), что он кричал во сне. И потом снова сияние утра, желтый шар солнца поднимается над озером, у противоположного берега плещутся в заливе дикие утки. Чуть позже Грэнт, Стюарт и Харлей, полуодетые, захватив ружья, с видом заправских охотников отплывают на байдарках в надежде подстрелить издали парочку уток, но возвращаются ни с чем, вызывая шумное веселье остальных. И юноши и девушки в шелковых халатах, накинутых на яркие купальные костюмы, выбегают на берег и весело, с шумом и криками бросаются в воду. А в девять часов завтрак, после которого веселая, пестрая флотилия байдарок отплывает на восток под звуки гитар, мандолин и банджо… Пение, шутки, смех. — Что опять с моим малюсеньким? Он такой хмурый. Разве ему не весело здесь с его Сондрой и с этими славными ребятками? И Клайд разом спохватился: он должен притворяться веселым и беззаботным. А к полудню Харлей Бэгот, Грэнт и Гарриэт объявляют, что впереди, совсем близко, тот замечательный берег, до которого они и задумали добраться, — мыс Рамсхорн; с его вершины открывается вид на озеро во всю его ширь, а внизу, на берегу, вдоволь места для палаток и всего снаряжения экспедиции. И весь этот жаркий, отрадный воскресный день заполнен по обычной программе: завтрак, купанье, танцы, прогулки, игра в карты, музыка. И Клайд и Сондра — Сондра с мандолиной, — подобно другим парочкам, ускользают далеко на восток от лагеря, к укрывшейся в зарослях скале. Они лежат в тени елей — Сондра в объятиях Клайда — и строят планы на будущее, хотя, как сообщает Сондра, миссис Финчли заявила, что в дальнейшем ее дочь не должна поддерживать с Клайдом столь близкого знакомства, которому благоприятствует, например, обстановка этой экскурсии. Он слишком беден, слишком незначителен, этот родственник Грифитсов. Таков был смысл наставлений матери — Сондра, пересказывая их Клайду, смягчила выражения и тут же прибавила: — Это просто смешно, милый! Но вы не принимайте все это близко к сердцу. Я только смеялась и ничего не возражала, потому что не хочу ее сейчас сердить. Но все-таки я спросила, как же мне избежать встреч с вами, здесь да и в других местах, ведь вы теперь всеобщий любимец и вас все приглашают. Мой милый — такой красавчик! Все так думают, даже мальчики.
А в этот самый час на веранде гостиницы «Серебряная в Шейроне прокурор Мейсон, его помощник Бэртон Бэрлей, следователь Хейт, Эрл Ньюком и грозный шериф Слэк (человек толстый и хмурый, хотя в обществе обычно довольно веселый) со своими тремя помощниками — Краутом, Сисселом и Суэнком — совещались, стараясь избрать самый лучший и верный способ немедленной поимки преступника. — Он поехал на Медвежье озеро. Надо двинуться следом и захватить его, пока до него еще не дошел слух, что его ищут. И они отправились. Бэрлей и Эрл Ньюком обошли весь Шейрон, стараясь собрать всевозможные дополнительные сведения о приезде Клайда сюда и отъезде его в пятницу на дачу Крэнстонов; они разговаривали с каждым, кто мог своими показаниями пролить хоть какой-то свет на передвижения Клайда, и вручили этим людям судебные повестки Хейт отправился в Бухту Третьей мили с таким же поручением: допросить Муни, капитана «Лебедя», и трех человек, встретивших Клайда в лесу, а Мейсон с шерифом и его помощниками на быстроходном катере, зафрахтованном для этого случая, двинулся вдогонку за недавно выехавшей на экскурсию компанией молодежи: сперва в Рыбачий залив, чтобы оттуда, если след окажется верным, отправиться на Медвежье озеро. И в понедельник утром, когда молодежь снялась со стоянки у мыса Рамсхорн и двинулась к Шелтер-Бичу (в четырнадцати милях к востоку), Мейсон вместе со Слэком и его тремя помощниками явился на то место, откуда лагерь снялся накануне. Здесь шериф и Мейсон посовещались и разделили свой отряд на три части: раздобыв у местных жителей байдарки, Мейсон и первый помощник шерифа Краут поплыли вдоль южного берега, Слэк и второй помощник Сиссел — вдоль северного, а молодой Суэнк, который чуть ли не больше всех жаждал схватить преступника и надеть на него наручники, отправился на своей байдарке прямиком через озеро на восток, разыгрывая роль одинокого охотника или рыбака и зорко присматриваясь, нет ли где-нибудь на берегу предательского дыма костра, или палаток, или праздных, отдыхающих людей. В мечтах он уже изловил преступника: «Именем закона, Клайд Грифитс, вы арестованы!» — но, к его большому огорчению, Мейсон и Слэк назначили его передовым разведчиком. Поэтому, обнаружив что-либо подозрительное, он должен был, чтобы не спугнуть и не упустить добычу, тотчас повернуть назад и, забравшись куда-нибудь подальше, откуда его не сможет услышать преступник, один-единственный раз выстрелить из своего восьмизарядного револьвера. Тогда то звено отряда, которое окажется ближе, даст один ответный выстрел и возможно быстрее направится к нему. Но ни при каких обстоятельствах Суэнк не должен пробовать самостоятельно захватить преступника, разве только если увидит, что подозрительная личность, отвечающая приметам Клайда, пешком или на лодке пытается скрыться. В этот час Клайд, сидя в одной байдарке с Харлеем, Бэготом, Бертиной и Сондрой, медленно плыл на восток со всей флотилией. Он оглядывался назад и снова и снова спрашивал себя: что, если какой-нибудь представитель власти уже прибыл в Шейрон и последовал за ним сюда? Разве трудно будет выяснить, куда он уехал, если только они знают его имя? Но ведь они не знают его имени. Это доказывают сообщения в газетах. Зачем непрестанно тревожиться — особенно теперь, во время этого удивительного путешествия, когда они с Сондрой наконец снова вместе? И, кроме того, разве не может он незаметно уйти этими почти безлюдными лесами вдоль берега на восток, к той гостинице на противоположном конце озера, и не вернуться? Еще в субботу вечером он мимоходом спрашивал Харлея Бэгота и других, нет ли какой-нибудь дороги на юг или на восток от восточного берега озера, и ему ответили, что есть. Наконец в понедельник около полудня флотилия подплыла к Шелтер-Бичу — намеченному заранее живописному месту стоянки. Клайд помогал разбивать палатки, девушки резвились вокруг. А в этот час молодой агент Суэнк, заметив пепел костров, оставшийся на месте лагеря в Рамсхорне, нетерпеливо и азартно, точно охотящийся зверь, подплыл к берегу, осмотрел следы стоянки и быстро погнал свою лодочку дальше. Еще часом позже Мейсон и Краут, ведя разведку, тоже дошли до этого места; однако им довольно было беглого взгляда, чтобы убедиться: дичь уже улизнула. Но Суэнк налег на весла и к четырем часам доплыл до Шелтер-Бича. Издали заметив в воде человек шесть купающихся, он тотчас повернул обратно, чтобы подать условный сигнал. Отъехав назад мили на две, он выстрелил. В ответ послышалось два выстрела: Мейсон и шериф Слэк услышали сигнал, и теперь обе партии быстро плыли на восток. Клайд, плывший рядом с Сондрой, услышал выстрелы и сразу встревожился. Как зловеще прозвучал этот первый выстрел! И за ним еще два — они раздались где-то вдалеке, но, как видно, в ответ на первый. И потом зловещая тишина. Что же это было? А тут еще Харлей Бэгот сострил: — Слышите, палят? Теперь не охотничий сезон! Это браконьеры! — Эй, вы! — закричал Грэнт Крэнстон. — Это мои утки! Не трогайте их! — Если они стреляют вроде тебя, Грэнти, так они их не тронут, — ввернула Бертина. Силясь улыбнуться, Клайд смотрел в ту сторону, откуда донесся выстрел, и прислушивался, как загнанное животное. Что за сила побуждает его выйти из воды, одеться и бежать? Спеши! Спеши! К палатке! В лес! Скорее! Под конец он внял этому голосу и, улучив минуту, когда на него не смотрели, торопливо прошел в свою палатку, переоделся в простой синий костюм, взял кепку и скользнул в лес позади лагеря, чтобы вдали от чужих глаз и ушей все обдумать и решить. Он держался все время подальше от берега, чтобы его нельзя было увидеть с озера, из страха… из страха… кто знает, что означали эти выстрелы? Но Сондра! Ее слова в субботу, и вчера, и сегодня… Можно ли вот так оставить ее, раз он не вполне уверен, что ему грозит опасность? Можно ли? А ее поцелуи! Ее ласковые уверения, ее планы на будущее! Что подумает она — да и все, — если он не вернется? О его исчезновении, конечно, заговорят шейронские и другие окрестные газеты и, конечно, установят, что он и есть Клифорд Голден и Карл Грэхем, — разве не так? И потом, рассуждал он, может быть, его страхи напрасны, может быть, это стреляли всего лишь какие-нибудь заезжие охотники на озере или в лесу? И он медлил и спорил сам с собой: бежать или оставаться? А каким спокойствием дышат высокие, могучие деревья, как неслышны шаги по мягкому ковру коричневой хвои, устилающей землю, а в густой чаще кустарника можно спрятаться и лежать, пока вновь не наступит ночь! И тогда — вперед, вперед… И все-таки он повернул назад, к лагерю, чтобы узнать, не побывал ли там кто-нибудь посторонний (он скажет, что пошел пройтись и заблудился в лесу). Примерно в это же время, укрывшись среди деревьев в двух милях западнее лагеря, сошлись, все вместе и совещались Мейсон, Слэк и остальные. А затем, покуда Клайд мешкал и даже направился было снова к лагерю, Мейсон и Суэнк подплыли в байдарке к молодежи на берегу, и Мейсон осведомился, нет ли здесь мистера Клайда Грифитса и нельзя ли его видеть. И Харлей Бэгот, который оказался ближе всех, ответил: — Да, конечно. Он где-нибудь тут, недалеко. А Стюарт Финчли окликнул: — Ау, Грифитс! Но ответа не было. Клайд был довольно далеко от берега и не мог слышать этого крика, но он все же возвращался к лагерю, правда, медленно и осторожно. А Мейсон, сделав вывод, что он где-то неподалеку и, конечно, ничего не подозревает, решил несколько минут подождать. Все же он поручил Суэнку пойти в глубь леса, — если он случайно встретит там Слэка или еще кого-нибудь из разведчиков, пусть скажет, чтобы одного человека направили вдоль восточного берега, другого — вдоль западного; сам же Суэнк должен на лодке отправиться к гостинице в восточной части озера, — пусть оттуда оповестят всех, что в этой местности находится человек, подозреваемый в убийстве. А Клайд был в это время в каких-нибудь трех четвертях мили к востоку от них, и что-то все еще подсказывало ему: «Беги, беги, не медли!» — и все-таки он медлил и думал: «Сондра! Эта чудесная жизнь! Неужели так и уйти?» Нет, говорил он себе, пожалуй, будет еще большей ошибкой уйти, чем остаться. А вдруг эти выстрелы ничего не значили, — просто охотники стреляли по дичи, — и из-за этого все потерять? И все-таки наконец он снова повернул, рассудив, что, пожалуй, лучше возвратиться не сейчас, во всяком случае, не раньше темноты: надо выждать, посмотреть, что означали эти странные выстрелы. И снова он остановился, нерешительно прислушиваясь: щебетали лесные пичуги. Он тревожно осматривался, вглядываясь в чащу. И вдруг не дальше чем в пятидесяти шагах от него из длинных коридоров, образованных высокими деревьями, навстречу ему бесшумно и быстро вышел рослый, сухощавый человек с бакенбардами и зоркими, проницательными глазами — типичный лесной житель; на нем была коричневая фетровая шляпа, выгоревший, неопределенного цвета мешковатый костюм, свободно висевший на его поджаром теле. И так же внезапно он крикнул (при этом окрике Клайд весь похолодел от страха и остановился как вкопанный): — Одну минуту, сударь! Ни с места! Ваше имя случаем не Клайд Грифитс? И Клайд, увидев острый, настойчивый и пытливый взгляд незнакомца и револьвер в его руке, остановился; поведение этого человека было столь решительным и недвусмысленным, что холод пронизал Клайда до мозга костей. Неужели он пойман? Неужели за ним и вправду явились представители закона? Господи! Никакой надежды на бегство! Почему он не ушел раньше, почему? Он сразу обессилел и одно мгновение колебался, не ответить ли «нет», чтобы не выдать себя, но, одумавшись, сказал: — Да, это я. — Вы ведь из компании, которая расположилась тут лагерем? — Да, сэр. — Отлично, мистер Грифитс. Извините за револьвер. Мне приказано задержать вас при любых условиях, вот в чем дело. Меня зовут Краут, Николас Краут. Я помощник шерифа округа Катараки, и у меня имеется ордер на ваш арест. Надо полагать, вы знаете, в чем дело, и спокойно последуете за мной? И Краут еще крепче сжал свое тяжелое, грозное на вид оружие и настойчиво и решительно посмотрел на Клайда. — Но… Но… нет, я не знаю! — бессильно ответил Клайд; но разом побледнел и осунулся. — Разумеется, если у вас есть ордер на арест, я последую за вами. Но я… я не понимаю, — его голос слегка задрожал, — почему вы хотите меня арестовать? — Вон что, не понимаете? А вы случаем не были на озере Большой Выпи или на Луговом в среду или в четверг? А? — Нет, сэр, не был, — солгал Клайд. — И вам, видно, ничего не известно про то, что там утонула девушка, с которой, по-видимому, были вы, — Роберта Олден из Бильца? — Господи, да нет же! — нервно и отрывисто возразил Клайд: настоящее имя Роберты и ее адрес в устах совершенно чужого человека… это его потрясло. Значит, они узнали! И так быстро! Они нашли ключ. Его настоящее имя и ее тоже! Господи! — Так меня подозревают в убийстве? — прибавил он слабым голосом, почти шепотом. — А вам неизвестно, что она утонула в прошлый четверг? Разве вы не были с нею в это время? Краут не отрывал от него жестких, пытливых, недоверчивых глаз. — Нет, конечно, не был, — ответил Клайд, помня только одно: он должен все отрицать, пока не придумает, что еще говорить и как действовать. — И вы не встречали троих прохожих в четверг вечером, часов в одиннадцать, когда шли от озера Большой Выпи к Бухте Третьей мили? — Нет, сэр, конечно, не встречал… Я же сказал вам, что я там не был. — Прекрасно, мистер Грифитс, мне больше нечего вам сказать. От меня требуется только одно — арестовать вас, Клайда Грифитса, по подозрению в убийстве Роберты Олден. Следуйте за мной. Главным образом для того, чтобы продемонстрировать свою силу и власть, он вынул пару стальных наручников; при виде их Клайд отшатнулся и задрожал, словно его ударили. — Вам незачем надевать их на меня, сэр, — сказал он умоляюще. — Пожалуйста, не надо. Мне никогда не приходилось их надевать. Я и без того пойду с вами. Он тоскливо, с сожалением посмотрел в глубь леса, в спасительную чащу, где еще так недавно мог бы укрыться… Там была безопасность. — Ну что ж, — ответил грозный мистер Краут, — это можно, если вы пойдете спокойно. И он взял Клайда за безжизненную руку. — Можно мне попросить вас еще об одном? — тихо и робко сказал Клайд, когда они двинулись в путь (мысль о Сондре и обо всех остальных ослепила его и отняла последние силы. Сондра! Сондра! Вернуться туда к ним арестантом, убийцей! Чтобы его увидели таким Сондра и Бертина! Нет, нет!). Вы… вы намерены отвести меня обратно в лагерь? — Да, сэр. Мне так приказано. Там сейчас прокурор и шериф округа Катараки. — О, понимаю, понимаю! — истерически воскликнул Клайд, потеряв почти все свое самообладание. — Но вы… вы не могли бы… ведь я иду совсем спокойно… понимаете, там все мои друзья, и это будет ужасно!.. вы не можете провести меня как-нибудь мимо лагеря… куда хотите! У меня есть особые причины… то есть… я… о боже! Очень прошу вас, мистер Краут, не ведите меня назад, в лагерь! Он показался теперь Крауту очень слабым и почти мальчиком… тонкое лицо, вроде бы невинный взгляд, хороший костюм и хорошие манеры… ничуть не похож на грубого, дикого убийцу, какого ожидал встретить Краут. Явно человек того класса, к которому он, Краут, привык относиться с уважением. И в конце концов у этого юноши может оказаться могущественная родня. Из всего, что до сих пор слышал Краут, он ясно понял: этот молодой человек принадлежит к одной из лучших семей Ликурга. И потому Краут решил быть по возможности любезным. — Ладно, молодой человек, — сказал он, — я не хочу поступать с вами чересчур сурово. В конце концов я не шериф и не прокурор, я обязан только арестовать вас. И без меня есть люди, которые скажут, как с вами быть. Вот мы дойдем до них, и вы попросите, может быть, они скажут, что не обязательно вести вас обратно в лагерь. Только вот как с вашими вещами? Они, верно, остались там? — Да, но это неважно, — торопливо ответил Клайд. — Их можно будет взять в любое время. Просто я не хотел бы сейчас идти туда, если только можно… — Ладно, пошли, — ответил мистер Краут. И вот они молча идут среди высоких деревьев, стволы которых в сумерках возвышаются торжественно, словно колонны храма, — они идут, как молящиеся по нефу собора, и Клайд беспокойным и усталым взглядом следит за багровой полоской, еще сквозящей за деревьями на западе. Обвинен в убийстве! Роберта умерла! И Сондра умерла — для него! И Грифитсы! И дядя! И мать! И те, в лагере! Господи, ну почему он не бежал, когда нечто — все равно, что это было, — твердило ему: беги?
Глава 75
В отсутствие Клайда впечатления Мейсона от общества, в котором тот здесь вращался, подтвердили и дополнили впечатления, полученные прежде в Ликурге и Шейроне. Этого было достаточно, чтобы отрезвить его и поколебать прежнюю уверенность, будто нетрудно будет добиться обвинительного приговора. Из всего, что он тут видел, было ясно: найдутся и средства и желание замять подобного рода скандал. Богатство. Роскошь. Громкие имена и высокие связи, которые, конечно, потребуется оградить от огласки. Разве не могут богатые и влиятельные Грифитсы, узнав об аресте племянника, каково бы ни было его преступление, пригласить самого талантливого адвоката, чтобы оберечь свое доброе имя? Несомненно, так будет, а такой юрист сумеет получить любые отсрочки… И тогда, пожалуй, задолго до того, как он мог бы добиться осуждения преступника, он сам автоматически перестанет быть обвинителем и не будет не только избран, но и намечен кандидатом на столь желанную и необходимую ему должность судьи. Перед живописным кружком разбитых на берегу озера палаток сидел Харлей Бэгот в ярком свитере и белых брюках тонкого сукна и приводил в порядок свои рыболовные снасти. У некоторых палаток были откинуты передние полотнища — и внутри можно было мельком увидеть Сондру, Бертину и других девушек, занимавшихся туалетом после недавнего купанья. Компания была столь изысканная, что Мейсон усомнился, благоразумно ли с политической и общественной точки зрения напрямик заявить о том, какие причины привели его сюда; он предпочел пока смолчать и погрузился в размышления о контрасте между юностью Роберты Олден или своей собственной — и жизнью этой молодежи. Понятно, думал он, человек с положением Грифитсов вполне может так подло и жестоко поступить с девушкой вроде Роберты и при этом надеяться на безнаказанность. И все же, стремясь добиться своего наперекор веем враждебным силам, какие могут преградить ему путь, Мейсон наконец подошел к Бэготу и весьма кисло (хотя и старался казаться возможно благодушнее и общительнее) сказал: — Милое местечко для лагеря! — Да-а… мы тоже так думаем, — процедил Бэгот. — Это все, наверно, компания с дач около Шейрона? — Да-а… Главным образом с южного и западного берега. — А тут нет никого из Грифитсов? То есть кроме мистера Клайда? — Нет. Они, по-моему, все еще на Лесном озере. — И вы знакомы лично с мистером Клайдом Грифитсом? — Ну, конечно. Он из нашей компании. — А вы случайно не знаете, давно ли он здесь, то есть, я хочу сказать, у Крэнстонов? — Кажется, с пятницы. Во всяком случае, я его увидел в пятницу утром. Но вы можете спросить его самого, он скоро придет, — оборвал Бэгот, подумав, что мистер Мейсон становится несколько навязчивым со своими расспросами; притом он человек не их с Клайдом круга. В это время появился Фрэнк Гарриэт с теннисной ракеткой под мышкой. — Куда, Фрэнк? — Гаррисон сегодня утром расчистил корты — попробую там сыграть. — С кем? — С Вайолет, Надиной и Стюартом. — А там есть место для другого корта? — Ну да, там их два. Захвати Бертину, Клайда и Сондру и приходите все туда. — Может быть, когда покончу с этим. И Мейсон тотчас подумал: Клайд и Сондра. Клайд Грифитс и Сондра Финчли — та самая девушка, чьи записочки и визитные карточки сейчас у него в кармане. Может быть, он увидит ее здесь с Клайдом и позже сумеет поговорить с нею о нем? В эту минуту Сондра, Бертина и Вайнет вышли из своих палаток. Бертина крикнула: — Харлей, не видели Надину? — Нет, но тут был Фрэнк. Он сказал, что идет на корт играть с нею, Вайолет и Стюартом. — Вот как! Пойдем, Сондра! Вайнет, пойдем! Посмотрим, что там за корт. Назвав Сондру по имени, Бертина обернулась и взяла ее под руку, и таким образом Мейсону представился желанный случай взглянуть, хотя бы мельком, на девушку, которая так трагически и, без сомнения, сама того не зная, вытеснила Роберту из сердца Клайда. И Мейсон воочию убедился, что она много красивее и много наряднее, — та, другая, и мечтать не могла, что когда-нибудь сможет так одеваться. И эта жива, а та, другая, лежит мертвая в бриджбургском морге. Три девушки, взявшись за руки, пробежали мимо смотревшего на них Мейсона, и Сондра на бегу крикнула Харлею: — Если увидите Клайда, скажите, пускай идет туда, хорошо? И Харлей ответил: — Вы думаете, вашей тени нужно об этом напоминать? Мейсон, пораженный красочностью и драматизмом происходящего, внимательно и даже с волнением следил за всем. Теперь ему было совершенно ясно, почему Клайд хотел отделаться от Роберты, — ясны его истинные, скрытые побуждения. Эта красивая девушка и вся эта роскошь — вот к чему он стремился. Подумать только, что молодой человек в его возрасте и с такими возможностями дошел до такой чудовищной низости! Невероятно! И всего через четыре дня после убийства той несчастной девушки он весело проводит время с этой красавицей, надеясь жениться на ней, как Роберта надеялась выйти за него замуж. Невероятные подлости бывают в жизни! Видя, что Клайд не показывается, он почти уже решил назвать себя, а затем обыскать и изъять его вещи, но тут появился Эд Суэнк и кивком предложил Мейсону следовать за ним. И, войдя в лес, Мейсон тотчас увидел в тени высоких деревьев не более, не менее, как Николаса Краута и с ним — стройного, хорошо одетого молодого человека, примерно того возраста, какой был указан в приметах Клайда; по восковой бледности его лица Мейсон мгновенно понял, что это и есть Клайд, и набросился на него, как разъяренная оса или шершень. Впрочем, сперва он осведомился у Суэнка, где и кто задержал Клайда, а затем пристально, критически и сурово посмотрел на него, как и подобает тому, кто воплощает в себе могущество и величие закона. — Итак, вы и есть Клайд Грифитс? — Да, сэр. — Так вот, мистер Грифитс, меня зовут Орвил Мейсон. Я прокурор округа, где находятся озера Большой Выпи и Луговое. Я полагаю, вы хорошо знакомы с этими местами, не так ли? Он сделал паузу, чтобы посмотреть, какой эффект произведет его язвительное замечание. Однако против его ожидания Клайд не вздрогнул в испуге, а только внимательно смотрел на него темными глазами, и этот взгляд выдавал огромное нервное напряжение. — Нет, сэр, не могу сказать, что знаком. Пока он шел сюда по лесу под надзором Краута, в нем с каждым шагом крепло глубокое, непоколебимое убеждение, что, каковы бы ни были доказательства и улики, он не смеет говорить ни слова о себе, о своей связи с Робертой, о поездке на озеро Большой Выпи и на Луговое. Не смеет. Это все равно, что признать себя виноватым в том, в чем он на самом деле не виноват. И никто никогда не должен подумать — ни Сондра, ни Грифитсы, ни кто-либо из его светских друзей, — что он мог быть повинен в таких мыслях. А ведь все они здесь, на расстоянии окрика, и в любую минуту могут подойти и узнать, за что он арестован. Необходимо отрицать, что он как-либо причастен к случившемуся, — он ничего об этом не знает, ровно ничего! В то же время им овладел безмерный ужас перед Мейсоном: конечно же, если так себя вести, этот человек будет вне себя от возмущения и негодования. У него такое суровое лицо! Да еще сломанный нос… и большие мрачные глаза. А Мейсон, обозленный запирательством Клайда, смотрел на него, как на неведомого, но опасного зверя; впрочем, видя растерянность Клайда, он решил, что, без сомнения, быстро заставит его сознаться. И продолжал: — Вы, конечно, знаете, в чем вас обвиняют, мистер Грифитс? — Да, сэр, мне только что сказал вот этот человек. — И вы признаете себя виновным? — Конечно, нет, сэр! — возразил Клайд. Его тонкие, теперь побелевшие губы плотно сжались, глаза были полны невыразимого, глубоко затаенного ужаса. — Что? Какая чепуха! Какая наглость! Вы отрицаете, что в прошлую среду и четверг были на Луговом озере и на Большой Выпи? — Да, сэр. — В таком случае, — Мейсон выпрямился, приняв грозный инквизиторский вид, — вы, должно быть, станете отрицать и свое знакомство с Робертой Олден — с девушкой, которую вы повезли на Луговое озеро и с которой потом, в четверг, поехали кататься по озеру Большой выпи? С девушкой, с которой вы встречались в Ликурге весь этот год и которая жила у миссис Гилпин и работала в вашем отделении на фабрике Грифитса? С девушкой, которой вы подарили на рождество туалетный прибор? Пожалуй, вы еще скажете, что вас зовут не Клайд Грифитс, что вы не живете у миссис Пейтон на Тэйлор-стрит и что всех этих писем и записочек от Роберты Олден и от мисс Финчли не было в вашем сундуке? При этих словах Мейсон вытащил из кармана пачку писем и визитных карточек и стал размахивать ими перед самым носом Клайда. С каждой фразой он все больше приближал к лицу Клайда свое широкое лицо с плоским сломанным носом и выдающимся подбородком, и глаза его сверкали жгучим презрением. А Клайд всякий раз отшатывался, и ледяной холодок пробегал у него по спине, проникая в сердце и в мозг. Эти письма! Вся эта осведомленность! А там, в его палатке в чемодане, все последние письма Сондры, в которых она строит планы побега с ним в эту осень. И почему он их не уничтожил! Теперь этот человек найдет их, — конечно, найдет — и, пожалуй, начнет допрашивать Сондру и всех остальных. Клайд съежился, и все в нем похолодело. Губительные последствия его столь плохо задуманного и плохо выполненного плана придавили его, как мир, легший на плечи слабосильного Атланта. И однако, чувствуя, что нужно что-то сказать и при этом ни в чем не признаться, он наконец ответил: — Я действительно Клайд Грифитс, но все остальное неверно. Я ничего об этом не знаю. — Да бросьте, мистер Грифитс! Не пытайтесь меня провести. Из этого ничего не выйдет. Ваши хитрости вам ни капли не помогут, а у меня нет на это времени. Не забывайте, что все эти люди — свидетели, и они вас слышат. Я был у вас в комнате, и в моем распоряжении ваш сундук, и письма мисс Олден к вам — неопровержимое доказательство, что вы знали эту девушку, что вы ухаживали за нею и обольстили ее минувшей зимой, а позже, весной, когда она забеременела от вас, сперва отправили ее домой, а потом затеяли эту поездку — для того чтобы обвенчаться, как вы ей сказали. Да, что и говорить, вы обвенчали ее! С могилой — вот как вы ее обвенчали! — с водой на дне озера Большой Выпи! И теперь, когда я говорю вам, что у меня в руках все улики, вы заявляете мне в лицо, будто даже не знаете ее! Ах, черт меня подери! Он говорил все громче, и Клайд боялся, что его услышат в лагере и Сондра услышит и придет сюда. Оглушенный, исхлестанный неистовым смерчем уничтожающих фактов, которыми забрасывал его Мейсон, Клайд чувствовал, как судорога стиснула ему горло, и едва сдерживался, чтобы не ломать руки. И, однако, на все это он ответил только: — Да, сэр. — Ах, черт меня подери! — повторил Мейсон. — Теперь мне ясно, что вы вполне могли убить девушку и удрать именно так, как вы это сделали. И еще при ее положении! Отрекаться от ее писем к вам! Да ведь вы с таким же успехом можете отрицать, что вы здесь и что вы живы! Ну, а эти карточки и записки, — что вы скажете о них? Уж, конечно, они не от мисс Финчли? Ну-ка? Сейчас вы станете уверять меня, что это не от нее. Он помахал ими перед носом Клайда. И Клайд, понимая, что Сондра совсем рядом и, значит, истинное происхождение писем могут мигом установить, ответил: — Нет, я не отрицаю, что это от нее. — Прекрасно. А вот эти письма, лежавшие там же, в вашем сундуке, в той же комнате, — они не от мисс Олден? — Я не желаю об этом говорить, — ответил Клайд, невольно мигая, оттого что Мейсон размахивал перед ним письмами Роберты. — Ну, знаете ли! — Мейсон в ярости прищелкнул языком. — Какой вздор! Какая наглость! Ну, прекрасно, сейчас не стоит беспокоиться на этот счет. В свое время я без труда это докажу. Но как вы можете все отрицать, зная, что у меня есть доказательства, — вот чего я не пойму! А карточка с вашей собственноручной надписью? Вы забыли вынуть ее из чемодана, который мисс Олден по вашему настоянию оставила на станции Ружейной, хотя свой чемодан вы взяли с собой, мистер Карл Грэхем — мистер Клифорд Голден — мистер Клайд Грифитс! Карточка, на которой вы написали: «Берте от Клайда. — Поздравляю с рождеством!» — припоминаете? Ну, так вот она! — И Мейсон вытащил из кармана карточку и махнул ею перед самым носом Клайда. — Это вы тоже забыли? Ваш собственный почерк! — И, помолчав, но не дождавшись ответа, он прибавил: — Ну и олух же вы! Хорош злоумышленник, у которого даже не хватило ума не брать своих инициалов для фальшивых имен, за которыми вы надеялись укрыться, мистер Карл Грэхем — мистер Клифорд Голден. Однако Мейсон хорошо понимал, насколько важно получить признание Клайда, и пытался сообразить, как добиться его тут же, на месте. И вдруг застывшее от ужаса лицо Клайда навело прокурора на мысль, что, пожалуй, он запуган до немоты. И Мейсон внезапно переменил тактику — по крайней мере понизил голос и расправил грозные морщины на лбу и у рта. — Вот что, Грифитс, — начал он гораздо спокойнее и проще. — Обстоятельства таковы, что ни ложь, ни безрассудное и бессмысленное запирательство нисколько вам не помогут. Это только повредит вам, поверьте. Может быть, по-вашему, я был немного резок, но это потому, что у меня ведь тоже нервы натянуты! Я думал, что столкнусь с человеком совсем другого типа. Но теперь я вижу, каково вам и как вы напуганы всем, что произошло, — и вот я подумал: может быть, тут было еще что-нибудь… какие-нибудь смягчающие обстоятельства, и если вы все расскажете, это дело предстанет в несколько ином свете. Я, конечно, ничего не знаю, вам об этом лучше судить, но я просто хочу говорить с вами начистоту. Начать с того, что налицо ваши письма. Далее, когда мы приедем в Бухту Третьей мили, — а мы там завтра будем, я надеюсь, — там будут и те три охотника, которые встретили вас ночью, когда вы уходили с Большой Выпи. И не только они, но и хозяин гостиницы на Луговом озере, и хозяин гостиницы на Большой Выпи, и лодочник, у которого вы брали лодку, и шофер, который вез вас и Роберту Олден со станции Ружейной. Все они опознают вас. Неужели вы думаете, что никто из них вас не узнает, не сумеет сказать, были вы там с нею или не были? Может быть, вы думаете, что, когда придет время, им не поверят присяжные? И Клайд мысленно отмечал все это, как автомат, который щелкает, когда в него опустят монету, но не произносил ни слова в ответ, — только, весь застыв, неподвижно смотрел куда-то в пространство. — И это еще не все, — мягко и вкрадчиво продолжал Мейсон. — Есть еще миссис Пейтон. Она видела, как я взял эти письма и карточки в вашей комнате, из вашего сундука и из верхнего ящика вашей шифоньерки. А девушки на фабрике, где работали вы и мисс Олден? Неужели вы думаете, что они не вспомнят ваших с ней отношений, когда узнают, что она умерла? Что за нелепость! Вы должны и сами понять такую простую вещь, как бы вы там ни рассуждали. И напрасно вы надеетесь вывернуться таким образом. Ничего не выйдет. Так что зря вы разыгрываете какого-то дурачка. Могли бы это и сами понять. Он снова умолк, надеясь, что теперь Клайд сознается. Но Клайд, все еще убежденный, что всякое признание, связанное с Робертой или с озером Большой Выпи, его погубит, по-прежнему молчал. И Мейсон прибавил: — Ладно, Грифитс, вот что я вам еще скажу. Я не мог бы дать вам лучшего совета, будь вы даже моим сыном или братом, и я хотел бы вызволить вас из этой истории, а не только узнать от вас правду. Если вы хотите как-то облегчить свое положение, вам вовсе незачем все отрицать, как вы сейчас делаете. Вы просто создаете лишние затруднения и вредите себе в глазах других людей. Почему не сказать, что вы ее знали и ездили с нею на озеро и что она вам писала эти письма, — почему не покончить с этим? Этого вам все равно не миновать, если вы и надеетесь доказать свою непричастность к остальному. Всякий разумный человек — и ваша мать, будь она здесь, — сказал бы вам то же самое. Ваше поведение просто смешно и скорее доказывает вину, чем невиновность. Почему бы не выяснить сразу же эти факты, пока не поздно воспользоваться какими-нибудь смягчающими обстоятельствами, если они существуют? А если вы сделаете это теперь и я смогу как-либо помочь вам, даю слово, что помогу — и с радостью. Ведь в конце концов я здесь не для того, чтобы затравить человека до смерти или заставить его сознаться в том, чего он не делал, — я хочу только установить истину. Но если вы будете отрицать даже свое знакомство с этой девушкой, когда я говорю вам, что у меня в руках все улики и я могу доказать это, — ну, тогда… — И прокурор воздел руки к небесам в знак бессильного негодования. Но Клайд был по-прежнему бледен и нем. Несмотря на все, что сказал ему Мейсон, и на этот, по-видимому, дружеский и доброжелательный совет, он все еще не мог отделаться от убеждения, что, признав свое знакомство с Робертой, он себя погубит. А как отнесутся к этому роковому признанию те, в лагере! Конец всем его мечтам о Сондре и о прекрасной, праздничной жизни. И поэтому, несмотря ни на что, — молчание. И Мейсон, окончательно выйдя из себя, закричал: — Ну, хорошо же! Значит, вы решили вовсе не раскрывать рта? Так, что ли? И Клайд, подавленный и обессиленный, ответил: — Я никак не причастен к ее смерти. Это все, что я могу сказать. И, говоря это, он уже думал, что, пожалуй, ему не следовало говорить так… может быть, лучше было бы сказать… но что? Что он, конечно, знал Роберту и даже был с ней на озере… но никогда не собирался убить ее… она утонула, но это был несчастный случай. И если он и ударил ее, то только нечаянно. Но, может быть, лучше совсем не говорить, что он ее ударил? Ведь при сложившихся обстоятельствах едва ли кто-нибудь поверит, что он ударил ее фотографическим аппаратом случайно. Самое лучшее вовсе не говорить об аппарате, раз ни в одной газете до сих пор не упоминалось, что у него был с собой аппарат. Он все еще размышлял об этом, когда Мейсон воскликнул: — Так вы признаете, что знали ее? — Нет, сэр. — Ну, прекрасно. — И, повернувшись к своим спутникам, Мейсон прибавил: — В таком случае, я думаю, нам остается только отвести его назад, в лагерь, и послушать, что им про него известно. Может быть, мы еще что-нибудь вытянем из этого фрукта, устроив ему очную ставку с его друзьями. Его вещи и чемодан, наверно, еще там, в какой-нибудь из палаток. Давайте отведем его туда, джентльмены, и посмотрим, что знают о нем остальные. И он быстро и хладнокровно повернулся, чтобы идти к лагерю, но тут Клайд, съежившись от ужаса перед тем, что его ожидает, воскликнул: — Нет, пожалуйста, не надо! Неужели вы поведете меня туда? Нет, нет, пожалуйста, не надо! И тут заговорил Краут. — Когда мы с ним шли сюда, он просил меня поговорить с вами насчет того, чтобы не вести его в лагерь, — сказал он Мейсону. — Так вот откуда ветер дует! — воскликнул Мейсон. — Вы чересчур щепетильны, чтобы появиться в таком виде перед леди и джентльменами с Двенадцатого озера, но вам не угодно признаться в знакомстве с бедной фабричной работницей, своей подчиненной? Прекрасно! Ну нет, мой друг, либо вы сейчас выложите все, что вам на самом деле известно, либо пойдете туда. — Он помолчал секунду, чтобы посмотреть, как это подействует на Клайда. — Мы созовем всех ваших знакомых и растолкуем им, что к чему. Посмотрим, как вы тогда от всего отопретесь. — И, заметив, что Клайд еще колеблется, он прибавил: — Ведите его, ребята! Он повернулся и сделал несколько шагов по направлению к лагерю; Краут и Суэнк взяли Клайда с двух сторон за руки и двинулись было Следом, но тут Клайд закричал: — Нет, нет, не надо! Прошу вас, мистер Мейсон, не ведите меня туда! Пожалуйста! Я не могу туда вернуться! Не потому, что я виновен. Но ведь все мои вещи можно взять оттуда и без меня… а возвращаться туда мне теперь очень тяжело. Капли пота выступили на его бледном лице, на руках, и он весь похолодел. — Ах, вы не желаете идти? — воскликнул Мейсон, услышав это, и остановился. — Если они обо всем узнают, пострадает ваше достоинство, не так ли? Ладно, тогда потрудитесь сейчас же ответить на мои вопросы, и отвечайте быстро и начистоту, иначе мы без задержкиотправимся в лагерь. Ну, что же, будете вы отвечать? И он снова подошел вплотную к Клайду — растерянному, с дрожащими губами и блуждающим взором. И Клайд нервно и взволнованно заговорил: — Да, конечно, я знал ее. Конечно, знал. Безусловно! Это видно из писем. Так что же? Я не убивал ее. И когда поехал с нею туда, вовсе не собирался ее убить. Я вовсе этого не хотел. Не хотел, говорю вам! Это был несчастный случай. Я даже не хотел с нею никуда ехать. Это она хотела, чтобы я поехал… чтобы я увез ее куда-нибудь, потому что… потому что… ну, вы же знаете, это видно по ее письмам. А я только старался уговорить ее, чтобы она уехала куда-нибудь одна и оставила меня в покое, потому что я не хотел на ней жениться. Вот и все. И я повез ее туда совсем не для того, чтобы убить, а чтобы постараться уговорить ее, — вот и все. И я не перевернул лодку, — во всяком случае, я не хотел… Ветер унес мою шляпу, и мы оба сразу поднялись и хотели ее достать, и лодка перевернулась — вот и все. И ее ударило бортом по голове. Я это видел, но она так сильно билась в воде, что я испугался… я боялся, что, если подплыву ближе, она потащит меня на дно. А потом она пошла ко дну. А я поплыл к берегу. Это чистая правда, клянусь богом! Пока он говорил, его лицо и даже руки вдруг густо покраснели. Его измученные, испуганные глаза были полны отчаяния. А вдруг в этот день совсем не было ветра и они вспомнят об этом? — думал он. А штатив, спрятанный под упавшим деревом? Если его нашли, могут подумать, что именно штативом он и ударил ее… Он весь дрожал, обливаясь потом. Но Мейсон уже задавал новый вопрос: — Так. Одну минуту. Вы говорите, что повезли ее туда без всякого намерения убить? — Да, сэр. — Хорошо, но тогда почему же вы записались в гостиницах на озере Большой Выпи и на Луговом под разными именами? — Просто я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что я был там с нею. — А, понимаю! Не желали скандала в связи с ее положением? — Нет, сэр. То есть да, сэр. — А вас не беспокоило, что ее имя будет опозорено, если ее потом найдут? — Но ведь я не мог знать, что она утонет, — находчиво ответил Клайд, вовремя почуяв западню. — Но вы, конечно, знали, что сами туда не вернетесь?.. Это вы твердо знали, не так ли? — Что вы, сэр, я вовсе этого не знал! Я думал, что вернусь. «Ловко, ловко!» — подумал Мейсон, но не произнес этого вслух, а быстро сказал: — Стало быть, именно для того, чтобы вам было проще и легче возвращаться, вы взяли свой чемодан с собой, а ее чемодан оставили на станции? Разве так делают? Как вы это объясните? — Но я взял чемодан не потому, что собирался уйти. Мы решили положить туда завтрак. — «Мы» или вы? — Мы. — Значит, вам надо было тащить с собой этот большой чемодан ради небольшого завтрака? Разве вы не могли завернуть его в бумагу или положить в ее сумку? — Ну, видите ли, ее сумка была полна, а я не люблю носить всякие свертки. — Так, понимаю. Вы слишком горды и щепетильны, а? Однако гордость не помешала вам тащить ночью тяжелый чемодан добрых двенадцать миль до Бухты Третьей мили и вас не смущало, что это могут увидеть? — Просто, когда она утонула, я не хотел, чтобы стало известно, что я был там с ней, и мне пришлось пойти… Он замолчал, а Мейсон смотрел на него и думал, какое множество вопросов он хотел бы еще задать… еще много, очень много вопросов, на которые — он знал — Клайд не сможет дать ясного ответа. Однако становилось уже поздно, а в лагере еще оставались вещи Клайда — чемодан и, может быть, костюм, в котором он был тогда на озере Большой Выпи, — серый, как говорили, а не тот, в котором он сейчас. Этот допрос может еще многое дать, если продолжать его, но к чему делать это здесь, в надвигающейся темноте? Ведь предстоит еще обратный путь, и тогда будет вдоволь времени для дальнейших расспросов. И потому, как ни досадно было Мейсону прекращать в эту минуту разговор, он напоследок сказал: — Ну, вот что, Грифитс, пока мы дадим вам передышку. Возможно, что все было так, как вы сказали, не знаю. От души надеюсь, ради вас же самого, что все это правда. Во всяком случае, сейчас вы пойдете с мистером Краутом — он покажет вам куда. Затем он обернулся к Суэнку и Крауту: — Итак, друзья, вот что мы теперь сделаем. Становится поздно, и нам надо поторопиться, если мы хотим сегодня ночевать под крышей. Мистер Краут, вы отведете этого молодого человека к тем двум лодкам и подождете там. По дороге крикнете шерифу и Сисселу: дадите им знать, что мы готовы. А мы с Суэнком подъедем к вам на другой лодке, как только освободимся. Мейсон и Суэнк в густеющих сумерках двинулись по направлению к лагерю, а Краут и Клайд пошли на запад; Краут усердно аукал, окликая шерифа и его помощника, пока они не отозвались.Глава 76
Вторично явившись в лагерь, Мейсон сообщил сперва Фрэнку Гарриэту, а затем Харлею Бэготу и Рэнту Крэнстону об аресте Клайда и об уже сделанном им признании в том, что он был с Робертой на озере Большой Выпи, хотя, по его словам, и не убивал ее; Мейсон объяснил также, что они с Суэнком должны забрать все принадлежащие Клайду вещи. Это известие мгновенно разрушило все очарование веселой экскурсии. Правда, оно вызвало у всех крайнее изумление, недоверие и некоторое замешательство, но перед ними был Мейсон, требовавший показать ему, где находятся вещи Клайда, и уверявший, что только снисходя к просьбе Клайда его не привели сюда, чтобы он сам указал свои пожитки. Фрэнк Гарриэт, наиболее практичный из всей компании, первым почувствовал силу правды в словах Мейсона и сейчас же провел его в палатку Клайда, где Мейсон приступил к осмотру чемодана и одежды арестованного; тем временем Грэнт Крэнстон и Бэгот, зная об увлечении Сондры, вызвали сначала Стюарта, затем Бертину и, наконец, Сондру, которую увели подальше, чтобы без свидетелей сообщить ей о случившемся. Едва Сондра поняла значение услышанного, она побледнела и без сознания упала на руки Гранта. Ее отнесли в палатку, привели в чувство, и она закричала: — Не верю ни одному слову! Это неправда! Этого не может быть! Несчастный мальчик! Клайд! Клайд! Где он? Куда его увезли? Но Стюарт и Грэнт, в которых чувства отнюдь не заглушали рассудка, посоветовали ей быть осторожнее и замолчать. Может быть, все это правда. Что, если так? Тогда все услышат об этом. А если неправда, то Клайд быстро докажет свою невиновность и его освободят, не так ли? Во всяком случае, не следует поднимать шум. И тут Сондра задумалась: а вдруг это и в самом деле возможно… ту девушку на озере Большой Выпи убил Клайд… его арестовали и увезли… и все — по крайней мере вся ее компания — знают, как она им увлекалась… все это станет известно родителям, а может быть, и широкой публике… Но нет, Клайд, конечно, ни в чем не виноват! Это просто ошибка… И тут же она вспомнила, как впервые услышала об утонувшей девушке по телефону у Гарриэтов и потом — страшную бледность Клайда… его болезнь… ведь он тогда едва не лишился чувств… Нет, нет! Только не это! Но ведь он приехал из Ликурга с опозданием, только в пятницу. И не писал ей оттуда… И, вновь ощутив весь ужас случившегося, она вдруг опять потеряла сознание. Она лежала в палатке недвижимая, мертвенно-бледная, а тем временем Грэнт и остальные, посовещавшись, решили, что самое разумное сейчас же или в крайнем случае завтра рано утром свернуть лагерь и отправиться назад, в Шейрон. Немного погодя Сондра пришла в себя и со слезами заявила, что сейчас же уедет отсюда: ей невыносимо оставаться в этом ужасном месте, и она умоляет Бертину и других не оставлять ее одну и никому ничего не говорить о том, как она потеряла сознание и плакала, потому что это только даст повод для лишних разговоров… И все время она думала, каким образом — если все это правда — получить обратно письма, которые она писала Клайду. Господи, какой ужас! Что если они теперь попадут в руки полиции или их напечатают в газетах! Все же она любила его, и впервые за всю ее жизнь неумолимая, суровая действительность нанесла ей такой жестокий удар, ворвавшись в ее веселый, легкомысленный мирок. Итак, сразу было решено, что Сондра уедет вместе со Стюартом, Бертиной и Грантом в гостиницу «Метисская» в восточной части озера, — оттуда, как объяснил Бэгот, они смогут на заре уехать в Олбани и далее кружным путем в Шейрон. Тем временем Мейсон, забрав с собой все вещи Клайда, поспешно направился на Запад, к Рыбачьему заливу и к Бухте Третьей мили; он только раз остановился в пути, чтобы провести первую ночь на какой-то ферме, и приехал на место поздно вечером во вторник. По пути он, как и собирался, продолжал допрашивать Клайда — главным образом в связи с тем, что среди его вещей в лагере не оказалось того серого Кострома, в котором, как показывали свидетели, он был на озере Большой Выпи. И Клайд, обеспокоенный этим новым осложнением, стал отрицать, что на нем был серый костюм, уверяя, будто он и тогда был в том же костюме, который на нем сейчас. — Но ведь он был насквозь мокрый? — Да. — Где же вам его потом вычистили и выгладили? — В Шейроне. — В Шейроне? — Да, сэр. — Тамошний портной? — Да, сэр. — Какой портной? Увы, Клайд не мог припомнить. — Значит, от Большой Выпи до Шейрона вы шли в мятом и мокром костюме? — Да, сэр. — И, конечно, никто этого не заметил? — Насколько помню, нет. — Ах, насколько вы помните! Ну, ладно, мы все это еще выясним. И Мейсон решил про себя, что Клайд, бесспорно, убил Роберту — и притом с заранее обдуманным намерением — и что после можно будет заставить его признаться, где он спрятал костюм или где отдавал в чистку. Далее, имеется соломенная шляпа, которую нашли на озере. Что он может сказать о ней? Заявив, будто ветер унес его шляпу, Клайд тем самым признал, что на озере он был в шляпе, хотя и не обязательно в той самой, которая найдена на воде. И теперь Мейсон в присутствии свидетелей настойчиво старался установить принадлежность Клайду найденной шляпы и факт существования второй шляпы, которую Клайд носил позже. — Вы говорили, что ветер сорвал с вас соломенную шляпу. Что же, она осталась на воде? Вы тогда не пытались достать ее? — Нет, сэр. — Надо полагать, в волнении не подумали об этом? — Да, сэр. — Однако же на вас была другая соломенная шляпа, когда вы шли потом через лес. Где же вы ее взяли? И озадаченный Клайд, чувствуя, что попал в ловушку, на минуту замолчал, испуганно соображая, может ли быть доказано, что эта вторая шляпа, которая на нем сейчас, — та самая, в которой он шел через лес, и что первая, оставшаяся на воде, была куплена в Утике. И он решил солгать. — Но у меня не было второй соломенной шляпы. Не обращая внимания на эти слова, Мейсон протянул руку, снял с Клайда соломенную шляпу и стал рассматривать фабричную марку на подкладке — «Старк и К°, Ликург». — У этой, я вижу, есть подкладка. Куплена в Ликурге, а? — Да, сэр. — Когда? — Еще в июне. — И вы уверены, что это не та шляпа, в которой вы шли через лес в ту ночь? — Не та, сэр. — Ну, а где же была эта? И опять Клайд замолк, чувствуя, что попал в западню. «Господи, как же мне это объяснить? — думал он. — Зачем я признал, что та шляпа на озере моя?» Но тотчас он понял: отрицает он это, нет ли — все равно на Луговом озере и на Большой Выпи найдутся люди, которые, конечно, вспомнят, что он был тогда в соломенной шляпе. — Где же была эта? — настаивал Мейсон. И Клайд сказал наконец: — Я уже как-то ездил в ней на дачу и забыл ее, когда уезжал отсюда в прошлый раз. А теперь приехал и нашел. — А, понимаю! Очень удобно получилось, должен признать! Мейсон начинал думать, что имеет дело с весьма изворотливым субъектом… придется расставлять ловушки похитрее! В то же время он решил спросить Крэнстонов и всех участников поездки на Медвежье озеро: может быть, кто-нибудь вспомнит, была ли на Клайде соломенная шляпа, когда он приехал к ним в пятницу, и не оставлял ли он у них шляпы в прошлый раз. Клайд, конечно, лжет, и его нужно поймать. И потому всю дорогу до Бриджбурга и до местной окружной тюрьмы у Клайда не было ни минуты покоя. Сколько он ни отказывался отвечать, Мейсон все снова и снова набрасывался на него с вопросами вроде следующих: «Почему, если вы действительно хотели просто-напросто позавтракать на берегу, вам понадобилось плыть в такую даль, в южный конец озера, где вовсе не так живописно, как в других местах?» или: «А где вы провели остаток того дня? ведь не на месте катастрофы, конечно?» Потом он неожиданно возвращался к письмам Сондры, найденным в чемодане. Давно ли Клайд с нею знаком? Так ли сильно он влюблен в нее, как, по-видимому, она в него? Не потому ли, что Сондра обещала осенью выйти за него замуж, он решил убить мисс Олден? Клайд горячо отрицал это последнее обвинение, но почти все остальное время сидел молча, уныло глядя перед собой измученными, несчастными глазами. А потом отвратительнейшая ночь на чердаке какой-то фермы в западной части озера, на сеннике, положенном прямо на пол; Сиссел, Суэнк и Краут, чередуясь, стерегли его с револьвером в руке, а Мейсон, шериф и остальные спали внизу, в первом этаже. И так как уже распространились какие-то слухи, к утру явилось несколько местных жителей с вопросом: «Говорят, у вас тут парень, который убил девушку на Большой Выпи, — верно это?» И чтобы посмотреть на него, они дождались здесь рассвета, когда арестованный и его спутники уехали на фордах, добытых Мейсоном. А в Рыбачьем заливе и в Бухте Третьей мили собрались уже целые толпы — фермеры, дачники, лавочники, лесорубы, дети: очевидно, по телефону заранее сообщили, что везут преступника. В Бухте Третьей мили ждали Бэрлей, Хейт и Ньюком; предупрежденные по телефону, они вызвали в камеру к тощему, желчному и дотошному мировому судье Габриэлю Грэгу всех свидетелей с озера Большой Выпи, необходимых для того, чтобы окончательно установить личность Клайда. И вот перед здешним судьей Мейсон обвиняет Клайда в убийстве Роберты и добивается законного, вынесенного по всей форме решения: заключить подозреваемого в окружную тюрьму в Бриджбурге. А затем Мейсон вместе с Бэртоном и шерифом отвозит Клайда в Бриджбург, где его тотчас сажают под замок. Войдя в камеру, Клайд бросился на железную койку и схватился за голову в смертельном отчаянии. Было три часа ночи, но когда они подъезжали к тюрьме, там уже собралась толпа по меньшей мере человек в пятьсот — шумная, злобно-насмешливая, угрожающая. Уже распространился слух, будто он, желая жениться на богатой, самым зверским образом убил молодую и красивую работницу, которая была виновата только в том, что слишком его любила. Слышались угрозы и грубые выкрики: — Вот он, паршивый ублюдок! Ну, погоди, дьявол, ты еще закачаешься на веревке! — Это кричал молодой лесоруб, похожий на Суэнка, с жестокими, свирепыми глазами. Хуже того: из толпы выскочила девица в ситцевом платье, тощая и вертлявая, — типичная жительница городских трущоб — и закричала: — Ах ты, змея подколодная! Убийца! Думал удрать, да не вышло? И Клайд жался к шерифу Слэку и думал: «Они и вправду считают, что я ее убил! Они даже могут меня линчевать!» И так он был измучен, напуган, унижен и несчастен, что при виде железных ворот тюрьмы, распахнувшихся, чтобы его впустить, у него вырвался неподдельный вздох облегчения, ибо они сулили защиту. Но, оказавшись в камере, он не заснул ни на минуту, и всю ночь напролет его мучили горькие мысли обо всем, что он навсегда утратил. Сондра! Грифитсы! Бертина! Знакомые по Ликургу, которые утром все узнают. И, наконец, его мать и все… Где теперь Сондра? Мейсон, разумеется, все сказал ей и другим, когда возвращался в лагерь за его вещами. И теперь все знают, что он такое на самом деле, — злоумышленник и убийца! Но если бы, если бы кто-нибудь знал, как все это случилось! Если бы Сондра, или его мать, или хоть кто-нибудь мог его понять! Может быть, следовало бы рассказать все этому Мейсону, прежде чем дело пойдет дальше, объяснить, как именно все произошло. Но ведь это значит — рассказать правду о своих замыслах, о своем первоначальном намерении, о фотографическом аппарате, о том, как он отплыл от нее, вместо того, чтобы помочь. И о нечаянном (но кто этому поверит?) ударе и про то, как он после спрятал штатив. И к тому же, раз это станет известно, он конченый человек и для Сондры и для Грифитсов — для всех. Очень возможно, что его все равно обвинят в убийстве и казнят. О господи, убийство! Его будут судить за убийство Роберты, и это страшное преступление будет доказано. И тогда его все равно казнят, посадят на электрический стул! Так вот что, быть может, у него впереди — смерть… смертная казнь за убийство! Подавленный безмерным ужасом, Клайд застыл на своей койке. Смерть! Боже! Если бы только он не оставил писем Роберты и матери в своей комнате у миссис Пейтон! Если бы перед отъездом он перенес свой сундук куда-нибудь в другую комнату… Почему он об этом не подумал? Впрочем, сейчас же ему пришло в голову, что и это было бы ошибкой: это показалось бы подозрительным. Но каким образом они узнали, откуда он и как его зовут? Тут его мысли снова вернулись к письмам, которые лежали в сундуке. Он припомнил теперь, что мать в одном из своих писем упоминала о той истории в Канзас-Сити — и, значит, Мейсон должен был о ней узнать. Почему, почему он не уничтожил этих писем — от Роберты, от матери — всех! Почему? Он не мог теперь ответить почему, — должно быть, по бессмысленной привычке хранить на память всякие мелочи, каждый полученный им знак внимания, доброты и нежности… Если б он не надел второй соломенной шляпы… и не встретил тех троих в лесу! Господи боже! Он должен был понять, что его так или иначе сумеют выследить. Если бы он сразу ушел в лес из лагеря на Медвежьем озере, захватив свой чемодан и письма Сондры! Кто знает, может быть, в Бостоне, или в Нью-Йорке, или еще где-нибудь он сумел бы скрыться. Измученный и обессиленный, он никак не мог уснуть и все ходил взад и вперед или присаживался на край непривычно жесткой койки и думал, думал… А на рассвете старый, костлявый, страдающий ревматизмом тюремщик в потертой, мешковатой синей форме принес ему на черном железном подносе кружку кофе, немного хлеба и ломтик ветчины с яйцом. Просовывая поднос сквозь оконце в решетке, старик с любопытством и все же безучастно смотрел на Клайда. Но Клайду было не до еды. А потом один за другим приходили Краут, Сиссел и Суэнк и, наконец, сам шериф, и каждый заглядывал в камеру и спрашивал: «Ну, Грифитс, как вы себя чувствуете сегодня?» — или: «Здравствуйте! Не надо ли вам чего?» А взгляды их выражали удивление, отвращение, подозрительность и ужас: ведь он — убийца! И все-таки его присутствие вызывало в них еще и другого рода интерес и даже почтительную гордость. Как-никак он все же Грифитс, представитель хорошо известных общественных кругов в большом южном городе. И притом для них, как и для безмерно взбудораженной широкой публики, он зверь, попавшийся в ловушку, пойманный в сети правосудия благодаря их необычайному искусству, — живое доказательство их талантов! И газеты и публика, несомненно, заговорят об этом деле — их ожидает известность! Рядом с портретом Клайда напечатают и их портреты, их имена будут упоминаться вместе с его именем! А Клайд глядел на них сквозь железные прутья и старался быть вежливым: он теперь в их руках, и они могут делать с ним все, что захотят.Глава 77
Результаты вскрытия, несомненно, оказались для Мейсона шагом назад, ибо хотя в протоколе, подписанном пятью врачами, говорилось: «Ушибы около рта и носа; кончик носа слегка сплющен; губы распухли; один передний зуб слегка расшатан; на слизистой оболочке внутренней стороны губ имеются ссадины», — однако врачи единодушно утверждали, что все эти повреждения отнюдь не были опасны для жизни. Самое серьезное ранение было на черепе: видимо, по голове был нанесен сильный удар «каким-то тупым инструментом» — очень неудачное выражение, если иметь в виду удар о борт перевернувшейся лодки (именно это утверждал Клайд в своем первом признании), — «обнаружены трещины и внутреннее кровоизлияние, которое могло повлечь за собою смерть». Но при исследовании легких оказалось, что, погруженные в воду, они тонут, — и это неопровержимо доказывало одно: Роберта не была мертва, когда упала в воду, а была жива и затем утонула, как и утверждал Клайд. И больше никаких признаков насилия или борьбы, хотя, судя по положению рук и пальцев, было похоже, что Роберта к чему-то тянулась и пыталась ухватиться за что-то. За борт лодки? Возможно ли? Может быть, в конце концов рассказ Клайда и таит в себе какую-то долю истины? Конечно, все эти обстоятельства говорят отчасти в его пользу. Однако, как единодушно считали Мейсон и остальные, эти данные ясно доказывали, что если он и не убил ее прежде, чем бросить в воду, то, во всяком случае, ударил, а затем, — может быть, когда она потеряла сознание, — бросил за борт. Но чем он ее ударил? Если бы только заставить Клайда сказать это! И вдруг Мейсона осенило: он повезет Клайда на озеро Большой Выпи! Правда, закон охраняет обвиняемых от какого-либо принуждения, но он все-таки заставит его вновь пройти шаг за шагом все стадии преступления. Возможно, и не удастся заставить его полностью выдать себя, а все же, попав снова в ту обстановку, на то место, где совершилось преступление, он может невольно чем-нибудь указать, хотя бы куда он запрятал костюм или то орудие, которым ударил Роберту. Итак, на третий день — новая поездка на озеро в обществе Краута, Хейта, Мейсона, Бэртона Бэрлея, Эрла Ньюкома и шерифа Слэка с его помощниками и медленное, тщательное обследование всех мест, где Клайд побывал в тот ужасный день. И Краут, следуя инструкции Мейсона, «подмазывался» к Клайду, стараясь втереться к нему в доверие и вызвать его на откровенность. Краут доказывал, что имеющиеся улики слишком бесспорны: «присяжные никогда вам не поверят, будто вы ее не убивали», но «если вы поговорите с Мейсоном начистоту, он потолкует с судьей или с губернатором. Он может сделать для вас больше, чем всякий другой, может вас вызволить — и отделаетесь пожизненным заключением или двадцатью годами… а если будете вот так от всего отпираться, не миновать вам электрического стула, это уж как пить дать». Но Клайд, охваченный тем же страхом, что и на Медвежьем озере, по-прежнему упорно молчал. К чему говорить, что он ее ударил, раз он этого не делал, по крайней мере он ведь не ударил умышленно? Да и чем? Ведь до сих пор никто не знает о фотографическом аппарате. Но на озере, когда окружной землемер точно измерил расстояние от того места, где утонула Роберта, до места, где вышел на берег Клайд, Эрл Ньюком неожиданно подошел к Мейсону и сообщил о важном открытии. Под поваленным стволом, недалеко от того места, где Клайд остановился, чтобы переодеться, был обнаружен спрятанный им штатив от фотографического аппарата, немного заржавленный и отсыревший, но, как готовы были поверить Мейсон и прочие, достаточно тяжелый для того, чтобы, ударив им Роберту по голове, можно было оглушить ее, а затем перенести в лодку и, наконец, бросить в воду. При виде этой находки Клайд еще больше побледнел, однако решительно отрицал, что у него был с собой фотографический аппарат и штатив. Мейсон тут же решил вновь допросить всех свидетелей: может быть, кто-нибудь из них вспомнит, что видел у Клайда аппарат или штатив. И еще до конца того же дня выяснилось, что и шофер, который вез Клайда и Роберту со станции, и лодочник, видевший, как Клайд бросил свой чемодан в лодку, и молодая служанка из гостиницы на Луговом озере, которая видела, как Клайд и Роберта отправлялись утром на железнодорожную станцию, — все помнили «какие-то желтые палки», привязанные к чемодану Клайда: это, должно быть, и был штатив. А затем Бэртон Бэрлей решил, что в конце концов удар был, пожалуй, нанесен не штативом, а скорее самим аппаратом, более тяжелым: его острый край объясняет рану на темени, а плоская сторона — ушибы на лице. Поэтому, сохраняя все в тайне от Клайда, Мейсон вызвал кое-кого из местных жителей для дополнительных поисков на дне озера, по соседству с тем местом, где нашли Роберту. Поиски продолжались целый день, и так как за это было обещано солидное вознаграждение, то в конце концов некий Джек Богарт вынырнул со дна, держа в руках тот самый фотографический аппарат, который Клайд упустил в воду, когда перевернулась лодка. Больше того: в аппарате обнаружили катушку с пленками, передали ее специалисту для проявления — и оказалось, что это ряд снимков Роберты, сделанных на берегу: на одном она была снята сидящей на упавшем дереве, на другом — возле лодки на берегу, на третьем — пыталась дотянуться до ветвей дерева. Все снимки были тусклые, попорченные водой, но все-таки их можно было рассмотреть. И так как размеры наиболее широкой части аппарата точно соответствовали длине и ширине следов ушиба на лице Роберты, то теперь уже казалось бесспорным, что удалось найти орудие, которым Клайд нанес удар. И, однако, никаких следов крови — ни на самом аппарате, ни на бортах и дне лодки, отправленной для обследования в Бриджбург, ни на коврике, покрывавшем ее дно. Но тут Бэртон Бэрлей, парень очень и очень себе на уме, каких немало найдется в этой лесной глуши, стал раздумывать о том, что если потребуются неопровержимые улики, он, Бэртон, или кто-нибудь другой вполне свободно может порезать палец и оставить хоть несколько капель крови на борту лодки, или на коврике, или на фотографическом аппарате. Или, скажем, ничего не стоит взять два-три волоса с головы Роберты и намотать их на выступы аппарата или на уключину, за которую зацепилась ее вуаль. И вот, втайне и с должной серьезностью поразмыслив над этим, он решил побывать в морге братьев Луц и достать два-три волоска с головы Роберты. Ведь он был убежден, что Клайд совершенно хладнокровно убил девушку. Неужели из-за недостатка одной пустячной улики дать этому молчаливому, самонадеянному молодому подлецу благополучно вывернуться? Нет, уж лучше Бэрлей сам намотает волосы Роберты на уключину или засунет их в аппарат, а потом обратит внимание Мейсона на эту не замеченную ранее подробность. И вот в тот же день, когда Хейт и Мейсон еще раз сами измеряли следы ушибов на лице и на голове утопленницы, Бэрлей исподтишка сунул несколько волосков Роберты в аппарат, между крышкой и объективом. Немного позже Мейсон и Хейт неожиданно обнаружили их, и хотя удивились, каким образом не заметили их прежде, но тем не менее сразу же усмотрели в этом окончательное доказательство виновности Клайда. И поэтому Мейсон объявил, что он как прокурор считает дело законченным. Он тщательно проследил каждый шаг преступника и, если понадобится, готов хоть завтра выступить перед судом. Но как раз ввиду полноты доказательств он решил до поры до времени ничего не говорить об аппарате и, если возможно, закрыть рот всем, кто знал об этой находке. Допустим, Клайд будет все так же упорно отрицать, что имел при себе аппарат, его адвокат и подозревать не будет о существовании такой улики… какое убийственное впечатление — как гром среди ясного неба! — произведет тогда на суде этот аппарат, эти снимки Роберты, сделанные им самим, и полное совпадение размеров аппарата со следами удара на ее лице! Какие ясные, какие неопровержимые улики! Поскольку Мейсон лично собрал все показания и улики и, следовательно, был самым подходящим человеком для того, чтобы о них доложить, он решил сообщить обо всем губернатору штата и получить разрешение на созыв чрезвычайной сессии Верховного суда для разбора дел этого округа вместе со специальной сессией местного совета присяжных, — тогда он, Мейсон, сможет созвать этот совет в любое время. Получив такое разрешение, он сумеет подобрать состав совета присяжных, и, если Клайда решат предать суду, можно будет через месяц-полтора начать процесс. И только себе одному Мейсон мог признаться, что этот процесс будет для него весьма кстати, принимая во внимание предстоящие в ноябре выборы и его затаенные надежды попасть в список кандидатов. Ведь без чрезвычайной сессии дело может быть рассмотрено лишь очередной сессией Верховного суда в январе, а к тому времени кончатся его прокурорские полномочия, и если даже он и будет избран на пост судьи, то все-таки не сможет сам вести это дело. А между тем жители округа настроены в высшей степени враждебно по отношению к Клайду, и в этих краях вряд ли найдется хоть один человек, которому не покажется справедливым ускорить суд. К чему откладывать? К чему давать такому преступнику отсрочку и возможность обдумать какой-то план спасения? Тем более что это громкое дело, безусловно, создает ему, Мейсону, юридическую, общественную и политическую славу во всей стране.Глава 78
И вот из глуши северных лесов — уголовная сенсация первой величины. Налицо все волнующие, яркие, но в нравственном и религиозном смысле ужасные атрибуты: любовь, романтика, богатство, бедность, смерть. Издатели из числа тех, что мгновенно улавливают общенациональную значимость и интерес подобных преступлений, сейчас же заказали по телеграфу и напечатали красочные описания — где и как жил Клайд в Ликурге, с кем он был знаком, как ухитрился скрыть свои отношения с одной девушкой, одновременно обдумывая план бегства с другой. Из Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Бостона, Сан-Франциско и других больших американских городов на Востоке и на Западе непосредственно Мейсону или местным представителям «Ассошиэйтед пресс» или «Юнайтед пресс» сплошным потоком шли телеграммы с запросами о дальнейших подробностях преступления. Кто та красивая и богатая девушка, в которую, по слухам, влюблен этот Грифитс? Где она живет? Какие, в сущности, отношения были у нее с Клайдом? Однако Мейсон, питавший благоговейное почтение к богатству Финчли и Грифитсов, не желал называть имя Сондры и говорил лишь, что это дочь очень богатого ликургского фабриканта (кого именно — он не считает нужным сообщать); впрочем, он без колебаний показывал пачку писем, которую Клайд тщательно перевязал ленточкой. Зато письма Роберты излагались очень подробно, и кое-какие выдержки из них, наиболее поэтические и горестные, были даже переданы в газеты для опубликования, ибо кто же мог оградить ее память… Их появление в печати вызвало волну ненависти к Клайду и жалости к ней: бедная, скромная, одинокая девушка, у нее никого не было — только он, а он оказался жестоким, вероломным убийцей. Виселица — это еще, пожалуй, слишком хорошо для него! Дело в том, что по дороге на Медвежье озеро и обратно и все последующие дни Мейсон был погружен в чтение этих писем. Некоторые особенно трогательные строки, касавшиеся ее жизни дома, ее огорчений, тревог о будущем, ее явного одиночества и душевной усталости глубоко взволновали его, а он быстро заразил этим волнением других — жену, Хейта, местных репортеров, и последние в своих корреспонденциях из Бриджбурга очень живо, хотя и несколько искаженно, обрисовали Клайда — его упорное молчание, его угрюмость и жестокосердие. Некий весьма романтически настроенный молодой репортер газеты «Стар» из Утики отправился на ферму Олденов и немедленно дал довольно точное описание исстрадавшейся и убитой горем миссис Олден: слишком измученная, чтобы негодовать или жаловаться, она просто и бесхитростно рассказала ему о том, как Роберта любила своих родителей, как она была скромна, добродетельна, набожна; как местный пастор методисткой церкви сказал однажды, что никогда он не встречал девушки разумнее, добрее и красивее; и как все годы, пока она не уехала из дому, она была поистине правой рукой матери. И уж, конечно, только потому, что ей жилось в Ликурге так трудно и одиноко, этот негодяй сумел заговорить ее сладкими речами и, обещая жениться, вовлек ее в недозволенные отношения (просто не верится, что это с нею все-таки было) — в связь, которая привела ее к смерти. Ведь она всегда была честная, чистая, нежная, добрая. «И подумать только, что она умерла! Никак не могу этому поверить».Рассказ матери передавался так: «Только в прошлый понедельник наша Роберта была здесь. Мне показалось, какая-то она грустная, но она улыбалась. Я тогда удивилась, почему это она и днем и вечером все ходит по ферме, разглядывает каждую вещицу, собирает цветы. А потом подошла, обняла меня и говорит; «Знаешь, мамочка, я хотела бы опять стать маленькой и чтобы ты взяла меня на руки и убаюкала, как когда-то». А я ей говорю: «Что с тобой, Роберта? Почему ты сегодня такая грустная?» А она отвечает: «Нет, ничего. Ты же знаешь, я завтра утром уезжаю. Поэтому у меня сегодня как-то смутно на душе». И подумать только, что у нее на уме была эта поездка! Мне кажется, у нее было предчувствие, что все выйдет не так, как она ожидала. И подумать только, что он ударил мою девочку, которая никогда и мухи не обидела!»
Тут миссис Олден не удержалась и стала тихо плакать, а поодаль стоял безутешный Тайтус.
Но Грифитсы и другие представители высших кругов местного общества хранили упорное молчание. Что касается Сэмюэла Грифитса, то он сперва никак не мог понять и поверить, что Клайд оказался способен на такое страшное дело. Как?! Такой вежливый, робкий и, безусловно, приличный юноша обвинен в убийстве? Сэмюэл в это время находился довольно далеко от Ликурга — в Верхнем Саранаке, куда Гилберт с трудом дозвонился ему по телефону, и от неожиданности едва мог осмыслить услышанное, не говоря уже о том, чтобы действовать. Да нет же, это невозможно! Тут, наверно, какая-то ошибка. Наверно, Клайда приняли за кого-то другого. Тем не менее Гилберт продолжал объяснять, что все это, безусловно, правда, поскольку девушка работала на фабрике в том отделении, которым заведовал Клайд, и у прокурора в Бриджбурге (Гилберт уже с ним беседовал) имеются письма, написанные погибшей девушкой Клайду, и Клайд даже и не пытается от них отречься. — Ну, хорошо! — сказал Сэмюэл. — Но только ничего не предпринимай, не подумав, а главное, не говори об этом никому, кроме Смилли или Готбоя, пока я не приеду. Где Брукхарт? (Он говорил о Дарра Брукхарте, юрисконсульте фирмы «Грифитс и К°»). — Он теперь в Бостоне, — отвечал Гилберт. — Как будто он рассчитывал вернуться в понедельник или во вторник, не раньше. — Телеграфируй ему, чтобы вернулся немедленно. Кстати, пускай Смилли попробует договориться с редакторами «Стар» и «Бикон», чтобы они до моего возвращения воздержались от всяких комментариев. Я буду завтра утром. Скажи ему еще, пускай возьмет машину и, если можно, сегодня же съездит туда (он подразумевал Бриджбург). Я должен знать из первых рук, в чем дело. Пусть он повидается с Клайдом, если удастся, и с этим прокурором и выяснит все, что можно. И пусть подберет все газеты. Я хочу сам посмотреть, что уже появилось в печати. Примерно в то же время на даче Финчли на Двенадцатом озере Сондра, проведя два дня и две ночи в томительном и горьком раздумье о внезапной катастрофе, оборвавшей все ее девические грезы о Клайде, решила наконец признаться во всем отцу, к которому она была больше привязана, чем к матери. И она пошла в кабинет, где он обычно проводил время после обеда, читая или обдумывая свои дела. Но, не успев подойти к отцу, она стала всхлипывать: ее по-настоящему потрясло и крушение ее любви и страх, что скандал, готовый разразиться вокруг нее и ее семьи, может погубить ее тщеславные надежды и положение в обществе. Что скажет теперь мать, которая столько раз ее предостерегала? А отец? А Гилберт Грифитс и его невеста? А Крэнстоны, которые, за исключением Бертины, находившейся под ее влиянием, никогда не одобряли такой близости с Клайдом? Услышав всхлипывания, отец изумленно поднял голову, совершенно не понимая, в чем дело. Но тотчас почувствовал, что случилось нечто очень страшное, поспешно обнял дочь и, стараясь утешить, зашептал: — Ну, тише, тише! Бога ради, что случилось с моей девочкой? Кто ее обидел? Чем? Как? И в полнейшей растерянности выслушал исповедь Сондры обо всем, что произошло: о ее первой встрече с Клайдом, о том, как он ей понравился, как к нему относились Грифитсы, о ее письмах, о ее любви… и, наконец, об этом ужасном обвинении и аресте. И вдруг все это правда! Повсюду станут трепать ее имя и имя ее папочки! И Сондра снова зарыдала так, точно сердце ее разрывалось… Но она хорошо знала, что в конце концов ей обеспечено и сочувствие отца и его прощение, как бы ни был он расстроен и огорчен. Мистер Финчли, привыкший в своем доме к спокойствию, порядку, такту и здравому смыслу, удивленно и неодобрительно, хотя и не без участия, посмотрел на дочь и воскликнул: — Ну и ну, вот так история! Ах, черт возьми! Я потрясен, дорогая моя. Я в себя не могу прийти. Это уж слишком, должен сказать. Обвинен в убийстве! И у него письма, написанные твоей рукой! Даже и не у него, а уже у прокурора, насколько можно понять. Ну и ну! Глупо, Сондра, черт знает, до чего глупо! Я еще несколько месяцев назад слышал об этом знакомстве от твоей матери и тогда поверил тебе больше, чем ей. А теперь смотри, как скверно вышло! Почему ты мне ничего не сказала? И почему не послушалась матери? Ты могла бы поговорить со мной обо всем раньше, а не ждать, пока это зайдет так далеко. А я думал, что мы с тобой понимаем друг друга. Твоя мать и я всегда делали все для твоего блага, ты же знаешь. И к тому же, честное слово, я думал, что у тебя больше здравого смысла. Но чтобы ты была замешана в деле об убийстве! Боже мой! Он порывисто поднялся — красивый блондин в безукоризненном костюме — и начал расхаживать взад и вперед, с досадой пощелкивая пальцами, а Сондра продолжала плакать. Вдруг он остановился и снова заговорил: — Ну, будет, будет! Что толку плакать? Слезами тут не поможешь. Конечно, мы это как-нибудь переживем. Не знаю, не знаю… не представляю, как это на тебе отразится. Ясно одно: мы должны что-то предпринять в связи с этими письмами. Сондра все плакала, а мистер Финчли начал с того, что вызвал жену, чтобы объяснить ей, какого рода удар нанесен их положению в обществе; удар этот оставил в памяти миссис Финчли неизгладимый след до конца ее дней. Потом мистер Финчли позвонил Легеру Эттербери — адвокату, сенатору штата, председателю центрального комитета республиканской партии в штате и постоянному своему личному юрисконсульту, — объяснил ему, в каком крайне затруднительном положении оказалась Сондра, и попросил посоветовать, что теперь следует предпринять. — Дайте-ка сообразить, — ответил Эттербери. — На вашем месте я бы не слишком беспокоился, мистер Финчли. Я думаю, что смогу уладить это дело, прежде чем оно получит неприятную огласку. Дайте подумать… Кто у них там в Катараки прокурор? Я это выясню, переговорю с ними и сразу вам позвоню. Но вы не беспокойтесь, будьте уверены, — я сумею кое-что сделать. Во всяком случае, обещаю вам, что эти письма не попадут в газеты. Может быть, они даже не будут предъявлены суду, — хотя в этом я не уверен. Но я, безусловно, сумею устроить, чтобы имя вашей дочери не упоминалось, — так что вы не беспокойтесь. А затем Эттербери позвонил Мейсону, фамилию которого нашел в юридическом адрес-календаре, и условился о личном свидании; по мнению Мейсона, письма эти были чрезвычайно важны для дела, однако голос Эттербери произвел на него сильнейшее впечатление, и он поспешил объяснить, что вовсе и не собирался предавать огласке имя Сондры или ее письма, а думал лишь сохранить их для рассмотрения при закрытых дверях в том случае, если Клайд не предпочтет сознаться и избегнуть предварительного разбора дела советом присяжных. Эттербери вторично переговорил с Финчли-отцом, убедился, что тот решительно против какого бы то ни было использования писем дочери или упоминания ее имени, и пообещал ему завтра же или послезавтра лично отправиться в Бриджбург с некоторыми политическими сообщениями и планами, которые заставят Мейсона всерьез подумать, прежде чем он решится в какой-либо форме упомянуть о Сондре. А затем, после надлежащего обсуждения, на семейном совете было решено, что миссис Финчли, Стюарт и Сондра немедленно, без всяких объяснений и прощальных слов уедут на побережье, куда-нибудь подальше от знакомых. Сам мистер Финчли предполагал вернуться в Ликург и Олбани. Неблагоразумно кому-либо из них оставаться там, где их могли бы застигнуть репортеры или расспрашивать друзья. И затем — бегство семьи Финчли в Наррагансет, где они скрывались полтора месяца под фамилией Уилсон. И по той же причине срочный отъезд Крэнстонов на один из тысячи островов, где, по их мнению, можно было сносно провести остаток лета. Гарриэты и Бэготы делали вид, что они не настолько скомпрометированы, чтобы им стоило беспокоиться, и продолжали оставаться на Двенадцатом озере. Но все толковали о Сондре и Клайде, о его ужасном преступлении и о том, что репутация всех, кто так или иначе, без всякой своей вины, запятнан каким-то касательством к этому делу, может погибнуть безвозвратно. А тем временем Смилли, по указанию Грифитсов, отправился в Бриджбург и после двухчасовой беседы с Мейсоном получил разрешение навестить Клайда в тюрьме и переговорить с ним наедине в его камере. Смилли пояснил, что Грифитсы пока не намерены организовать защиту Клайда, а хотят лишь выяснить, возможна ли вообще при данных обстоятельствах какая-либо защита. И Мейсон настойчиво посоветовал Смилли убедить Клайда сознаться, ибо, утверждал он, нет ни малейших сомнений в его виновности, а длительный судебный процесс только будет стоить округу больших денег, без всякой пользы для Клайда; между тем, если он во всем признается, могут найтись какие-нибудь смягчающие обстоятельства, и во всяком случае удастся предотвратить появление этого общественного скандала в раздутом виде на страницах газет. Итак, Смилли направился в камеру, где Клайд мрачно и безнадежно раздумывал, как ему быть дальше. При одном упоминании имени Смилли его передернуло, словно от удара; Грифитсы — Сэмюэл Грифитс и Гилберт! Их личный представитель. Что же теперь говорить? Без сомнения, рассуждал он, Смилли, поговорив с Мейсоном, считает его, Клайда, виновным. Что же сказать? Правду или нет? Но пока он пытался что-то обдумать и сообразить, Смилли уже входил в дверь. Облизнув сухие губы, Клайд с усилием выговорил: — Здравствуйте, мистер Смилли! И тот ответил с деланной сердечностью: — Добрый день, Клайд! Грустно, что вас засадили в такое место. — И затем продолжал: — Газеты и здешний прокурор не скупятся на всевозможные россказни о вас, но, я думаю, все это не такстрашно. Тут, конечно, какая-то ошибка. Я для того и приехал, чтобы это выяснить. Ваш дядя сегодня утром по телефону поручил мне повидаться с вами и узнать, почему вас вздумали засадить. Вы и сами понимаете, каково сейчас вашим родственникам. Они поручили мне все точно узнать и, если возможно, прекратить дело. Поэтому, если вы расскажете мне все подробно… понимаете ли… я хочу сказать… Смилли остановился. И по всему, что он сейчас слышал от прокурора, и по тому, как замкнуто держался Клайд, он понял: вряд ли тот может многое сообщить в свое оправдание. А Клайд, еще раз облизнув запекшиеся губы, начал: — Похоже, что все складывается очень плохо для меня, мистер Смилли. Я никак не думал, когда познакомился с мисс Олден, что попаду в такую беду. Но я не убивал ее: бог свидетель, это чистая правда. У меня никогда не было желания убить ее, и я не хотел вести ее на это озеро. Это правда, и я говорил это прокурору. Я знаю, у него есть ее письма ко мне, но они доказывают только то, что она хотела уехать со мной, а вовсе не то, что я хотел с ней ехать… Он замолчал, ожидая, что Смилли как-либо обнаружит доверие к его словам. А Смилли, видя, что объяснение Клайда совпадает со словами Мейсона, но стараясь успокоить его, сказал только: — Да, знаю, Мейсон мне сейчас показывал их. — Я знал, что он покажет, — тихо продолжал Клайд. — Но знаете, мистер Смилли, как иной раз получается. — Опасаясь, как бы шериф или Краут не подслушали его, он совсем понизил голос. — Можно попасть в такую историю с девушкой, даже если сначала вовсе об этом и не думаешь. Вы сами знаете. Я сперва любил Роберту, это правда, и я был с ней в связи, — это видно из ее писем. Но вы ведь знаете, какое правило на фабрике: заведующий отделением не может иметь ничего общего с работницами. Ну вот, мне кажется, с этого и начались все мои неприятности. Понимаете? Я боялся, как бы кто-нибудь об этом не узнал. — Да, понятно. И вот, видя, что Смилли как будто слушает его сочувственно, Клайд постепенно успокоился, напряженный тон его стал более естественным, и он рассказал почти всю историю своей близости с Робертой и постарался оправдаться. Но ни слова о фотографическом аппарате, о двух шляпах, об исчезнувшем костюме — обо всем, что непрестанно, безмерно волновало его. В самом деле, как он мог бы все это объяснить? В заключение Смилли, знавший обо всем от Мейсона, спросил: — А как насчет этих двух шляп, Клайд? Мейсон говорит, вы признали, что у вас было две шляпы: та, которую нашли на озере, и та, в которой вы шли оттуда. Он ждал ответа, а отвечать было нечего — и Клайд сказал: — Они ошибаются, мистер Смилли. Когда я шел оттуда, на мне была не соломенная шляпа, а кепка. — Понимаю. Но он говорит, что на Медвежьем озере у вас все-таки была соломенная шляпа. — Да, была, но ведь я сказал ему, это была другая шляпа, я в ней приезжал к Крэнстонам в первый раз. Я ему говорил. Я тогда забыл ее у них. — Так, понятно. Потом тут еще что-то с костюмом, — серый костюм, кажется. Мейсон говорит, что вас тогда видели в нем, а теперь его не могут найти. Был у вас такой костюм? — Нет. Я был в синем костюме, в котором меня привезли сюда. Потом его у меня забрали и дали мне вот этот. — Но, по его словам, вы сказали, что в Шейроне отдавали синий костюм в чистку, а он никого не мог там найти, кто бы об этом знал. Как это получилось? Вы действительно отдавали его чистить? — Да, сэр. — Кому же? — Ну, я просто не помню теперь. Но, наверно, я мог бы найти этого портного, если бы попал туда опять. Это около вокзала. Но при этих словах он опустил глаза, чтобы не встретиться взглядом со Смилли. Потом Смилли, как прежде Мейсон, стал спрашивать о чемодане, который Клайд взял с собой в лодку, и о том, почему, если Клайд сумел доплыть до берега в башмаках и костюме, он не подплыл к Роберте и не помог ей уцепиться за перевернутую лодку? Клайд объяснил, как и раньше, что боялся, как бы она не потащила его ко дну. Но теперь он впервые прибавил, что крикнул ей, чтобы она ухватилась за лодку, а прежде он говорил, будто лодку отнесло от них, и Смилли знал об этом от Мейсона. А в связи с рассказом Клайда, будто ветер сорвал с него шляпу, Мейсон выразил готовность доказать при помощи свидетелей, а также и правительственных метеорологических бюллетеней, что день был тихий, без малейшего намека на ветер. Итак, очевидно, Клайд лгал. Вся эта его история была шита белыми нитками. Но Смилли, не желая его смущать, только повторял: «Ага, понимаю», или: «Ну конечно», или: «Значит, вот как это было!» Наконец Смилли спросил о следах ударов на лице и голове Роберты. Мейсон обратил на них его внимание, утверждая, что один удар бортом лодки не мог бы нанести повреждений в обоих местах. А Клайд уверял, что, опрокидываясь, лодка ударила Роберту только один раз и от этого все раны и ушибы, — иначе он просто не представляет, откуда они взялись. Но он и сам начал понимать, как безнадежно жалко звучит это объяснение. По огорченному и смущенному виду Смилли было ясно, что он ему не поверил. Смилли явно и несомненно считает подлой трусостью со стороны Клайда, что он не пришел на помощь Роберте. Он дал ей погибнуть — и трусость в этом случае весьма слабое оправдание. Наконец Клайд замолчал, — он слишком измучился и пал духом, чтобы лгать дальше. А Смилли, настолько огорченный и расстроенный, что у него не было ни малейшего желания приводить Клайда в замешательство дальнейшими расспросами, беспокойно ерзал на стуле, мялся и наконец заявил: — Ну, Клайд, боюсь, что мне пора. Дорога отсюда до Шейрона препаршивая. Очень рад, что услышал всю эту историю в вашем освещении. Я в точности передам вашему дяде все, что вы мне рассказали. Но пока что я на вашем месте по возможности ничего больше не стал бы говорить, — подождите, пока не получите от меня дальнейших известий. Мне поручено найти здесь адвоката, который мог бы вести ваше дело. Но так как уже поздно, а мистер Брукхарт — наш главный юрисконсульт — завтра вернется, я думаю, лучше подождать и поговорить с ним. Так что, если хотите послушать моего совета, просто-напросто ничего больше не говорите, пока не получите известий от меня или от него. Либо он приедет сам, либо пришлет кого-нибудь; тот, кто к вам явится, привезет от меня письмо и даст вам указания насчет дальнейшего. После этих наставлений он распрощался, представив Клайда его одиноким мыслям. Но у самого Смилли не осталось ни малейшего сомнения в виновности Клайда и в том, что лишь грифитсовские миллионы — если Грифитсы пожелают тратить их на это — могут спасти Клайда от несомненно заслуженной им роковой участи.
Глава 79
А на следующее утро в просторной гостиной своего особняка на Уикиги-авеню Сэмюэл Грифитс в присутствии Гилберта выслушал подробный отчет Смилли о его свидании с Клайдом и с Мейсоном. Смилли доложил обо всем, что видел и слышал. И Гилберт Грифитс, неимоверно взволнованный и разъяренный всем этим, воскликнул: — Вот мерзкая тварь! Гаденыш! Видишь, отец, говорил я тебе! Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты не брал его сюда! И Сэмюэл Грифитс после некоторого размышления над этим намеком на свою прежнюю безрассудную симпатию к Клайду посмотрел на Гилберта выразительным и глубоко огорченным взглядом, говорившим: «Для чего мы собрались здесь, что нам следует обсудить, — неразумность моих первоначальных, хоть и нелепых, но добрых намерений или создавшееся критическое положение?» А Гилберт думал: «Убийца! А эта несчастная зазнайка Сондра Финчли хотела что-то из него сделать, больше всего — чтобы позлить меня, — и только сама себя запятнала. Вот дура! Ну, так ей и надо. Теперь и на ее долю хватит грязи». Но и у него, и у отца, и у всех тоже будут бесконечные неприятности. Весьма вероятно, что этот скандал ляжет несмываемым пятном на всех — на него, на его невесту, на Беллу, Майру и родителей, и, пожалуй, будет стоить им положения в ликургском обществе. Трагедия! Может быть, казнь! И это в их семье! А Сэмюэл Грифитс, со своей стороны, припоминал все, что произошло с тех пор, как Клайд приехал в Ликург. Сначала его заставили работать в подвале, и семья Грифитс не обращала на него никакого внимания. Целых восемь месяцев он был предоставлен самому себе. Не могло ли это быть по меньшей мере одной из причин всего этого ужаса? А потом его сделали начальником над двадцатью молодыми девушками! Разве это не было ошибкой? Теперь Сэмюэл ясно это понимал, хотя, конечно, ни в коей мере не прощал того, что сделал Клайд — отнюдь нет. Какая низменная натура! Какая невоздержанность в плотских желаниях! Какое не знающее удержу зверство: обольстить ту девушку и потом из-за Сондры, из-за прелестной маленькой Сондры задумать от нее отделаться! А теперь он в тюрьме и, по словам Смилли, не может придумать ничего лучшего для объяснения всех этих поразительных обстоятельств, кроме уверений, что он вовсе не намерен был убивать ее, даже и не думал об этом, и что от ветра у него слетела шляпа! До чего жалкая выдумка! И никакого правдоподобного объяснения насчет двух шляп или исчезнувшего костюма или насчет того, почему он не пришел на помощь утопающей девушке. А следы удара на ее лице — откуда они? С какой силой все это доказывает его виновность! — Боже мой! — воскликнул Гилберт. — Неужели он не мог выдумать ничего лучшего, болван! И Смилли ответил, что это все, чего он добился от Клайда, и что мистер Мейсон безоговорочно и вполне беспристрастно убежден в его виновности. — Ужасно! Ужасно! — твердил Сэмюэл. — Я просто не могу этого понять, не могу! Не представляю, как человек, близкий мне по крови, мог совершить подобное преступление!.. В страхе и отчаянии он поднялся и зашагал из угла в угол. Семья! Гилберт и его будущее! Белла со всеми ее честолюбивыми мечтами! И Сондра! И все семейство Финчли! Он сжал кулаки. Нахмурил брови и закусил губы. По временам он взглядывал на Смилли — тот, безупречный и вылощенный, обнаруживал все же крайнее душевное напряжение и мрачно покачивал головой всякий раз, как Грифитс смотрел на него. Еще добрых полтора часа Грифитс-старший спрашивал и переспрашивал Смилли, возможно ли какое-либо другое истолкование сообщенных им фактов; и наконец, помолчав, заявил: — Ну, должен сказать, выглядит это прескверно. Однако, несмотря на все, что вы рассказали, я не могу бесповоротно его осудить, имеющихся у меня данных для этого недостаточно. Может быть, есть еще какие-нибудь факты, которые пока не всплыли на поверхность, — ведь вы говорите, что он о многих вещах не сказал ни слова… может быть, есть какие-то неизвестные нам подробности… какое-то, хоть слабое, оправдание… иначе все это приобретает вид самого чудовищного преступления. Мистер Брукхарт приехал из Бостона? — Да, сэр, он здесь, — ответил Гилберт. — Он говорил с мистером Смилли по телефону. — Хорошо. Пусть он придет сюда ко мне сегодня в два часа. Я слишком устал и сейчас больше не могу об этом говорить. Расскажите ему все, что вы рассказали мне, Смилли. А к двум часам возвращайтесь с ним сюда. Может быть, он подскажет нам что-нибудь стоящее, хотя я просто не представляю, что именно. Одно хочу сказать: я надеюсь, что Клайд не виновен. И я хочу сделать все возможное, чтобы выяснить, виновен он или нет, и, если нет, — защищать его, насколько допускает закон. Но не больше. Никаких попыток спасти того, кто виновен в подобном преступлении, — нет, нет и нет! — даже если он и мой племянник. Это не по мне! Я не такой человек! Будь что будет — любые неприятности, любой позор, — я сделаю все возможное, чтобы помочь ему, если он не виновен, если есть хоть малейшее основание в это верить. Но если виновен — нет! Никогда! Если этот малый действительно виновен, он должен получить по заслугам. Ни доллара, ни одного пенни я не потрачу ради того, кто мог совершить подобное преступление, даже если он мне и племянник! Сэмюэл Грифитс повернулся и медленно, тяжелой походкой направился к лестнице в глубине комнаты, а Смилли, широко раскрыв глаза, почтительно смотрел ему вслед. Какая сила! Какая решительность! Какая справедливость в столь критических обстоятельствах! И Гилберт, тоже пораженный, сидел неподвижно, уставясь в пространство. Да, отец — это человек. Он может быть жестоко оскорблен и огорчен, но, в отличие от него, Гилберта, отнюдь не мелочен и не мстителен. А затем явился мистер Дарра Брукхарт: крупный, прекрасно одетый, упитанный, тяжеловесный и осторожный адвокат; один глаз его был наполовину закрыт опустившимся веком, брюшко изрядно выпячивалось, и создавалось впечатление, что мистер Брухкарт, наподобие воздушного шара, если не телом, то духом витает в выси в некоей весьма разреженной атмосфере, где малейшее веяние любых юридических прецедентов, толкований или решений легко перебрасывает его то туда, то сюда. При отсутствии дополнительных фактов виновность Клайда казалась ему очевидной. Даже если и не так, решил он, внимательно выслушав отчет. Смилли обо всех подозрительных и уличающих Клайда обстоятельствах, все равно построить сколько-нибудь удовлетворительную защиту будет очень трудно, разве что существуют какие-нибудь до сих пор не обнаруженные факты, благоприятные для обвиняемого. Эти две шляпы, чемодан… Бегство… И эти письма… Но он предпочел бы сам их прочитать. Судя по уже известным обстоятельствам дела, публика, безусловно, будет настроена против Клайда и в пользу погибшей девушки. За нее — ее бедность, ее принадлежность к рабочему классу. Все это делает почти невозможным благоприятный приговор присяжных в таком глухом лесном округе, как Бриджбург. Ведь хотя сам Клайд и беден, он племянник богатого человека и до сих пор занимал известное положение в высшем обществе Ликурга. Это, несомненно, восстановит против него весь здешний люд. Поэтому следовало бы хлопотать об изменении места подсудности, чтобы такого рода предубеждение не повлияло на приговор. Но, с другой стороны, сначала он должен послать опытного в перекрестных допросах юриста, который взял бы на себя защиту и сумел бы выпытать у Клайда все факты, сославшись на то, что от его правдивых ответов зависит его жизнь, — без этого никак нельзя сказать, есть ли какая-нибудь надежда. Среди его помощников имеется некто Кетчумен, очень способный человек, которого можно направить с подобной миссией, и на основании его донесения можно будет сделать разумные выводы по делу Клайда. Однако в этом деле имеются еще и другие обстоятельства, которые, на его взгляд, следует тщательно взвесить, прежде чем принять какое-либо решение. Как мистеру Грифитсу и его сыну, разумеется, известно, в Утике, Нью-Йорке и Олбани есть адвокаты, весьма сведущие во всяких тонкостях и каверзах уголовного права (в частности, ему приходят на память братья Кэнаван из Олбани, очень способные, хотя и несколько подозрительные личности). Без сомнения, любой из них, — как бы он в первую минуту ни посмотрел на это дело, — за соответствующее вознаграждение возьмет на себя защиту. И, без сомнения, перенеся разбирательство в другой округ и прибегнув ко всякого рода запросам, апелляциям и прочее, они могли бы затянуть дело и в конечном счете добиться менее сурового решения, нежели смертный приговор, если это угодно главе достопочтенного семейства Грифитс. С другой стороны, безусловно, столь бурный и спорный процесс вызовет огромную газетную шумиху, — а желательно ли это мистеру Сэмюэлу Грифитсу? Ведь обстоятельства таковы, что, вероятно, станут говорить, — несправедливо, разумеется, — будто он, пользуясь своим богатством, старается обойти правосудие. Публика в подобных случаях бывает крайне предубеждена против богатых людей. И, однако, она наверняка будет ждать, что Грифитсы так или иначе постараются защитить Клайда, хотя потом, может быть, и станет критиковать их за это. Следовательно, мистеру Грифитсу и его сыну необходимо теперь же решить, как именно они предпочитают действовать: пригласить ли выдающихся юристов, вроде тех двоих, о которых он упоминал, или же не столь крупных адвокатов, или обойтись без этого. Ведь, разумеется, можно, не возбуждая особого внимания, обеспечить Клайду толкового и осторожного юриста, выступающего обычно защитником на процессах, — скажем, кого-нибудь из живущих и практикующих в Бриджбурге, — и он обязан будет позаботиться о том, чтобы в газетах появлялось возможно меньше крикливых, непозволительных выпадов по адресу семьи Грифитс. И, наконец, после трехчасового совещания Сэмюэл решил, что мистер Брукхарт немедленно отправит своего мистера Кетчумена в Бриджбург: пусть тот побеседует с Клайдом, а затем, каковы бы ни были его выводы относительно, виновности или невиновности Клайда, пусть выберет из числа местных юридических талантов, хотя бы на первое время, такого адвоката, который наилучшим и наичестнейшим образом сможет защитить его интересы. Однако мистеру Кетчумену не следует давать никаких гарантий относительно размеров вознаграждения, и он должен только заставить Клайда сказать правду в связи с предъявленным ему обвинением — не больше. А потом нужно будет позаботиться о такой защите, которая добросовестно стремилась бы установить все факты, действительно благоприятные для Клайда, — но только факты: короче говоря, никаких юридических хитростей, казуистики или плутовства в какой-либо форме, никаких попыток объявить невинным виновного и обмануть правосудие.Глава 80
Мистер Кетчумен, однако, сумел узнать от Клайда ничуть не больше, чем Мейсон и Смилли. Весьма искусный там, где надо было по чьим-то путаным показаниям составить наиболее верное представление о факте, он не столь успешно разбирался в области чувств, что было необходимо в случае с Клайдом. Он был слишком строгим законником, холодным и бесстрастным. А потому, промучив Клайда четыре долгих часа в жаркий июльский день, он под конец вынужден был отступиться, убежденный, что свет еще не видал злоумышленника, столь жалкого, неумелого и неловкого, как этот Клайд Грифитс. В свое время, после отъезда Смилли, Мейсон отправился с Клайдом на озеро Большой Выпи и там разыскал штатив и фотографический аппарат, а кроме того, выслушал от Клайда еще немало лжи. Теперь он сообщил Кетчумену, что хотя Клайд и утверждает, будто у него не было фотографического аппарата, однако он, Мейсон, имеет доказательства противного: аппарат у Клайда был, и он взял его с собою, когда уезжал из Ликурга. Однако на вопрос Кетчумена Клайд только и сумел ответить, что аппарата он с собою не брал и что найденный штатив вовсе не от его аппарата; ложь эта безмерно возмутила Кетчумена, и он решил больше ни о чем с ним не спорить. Однако Брукхарт поручил Кетчумену, каковы бы ни были его личные выводы насчет Клайда, выбрать для него адвоката, — это необходимо, поскольку речь идет по меньшей мере о милосердии Грифитсов, если не об их чести, а Грифитсы западные, как уже объяснил ему Брукхарт, не имеют ни гроша и вообще нежелательно впутывать их в это дело. Поэтому Кетчумен решил найти защитника до своего отъезда. И, совершенно не разбираясь в местной политической ситуации, он отправился к Айре Келлогу, директору национального банка округа Катараки; Келлог (Кетчумен этого не знал) был одним из видных деятелей местной организации демократической партии. В силу своих религиозных и моральных воззрений этот Келлог был крайне возмущен преступлением, в котором обвиняли Клайда. Но, с другой стороны, он прекрасно знал, что дело это прокладывает путь для новых успехов республиканской партии на приближающихся выборах, и, поразмыслив, решил: не следует упускать возможность как-то противодействовать Мейсону. Судьба в образе Клайда и совершенного им преступления явно благоприятствовала республиканской партийной машине. Суть в том, что с тех пор, как было обнаружено это убийство, Мейсон стал пользоваться такой широкой известностью чуть ли не по всей стране, какой с незапамятных времен не знавал ни один прокурор в этих краях. Корреспонденты газет, репортеры, художники из таких отдаленных городов, как Буффало, Рочестер, Чикаго, Нью-Йорк и Бостон, приезжали сюда, чтобы проинтервьюировать, зарисовать или сфотографировать Клайда, Мейсона, оставшихся в живых членов семьи Олден и прочих, — и все это знали и видели. А в местном обществе Мейсон стал объектом единодушного восхваления, и даже избиратели-демократы по всей провинции присоединялись в этом отношении к республиканцам, утверждая, что Мейсон человек правильный, что он обращается с убийцей в точности так, как тот заслуживает, и что все деньги и положение Грифитсов и семьи той богатой девушки, которую, как видно, преступник пытался покорить, нимало не повлияли на этого народного трибуна. Вот это настоящий прокурор! «Уж, будьте уверены, этот время зря терять не станет!» И действительно, перед приездом Кетчумена следователь и понятые в присутствии и даже под руководством Мейсона рассмотрели обстоятельства смерти Роберты и порешили, что девушка умерла в результате преступления, задуманного и осуществленного неким Клайдом Грифитсом, находящимся в настоящее время в бриджбургской тюрьме, где он и должен оставаться в ожидании решения окружного совета присяжных, на рассмотрение которого должно быть представлено в ближайшем будущем его дело. И Мейсон, как уже всем было известно, намеревался просить губернатора о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда, а следовательно, и о немедленном созыве сессии окружного совета присяжных, с тем чтобы совет рассмотрел все показания и улики и решил вопрос о предании Клайда суду или о его освобождении. И тут-то является Кетчумен и спрашивает, нельзя ли подыскать способного адвоката, которому можно поручить защиту Клайда. Радуясь случаю нейтрализовать деятельность Мейсона, Келлог сразу подумал о некоем Элвине Белнепе («Белнеп и Джефсон, адвокаты»); он уже дважды был сенатором штата, три раза представителем демократической партии в совете округа, и в последнее время многие видные демократы считали, что его следует выдвинуть на один из самых высоких постов, как только демократической партии удастся взять в свои руки административный аппарат округа. В самом деле, всего три года назад в борьбе за пост прокурора этот Белнеп был самым опасным соперником Мейсона из всех кандидатов демократического списка. В политическом отношении он был настолько подходящий человек, что в этом году его собирались выдвинуть кандидатом на то самое место окружного судьи, на которое рассчитывал Мейсон. И если бы не неожиданные и поразительные события, связанные с Клайдом, Белнеп, по общему мнению, попав в списки кандидатов, был бы избран. Мистер Келлог не потрудился объяснить Кетчумену все сложные детали этой весьма любопытной политической ситуации, но сообщил, что в качестве оппонента Мейсону Белнеп — человек исключительно подходящий, почти идеальный. После этого небольшого предисловия Келлог предложил лично проводить Кетчумена в контору «Белнеп и Джефсон», которая помещалась напротив. Они постучались к Белнепу; их впустил очень симпатичный с виду человек, лет сорока восьми, подвижный, среднего роста; его серо-голубые глаза сразу показались Кетчумену окнами, из которых смотрел явно проницательный, хотя, может быть, и не слишком могучий и разносторонний ум. Белнеп умел так себя держать, что все окружающие уважали его. Он окончил университет. В юности благодаря своей внешности, состоянию и общественному положению (его отец был судья и сенатор) он вдоволь насладился тем, что можно назвать жизнью искателя приключений, и «потому вся эта неловкость и связанность, страстные порывы и тяготение к другому полу — то, что все еще волновало Мейсона и нередко решающим образом влияло на его поведение, — для Белнепа давно отошло в прошлое; душевная уравновешенность и терпимость позволяли ему недурно разбираться в морально и социально запутанных (но не чересчур уж из ряда вон выходящих) случаях, которые встречались ему в жизни. Конечно, этот человек по самой природе своей способен был подойти к такому делу, как дело Клайда, без неистовой страстности Мейсона. Он сам, когда ему было двадцать лет, попал в трудное положение, оказавшись между двумя девушками: с одной он только играл, а в другую был серьезно влюблен. Соблазнив первую и оказавшись перед нелегким выбором — жениться или бежать, — он выбрал бегство. Но прежде рассказал обо всем отцу, и тот посоветовал ему уехать в отпуск, а тем временем обратились к услугам домашнего врача; в результате, затратив тысячу долларов и оплатив необходимые расходы на устройство беременной подружки сына в Утике, отец в конце концов выручил Элвина из затруднительного положения и сделал возможным его возвращение, а затем и женитьбу на другой девушке. Поэтому, хотя Белнеп отнюдь не сочувствовал более жестокому и решительному образу действий, при помощи которого Клайд, если верить обвинению, пытался избежать ответственности (никогда за все годы своей юридической практики Белнеп не мог постичь психологию убийцы), все же он склонялся к мысли, что Клайд был ослеплен и околдован любовью. Ходили же слухи о его романе с какой-то богатой девушкой, чье имя пока не предавалось огласке. И разве не был он беден, тщеславен и честолюбив? По слухам, так оно и было, и Белнеп подумывал даже, что при создавшемся в округе политическом положении он мог бы, к немалой выгоде для себя и, пожалуй, к большому разочарованию мистера Мейсона, неплохо построить защиту или по крайней мере создать ряд судебных препирательств и отсрочек, ввиду которых мистеру Мейсону будет не так легко заграбастать должность судьи округа, как он воображает. Разве нельзя сейчас при помощи энергичных юридических приемов, несмотря на нарастающую враждебность общества и даже именно из-за нее, ходатайствовать о перенесении разбора дела в другой округ или же об отсрочке, нужной для подбора новых показаний? В этом случае процесс начнется только тогда, когда Мейсон уже не будет прокурором. Белнеп вместе со своим компаньоном, молодым юристом Рубеном Джефсоном, недавно переехавшим из штата Вермонт, уже думал об этом. И вот явился мистер Кетчумен в сопровождении мистера Келлога. И затем совещание с мистером Кетчуменом и Келлогом, причем последний, ссылаясь на политическую ситуацию, доказывал, что Белнеп поступил весьма благоразумно, взяв на себя защиту. И поскольку Белнеп сам был крайне заинтересован этим делом, он, посовещавшись со своим молодым компаньоном, быстро согласился. В конечном счете это не может повредить его политической карьере, как бы ни была сейчас настроена публика. А после того, как Кетчумен вручил Белнепу задаток и рекомендательное письмо к Клайду, Белнеп попросил Джефсона вызвать по телефону Мейсона и сообщить ему, что «Белнеп и Джефсон», как адвокаты, которым Сэмюэл Грифитс поручил защиту своего племянника, ожидают от него, Мейсона, подробного письменного сообщения обо всех предъявленных Клайду Грифитсу обвинениях, равно как и обо всех свидетельских показаниях и уликах, и просят познакомить их с протоколами вскрытия трупа и донесением следователя. Их интересует также, возбуждено ли ходатайство о внеочередной сессии Верховного суда, и если таковая состоится, то какой назначен судья и где и когда соберется совет присяжных. Кстати, прибавил Белнеп, они слышали, что тело мисс Олден уже отправлено на ее родину для погребения, — так вот, он и его коллега Джефсон просят о немедленном разрешении вырыть тело из земли, чтобы его могли теперь осмотреть врачи, приглашенные защитой. Мейсон сперва запротестовал, но в конце концов согласился, так как ему все равно пришлось бы подчиниться соответствующему распоряжению председателя Верховного суда. Когда все это было улажено, Белнеп заявил, что он отправляется в тюрьму для свидания с Клайдом. Час был поздний, а он еще не обедал, и ему теперь негде было пообедать, но он хотел потолковать по душам с этим юношей, от которого, по словам Кетчумена, ничего не удавалось добиться. Белнепа подгоняло желание потягаться с Мейсоном и убеждение, что благодаря особенностям своего характера он наилучшим образом поймет Клайда, и его профессиональное любопытство было возбуждено до предела. Сколько романтики и драматизма в этом преступлении! Что за девушка эта Сондра Финчли, о которой ему уже рассказали под большим секретом? Нельзя ли как-нибудь привлечь ее к защите Клайда? Ему уже сообщили, что ее имя не должно быть упомянуто, — этого требуют интересы высокой политики. Ему и в самом деле не терпелось поговорить с этим хитрым, честолюбивым и легкомысленным юношей. Придя в тюрьму и показав шерифу Слэку письмо от Кетчумена, Белнеп попросил, чтобы его в виде особого одолжения провели в такое место подле камеры Клайда, откуда он мог бы сперва, оставаясь незамеченным, понаблюдать за арестованным. Поэтому Белнепа потихоньку повели во второй этаж, открыли дверь в коридор, куда выходила камера Клайда, и позволили войти туда одному. Подойдя к камере на расстояние нескольких шагов, он увидел Клайда, который в эту минуту лежал на железной койке лицом вниз, охватив голову руками; все его тело безвольно обмякло; рядом стоял поднос с нетронутой едой. Дело в том, что после ухода Кетчумена и второй безуспешной попытки убедить кого-то своей пустой и бессмысленной ложью Клайд совсем приуныл. Он настолько пал духом, что лежал на койке, заливаясь слезами, и плечи его вздрагивали от беззвучных рыданий. Увидев это и вспомнив свои собственные юношеские проделки, Белнеп ощутил острую жалость. Бездушный убийца не станет плакать, решил он. Он подошел к двери камеры и, немного помедлив, заговорил: — Ну, ну, Клайд! Это совсем ни к чему. Нельзя так падать духом. Ваше дело, может быть, не так уж безнадежно, как вы думаете. Садитесь-ка и потолкуйте с адвокатом, которому кажется, что он может для вас кое-что сделать, — хотите? Меня зовут Белнеп, Элвин Белнеп. Я живу тут, в Бриджбурге, и меня прислал к вам этот парень, который недавно был у вас, — как его, Кетчумен, что ли? Вам он как будто не очень пришелся по душе? Ну, мне тоже. Он, я думаю, человек не нашего склада. Но вот письмо, которым он уполномочивает меня быть вашим защитником. Хотите взглянуть? Он сказал все это весело и уверенно и протянул письмо сквозь железную решетку, к которой нерешительно и с любопытством подошел Клайд. Голос этого человека звучал как-то очень искренне, непривычно, в нем было как будто и сочувствие и понимание, и это придало Клайду храбрости. Он без колебаний взял письмо, просмотрел его и вернул с улыбкой. — Ну вот, я так и думал, — продолжал Белнеп ободряюще, очень довольный произведенным эффектом, который он целиком приписал своему личному обаянию. — Так-то лучше. Я знаю, мы с вами поладим. Я это чувствую. Вы можете говорить со мной так же свободно и доверчиво, как с собственной матерью. И вам нечего опасаться, что хоть одно сказанное мне слово дойдет еще до чьих-либо ушей, если вы сами этого не захотите, понятно? Ведь я буду вашим защитником, Клайд, если вы согласны, а вы будете моим клиентом. Мы с вами сядем вдвоем завтра или когда хотите, и вы расскажете мне все, что, по-вашему, мне следует знать, а я скажу вам, что мне, по-моему, следует знать и могу ли я вам помочь. И я намерен доказать вам, что, так или иначе помогая мне, вы помогаете сами себе. Понятно? И, черт возьми, я сделаю все, что только в моих силах, чтобы вытащить вас из этой истории. Ну, что вы на это скажете? Он улыбнулся ободряюще и сочувственно, даже ласково. И Клайд впервые за время своего пребывания здесь почувствовал, что нашелся кто-то, кому можно довериться без риска, и уже думал, что, пожалуй, самое лучшее — рассказать этому человеку все, решительно все… Он не мог бы сказать — почему, но Белнеп ему нравился. Клайд тотчас, хотя и смутно, почувствовал, что этот человек понимает его и, может быть, даже отнесется к нему с сочувствием, если узнает все или почти все. Белнеп разъяснил Клайду, как его врагу — Мейсону — хочется непременно добиться его осуждения и как, если только он, Белнеп, составит приемлемый план защиты, он наверняка сумеет оттянуть рассмотрение дела, а к тому времени этот тип перестанет быть прокурором. И Клайд заявил, что если мистер Белнеп даст ему ночь на размышление, то завтра или в любое время, когда мистер Белнеп пожелает прийти снова, он расскажет ему все. А на следующий день Белнеп сидел на стуле, напротив Клайда, грыз плитку шоколада и слушал, а Клайд, сидя на железной койке, выкладывал свою историю, — все подробности своей жизни со времени приезда в Ликург: о том, как и почему он приехал сюда, о девочке, убитой в Канзас-Сити (но он не упомянул о газетной вырезке забыв, что сохранил ее); о встрече с Робертой, о своем страстном влечении к ней, о ее беременности и о том, как он старался выручить ее из беды, — и далее о том, как она грозила выдать его, и тут ему попалась та заметка в газете, — и он наконец, в безмерном отчаянии и страхе, попытался проделать то же. Но сам он никогда не додумался бы до такого — мистер Белнеп должен это понять. И ведь он же не убил ее. Нет, не убил. Что бы там ни думал мистер Белнеп, но в этом он должен ему поверить. Он вовсе не хотел ее ударить. Нет, нет, нет! Это была несчастная случайность. У него был фотографический аппарат, и штатив, найденный Мейсоном, это, конечно, его штатив. Он спрятал его под поваленным деревом, после того как нечаянно ударил Роберту аппаратом, и потом видел, как аппарат потонул, — без сомнения, он и сейчас лежит на дне вместе с пленкой, где сняты сам Клайд и Роберта, если только пленка не размокла в воде. Но он ударил ее не намеренно. Нет! Он этого не хотел. Она потянулась к нему, и он толкнул ее, но это вышло нечаянно. Лодка перевернулась… И Клайд постарался возможно точнее описать, как перед этим он словно оцепенел, был в каком-то столбняке, потому что, зайдя так далеко, не мог дойти до конца. А между тем Белнепа под конец и самого утомил и смутил этот странный рассказ; он понимал, что все это просто невозможно изложить обычному составу присяжных в здешней глуши, не говоря уже о том, чтобы убедить их в безобидности столь мрачных и жестоких планов и поступков. Наконец, усталый, растерянный и недоумевающий, он встал и положил руки на плечи Клайда. — Ну, вот что, Клайд, — сказал он. — Я думаю, на сегодня хватит. Я понимаю, что вы пережили и как все это произошло, и я вижу, как вы устали. Я очень рад, что вы рассказали мне все начистоту, — я ведь знаю, это вам было нелегко. Но сейчас, по-моему, вам не следует больше говорить. У нас еще будет время, а пока я должен кое-что уладить. Завтра или послезавтра мы с вами обсудим некоторые подробности этого дела. Ложитесь-ка сейчас спать и отдохните. Вам понадобятся силы для той работы, которую нам с вами скоро придется проделать. А пока что не волнуйтесь, это совершенно ни к чему, понятно? Я вас вытащу из этой истории, вернее, мы вдвоем — мой компаньон и я. Как-нибудь на днях я приведу его к вам. Он вам тоже понравится. Но я хочу, чтобы вы подумали над двумя условиями и твердо их соблюдали. Во-первых, никому не позволяйте ничем запугать себя и помните, что я или мой коллега будем по крайней мере раз в день навещать вас, и если вам надо будет что-нибудь сказать или спросить, вы всегда сможете поговорить об этом с нами. И, во-вторых, ни с кем ни о чем не разговаривайте: ни с Мейсоном, ни с шерифом, ни с тюремщиками — ни с кем, если только я вам не скажу, что это нужно. Ни с кем, слышите! И главное — не плачьте больше. Потому что, будь вы чисты, как ангел, или черны, как сам дьявол, наихудшее, что вы можете сделать, — это плакать перед кем бы то ни было. Ни публика, ни тюремщики этого не понимают; по их мнению, слезы всегда означают слабость или признание вины. А мне не хотелось бы, чтобы они думали о вас что-либо подобное, особенно когда я знаю, что вы действительно невиновны. Теперь я знаю это. Я верю в это, понятно? Так что не вешайте носа перед Мейсоном и прочими. В самом деле, я хотел бы, чтобы вы впредь начали понемножку смеяться или хоть улыбаться. Держитесь веселее, когда здороваетесь с ними со всеми. Знаете, у юристов есть старая пословица, что сознание собственной невиновности придает человеку спокойствие. Помните, что вы не виновны, и не смотрите как виноватый. Не сидите с таким видом, будто вы потеряли последнего друга, — ничего такого не случилось. С вами я и мой коллега — мистер Джефсон. Через день-два я его к вам приведу. Относитесь к нему так же, как ко мне. Можете ему довериться: он в некоторых отношениях даже более умелый законник, чем я. Завтра я принесу вам парочку книг, журналы, газеты — почитайте, поглядите иллюстрации. Это вас отвлечет от тревожных мыслей. Клайд слабо улыбнулся и кивнул. — Да, еще одно: я не знаю, верующий ли вы? Но так или иначе, если только вам это предложат, советую исправно посещать здесь воскресное богослужение. Народ у нас тут набожный, и я хотел бы, чтобы вы производили возможно лучшее впечатление. Не обращайте внимания на то, что люди скажут и как посмотрят, — делайте, как я говорю. А если этот Мейсон или еще кто-нибудь из здешней публики станет и дальше к вам приставать, напишите мне записочку. Ну, а теперь я пошел, так что улыбнитесь мне повеселее на прощанье и потрудитесь встретить меня улыбкой, когда я приду в следующий раз. И не болтайте, поняли? Он встряхнул Клайда за плечи, похлопал по спине и вышел из камеры, но про себя подумал: «А вправду ли я верю, что этот парень так невинен, как он говорит? Можно ли неумышленно так ударить девушку? И потом отплыть прочь, потому что, как он говорит, он боялся, что она может его потопить? Скверно! Скверно! Какие двенадцать человек этому поверят? А этот чемодан, а две шляпы, а пропавший костюм! И, однако, он клянется, что ударил ее нечаянно. Но как же со всеми его планами — с намерением, которое не менее преступно в глазах закона? Правду он говорит или лжет даже теперь, быть может, стараясь обмануть не только меня, но и себя? И этот фотографический аппарат… Надо бы раздобыть его, пока его не нашел и не предъявил Мейсон. И этот костюм. Я должен найти его и, пожалуй, упомянуть о нем, чтобы опровергнуть мнение, что он был спрятан… сказать, что он все время был у нас… что он был отправлен в Ликург в чистку. Но нет, нет… минуточку… об этом еще надо подумать. И так далее, пункт за пунктом… И в то же время он устало думал, что лучше, пожалуй, вовсе и не пробовать использовать рассказ Клайда, а сочинить что-нибудь другое, какой-то измененный и смягченный вариант, который кажется не таким жестоким и будет в глазах закона не столь близок к убийству.Глава 81
Рубен Джефсон ничуть не походил ни на Белнепа, ни на Кетчумена, ни на Мейсона, ни на Смилли — словом, ни на кого из тех, кто до сих пор видел Клайда и интересовался его делом. Это был высокий, худой и смуглый молодой человек, жесткий, невозмутимый, холодно-рассудительный; воля и решимость у него были поистине стальные. Его отличал острый ум, а профессиональная изворотливость и эгоизм придавали ему сходство с рысью или хорьком. На смуглом лице еще светлей казались проницательные светло-голубые глаза со стальным отливом; длинный нос указывал на энергию и любознательность. У этого человека были сильные руки и сильное тело. Узнав, что им (конторе «Белнеп и Джефсон»), возможно, поручат защищать Клайда, он, не теряя ни минуты, во всех подробностях изучил материалы дознания, произведенного следователем, заключение врачей и письма Роберты и Сондры. И теперь, выслушав объяснения Белнепа о том, что Клайд признался в намерении убить Роберту, но уверяет, будто не исполнил этого намерения, так как в критическую минуту был охвачен каким-то душевным столбняком или раскаянием и только нечаянно ударил ее, — выслушав все это, Джефсон лишь пристально посмотрел на Белнепа и заметил без каких-либо комментариев и без тени улыбки: — Но он не был в столбняке, когда отправился с нею на озеро? — Нет. — И когда потом поплыл прочь? — Нет. — И когда шел по лесу, и менял шляпу и костюм, и прятал штатив? — Нет. — Вы, конечно, понимаете, что если мы воспользуемся этими объяснениями, в глазах закона он будет в такой же мере виновен, как если бы ударил ее умышленно, и судья должен будет предупредить об этом присяжных. — Да, я знаю. Я уже думал об этом. — Ну, тогда… — Вот что, Джефсон. Это, несомненно, трудный случай. По-моему, у Мейсона все козыри на руках. Если мы сумеем выручить этого малого, значит, мы можем отстоять кого угодно. Только, мне кажется, нам не стоит упоминать об этом столбняке, разве что мы решим сослаться на невменяемость, на эмоциональную неуравновешенность или что-нибудь в этом роде, как было с Гарри Тоу, помните? Белнеп умолк и с сомнением почесал свой слегка седеющий висок. — Вы, конечно, считаете, что он виновен? — сухо заметил Джефсон. — Представьте, как ни странно, нет! По крайней мере я в этом не уверен. По правде говоря, это один из самых запутанных случаев, с какими я когда-либо сталкивался. Этот парень далеко не так жесток и хладнокровен, как вы думаете, — он скорее простой и мягкий юноша, вы и сами увидите, — то есть судя по его манере держать себя. Ему только двадцать один или двадцать два года. И при всем родстве с Грифитсами он очень беден — простой служащий, в сущности. И он сказал мне, что его родители тоже бедны. У них какая-то миссия на Западе, в Денвере, кажется, а раньше была в Канзас-Сити. Он уже четыре года не был дома. Дело в том, что он оказался замешанным в какой-то дурацкой мальчишеской истории, когда работал рассыльным в отеле в Канзас-Сити, и ему пришлось оттуда удрать. Нам надо быть поосторожнее с Мейсоном, — выяснить, знает ли он что-нибудь на этот счет. Похоже, что компания мальчишек-рассыльных, в том числе и Грифитс, воспользовалась автомобилем какого-то состоятельного человека без ведома владельца, а потом они боялись опоздать на работу, стали гнать машину и задавили насмерть девочку. Нам надо узнать все это поподробнее, и подготовиться, потому что если Мейсон в курсе дела, он вытащит эту историю на суде именно в такую минуту, когда решит, что мы этого меньше всего ожидаем. — Ну, нет, это у него не выйдет, хотя бы даже мне пришлось съездить в Канзас-Сити, чтобы разобраться в этом деле, — возразил Джефсон, и его холодные голубые глаза сверкнули. А Белнеп продолжал рассказывать Джефсону все, что он узнал о жизни Клайда до настоящего времени: как он мыл посуду, прислуживал в ресторане, торговал содовой водой, был возчиком, брался за любую работу, какая только попадалась, пока не переехал в Ликург, и как он всегда увлекался девушками, и как познакомился сначала с Робертой, а потом с Сондрой. И как, наконец, он запутался с однойи до безумия влюбился в другую, чьей руки не мог добиться, не отделавшись от той, первой. — И, несмотря на все это, вы еще сомневаетесь, что он ее убил? — спросил затем Джефсон. — Да, я уже сказал вам, я в этом не уверен. Но я твердо знаю, что он все еще вздыхает по другой. Он менялся в лице, когда ему или мне случалось в разговоре упомянуть о ней. К примеру, я спросил его: не был ли он с нею в близких отношениях, — и хотя его обвиняют в обольщении и убийстве другой девушки, он так посмотрел на меня, как будто я сказал нечто непозволительное, оскорбил его или ее. Тут Белнеп криво улыбнулся; а Джефсон сидел, упираясь длинными, костлявыми ногами в стоявший перед ним стол орехового дерева, и все так же спокойно смотрел на собеседника. — Вот так, — сказал он наконец. — Мало того, — продолжал Белнеп. — Он сказал: «Нет, конечно, нет! Она бы не допустила ничего подобного, и потом…» — и остановился. «Что потом, Клайд?» — спрашиваю. «Ну, не забывайте, кто она!» Понимаю, говорю. И потом, представьте, он интересовался, нельзя ли как-нибудь оберечь имя этой девушки и ее письма к нему от огласки в печати и на суде, чтобы ее родные не узнали об этом и чтобы репутация ее и ее семьи не слишком пострадала. — В самом деле? Ну, а как со второй девушкой? — Вот в этом-то я и стараюсь разобраться. Он мог задумать убийство этой девушки и, пожалуй, даже в самом деле убил ее, причем, насколько я понимаю, сперва обольстил. Но, в сущности, он был совершенно одержим мечтами о другой и просто не соображал, что делает. Понимаете? Вы же знаете, как это бывает с юнцами его возраста, да еще с такими, которые не привыкли ни к девушкам, ни к деньгам и при этом мечтают о блестящей карьере. — Вы думаете, он на этом немного свихнулся? — вставил Джефсон. — Ну да, возможно… он был не в себе, во власти гипноза… легкое помешательство, знаете, кризис сознания, как выражаются в Нью-Йорке. И он, безусловно, все еще помешан на той, другой. Право, мне кажется, что в тюрьме он плачет главным образом из-за нее. Знаете, он плакал, когда я пришел к нему, рыдал так, как будто у него сердце разрывалось. — Белнеп в раздумье почесал правое ухо. — Нет, как ни говорите, в этой идее, безусловно, есть смысл: все это повлияло на его рассудок… С одной стороны, эта Олден требует, чтобы он женился на ней, а тут другая обещает выйти за него замуж… Я знаю, я и сам раз попал в такой переплет. — И он рассказал Джефсону этот случай. — Кстати, — продолжал он затем, — он говорит, что мы можем найти сообщение о той утонувшей паре в «Таймс юнион» не то от восемнадцатого, не то от девятнадцатого июня. — Ладно, — сказал Джефсон, — я разыщу. — Мне хотелось бы, — продолжал Белнеп, — чтобы вы завтра пошли со мной к нему. Посмотрим, какое впечатление он на вас произведет. Мы пойдем вместе, любопытно, расскажет ли он вам все это так же, как рассказывал мне. Я хочу знать ваше мнение о нем. — Узнаете, будьте уверены, — отрезал Джефсон. На другой день Белнеп и Джефсон вместе посетили Клайда. И Джефсон после беседы с ним и новых размышлений над его странной повестью все же не мог решить, был ли Клайд действительно столь неповинен в намерении ударить Роберту, как он говорит… Если это правда, как же он мог потом уплыть и дать ей утонуть? И, уж конечно, присяжным будет куда труднее поверить в это, чем ему, Джефсону. Есть еще предположение Белнепа, что Клайд, возможно, был выведен из душевного равновесия и не вполне нормален психически, когда взялся за осуществление плана, внушенного ему газетной заметкой. Конечно, могло быть и так, однако, на взгляд Джефсона, теперь Клайд был достаточно разумен и нормален. Джефсон считал Клайда более черствым и гораздо более хитрым, чем хотелось думать Белнепу; правда, это впечатление сглаживалось благодаря его мягким и обаятельным манерам, так что трудно было относиться к нему неприязненно. Впрочем, Клайд далеко не так охотно и доверчиво говорил с Джефсоном, как с Белнепом, и это на первых порах не могло вызвать у Джефсона симпатии к нему Но Джефсон держался так решительно и серьезно что Клайд быстро убедился: может быть, юрист ему и не сочувствует, но по крайней мере относится к его делу с профессиональным интересом. И немного погодя он стал возлагать на молодого адвоката даже большие надежды, чем на Белнепа. — Вы, конечно, понимаете, что письма, которые писала вам мисс Олден, сильно осложняют дело? — начал Джефсон, когда Клайд повторил ему свою историю. — Да, сэр. — Они покажутся очень печальными каждому, кто незнаком со всеми обстоятельствами дела, и, наверно, восстановят присяжных против вас, особенно когда их сопоставят с письмами мисс Финчли. — Да, я понимаю, — ответил Клайд. — Но ведь она не всегда была такая. Она стала писать так только после того, как попала в беду, а я хотел, чтобы она меня отпустила. — Знаю, знаю. Об этом еще надо подумать, может быть, мы сумеем заявить об этом на суде. Если б только можно было каким-нибудь способом добиться, чтобы эти письма не фигурировали на суде! — воскликнул Джефсон, обращаясь к Белнепу, а затем снова к Клайду: — Вот что я хотел спросить: вы были с ней близки около года, так? — Да. — И за все это время или еще до этого у нее не было дружеских, близких отношений ни с каким другим молодым человеком? Вы ничего не знаете? И Клайд понял, что Джефсон не слишком пуглив и щепетилен и готов предложить любую идею, любую хитрость, при помощи которой, на его взгляд, можно будет вывернуться. Но Клайд не обрадовался этому намеку, а искренне возмутился. Было бы подло, зная характер Роберты, прибегнуть к подобной лжи! Он не мог и не хотел допустить даже намека на подобную неправду и потому ответил: — Нет, сэр. Я никогда не слышал, чтобы она водила знакомство с кем-нибудь еще. Я просто знаю, что этого не было. — Прекрасно, пусть так, — отчеканил Джефсон. — Судя по ее письмам, я думаю, что это верно. Но мы должны знать все факты. Все получилось бы совсем иначе, если бы тут был замешан еще кто-то другой. Клайд был не совсем уверен, действительно ли Джефсон пытается заставить его оценить эту идею, но все равно, решил он, не следует даже допускать такую мысль. И все же он говорил себе: «Только бы этот человек, мог придумать, как по-настоящему защитить меня! Он, кажется, очень ловкий». — А теперь, — продолжал Джефсон все так же сурово и испытующе (Клайду казалось, что в его словах нет ни капли сочувствия или жалости), — есть еще одна вещь, о которой я хотел вас спросить: за все время, что вы были знакомы с ней, до вашего сближения или после, не писала ли она вам когда-нибудь каких-либо пошлых, издевательских или угрожающих писем, не предъявляла ли каких-нибудь требований? — Нет, сэр, не припомню, — ответил Клайд. — Она никогда так не писала. Нет… Кроме, пожалуй, последних писем… кроме самого последнего. — А вы ей как будто ни разу не писали? — Нет, сэр. Я никогда не писал ей никаких писем. — Почему? — Ну, видите ли, она была тут же, на фабрике, рядом со мной. А в последнее время, когда она уехала к родителям, я боялся ей писать. — Ага, понятно… И, однако, совершенно искренне стал объяснять Клайд, Роберта по временам была вовсе не такой уж мягкой и сговорчивой… Она бывала очень решительной и даже упрямой. Она не обращала ни малейшего внимания на его слова, когда он объяснял, что, настаивая на свадьбе, она губит его положение в обществе и все его будущее, а ведь он готов был работать и помогать ей деньгами. Вот это ее упрямство, по словам Клайда, и привело к несчастью… А между тем мисс Финчли (и тут в голосе Клайда зазвучали нотки благоговения и восторга, что тотчас отметил Джефсон) для него была готова на все. — Так вы в самом деле очень любили мисс Финчли? — Да, сэр. — И вы не могли больше оставаться с Робертой после того, как встретились с мисс Финчли? — Нет, нет! Я просто не мог! — Понимаю, — заметил Джефсон, многозначительно покачивая головой и в то же время размышляя о том, что было бы бесполезно и даже опасно сообщать все это присяжным. Может быть, самое лучшее, как предложил Белнеп, основываясь на обычной в наше время судебной практике, говорить о невменяемости, о душевном потрясении, которое было вызвано создавшимся отчаянным положением (таким оно казалось Клайду). Оставив пока этот вопрос в стороне, Джефсон продолжал: — Когда вы были с ней в лодке в тот последний день, с вами, по вашим словам, что-то случилось и вы, в сущности, не знали, что делали в тот момент, когда ударили ее? — Да, сэр, это правда. И Клайд снова попытался объяснить, каково было тогда его состояние. — Хорошо, хорошо, я вам верю, — ответил Джефсон, как будто принимая за чистую монету все, что говорил Клайд, хотя в действительности не мог себе представить подобного состояния. — Но вы, конечно, понимаете, — заявил он, — что никакие присяжные, ввиду всех остальных обстоятельств, вам не поверят. Слишком много в этом деле такого, что требует объяснения, а при существующем положении мы не в силах все это как следует объяснить. Не знаю, как тут быть (теперь он обращался к Белнепу). Эти две шляпы, чемодан… разве что мы будем доказывать, психическое расстройство или что-нибудь в этом роде. Я не совсем уверен, что это получится. Вы не знаете, у вас в семье не было когда-нибудь случаев сумасшествия? — прибавил он, снова обращаясь к Клайду. — Нет, сэр, ничего такого мне неизвестно. — У какого-нибудь дяди, двоюродного брата или дедушки не бывало никаких припадков или странностей? — Нет, сэр, никогда ни о чем таком не слышал. — И вашим богатым родственникам в Ликурге, надо полагать, не очень-то понравится, если я возьму и попробую доказать что-нибудь в этом роде? — Боюсь, что они будут недовольны, сэр, — ответил Клайд, думая о Гилберте. — Так… дайте сообразить… — сказал Джефсон после паузы. — Все это очень сложно. Но я не вижу другого сколько-нибудь верного пути. Тут он обратился к Белнепу с вопросом, не считает ли тот приемлемой теорию самоубийства, поскольку письма Роберты указывают на склонность к меланхолии, которая легко могла привести к решению покончить с собой. Нельзя ли сказать, что, когда Роберта осталась с Клайдом на озере и стала просить его жениться на ней, а он отказался, она бросилась в воду? А он был настолько поражен и потрясен, что не попытался ее спасти. — А как же с его собственной версией о том, что ветер сорвал с него шляпу, а он старался поймать ее и перевернул лодку? — возразил Белнеп таким тоном, словно Клайда здесь не было. — Да, конечно, это тоже верно… А нельзя ли сказать, что он чувствовал моральную ответственность за состояние, которое заставило ее покончить с собой, и поэтому не хотел сказать правду о самоубийстве? Клайда передернуло, но ни тот, ни другой уже не обращали на него внимания. Они разговаривали так, точно его здесь не было или он не мог иметь своего мнения по этому вопросу. Это его удивило, но он не думал протестовать: таким беспомощным он себя чувствовал. — Да, но, запись под вымышленными именами! Две шляпы, костюм, чемодан! — отрывисто напоминал Белнеп тоном, по которому Клайд понял, насколько серьезным Белнеп считает его положение. — Ну, эти вещи придется как-то объяснить, все равно, какую бы теорию мы ни выдвинули, — в раздумье ответил Джефсон. — Я считаю, что мы ни в коем случае не можем использовать подлинную историю его замысла, не ссылаясь на невменяемость. А если мы ею не воспользуемся, нам неминуемо придется иметь дело с этими уликами. И он устало всплеснул руками, словно говоря: «Право, не знаю, как с этим быть!» — Но учтите все обстоятельства, — настаивал Белнеп. — Он отказался жениться на ней, а по письмам видно, что он ей это обещал… да ведь это только повредит ему, еще больше восстановит против него публику. Нет, так не годится, — заключил он. — Надо придумать что-нибудь такое, что вызовет хоть какую-то симпатию к нему. Они опять обернулись к Клайду, словно этого разговора и не было, и посмотрели на него взглядом, ясно говорящим: «Ну, и задал ты нам задачу!» Потом Джефсон заметил: — Ах да, еще этот костюм, который вы бросили в озеро, где-то возле дачи Крэнстонов… Объясните мне поточнее, в каком месте вы его бросили, далеко это от дома? Он ждал, пока Клайд с усилием припоминал все подробности. — Если бы я мог поехать туда, я, наверно, быстро нашел бы это место. — Да, я знаю, но вам не дадут поехать туда без Мейсона, — возразил Джефсон. — А может быть, даже и с ним не пустят. Вы в тюрьме, и вас нельзя вывести отсюда без разрешения властей штата, понятно? Но нам необходимо добыть этот костюм. — И затем, повернувшись к Белнепу и понизив голос, он прибавил: — Нужно найти его, отдать в чистку и потом представить дело так, будто он был отослан в чистку самим Грифитсом, а не спрятан, понятно? — Да, правильно, — небрежно одобрил Белнеп, а Клайд с любопытством слушал, немного удивленный откровенной программой плутовства и обмана, затеваемого в его интересах. — Теперь насчет этого фотографического аппарата, который упал в воду, — надо попробовать найти и его тоже. Я думаю, Мейсон знает о нем или подозревает, что он там. Во всяком случае, нам очень важно найти его, пока его не нашел Мейсон. Как вам показалось, когда вы с ним ездили туда, у них там правильно отмечено место, где перевернулась лодка? — Да, сэр. — Ладно, посмотрим; нельзя ли разыскать аппарат, — продолжал Джефсон, обращаясь к Белнепу. — Надо постараться, чтобы он не всплыл на суде. Тогда они станут клясться, что он ударил ее штативом или чем-нибудь еще, и тут мы подставим ножку. — Тоже верно, — ответил Белнеп. — А теперь насчет чемодана, который сейчас у Мейсона. Я еще не видел его, но завтра посмотрю. Вы, что же, когда вышли из воды, сунули тот костюм в чемодан мокрым, как он был? — Нет, сэр, я сперва выжал его, постарался высушить, как мог. А потом завернул в бумагу, в которой раньше был наш завтрак, в чемодан сначала наложил сухой хвои и поверх костюма тоже насыпал хвои. — И когда вы его потом вынули, никаких пятен от сырости в чемодане не осталось, вы не заметили? — Нет, сэр, кажется, не осталось. — Но вы не уверены? — Теперь, когда вы спросили, не вполне уверен. — Ну, я это завтра сам увижу. Теперь насчет синяков у нее на лице. Вы никому не признавались, что ударили ее чем-нибудь? — Нет, сэр. — А рана у нее на голове — это действительно ее ударило бортом лодки, как вы говорили? — Да, сэр. — Но все остальные, по-вашему, могут быть следами удара фотографическим аппаратом? — Да, сэр, думаю, что так. — Ну, вот что, — Джефсон снова обратился к Белнепу: — Я полагаю, в свое время мы смело сможем сказать, что эти синяки и ссадины вовсе не его рук дело, а просто следы крюков и багров, которыми шарили по дну, когда старались ее найти, понимаете? Во всяком случае, можно попробовать эту версию. Ну, а если крюки и багры не виноваты, — прибавил он довольно хмуро и сухо, — тогда, конечно, тело неосторожно перевозили от озера к станции и потом по железной дороге. — Да, я думаю, Мейсону не так-то просто будет доказать, что следы ушибов появились не от этого, — ответил Белнеп. — А что касается штатива, нужно будет вырыть тело из могилы и самим сделать все измерения, и толщину борта лодки тоже надо измерить. В конце концов, хоть штатив и попал в руки Мейсона, нашему прокурору будет нелегко использовать эту улику в своих интересах. При этих словах голубые холодные глаза Джефсона сузились и посветлели. Формой головы и всей своей поджарой фигурой он смахивал на хорька. И Клайду, который, слушая их разговор, почтительно за ними наблюдал, казалось, что именно этот младший из юристов может ему помочь. Он так проницателен и практичен, так прямолинеен, холоден и равнодушен и, однако, внушает доверие к себе, совсем как мощная машина, производящая энергию. Когда же наконец эти двое собрались уходить, Клайд огорчился: пока они были рядом и обдумывали всевозможные ухищрения и планы его спасения, он чувствовал себя гораздо спокойнее и сильнее, больше надеялся и верил, что, может быть, когда-нибудь, хоть и не скоро, выйдет на свободу.Глава 82
В конце концов после всех переговоров было решено, что, пожалуй, всего легче и вернее — если только ликургские Грифитсы на это согласятся, — построить защиту, ссылаясь на невменяемость или приступ помешательства, на временное психическое расстройство, вызванное любовью Клайда к Сондре Финчли и страхом, что Роберта разрушит все его мечты и надежды на блестящее будущее. Но после того, как защитники посоветовались с Кетчуменом и Брукхартом в Ликурге, а те, в свою очередь, побеседовали с Сэмюэлом и Гилбертом Грифитсами, этот план был отвергнут. Чтобы установить невменяемость или временное помешательство, требовалось подобрать свидетелей, которые показали бы, что Клайд всегда обладал не слишком здравым рассудком и всю жизнь был неуравновешен; понадобилось бы подтвердить его странности наглядными примерами; его родственникам (в том числе, быть может, и самим ликургским Грифитсам) пришлось бы подтверждать это под присягой. Словом, тут требовалась прямая ложь и клятвопреступление со стороны многих свидетелей, и при этом мог быть запятнан весь род Грифитсов. Понятно, что ни Сэмюэл, ни Гилберт ничего подобного не желали. И Брукхарт должен был заявить Белнепу, что от этого способа защиты придется отказаться. Таким образом, Белнепу и Джефсону снова пришлось сидеть друг против друга и размышлять. Ибо всякий другой способ защиты, какой приходил им в голову, казался сейчас совершенно безнадежным. — Вот что я вам скажу, — заметил упрямец Джефсон, заново перелистав Письма Роберты и Сондры. — Письма этой Олден — самое серьезное из всего, с чем нам придется иметь дело на суде. Стоит только их как следует прочесть, и наверняка заплачут какие угодно присяжные, а если после них станут читать письма второй девушки, это будет просто катастрофа. Я думаю, лучше нам вовсе не упоминать о переписке с мисс Финчли, если Мейсон промолчит о ней. Это только создало бы впечатление, что он убил Роберту Олден, чтобы от нее избавиться. Мейсону это было бы очень на руку, как я понимаю. И Белнеп от души с ним согласился. Однако нужно было немедля изобрести какой-то план защиты. И вот наконец после нескольких совещаний Джефсон (считавший, что на этом процессе вполне можно сделать карьеру) пришел к следующему выводу: наиболее надежный способ защиты, которому не будут противоречить самые подозрительные и странные поступки Клайда, один — утверждать, что Клайд никогда и не замышлял убийства. Наоборот, будучи если не физически, то морально трусом (на это указывает вся история, рассказанная им самим), он боялся, что может быть разоблачен и изгнан из Ликурга и из сердца Сондры, и в то же время надеялся, что Роберта, которой он никогда не говорил о Сондре, узнав о его безмерной любви к этой девушке, возможно, его отпустит. И потому он наспех, без всякого злого умысла, решил убедить Роберту поехать с ним куда-нибудь за город (но совсем не обязательно на Луговое озеро или на озеро Большой Выпи), для того чтобы рассказать ей все и получить свободу, и, конечно, он собирался предложить ей посильную для него денежную поддержку на предстоящий трудный период ее жизни. — Все это прекрасно, — заметил Белнеп, — но ведь тут подразумевается его отказ жениться на ней, не так ли? Какие присяжные посочувствуют ему в этом и поверят, что он не хотел ее убить? — Погодите, погодите, — ответил Джефсон не без раздражения, — все это, конечно, так. Но ведь вы не дослушали до конца. Говорю вам, у меня есть план. — Ну-ну, какой же? — с интересом спросил Белнеп. — Сейчас объясню. Мой план — оставить все факты так, как они есть: как о них рассказал Клайд и как их рисует Мейсон, разумеется, кроме того, что Клайд ее ударил. И затем объяснить все это — письма, кровоподтеки, чемодан, две шляпы — все, никоим образом ничего не отрицая. Тут он замолчал, нетерпеливо провел длинной, узкой рукой, покрытой веснушками, по своим светлым волосам и взглянул через площадь на тюрьму, где находился Клайд, а затем снова на Белнепа. — Прекрасно, но как это сделать? — спросил Белнеп. — Другого способа нет, вот что, — продолжал Джефсон, словно обращаясь к самому себе и не замечая своего старшего коллеги. — И я думаю, это может выйти. — Он снова обернулся к окну и, казалось, говорил теперь с кем-то стоящим на улице. — Понимаете, он едет туда, потому что напуган и потому что необходимо что-то предпринять, иначе ему грозит разоблачение. И записывается в гостиницах под чужими именами, потому что боится, как бы в Ликурге не стало известно об этом путешествии. И собирается признаться ей, что любит другую. Но… — Джефсон чуть помолчал и пристально посмотрел на Белнепа, — и это важнейшая наша опора, если она не выдержит, нам крышка! Слушайте! Он едет туда с нею, перепуганный, не затем, чтобы жениться на ней или убить ее, а затем, чтобы уговорить ее дать ему свободу. Но тут он видит, какая она больная, измученная, печальная, — ну, вы же знаете, она все еще очень любит его, — и он проводит с нею две ночи, понятно? — Да, понимаю, — вставил Белнеп с любопытством и на этот раз уже с меньшим сомнением. — И это, пожалуй, может объяснить, почему он провел с ней эти ночи. — Пожалуй? Безусловно, объяснит! — насмешливо и спокойно ответил Джефсон; его бледно-голубые глаза выражали одну только холодную, напористую, практическую логику и ни тени волнения или хоть какого-то сочувствия. — Ну-с, и пока он был там с нею в таких условиях… в условиях, понимаете ли, такой близости (выражение лица Джефсона ничуть не изменилось при этих словах), в его душе произошел перелом. Вы улавливаете мою мысль? Ему жаль ее. Ему стыдно за себя — ведь он грешен перед нею. На нашу публику, на всех этих набожных и добропорядочных провинциалов, это должно подействовать, правда? — Возможно, — негромко подтвердил Белнеп; теперь он был очень заинтересован, и у него появилась некоторая надежда на успех. — Он понимает, что поступил с ней дурно, — продолжал Джефсон, поглощенный своим планом, как паук, ткущий паутину, — и, несмотря на всю свою привязанность к другой девушке, он готов теперь искупить свою вину перед этой мисс Олден, потому что ему жаль ее и стыдно за себя, понимаете? Это снимает с него обвинение, что он замышлял убить ее, проводя с нею ночи в Утике и на Луговом озере. — Но он все-таки любит ту, другую? — переспросил Белнеп. — Ну конечно. Во всяком случае, она ему очень нравится, и вообще, когда он попал в светское общество, это вскружило ему голову, он совсем преобразился, почувствовал себя другим человеком. Но теперь он готов жениться на Роберте — в том случае, если она все-таки пожелает стать его женой даже после того, как он признается ей, что любит другую. — Понимаю. Но как же все-таки быть с лодкой, с чемоданом и с тем фактом, что он после всего поехал к этой Финчли? — спросил Белнеп. — Минуточку, минуточку! Сейчас я вам все растолкую, — продолжал Джефсон, сверля пространство взглядом голубых глаз, словно мощным лучом прожектора. — Разумеется, он поехал с нею на лодке, разумеется, взял с собой этот чемодан и записался в гостиницах под вымышленными именами и пошел лесом к другой девушке, после того как Роберта утонула. Но почему? Почему! Хотите знать, почему он это сделал? Я вам скажу! Он почувствовал жалость к ней, понимаете ли, и хотел на ней жениться или по крайней мере в последнюю минуту захотел искупить свою вину перед нею. Но запомните, все это не прежде, а после того, как он провел с нею ночь в Утике и другую — на Луговом озере. Но когда она утонула, — конечно, только случайно, как он и говорит, — тогда в нем опять заговорила любовь к той, другой девушке. Да он и не переставал ее любить даже тогда, когда собирался пожертвовать ею, чтобы искупить свою вину перед Робертой. Понимаете? — Понимаю. — А как они докажут, что он не испытал такого душевного переворота, если он заявит, что испытал, и будет твердо стоять на своем? — Да, но ему придется рассказать эту историю очень убедительно, — сказал несколько озабоченный Белнеп. — А как быть с двумя шляпами? Их тоже придется как-то объяснить. — Сейчас дойдет дело и до шляп. Его шляпа немного запачкалась. Поэтому он решил купить другую. А насчет того, что он сказал Мейсону, будто на нем была кепка, — ну, просто он перепугался и соврал, думая, что так он скорее выпутается. Ну и, конечно, до того как он уходит к другой девушке, — то есть пока Роберта еще жива, — остаются его отношения к той, второй, и его намерения на ее счет. Понимаете, у него происходит объяснение с Робертой, и это надо как-то обыграть. Но, по-моему, это несложно: ведь после того как в его душе происходит переворот и он хочет поступить с Робертой по-честному, ему остается просто написать другой девушке или пойти к ней и сказать о том, как он виноват перед Робертой. — Так. — Я теперь вижу, что о ней все-таки нельзя совершенно умолчать в этом деле. Боюсь, придется ее потревожить. — Раз надо, так потревожим, — сказал Белнеп. — Понимаете ли, Роберта все же считает, что он должен на ней жениться; значит, он должен сперва поехать к этой Финчли и сказать, что не может на ней жениться, так как уходит к Роберте… Это все в том случае, если Роберта не возражает, чтобы он на некоторое время ее оставил, понимаете? — Так. — А если она этого не захочет, он обвенчается с нею в Бухте Третьей мили или где-нибудь еще. — Так. — Но не забудьте, пока она жива, он растерян и подавлен. И только после второй ночи на Луговом озере он начинает понимать, как скверно поступал с нею, ясно? Между ними что-то происходит. Может быть, она плачет или говорит ему о том, что хочет умереть, знаете, вроде того, как в письмах. — Так. — И вот у него является желание поехать с нею в какое-нибудь тихое местечко, где они могли бы спокойно поговорить, чтобы никто их не видел и не слышал. — Так, так… продолжайте. — Ну вот, и он вспоминает об озере Большой Выпи. Он как-то раньше там был, или просто они оказались неподалеку оттуда. А там рядом, всего в двенадцати милях. Бухта Третьей мили, где они смогут обвенчаться, если порешат на этом. — Понимаю. — А если нет, если, выслушав его исповедь, она не захочет выйти за него замуж, он может отвезти ее назад в гостиницу, верно? И, может быть, один из них останется там на время, а другой сразу уедет. — Так, так. — А кстати, чтобы не терять время и не застревать в гостинице — ведь это довольно дорого, знаете, а у него не так уж много денег, — он захватывает с собой в чемодане завтрак. И фотографический аппарат тоже, потому что хочет сделать несколько снимков. Понимаете, если Мейсон сунется с этим аппаратом, надо будет как-то объяснить его существование, так лучше, чтобы объяснили мы, а не он, верно? — Понимаю, понимаю! — воскликнул Белнеп; теперь он был живо заинтересован, улыбался и даже стал потирать руки. — И вот они отправляются на прогулку. — Так. — И катаются по озеру. — Так. — И, наконец, они позавтракали на берегу, он сделал несколько снимков… — Так… — И он решается рассказать ей всю правду. Он полон готовности… — Понимаю. — Но прежде чем заговорить, он хочет еще раз или два снять ее в лодке, около берега. — Так. — А потом он ей скажет, понимаете? — Так. — И они опять ненадолго отплывают от берега, так ведь и было, понимаете? — Да. — Но так как они собирались еще вернуться, чтобы нарвать цветов, то он оставляет на берегу свой чемодан, понимаете? Это объясняет историю с чемоданом. — Так. — Однако, прежде чем фотографировать ее в лодке, он начинает говорить ей о своей любви к другой девушке и о том, что, если Роберта хочет, он все-таки обвенчается с ней, а этой Сондре напишет письмо. Но если теперь, узнав о его любви к другой девушке, она не пожелает выйти за него замуж… — Так, так! Дальше! — оживленно поторопил Белнеп. — Ну, тогда, — продолжал Джефсон, — он сделает все возможное, чтобы позаботиться о ней и поддержать ее, ведь после женитьбы на богатой девушке у него будут деньги. — Так. — Ну, а она хочет, чтобы он женился на ней и расстался с мисс Финчли. — Понимаю. — И он соглашается. — Конечно! — А она так благодарна, что в волнении вскакивает и бросается к нему, понимаете? — Так? — И тут лодка накреняется немного, и он вскакивает, чтобы поддержать Роберту, потому что боится, как бы она не упала, понимаете? — Да, да. — Ну теперь в нашей воле оставить у него в руках фотографический аппарат или не оставлять — это как вы найдете удобным. — Да, теперь мне ясно. — Словом, с аппаратом ли, нет ли, он — или, может быть, она — делает какое-то неосторожное движение, именно так, как он рассказывает, — или просто из-за того, что они оба встали, — тут лодка переворачивается, и он наносит Роберте удар или нет — это как вам угодно, — но если да, то, конечно, нечаянно. — Понимаю, понимаю, черт возьми! — воскликнул Белнеп. — Прекрасно, Рубен! Великолепно! Просто замечательно! — И борт лодки ударяет ее и его тоже — слегка, понимаете? — продолжал Джефсон, поглощенный своим хитроумным планом; он не обратил никакого внимания на этот взрыв восторга. — Удар слегка оглушает его. — Понимаю. — Он слышит ее крики и видит ее, но он сам немного оглушен, понимаете? А когда он приходит в себя и готов ей помочь… — Ее уже нет, — спокойно заключил Белнеп. — Утонула. Понимаю. — А тут все эти подозрительные обстоятельства, фальшивые записи… А она уже погибла, и он все равно больше ничего не может для нее сделать… И вы понимаете, ее родным едва ли будет приятно узнать, в каком положении она была… — Ясно. — И поэтому он в испуге удирает. Он ведь по природе своей трус — мы это будем доказывать с самого начала. Он непременно хочет сохранить хорошие отношения с дядек и свое положение в обществе. Разве этим нельзя все объяснить? — По-моему, это очень недурно все объясняет. В самом деле, Рубен, я думаю, что это очень удачное объяснение, и поздравляю вас. Вряд ли можно надеяться найти что-нибудь лучшее. Если это не приведет к оправданию или к разногласиям среди присяжных, то в крайнем случае он получит, скажем, двадцать лет, как вы думаете? — Очень довольный, Белнеп встал и, посмотрев с восхищением на своего длинного и тощего коллегу, прибавил: — Великолепно! А Джефсон только невозмутимо смотрел на него голубыми глазами, похожими на зеркальные тихие омуты. — Но вы, разумеется, понимаете, что это означает? — сказал он спокойно и мягко. — Что он должен будет давать показания под присягой как свидетель? Конечно, конечно. Прекрасно понимаю. Но это его единственный шанс. — Боюсь, что он покажется не очень серьезным и уверенным в себе свидетелем. Он чересчур нервный и чувствительный. — Да, знаю, — быстро сказал Белнеп. — Его легко запугать. А Мейсон будет наскакивать на него, как бешеный бык. Но мы подготовим его к этому, как следует натаскаем. Заставим его понять, что это для него единственная возможность спастись, что от этого зависит его жизнь. Будем натаскивать его все эти месяцы. — Если он не сумеет этого проделать, он погиб. Если бы только мы могли как-то придать ему храбрости, обучить его вести себя как надо! — Перед устремленным куда-то в пространство взором Джефсона, казалось, предстал зал суда и на свидетельском месте — Клайд лицом к лицу с Мейсоном. Затем Джефсон взял письма Роберты (точнее, копии, переданные Мейсоном). — Если бы только не это! — сказал он, взвешивая их на ладони, и закончил мрачно: — Проклятие! Вот дело! Но мы еще не разбиты, черта с два! Мы еще и не начинали бороться! И уж во всяком случае это принесет нам известность. Да, кстати, — прибавил он, — один мой знакомый паренек сегодня ночью попробует отыскать в озере Большой Выпи утонувший аппарат. Пожелайте мне удачи. — Как не пожелать! — только и ответил Белнеп.Глава 83
Сколько борьбы и волнений вызывает дело об убийстве! Брукхарт и Кетчумен заявили Белнепу и Джефсону, что считают план Джефсона, «пожалуй, единственным выходом из положения», но что при этом следует возможно меньше ссылаться на Грифитсов. И сейчас же господа Белнеп и Джефсон передали в печать предварительное сообщение, составленное в таком духе, чтобы показать, что они уверены в невиновности Клайда: в действительности он жертва клеветы, и его совершенно неправильно поняли, ибо намерения и поступки этого юноши в отношении мисс Олден столь же отличаются от всего, что приписывает ему Мейсон, как белое от черного. Был тут и намек на то, что неподобающая торопливость прокурора, настаивающего на чрезвычайной сессии Верховного суда, возможно, вызвана соображениями скорее политического, нежели чисто юридического порядка. Иначе к чему такая спешка? Особенно теперь, когда в округе приближаются выборы? Уж не намерены ли некоторые лица или группа лиц воспользоваться результатами этого процесса в интересах собственного политического честолюбия? Господа Белнеп и Джефсон надеются, что это не так. Но каковы бы ни были планы, предубеждения или политические стремления какого-либо отдельного лица или группы лиц, защита не намерена допустить, чтобы невинный юноша, оказавшийся (адвокаты это докажут) жертвой несчастного стечения обстоятельств, был скоропалительно отправлен на электрический стул только ради победы республиканской партии на ноябрьских выборах. Для того чтобы разоблачить это странное и притом порождающее ложные выводы стечение обстоятельств, защитникам необходимо длительное время. Поэтому они вынуждены будут официально опротестовать в Олбани ходатайство прокурора перед губернатором штата о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда. Притом такая экстренность вовсе ни к чему, поскольку очередная сессия по разбору такого рода дел должна состояться в январе, а подготовка материалов по данному делу потребует не меньшего срока. Это энергичное, хотя и несколько запоздалое заявление было выслушано с должной серьезностью представителями прессы, но Мейсон весьма пренебрежительно отнесся к «легковесному» утверждению защиты насчет политических интриг, так же как и к разговорам, о невиновности Клайда. «С какой стати я, представитель населения целого округа стал бы куда-либо отправлять этого человека или предъявлять ему хоть одно обвинение, если бы обвинения не возникали сами собою? Разве не очевидно, что он убил девушку? И разве он сумел сказать или сделать что-нибудь такое, что разъяснило бы хоть одно из подозрительных обстоятельств дела? Нет! Молчание или ложь. И покуда эти обстоятельства не опровергнуты высококомпетентными господами защитниками, я твердо намерен продолжать то, что начал. У меня в руках уже есть все необходимые улики, доказывающие виновность молодого преступника. И отсрочка до января, когда, как им известно, истечет срок моих полномочий и новому человеку придется изучать с самого начала все материалы, с которыми я уже полностью ознакомился, повлечет за собою огромные расходы для округа. Ведь все собранные мною по этому делу свидетели сейчас под рукой, их нетрудно без особых затрат доставить в Бриджбург. А где они будут в январе или в феврале, особенно после того, как защита приложит все старания к тому, чтобы они разъехались? Нет, господа! Я не согласен. Но если в ближайшие десять или даже пятнадцать дней они сумеют представить мне какие-либо данные, хотя бы косвенно указывающие на ошибочность хоть некоторых из моих обвинений, тогда я готов пойти вместе с ними к председателю суда, и если они могут сообщить ему о каких-то доказательствах, которые они получили или рассчитывают получить, или о каких-то известных им свидетелях, которых нужно вызвать издалека и которые могут подтвердить невиновность этого малого, — что ж, прекрасно! Я охотно попрошу судью предоставить им столько времени, сколько он сочтет нужным, даже если из-за этого процесс должен будет состояться тогда, когда мои полномочия уже окончатся. Но если он состоится раньше, а я искренне на это надеюсь, то я вложу в обвинение все свои силы и способности, — не потому, что я добиваюсь какой-либо государственной должности, но потому, что сейчас я окружной прокурор и это мой долг. Что же касается моей политической карьеры, — ну, а мистер Белнеп разве не пытается сделать политическую карьеру? Он состязался со мною на прошлых выборах и, как я слышал, хочет проделать это снова». В полном соответствии с этим своим заявлением Мейсон отправился в Облани, чтобы убедить губернатора штата, что необходимо созвать чрезвычайную сессию и предать Клайда суду. И губернатор, выслушав доводы и Мейсона и Белнепа, решил вопрос в пользу Мейсона, поскольку разрешение на созыв чрезвычайной сессии не помешает в случае надобности отложить самый процесс и поскольку все, чем до сих пор оперировала защита, никак не указывало на то, что созыв чрезвычайной сессии воспрепятствует защите получить все отсрочки, необходимые ей для ведения процесса. И, кроме того, рассматривать подобного рода аргументы — дело не его, губернатора, а специально на то уполномоченного члена Верховного суда. Итак, было дано указание о созыве чрезвычайной сессии Верховного суда, председателем которой был назначен некий Фредерик Оберуолцер, судья одиннадцатого округа. Мейсон явился к нему, прося назначить день для созыва чрезвычайного заседания совета присяжных, согласно решению которого Клайд мог быть предан суду, и это заседание было назначено на пятое августа. А затем, когда совет присяжных собрался, со стороны Мейсона не потребовалось уже никаких усилий для того, чтобы было вынесено решение предать Клайда суду. После этого Белнеп и Джефсон могли лишь явиться к Оберуолцеру, демократу, который был обязан своим назначением предыдущему губернатору, и добиваться от него перенесения судебного разбирательства в другой округ. Они доказывали, что, даже обладая самым смелым воображением, нельзя себе представить, чтобы в округе Катараки можно было найти двенадцать человек, которые, вследствие публичных и частных высказываний Мейсона, не относились бы к Клайду крайне враждебно и не были бы заранее убеждены в его виновности, а значит, он, в сущности, будет осужден любым составом присяжных еще прежде, чем защита сможет сказать свое слово. — Но куда же вы думаете перенести разбирательство? — спросил судья Оберуолцер, который был достаточно беспристрастен. — Одни и те же материалы были опубликованы повсюду. — Но, ваша честь, это преступление, которое окружной прокурор так усердно преувеличивает… (Мейсон долго и с жаром протестует.) — И все же мы утверждаем, — продолжал Белнеп, — что публику понапрасну волновали и вводили в заблуждение. Вы не найдете теперь и двенадцати человек, способных отнестись к обвиняемому беспристрастно. — Какая чепуха! — с досадой воскликнул Мейсон. — Пустая болтовня! Да ведь газеты сами собрали и опубликовали больше материалов, чем я. Если тут и возникло какое-то предвзятое отношение, то оно вызвано именно опубликованием фактических данных по этому делу. И я утверждаю, что здесь это предубеждение не сильнее, чем в любом другом месте. К тому же, если суд будет перенесен в отдаленный округ, тогда как большинство свидетелей находится здесь, наш округ будет обременен непомерными издержками, которых он не может себе позволить и которые не оправдываются обстоятельствами. Судья Оберуолцер, человек с трезвым умом и прочными нравственными устоями, медлительный и осторожный, предпочитал всегда и во всем соблюдать установленный порядок и склонен был согласиться с Мейсоном. И через пять дней — все это время он не спеша обдумывал создавшееся положение — он отклонил ходатайство защиты. Если он не прав, зашита может подать апелляцию в высшие инстанции. А пока, назначив слушание дела на пятнадцатое октября (до тех пор, рассудил он, у защиты будет вполне достаточно времени, чтобы подготовиться), он отправился на остаток лета на свою дачу у озера Синих гор; представители обвинения и защиты всегда смогут найти его там, если возникнут какие-нибудь особо запутанные и сложные вопросы, которые нельзя будет разрешить без его личного участия. Когда в дело Клайда вмешались господа Белнеп и Джефсон, Мейсон счел нужным удвоить усилия, чтобы по возможности наверняка обеспечить вынесение обвинительного приговора Клайду. Он опасался молодого Джефсона не меньше, чем Белнепа, поэтому, взяв с собою Бэртона Бэрлея и Эрла Ньюкома, он еще раз побывал в Ликурге и там, помимо всего прочего, сумел выяснить: 1) где именно Клайд купил фотографический аппарат; 2) что за три дня до отъезда на озеро Большой Выпи он сказал миссис Пейтон о своем намерении взять с собой аппарат и купить для этого пленки; 3) что в Ликурге имеется торговец галантереей по имени Орин Шорт, который хорошо знает Клайда и к которому всего лишь четыре месяца назад Клайд обращался за советом в связи с беременностью жены одного рабочего, а также (это Шорт доверил как величайшую тайну откопавшему его Бэртону Бэрлею), что он, Шорт, рекомендовал Клайду некоего доктора Глена, живущего неподалеку от Гловерсвила; 4) когда разыскали самого доктора Глена и предъявили ему фотографии Клайда и Роберты, он смог опознать Роберту, но не Клайда и припомнил, в каком настроении она к нему пришла и что именно рассказывала; этот рассказ ни в коей мере не бросал тени ни на Клайда, ни на нее, и потому Мейсон решил пока что им не заниматься. И, наконец, 5) благодаря тем же героическим усилиям на сцене появился тот самый торговец в Утике, у которого Клайд купил шляпу: он случайно наткнулся в газете на интервью, данное Бэрлеем во время пребывания в Утике, и, узнав Клайда, портрет которого помещен был тут же вместе с портретом Барлея, поспешил разыскать Мейсона, который в результате увез с собою его показания, отпечатанные на машинке и надлежащим образом заверенные. Вдобавок девушка, ехавшая на пароходе «Лебедь» и обратившая внимание на Клайда, припомнила и написала Мейсону, что Клайд был в соломенной шляпе и сошел на берег в Шейроне. Этими сведениями целиком подтверждались показания капитана «Лебедя», и Мейсон почувствовал, что провидение или судьба с ним заодно. И последним, но самым важным для Мейсона оказалось сообщение, полученное от одной жительницы Бедфорда (штат Пенсильвания). Она писала, что они с мужем провели неделю, с третьего по десятое июля, на озере БольшойВыпи — жили в палатке на восточном берегу озера, в южной его части. И вот восьмого июля, часов в шесть вечера, когда они катались на лодке, она услышала жалобный, печальный крик — казалось, женщина или девушка взывала о помощи. Этот крик доносился откуда-то очень издалека, как будто из-за острова, расположенного к юго-западу от залива где они ловили рыбу. Мейсон решил умолчать об этом сообщении, так же как и об аппарате и пленках и о проступке Клайда в Канзас-Сити, и скрывать эти данные, если удастся, до самого процесса, когда защита уже не сумеет как-либо опровергнуть или смягчить их. А Белнеп и Джефсон не могли придумать, что можно было бы еще сделать: оставалось только натаскивать Клайда, чтобы он сумел полностью отрицать свою вину, ссылаясь на душевный кризис, пережитый им по приезде на Луговое озеро; следовало также дать какие-то разъяснения по поводу двух шляп и чемодана. Правда, был еще костюм, брошенный в озеро близ дачи Крэнстонов, но после того как там побывал некий весьма усердный рыболов, костюм был выужен, вычищен, выглажен и теперь висел в запертом шкафу в конторе Белнепа и Джефсона. Оставался еще и аппарат, попавший на дно озера Большой Выпи, но все розыски его оказались безуспешными, и Джефсон сделал вывод, что аппаратом, должно быть, завладел Мейсон, а потому следует возможно раньше, при первом же удобном случае, упомянуть о нем на суде. Но то обстоятельство, что Клайд, пусть нечаянно, ударил им Роберту, пока что решено было отрицать, хотя при вторичном обследовании тела — для чего пришлось извлечь его из могилы в Бильце — на лице покойной были обнаружены еще сохранившиеся следы, которые в какой-то мере соответствовали размерам и форме аппарата. Начать с того, что Белнеп и Джефсон очень мало полагались на Клайда как на свидетеля. Сумеет ли он рассказать о том, как все это случилось, настолько откровенно, с такой силой и искренностью, чтобы убедить присяжных, что он ударил Роберту, совсем того не желая? Ведь именно от этого зависит, поверят ли ему присяжные, все равно, есть ли следы удара или нет. А если не поверят, что удар был неумышленным, значит, наверняка обвинительный приговор. Итак, они готовились к процессу, а пока что старались исподволь подобрать благоприятные сведения и показания насчет прежнего поведения Клайда. Но им изрядно мешало то обстоятельство, что в Ликурге, разыгрывая роль примерного юноши, он на самом деле вел себя совсем не примерно и что его первые шаги на деловом поприще в Канзас-Сити окончились скандалом. Было и еще одно очень серьезное осложнение — это понимали как Белнеп и Джефсон, так и прокурор: за все время, пока Клайд сидел в тюрьме, ни один человек из его семьи или семьи его дяди не явился, чтобы вступиться за него, и сам он никому, кроме Белнепа и Джефсона, не говорил, где живут его родители. Но ведь если вообще возможно отстоять и обелить Клайда, крайне важно было бы — об этом не раз толковали Белнеп и Джефсон, — чтобы его мать, или отец, или хотя бы сестра, или брат замолвили за него словечко! Иначе сложится впечатление, что он всегда был паршивой овцой, разнузданным бродягой, и потому все, кто его знал, теперь сознательно его избегают. Поэтому, совещаясь с Дарра Брукхартом, адвокаты заговорили о родителях Клайда и узнали, что ликургские Грифитсы решительно возражают против появления на сцене кого-либо из их западных родичей. Две ветви этой семьи, пояснил Брукхарт, принадлежат к совершенно разным слоям общества, их разделяет глубокая пропасть, и ликургским Грифитсам были бы весьма неприятны всякие разговоры на этот счет. Кроме того, нельзя ручаться, что, попав в Ликург, родители Клайда не окажутся игрушкой в руках желтой прессы. Брукхарт сообщил Белнепу, что, по мнению Сэмюэла и Гилберта Грифитсов, самое лучшее (если Клайд не возражает) оставить его ближайших родственников в тени. В сущности, от этого в какой-то мере будет зависеть их материальная помощь Клайду. Клайд разделял желание Грифитсов, хотя все, кто часто с ним разговаривал и слышал, как он жалеет о случившемся, — ведь это такой удар для матери, — не сомневались, что он связан с матерью узами горячей любви. Истина заключалась в том, что Клайда теперь мучили страх и стыд перед матерью: как она отнесется к положению, в котором он очутился, к его нравственному, если не общественному падению? Поверит ли она выдумке Белнепа и Джефсона о нравственном перевороте, который он будто бы пережил? Но даже помимо этого, — подумать только, что она придет сюда и посмотрит на него, такого жалкого, сквозь эти железные прутья, и надо будет выдержать ее взгляд, и придется разговаривать с нею изо дня в день! Ох, уж эти ясные, вопрошающие, измученные глаза! И она будет сомневаться в его невиновности — ведь вот даже Белнеп и Джефсон, хоть и составляют всякие планы для его защиты, все-таки сомневаются, действительно ли он ударил Роберту нечаянно, а не намеренно. Они не совсем этому верят и, пожалуй, так и скажут матери. Так неужели его набожная, богобоязненная, ненавидящая всякое злодеяние мать поверит ему больше, чем они? И когда Клайда снова спросили, следует ли, по его мнению, вызывать его родителей, он ответил, что пока ему лучше не видеться с матерью, — это бесполезно и будет только мучительно для обоих. К счастью, думал он, никакие сведения обо всем, что с ним случилось, по-видимому, еще не дошли до его родных в Денвере. В силу их особых религиозных и моральных воззрений, мирские, исполненные разврата газеты никогда не допускались в их дом и миссию. А ликургские Грифитсы не желали им ничего сообщать. Но однажды вечером (примерно в то время, когда Белнеп и Джефсон весьма серьезно обсуждали вопрос об отсутствии родителей Клайда и о том, не следует ли что-то предпринять на этот счет) Эста, которая вскоре после переезда Клайда в Ликург вышла замуж и жила в юго-восточной части Денвера, случайно прочитала в «Роки маунтейн ньюс» следующую заметку, напечатанную сразу после того, как совет присяжных в Бриджбурге решил, что дело Клайда должно быть передано в суд: «УБИЙЦА РАБОТНИЦЫ ПРЕДАН СУДУ Бриджбург, штат Нью-Йорк, 8 августа. Состоялось экстренное заседание совета присяжных, назначенное губернатором Стаудербеком для рассмотрения дела Клайда Грифитса, племянника богатого фабриканта воротничков в Ликурге (штат Нью-Йорк), носящего ту же фамилию. Клайд Грифитс был недавно обвинен в убийстве мисс Роберты Олден из Бильца (штат Нью-Йорк), совершенном на озере Большой Выпи в Адирондакских горах 8 июля сего года. Сегодня совет присяжных подтвердил обвинительное заключение по делу Клайда Грифитса, обвиняемого в убийстве с заранее обдуманным намерением. В соответствии с этим решением Грифитс, упорно утверждающий, несмотря на почти неоспоримые улики, что предполагаемое убийство было фактически несчастным случаем, в сопровождении своих адвокатов Элвина Белнепа и Рубена Джефсона предстал перед судьей Верховного Суда Оберуолцером и заявил, что он невиновен. Он оставлен под стражей до суда, который назначен на 15 октября. Грифитсу всего 22 года; вплоть до дня ареста он был в Ликурге признанным членом светского общества. Предполагают, что он оглушил и затем утопил свою возлюбленную, молодую работницу, которую он обольстил и собирался оставить ради девушки со средствами. Защитники по этому делу приглашены богатым дядей обвиняемого, фабрикантом из Ликурга, который до сих пор держится в стороне. Помимо этого, как здесь утверждают, никто из родных не выступил в его защиту». Эста тотчас бросилась к матери. Несмотря на точность и ясность этого сообщения, она не хотела верить, что речь идет о Клайде. И все же в упоминании о месте происшествия и в именах была роковая, неопровержимая правда: богатые Грифитсы из Ликурга, отсутствие родных. Несколько минут езды на трамвае, и она уже в доме на Бидуэл-стрит — здесь находились меблированные комнаты и миссия, известная под названием «Звезда упования»; вряд ли эта миссия была много лучше той, что существовала прежде в Канзас-Сити, Правда, здесь было довольно много комнат, где приезжие за двадцать пять центов находили приют на ночь (считалось, что таким образом окупается содержание дома), однако все это требовало большого труда и приносило очень мало дохода. К тому же Фрэнк и Джулия, которым уже давно опостылело тоскливое однообразие окружающего, теперь всерьез старались освободиться от всего этого и всю тяжесть работы в миссии переложили на плечи отца и матери. Джулия, которой уже минуло девятнадцать лет, служила кассиршей в ресторане, а Фрэнк — ему скоро должно было исполниться семнадцать — нашел недавно работу в фруктово-овощном магазине. Теперь в доме оставался днем только один из детей — незаконный сын Эсты, маленький Рассел (ему шел четвертый год); дедушка с бабушкой из осторожности выдавали его за сироту, усыновленного ими в Канзас-Сити. Это был темноволосый мальчик, несколько напоминавший Клайда, в уже в столь раннем возрасте его, как прежде Клайда, обучали всем основным истинам, которые так раздражали Клайда в пору его детства. Когда пришла Эста (ныне очень скромная и степенная замужняя женщина), миссис Грифитс была занята уборкой: подметала, вытирала пыль, приводила в порядок постели. Но, взглянув на бледную, растерянную дочь, которая явилась в необычный час и кивком позвала мать в соседнюю пустующую комнату, миссис Грифитс, за годы всевозможных испытаний более или менее привыкшая к подобным неожиданностям, прервала работу, и глаза ее внезапно затуманились предчувствием недоброго. Что за новая беда грозит им всем? Ибо робкие серые глаза Эсты и весь ее вид предвещали несчастье. Развернув газету, которую она держала в руках, и с тревожной заботой глядя на мать, Эста указала на заметку. Миссис Грифитс стала просматривать газетные строки. Но что это?«УБИЙЦА РАБОТНИЦЫ ПРЕДАН СУДУ» «ОБВИНЕН В УБИЙСТВЕ МИСС РОБЕРТЫ ОЛДЕН… НА ОЗЕРЕ БОЛЬШОЙ ВЫПИ, В АДИРОНДАКСКИХ ГОРАХ, 8 ИЮЛЯ СЕГО ГОДА» «ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ С ЗАРАНЕЕ ОБДУМАННЫМ НАМЕРЕНИЕМ» «НЕСМОТРЯ НА ПОЧТИ НЕОСПОРИМЫЕ УЛИКИ, ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН НЕВИНОВЕН» «ОСТАВЛЕН ПОД СТРАЖЕЙ ДО СУДА, КОТОРЫЙ НАЗНАЧЕН НА 15 ОКТЯБРЯ» «ОГЛУШИЛ И ЗАТЕМ УТОПИЛ СВОЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ» «НИКТО ИЗ РОДНЫХ НЕ ВЫСТУПИЛ В ЕГО ЗАЩИТУ»Так ее глаза и мозг автоматически выхватывали важнейшие строки. И снова так же быстро пробегали по ним:
«КЛАЙД ГРИФИТС, ПЛЕМЯННИК БОГАТОГО ФАБРИКАНТА ВОРОТНИЧКОВ В ЛИКУРГЕ (ШТАТ НЬЮ-ЙОРК)»Клайд, ее сын! И совсем недавно, — нет, уже больше месяца… (они с Эйсой даже стали беспокоиться, что он не…) восьмого июля! А сегодня одиннадцатое августа! Значит — да! Но нет, это не ее сын! Невозможно! Клайд — убийца девушки, которая была его возлюбленной! Но он совсем не такой! Он писал ей, что делает успехи: он заведующий большим отделением на фабрике, у него прекрасное будущее. Но ни слова ни о какой девушке! И вдруг! Да, но была же та девочка в Канзас-Сити… Боже милостивый! И Грифитсы в Ликурге, брат ее мужа, — они знают все и не написали! Конечно, им стыдно и противно. Или все равно. Хотя нет, ведь Сэмюэл пригласил двух адвокатов. Но какой ужас! Эйса! Другие дети! Что будет в газетах! А миссия! Придется снова бросить все и уехать куда-нибудь в другой город. Однако виновен он или нет? Она должна это знать, прежде чем осудить его. В газете говорится, что он не признал себя виновным. О, этот мерзкий, грешный, блестящий отель в Канзас-Сити! Эти испорченные юноши — друзья Клайда. Эти два года, когда он блуждал неизвестно где, не писал родителям, жил под именем Гарри Тенета! Что он делал? Чему учился? Она стояла неподвижно, преисполненная безмерного страдания и ужаса, от которых ее в эту минуту не могла защитить даже вера в откровение и утешение, в божественные истины и божественное милосердие и спасение, вера, которую она всегда проповедовала. Ее мальчик! Ее Клайд! В тюрьме, обвиняемый в убийстве! Она должна телеграфировать, написать, может быть, поехать туда. Но как достать денег? И что делать там, когда она приедет? Где взять мужество и веру, чтобы все это вынести? И опять-таки: ни Эйса, ни Фрэнк, ни Джулия не должны знать. Эйса с его воинствующей и все же как бы бессильной верой, с усталыми глазами и слабеющим телом… И почему Фрэнк и Джулия, едва вступающие в жизнь, должны нести на себе такое бремя, такое клеймо? Боже милостивый! Неужели ее несчастья никогда не кончатся? Она обернулась; большие, огрубевшие от работы руки ее дрожали, и в них дрожала газета. Эста стояла рядом; она в последнее время особенно сочувствовала матери, понимая, как много тяжелого ей пришлось пережить. Мать порою казалась такой усталой, а теперь еще этот удар! Однако Эста знала, что мать сильнее всех в семье — такая крепкая, широкоплечая, смелая; пусть на свой лад — упрямая, негибкая, — она все же настоящий кормчий душ. — Мама, я просто не могу поверить, что это Клайд! — только и сумела сказать Эста. — Это просто невозможно, правда? Но миссис Грифитс все смотрела на зловещий газетный заголовок, потом быстро обвела своими серо-голубыми глазами комнату. Широкое лицо ее побледнело, словно облагороженное безмерным напряжением и безмерным страданием. Ее грешный, заблудший и, конечно, несчастный сын так безумно мечтал выдвинуться, сделать карьеру, и вот ему грозит смерть, казнь на электрическом стуле за преступление, за убийство! Он убил кого-то — бедную работницу, говорится в газете. — Шш!.. — прошептала она, многозначительно приложив палец к губам. — Он (это значило — Эйса) пока не должен знать. Нужно прежде всего телеграфировать или написать. Пусть ответят на твой адрес. Я дам тебе денег. Но мне надо на минутку присесть. Ослабела немного. Я сяду здесь. Дай мне Библию. Миссис Грифитс присела на край простой железной кровати, взяла со столика Библию и инстинктивно раскрыла ее на псалмах 3 и 4. «Господи, как умножились враги мои». «Когда я взываю, услышь меня, боже правды моей». И затем про себя, внешне даже спокойно, она прочитала 6, 8, 10, 13, 23, 91 псалмы, а Эста стояла рядом в безмолвном и горестном удивлении. — О мама, я не могу этому поверить! Это так ужасно! Но миссис Грифитс продолжала читать. Казалось, она наперекор всему сумела укрыться в каком-то тихом пристанище, где хотя бы в эти минуты ничто человеческое, злое и греховное не могло ее настигнуть. Наконец она совершенно спокойно закрыла книгу и поднялась. — Теперь мы должны подумать, что написать в телеграмме и кому ее послать. Я хочу сказать, Клайду, конечно… в этот… как его… в Бриджбург, — прибавила она, заглянув в газету, и тут же процитировала из Библии: «Страшный в правосудии, услышь нас, боже». — Или, может быть, этим двум адвокатам, тут есть их имена. Я боюсь телеграфировать брату Эйсы, вдруг он ответит Эйсе. («Ты — оплот мой и сила моя. На тебя уповаю»). Но, я думаю, Клайду передадут телеграмму, если послать ее на имя судьи или этих адвокатов, как по-твоему? Нет, пожалуй, пошлем лучше прямо Клайду. («Он водит меня к водам тихим»). Нужно просто написать, что я прочла о нем в газете, и все же любовь моя с ним, и я верю в него, но он должен сказать мне всю правду и написать, что мы должны делать. Если ему нужны деньги, надо будет подумать, как их достать («Он укрепляет душу мою»). И тут, утратив кратковременное внешнее спокойствие, она вновь стала ломать своя большие огрубевшие руки. — Нет, этого не может быть. Боже мой, нет? Ведь он мой сын. Все мы любим его и верим в него. Мы должны сказать ему об этом. Бог освободит его. Бодрствуй и молись! Не теряй веры. Под сенью крыл его обретешь покой душевный… Она была вне себя и едва сознавала, что говорит. Эста, стоя рядом, повторяла: — Да, мама! Да, конечно! Я напишу, телеграфирую! Конечно, ему передадут? Но в то же время она думала: «Господи, господи! Обвинен в убийстве — что может быть хуже! Нет, конечно, это неправда. Этого не может быть. Что, если он узнает! (Она думала о муже.) И это — после истории с Расселом. И после неприятностей, которые были у Клайда в Канзас-Сити… Бедная мама! У нее столько горя…» Немного погодя, стараясь, чтобы их не заметил Эйса, помогавший прибирать в соседней комнате, они обе спустились в зал миссии, где стояла тишина и многочисленные надписи на стенах возвещали милосердие, мудрость и вечную справедливость господа бога.
Глава 84
Телеграмма, составленная в вышеописанном духе, была немедленно отправлена на имя Белнепа и Джефсона, и они посоветовали Клайду сейчас же ответить, что у него все в порядке: он имеет прекрасных защитников, не нуждается в денежной помощи, и, пока его защитники не посоветуют, лучше никому из родных не приезжать сюда, поскольку все, что можно для него сделать, уже делается. В то же время они и сами написали миссис Грифитс, заверяя ее в своем желании помочь Клайду и рекомендуя пока не вмешиваться в ход событий. Таким образом, опасность появления западных Грифитсов на Востоке была устранена; однако Белнеп и Джефсон отнюдь не возражали бы, чтобы кое-какие сведения о родителях Клайда, об их занятиях, местонахождении, верованиях и привязанности к сыну просочились в газеты, которые упорно подчеркивали, что близкие не проявляют к нему ни малейшего интереса. Поэтому для адвокатов вышло очень удачно, что телеграмма матери, полученная в Бриджбурге, немедленно была прочитана людьми, которые особенно интересовались этим делом и поспешили по секрету сообщить ее содержание кое-кому из публики и из представителей печати; в результате все семейство в Денвере тотчас было разыскано и проинтервьюировано. И вскоре во всех западных и восточных газетах появились более или менее полные отчеты о теперешнем положении семьи Клайда, о деятельности его родителей в качестве руководителей миссии, об их крайней набожности, граничащей с фанатизмом, о своеобразии их религиозных верований; говорилось даже о том, что в ранней юности Клайда тоже заставляли ходить вместе со всей семьей по улицам и петь псалмы, — разоблачение, которое почти так же неприятно поразило общество в Ликурге и на Двенадцатом озере, как и самого Клайда. А миссис Грифитс, честная и глубоко искренняя в своей вере и деятельности, без колебаний сообщала репортерам, которые являлись к ней один за другим, все подробности о миссионерских трудах своих и мужа в Денвере и других местах. Рассказала она и о том, что ни Клайд, ни остальные дети никогда не знали обычных детских радостей и развлечений. Однако ее мальчик, в чем бы его теперь не обвиняли, не был дурным по природе своей, и она не верит, что он действительно виновен в таком преступлении. Тут какое-то несчастное стечение обстоятельств, и он, конечно, объяснит это на суде. Но если он и совершил что-нибудь безрассудное, во всем виновата несчастная случайность, прервавшая несколько лет назад деятельность миссии в Канзас-Сити и заставившая всю семью переехать в Денвер, так что Клайд был предоставлен самому себе. И это по ее совету он написал богатому брату ее мужа в Ликург, что и повлекло за собою его переезд туда. Клайд у себя в камере читал эти сообщения, и его мучило жгучее чувство унижения и досады. Наконец он написал матери о своем неудовольствии: зачем она рассказывает так много о прошлом и об их миссионерской деятельности, ведь она знает, что он никогда не любил этого и терпеть не мог ходить по улицам. Очень многие смотрят на это совсем иначе, чем она и отец, в частности, его дядя и двоюродный брат и все те богатые люди, с которыми ему довелось познакомиться и которые сумели устроить свою жизнь совсем по-иному и с несравненно большим блеском. Теперь, говорил он себе, Сондра, конечно, прочтет все это, все, что он надеялся скрыть. Однако, несмотря ни на что, он невольно думал о матери с нежностью и уважением — так много было в ней силы и искренности, а ее неизменная и непоколебимая любовь к нему глубоко его трогала. В ответ на его письмо она написала, что ей очень жаль, если она сделала ему больно или оскорбила его чувства. Но разве не следует всегда говорить правду? Пути господни ведут к добру, и никакое зло не может, конечно, возникнуть из служения делу господа. И Клайд не должен просить ее лгать. Но если он скажет хоть слово, она с радостью попытается достать денег и приедет, чтобы ему помочь… она будет сидеть с ним в камере и думать вместе с ним о его спасении и держать его руки в своих… Но Клайд хорошо знал, что она будет ждать от него правды, неотступно глядя ему прямо в глаза своими ясными голубыми глазами. И потому, подумав, он решил, что ей пока не нужно приезжать. Сейчас он бы этого не вынес. Ибо перед ним, подобно огромной базальтовой скале над бурным разгневанным морем, стоял суд, а это означало свирепое нападение Мейсона, на которое он сможет отвечать главным образом небылицами, сочиненными для него Джефсоном и Белнепом. Хотя он и старался успокоить свою совесть мыслью о том, что в последнюю минуту у него не хватило мужества ударить Роберту, тем не менее рассказать эту новую историю и стоять на своем было для него бесконечно трудной задачей. Это понимали оба адвоката, и поэтому Джефсон все чаще появлялся у двери в камеру Клайда, приветствуя его словами: — Ну, как сегодня наши делишки? Как странно выглядели грубые, неряшливые, небрежно сшитые костюмы Джефсона! И его истрепанная темно-коричневая мягкая шляпа, низко надвинутая на глаза! И длинные, костлявые узловатые руки, в которых чувствовалась огромная сила! И холодные, маленькие голубые глаза — проницательные, полные хитрости и непреклонной решимости, которую он старался передать Клайду, — и это ему отчасти удавалось! — Ну, кто еще являлся сегодня? Проповедники, деревенские девчонки или парни Мейсона? Он спрашивал так потому, что Клайда все время осаждала самая разнообразная публика, жадная до уголовных сенсаций и скандальных любовных историй; печальная гибель Роберты и существование ее красивой и богатой соперницы не давали покоя любопытным. Приходили мелкие провинциальные адвокаты, врачи, лавочники, сельские евангелисты или пасторы — все народ тупой и неотесанный, друзья и знакомые разных городских чиновников; они появлялись у двери камеры Клайда спозаранку, часто в самые неожиданные минуты, и, осмотрев его любопытными, или злыми, или испуганными глазами, задавали вопросы вроде следующих: «Молитесь ли вы, брат? Преклоняете ли колена для молитвы?» (При этом Клайд всегда вспоминал отца и мать.) И далее: «Примирился ли он с богом? Неужели он и вправду отрицает, что убил Роберту Олден?» Девицы спрашивали: «Говорят, вы влюблены? А как ее зовут? А где она сейчас? Расскажите, нам, пожалуйста! Мы никому не скажем! Она будет на суде?» Клайд старался не обращать внимания на такие вопросы или отвечал так двусмысленно, уклончиво и безразлично, как только мог. Они его раздражали, но ведь и Белнеп и Джефсон постоянно внушали ему, что ради собственной пользы он должен казаться возможно более веселым, бодрым и приветливым. Потом являлись журналисты и журналистки в сопровождении художников или фотографов, интервьюировали его, снимали и зарисовывали. Но с этими людьми, по совету Белнепа и Джефсона, он обычно отказывался разговаривать или отвечал только заранее подсказанными ему, заученными фразами. — Говорите, что хотите, — весело поучал его Джефсон, — лишь бы ничего не сказать. Не вешайте носа. И чтобы с лица не сходила улыбка, понятно? Вы не забываете зубрить свою шпаргалку? (Джефсон снабдил Клайда отпечатанным на машинке длинным списком вопросов, которые наверняка зададут ему на суде; на каждый вопрос он должен будет дать именно такой ответ, какой заготовлен в этой шпаргалке, — или пусть теперь же сочинит и выучит что-нибудь получше. Все вопросы касались поездки на озеро Большой Выпи, причины, заставившей его купить вторую шляпу, пережитого им душевного перелома: почему, когда, где?) Для вас это «Отче наш», понимаете? — А потом он закуривал папиросу, но никогда не предлагал Клайду: чтобы прослыть воздержанным юношей, Клайд не должен был курить здесь. И после каждого визита Джефсона Клайд некоторое время сам верил, что сумеет вести себя в точности так, как наставлял его адвокат: быстро и уверенно войдет в зал суда, стойко выдержит все взгляды — даже взгляд самого Мейсона, забудет (даже давая показания как свидетель) о своем страхе перед ним, о том, как ужасны все эти известные Мейсону факты, которые он должен объяснить с помощью напечатанных в шпаргалке ответов… забудет Роберту и ее последний крик и душевную боль и муку, вызванную потерей Сондры и всего ее веселого, блестящего мирка. Но когда вновь наступала ночь или когда приходилось проводить весь долгий день в обществе сухопарого, бородатого Краута или хитрого, изворотливого Сиссела (они вечно околачивались поблизости и часто подходили к двери камеры, чтобы окликнуть его: «Как живем?» — и завести разговор о городских происшествиях или сыграть в шашки или шахматы), Клайд все больше и больше мрачнел и начинал думать, что в конце концов, пожалуй, у него нет никакой надежды на спасение. Ведь он совсем одинок, если не считать адвокатов, матери, брата и сестер! От Сондры, разумеется, ни слова. Оправившись немного от первого потрясения и ужаса, она теперь несколько иначе думала о Клайде: в конце концов, быть может, он убил Роберту и сделался отверженным, жертвой, только из-за любви к ней. И все же общество относилось к нему так враждебно, с таким ужасом, что она не отважилась даже думать о том, чтобы написать ему хоть слово. Ведь он убийца! И вдобавок эта его жалкая семья! В газетах пишут, что его родители, живущие на Западе, — просто уличные проповедники и сам Клайд мальчиком распевал псалмы на улицах! Но порою она невольно опять вспоминала о его пылкой, безрассудной и, очевидно, всепожирающей страсти. Как горячо он, должно быть, ее любил, если мог решиться на такое ужасное дело! Быть может, когда-нибудь, много позже, когда об этой истории немного забудут, можно будет как-нибудь осторожно, не подписываясь, ему написать? Пусть он знает, что не совсем забыт, ведь он так горячо ее любил. Но нет, нет… родители… если они узнают или заподозрят… и общество… и все ее прежние приятели… Нет! Во всяком случае, не теперь. Быть может, после, когда он будет освобожден или… или… осужден… она сама не знает. И все же она очень страдала, каким бы мерзким и отвратительным ни казалось ей ужасное преступление, при помощи которого Клайд хотел ее завоевать. А Клайд в это время ходил взад и вперед по камере, или смотрел сквозь тяжелые решетки окна на мрачную площадь, или читал и перечитывал газеты, или нервно перелистывал страницы журналов и книг, которые доставлял ему адвокат, или играл в шашки и шахматы, или обедал: Белнеп и Джефсон специально договорились с тюремным начальством (таково было желание дяди Клайда), чтобы его меню состояло из лучших блюд, чем те, что обычно подаются рядовым заключенным. И все снова и снова — из-за того, что Сондра, по-видимому, была безвозвратно, навсегда потеряна для него — он спрашивал себя, хватит ли у него сил продолжать эту, как ему порой казалось, почти бесполезную борьбу. Но по временам, среди ночи или перед рассветом, когда вся тюрьма затихала, — сны… призрачные видения того, что больше всего страшило его и лишало последнего мужества… — он вскакивал на ноги, расширенными глазами глядя в одну точку. Сердце его неистово колотилось, холодный пот выступал на лбу и ладонях. Электрический стул — где-то там, в тюрьме штата — Клайд прежде читал о нем, о том, как умирают на нем люди… И он начинал ходить взад и вперед и думал, думал… если все пойдет не так, как уверяет Джефсон… если он будет осужден и в новом судебном разбирательстве откажут… тогда… Нельзя ли тогда как-нибудь вырваться из этой тюрьмы и бежать? Эти старые кирпичные стены… Какой они толщины? Может быть, все-таки можно при помощи молотка, камня, чего-нибудь, что могли бы ему принести… хотя бы брат Фрэнк, или сестра Джулия, или Ретерер, или Хегленд… если б только он мог списаться с кем-нибудь из них и уговорить их принести ему что-нибудь подходящее… Если бы добыть пилку, чтобы перепилить решетку! И потом бежать, бежать, как он должен был бежать тогда, в тех лесах… Но как? И куда?Глава 85
Пятнадцатое октября. Хмурые тучи и пронизывающий, почти январский ветер, который сгоняет в кучи опавшие листья, а потом внезапными порывами взметает их, и они кружатся и мечутся туда и сюда, словно летящие птицы. И, несмотря на предчувствие борьбы и трагедии, охватившее многих, несмотря на возникающий в глубине сознания призрак электрического стула, — какое-то праздничное настроение: фермеры, лесорубы, торговцы сотнями съезжаются в фордах и бьюиках — с женами, дочерьми и сыновьями, даже с младенцами на руках. Они собрались на площади задолго до открытия суда, а когда приблизился назначенный час, столпились — кто у ворот тюрьмы, в надежде хоть мельком взглянуть на Клайда, кто у ближайшего к тюрьме входа в здание суда: через эти двери должны были провести Клайда, и здесь публика могла увидеть его, а затем и пройти в зал суда. Голуби невесело бродят по карнизам и по краю крыши старинного здания. Мейсона окружают его приближенные — Бэртон Бэрлей, Эрл Ньюком, Зилла Саундерс и молодой, недавно окончивший курс обучения юрист по фамилии Мэниго: они помогают ему приводить в порядок материалы следствия и давать наставления и инструкции различным свидетелям, уже собравшимся в приемной прокурора, чье имя стало в эти дни известно всей стране. А на улице, около суда, крики разносчиков: «Вот орехи!», «Сосиски! Горячие сосиски!», «Покупайте историю Клайда Грифитса со всеми письмами Роберты Олден! Только двадцать пять центов!» (Один приятель Бэртона Бэрлея выкрал копии писем Роберты из канцелярии Мейсона и продал их издателю бульварных романов в Бингхэмптоне, а тот немедленно выпустил их отдельной брошюркой вместе с описанием «страшного преступления» и с портретами Роберты и Клайда). А в это время в тюремной приемной сидят Элвин Белнеп и Рубен Джефсон и с ними Клайд, облаченный в тот самый костюм, который он пытался навсегда схоронить в водах Двенадцатого озера. При этом на Клайде новый галстук, новая сорочка и новые башмаки, — все для того, чтобы он предстал на суде в своем лучшем виде, таким, каким он был в Ликурге. Рядом Джефсон — длинный и тощий и, по обыкновению, одетый кое-как, но с той железной силой, сквозящей в каждой черточке лица, в каждом движении, в каждом взгляде, которая всегда так поражала Клайда. Белнеп наряден, как первый франт из Олбани; на него падает вся тяжесть предварительного изложения дела на суде и участия в перекрестном допросе свидетелей. — Смотрите, ничего не пугайтесь и не подавайте виду, что нервничаете, что бы там ни стали говорить и делать на суде, слышите, Клайд? — заговорил он. — Мы будем с вами все время, с начала до конца. Вы будете сидеть между нами. Улыбайтесь или делайте равнодушное лицо, но только не сидите с испуганным видом. Однако не нужно быть и слишком развязным и веселым, а то они решат, что вы относитесь ко всему этому несерьезно. Понимаете, вы все время должны выглядеть приятным, симпатичным юношей и держаться как подобает джентльмену. И ни в коем случае не пугайтесь — это может очень повредить и вам и нам. Ведь вы не виноваты, значит, у вас нет никаких причин бояться, хотя вы, конечно, должны быть огорчены случившимся. Я уверен, что вы прекрасно все это осознали. — Да, сэр, я вас понимаю, — ответил Клайд. — Я все сделаю, как вы говорите. И потом — я ведь не ударял ее нарочно, это чистая правда, чего же мне бояться? И он взглянул на Джефсона, на которого по чисто психологическим причинам полагался больше, чем на Белнепа. В самом деле: сказанные им сейчас слова были точным повторением того, что твердил ему Джефсон два месяца подряд. И сейчас, поймав его взгляд, Джефсон придвинулся ближе и, в упор глядя на Клайда своими сверлящими, но в то же время ободряющими голубыми глазами, начал: — Вы не виновны! Вы не виновны, Клайд, ясно? Вы теперь вполне это понимаете и должны все время верить в это и помнить об этом, потому что так оно и есть. У вас не было намерения ударить ее, слышите? Вы клянетесь в этом. Вы поклялись мне и Белнепу, и мы вам верим. Обстоятельства таковы, что мы не можем заставить средний состав присяжных понять это и поверить в это, если мы изложим все в точности так, как вы рассказываете. Это не пройдет, я уже вам объяснял. Ну, так что ж! Вы знаете правду, мы — тоже. Но чтобы добиться для вас справедливого приговора, нам приходится дать несколько иное, подставное объяснение, подменить им правду, которая заключается в том, что вы ударили мисс Олден нечаянно: мы не можем надеяться, что присяжные поймут эту правду в чистом, неприкрашенном виде. Понимаете? — Да, сэр, — ответил Клайд, который всегда слушал этого человека с почтительным вниманием. — Именно поэтому, как я часто говорил вам, мы и изобрели эту историю о внутреннем переломе, который вы пережили. Это не совсем верно по времени, но ведь вы действительно почувствовали перемену в себе, когда были на озере. И в этом наше оправдание. Но, ввиду всех странных обстоятельств дела, присяжные никогда этому не поверят, и потому мы просто перенесем переворот, который произошел в вашей душе, на другое время, — понятно? Устроим его до того, как вы поехали кататься на лодке. Это не совсем верно, но ведь неверно и обвинение, будто вы ударили ее намеренно. И вас не должны посадить на электрический стул по неправильному обвинению, — по крайней мере, я на это не согласен. — Он посмотрел Клайду прямо в глаза, потом прибавил: — Понимаете, Клайд, это все равно, что заплатить за картошку или за костюм пшеницей или бобами, потому что, хотя у вас и есть деньги, кто-то вдруг ни с того ни с сего объявил, будто они не настоящие, и теперь у вас не хотят их брать. Поэтому вам приходится расплачиваться пшеницей или бобами. Вот мы и дадим им бобы. Но оправданием служит то, что вы не виновны. Вы не виновны? Вы поклялись мне, что под конец не хотели ее ударить, какие бы у вас ни были намерения сначала. И этого для меня довольно. Вы не виновны. И тут, взяв Клайда за отвороты пиджака и пристально глядя в его карие глаза, взгляд которых выдавал напряжение и тревогу, Джефсон добавил твердо и убежденно (для него самого это убеждение было лишь иллюзией, но он во что бы то ни стало хотел внушить его Клайду): — И в Ту минуту, когда вы станете слабеть или нервничать или когда будете отвечать на вопросы Мейсона и вам покажется, что он берет верх, запомните, я хочу, чтобы вы твердо сказали себе: «Я не виновен! Не виновен! Они не имеют права меня осудить, потому что я на самом деле не виновен». А если это не поможет вам взять себя в руки, — посмотрите на меня. Я буду рядом. Если вы начнете волноваться, вам надо будет только посмотреть мне прямо в глаза, вот как я сейчас смотрю. И вы будете знать, что я хочу, чтобы вы взяли себя в руки и вели себя так, как я вам сейчас говорю: вы присягнете в том, в чем мы просили вас присягнуть, что бы вы при этом ни чувствовали, хотя бы даже вам казалось, будто это неправда. Я не допущу, чтобы вас казнили за то, чего вы не делали, только потому, что вам не позволяют подтвердить под присягой настоящую правду. Ну, вот и все! И он весело и ласково похлопал Клайда по спине, а Клайд, ощутив необычайный прилив бодрости, почувствовал в эту минуту, что, конечно, он сумеет вести себя так, как ему сказано, и именно так и сделает. Потом Джефсон вынул часы и взглянул сперва на Белнепа, затем в ближайшее окно. Толпа уже собралась около суда и у дверей тюрьмы, — здесь репортеры и фотографы нетерпеливо ждали появления Клайда, чтобы на ходу заснять его и всякого, кто причастен к делу. — Ну, как будто пора, — невозмутимо сказал Джефсон. — Похоже, что все население округа Катараки намерено попасть в зал суда. У нас будет обширная аудитория. — И, обращаясь к Клайду, прибавил: — Вам нечего смущаться, Клайд. Все это просто-напросто деревенский люд, олухи, которые собрались развлечься городским представлением. И Джефсон и Белнеп выходят. Их сменяют возле Клайда Краут и Сиссел; среди перешептываний толпы защитники пересекают заросшую жухлой осенней травой площадь и входят в здание суда. А еще через пять минут, предшествуемый Слэком и Сисселом, сопровождаемый Краутом и Суэнком и сверх того охраняемый еще дополнительными стражами — по два справа и слева — на случай каких-либо волнений и покушений со стороны толпы, выходит и сам Клайд. Он старается держаться по возможности бодро и уверенно; но кругом такое множество грубых и странных лиц — бородатые мужчины в тяжелых енотовых куртках и шапках или в потрепанной, выцветшей, неопределенного вида одежде, обычной для фермеров в этих краях, и их жены и дети… И все смотрят на него с таким недобрым любопытством… Клайда пробирает дрожь: кажется, вот-вот кто-нибудь выстрелит в него из револьвера или кинется с ножом. Конвоиры с револьверами в руках своим видом лишь усиливают его тревогу. Однако он слышит только крики: «Ведут! Ведут!», «Вот он!», «А ведь по виду не скажешь, что убийца!». Щелкают затворы фотоаппаратов, и спутники еще теснее окружают его, а у Клайда все холодеет внутри. И вот пять коричневых каменных ступеней и двери старого здания суда, а внутри другая лестница, ведущая в просторный, длинный зал с высоким потолком и стенами, выкрашенными в коричневый цвет, с высокими, узкими, закругленными вверху окнами справа и слева и в дальнем, восточном конце: в них вливаются потоки света. А в западном конце зала возвышение, и на нем темно-коричневое резное судейское кресло, и за ним портрет, а справа и слева и в глубине зала — скамьи, ряды скамей, каждый последующий ряд немного выше предыдущего, и все сплошь заполнены народом, и в проходах между ними всюду тесно стоят люди. Когда Клайд вошел, все подались вперед, вытянули шеи, и в него впились десятки колючих, пытливых глаз, и по залу прошел гул. Он слышал это жужжание и шушуканье, проходя мимо скамей к свободному пространству в передней части зала: там за столом сидели Белнеп и Джефсон и между ними стоял незанятый стул для него. Всем существом он ощущал вокруг бесчисленные чужие глаза и лица, и ему не хотелось на них смотреть. Как раз напротив, за другим столом, ближе к возвышению, на котором стояло судейское кресло, сидели Мейсон и еще несколько человек; Клайд узнал Эрла Ньюкома и Бэртона Бэрлея; с ними был какой-то человек, которого он прежде никогда не видел. Когда Клайд вошел, все четверо обернулись и внимательно посмотрели на него. Эту группу кольцом окружали репортеры и фотографы — мужчины и женщины. Немного погодя Клайд вспомнил совет Белнепа, выпрямился и с деланно непринужденным видом (эта напускная непринужденность плохо сочеталась с его напряженным бледным лицом и неуверенным взглядом) посмотрел в сторону репортеров, которые либо разглядывали его, либо делали зарисовки. Он даже шепнул: «Полно народу!» Но тут, прежде чем он успел еще что-нибудь сказать, где-то раздались два громких удара и затем возглас: «К порядку! Суд идет! Прошу встать!» И разом шепот и движение в зале сменились глубокой тишиной. С южной стороны возвышения отворилась дверь и вошел рослый человек изысканной внешности, с цветущим, свежевыбритым лицом, облаченный в широкую черную мантию; он быстро направился к большому креслу за судейским столом, пристально посмотрел на всех присутствующих, но, казалось, не увидел никого в отдельности и опустился в кресло. И тогда все в зале сели. Потом из-за столика, стоящего перед возвышением левее судейского стола, поднялся человек постарше, пониже ростом и провозгласил: — Внимание, внимание! Все лица, привлекаемые к разбору настоящего дела в Верховном суде штата Нью-Йорк, округ Катараки, приблизьтесь и слушайте! Заседание суда открывается! Через несколько мгновений этот человек — секретарь суда — снова встал и объявил: — Штат Нью-Йорк против Клайда Грифитса!.. Тотчас из-за стола встал Мейсон и провозгласил: — Народ готов. После чего встал Белнеп и с изящным, учтивым поклоном заявил: — Ответчик готов. Затем секретарь суда опустил руку в квадратный ящик, стоявший перед ним на столе, и, вытащив оттуда листок бумаги, громко прочитал: — Саймон Динсмор! Маленький горбатый человечек в коричневом костюме, с руками, похожими на клещи, и с мордочкой хорька, рысцой подбежал к скамье присяжных и уселся. К нему сейчас же подошел Мейсон (его лицо с приплюснутым носом сегодня казалось особенно грозным, а громкий голос был слышен в самых дальних уголках зала) и стал забрасывать его вопросами: сколько лет? чем занимается? женат? сколько детей? признает ли смертную казнь? Клайд сразу заметил, что последний вопрос пробудил в присяжном не то злобу, не то какое-то подавленное волнение: он быстро и с ударением ответил: — Еще как признаю — для некоторых! Этот ответ вызвал у Мейсона легкую улыбку, а Джефсон обернулся и посмотрел на Белнепа; тот иронически пробормотал: — А говорят, что тут возможен справедливый суд. Но Мейсон и сам почувствовал, что честный фермер чересчур подчеркивает свое уже сложившееся мнение, и заявил: — С дозволения суда народ освобождает кандидата в присяжные. Белнеп, встретив вопросительный взгляд судьи, кивнул в знак согласия, и фермер был на сей раз освобожден от обязанностей присяжного. А клерк сразу же достал из ящика другой листок бумаги и провозгласил: — Дадлей Ширлайн! Высокий худой человек, лет тридцати восьми — сорока, опрятно одетый, педантичный и осторожный, подошел и занял место на скамье присяжных. И Мейсон стал задавать ему те же вопросы, что и первому. Тем временем Клайд вопреки всем наставлениям Белнепа и Джефсона уже впал в оцепенение и сидел похолодевший и безжизненный. Он чувствовал, что вся эта публика ему глубоко враждебна. Его бросило в дрожь при мысли, что среди этой массы людей должны быть и отец и мать Роберты, а может быть, и ее сестры и братья… они смотрят на него и от души надеются (об этом несколько недель кряду твердили газеты), что он понесет наказание за все… А те, кто встречался с ним в ликургском обществе и на Двенадцатом озере, — ни один из них не счел нужным как-либо снестись с ним, ведь все они, разумеется, убеждены в его виновности, — пришел ли сюда кто-нибудь из них? Например, Джил, Гертруда или Трейси Трамбал? Или Вайнет Фэнт и ее брат? Вайнет была в лагере на Медвежьем озере в тот день, когда его арестовали. Клайд перебирал в памяти всех этих светских людей, с которыми он встречался в последний год и которые теперь могли увидеть его вот таким — бедным, ничтожным, покинутым, обвиненнымв страшном преступлении. И это после всех его россказней о богатой родне здесь и на Западе! Теперь все они, конечно, считают его чудовищем. Ведь они знают только о его преступном замысле, и им нет дела до того, что он пережил… им неизвестны его тревоги и страхи, безвыходное положение, в котором он оказался из-за Роберты, его любовь к Сондре, и все, что она для него значила. Они этого не поймут, да ему и не дадут ничего сказать об этом, если бы он даже и захотел. И все же надо, как советовали Белнеп и Джефсон, сидеть прямо и улыбаться или по крайней мере спокойно и смело встретить устремленные на него взгляды. Итак, он выпрямился — и на минуту окаменел. Боже, какое сходство! Налево от него на скамье сидела молодая женщина или Девушка, казавшаяся живым портретом Роберты. Конечно, это ее сестра Эмилия, — Роберта о ней часто говорила… но какой ужас! Его сердце едва не остановилось. Может быть, это Роберта? И она пронизывает его призрачным и в то же время живым, гневным, обвиняющим взглядом. А рядом — еще одна девушка, тоже немного похожая на Роберту, и рядом с нею старик, отец Роберты, — тот морщинистый старик, которого Клайд видел в день, когда зашел к нему на ферму спросить о дороге. Теперь он чуть ли не с яростью смотрит на Клайда серыми измученными глазами, и взгляд этот ясно говорит: «Убийца! убийца!» А подле него кроткая, маленькая, болезненная женщина лет пятидесяти, под вуалью. Лицо у нее в морщинах, и глаза ввалились; встретив взгляд Клайда, она опустила глаза и отвернулась, словно испытывая острую боль, но не ненависть. Ее мать, вне всякого сомнения. Как это ужасно! Немыслимо тяжело! Сердце Клайда стучало неровно, руки тряслись. Стараясь овладеть собой, он опустил глаза вниз, на руки Белнепа и Джефсона, лежавшие перед ним на столе; адвокаты поигрывали карандашами над раскрытыми блокнотами и смотрели на Мейсона и на очередного кандидата в присяжные (на сей раз это был какой-то толстяк с глуповатым лицом). Какие разные руки у Белнепа и Джефсона! Такие холеные, белые, с короткими пальцами у одного — и такие смуглые, узловатые и костлявые, с длинными пальцами у другого. Мягко и вежливо Белнеп произносит: «Я просил бы кандидата покинуть скамью присяжных», — и совсем по-другому, как выстрел, звучит отрывистый голос Мейсона: «Освобожден!» — или медлительный, но властный шепот Джефсона: «Спровадьте-ка его, Элвин. Он нам не подходит». И вдруг Джефсон обращается к Клайду: — Выше голову, Клайд! Посмотрите кругом! Не гнитесь в три погибели. Смотрите людям в глаза! И улыбайтесь естественно, раз уж вы хотите улыбнуться. Смотрите им прямо в лицо. Они ничего с вами не сделают. Это просто фермеры, пришедшие поглазеть на занятное зрелище. Но Клайд сразу заметил, что несколько репортеров и художников, изучая его, делают наброски и заметки, — и кровь хлынула ему в лицо, потому что он ощущал на себе их пронзительные взгляды и так же отчетливо слышал их едкие слова, как и скрип их перьев. И все это для газет — его побледневшее лицо, дрожащие руки, — от этих людей ничто не укроется… и его мать в Денвере и все в Ликурге прочтут и увидят… узнают, как он посмотрел на Олденов и как они посмотрели на него, а он не выдержал и отвел глаза. И все же… все же… надо взять себя в руки, выпрямиться, посмотреть вокруг, иначе Джефсон будет его презирать. И Клайд снова постарался овладеть собой и побороть страх; он поднял голову и осмотрелся. И сейчас же он увидел у стены, рядом с высоким окном, того, кого боялся увидеть, — Трейси Трамбала; очевидно, он заинтересовался этим делом как юрист, а может быть, его привело сюда просто любопытство или что угодно еще, только, конечно, не жалость и не сочувствие к Клайду, — но сегодня, во всяком случае, он был в зале суда; к счастью, в эту минуту он смотрел не на Клайда, а на Мейсона, который задавал какие-то вопросы толстому присяжному. А рядом с Трейси — Фредди Сэлс; близорукие глаза его были скрыты за сильными очками с толстыми стеклами, и он смотрел в сторону Клайда, но, должно быть, не видел его, — во всяком случае, ничем не показал, что видит. О, какая пытка!» А в пятом ряду от них, с другой стороны, — мистер и миссис Гилпин, которых, разумеется, отыскал Мейсон. Но что они могут показать? Что он бывал у Роберты в ее комнате, которую она у них снимала? И что это делалось тайно? Это, конечно, скверно. И еще мистер и миссис Ньютон! Чего ради их вызвали свидетелями? Пожалуй, чтобы они рассказали, как жила Роберта до встречи с ним? И эта Грейс Марр, — он ее часто видел мимоходом, но говорил с нею, в сущности, только раз, на озере Крам; Роберта ее совсем не любила. Что она скажет? Конечно, она может рассказать, как он познакомился с Робертой, но что еще? А за ними — нет, не может быть! — и все же… да… конечно, это Орин Шорт, тот самый, от которого он узнал о докторе Глене. Ну и ну! Шорт, пожалуй, расскажет об этом… без сомнения, расскажет. Как люди ухитряются все помнить! Ему и в голову не приходило, что так будет. А вот, немного ближе третьего окна отсюда, но дальше, чем эта ужасная семья Олденов, — громадный бородатый человек, похожий на квакера былых времен, ставшего бандитом; его зовут Хейт. Он допрашивал Клайда в Бухте Третьей мили и потом в тот день, когда его против воли возили на озеро Большой Выпи. Да, это следователь. А рядом — хозяин гостиницы, заставивший тогда Клайда записаться в книге приезжающих. И лодочник, у которого Клайд нанял лодку. И высокий, тощий проводник, который вез их с Робертой со станции Ружейной на озеро Большой Выпи, — смуглый, жилистый, грубый парень; теперь он уставился на Клайда своими маленькими, глубоко сидящими звериными глазами. Он наверняка расскажет все подробности их поездки к озеру. Вспомнит ли он нервозность Клайда в тот день и его нелепые выходки так же ясно, как помнит сейчас сам Клайд? И если вспомнит, как это повлияет на версию о нравственном переломе, который он пережил? Не поговорить ли об этом еще раз с Джефсоном? Но Мейсон, Мейсон! Какой он упрямый! Какой энергичный! Сколько труда он должен был положить на то, чтобы собрать сюда всех этих людей — всех, кто может свидетельствовать против Клайда! И вот сейчас, когда Клайд взглянул на него, он заявляет (наверно, уже в десятый раз, но без особых результатов, так как скамья Присяжных все еще пустует): — Приемлем для народа! И неизменно при этих словах Джефсон слегка поворачивается в сторону Белнепа и, не глядя на него, говорит: — Не подходит нам, Элвин. Сух и неподатлив. Тогда Белнеп мягко и вежливо дает отвод присяжному — и почти всегда успешно. Потом наконец — какое облегчение! — клерк громко, пронзительным старческим голосом объявляет перерыв до двух часов дня. И Джефсон, улыбаясь, говорит: — Ну вот, Клайд, это первый раунд. Не так уж сложно и не так страшно, правда? А теперь подите и основательно пообедайте, хорошо? После перерыва все будет так же длинно и скучно. Тем временем Краут, Сиссел и остальные конвоиры подошли ближе и окружили Клайда. И снова — толпа, давка, возгласы: «Вот он! Вот он идет! Вот, вот!» Рослая толстая женщина пробралась почти вплотную к нему и крикнула ему прямо в лицо: «Дайте мне поглядеть на него! Я хочу хорошенько разглядеть вас, молодой человек! У меня тоже есть две дочки». Но никто из его знакомых из Ликурга и с Двенадцатого озера, которых он заметил среди публики, не подошел к нему. И, конечно, нигде не было видно Сондры. Белнеп и Джефсон не раз уверяли его, что она не появится на суде. Даже ее имя не будет упомянуто, если это окажется возможным. И Грифитсы и Финчли против того, чтобы на нее ссылаться.Глава 86
Пять долгих дней потратили Мейсон и Белнеп на подбор присяжных. Но наконец двенадцать человек, которым предстояло судить Клайда, принесли присягу и заняли свои места. Все это были люди старые и седые, загорелые и морщинистые — фермеры, деревенские лавочники и среди них — агент по продаже автомобилей Форда, владелец гостиницы на озере Диксон, продавец из мануфактурного магазина Хомбургера в Бриджбурге и разъездной страховой агент, постоянно проживающий в Нардэй, что к северу от Лугового озера. И все, за одним лишь исключением, женатые. И все, за одним лишь исключением, люди если и не слишком нравственные, то по крайней мере религиозные, и все — уже заранее убежденные в виновности Клайда. Однако почти все они считали себя людьми честными и объективными, и все очень хотели заседать в качестве присяжных на таком волнующем процессе, а потому не сомневались, что сумеют справедливо и беспристрастно отнестись к фактам, которые будут предложены их вниманию. Итак, все они принесли присягу. И тотчас поднялся Мейсон. — Господа присяжные!.. — начал он. А Клайд, так же как и Белнеп и Джефсон, смотрел на них и спрашивал себя, какое впечатление произведет вступительная речь Мейсона, ибо при существующих особых обстоятельствах нельзя было бы подыскать более энергичного и наэлектризованного обвинителя. Это для него такой счастливый случай! Разве не обращены на него взоры всех граждан Соединенных Штатов? Он полагал, что так оно и есть. Словно некий режиссер вдруг воскликнул: «Свет! Съемка!» — Несомненно, — начал Мейсон, — на протяжении прошлой недели многих из вас утомляла, а порою и озадачивала величайшая тщательность, с какою представители защиты и обвинения перебирали кандидатов, из числа которых вы избраны. Было нелегко найти двенадцать человек, на чье рассмотрение могли бы быть представлены все обстоятельства этого поразительного дела, — обстоятельства, которые вам надлежит взвесить со всей справедливостью и пониманием, каких требует закон. Что касается меня, джентльмены, то, проявляя такую тщательность, я был движим лишь одним побуждением, думал лишь об одном: чтобы свершилось правосудие! Мною не руководили ни злоба, ни какие-либо предубеждения. Вплоть до девятого июля сего года я лично даже не подозревал ни о существовании подсудимого или его жертвы, ни о преступлении, в котором он ныне обвиняется. Но, джентльмены, как ни велики были вначале мое изумление и недоверие, когда я услышал, что человек такого возраста, с таким воспитанием и связями оказался в положении подсудимого, обвиняемого в подобном преступлении, — постепенно я вынужден был изменить свое мнение. Мне пришлось навсегда отбросить свои первоначальные сомнения и на основании массы доказательств, которые буквально сыпались на меня, прийти к выводу, что мой долг выступить от имени народа обвинителем по этому делу. Но как бы то ни было, перейдем к фактам. Две женщины замешаны в этом деле. Одна мертва, имя другой (он обернулся в сторону Клайда и указал на сидевших рядом с ним Белнепа и Джефсона), по соглашению между обвинением и защитой, не будет здесь названо, ибо не следует причинять напрасные страдания. В самом деле, я могу заверить вас, что каждым своим словом и каждым фактом, который я здесь изложу, обвинение будет преследовать единственную цель: добиться того, чтобы свершилось истинное правосудие в соответствии с преступлением, в котором обвиняется подсудимый, и с законами нашего штата. Истинное правосудие, джентльмены, истинное и справедливое. Но если вы не будете действовать честно и не вынесете надлежащего приговора в соответствии с обстоятельствами дела, вы нанесете народу штата Нью-Йорк и народу округа Катараки серьезное оскорбление. Ибо народ надеется на вас и ждет от вас тщательно обдуманного решения. Тут Мейсон помолчал минуту и затем, став в трагическую позу, повернулся к Клайду и, время от времени указывая на него пальцем, продолжал: — Народ штата Нью-Йорк обвиняет (он так произнес это слово, точно хотел, чтобы в нем зазвучали раскаты грома) сидящего здесь на скамье подсудимых Клайда Грифитса в том, что он совершил убийство с заранее обдуманным намерением. Народ обвиняет его в том, что он, прибегнув к помощи обмана, умышленно, со злобой и жестокостью, убил Роберту Олден, дочь фермера, который уже много лет живет близ городка Бильц в округе Маймико, и затем пытался навеки скрыть от людей и от земного правосудия тело убитой. Народ обвиняет названного Клайда Грифитса (тут Клайд, повинуясь шепоту Джефсона, возможно более невозмутимо стал смотреть в лицо Мейсону, который глядел прямо на него) в том, что он, прежде чем совершить преступление, неделями строил свои коварные планы, а затем обдуманно и хладнокровно их осуществил. Предъявляя эти обвинения, народ штата Нью-Йорк готов представить вам доказательства по каждому из них. Вам будут сообщены факты, и этим фактам вы, а не я, должны стать единственными судьями. Он вновь умолк, переменил позу, пока нетерпеливые слушатели теснились и подавались вперед, жадно ожидая каждого его слова; поднял руку, театральным жестом откинул назад свои вьющиеся волосы и снова заговорил: — Джентльмены, мне не придется долго рассказывать, — вы сами, слушая это дело, не преминете убедиться в том, что представляла собою девушка, чья жизнь так жестоко оборвалась в водах озера Большой Выпи. За все двадцать лет ее жизни (Мейсон хорошо знал, что Роберте минуло двадцать три года и что она была двумя годами старше Клайда) никто из знавших ее не мог сказать о ней ни одного дурного слова. И ничего плохого о ней, я уверен, мы не услышим здесь, на суде. Немногим больше года назад, девятнадцатого июля, она переехала в Ликург, чтобы своим трудом добывать средства для помощи семье. (Тут весь зал услышал рыдания родителей, сестер и братьев Роберты.) — Джентльмены… — продолжал Мейсон и самым подробным образом описал жизнь Роберты, начиная с того времени, когда она покинула родной дом и поселилась с Грейс Марр, и до той поры, как она встретилась с Клайдом на озере Крам и порвала с подругой и со своими покровителями Ньютонами, подчиняясь требованию Клайда, пожелавшего, чтобы она жила одна среди чужих людей. Мейсон рассказал о том, как она скрывала от родителей истинные причины этого подозрительного переселения и как в конце концов поддалась коварным уговорам Клайда. Ее письма к нему из Бильца позволили подробно проследить весь ход событий. Потом так же тщательно и подробно Мейсон рассказал о Клайде, о его увлечении «высшим светом» Ликурга и особенно богатой и красивой мисс X, которая, заинтересовавшись им, по своей невинности и доброте позволила ему надеяться, что он может добиться ее руки, и невольно пробудила в нем страсть, ставшую причиной внезапной перемены в его чувствах к Роберте; это в результате и привело (Мейсон уверял, что докажет это) к преступному замыслу и затем к смерти Роберты. — Но кто этот субъект, — вдруг самым трагическим тоном воскликнул Мейсон, — которому я предъявляю все эти обвинения? Вот он сидит перед вами. Быть может, он сын опустившихся родителей, отродье городских трущоб, и ему негде было получить надлежащее представление о долге, об обязанностях, без которых немыслима приличная и достойная жизнь? Таков ли он? Напротив! Его отец принадлежит к тому же семейству, которое создало в Ликурге одно из самых крупных и значительных предприятий — фирму «Грифитс и Компания, воротнички и рубашки». Этот молодой человек был беден — да, без сомнения, но не беднее Роберты Олден, а на ее характер бедность явно не оказала пагубного влияния. Его родители в Канзас-Сити, в Денвере, а перед этим в Чикаго и Грэнд-Рэпидс, в штате Мичиган, вели, видимо, жизнь пастырей душ, хотя и не имели сана: они проповедовали и руководили миссиями; по собранным мною сведениям, это люди подлинно, глубоко верующие и порядочные во всех отношениях. Но он, их старший сын, который, казалось бы, должен был вдохновляться этим примером, рано отвернулся от их мира и пристрастился к более легкомысленной жизни. Он стал рассыльным в знаменитом отеле «Грин-Дэвидсон» в Канзас-Сити. И Мейсон стал доказывать, что Клайд всегда был перекати-полем, бродягой, которому, быть может, в силу какой-то особенности его натуры, вечно не сидится на одном месте. Позднее, рассказывал далее Мейсон, Клайд занял пост заведующего отделением на хорошо известной фабрике своего дяди в Ликурге. Постепенно он получил доступ в то общество, к которому принадлежат его здешние родственники. Его жалованье позволяло ему снять комнату на одной из лучших улиц города, в то время как девушка, которую он убил, ютилась в жалкой каморке на глухой окраине. — До сих пор, — говорил Мейсон, — почему-то усиленно преувеличивали молодость подсудимого. (Тут он позволил себе презрительно улыбнуться.) И его защитники и газеты снова и снова называли его мальчиком. Но он не мальчик. Он взрослый мужчина. В смысле общественных возможностей и воспитания у него было больше преимуществ, чем у любого из вас, сидящих на скамье присяжных. Он путешествовал. В отелях и клубах, в ликургском обществе, с которым он был связан столь тесными узами, он встречался с порядочными, достойными и даже выдающимися, замечательными людьми. Ведь в момент ареста, два месяца тому назад, он находился в самом изысканном обществе, в компании светской молодежи, приехавшей в наши места на летний сезон. Запомните это! Он обладает зрелым, отнюдь не детским умом. Это ум вполне развитой и прекрасно уравновешенный. — Джентльмены, — продолжал он, — как скоро докажет вам обвинение, всего через четыре месяца после приезда обвиняемого в Ликург девушка, ставшая его жертвой, начала работать на фабрике в том отделении, которое он возглавлял. И не более как два месяца спустя он уговорил ее переехать от почтенных и богобоязненных людей, у коих она поселилась в Ликурге, в дом, о котором ей ничего не было известно. Главное преимущество ее нового жилища, с точки зрения обвиняемого, заключалось в том, что здесь он мог в тайне и уединении, не опасаясь чьего-либо надзора, преследовать свои гнусные цели в отношении этой девушки. На фабрике компании «Грифитс» — мы вам это позднее докажем — существует одно правило, которое объясняет многое в этом деле: никто из высших служащих или заведующих цехами и отделениями не должен вступать в какие-либо внеслужебные отношения с подчиненными ему девушками и вообще с работницами фабрики ни в ее стенах, ни вне их. Такие отношения могли бы неблагоприятно отразиться на нравах и репутации служащих этого замечательного предприятия и потому запрещаются. Вскоре после того, как обвиняемый пришел на фабрику, его ознакомили с указанным правилом. Но удержало ли это его? Удержали ли его хоть в какой-то мере покровительство и внимание, столь недавно оказанные ему дядей? Ничуть не бывало! Обман! С самого начала — обман! Обольщение — вот его цель! Тайное, преднамеренное, безнравственное и беззаконное, недопустимое и осуждаемое обществом сожительство вне священных, облагораживающих уз брака. Такова была его цель, джентльмены! Но знал ли хоть кто-нибудь в Ликурге или где бы то ни было, что его и Роберту Олден связывали подобные отношения? Ни одна душа! Ни одна душа, насколько я мог установить, не имела даже отдаленного представления об этой связи, пока девушка не погибла. Ни одна душа! Подумать только! Господа присяжные! — Тут в голосе Мейсона послышалось чуть ли не благоговение. — Роберта Олден любила подсудимого всеми силами своей души. Она любила его той любовью, что составляет высшую тайну человеческого разума и человеческого сердца и в своей силе и в своей слабости способна презреть страх стыда и даже небесной кары. Это была девушка чистосердечная, скромная, добрая и преданная, девушка страстная и любящая. И она любила, как может любить только благородная, доверчивая и самоотверженная душа. И так любя, она в конце концов отдала ему все, что может отдать женщина любимому человеку. Друзья мои, это случалось миллионы раз в нашем мире, и это случится еще миллионы раз в грядущие дни. Это не ново — и никогда не устареет. Но в январе или феврале эта девушка, которая ныне покоится в могиле, вынуждена была прийти к подсудимому Клайду Грифитсу и сказать ему, что она должна стать матерью. Мы докажем вам, что и тогда и позже она умоляла его уехать с нею и обвенчаться. Но исполнил ли он ее просьбу? Собирался ли исполнить? О нет! Ибо к этому времени в мечтах и чувствах Клайда Грифитса произошла перемена. Он успел узнать, что имя Грифитс в Ликурге открывает доступ в самый избранный круг и что тот, кто был ничтожеством в Канзас-Сити или в Чикаго, здесь — видная особа и может завязывать знакомства с богатыми и образованными девушками, вращающимися в сферах, бесконечно далеких от той среды, к которой принадлежала Роберта Олден. Более того: он нашел девушку, которая совершенно пленила его своей красотой, богатством, положением в обществе, — рядом с нею скромная фабричная работница, дочь фермера, в своей убогой одинокой каморке, где он сам ее поселил, казалась, конечно, жалкой! Она была достаточно хороша для любовной интрижки, но не для брака. И он не пожелал на ней жениться. Мейсон умолк на мгновение, потом продолжал: — Однако я не мог найти ни малейшей перемены в жизни Клайда Грифитса, и его страсть к светским развлечениям ничуть не уменьшилась. Напротив, с января месяца и до пятого июля и даже после, — да, даже после того, как она принуждена была в конце концов сказать ему, что, если он не увезет ее и не женится на ней, она обратится к чувству справедливости тех, кто знал и ее и Клайда, и даже после того, как она, холодная и безжизненная, обрела вечный покой на дне озера Большой Выпи, — он только и знал, что танцы, пикники, автомобильные экскурсии, званые обеды, увеселительные прогулки на Двенадцатое озеро, на Медвежье озеро… По-видимому, ему и в голову не приходило, что положение, в котором оказалась мисс Олден перед богом и людьми, обязывает его как-то изменить свое поведение. Мейсон замолчал и посмотрел в сторону Белнепа и Джефсона, а они, не слишком расстроенные или озабоченные, только улыбнулись — сперва ему, а затем и друг другу; но Клайд, напуганный гневной страстностью этой речи, с тревогой думал о том, сколько в ней преувеличений и несправедливостей. Мейсон прервал его размышления. — Итак, джентльмены, — вновь заговорил он, — как я уже сказал, Роберта Олден стала настаивать, чтобы Клайд Грифитс на ней женился. И он ей это обещал. Однако вы увидите — это явствует из всех имеющихся данных, — что он отнюдь не собирался выполнить свое обещание. Наоборот, когда ее положение стало таким, что он не мог дольше выносить ее жалоб и мириться с опасностью, которую, бесспорно, представляло для него ее пребывание в Ликурге, он убедил ее уехать домой, к родителям, очевидно, под тем предлогом, что ей следует сшить себе кое-что из одежды к тому времени, как он приедет за ней и увезет ее в какой-нибудь отдаленный город, где их никто не знает и где она уже в качестве его жены сможет достойно дать жизнь их ребенку. Судя по ее письмам к нему — я вам их покажу, — он должен был приехать за ней через три недели после ее отъезда домой, в Бильц. Но приехал ли он, как обещал? Нет, он этого не сделал. В конце концов — и лишь потому, что другого выхода не было, — он позволил ей приехать к нему шестого июля, ровно за два дня до ее смерти. Не прежде, чем… но об этом после! Тем временем в период между пятым июня и шестым июля он оставил ее тосковать на этой маленькой, заброшенной ферме неподалеку от Бильца, в округе Маймико, где она с помощью соседок шила себе кое-какие платья, которые даже теперь не смела назвать своим приданым. Она подозревала, что он бросит ее, и боялась этого. И вот ежедневно, а иногда и дважды в день она пишет ему, делится своими страхами и умоляет его письмом или хоть словом подтвердить, что он действительно приедет и увезет ее. Но что же, исполнил он ее просьбу? Ни одного письма. Ни одного! О нет, джентльмены, нет! Вместо этого несколько разговоров по телефону: их было не так просто проследить и понять. Но и эти разговоры происходили так редко, урывками, что она горько жаловалась на его невнимательность, на отсутствие интереса к ней в это время. В конце этих пяти недель, придя в отчаяние, она даже написала ему так (тут Мейсон вынул из пачки, лежащей перед ним на столе, одно письмо и прочитал): «Предупреждаю тебя, что, если я не дождусь от тебя телефонного звонка или письма до полудня пятницы, я приеду в Ликург в тот же вечер, и все узнают, как ты со мной поступил». Вот те слова, джентльмены, которые принуждена была в конце концов написать бедная девушка. Но хотел ли Клайд Грифитс, чтобы все узнали, как он с нею поступил? Ну, конечно, нет! И вот тогда-то у него зародился план, при помощи которого он думал избежать разоблачения и навсегда наложить печать молчания на уста Роберты Олден. И, джентльмены, обвинение докажет вам, что он действительно закрыл ей рот. И тут Мейсон развернул специально заготовленную карту Адирондакских гор, на которой красными чернилами был отмечен путь Клайда до и после смерти Роберты — вплоть до того часа, когда его арестовали на Медвежьем озере. При этом он стал объяснять присяжным тщательно обдуманный план Клайда, рассчитанный на то, чтобы замести следы: рассказал о записи в гостиницах под вымышленными именами, о двух шляпах, а также о том, что от Фонды до Утики и затем от Утики до Лугового озера Клайд и Роберта ехали в разных вагонах. — Не забывайте вот о чем, джентльмены, — заявил далее Мейсон. — Хотя подсудимый прежде и говорил с Робертой об этой поездке как о свадебном путешествии, он не желал, чтобы кто-либо узнал, что он путешествует в обществе своей невесты, — не желал тогда, когда они приехали на озеро Большой Выпи. Ибо он собирался не жениться, а отыскать глухое, пустынное место, где он мог бы погасить, как свечу, жизнь опостылевшей ему девушки. Но помешало ли это ему за сутки и за двое суток до убийства держать ее в объятиях и повторять обещания, которые он вовсе не собирался исполнить? Помешало ли? Я покажу вам регистрационные записи в двух гостиницах, где они останавливались, занимая вдвоем одну комнату, так как предполагалось, что не сегодня-завтра они поженятся. Но эта поездка длилась не одни, а двое суток единственно потому, что подсудимый ошибся, рассчитывая на безлюдность Лугового озера. Убедившись, что это место очень оживленное, центр сектантской летней колонии, он решил направиться на более уединенное озеро Большой Выпи. И вот, джентльмены, пред вами невероятное и жестокое зрелище: будто бы ни в чем не виноватый и весьма ложно понятый молодой человек таскает усталую девушку с измученной душой с места на место, отыскивая озеро, достаточно безлюдное для того, чтобы можно было ее утопить. И это, когда ей остается всего четыре месяца до материнства! А потом, приехав, наконец, на пустынное озеро, он уводит ее из гостиницы, где он опять-таки записался под вымышленной фамилией как Клифорд Голден с женой, сажает ее в лодку и везет на смерть. Бедняжка воображала, что отправляется на короткую прогулку перед свадьбой, о которой он ей говорил и которая должна была скрепить и освятить их отношения. Скрепить и освятить все! Скрепить и освятить, как скрепляют и освящают сомкнувшиеся над головою волны, но не иначе… не иначе! А он ушел, невредимый и коварный, словно волк, насытившийся своей жертвой… Он шел к свободе, к браку с другой, к вершинам общественного и материального благополучия, любви и счастья, тогда как она, бездыханная и безымянная, уснула вечным сном в своей водяной могиле. Но, джентльмены, неисповедимы пути бытия, пути господни, и провидение направляет наши судьбы, как угодно ему, невзирая на все наши усилия. Поистине человек предполагает, но один только бог располагает! Обвиняемый, конечно, удивлен: откуда мне известно, что, даже уходя из гостиницы на озере Большой Выпи, она еще думала о близкой свадьбе? Без сомнения, он тешит себя мыслью, что на самом деле я не могу этого знать. Но каким же прозорливым и глубоким умом надо было бы обладать, чтобы предвидеть и предупредить все случайности и возможности! Вот он сидит здесь, уверенный, что его адвокаты помогут ему благополучно спастись от наказания. (При этих словах Клайд напряженно выпрямился, волосы зашевелились у него на голове и спрятанные под столом руки затряслись.) Он не знает, что эта девушка в номере гостиницы на Луговом озере написала своей матери письмо, но не успела его отправить, и оно лежало в кармане ее пальто, оставленного в гостинице, потому что в этот день было жарко и потому что она, конечно, надеялась вернуться. Это письмо здесь, у меня на столе. Зубы Клайда стали отбивать дробь. Он дрожал, как в ознобе. Да, верно, она оставила пальто в гостинице! Белнеп и Джефсон тоже насторожились, спрашивая себя, что это может значить. Неужели эта роковая случайность повредит обдуманному ими плану защиты или даже совсем его погубит? Им оставалось только ждать. — В этом письме, — продолжал Мейсон, — она объясняет, зачем она туда приехала. Чтобы обвенчаться — не больше и не меньше. (При этих его словах Джефсон и Белнеп, так же как и Клайд, вздохнули с величайшим облегчением: это было им на руку.) И обвенчаться очень скоро, через день или два, — продолжал Мейсон, все еще воображая, будто этим он заставляет Клайда буквально умирать от страха. — Но Голден или Грэхем из Олбани, или Сиракуз, или откуда там еще думал иначе. Он знал, что не вернется назад. И он взял с собою в лодку все свои пожитки. И весь долгий день, с полудня до вечера, он искал подходящего места на этом пустынном озере — такого места, которое трудно было бы заметить откуда-либо с берега, — это мы вам докажем. И в сумерки он нашел такое место. И потом, шагая по лесу на юг, с новой соломенной шляпой на голове и с чистым сухим чемоданом в руках, он считал себя в полной безопасности. Клифорда Голдена больше не было, и Карла Грэхема больше не было, — они утонули, они покоились на дне озера Большой Выпи вместе с Робертой Олден. Но Клайд Грифитс был жив и свободен и направлялся к Двенадцатому озеру, к тому обществу, которым он так дорожил. Джентльмены, Клайд Грифитс убил Роберту Олден прежде, чем бросил ее в воду. Он ударил ее по голове и по лицу и думал, что никто этого не видел. Но когда ее последний предсмертный крик прозвучал над водами Большой Выпи, там был свидетель, и, прежде чем обвинение скажет здесь свое последнее слово, этот свидетель предстанет перед вами и расскажет вам все. У Мейсона не было свидетеля — очевидца преступления, но он не мог устоять перед возможностью вызвать тревогу во вражеском лагере. И действительно, результат даже превзошел его ожидания. Клайд, который до сих пор, особенно после потрясающей вести о письме Роберты, старался переносить все с невозмутимым видом оскорбленной невинности, вдруг застыл — и потом весь съежился. Свидетель! Он даст показания! Господи! Значит, этот свидетель, кто бы он ни был, скрывался где-то на пустынном берегу озера… он видел тот нечаянный удар, слышал крики Роберты… видел, что Клайд не пытался ей помочь! Видел, как он поплыл к берегу, потом скрылся… и, может быть, следил за ним, когда он переодевался в лесу. Господи! Клайд вцепился руками в стул, голова его рывком откинулась назад, словно от сильного удара: ведь это значит смерть! Теперь его казнят! Господи! Больше нет надежды! Голова его бессильно поникла — казалось, он сейчас упадет в обморок. Белнепа заявление Мейсона сперва заставило уронить карандаш, которым он делал заметки; потом взгляд его стал растерянным и недоумевающим, ибо защите нечем было отразить подобный удар. Но он тотчас спохватился, что его поведение — верх неосторожности, и овладел собой. Неужели в конце концов Клайд им солгал? Неужели он убил ее умышленно и еще при каком-то не замеченном им свидетеле? Если так, то им необходимо найти повод отказаться от этого безнадежного и опасного для их репутации дела. Что касается Джефсона, то и он в первую минуту был ошеломлен и озадачен. В его крепкой голове, которая не так-то легко поддавалась потрясениям, мелькали обрывки мыслей: неужели действительно есть такой свидетель?.. И Клайд лгал? Тогда жребий брошен. Ведь он уже признался им, что ударил Роберту, и свидетель, наверно, это видел. И, значит, конец всем этим разговорам о внезапном душевном переломе. Кто в него поверит после такого свидетельского показания? Но Джефсон по натуре был слишком упрям и решителен, чтобы позволить себе сразу отступить перед сокрушительным заявлением прокурора. Он обернулся, посмотрел на растерянных, но уже устыдившихся собственной слабости Белнепа и Клайда и шепнул: — Я этому не верю. По-моему, он лжет, пытается нас запугать. Во всяком случае, подождем — увидим. Наш черед придет еще не скоро. Смотрите, сколько тут свидетелей. Мы будем вести перекрестный допрос неделями, если захотим, — до тех пор, пока не истечет срок его полномочий. Тут времени на тысячу дел — в частности, на то, чтобы выяснить, что это за свидетель. Притом есть еще и версия самоубийства, и то, что произошло на самом деле. Клайд покажет под присягой, как это было: впал в транс, не хватило мужества действовать… Едва ли кто-нибудь мог видеть этак на расстоянии пятисот футов. — Он хмуро улыбнулся и прибавил, но так, чтобы слышал один Белнеп; — Думаю, на худой конец мы сумеем добиться, чтоб он отделался двадцатью годами, как, по-вашему?Глава 87
А потом свидетели, свидетели, свидетели — сто двадцать семь человек. Их показания, особенно показания врачей, троих охотников и женщины, слышавшей последний крик Роберты, были многократно опротестованы Джефсоном и Белнепом, ибо от неточностей и ошибок, которые могли обнаружить адвокаты в этих показаниях, зависела правдоподобность смело задуманной зашиты Клайда. Ввиду всего этого процесс затянулся до ноября, когда Мейсон подавляющим большинством голосов был избран судьей, чего он так жаждал. И благодаря тому, что процесс проходил так бурно, в яростных спорах, он привлекал все больший интерес и внимание широкой публики по всей стране. С каждым днем, как сообщали репортеры из зала суда, становилось все яснее, что Клайд виновен. Однако, повинуясь настойчивым требованиям Джефсона, он встречал нападки каждого свидетеля обвинения спокойно и даже смело. — Ваше имя? — Тайтус Олден. — Вы отец Роберты Олден? — Да, сэр. — Итак, мистер Олден, расскажите присяжным, как и при каких обстоятельствах ваша дочь Роберта переехала в Ликург? — Заявляю протест. Не относится к делу, несущественно, неправомерно, — перебивает Белнеп. — Я свяжу это с делом, — вставляет Мейсон, глядя на судью, и тот решает, что Тайтус может ответить, но его ответ можно будет исключить из протокола, если он окажется «не относящимся к делу». — Она поехала в Ликург искать работу, — отвечает Тайтус. — А почему она поехала туда искать работу? Снова протест, снова выполняются все формальности, после чего старику позволяют продолжать. — Да вот, наша ферма около Бильца никогда по-настоящему не приносила дохода, и детям приходилось нам помогать, а Бобби была старшая… — Прошу исключить это из протокола! — Исключается. — Бобби — это уменьшительное имя, которым вы называли свою старшую дочь Роберту, не так ли? — Протестую… — и прочее. — Суд отклоняет протест защиты. — Да, сэр. Так мы ее иногда называли дома. Просто Бобби. Клайд внимательно слушал; не дрогнув, он выдержал суровый, обвиняющий взгляд этого угрюмого деревенского Приама и удивился: он впервые узнал уменьшительное имя своей бывшей возлюбленной. Он звал ее Бертой, и она никогда не говорила ему, что дома ее называли Бобби. И под перекрестным огнем протестов, споров, решений судьи старик Олден, руководимый Мейсоном, продолжал рассказывать, как Роберта, получив письмо от Грейс Марр, решила поехать в Ликург и поселиться у четы Ньютон, как она стала работать на фабрике Грифитсов и как редко с тех пор видели ее родные, пока пятого июня она не вернулась домой, чтобы отдохнуть и сшить себе несколько платьев. — Она не говорила, что собирается выйти замуж? — Нет. Но она писала длинные письма, — он тогда не знал кому — и все время была чем-то угнетена и не совсем здорова. Дважды он видел ее плачущей, но ничего не сказал, понимая, что она не хотела, чтобы это заметили. Несколько раз ее вызывали по телефону из Ликурга, в последний раз четвертого или пятого июля, за день до ее отъезда, — он это хорошо помнит. — А что она взяла с собой, когда уезжала? — Свой чемодан и сундучок. — И вы узнаете этот чемодан, если вам его показать? — Да, сэр. — Это он? (Один из помощников Мейсона принес чемодан и положил его на столик.) Олден взглянул на чемодан, вытер глаза кулаком и сказал: — Да, сэр. А затем — подобными драматическими эффектами Мейсон старался сопровождать весь ход процесса — принесли сундучок Роберты, и Тайтус Олден, его жена, дочери и сыновья — все расплакались при виде его. И после того, как Тайтус подтвердил, что это действительно сундучок Роберты, чемодан и сундучок были вскрыты. И платья, сшитые Робертой, кое-какое белье, туфли, шляпы, туалетный прибор, подаренный Клайдом, фотографии матери, отца, сестер и братьев, старая поваренная книга, ложки, вилки и ножи, солонки и перечницы — подарки бабушки, которые Роберта бережно хранила для предстоящей семейной жизни, — все это было пересмотрено и опознано. Это происходило вопреки протесту Белнепа, поскольку Мейсон обещал «связать» все с делом, — обещание свое он, впрочем, сдержать не смог, и соответственно судья распорядился изъять эти показания из протокола. Однако патетическая сцена произвела глубокое впечатление на умы и сердца присяжных. А Белнеп, критикуя тактические ухищрения Мейсона, добился лишь того, что сей джентльмен в ярости прогремел: — Хотел бы я знать, кто здесь ведет обвинение? — Республиканский кандидат на пост судьи нашего округа, я полагаю! — ответил Белнеп, вызвав этим взрыв хохота, и Мейсон, выйдя из себя, закричал: — Ваша честь! Я протестую! Это неэтичная и незаконная попытка примешать к делу совершенно не относящийся к нему политический вопрос. Это хитрое и злонамеренное стремление внушить присяжным, будто я, являясь кандидатом республиканской партии на пост судьи округа, не могу с надлежащим беспристрастием вести обвинение по данному делу. Я требую извинения и, пока не получу его, не сделаю ни шагу дальше! Судья Оберуолцер, сознавая, что произошло весьма серьезное нарушение судебного этикета, подозвал к себе Мейсона и Белнепа и, выслушав спокойные и вежливые объяснения последнего касательно того, что именно он хотел сказать, приказал, чтобы впредь ни один из них под страхом обвинения в неуважении к суду не допускал намеков на политическую обстановку в какой бы то ни было форме. Тем не менее Белнеп и Джефсон поздравляли себя с удачей: их умозаключение по поводу кандидатуры Мейсона и его стремления воспользоваться делом Клайда, чтобы выдвинуться, было таким образом доведено до сведения суда и присяжных. А затем еще и еще свидетели… Грейс Марр бойко и многословно рассказала о том, где и как она познакомилась с Робертов, в какая это была чистая, безгрешная и набожная девушка, и какая резкая перемена произошла с нею после встречи с Клайдом на озере Крам. Она стала скрытной, уклончивой, придумывала всякие лживые оправдания для каких-то необычайных похождений — например, уходила по вечерам из дому и возвращалась очень поздно, и говорила, что провела субботу и воскресенье там, где ее на самом деле не было, и, наконец, когда Грейс решилась высказать ей свое неодобрение, неожиданно уехала от них, не оставив даже своего адреса. И во всем этом был виноват мужчина, и этим мужчиной был Клайд Грифитс. Как-то вечером Грейс последовала за Робертой — это было в сентябре или октябре прошлого года — и увидела ее и Клайда неподалеку от дома Гилпинов. Они стояли под деревом, и Клайд обнимал ее. Тут, по предложению Джефсона, свидетельницей занялся Белнеп и, задавая хитроумнейшие вопросы, старался выяснить, действительно ли Роберта по приезде в Ликург была столь набожна и добродетельна, как изображает это мисс Марр. Но увядшая, раздражительная мисс Марр настойчиво утверждала, что, насколько ей известно, до того дня, как произошла встреча с Клайдом на озере Крам, Роберта была образцом правдивости и чистоты. И затем то же самое под присягой показали Ньютоны. А потом Гилпины — жена, муж и дочери — под присягой показывали то, что каждый из них сам видел и слышал. Миссис Гилпин вспомнила, когда и как Роберта переехала к ним с этим самым чемоданом и сундучком, как замкнуто и одиноко она жила и как, наконец, она, миссис Гилпин, жалея девушку, стала приглашать ее к себе, чтобы дать ей возможность немного развлечься, однако Роберта неизменно отказывалась. Но потом в конце ноября (правда, у миссис Гилпин так и не хватило мужества хоть раз заговорить об этом с такой милой и скромной девушкой) она и обе ее дочери убедились, что изредка, после одиннадцати часов, Роберта принимает кого-то у себя в комнате, но кто это был, миссис Гилпин не знает. И опять Белнеп при перекрестном допросе старался добиться таких признаний и сведений, которые давали бы понять, что Роберта была не такой уж безупречной пуританкой, какою изображали ее свидетели, — но это ему не удалось. Миссис Гилпин, так же как и ее муж, была очень привязана к Роберте, и только под давлением Мейсона, а потом и Белнепа они рассказали о поздних визитах Клайда. Потом их старшая дочь Стелла показала, что в конце октября или в начале ноября, вскоре после того, как Роберта поселилась у них, она (Стелла), возвращаясь домой, увидела Роберту с каким-то человеком — теперь она видит, что это был Клайд: они стояли в сотне шагов от дома и, по-видимому, ссорились. Она замедлила шаги и прислушалась. Всего она не могла расслышать, но наводящие вопросы Мейсона помогли ей припомнить что Роберта не хотела, чтобы он зашел к ней в комнату. «Это было бы нехорошо», — говорила она. И он в конце концов круто повернулся и ушел, а Роберта стояла с протянутыми руками, как бы умоляя его вернуться. А Клайд в изумлении только широко раскрывал глаза. Ведь в те дни, да, в сущности, и за все время своего знакомства с Робертой он воображал, что за ним никто не наблюдает. Этими показаниями, безусловно, подтверждались многие обвинения, высказанные Мейсоном в его вступительной речи: что он преднамеренно, вполне сознавая истинный смысл своих действий, убеждал Роберту поступить так, как она явно не хотела поступать. Такого рода показания наверняка восстановят против него и судью, и присяжных, и всех этих насквозь пропитанных условностями и предрассудками провинциалов, в большинстве сельских жителей. Белнеп, понимая это, попробовал сбить Стеллу и заставить ее усомниться в том, что она видела именно Клайда. Но ондобился лишь того, что она сообщила еще новые сведения: как-то в ноябре или в начале декабря, вскоре после изложенного ранее случая, она видела, как Клайд с какой-то коробкой под мышкой появился у дверей Роберты, постучался и вошел. Она ясно узнала в нем того самого молодого человека, который в ту лунную ночь ссорился с Робертой. После нее Уигэм и за ним Лигет подтвердили даты поступления на работу Клайда и Роберты, а также существование правила относительно взаимоотношений между начальниками и работницами. Они показали, что, насколько тогда можно было заметить, поведение и Клайда и Роберты было безукоризненно: они, казалось, даже и не смотрели друг на друга, а впрочем, не заглядывались и ни на кого другого (это заявил Лигет). А потом еще свидетели. Миссис Пейтон показала все, что знала о жизни Клайда в ее доме и о его светских знакомствах, поскольку она была о них осведомлена. По показаниям миссис Олден, в прошлом году на рождестве Роберта призналась ей, что ее начальник — Клайд Грифитс, племянник хозяина фабрики, — ухаживает за ней, но это пока должно оставаться тайной. Фрэнк Гарриэт, Харлей Бэгот, Трейси Трамбал и Фредди Сэлс показали, что в декабре минувшего года Клайда постоянно приглашали на различные званые обеды и вечера. Джон Ламберт, аптекарь из Скенэктеди, показал, что как-то в январе к нему обратился юноша — он видит, что это был обвиняемый, — с просьбой дать ему какое-нибудь средство, которое могло бы вызвать выкидыш. Орин Шорт показал, что в конце января Клайд спрашивал у него, не знает ли он врача, который мог бы помочь молодой замужней женщине, по словам Клайда, жене одного из служащих на фабрике Грифитса; этот служащий будто бы обратился за советом к Клайду, так как он и его жена слишком бедны, чтобы иметь ребенка. А потом доктор Глен рассказал о визите Роберты, которую он узнал по портретам, помещенным в газетах, но прибавил, что в силу профессиональной этики он не мог исполнить ее просьбы. А затем С.-Б.Уилкокс — фермер, сосед Олденов — показал, что примерно двадцать девятого или тридцатого июня, когда он как раз был на кухне, Роберту вызвал по междугородному телефону из Ликурга человек, который назвал себя Бейкером, и Уилкокс слышал, как она сказала ему: «Но, Клайд, я не могу ждать так долго. Ты же знаешь, я не могу. И не буду». И голос у нее был взволнованный и огорченный. Мистер Уилкокс хорошо запомнил имя «Клайд». А дочь этого самого Уилкокса, Этел, низенькая, толстая и шепелявая, присягнула, что перед этим именно она трижды отвечала на междугородные вызовы и потом бегала за Робертой, и каждый раз из Ликурга звонил мужчина по имени Бейкер. И один раз она слышала, что Роберта назвала его Клайдом. И еще слышала, как Роберта сказала, что ни в коем случае не станет ждать так долго, но что она имела в виду, Этел не поняла. А затем сельский почтальон Роджер Бин показал, что между седьмым или восьмым июня и четвертым или пятым июля он получил от самой Роберты и вынул из почтового ящика на перекрестке около фермы Олденов не меньше пятнадцати писем и что большинство их было адресовано Клайду Грифитсу, Ликург, главный почтамт, до востребования. А потом Эймос Шоуолтер, служащий ликургского главного почтамта, показал, что, насколько он припоминает, между седьмым или восьмым июня и четвертым или пятым июля Клайд справлялся у него о корреспонденции на свое имя и получил не меньше пятнадцати или шестнадцати писем. А за ним Р.-Т.Бигген, содержатель заправочной станции в Ликурге, показал, что утром шестого июля, около восьми часов, идя по Филдинг-авеню (улица на западной окраине города, ведущая к станции электрической железной дороги Ликург — Фонда), он увидел Клайда в сером костюме и соломенной шляпе, с коричневым чемоданом в руке; к чемодану сбоку был прикреплен ремнями желтый штатив фотографического аппарата и что-то еще, возможно, зонтик. Зная, где живет Клайд, он удивился, что тот пришел сюда пешком, хотя мог бы сесть на поезд на Сентрал-авеню, неподалеку от своего дома. При перекрестном допросе Белнеп стал допытываться, каким образом свидетель, находившийся на расстоянии примерно двухсот шагов от Клайда, может ручаться, что он видел именно штатив, но Бигген настаивал: да, штатив, ярко-желтый деревянный треножник с медными скрепами. А после него Джон У.Трошер, начальник станции Фонда, показал, что утром шестого июля (он ясно помнит это, так как делал тогда кое-какие деловые заметки) Роберта Олден взяла у него билет до Утики. Он помнит мисс Олден, потому что минувшей зимой видел ее несколько раз. Она казалась очень усталой, почти больной, и несла коричневый чемодан, как будто тот самый, который ему здесь показывали. Он припоминает и подсудимого, который также имел при себе чемодан. Трошер не видел, чтобы подсудимый обратил какое-либо внимание на девушку или говорил с нею. Потом Куинси Э.Дейл, кондуктор поезда, курсирующего между Фондой и Утикой, показал, что он узнает Клайда, которого заметил тогда в одном из задних вагонов. Он заметил также и Роберту и потом узнал ее по опубликованным в газетах фотографиям. Она тогда приветливо улыбнулась ему, а он сказал, что чемодан, пожалуй, тяжеловат для нее и что он велит кому-нибудь из тормозных кондукторов вынести его в Утике, и она поблагодарила. Он видел, что она сошла в Утике и скрылась в дверях вокзала. Клайда он там не заметил. А затем — опознавание сундучка Роберты, который долгое время оставался на хранении в багажной камере станции Утика. А затем — страница из книги, где записывались посетители отеля в Утике, опознанная управляющим отеля Джерри Керносяном; под датой шестого июля стояла запись: «Клифорд Голден с женой». Эксперты тут же сравнили эту запись с записями в регистрационных книгах гостиниц на Луговом озере и на Большой Выпи и под присягой показали, что все три записи сделаны одной и той же рукой. Потом этот почерк был сравнен с тем, которым была сделана надпись на визитной карточке, найденной в туалетном приборе Роберты. Эти улики были тщательно рассмотрены по очереди всеми присяжными, а также и Белнепом и Джефсоном, которые, впрочем, уже раньше видели все, кроме карточки. И снова Белнеп заявил протест в связи с сокрытием вещественного доказательства — недопустимым, незаконным и позорным поступком со стороны прокурора. Долгими ожесточенными пререканиями по этому поводу закончился десятый день судебного разбирательства.Глава 88
А на одиннадцатый день некий Фрэнк Шефер, клерк из отеля в Утике, припомнил, как Клайд и Роберта явились в отель, как они при этом держались и как Клайд расписался за обоих: «Мистер и миссис Клифорд Голден из Сиракуз». За ним Уоллес Вандергоф, один из приказчиков галантерейного магазина в Утике, описал внешность и поведение Клайда при покупке соломенной шляпы. А потом — кондуктор поезда, курсирующего между Утикой и Луговым озером. И хозяин гостиницы на Луговом озере, и официантка гостиницы Бланш Петинджил, показавшая, что она слышала, как Клайд за обедом уверял Роберту, будто здесь невозможно получить разрешение на брак и лучше подождать до завтра, когда они приедут в какое-нибудь другое место. Это свидетельство было особенно неприятно, так как предполагалось, что на следующий день Клайд уже во всем признался Роберте; но затем Джефсон и Белнеп порешили, что этому признанию могли предшествовать какие-то предварительные стадии. А после официантки — кондуктор поезда, в котором они ехали до Ружейной. А за ним — проводник и шофер автобуса, рассказавший о странном вопросе Клайда, много ли на озере Большой Выпи народу, и о том, как Клайд оставил чемодан Роберты, сказав, что они вернутся, а свой чемодан взял с собой. А потом — хозяин гостиницы на озере Большой Выпи; лодочник; те трое, что встретились Клайду в лесу, — их показания особенно повредили ему, потому что они рассказали, как он перепугался, столкнувшись с ними. А затем — рассказ о том, как обнаружили лодку и тело Роберты, о прибытии Хейта и о том, как нашли письмо в кармане пальто Роберты. Все это подтверждают десятки свидетелей. И далее — капитан парохода, деревенская девушка, шофер Крэнстонов; приезд Клайда на дачу к Крэнстонам и, наконец (причем в связи с каждым шагом даются показания под присягой), его поездка на Медвежье озеро, погоня за ним и арест — все стадии ареста, и каждое слово, сказанное тогда Клайдом, и все это было весьма неблагоприятно для него, так как изобличало его лживость, уклончивость и испуг. Но, бесспорно, самыми опасными и самыми неблагоприятными для Клайда были показания относительно фотографического аппарата и штатива и обстоятельств, при которых они были найдены. На это больше всего и рассчитывал Мейсон, надеясь добиться осуждения. Прежде всего он хотел доказать, что Клайд лгал, заявляя, будто аппарат и штатив не принадлежат ему. Для этого Мейсон сначала вызвал Эрла Ньюкома, который под присягой показал, что в тот день, когда он, Мейсон, Хейт и другие участники расследования повезли Клайда на озеро Большой Выпи, где было совершено преступление, он, Ньюком, и некий местный житель Билл Суортс (который также даст здесь показания), обшаривая кусты и поваленные деревья, натолкнулись на штатив, спрятанный под лежащим на берегу стволом. Затем, отвечая Мейсону (Белнеп и Джефсон пытались протестовать, но судья неизменно отклонял их протесты), Ньюком прибавил, что, когда у Клайда спросили, был ли у него фотографический аппарат или этот штатив, он ответил отрицательно. Услышав показания Ньюкома, Белнеп и Джефсон громко выразили свое возмущение. Сразу же вслед за этим суду был представлен протокол, подписанный Хейтом, Бэрлеем, Слэком, Краутом, Суэнком, Сисселом, Биллом Суортсом, землемером Руфусом Форстером и Ньюкомом: в протоколе говорилось, что Клайд, когда ему был показан штатив и задан вопрос, не его ли вещь, «решительно и многократно это отрицал». И хотя судья Оберуолцер приказал в конце концов вычеркнуть это показание из протокола суда, Мейсон, желая во что бы то ни стало подчеркнуть, насколько оно важно, сразу прибавил: — Прекрасно, ваша честь, но у меня есть и еще свидетели, которые под присягой подтвердят все, что написано в этом документе, и даже больше. — И сейчас же вызвал: — Джозеф Фрейзер. На свидетельском месте появился продавец спортивных принадлежностей, фотографических аппаратов и прочего и показал под присягой, что во второй половине мая обвиняемый Клайд Грифитс, которого он знал в лицо и по имени, купил у него в рассрочку фотографический аппарат фирмы Сэнк, размером 3 1/2 x 5 1/2 со штативом. Тщательно осмотрев предъявленный ему теперь аппарат и желтый штатив и сличив стоящие на них номера с записями в своих книгах, Фрейзер подтвердил, что именно эти вещи он продал тогда Клайду. Клайд был сражен. Значит, они нашли и аппарат и штатив. И это после того, как он утверждал, что у него не было никакого аппарата! Что подумают о такой явной лжи присяжные, и судья, и вся публика? Поверят ли теперь его рассказу о пережитом им душевном перевороте, когда доказано, что он солгал даже насчет этого несчастного аппарата? Лучше бы он сразу во всем сознался. Но, пока он об этом раздумывал, Мейсон вызвал Саймона Доджа, молодого лесоруба, показавшего, что по просьбе прокурора в субботу шестнадцатого июля он с Дженом Полом, который вытащил тело Роберты из воды, несколько раз ныряли в том месте, где найдено было тело, и в конце концов ему удалось найти фотографический аппарат. Аппарат тут же был показан Доджу и опознан им. И тотчас после этого — показания, относящиеся к найденным тогда же в аппарате, но до сих пор не упоминавшимся пленкам: извлеченные из воды и проявленные, они были теперь включены в число улик; на четырех снимках можно было рассмотреть женщину, в точности похожую на Роберту, а на двух нетрудно было узнать Клайда. Белнепу не удалось ни опровергнуть это, ни исключить снимки из числа вещественных доказательств. Потом Флойд Тэрстон, гостивший на даче Крэнстонов в Шейроне восемнадцатого июня (как раз когда туда впервые приехал Клайд), показал, что в тот день Клайд сделал несколько снимков аппаратом примерно такого же вида и размера, как тот, который был ему тут показан. Но он не решился утверждать, что это и есть тот самый аппарат, и потому его показания были исключены из протокола. После него Эдна Пэттерсон, горничная гостиницы на Луговом озере, показала, что, когда вечером седьмого июля она вошла в комнату, занятую Клайдом и Робертой, Клайд держал в руках фотографический аппарат — насколько она припоминает, такой же величины и такого же вида, как и находящийся сейчас перед нею. Тогда же она видела и штатив. И Клайд, который в странном оцепенении следил за происходящим, вспомнил, как эта девушка зашла тогда в комнату. И он с тягостным удивлением подумал: как странно, что свидетели из самых разных, неожиданных и не связанных друг с другом мест, да еще спустя такое долгое время, могут создать такую прочную цепь улик! В последующие дни — причем Белнеп и Джефсон все снова и снова неутомимо оспаривали допустимость такого рода показаний — были выслушаны пять врачей, которых вызвал Мейсон, когда тело Роберты было доставлено в Бриджбург; все они по очереди под присягой заявили, что ушибы на лице и голове, принимая во внимание физическое состояние Роберты, вполне могли ее оглушить. Состояние легких покойной (их подвергли испытанию, погружая в воду) доказывало, что в момент падения за борт она была еще жива, хотя и не обязательно находились в сознаний. Что же касается орудия, которым были нанесены удары, врачи не решались высказывать какие-либо догадки, кроме того, что это орудие было тупое. И как ни были строги и придирчивы Белнеп и Джефсон, они не заставили врачей признать, что удары могли и не быть настолько сильными, чтобы оглушить Роберту и лишить ее сознания… наиболее серьезной была, видимо, рана на темени, такая глубокая, что здесь образовался сгусток крови. В качестве вещественных доказательств предъявлены были фотографические снимки. Именно этот момент, когда и публику и присяжных охватило глубокое, тягостное волнение, выбрал Мейсон, чтобы предъявить также многочисленные снимки лица Роберты, сделанные в то время, когда она находилась в ведении Хейта, врачей и братьев Луи. Было показано, что размеры кровоподтеков на лице точно соответствуют двум сторонам фотографического аппарата. А вслед за этим Бэртон Бэрлей показал под присягой, что он обнаружил между объективом и крышкой аппарата два волоса, точно таких же, как волосы Роберты (во всяком случае, это усиленно доказывал Мейсон). И тут, после многих часов заседания, Белнеп, которого взволновали и привели в ярость подобного рода улики, попытался опровергнуть их с помощью сарказма: под конец он вырвал один волосок из своей светлой шевелюры и спросил присяжных и Бэрлея, осмелится ли он утверждать, что по одному волоску можно судить о цвете чьих бы то ни было волос, и не готовы ля они поверить, что и вот этот волос взят с головы Роберты. Потом Мейсон вызвал свидетельницу миссис Ратджер Донэгью, которая самым спокойным и ровным тоном сообщила, что вечером восьмого июля, между половиной шестого и шестью часами, она и ее муж разбили палатку вблизи Лунной бухты, а затем поехали кататься на лодке и ловить рыбу, и, когда они были примерно в полумили от берега и в четверти мили от поросшего лесом мыса, ограждающего Лунную бухту с севера, она услышала крик. — Между половиной шестого и шестью, вы говорите? — Да, сэр. — Так какого числа это было? — Восьмого июля. — И в каком точно месте вы были в это время? — Мы были… — Не «мы». Где были вы лично? — Я вместе с мужем переплывала на лодке через ту часть озера, которая, как я после узнала, называется Южным заливом. — Так. Теперь расскажите, что случилось дальше. — Когда мы доплыли до середины залива, я услышала крик. — Какой крик? — Душераздирающий, как будто кто-то кричал от боли… или от ужаса… Пронзительный крик — я потом не могла его забыть. Тут поднялся Белнеп, ходатайствуя об исключении последней фразы из протокола, и дано было указание вычеркнуть ее. — Откуда доносился этот крик? — Издалека. Из лесу или, может быть, из какого-то места позади него. — Знали ли вы тогда, что по ту сторону мыса есть еще залив или бухта? — Нет, сэр. — Ну, а что же вы подумали тогда — что кричат в прибрежном лесу? (Протест защиты, принятый судом.) — А теперь скажите нам, кто это кричал — мужчина или женщина? И что именно кричали? — Кричала женщина. Крик был очень пронзительный и явственный, но, конечно, далекий. Она вскрикнула дважды — как будто «Ой-ой!» или «А-ах!», как кричит человек, когда ему больно. — Вы уверены, что не ошиблись и что кричала именно женщина, а не мужчина? — Нет, сэр. Я вполне уверена. Голос был женский, слишком высокий для мужчины или для мальчика. Так могла кричать только женщина. — Понимаю. А теперь скажите-ка, миссис Донэгью… вот эта точка на карте показывает, где было найдено тело Роберты Олден, — видите? — Да, сэр. — А видите вторую точку, вот здесь, за деревьями, которая показывает приблизительно, где находилась ваша лодка? — Вижу, сэр. — Не думаете ли вы, что голос доносился с указанного здесь места Лунной бухты? (Опротестовано. Протест принят.) — Не повторился ли крик? — Нет, сэр. Я ждала. Кроме того, я обратила на этот крик внимание мужа, и мы с ним оба ждали, но больше ничего не слышали. Потом за свидетельницу взялся Белнеп, жаждавший доказать, что крик мог быть вызван ужасом, но не болью; он допросил ее заново с самого начала и убедился, что ни ее, ни ее мужа, также вызванного свидетелем, никоим образом невозможно поколебать. Они уверяли, что крик неизвестной женщины произвел на них глубокое, неизгладимое впечатление. Он преследовал их обоих, и, вернувшись в палатку, они все время о нем говорили. Муж не хотел отыскивать место, откуда доносился крик, потому что были уже сумерки, а ей все чудилось, что там, в лесу, убили какую-то женщину или девушку, и потому она не хотела оставаться здесь дольше, и на следующее же утро они отправились на другое озеро. Томас Баррет, адирондакский проводник, обслуживавший лагерь на озере Дэм, показал, что в час, указанный миссис Донэгью, он шел берегом к гостинице на озере Большой Выпи и не только видел мужчину и женщину в лодке, примерно в описанном свидетельницей месте, но южнее на берегу залива заметил также и палатку этих туристов. Он показал еще, что лодку, находящуюся в Лунной бухте, невозможно увидеть откуда-либо со стороны, — разве только если вы находитесь у самого входа в бухту. Вход очень узок, и с озера бухта совершенно не видна. Были и еще свидетели, подтвердившие это. И тут (этот психологический эффект был тщательно обдуман заранее) в час, когда в высоком, узком зале суда свет вечернего солнца уже стал меркнуть, Мейсон начал читать письма Роберты одно за другим, совсем просто и без всякой декламации, но с тем сочувствием и глубоким волнением, какое пробудилось в нем при первом их чтении. Тогда они заставили его плакать. Он начал с первого письма, написанного восьмого июня — всего через три дня после ее отъезда из Ликурга, — и прочел их все, вплоть до четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого. По отдельным местам различных писем и по упоминающимся то там, то тут событиям и фактам можно было воссоздать всю историю знакомства Роберты с Клайдом, вплоть до его намерения приехать за нею через три недели, затем через месяц, затем восьмого или девятого июля… и затем — ее внезапная угроза, после чего он поспешно решил встретиться с нею в Фонде. И пока Мейсон читал эти бесконечно трогательные письма, влажные глаза, появившиеся в руках платки и покашливание свидетельствовали о силе их воздействия на публику и на присяжных. «Ты советовал мне не тревожиться, не думать так много о том, как я себя чувствую, и весело проводить время. Хорошо тебе говорить, когда ты в Ликурге, окружен друзьями и тебя повсюду приглашают. Мне трудно разговаривать по телефону от Уилкоксов: всегда кто-нибудь может меня услышать, а ты все время напоминаешь, что нельзя говорить и того и другого. Мне надо было о многом тебя спросить, но по телефону не удалось. Ты все время только повторяешь, что все уладится. Но ты не сказал определенно, что приедешь двадцать седьмого. Я не совсем разобрала — было очень плохо слышно, — но как будто ты почему-то задержишься еще позже. Но это невозможно, Клайд! Папа и мама третьего уезжают в Хемилтон, к дяде. А Том и Эмилия в тот же день поедут к сестре. Но я не могу и не хочу опять ехать к ней. И не могу оставаться здесь совсем одна. Так что ты должен, право же, должен приехать, как обещал. Клайд, в таком положении я не могу дольше ждать, и ты просто должен приехать и увезти меня отсюда. Только, пожалуйста, умоляю тебя, не мучай меня больше никакими отсрочками». И еще: «Клайд, я поехала домой, потому что думала, что могу тебе верить. Ты тогда торжественно обещал приехать за мной самое позднее через три недели и уверял, что за это время успеешь все устроить, соберешь достаточно денег и мы сможем жить на них, пока ты не найдешь где-нибудь другую работу. Но третьего июля будет уже почти месяц, как я здесь, а вчера ты совсем не был уверен, что сумеешь приехать третьего. А ведь я сказала тебе, что мои родители уезжают на десять дней в Хемилтон. Потом, правда, ты сказал, что приедешь, но сказал как будто для того, чтобы меня успокоить. И я с тех пор ужасно волнуюсь. Пойми, Клайд, я совсем больна. Мне кажется, я каждую минуту могу упасть в обморок, и кроме того, я все время мучительно думаю, как же мне быть, если ты не приедешь, и это сводит меня с ума». «Клайд, я знаю, что ты больше совсем не любишь меня и хотел бы, чтобы все было по-иному. Но что же мне делать? Я знаю, ты скажешь, что я так же виновата во всем, как и ты. Если бы люди знали, они бы, наверно, тоже так думали. Но ведь я так просила тебя, чтобы ты не заставлял меня идти на то, чего я не хотела делать, — я и тогда боялась, что пожалею об этом. Но я слишком тебя любила, чтобы дать тебе уйти, раз ты так настаивал…» «Клайд, если б я могла умереть! Тогда бы все разрешилось. И в последнее время я много молилась об этом — правда, молилась, потому что жизнь теперь совсем не так дорога мне, как было прежде, когда мы встретились и ты меня полюбил. Какое это было счастливое время! Если бы все сложилось по-иному… Если бы мы с тобой тогда не встретились! Так было бы гораздо лучше и для меня и для всех нас. Но теперь я не могу, Клайд, ведь у меня нет ни гроша и нет другой возможности дать имя нашему ребенку. Но если бы я не боялась принести страшное горе и позор маме и отцу и всем своим родным, поверь, я предпочла бы совсем другой выход. Это чистая правда». И еще: «Клайд, Клайд, все в жизни так изменилось с прошлого года! Подумай, тогда мы ездили на озеро Крам и на другие озера возле Фонды и Гловерсвила и Литл-Фолз, а теперь… теперь… Только что за Томом и Эмилией зашли их друзья и подруги, и они пошли собирать землянику. А я смотрела им вслед и думала, что не могу пойти с ними и никогда уже не буду такой, как они… и я долго-долго плакала». И наконец: «Сегодня я прощалась со своими любимыми местами. Знаешь, милый, здесь столько славных уголков, и все они мне так дороги! Ведь я прожила здесь всю свою жизнь. Во-первых, у нас тут есть колодец, со всех сторон обросший зеленым мхом. Я пошла и попрощалась с ним, потому что теперь не скоро опять приду к нему — может быть, никогда. Потом — старая яблоня; мы всегда играли под нею, когда были маленькими, — Эмилия, Том, Гифорд и я. Потом «Вера» — забавная маленькая беседка в фруктовом саду, — мы в ней тоже иногда играли. О Клайд, ты не представляешь, что все это для меня значит! В этот раз я уезжаю из дому с таким чувством, как будто никогда больше не вернусь. А мама, бедная мама, я так люблю ее, и мне так тяжело, что я ее обманула! Она никогда не сердится и всегда мне очень помогает. Иногда мне хочется все рассказать ей, но я не могу. У нее и без того немало огорчений, и я не могла бы нанести ей такой жестокий удар. Нет, если я уеду и когда-нибудь вернусь, — замужняя или мертвая, мне это уже почти все равно, — она ничего не узнает, я не доставлю ей никакого горя, и это для меня гораздо важнее, чем самая жизнь. Итак, до свидания, Клайд, мы встретимся, как ты сказал мне по телефону. Прости, что я доставила тебе столько беспокойства. Твоя печальная Роберта». Во время чтения Мейсон порою не мог сдержать слез, а когда была перевернута последняя страница, — усталый, но торжествующий от сознания, что его доводы исчерпывающи и неопровержимы, воскликнул: — Народ закончил! И в эту минуту из груди миссис Олден, которая находилась в зале суда вместе с мужем и Эмилией и была безмерно измучена долгими, напряженными днями процесса и особенно этим чтением, вырвался крик, похожий на рыдание, и она упала в обморок. Клайд, тоже усталый и измученный, услышав ее крик и увидев, что она упала, вскочил… Тотчас предостерегающая рука Джефсона опустилась на его плечо, а тем временем судебные пристава и ближайшие соседи из публики, поддерживая миссис Олден, помогли ей и Тайтусу выйти из зала. Эта сцена чрезвычайно взволновала всех присутствующих и привела их в такую ярость, как будто Клайд тут же на месте совершил еще одно преступление. Понемногу возбуждение улеглось, но в зале стало уже совсем темно, стрелки стенных часов показывали пять, и все в суде устали; поэтому судья Оберуолцер счел нужным объявить перерыв до завтрашнего утра. И сейчас же все репортеры и фотографы поднялись с мест, перешептываясь о том, что наутро предстоит выступление защиты и любопытно, каковы ее свидетели и позволят ли Клайду перед лицом такого невероятного множества показаний против него выступить в качестве свидетеля в свою защиту, или же его защитники удовольствуются более или менее правдоподобными ссылками на невменяемость и нравственную неустойчивость? Это может кончиться для него пожизненным тюремным заключением — не меньше. А Клайд, выходя из здания суда под свистки и проклятия толпы, спрашивал себя, хватит ли у него завтра мужества выступить в качестве свидетеля, как это было ими давно и тщательно обдумано… И еще он думал (из тюрьмы и обратно его водили без наручников): нельзя ли, если никто не будет смотреть, завтра вечером, когда все встанут с места, и толпа придет в движение, и его конвоиры направятся к нему… нельзя ли… вот если бы побежать, или нет — непринужденно, спокойно, но быстро и как бы ненароком подойти к этой лестнице, а потом — вниз и… ну, куда бы она ни вела… не к той ли маленькой боковой двери подле главной лестницы, которую он еще раньше видел из окна тюрьмы? Ему бы только добраться до какого-нибудь леса — и потом идти… идти… или просто бежать, бежать, пусть без остановок, без еды, пусть целыми днями, пока… ну, пока он не выберется… куда-нибудь. Конечно, можно попытаться… Его могут пристрелить, в погоню за ним могут пустить собаку, послать людей, но все же можно попытаться спастись, не так ли? Потому что здесь у него нет надежды на спасение. После всего, что было на суде, никто и нигде не поверит в его невиновность. А он не хочет умереть такой смертью. Нет, нет, только не так! И вот еще одна тягостная, черная, мучительная ночь. И за нею еще одно тягостное, серое и холодное утро.Глава 89
На следующее утро к восьми часам бросающиеся в глаза заголовки всех крупнейших газет города возвестили всем и каждому в самых ясных и понятных выражениях: «ОБВИНЕНИЕ ПО ДЕЛУ ГРИФИТСА ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОТОКОМ ПОТРЯСАЮЩИХ ПОКАЗАНИЙ. МОТИВЫ И СПОСОБ УБИЙСТВА НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗАНЫ, СЛЕДЫ СЕРЬЕЗНЫХ УШИБОВ НА ЛИЦЕ И НА ГОЛОВЕ СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРАМ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА. МАТЬ УБИТОЙ ДЕВУШКИ ЛИШАЕТСЯ ЧУВСТВ ПО ОКОНЧАНИИ ЧТЕНИЯ ТРАГИЧЕСКИХ ПИСЕМ ДОЧЕРИ» Железная логика, с которой Мейсон построил свое обвинение, равно как и потрясающий драматизм его речи, сразу заставили Белнепа и Джефсона, и тем более Клайда, почувствовать, что они разбиты наголову и никакими мыслимыми ухищрениями им теперь не разуверить присяжных, убежденных, что Клайд — отъявленный злодей. Все поздравляли Мейсона с мастерски проведенным обвинением. А Клайд был совсем уничтожен и подавлен мыслью, что мать прочтет обо всем происшедшем накануне. Надо непременно попросить Джефсона, пусть он телеграфирует ей, чтобы она не верила всему этому, ни она, ни Фрэнк, ни Джулия, ни Эста. Конечно, и Сондра тоже читает это сегодня, но от нее за все эти дни, за все беспросветные ночи — ни слова! Газеты изредка упоминали о «мисс X», но не появлялось ни одного сколько-нибудь точного ее описания. Вот что может сделать семья со средствами. А сегодня очередь защиты, и ему придется выступить в качестве единственного более или менее значительного свидетеля. И он спрашивал себя, хватит ли у него сил? Толпа… Ее ожесточение… Ее недоверие и ненависть, мучительно бьющие по нервам… А когда Белнеп покончит с ним, начнет Мейсон. Хорошо Белнепу и Джефсону! Им не грозит такая пытка, какая, без сомнения, предстоит ему. В ожидании ее Клайд проводит час в своей камере в обществе Белнепа и Джефсона, а затем снова оказывается в зале суда под пытливыми взглядами всех этих разношерстных присяжных и снедаемой любопытством публики. И вот поднимается Белнеп и, торжественно обведя взглядом присяжных, начинает: — Джентльмены! Свыше трех недель тому назад прокурор заявил вам, что, основываясь на собранных им уликах, он будет настаивать на том, чтобы вы, господа присяжные, признали подсудимого виновным в том преступлении, в котором его обвиняют. За этим последовала долгая и утомительная процедура. Неразумные и нелепые, но в каждом отдельном случае невинные и непреднамеренные поступки пятнадцати-шестнадцатилетнего мальчика были представлены вам здесь, джентльмены, как действия закоренелого преступника, — явно с намерением восстановить вас против обвиняемого. Между тем, за исключением одного лишь неверно истолкованного несчастного происшествия в Канзас-Сити (это самый грубый и дикий случай ложного толкования, с каким мне когда-либо приходилось сталкиваться во всей моей юридической практике), смело можно сказать, что жизнь обвиняемого была такой же чистой, деятельной, безупречной и невинной, как и жизнь любого мальчика его возраста. Вы слышали: его называли мужчиной, взрослым бородатым мужчиной, злодеем, мрачным исчадием ада, проникнутым преступнейшими помыслами. А ему ведь только двадцать один год. Вот он сидит перед вами. Осмелюсь сказать, что, сумей я сейчас магической силой слова сорвать с ваших глаз пелену, сотканную всеми жестокими мыслями и чувствами, приписанными моему подзащитному заблуждающимся и, я сказал бы (если бы меня не предупредили, что этого делать нельзя), преследующим особые политические цели обвинением, — вы уже не могли бы так к нему относиться, просто не могли бы — точно так же, как не можете подняться со своих мест и вылететь вот в эти окна. Господа присяжные, без сомнения, вас, как и прокурора и всех сидящих в этом зале, удивляло, что под сплошным потоком тщательно подобранных и подчас чуть ли не ядом пропитанных показаний я, мой коллега и подзащитный могли оставаться столь спокойными и так хорошо владели собой. (И он с достоинством и церемонно указал на своего партнера, который ожидал своей очереди выступить.) Однако, как вы видели, мы сохраняли не напускное, а подлинное душевное спокойствие — спокойствие людей, которые не только чувствуют, но и знают, что во всяком споре перед лицом закона они сумеют доказать правоту и справедливость своего дела. Вы помните, конечно, слова Эвонского барда: «Втройне силен, чей спор о правом деле». Действительно, нам известны, — жаль, что они не известны обвинению, — необычайно странные и неожиданные обстоятельства, повлекшие за собою крайне прискорбную и трагическую гибель Роберты Олден. Вы о них узнаете и сможете сами составить суждение об этом. А пока позвольте мне сказать вам следующее: с самого начала процесса я полагал, что даже вне зависимости от света, который мы намерены пролить на эту печальную трагедию, вы, господа, отнюдь не убеждены, действительно ли этот человек совершил жестокое и зверское преступление. Вы не можете быть в этом уверены! Ибо любовь есть любовь, и пути страсти и губительных порывов любви — идет ли речь о мужчине или о женщине — не пути обычного преступления. Вспомните, ведь все мы когда-то были юношами. И все присутствующие здесь женщины были юными девушками, и им известны, — о, как хорошо известны! — волнения и страдания юности, столь чуждые наступающему позже жизненному практицизму. «Не судите, да не судимы будете, и какою мерою мерите, такою отмерится и вам». Мы признаем существование таинственной мисс X; ее письма, которые мы не могли предъявить здесь, ее обаяние и любовь с огромной силой влияли на обвиняемого. Мы признаем его любовь к этой мисс X. Полагают, что обвиняемый, прибегнув к коварным и безнравственным приемам, совлек со стези добродетели прелестное существо, погибшее столь прискорбно, но тем не менее, как мы докажем, совершенно случайно. При помощи своих свидетелей, а также путем анализа некоторых из уже слышанных вами здесь показаний мы рассчитываем доказать, что поступки обвиняемого были, пожалуй, не более коварны и безнравственны, чем поступки любого юноши, который видит, что любимая им девушка окружена людьми, чьи взгляды на жизнь крайне ограничены, стиснуты рамками строжайшей прописной морали. И, господа, как сказал вам сам прокурор, Роберта Олден любила Клайда Грифитса. С первых дней этой связи, которая затем превратилась в трагедию, умершая девушка глубоко, безгранично любила его, — так же, как и он, казалось ему любил ее тогда. А людей, которые глубоко и серьезно любят друг друга, мало занимает мнение посторонних. Они любят — и этого довольно! Но, джентльмены, я не собираюсь задерживаться на этом вопросе так долго, как на объяснении, которое мы вам намерены представить. Почему Клайд Грифитс вообще отправился в Фонду или в Утику, на Луговое озеро или на озеро Большой Выпи? Вы думаете, у нас имеются какие-либо причины или желание отрицать или как-то затушевывать тот факт, что он ездил туда, и притом с Робертой Олден? Или скрыть мотивы, которые заставили его после внезапной и, видимо, странной и загадочной ее смерти так поспешно бежать? Если вы хоть сотую долю секунды всерьез думали, что это так, — значит, никогда еще за все двадцать семь лет своей практики я не имел чести выступать перед двенадцатью столь безнадежно обманутыми и введенными в заблуждение присяжными. Джентльмены, я сказал вам, что Клайд Грифитс невиновен, — и это правда. Быть может, вы думаете, что мы сами втайне верим в его виновность. Но вы ошибаетесь. В жизни бывают странные, удивительные вещи, и нередко человека обвиняют в том, чего он вовсе не совершал, — и при этом все без исключения обстоятельства как будто подтверждают, что он это совершил. Известно немало трагических и ужасных случаев, когда суд принимал ошибочные решения, руководствуясь исключительно косвенными уликами. Будьте осторожны, будьте очень осторожны! Пусть никакое ошибочное суждение, основанное на каких-либо теориях о поведении человека или на предубеждениях чисто местного, религиозного или морального порядка, суждение, подкрепленное неопровержимыми, казалось бы, уликами, не повлияет на вас! Будьте осторожны, чтобы невольно, движимые наилучшими и благороднейшими намерениями, вы не усмотрели здесь преступления или преступного умысла, тогда как на самом деле ни в мыслях, ни в поступках обвиняемого не было ничего преступного, никакого намерения совершить преступление. О, будьте осторожны! Будьте очень, очень осторожны! Тут он умолк и, казалось, погрузился в глубокие и даже горестные размышления, а Клайд, ободренный этим искусным и смелым вступлением, несколько воспрянул духом. Но вот Белнеп вновь заговорил, — надо слушать, не упуская ни слова из этой речи, которая придает столько мужества. — Джентльмены, когда тело Роберты Олден было извлечено из вод озера Большой Выпи, его сразу же осмотрел врач. Он признал, что эта девушка — утопленница. Он выступит здесь и даст показания. Они благоприятны для обвиняемого, и вам следует принять это во внимание. Прокурор сказал вам, что Роберта Олден и Клайд Грифитс были помолвлены, и шестого июля она покинула родительский дом в Бильце, чтобы отправиться с ним в свадебное путешествие. Но, джентльмены, это так просто — слегка исказить определенные обстоятельства! «Были помолвлены» — вот как выразился прокурор о том, что привело к их отъезду шестого июля. А на самом деле ничем и никак не доказано, что Клайд Грифитс действительно был когда-либо официально помолвлен с Робертой Олден, ниоткуда, помимо некоторых строк в ее письмах, не видно, что он соглашался на ней жениться. А из этих строк явствует, джентльмены, что он согласился жениться на ней только под давлением соображений морального и материального порядка, вызванных ее положением — положением, за которое он, разумеется, ответствен, но которое все же явилось следствием согласия обоих — юноши двадцати одного года и девушки двадцати трех лет. И я спрашиваю вас: разве это настоящая, открытая помолвка? Разве такой смысл вкладываете вы в это слово? Поймите, я никоим образом не хочу осмеять, унизить или опорочить несчастную погибшую девушку. Я просто заявляю, что в действительности, юридически и формально, этот юноша не был официально помолвлен с покойной. Он не обещал ей заранее, что женится на ней… Никогда не обещал! Нет никаких доказательств. Вы должны признать, что это говорит в его пользу. И только ввиду ее положения, ответственность за которое, мы это признаем, лежит на нем, он изъявил согласие жениться на ней в случае… в случае… (Белнеп помедлил и с ударением закончил), если она не пожелает дать ему свободу. А поскольку она не хотела отпускать его, как это видно из прочитанных здесь писем, его согласие, данное под страхом разоблачения и огласки в Ликурге, превращается у прокурора в помолвку, более того — в священное обязательство, нарушить которое способен только негодяй, вор и убийца. Но, джентльмены, немало было в мире нарушено обязательств, более прямых и более священных с точки зрения закона и религии. Тысячи мужчин и тысячи женщин изведали это: их чувства изменились, их клятвы, обещания и уверения были забыты и поруганы, и многие скрыли свои раны в тайниках души или даже с радостью встречали смерть — смерть от собственной руки! Как сказал в своей речи прокурор: это не ново — и никогда не устареет. Никогда! Предупреждаю вас, именно такой случай представлен сейчас на ваше рассмотрение: умершая девушка стала жертвой подобной перемены в чувствах обвиняемого. Но каким бы тяжким преступлением ни было это в моральном и общественном отношении, юридически это не преступление. И лишь в силу странного, сложного, почти невероятного и притом ведущего к глубочайшим заблуждениям стечения обстоятельств, связанных со смертью несчастной девушки, Клайд Грифитс оказался здесь, перед вами, в качестве обвиняемого. Я ручаюсь за это. Я знаю, что это правда. И на этот счет вам должны быть и будут здесь даны исчерпывающие и вполне удовлетворительные объяснения, прежде чем закончится настоящий процесс. Однако в связи с этим утверждением необходимо сделать еще одно, которое послужит предисловием ко всему дальнейшему. Господа присяжные! Тот, кого вы здесь судите и чья жизнь в ваших руках, — трус, личность умственно и нравственно малодушная, — не более и не менее, но отнюдь не закоренелый жестокосердный преступник. Подобно многим людям, оказавшимся в критическом положении, он стал жертвой особого сочетания страха: страх поразил и ум его и душу. Причины этого явления еще никто не сумел как следует объяснить. У всех нас есть свои тайные страхи, своя пугала. И не что иное, как эти особенности его характера, поставили его теперь в столь опасное положение. Джентльмены, именно трусость, страх перед правилами, установленными на фабрике дяди, равно как и боязнь нарушить слово, данное фабричному начальству, — вот причина, заставившая его скрывать сначала свой интерес к хорошенькой девушке, которая стала работать в его отделении, а позднее — скрывать знакомство с нею. Однако это отнюдь не преступление в глазах закона. Вы никак не могли бы за это судить человека, что бы ни думал о нем каждый из вас. И, джентльмены, после того, как обвиняемый убедился, что больше не может поддерживать с нею отношения, которыми прежде так дорожил, именно эта умственная и нравственная трусость помешала ему сказать ей прямо, что он больше не может и не хочет сохранять эту связь, а тем более — жениться. Но не приговорите же вы человека к смерти за то, что он оказался жертвой страха? Ведь в конце концов, если мужчина твердо решил, что ему невыносима близость данной женщины (или женщине — близость данного мужчины) и их совместная жизнь будет просто пыткой, — скажите, что должен делать этот человек? Жениться на ней? Зачем? Чтобы им вечно ненавидеть, презирать и мучить друг друга? Можете ли вы искренне сказать, что признаете это разумным образом действий, правилом или законом? Однако с точки зрения защиты обвиняемый пытался поступить вполне разумно и при данных обстоятельствах достаточно честно. Он сделал предложение, — правда, не руки и сердца, — и, увы, безуспешно. Он предложил жить порознь при условии, что станет помогать ей из своего заработка, а она поселится где-нибудь вне Ликурга. Ее письма, прочитанные здесь вчера, указывают на нечто в этом роде. Но, к сожалению, с ее стороны была проявлена настойчивость, столь часто приводящая к трагедии, когда настаивают на том, чего во многих случаях лучше бы не делать. А потом, после — долгая, проведенная в спорах и попытках убедить друг друга поездка в Утику, на Луговое озеро и на Большую Выпь. И все напрасно. Но без намерения убить ее или довести до гибели. Без малейшего намерения! И мы вам покажем почему. Джентльмены, я снова утверждаю, что не какой-либо преступный план или умысел, а именно трусливый ум и трусливая душа заставили Клайда Грифитса путешествовать с Робертой Олден под разными вымышленными именами по местам, которые я сейчас упомянул, именно они заставили его писать «мистер Карл Грэхем с супругой», «мистер Клифорд Голден с супругой». Он боялся, что совершил серьезную ошибку в глазах общества и тяжкий грех, когда преследовал ее и под конец позволил себе вступить с нею в греховную, беззаконную связь, — это и есть умственная и нравственнаятрусость, страх перед возможными последствиями. И на Большой Выпи, когда вследствие несчастного случая воды озера сомкнулись над нею, опять-таки та же трусость помешала ему вернуться в гостиницу и сообщить о ее смерти. Умственная и нравственная трусость, трусость ума и сердца — вот что это было, не больше и не меньше. Он думал о своих богатых ликургских родственниках, о том, что, поехав с этой девушкой на озеро, нарушил правила фабрики и теперь это обнаружится, думал о горе, стыде и гневе ее родных. А кроме того, ведь была еще мисс Х — самая яркая звезда в ярчайшем созвездии его грез. Мы признаем все это, и мы вполне готовы допустить, что он думал об этом или должен был думать. Как утверждает обвиняющая сторона (и мы также признаем это), он был совершенно увлечен и пленен этой мисс X, как и она им. Он готов был, он жаждал покинуть ради другой свою первую возлюбленную, которая отдалась ему, ибо красота и богатство делали в его глазах эту другую несравненно более желанной, так же как сам он казался Роберте Олден желаннее всех других. И если Роберта Олден ошиблась в нем, — а это явно так и было, — что же, разве не мог и он ошибаться в своем безрассудном влечении к той, которая в конце концов — как знать? — быть может, не так уж дорожила им… Во всяком случае, как он сам признался нам, своим защитникам, его в то время едва ли не больше всего пугала мысль, что если мисс Х узнает о его поездке на озеро с девушкой, о которой она даже и не слыхала, тогда… ну, тогда, стало быть, конец ее вниманию к нему. Я знаю, джентльмены по вашему мнению, для подобного поведения нет никаких оправданий. Человек может оказаться жертвой внутренней борьбы между двумя недозволенными чувствами и, однако, в глазах церкви и закона быть виновным в грехе и преступлении. Но тем не менее — и это непреложная истина! — независимо от закона, независимо от религии такие чувства существуют и борются в человеческом сердце, и во множестве случаев именно они определяют поступки своих жертв. И мы признаем, что это они определяли поступки Клайда Грифитса. Но убил ли он Роберту Олден? Нет! И еще раз — нет! Не замышлял ли он, хотя бы робко и нерешительно, затащить ее туда, прикрываясь всякими вымышленными именами, и потом, если она не захочет дать ему свободу, утопить ее? Нелепо! Невозможно! Безумно! Его план был совсем иной. Но, джентльмены, — тут Белнеп вдруг остановился, словно ему внезапно пришла на ум новая, неожиданная мысль, — быть может, вы в большей мере будете удовлетворены и моими доводами, и окончательным суждением, которое вам надлежит вынести, если выслушаете показания единственного очевидца смерти Роберты Олден — того, кто не просто слышал крик, а действительно был там, кто сам видел и, следовательно, знает, как ее настигла смерть. Он взглянул на Джефсона, как бы говоря: «Ну вот, Рубен, наконец-то!» И Рубен, обернувшись к Клайду с непринужденностью, за которой, однако, чувствовалась железная воля, шепнул: — Итак, Клайд, дело теперь за вами. Но я пойду с вами, понятно? Я решил сам вас допрашивать. Я столько вас натаскивал, что, по-моему, вам будет совсем легко отвечать мне, верно? Он весело, ободряюще улыбнулся. И Клайд, которого обрадовали и сильная речь Белнепа и новое решение Джефсона, поднялся чуть ли не с беззаботным видом (всего четыре часа назад он был далеко не так хорошо настроен) и шепнул: — Вот здорово! Я рад, что вы сами этим займетесь. Я думаю, теперь у меня все выйдет, как надо. А между тем публика, услышав, что должен появиться настоящий очевидец, да еще представленный не обвинением, а защитой, разом заволновалась; люди вскочили со своих мест, вытягивая шеи и озираясь. И судья Оберуолцер, в высшей степени недовольный тем, что процесс проходит в неподобающей обстановке, без должной строгости и торжественности, застучал своим молотком, в то время как клерк громко взывал: — К порядку! К порядку! Прошу немедленно сесть, иначе зал суда будет очищен от публики! Прошу приставов следить за порядком! И затем в наступившей напряженной тишине раздался голос Белнепа: — Клайд Грифитс, пройдите на свидетельское место. С удивлением увидев, что Клайд, сопровождаемый Джефсоном, выступил вперед, публика снова возбужденно зашепталась невзирая на резкие окрики судьи и приставов. Даже Белнеп, увидев приближающегося к нему Джефсона, несколько удивился, так как первоначально предполагалось, что он сам проведет допрос Клайда. Но пока Клайда приводили к присяге, Джефсон подошел вплотную к Белнепу и прошептал: — Предоставьте его мне, Элвин. По-моему, так будет лучше. Он держится слишком напряженно и трусливо, но я уверен, что сумею его вытянуть. Публика тоже обратила внимание на смену адвокатов и перешептывалась по этому поводу, а Клайд большими глазами, полными тревоги, обводил окружающих и думал: «Ну вот, наконец я — свидетель и, конечно, все на меня смотрят. Надо казаться совсем спокойным, как будто я ни капли не волнуюсь, потому что я не убивал ее. Ведь я не убил ее, это правда». И все же он был иссиня-бледен, веки его покраснели и опухли, и руки, несмотря на все усилия, слегка дрожали. И вот длинная, сильная и гибкая, точно хлыст, фигура Джефсона поворачивается к нему, голубые глаза пристально смотрят прямо в карие глаза Клайда, и адвокат начинает: — Итак, Клайд, прежде всего надо, чтобы присяжные и все в зале ясно слышали мои вопросы и ваши ответы. А теперь подумайте немного и спокойно расскажите нам все, что помните о своей жизни: откуда вы, где родились, чем занимались ваши отец и мать и, наконец, чем вы сами занимались, с тех пор как начали жить своим трудом и до настоящего времени. Возможно, я изредка буду прерывать вас и задавать кое-какие вопросы, но в основном предоставлю вам самому все рассказать, так как знаю, что вы сделаете это лучше, чем кто бы то ни было. Но, чтобы Клайд был спокоен и все время помнил, что защитник находится рядом, подобно стене, бастиону между ним и нетерпеливой, недоверчивой и враждебной толпой, Джефсон придвинулся почти вплотную к нему, совсем близко: время от времени он даже ставил ногу на ступеньки свидетельской трибуны или, наклоняясь к Клайду, опирался рукою на ручку его кресла. Он то и дело повторял: «Да-да-а… Так-так… А дальше что?.. А потом?» И его уверенный, ободряющий, дружеский голос неизменно придавал Клайду силы, так что он сумел связно, твердо, не запинаясь, рассказать краткую повесть своей жизни. — Я родился в Грэнд-Рэпидс, штат Мичиган. В то время мои родители руководили в этом городе религиозной миссией и выступали с проповедями на улицах…Глава 90
Клайд дошел в своих показаниях до той поры, когда из Куинси, штат Иллинойс (там его родители одно время работали в Армии спасения), семья переехала в Канзас-Сити, где он, начиная с двенадцати и вплоть до пятнадцати лет, пытался найти какую-нибудь работу, потому что ему не нравилось учиться в школе и одновременно участвовать в религиозной деятельности, как того хотели родители. — И успешно шло ваше ученье в школе? — Нет, сэр. Нам приходилось слишком часто переезжать. — В каком классе вы учились, когда вам было двенадцать лет? — Видите ли, мне уже полагалось перейти в седьмой, но я был только в шестом. Поэтому мне и не нравилось в школе. — А как вы относились к религиозной деятельности родителей? — Да что ж, это дело хорошее… только я не любил по вечерам петь псалмы на улицах. И так он рассказывал дальше: о том, как служил в дешевой лавчонке, как продавал содовую воду и разносил газеты, пока, наконец, не стал рассыльным в «Грин-Дэвидсон» — лучшем отеле в Канзас-Сити, пояснил он. — Ну, вот что… — произнес Джефсон. (Он боялся, что Мейсон, стремясь вызвать недоверие к Клайду как свидетелю, станет чересчур копаться в происшествии с разбитым автомобилем и убитой девочкой в Канзас-Сити и испортит впечатление от показаний Клайда, — и решил опередить противника. Несомненно, правильно ведя допрос, можно будет объяснить и смягчить всю эту историю, а если предоставить это Мейсону, он, конечно, сделает из нее нечто чрезвычайно мрачное.) И потому Джефсон продолжал: — Сколько же времени вы там служили? — Немного больше года. — А почему ушли? — Видите ли, тут случилось одно несчастье… — Какое именно? И Клайд, заранее подготовленный и вымуштрованный, подробнейшим образом рассказал обо всем, включая смерть девочки и свое бегство, — всем этим Мейсон, конечно, собирался заняться сам. И теперь, слушая Клайда, он только покачал головой и проворчал иронически: — Сам преподнес… недурно сделано! А Джефсон, понимая все значение происходящего (похоже, что он вывел из строя одно из лучших орудий мистера Мейсона!), продолжал: — Сколько, вы сказали, вам тогда было лет? — Шел восемнадцатый. — Стало быть, вы хотите сказать следующее, — продолжал он, покончив со всеми вопросами, какие мог придумать в связи с этим происшествием, — вы не знали, что могли вернуться, поскольку машину взяли не вы, и не знали, что после ваших объяснений родители могли взять вас на поруки. — Заявляю протест! — крикнул Мейсон. — Ничем не доказано, что он мог вернуться в Канзас-Сити и что родители могли взять его на поруки. — Протест принят! — прогремел судья со своего возвышения. — Попрошу защиту при допросе свидетеля держаться ближе к делу. — Снимаю вопрос, — отозвался со своего места Белнеп. — Нет, сэр, я этого не знал, — все-таки ответил Клайд. — Во всяком случае именно по этой причине, уехав из Канзас-Сити, вы стали называть себя Тенет, как вы мне говорили? — продолжал Джефсон. — Да, сэр. — Кстати, Клайд, откуда вы взяли фамилию Тенет? — Так звали мальчика, с которым я играл в Куинси. — И это был хороший мальчик? — Заявляю протест! — крикнул с места Мейсон. — Неправильно, несущественно, не относится к делу. — Однако он мог дружить с хорошим мальчиком, наперекор всему, в чем вы хотели бы уверить присяжных, и в этом смысле мой вопрос очень даже относится к делу, — ехидно заметил Джефсон. — Протест принят! — загремел судья Оберуолцер. — А вам тогда не приходило в голову, что настоящему Тенету это может не понравиться и что вы можете доставить ему неприятности, раз его именем пользуется человек, вынужденный скрываться? — Нет, сэр… я думал, что Тенетов ужасно много… Тут слушателям полагалось бы снисходительно улыбнуться, но публика была так враждебно настроена, с таким ожесточением относилась к Клайду, что не могло быть и речи о подобном легкомыслии в зале суда. — Послушайте, Клайд, — продолжал Джефсон, поняв, что ему не удалось смягчить настроение толпы, — вы ведь любили свою мать, не так ли? Протест, перепалка, и в конце концов вопрос признан допустимым и законным. — Да, сэр, конечно, я любил ее, — ответил Клайд, но после легкого колебания, которое не прошло незамеченным: что-то стиснуло ему горло, и грудь его поднялась и опустилась в тяжелом вздохе. — Очень? — Да, сэр… очень. Теперь он не смел поднять глаз. — Она всегда делала для вас все, что могла и что считала правильным, — так? — Да, сэр. — Но в таком случае, хоть вас и постигло страшное несчастье, как же вы все-таки могли убежать и столько времени жить вдали от матери? Почему вы ни слова не сказали ей о том, что вы вовсе не так виноваты, как кажется, и что ей не нужно тревожиться, так как вы снова работаете и стараетесь вести себя как порядочный юноша? — Так ведь я писал ей, только не подписывался настоящим именем. — Понимаю. А еще как-нибудь давали о себе знать? — Да, сэр. Я однажды послал ей немножко денег. Десять долларов. — И вы совсем не думали о возвращении домой? — Нет, сэр. Я боялся, что меня арестуют, если я вернусь. — Иными словами, — с особенной выразительностью отчеканил Джефсон, — вы были умственным и нравственным трусом, как сказал мой коллега мистер Белнеп. — Я протестую против попыток растолковывать присяжным показания обвиняемого! — прервал Мейсон. — Показания обвиняемого, право же, не нуждаются в каком-либо истолковании. Они очень просты и правдивы, это понятно каждому, — быстро вставил Джефсон. — Протест принят! — объявил судья. — Продолжайте, продолжайте. — Значит, Клайд, как я понимаю, так вышло потому, что вы были в нравственном и умственном отношении трусом. Но я вовсе не осуждаю вас за то, в чем вы неповинны (в конце концов вы не сами себя сделали, верно?). Но это было уже слишком, и судья предостерег Джефсона, чтобы он впредь осторожнее выбирал выражения. — Стало быть, вы переезжали с места на место — в Олтон, Пеорию, Блюмингтон, Милуоки, Чикаго, забирались в какие-то каморки на окраинах, мыли посуду, продавали содовую воду, работали возчиком, скрывались под именем Тенета, в то время как могли бы, в сущности, вернуться в Канзас-Сити, на свою прежнюю службу? — продолжал Джефсон. — Протестую! Протестую! — завопил Мейсон. — Нет никаких доказательств, что он мог вернуться и поступить на прежнее место. — Протест принят, — решил Оберуолцер, хотя в эту минуту в кармане у Джефсона лежало письмо Френсиса Скуайрса, работавшего начальником над рассыльными в отеле «Грин-Дэвидсон» в то время, когда там служил Клайд: Скуайрс писал, что, помимо происшествия, связанного с катанием на чужом автомобиле, он не замечал за Клайдом ничего плохого: юноша всегда был исполнителен, честен, послушен, проворен и вежлив. Когда случилось то несчастное происшествие, мистер Скуайрс был убежден, что Клайд мог быть лишь одним из самых пассивных его участников и что, если бы он вернулся и толком рассказал о случившемся, его бы оставили в отеле. И все это сочли не относящимся к делу! Дальше Клайд рассказал о том, как, сбежав от неприятностей, грозивших ему в Канзас-Сити, и проведя два года в скитаниях с места на место, он наконец нашел работу в Чикаго — сначала возчиком, а потом рассыльным в «Юнион-клубе»; о том, что с первого же места, где он получил работу, он написал матери, а потом, по ее настояниям, собирался написать дяде, — и тут как раз встретил его в клубе, и дядя предложил ему приехать в Ликург. Далее по порядку изложены были все подробности того, как он начал работать, как получил повышение и двоюродный брат и начальник цеха сообщили ему существующие на фабрике правила и, наконец, как он познакомился с Робертой, а потом и с мисс X. Клайд подробно рассказал, как он ухаживал за Робертой Олден и как, добившись ее любви, чувствовал и считал себя счастливым, но появление мисс Х и ее неотразимое очарование вызвали резкую перемену в его отношении к Роберте: она все еще очень нравилась ему, но он уже не мог, как прежде, желать брака с нею. Тут поспешно вмешался Джефсон: обнаруженное Клайдом непостоянство было слишком неприятным свойством, чтобы можно было так быстро заговорить о нем в показаниях, и Джефсон захотел отвлечь внимание присяжных. — Клайд, — прервал он, — вы сначала в самом деле любили Роберту Олден? — Да, сэр. — Тогда вы должны были знать или хотя бы сразу понять по ее поступкам, что она глубоко порядочная, чистая и набожная девушка, так? — Да, сэр, я именно так о ней и думал, — повторил Клайд заученный ответ. — Тогда не можете ли вы в самых общих чертах, не вдаваясь в подробности, объяснить самому себе и присяжным, как, почему, где и когда возникла перемена в ваших чувствах, приведшая к отношениям, которые все мы (тут Джефсон обвел публику, а затем и присяжных дерзким, проницательным и холодным взглядом) сурово осуждаем. Если вы вначале были столь высокого мнения о ней, как же случилось, что вы так быстро дошли до столь недозволенных отношений? Разве вы не знали, что, с точки зрения всех мужчин, а также и всех женщин, отношения эти греховны и вне брака непростительны, что это преступление? Смелость и едкая ирония Джефсона вызвали в растерянно притихшей публике беспокойное движение, — заметив это, и Мейсон и судья Оберуолцер опасливо нахмурились. Что за наглый, циничный мальчишка! Как он смеет коварными намеками под видом серьезного допроса внушать подобную мысль, в которой скрыто посягательство на самые основы общества, на религиозные и моральные устои! Вот он стоит, дерзкий, бесстрастный и надменный, и слушает ответ Клайда: — Да, сэр, мне кажется, я это знал… конечно… но, право же, я никогда не старался ее соблазнить ни сначала, ни потом. Просто я был в нее влюблен. — Вы были влюблены в нее? — Да, сэр. — Очень? — Очень. — И она тоже была сильно влюблена в вас? — Да, сэр. — С самого начала? — С самого начала. — Она говорила вам это? — Да, сэр. — А в то время, когда она переезжала от Ньютонов, — вы ведь слышали все, что говорили об этом свидетели, — вы не уговаривали ее, не старались любым способом, обманом или какими-нибудь доводами убедить ее переехать от них? — Нет, сэр. Она сама захотела переехать. Она только просила, чтобы я помог ей найти комнату. — Попросила, чтобы вы помогли найти комнату? — Да, сэр. — А почему, собственно? — Потому, что она не очень хорошо знала город и думала, что я, может быть, посоветую ей, где найти хорошую, не слишком дорогую для нее комнату. — И вы указали ей комнату, которую она сняла у Гилпинов? — Нет, сэр. Я ей никаких комнат не указывал. Она нашла ее сама. (Это был в точности заученный им ответ.) — А почему же вы ей не помогли? — Потому что я был занят по целым дням и почти все вечера. И потом я думал, что ей самой лучше знать, чего она хочет, — у каких людей поселиться и все такое. — А вы сами когда-нибудь бывали в доме Гилпинов до того, как она туда переехала? — Нет, сэр. — Были у вас с нею до ее переезда какие-нибудь разговоры о том, какую именно комнату ей следует снять — с каким входом и выходом, насколько уединенную и прочее? — Нет, сэр, я никогда с ней об этом не говорил. — И никогда не настаивали, к примеру, чтобы она сняла такую комнату, куда вы могли бы проскользнуть и откуда могли бы выйти ночью или днем, никому не попадаясь на глаза? — Никогда. И, кроме того, в этот дом очень трудно было войти и очень трудно выйти незаметно. — Почему же? — Потому что дверь ее комнаты была рядом с Парадной дверью, через которую все входили и выходили, и каждый мог заметить чужого человека. (Этот ответ тоже был заучен наизусть.) — Но вы ведь все-таки пробирались в дом потихоньку? — Да, сэр… то есть, видите ли, мы оба с самого начала решили, что, чем меньше нас будут видеть вместе где бы то ни было, тем лучше. — Из-за того фабричного правила? — Да, сэр, из-за того правила. За этим последовал рассказ о различных затруднениях с Робертой, причиной которых было появление в его жизни мисс X. — Теперь, Клайд нам придется поговорить немного о мисс X. По договоренности между защитой и обвинением, — основания для этого вам, господа присяжные, разумеется, понятны, — мы можем лишь слегка затронуть эту тему, поскольку речь идет о совершенно ни в чем не повинной особе, чье настоящее имя нет никакой надобности здесь называть. Но некоторых фактов придется коснуться, хотя мы будем обращаться с ними возможно деликатнее — столько же ради той, что жива и ни в чем не виновата, сколько и ради покойной. И я уверен, что мисс Олден согласилась бы с этим, будь она жива. Так вот, относительно мисс X, — продолжал Джефсон, обернувшись к Клайду. — Обе стороны уже признали, что вы познакомились с нею в Ликурге примерно в ноябре или декабре прошлого года. Верно это? — Да, сэр, это верно, — грустно ответил Клайд. — И вы тотчас безумно влюбились в нее? — Да, сэр. Это правда. — Она богата? — Да, сэр. — Красива? Это, я полагаю, признано всеми, — прибавил Джефсон, обращаясь к суду в целом и вовсе не ожидая ответа Клайда, но тот, в совершенстве вымуштрованный, все же ответил: — Да, сэр. — В то время, когда вы впервые встретились с мисс X, вы двое — вы и мисс Олден, хочу я сказать, — уже вступили в незаконную связь, о которой шла речь? — Да, сэр. — Тогда, принимая все это во внимание… нет, вот что, одну минуту, я сперва хочу спросить вас о другом… дайте сообразить… Скажите, когда вы встретились с мисс X, вы все еще любили Роберту Олден? — Да, сэр, я любил ее. — До этого времени вы никогда не чувствовали, что она становится вам в тягость? — Нет, сэр. — Ее любовь и дружба были вам так же дороги и отрадны, как и прежде? — Да, сэр? Говоря это, Клайд вспоминал прошлое, и ему казалось, что он сказал чистую правду. Да, правда, как раз перед встречей с Сондрой он действительно был очень спокоен и счастлив с Робертой. — А скажите, до встречи с мисс Х были у вас с мисс Олден какие-нибудь планы на будущее? Вы же, наверно, задумывались над этим, — так? — Н-не совсем (и Клайд нервно облизнул пересохшие от волнения губы)… Видите ли, я вообще ничего не обдумывал заранее, то есть ничего плохого для Роберты… И она, конечно, тоже ничего такого не думала. Просто нас с самого начала несло по течению. Наверно, так вышло потому, что мы были очень одиноки. У нее в Ликурге никого не было, у меня тоже. И тут еще это правило, — из-за него я нигде не мог бывать с нею… а уж когда мы сблизились, так все и пошло само собой, и мы не очень задумывались над этим — ни она, ни я. — Вы просто плыли по течению, потому что пока с вами ничего не случилось и вы не думали, что может случиться? Так? — Нет, сэр. То есть да, сэр. Так оно и было. — Клайд ужасно старался безукоризненно повторить эти много раз прорепетированные и очень важные ответы. — Но должны же вы были о чем-то думать, кто-нибудь один или вы оба. Ведь вам был двадцать один год, а ей двадцать три. — Да, сэр. Мне кажется, мы… кажется, я думал иногда. — Что же именно вы думали? Не припомните? — По-моему, да, сэр, я помню. То есть я знаю точно, я иногда думал, что если все пойдет хорошо и я начну побольше зарабатывать, а она найдет работу в другом месте, то я смогу всюду бывать с ней открыто, а после, если мы с ней будем все так же любить друг друга, можно будет и пожениться. — Вы в самом деле думали тогда, что женитесь на ней? — Да, сэр. Определенно думал — именно так, как я сказал. — Но это было до того, как вы встретили мисс X? — Да, сэр, это было раньше. («Здорово сделано!» — язвительно заметил Мейсон на ухо сенатору Редмонду. «Великолепный спектакль», — театральным шепотом ответил Редмонд.) — А говорили вы ей на этот счет что-нибудь определенное? — продолжал Джефсон. — Нет, сэр, не помню… Как будто ничего определенного не говорил. — Что-нибудь одно — либо говорили, либо нет. Что же именно? — Да, право же, ни то, ни другое. Я часто говорил, что люблю ее и хочу, чтобы мы всегда были вместе, и надеюсь, что она никогда меня не оставит. — Но вы не говорили, что хотите на ней жениться? — Нет, сэр, что хочу жениться, не говорил. — Так, так, хорошо… А она? Что она говорила? — Что она никогда меня не оставит, — с усилием, несмело ответил Клайд, вспоминая последний крик Роберты и ее последний взгляд. И, достав из кармана платок, он принялся вытирать лицо и ладони, покрытые холодным потом. («Отличная постановка!» — с издевкой пробормотал Мейсон. «Неглупо, неглупо!» — небрежно заметил Редмонд.) — Но скажите, — ровным тоном невозмутимо продолжал Джефсон, — если у вас было такое чувство к мисс Олден, как же вы могли так быстро изменить свое отношение к ней после встречи с мисс X? Разве вы так непостоянны, что ваши мысли и чувства меняются с каждым днем? — Ну, об этом я раньше никогда не думал… Нет, сэр, я не такой! — А до того, как вы познакомились с мисс Олден, вам случалось когда-нибудь серьезно любить? — Нет, сэр. — Но считали ли вы, что ваши отношения с мисс Олден серьезны и прочны, — что это настоящая любовь, — пока не встретились с мисс X? — Да, сэр, я так и считал. — А потом, после этой встречи? — Ну, потом… потом уже все стало по-другому. — Вы хотите сказать, что после того, как вы раз или два увидели мисс X, мисс Олден стала вам совершенно безразлична? И тут Клайда осенило: — Нет, сэр, не то. Не совсем так, — поспешно и решительно возразил он. — Я продолжал любить ее… даже очень, правда! Но я и опомниться не успел, как совсем потерял голову из-за… из-за… мисс… мисс… — Ну да, из-за этой мисс X. Это мы знаем. Вы безумно и безрассудно влюбились в нее — так? — Да, сэр. — И дальше что? — Дальше… ну… я уже просто не мог относиться к мисс Олден, как раньше. При этих словах лоб и щеки Клайда снова стали влажны. — Понятно! Понятно! — громко и подчеркнуто, чтобы произвести впечатление на присяжных и публику, заявил Джефсон: — Сказка Шехерезады — чаровница и очарованный. — Я не понимаю, что вы говорите, — растерянно сказал Клайд. — Я говорю о колдовстве, мой друг, о том, что человек подвластен чарам красоты, любви, богатства — всего, чего мы подчас так жаждем и не можем достичь, — такова чаще всего любовь в нашем мире. — Да, сэр, — простодушно согласился Клайд, справедливо заключив, что Джефсон просто-напросто хотел блеснуть красноречием. — Но вот что я хочу знать. Если вы так любили мисс Олден, как говорите, и добились таких отношений с нею, которые следовало освятить браком, как же вы настолько не чувствовали своих обязательств, своего долга перед нею, что у вас могла явиться мысль бросить ее ради мисс X? Как это произошло, хотел бы я знать, — и я уверен, что это интересует также и господ присяжных. Где было ваше чувство благодарности? И чувство нравственного долга? Может быть, вы скажете, что у вас нет ни того, ни другого? Мы хотим это знать. Поистине, это был допрос с пристрастием — нападение на собственного свидетеля. Но Джефсон говорил только то, что был вправе сказать, и Мейсон не вмешался. — Но я… Клайд смутился и запнулся, как будто его не научили заранее, что нужно ответить: казалось, он мысленно ищет какого-нибудь вразумительного объяснения. Да так и было в действительности, потому что, хоть он и зазубрил ответ, но, услышав этот вопрос на суде и вновь оказавшись лицом к лицу с проблемой, которая так смущала и мучила его в Ликурге, он не сразу вспомнил, чему его учили… Он мялся, поеживаясь, и наконец произнес: — Видите ли, сэр, я как-то почти не думал об этом. Я не мог думать с тех пор, как увидел ее. Я иногда пробовал, но у меня ничего не выходило. Я чувствовал, что одна она нужна мне, а не мисс Олден. Я знал, что это нехорошо… да, конечно… и мне было очень жалко Роберту… Но все равно, я просто ничего не мог поделать. Я мог думать только о мисс Х и не мог относиться к Роберте по-старому, сколько ни старался. — Вы хотите сказать, что вас из-за этого ничуть не мучила совесть? — Мучила, сэр, — отвечал Клайд. — Я знал, что поступаю нехорошо, и очень огорчался за нее и за себя; но все равно, я не мог иначе. (Он повторял слова, написанные для него Джефсоном; впрочем, прочитав их впервые, он почувствовал, что все это чистая правда: он и в самом деле тогда испытывал известные угрызения совести.) — Что же дальше? — Потом она стала жаловаться, что я бываю у нее не так часто, как раньше. — Иными словами, вы стали пренебрегать ею? — Да, сэр, отчасти… но не совсем… нет, сэр. — Ну, хорошо, а как вы поступили, когда поняли, что так сильно увлеклись этой мисс X? Сказали мисс Олден, что больше не любите ее, а любите другую? — Нет, тогда не сказал. — Почему? Может быть, по-вашему, честно и порядочно говорить сразу двум девушкам, что вы их любите? — Нет, сэр, но ведь это было не совсем так. Видите ли, тогда я только что познакомился с мисс Х и еще ничего ей не говорил. Она бы не позволила. Но все-таки я тогда уже знал, что не могу больше любить мисс Олден. — Но ведь у мисс Олден были на вас известные права? Уже одно это должно было бы помешать вам ухаживать за другой девушкой — вы этого не понимали? — Понимал, сэр. — Тогда почему же вы это делали? — Я не мог устоять перед ней. — Вы говорите о мисс X? — Да, сэр. — Стало быть, вы бегали за ней до тех пор, пока не заставили ее полюбить вас? — Нет, сэр, это было совсем не так. — А как же? — Просто я встречался с нею то тут, то там и стал по ней с ума сходить. — Понятно. Но все же вы не пошли к мисс Олден и не сказали, что больше не можете относиться к ней по-старому? — Нет, сэр. Тогда не сказал. — Почему же? — Я думал, что она огорчится, — я не хотел, чтобы ей было больно. — Так, понятно. Стало быть, у вас не хватало эмоционального и умственного мужества для того, чтобы сказать ей правду? — Я не разбираюсь в эмоциональном и умственном мужестве, — отвечал Клайд, несколько задетый и уязвленный таким определением, — просто я очень ее жалел. Она часто плакала, и я не решался сказать ей правду. — Понятно. Что ж, пусть будет так. Но я хочу спросить вот о чем. Ваши отношения с мисс Олден оставались столь же близкими и после того, как вы поняли, что больше не любите ее? — Н-нет, сэр… во всяком случае, недолго, — пристыженно пробормотал Клайд. Он думал, что все в зале суда слышат его… и мать, и Сондра, и все люди по всей Америке узнают из газет, что он ответил! Когда несколько месяцев назад Джефсон впервые показал ему эти вопросы, Клайд спросил, зачем они нужны, и Джефсон ответил: «Для воспитательного воздействия. Чем неожиданнее и чем сильнее мы поразим присяжных кое-какими жизненными фактами, тем легче добьемся, чтобы они сколько-нибудь здраво поняли, в чем заключалась стоявшая перед вами задача. Но вы не очень беспокойтесь об этом. Когда настанет время, вы просто отвечайте на вопросы, а остальное предоставьте нам. Мы знаем, что делаем». И теперь Клайд продолжал: — Видите ли, после встречи с мисс Х я больше не мог относиться к Роберте, как прежде, и поэтому старался поменьше видеться с нею. Но, во всяком случае, очень скоро после этого она… попала в беду… ну, и тогда… — Понятно. А когда примерно это случилось? — В конце января. — Ну, и что же? Когда это случилось, вы не почувствовали, что при таких обстоятельствах ваш долг — жениться на ней? — Но… нет, в тех условиях нет… то есть, я хочу сказать, если бы мне удалось ее выручить. — А почему, собственно, нет? И что значит «в тех условиях»? — Видите ли… все было, как я вам говорил. Я больше не любил ее, и ведь я не обещал ей жениться, — она это знала. Поэтому я думал, что будет более или менее правильно, если я помогу ей от этого избавиться, а потом скажу, что больше не люблю ее. — А все-таки вы не сумели ей помочь? — Нет, сэр. Но я старался. — Вы обращались к аптекарю, который давал здесь показания? — Да, сэр. — И к кому-нибудь еще? — Да, сэр, я обошел семь аптек, пока наконец достал хоть что-то. — Но то, что вы достали, не помогло? — Нет, сэр. — Молодой торговец галантереей показал, что вы обращались к нему, — было это? — Да, сэр. — И он указал вам какого-нибудь врача? — Д-да… но… я не хотел бы называть его. — Ладно, можете не называть. Но вы послали мисс Олден к врачу? — Да, сэр. — Она пошла одна или вы ее сопровождали? — Я проводил ее… то есть только до дверей. — Почему только до дверей? — Потому что… мы обсудили это и решили — и она и я, — что так, пожалуй, будет лучше. У меня тогда было мало денег. Я думал, что, может быть, доктор поможет ей за меньшую плату, если она придет одна, а не вдвоем со мной. («Черт побери, а ведь он крадет мои громы и молнии! — подумал тут Мейсон. — Он перехватил большую часть вопросов, которыми я рассчитывал запутать Грифитса». — И он встревоженно выпрямился. Бэрлей, Редмонд, Эрл Ньюком — все теперь ясно поняли замысел Джефсона.) — Понятно. А может быть, дело было еще и в том, что вы боялись, как бы о ваших с нею отношениях не прослышали ваш дядя или мисс X? — О да, я… то есть мы оба думали и говорили об этом. Она понимала, в каком я положении. — Но о мисс Х речи не было? — Нет, не было. — Почему? — Потому что… Я думал, что как раз тогда не следовало ей об этом говорить. Она бы слишком расстроилась. Я хотел подождать, пока у нее все уладится. — А тогда сказать ей все и оставить ее, — вы это имеете в виду? — Да… если бы я чувствовал, что не могу относиться к ней по-старому… Да, сэр. — Но не тогда, когда она была в таком положении? — Нет, сэр, тогда нет. Но, видите ли, в то время я еще надеялся, что помогу ей от этого избавиться. — Понятно. И ее положение не повлияло на ваше отношение к ней? Не вызвало у вас желания отказаться от мисс Х и жениться на мисс Олден и таким образом все исправить? — Нет, сэр… тогда нет… то есть не в тот раз. — Что значит «не в тот раз»? — То есть я стал думать об этом позже, как я вам говорил… но не тогда… Это было после… когда мы поехали к Адирондакским горам. — А почему не тогда? — Я уже сказал, почему. Я совсем потерял голову из-за мисс Х и больше ни о чем не мог думать. — Вы даже тогда не могли изменить свое отношение к мисс Олден? — Нет, сэр. Мне было очень жаль ее, но я не мог иначе. — Понятно. Ну, пока оставим это. Потом я еще вернусь к этому вопросу. Сейчас я хотел бы, чтобы вы, если можете, постарались объяснить присяжным, что же именно так привлекло вас в мисс X, отчего она вам нравилась настолько больше мисс Олден? Что именно, какие особенности ее поведения, внешности, характера или положения в обществе до такой степени вас прельщали? Вы-то сами это понимаете? И Белнеп и Джефсон на разные лады и по разным психологическим, юридическим и личным причинам не раз прежде задавали Клайду этот вопрос и получали самые разные ответы. Вначале он вообще не хотел говорить о Сондре, опасаясь, что любые его слова будут подхвачены и повторены на суде и в газетах с упоминанием ее имени. Потом, поскольку все газеты замалчивали ее настоящее имя, стало ясно, что ей не угрожает публичный скандал, и тогда он позволил себе говорить о ней несколько свободнее. Но здесь, на суде, он снова стал осторожен и замкнут. — Ну, это трудно объяснить… По-моему, она красавица, гораздо красивее Роберты. Но не только в этом дело. Она совсем не такая, как все, кого я знал раньше… гораздо самостоятельнее… и все с таким вниманием относились ко всему, что она делала и говорила. Мне кажется, она знает гораздо больше, чем все мои прежние знакомые. И она ужасно хорошо одевается и очень богата, и принадлежит к лучшему обществу, и газеты часто пишут о ней и помещают ее портреты. Когда я ее не видел, я каждый день читал о ней в газетах, и мне казалось, что она все время со мной. И потом, она очень смелая, не такая простая и доверчивая, как мисс Олден… сперва я даже не мог поверить, что она стала мною интересоваться. А под конец я больше ни о ком и ни о чем не мог думать, и о Роберте тоже. Я просто не мог, — ведь мисс Х все время была передо мной. — Да, на мой взгляд, вы поистине были влюблены, прямо загипнотизированы, — ввернул Джефсон в виде обобщения, уголком глаза наблюдая за присяжными. — Типичная картина помешательства от любви, — яснее, по-моему, некуда. Но и публика и присяжные выслушали его замечание с неподвижными, каменными лицами. И сразу после этого пришлось окунуться в быстрые, мутные воды предполагаемого злостного умысла, ибо все остальное было лишь вступлением. — Итак, Клайд, что же случилось потом? Расскажите нам подробно все, что помните. Ничего не смягчайте, не старайтесь казаться ни лучше, ни хуже, чем вы были на самом деле. Она мертва — и вы тоже умрете, если эти двенадцать джентльменов под конец придут к такому решению. (От этих слов точно ледяной холод пронизал и Клайда и всех, кто находился в зале суда.) Но ради вашего же душевного спокойствия вам лучше говорить правду. (Тут Джефсон подумал о Мейсоне: пусть попробует отбить такой удар!) — Да, сэр, — просто сказал Клайд. — Стало быть, она попала в беду, и вы не сумели ей помочь. Ну, а потом? Что вы тогда сделали? Как поступили? Да, кстати, какое жалованье вы получали в то время? — Двадцать пять долларов в неделю, — признался Клайд. — Других источников дохода не имели? — Простите, я не понял. — Были у вас тогда какие-либо другие источники откуда вы могли бы так или иначе достать денег? — Нет, сэр. — Сколько вам стоила комната? — Семь долларов в неделю. — А стол? — Долларов пять-шесть. — Были еще какие-нибудь расходы? — Да, сэр: на одежду и на стирку. — Должно быть, вам приходилось также участвовать в расходах, связанных со всякими светскими развлечениями? — Протестую, это наводящий вопрос! — выкрикнул Мейсон. — Протест принят, — заявил судья Оберуолцер. — Можете вы припомнить еще какие-нибудь расходы? — Да, на трамвай, на поездки по железной дороге. И потом — я должен был вносить свою долю, когда участвовал во всяких развлечениях. — Вот именно! — в ярости крикнул Мейсон. — Я считаю, что хватит вам подсказывать этому попугаю! — А я считаю, что почтеннейшему прокурору незачем путаться не в свое дело, — фыркнул Джефсон, отбиваясь и за себя и за Клайда. Ему хотелось сломить страх Клайда перед Мейсоном. — Я допрашиваю подсудимого, а что касается попугаев, то мы за последнее время видели их тут сколько угодно, и натасканы они были, как самые отъявленные школьные зубрилы. — Это злостная клевета! — завопил Мейсон. — Я протестую и требую извинения! — Ваша честь, извинение должно быть принесено мне и моему подзащитному, и оно будет быстро получено, если только ваша честь соизволит объявить перерыв на несколько минут. — И, решительно подступив к Мейсону, Джефсон прибавил: — Я сумею добиться извинения и без помощи суда. Мейсон сжал кулаки, готовясь отразить нападение. Блюстители порядка в зале суда, стенографисты, газетчики и даже клерк поспешно окружили обоих юристов и схватили их за руки, пока судья Оберуолцер неистово стучал по столу своим молотком. — Джентльмены! Джентльмены! Вы оба проявляете неуважение к суду! Немедленно извинитесь перед судом и друг перед другом, иначе я объявлю процесс недействительным, подвергну вас десятидневному аресту и оштрафую на пятьсот долларов каждого. Говоря это, судья со своего возвышения сурово поглядел на обоих. И тотчас Джефсон ответил самым учтивым и вкрадчивым тоном: — Если так, ваша честь, я приношу свои извинения вам, господину прокурору и господам присяжным. Нападки прокурора на обвиняемого показались мне слишком несправедливыми и неуместными, вот и все. — Не следует обращать на это внимание, — заметил Оберуолцер. — Если так, ваша честь, я приношу свои извинения вам и господину защитнику. Может быть, я немного погорячился. Да и подсудимому тоже, — насмешливо прибавил Мейсон, взглянув сначала в гневные и непреклонные глаза судьи Оберуолцера, а затем в глаза Клайда, который сразу вздрогнул и отвернулся. — Продолжайте, — сердито проворчал Оберуолцер. — Итак, Клайд, — вновь начал Джефсон так спокойно, словно вызвать всю эту бурю значило для него не больше, чем чиркнуть спичкой, — вы сказали, что ваше жалованье составляло двадцать пять долларов в неделю и что у вас были всевозможные расходы. И вы не сумели к тому времени отложить немного на черный день? — Нет, сэр… очень немного… почти что ничего. — Так. Ну, а если бы врач, к которому обратилась мисс Олден, согласился помочь ей за вознаграждение, скажем, в сто долларов, — вы могли бы заплатить столько? — Нет, сэр… то есть не сразу. — Вам неизвестно, были ли у нее какие-нибудь свои деньги? — Насколько я знаю, не было, сэр. — Тогда как же вы рассчитывали ей помочь? — Видите ли, я думал, что если она или я найдем доктора и он согласится ждать, я, может быть, сумею, откладывая понемногу, расплатиться с ним в рассрочку. — Понятно. И вы искренне хотели так сделать? — Да, сэр, конечно. — И вы говорили ей об этом? — Да, сэр. Она это знала. — Но ни вам, ни ей не удалось найти врача, который помог бы ей, — а что дальше? Что вы тогда сделали? — Тогда она захотела, чтобы я на ней женился. — Немедленно? — Да, сэр, немедленно. — Что же вы на это ответили? — Я сказал ей, что никак не могу сразу жениться. У меня не было для этого денег. И, кроме того, если бы мы поженились и никуда не уехали, по крайней мере, до тех пор, пока не родится ребенок, все вышло бы наружу и я потерял бы место. Да и она тоже. — Почему же? — А мои родственники? Мне кажется, они не захотели бы оставить меня на фабрике, да и ее тоже. — Понятно. Они сочли бы, что вы оба не годитесь для этой работы. — Во всяком случае, так я думал, — ответил Клайд. — А дальше что? — Видите ли, сэр, если бы я и хотел уехать с нею и обвенчаться, у меня не было для этого денег и у нее тоже. Мне пришлось бы сперва отказаться от своего места и подыскать где-нибудь другое, а уж потом она могла бы приехать ко мне. Кроме того, я знал, что нигде не смогу зарабатывать столько, сколько здесь. — А служба в отеле? Вы не могли вернуться к этому делу? — Да, пожалуй… если бы у меня были какие-нибудь рекомендации. Но я не хотел к этому возвращаться. — Почему же? — Мне не хотелось больше этим заниматься… не нравился такой образ жизни. — Но не хотите же вы сказать, что вы вообще не желали ничего делать? Разве таковы были ваши намерения? — Нет, сэр! Вовсе, нет. Я ей сразу сказал, что если она уедет на время — до рождения ребенка — и даст мне возможность остаться в Ликурге, то я постараюсь жить скромнее и буду посылать ей все, что сумею сэкономить, пока она не сможет опять зарабатывать сама. — Но вы не думали с нею обвенчаться? — Нет, сэр, тогда я просто не в силах был венчаться. — Что она вам на это сказала? — Она не согласилась. Она сказала, что не может и не хочет оставаться в таком положении и что я должен с нею обвенчаться. — Понятно. Тут же, сразу? — Ну, да… во всяком случае, поскорее. Обождать немного она соглашалась, но уехать — ни за что, если только я не женюсь на ней. — Вы ей сказали, что больше не любите ее? — Да, почти… да, сэр. — Что значит «почти»? — Я сказал, что… что не хочу жениться. И потом, она знала, что я уже не люблю ее. Она сама это говорила. — Она вам говорила? В то время? — Да, сэр, сколько раз. — Что ж, верно. Это было и во всех ее письмах, которые нам здесь читали. Но что вы сделали, когда она так решительноотказалась уехать? — Я не знал, что делать… Но я думал, может быть, я уговорю ее поехать на время домой, а сам постараюсь скопить денег и… может быть… когда она будет дома… и поймет, что я очень не хочу на ней жениться… (Клайд запнулся и умолк. Тяжело было так лгать). — Так, продолжайте. И помните: правда, как бы вы ее ни стыдились, всегда лучше лжи. — Я думал, может быть, когда она еще больше испугается и станет не такой несговорчивой… — А сами вы не боялись? — Да, сэр, боялся. — Ладно, продолжайте. — Так вот… я думал… может быть, если я предложу ей все деньги, сколько сумею до тех пор собрать… понимаете ли, я хотел попробовать еще и занять у кого-нибудь… тогда, может быть, она согласится уехать и не заставит меня венчаться с ней… просто поселится где-нибудь в другом городе, а я буду ей помогать. — Понятно. Но она не согласилась на это? — Нет… То есть на то, чтобы не венчаться… Но она согласилась поехать на месяц домой. Я только не мог ее уговорить, чтобы она от меня отказалась. — Вы говорили ей тогда или когда-нибудь прежде или после, что приедете и обвенчаетесь с нею? — Нет, сэр. Никогда не говорил. — А что же именно вы ей сказали? — Сказал, что… как только достану денег… — от волнения и стыда Клайд начал заикаться, — …примерно через месяц я приеду за ней, и мы уедем куда-нибудь на время, пока… пока… ну, пока все это не кончится. — Но вы не сказали, что женитесь? — Нет, сэр. Не говорил. — А она, конечно, этого хотела? — Да, сэр. — Вы не считали тогда, что она может вас заставить? То есть, что вам против воли придется на ней жениться? — Нет, сэр, я этого не думал. Я бы старался всеми силами, чтобы так не случилось. У меня был план: я хотел ждать возможно дольше и собрать как можно больше денег, а потом отказаться от брака, отдать ей все деньги и в дальнейшем помогать ей всем, чем смогу. — Но вам известно, — тут Джефсон заговорил весьма мягко и дипломатично, — что вот в этих письмах, которые писала вам мисс Олден (он дотянулся до стола прокурора, взял пачку подлинных писем Роберты и торжественно взвесил их на ладони), имеются различные упоминания о некоем решении, которое было у вас обоих связано с этой поездкой, — по крайней мере, она, очевидно, так считала. Так вот, что же это было за решение? Если я правильно припоминаю, она определенно пишет: «у нас все решено». — Да, я знаю, — ответил Клайд: ведь целых два месяца они с Белнепом и Джефсоном обсуждали этот вопрос. — Но единственное решение, о котором мне известно (он изо всех сил старался казаться искренним и говорить убедительно), — это решение, которое я предлагал ей снова и снова. — Какое же именно? — Так вот, чтобы она уехала, сняла где-нибудь комнату и предоставила мне помогать ей, а время от времени я бы ее навещал. — Ну нет, вы что-то не то говорите, — не без умысла возразил Джефсон. — Не может быть, чтобы она это имела в виду. В одном из писем она говорит, что понимает, как вам трудно будет уехать и оставаться с нею так долго, — пока она не оправится, — но что тут ничем нельзя помочь. — Да, я знаю, — ответил Клайд быстро и в точности как ему было велено. — Но это был ее план, а не мой. Она все время повторяла, что хочет этого и что так мне и придется сделать. Несколько раз она говорила об этом по телефону, и я, может быть, отвечал: «Ладно, ладно», — но вовсе не в том смысле, что вполне согласен с нею, а просто что мы еще поговорим об этом после. — Понятно. Стало быть, вы думаете, что она имела в виду одно, а вы другое? — Я знаю только, что в этом я никогда с нею не соглашался. То есть я все время просил ее подождать еще и ничего не предпринимать, пока я не соберу достаточно денег; я рассчитывал приехать и обсудить все с нею еще раз и уговорить ее, чтобы она уехала, — так, как я предлагал. — Ну, а если бы она не согласилась, тогда что? — Тогда я думал рассказать ей про мисс Х и просить, чтобы она меня отпустила. — А если бы она все-таки настаивала? — Ну, тогда я, пожалуй, убежал бы… но мне даже не хотелось об этом думать. — Вам, конечно, известно, Клайд, что кое-кто из присутствующих полагает, будто примерно в это время в вашем сознании зародился преступный план: укрыться под чужим именем, завлечь мисс Олден на одно из уединенных озер в Адирондакских горах и хладнокровно убить или утопить, для того чтобы свободно, без помехи жениться на мисс X. Так вот, правда ли это? Скажите присяжным — да или нет? — Нет! Нет! Никогда я не думал убивать ни ее, ни кого другого, — поистине трагически запротестовал Клайд, сжимая ручки кресла и стараясь, как его учили, чтобы эти слова прозвучали возможно взволнованнее и выразительнее. Он привстал и всячески пытался казаться твердо уверенным в себе и внушить доверие, хотя в эту минуту все в нем было полно вопиющим сознанием, что именно таков и был его замысел… и это сознание, ужасное, мучительное, отнимало у него силы. Взгляды всего зала были прикованы к нему. Взгляды судьи, и присяжных, и Мейсона, и всех репортеров. И снова на лбу его выступил холодный пот. Он лихорадочно провел кончиком языка по запекшимся тонким губам и с усилием глотнул, потому что в горле у него пересохло. И вот шаг за шагом, начиная с первых писем Роберты после ее приезда к родным и кончая письмом, в котором она требовала, чтобы Клайд приехал за нею, угрожая в противном случае вернуться в Ликург и изобличить его, Джефсон разобрал все стадии «предполагаемого» злоумышления и преступления, всячески стараясь преуменьшить и окончательно опровергнуть все, что свидетельствовало против Клайда. Считают подозрительным, что Клайд не писал Роберте. Но ведь он боялся осложнений из-за родственников, из-за своей работы, из-за всего на свете. То же относится и к встрече в Фонде, о которой он условился с Робертой. В то время у него не было никакого плана поездки в какое-либо определенное место. Была только смутная мысль встретиться с нею где-нибудь — где придется — и по возможности убедить ее расстаться с ним. Но наступил июль, а его планы были все еще очень неопределенны, и тут ему пришло на ум, что они могут съездить куда-нибудь за город, в недорогую дачную местность. И в Утике сама Роберта предложила поехать на какое-нибудь из северных озер. Там, в гостинице, а вовсе не на вокзале, он достал несколько карт и путеводителей (в известном смысле роковое утверждение, потому что у Мейсона был один из этих путеводителей с штампом отеля «Ликург» на обложке — штампом, которого Клайд в свое время не заметил, и Мейсон подумал об этом, слушая его показания). Клайд уехал из Ликурга потихоньку, с далекой окраины, — что же, несомненно, он хотел сохранить в тайне свою поездку с Робертой, но только для того, чтобы уберечь ее и себя от всяких толков. Именно этим объясняется езда в разных вагонах, запись в качестве «мистера и миссис Голден» и прочее — целая серия уловок и уверток, для того чтобы остаться незамеченными. Что касается двух шляп, просто старая загрязнилась, и, увидев подходящую, он купил еще одну. А потом, потеряв шляпу во время катастрофы, он, естественно, надел вторую. Разумеется, у него был при себе фотографический аппарат, и верно, что он брал его с собою к Крэнстонам, когда гостил у них в первый раз восемнадцатого июня. И он вначале отпирался от этой своей собственности по одной-единственной причине: из страха, что его отношение к чисто случайной смерти Роберты поймут ложно и ему трудно будет оправдаться. Его ошибочно обвинили в убийстве с первой же минуты ареста в лесу, — а он и без того был перепуган всем случившимся во время этой злополучной поездки и не имел защитника и никого, кто замолвил бы за него хоть слово; он вообразил, что самое лучшее вообще ничего не говорить, и поэтому тогда попросту все отрицал. Но, когда ему дали защитников, он тотчас поведал им подлинную историю случившегося. То же и с пропавшим костюмом: так как он был промокший и грязный, Клайд еще в лесу свернул его в узелок и, добравшись до Крэнстонов, засунул куда-то среди камней, рассчитывая позже достать его и отдать в чистку. Познакомившись с мистерами Белнепом и Джефсоном, он сразу сказал им об этом; костюм достали, вычистили и вернули ему. — А теперь, Клайд, расскажите нам о своих планах и об этой поездке на озеро. И тут — в точности, как в свое время Джефсон излагал это Белнепу, — последовал рассказ о том, как Клайд и Роберта приехали в Утику и потом на Луговое озеро. Никакого плана действий не было. На худой конец Клайд собирался рассказать Роберте о своей безграничной любви К мисс Х и, взывая к ее разуму и сердцу, просить, чтобы она его отпустила; при этом он предложил бы всеми силами помогать ей и поддерживать ее. Если бы она отказалась, он пошел бы на полный разрыв; в случае необходимости он готов был бросить все и уехать из Ликурга. — Но когда в Фонде и потом в Утике я увидел, что она такая усталая и измученная (Клайд очень старался, чтобы слова, тщательно подобранные другими, прозвучали искренне)… какая-то очень беспомощная, мне опять стало ее жалко. — И дальше что? — Ну вот… я был уже не так уверен, что в самом деле смогу бросить ее, если она откажется меня отпустить. — И что же вы решили? — Тогда еще ничего не решил. Я ее выслушал, что она говорила, и постарался объяснить ей, что мне будет очень трудно сделать для нее много, даже если я уеду с ней. У меня было только пятьдесят долларов. — Так. — А она стала плакать, и я решил, что сейчас больше нельзя говорить с ней об этом. Она слишком нервничала и была совсем измученная и усталая. И я спросил, не хочется ли ей съездить куда-нибудь на день-два, чтобы немножко отдохнуть, — продолжал Клайд. (И тут от сознания, что все это чудовищная ложь, его передернуло, и он судорожно глотнул — предательская слабость, которую он проявлял всякий раз, когда пытался сделать что-нибудь непосильное, все равно — выполнить ли чересчур сложное физическое упражнение, или сказать неправду.) — Она сказала, что да, хорошо бы поехать на какое-нибудь из Адирондакских озер, все равно на какое, если только у нас хватит денег. А когда я сказал, главным образом из-за ее плохого самочувствия, что, по-моему, поехать можно… — Так вы, в сущности, поехали туда только ради нее? — Да, сэр, только ради нее. — Понятно. Продолжайте. — …тогда она сказала, чтобы я тут же в гостинице или еще где-нибудь поискал путеводители, и мы выберем место, где можно прожить день-другой без больших расходов. — И вы пошли за путеводителями? — Да, сэр. — Что дальше? — Мы их просмотрели и под конец выбрали Луговое озеро. — Кто именно выбрал? Вы оба или она? — Просто она взяла один путеводитель, а я другой, и она в своем нашла рекламу гостиницы, где плата за двоих двадцать один доллар в неделю или пять долларов в день. И я подумал, что, наверно, наш отдых нигде не обойдется дешевле. — Вы собирались провести там только один день? — Нет, сэр, если бы она захотела, мы бы остались дольше. Сперва я думал, что, может быть, мы там побудем дня два или три. Я не знал, сколько времени понадобится на то, чтобы все с ней обсудить и растолковать ей, как у меня обстоят дела. — Понятно. А потом? — Потом на другое утро мы поехали на Луговое озеро. — Опять в разных вагонах? — Да, сэр, в разных вагонах. — Приехали в гостиницу и… — Ну, и записались там… — Как? — Карл Грэхем с женой. — Все еще боялись, как бы вас не узнали? — Да, сэр. — И вы пытались как-то изменить свой почерк? — Да, сэр… немножко. — Но почему же вы всегда оставляли свои настоящие инициалы К.Г.? — Видите ли, я думал, что надо записаться под вымышленным именем, но так, чтобы инициалы не расходились с меткой на моем чемодане. — Понятно. Умно в одном отношении, но не слишком умно в другом… ровным счетом наполовину умно, а это хуже всего. Услышав это, Мейсон привстал, словно собираясь заявить протест, но, видимо, раздумал и опять медленно опустился в кресло. И снова Джефсон исподтишка метнул быстрый, испытующий взгляд вправо, на присяжных. — Так что же в конце концов, сказали вы ей все, как собирались, чтобы покончить с этим делом, или не сказали? — Я хотел поговорить с нею, как только мы туда приедем или, уж во всяком случае, на другое утро. Но не успели мы приехать и устроиться, как она стала говорить, чтобы я поскорее женился на ней… что она не собирается долго жить со мною, но так больна и измучена и так плохо себя чувствует, что хочет только одного: чтобы все это кончилось и чтобы у ребенка было имя, а потом она уедет, и я буду свободен. — А потом что было? — Потом… потом мы пошли на озеро… — На какое озеро, Клайд? — Ну, на Луговое. Мы решили покататься на лодке. — Сразу? Днем? — Да, сэр. Ей так захотелось. И пока мы катались… (Он умолк.) — Что же, продолжайте. — Она опять стала плакать, и я видел, что она совсем больна и измучена и никак не может примириться с судьбой… и я решил, что в конце концов она права и я плохо поступаю… и нехорошо будет, если я не женюсь на ней — из-за ребенка и все такое, понимаете… тут я подумал, что надо бы жениться. — Понимаю. Такой душевный переворот. И вы тут же сказали ей об этом? — Нет, сэр. — Почему же? Разве вам не казалось, что вы причинили ей уже достаточно горя? — Конечно, сэр. Но, понимаете ли, я совсем уже собрался сказать ей — и вдруг опять стал думать обо всем, о чем думал до приезда туда. — О чем, например? — Ну, вот, о мисс X, и о своей жизни в Ликурге, и о том, что нас ждет, если мы поженимся и уедем. — Так. — И вот… я… я просто не мог сказать ей тогда… во всяком случае, в тот день не мог… — Так что же вы ей тогда сказали? — Ну, чтобы она больше не плакала… Что хорошо бы, если бы она дала мне еще день подумать — и, может быть, мы сумеем как-нибудь все уладить… — А потом? — Потом, немного погодя, она сказала, что на Луговом озере ей не нравится. Ей хотелось уехать оттуда. — Ей хотелось? — Да. Мы опять взяли путеводители, и я спросил одного малого в гостинице, какие тут есть озера. Он сказал, что самое красивое озеро поблизости — Большая Выпь. Я там как-то был и сказал об этом Роберте и передал ей слова того парня, а она сказала, что хорошо бы туда съездить. — И поэтому вы туда поехали? — Да, сэр. — Никакой другой причины не было? — Нет, сэр, никакой… Пожалуй, еще только одно: что это к югу от Лугового озера и нам все равно надо было возвращаться этой дорогой. — Понятно. И это было в четверг, восьмого июля? — Да, сэр. — Так вот, Клайд, вы слышали: вас тут обвиняют в том, что вы завезли мисс Олден на озеро Большой Выпи с единственным, заранее обдуманным намерением избавиться от нее, убить ее — найти какой-нибудь незаметный со стороны укромный уголок и там ударить ее либо фотографическим аппаратом, либо, может быть, веслом, палкой или камнем и затем утопить. Итак, что вы на это скажете? Верно это или нет? — Нет, сэр! Это неправда! — отчетливо и с чувством возразил Клайд. — Прежде всего я поехал туда вовсе не по своей охоте, а только потому, что ей не понравилось на Луговом озере. (До сих пор он понуро сидел в своем кресле, но теперь выпрямился и — как ему заранее велели — посмотрел на присяжных и на публику так открыто и уверенно, как только мог.) — Я изо всех сил старался сделать ей что-нибудь приятное. Мне очень хотелось развлечь ее хоть немного. — В этот день вы все еще жалели ее так же, как накануне? — Да, сэр… наверно, даже больше. — И к этому времени вы уже окончательно решили, как вам быть дальше? — Да, сэр. — Что же именно вы решили? — Знаете, я решил действовать по-честному. Я думал об этом целую ночь и понял, как ей будет плохо, да и мне тоже, если я поступлю с ней не так, как надо… ведь она несколько раз говорила, что тогда она покончит с собой. И наутро я решил так: будь что будет, сегодня я все улажу. — Это было на Луговом озере. В четверг утром вы еще были в гостинице? — Да, сэр. — Что же именно вы собирались сказать мисс Олден? — Ну, что я знаю, как нехорошо я с ней поступил, и мне очень жаль… и потом, что ее предложение справедливое, и если после всего, в чем я хочу ей признаться, она все-таки захочет выйти за меня замуж, то я уеду с нею, и мы обвенчаемся. Но что сперва я должен рассказать правду, почему я стал к ней иначе относиться: что я любил и до сих пор люблю другую девушку и ничего не могу с этим поделать… и, видно, женюсь я на ней или нет… — Вы хотите сказать, на мисс Олден? — Да, сэр… что я всегда буду любить ту, другую девушку, потому что не могу не думать о ней. Но если Роберте это безразлично, я на ней все-таки женюсь, хотя и не могу любить ее по-прежнему. Вот и все. — А как же мисс X? — Я и о ней думал, конечно, но ведь она обеспечена, и мне казалось, что ей легче это перенести. А кроме того, я думал, что, может быть, Роберта меня отпустит, и тогда мы просто останемся друзьями, и я буду ей помогать всем, чем смогу. — И вы решили, где именно будете венчаться? — Нет, сэр. Но я знал, что за Большой Выпью и Луговым озером сколько угодно городов. — И вы собирались сделать это, ни словом не предупредив мисс X? — Н-нет, сэр, не совсем так… Я надеялся, что если Роберта не отпустит меня совсем, то она позволит мне уехать на несколько дней, так что я съездил бы к мисс X, сказал бы ей все и потом вернулся. А если бы Роберта не согласилась — ну что ж, тогда я написал бы мисс Х письмо и объяснил, как все вышло, а потом бы мы с Робертой обвенчались. — Понятно. Но, Клайд, среди других вещественных доказательств здесь было предъявлено письмо, найденное в кармане пальто мисс Олден, — то, что написано на бумаге со штампом гостиницы на Луговом озере и адресовано матери, — и в нем мисс Олден пишет, что собирается выйти замуж. Разве вы уже твердо сказали ей в то утро на Луговом озере, что хотите с нею обвенчаться? — Нет, сэр. Не совсем так. Но я с самого утра сказал ей, что это для нас решающий день и что она сама должна будет решить, хочет ли она обвенчаться со мной. — А, понимаю! Значит, вот что! — улыбнулся Джефсон, словно испытывая огромное облегчение. (При этом Мейсон, Ньюком, Бэрлей и сенатор Редмонд, слушавшие с глубочайшим вниманием, тихонько и чуть ли не в один голос воскликнули: «Что за вздор!») — Ну, вот мы и дошли до самой поездки. Вы слышали, что здесь говорили свидетели и какие черные побуждения и замыслы приписывались вам на каждом шагу. Теперь я хочу, чтобы вы сами рассказали обо всем, что произошло. Здесь указывали, что, отправляясь на озеро Большой Выпи, вы взяли с собой оба чемодана — и свой и ее, но, приехав на станцию Ружейную, ее чемодан оставили там, а свой захватили в лодку. По какой причине вы так сделали? Пожалуйста, говорите громче, чтобы все господа присяжные могли вас слышать. — Видите ли, почему так вышло, — и снова у Клайда пересохло в горле, он едва мог говорить, — мы не знали, можно ли будет на Большой Выпи позавтракать, и решили захватить с собой кое-какую еду с Лугового. Ее чемодан был битком набит, а в моем нашлось место. И, кроме того, в нем лежал фотографический аппарат, а снаружи был привязан штатив. Вот я и решил ее чемодан оставить, а свой взять. — Вы решили? — То есть я спросил ее, и она сказала, что, по ее мнению, так будет удобнее. — Где же вы ее об этом спросили? — В поезде, по дороге к Ружейной. — Стало быть, вы знали, что с озера вернетесь на Ружейную? — Да, сэр, знал. Мы должны были вернуться. Другой дороги нет, так нам сказали на Луговом озере. — А по дороге на озеро Большой Выпи, помните, шофер, который вез вас туда, показал, что вы «порядком нервничали» и спросили его, много ли там в этот день народу? — Да, сэр, помню, но я вовсе не нервничал. Может, я и спрашивал насчет того, много ли народу, но, мне кажется, тут нет ничего плохого. По-моему, это всякий мог спросить. — По-моему, тоже, — отозвался Джефсон. — Теперь скажите, что произошло после того, как вы записались в гостинице Большой Выпи, взяли лодку и поехали с мисс Олден кататься по озеру? Были вы или она чем-нибудь особенно озабочены и взволнованы или вообще чем-то не похожи на людей, которые просто собрались покататься на лодке? Может быть, вы были необыкновенно веселы, или необыкновенно мрачны, или еще что-нибудь? — Ну, не скажу, чтобы я был необыкновенно мрачен, нет, сэр. Конечно, я думал обо всем, что хотел сказать ей, и о том, что меня ждет в зависимости от ее решения. Пожалуй, я не был особенно весел, но я думал, что теперь в любом случае все будет хорошо. Я был вполне готов на ней жениться. — А она? Она была в хорошем настроении? — В общем, да, сэр. Она почему-то была гораздо веселее и спокойнее, чем раньше. — О чем же вы с ней говорили? — Ну, сначала об озере — какое оно красивое и в каком месте мы станем завтракать, когда проголодаемся. Потом мы плыли вдоль западного берега и искали водяные лилии. У нее, видно, было так хорошо на душе, что я и думать не мог в это время начать такой разговор, поэтому мы просто катались, а часа в два вышли на берег и позавтракали. — В каком именно месте? Подойдите к карте и покажите указкой, как именно вы плыли и где приставали к берегу, надолго ли и для чего? И Клайд, с указкой в руке, стоя перед большой картой озера и его окрестностей, наиболее связанных с трагедией, подробно очертил тот долгий путь вдоль берега: живописную группу деревьев, к которой они направились после завтрака, прелестный уголок, где они замешкались, собирая росшие там во множестве водяные лилии, — каждое место, где они останавливались, пока часам к пяти не добрались до Лунной бухты, красота которой сразу так поразила их, сказал он, что они долго любовались ею, неподвижно сидя в лодке. Потом они высадились тут же на лесистом берегу, и Клайд сделал несколько снимков. И все время он готовился рассказать Роберте о мисс Х и попросить ее принять окончательное решение. Потом, оставив чемодан на берегу, они снова отчалили, всего на две-три минуты, чтобы сделать несколько снимков с лодки. Вокруг была такая красота и безмятежность, лодка тихо скользила по глади вод, и тут, наконец, Клайд набрался храбрости, чтобы сказать ей все, что было у него на сердце. Сначала, рассказывал он, Роберта, видимо, страшно испугалась, и огорчилась, и стала тихонько плакать, и говорила, что лучше бы ей умереть, — так она несчастна. Но после, когда он убедил ее, что в самом деле чувствует себя виноватым и от души готов искупить свою вину, она вдруг преобразилась, повеселела и потом неожиданно, должно быть, в порыве нежности и благодарности, вскочила и попыталась подойти к нему. Она протянула руки и словно хотела упасть к его ногам или кинуться ему на шею. Но тут она зацепилась за что-то ногой или платьем и споткнулась. А он, с аппаратом в руке (в последнюю минуту Джефсон решил включить это в качестве еще одной меры предосторожности), невольно тоже поднялся, чтобы подхватить ее и не дать ей упасть. Быть может, — он не вполне уверен в этом, — лицом или рукой она ударилась об аппарат. Во всяком случае, не успел он, да и она, сообразить, что произошло и что надо делать, как оба очутились в воде; перевернувшаяся лодка, по-видимому, ушибла Роберту, так как она казалась оглушенной. — Я крикнул ей, чтобы она постаралась добраться до лодки и ухватилась за нее, но лодку относило прочь, а Роберта как будто не слышала меня или не поняла. Я сперва боялся подплыть к ней поближе, — она так страшно билась и размахивала руками, — потом поплыл. Я сделал, может быть, взмахов десять, не больше, и тут ее голова ушла под воду, вынырнула и опять скрылась. За это время лодку отнесло футов на тридцать или сорок, и я увидел, что не сумею дотащить до нее Роберту. И тогда я решил, что надо плыть к берегу, иначе мне и самому не спастись. Когда он выбрался на берег, рассказывал далее Клайд, ему вдруг пришло в голову, в каком странном и подозрительном положении он оказался. Он внезапно понял, сказал он, как неудачно сложились обстоятельства и как скверно выглядела вся эта поездка с самого начала. Он записывался в гостиницах под фальшивыми именами. Свой чемодан взял, а ее — нет. И, кроме того, если вернуться теперь, значит, придется все объяснить… станет широко известна его связь с Робертой, и вся его жизнь пойдет прахом: он потеряет мисс X, работу на фабрике, положение в обществе — все! Если же он промолчит (он клялся, что только тут впервые пришла ему на ум эта мысль), может возникнуть предположение, что он тоже утонул. Вот почему, понимая, что никакими силами он уже не вернет Роберту к жизни и что огласка будет означать только серьезные неприятности для него и покроет позором ее память, он решил молчать. И тогда, чтобы уничтожить все следы, он снял мокрую одежду, выжал ее, свернул и тщательно упаковал в чемодан. Потом решил спрятать штатив, оставшийся на берегу вместе с чемоданом, что и сделал. Его старая соломенная шляпа — та, которая оказалась без подкладки (но как это случилось, он не знает, заявил он), — потерялась во время катастрофы с лодкой, и поэтому он надел запасную, хотя у него была с собою еще и кепка, он мог бы надеть ее. (Такая у него привычка — брать с собою в дорогу лишнюю шляпу: ведь со шляпами вечно что-нибудь случается.) Потом он решил пойти через лес к югу, к железной дороге, которая, по его расчетам, проходила в том направлении. Он тогда не знал, что там есть и автомобильное шоссе. А что он отправился прямо к Крэнстонам, так это вполне естественно, Просто признался Клайд: они были его друзьями, и ему очень хотелось добраться до такого места, где он мог бы как следует подумать обо всем этом ужасе, который внезапно обрушился на него как снег на голову. Когда Клайд в своих показаниях дошел до этой минуты и ни ему, ни Джефсону, казалось, больше нечего было сказать, защитник, помолчав, вдруг произнес очень отчетливо и как-то особенно спокойно: — Помните, Клайд: перед лицом господ присяжных, судьи и всех присутствующих в этом зале и превыше всего — перед господом богом вы торжественно поклялись говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Вы понимаете, что это значит, не так ли? — Да, сэр, понимаю. — Поклянетесь ли вы перед богом, что не ударили Роберту Олден, пока находились с нею в лодке? — Клянусь. Я не ударил ее. — И не бросили ее за борт? — Клянусь. Я этого не делал. — И не пытались так или иначе умышленно, злонамеренно перевернуть лодку или каким-либо иным способом добиться смерти мисс Олден? — Клянусь, что нет! — горячо и взволнованно воскликнул Клайд. — И вы можете поклясться, что это был несчастный случай, что он произошел без вашего умысла и намерения? — Да, могу, — солгал Клайд; он чувствовал, что, борясь за свою жизнь, отчасти говорит правду; ведь и в самом деле все это случилось нечаянно и непреднамеренно, совсем не так, как он задумал. В этом он мог поклясться. И тогда Джефсон, проведя большой сильной рукой по лицу, вежливо и бесстрастно оглядел суд и присяжных, многозначительно сжал тонкие губы и объявил: — Обвинение может приступить к допросу свидетеля.Глава 91
Все время, пока Клайда допрашивал защитник, Мейсон чувствовал себя, как неугомонная гончая, рвущаяся в погоню за зайцем, как борзая, которая вот сейчас, последним прыжком настигнет свою добычу. Его так и подмывало, ему не терпелось разбить вдребезги эти показания, доказать, что все это с начала до конца просто сплетение лжи, как оно отчасти и было на самом деле. И не успел Джефсон кончить, как он уже вскочил и остановился перед Клайдом; а тот, видя, что прокурор горит желанием уничтожить его, почувствовал себя так, словно его сейчас изобьют. — Грифитс, у вас был в руках фотографический аппарат, когда она встала в лодке и направилась к вам? — Да, сэр. — Она споткнулась и упала, и вы нечаянно ударили ее аппаратом? — Да. — Я полагаю, при вашей правдивости и честности вы, конечно, помните, как в лесу на берегу Большой Выпи говорили мне, что у вас не было никакого аппарата? — Да, сэр, я это помню… — Конечно, это была ложь? — Да, сэр. — И вы говорили тогда с таким же пылом и убеждением, как теперь — другую ложь? — Я не лгу. Я объяснил здесь, почему я это сказал. — Вы объяснили, почему вы это сказали! Вы объяснили, почему! Вы солгали тогда и рассчитываете, что вам поверят теперь, — так, что ли? Белнеп поднялся, готовый запротестовать, но Джефсон усадил его на место. — Все равно я говорю правду. — И, уж конечно, ничто на свете не могло бы заставить вас солгать здесь снова — даже и желание избежать электрического стула? Клайд побледнел и слегка вздрогнул, покрасневшие от усталости веки его затрепетали. — Ну, может быть, я и мог бы солгать, но, думаю, не под присягой. — Вы думаете! А, понятно! Можно соврать все, что угодно и где угодно, в любое время и при любых обстоятельствах, но только не тогда, когда тебя судят за убийство! — Нет, сэр. Совсем не так. И я сейчас сказал правду. — И вы клянетесь на Библии, что пережили душевный перелом, так? — Да, сэр. — Что мисс Олден была очень печальна и поэтому в вашей душе произошел этот перелом? — Да, сэр. Так оно и было. — Вот что, Грифитс: когда она жила на отцовской ферме и ждала вас, она писала вам вот эти письма, так? — Да, сэр. — В среднем вы получали через день по письму, так? — Да, сэр. — И вы знали, что она там одинока и несчастна, так? — Да, сэр… но я у же «объяснил… — Ах, вы объяснили! Вы хотите сказать, что за вас это объяснили ваши адвокаты! Может быть, они не натаскивали вас в тюрьме изо дня в день? Не обучали, как вы должны отвечать, когда придет время? — Нет, сэр, не обучали! — с вызовом ответил Клайд, поймав в эту минуту взгляд Джефсона. — Так почему же, когда я спросил вас на Медвежьем озере, каким образом погибла Роберта Олден, вы сразу не сказали мне правду и не избавили всех нас от этих неприятностей, подозрений и расследований? Вам не кажется, что тогда люди выслушали бы вас доброжелательнее и скорее поверили бы вам, чем теперь, после того как вы целых пять месяцев обдумывали каждое слово с помощью двух адвокатов? — Я ничего не обдумывал с помощью адвокатов, — упорствовал Клайд, продолжая глядеть на Джефсона, который старался поддержать его всей силой своей воли. — Я только что объяснил, почему я так поступал. — Вы объяснили! Вы объяснили! — заорал Мейсон. Его выводило из себя сознание, что эти фальшивые объяснения для Клайда — надежный щит, ограда, за которой он всегда может укрыться, стоит только его прижать покрепче… Гаденыш! И, весь дрожа от еле сдерживаемой ярости, Мейсон продолжал: — Ну, а до вашей поездки, пока она писала вам эти письма, вы тоже думали, что они печальные, или нет? — Конечно, сэр. То есть… — Клайд неосторожно запнулся. — Некоторые места, во всяком случае. — Ах, вот что! Уже только некоторые места. Мне кажется, вы только сейчас сказали, что считаете ее письма печальными. — Да, я так считаю. — И прежде так считали? — Да, сэр, считал. И Клайд беспокойно посмотрел в сторону Джефсона, чей неотступный взгляд пронизывал его, словно луч прожектора. — Вы помните, что она вам писала… — Мейсон взял одно из писем, развернул и стал читать: «Клайд, милый, я, наверно, умру, если ты не приедешь. Я так одинока. Я прямо с ума схожу. Мне так хотелось бы уехать, и никогда не возвращаться, и больше не надоедать тебе. Но если бы ты только звонил мне по телефону, хотя бы через день, раз не хочешь писать! А мне ты так нужен, так нужно услышать ободряющее слово!» — Голос Мейсона звучал мягко и грустно. Он говорил, и чуть ли не осязаемые волны сострадания охватывали не только его, но всех и каждого в высоком и узком зале суда. — Вам эти строки кажутся хоть немного печальными? — Да, сэр, кажутся. — И тогда казались? — Да, сэр, казались. — Вы знали, что они искренни, да? — Да, сэр. Знал. — Почему же хоть капля той жалости, которая, по вашим словам, столь глубоко потрясла вас посреди озера Большой Выпи, не заставила вас у себя в Ликурге, в доме миссис Пейтон, снять телефонную трубку и успокоить одинокую девушку хотя бы одним словом о том, что вы приедете? Потому ли, что ваша жалость к ней была тогда не так велика, как позднее, когда она написала вам угрожающее письмо? Или потому, что вы замыслили преступление и опасались, как бы частые телефонные разговоры с нею не привлекли чьего-либо внимания? Как получилось, что вас внезапно охватила столь сильная жалость к ней на озере Большой Выпи, но вы вовсе не чувствовали жалости, пока находились в Ликурге? Или у вас чувства, как водопроводный кран: можно открыть, а можно и закрыть? — Я никогда не говорил, что я совсем не жалел ее, — вызывающе ответил Клайд, перехватив взгляд Джефсона. — Но вы заставили ее ждать до тех пор, пока в своем ужасе и отчаянии она не стала вам угрожать. — Я ведь признал, что вел себя с ней нехорошо. — Ха! Нехорошо! Нехорошо! И только потому, что вы это признали, вы рассчитываете — наперекор всем остальным показаниям, которые мы здесь слышали, включая и ваши собственные, — что выйдете отсюда свободным человеком? Так, что ли? Белнепа дольше невозможно было сдерживать. Он заявил протест. — Это позорно, ваша честь. Разве прокурору позволительно превращать каждый вопрос в обвинительную речь? — пылко, с горечью обратился он к судье. — Я не слышал ни одного протеста, — отпарировал судья. — Попрошу прокурора надлежащим образом формулировать свои вопросы. Мейсон преспокойно принял замечание и снова обернулся к Клайду: — Как вы тут показывали, сидя в лодке посреди озера Большой Выпи, вы держали в руках тот самый фотографический аппарат, от которого когда-то отпирались? — Да, сэр. — А мисс Олден сидела на корме? — Да, сэр. — Давайте сюда лодку, Бэртон! — обратился Мейсон к Бэрлею. По распоряжению Бэрлея, четверо его помощников тотчас вышли через дверь позади судейского возвышения и вскоре вернулись, неся лодку, ту самую, в которой катались Клайд и Роберта, и опустили ее на пол перед присяжными. Клайд, похолодев, остановившимся взглядом смотрел на нее. Та самая лодка! В растерянности он моргал глазами, его била дрожь; а публика волновалась и шумела, напряженно всматриваясь, — волна любопытства прошла по всему залу. И тут Мейсон, схватив аппарат и размахивая им, воскликнул: — Вот, извольте, Грифитс! Вот аппарат, который будто бы никогда вам не принадлежал. Войдите-ка в лодку, возьмите этот аппарат и покажите присяжным, где именно сидели вы и где — мисс Олден. И покажите точно, если можете, как именно и куда вы ударили мисс Олден и где и как примерно она упала. — Протестую! — заявил Белнеп. Между юристами завязалась долгая и утомительная перебранка; в конечном счете судья разрешил, — по крайней мере на некоторое время, — продолжать допрос свидетеля таким способом. Под конец Клайд заявил: — Во всяком случае, я ударил ее не намеренно. На что Мейсон заметил: — Да, мы уже слышали ваши показания на этот счет. Потом Клайд сошел со своего места и, получив всевозможные наставления, наконец шагнул в лодку и уселся на среднюю скамью; трое мужчин держали лодку в равновесии. — Теперь вот что… Ньюком! Подите сядьте в лодку на то место, где, по описанию Грифитса, сидела мисс Олден… и примите нужную позу, как он вам скажет. — Слушаю, сэр, — ответил Ньюком, подошел к лодке и уселся на корме. Клайд старался поймать взгляд Джефсона, но тщетно: ему пришлось теперь сидеть почти спиною к защитнику. — А ну-ка, Грифитс, — продолжал Мейсон, — покажите мистеру Ньюкому, как мисс Олден встала и направилась к вам. Объясните, что он должен делать. И Клайд, бесконечно неловкий от сознания, что он слаб, лжив и всем ненавистен, снова поднялся и нервными, угловатыми движениями (все это было слишком невероятно и жутко) пытался показать Ньюкому, как Роберта встала и неверными шагами, почти ползком направилась к нему, потом споткнулась и упала. После этого, с аппаратом в руке, он постарался вспомнить и возможно точнее показать, как он тогда невольно взмахнул рукой и ударил Роберту… он не знает, не уверен, куда именно пришелся удар, может быть, по подбородку или по щеке, но, конечно же, это вышло нечаянно и, как ему тогда показалось, вовсе не с такой силой, чтобы ее поранить. Тут Белнеп и Мейсон вступили в нескончаемые пререкания о том, насколько действительны такие показания, раз Клайд заявил, что не может ясно все припомнить. Но в конце концов Оберуолцер разрешил продолжать на том основании, что такого рода наглядное свидетельство приблизительно покажет, легкий ли толчок или сильный удар нужен для того, чтобы свалить человека, «слабо» или «нетвердо» держащегося на ногах. — Но, ради всего святого, каким образом все эти штуки, разыгранные с мужчиной такого сложения, как мистер Ньюком, могут доказать, что произошло с девушкой роста и веса мисс Олден? — настаивал Белнеп. — Ладно, поставим сюда девушку роста и веса мисс Олден! Тотчас же была вызвана Зилла Саундерс и поставлена на место Ньюкома. Но Белнеп тем не менее настаивал: — Ну и что же? Условия совсем другие. Эта лодка не на воде. И нет таких двух людей, которые одинаково воспринимали бы случайные удары или с равной силой им сопротивлялись. — Так вы не считаете допустимым этот наглядный опыт? — обернувшись к нему, язвительно спросил Мейсон. — О, пожалуйста, продолжайте, если вам угодно. Ведь всякому ясно, что ваши опыты ничего не доказывают, — многозначительно ответил Белнеп. Итак, Клайд по указаниям Мейсона должен был толкнуть Зиллу «примерно так же сильно» (думалось ему), как он нечаянно толкнул Роберту. И она отшатнулась, но только слегка, и при этом ей удалось схватиться руками за борта лодки и, следовательно, спастись. Белнеп полагал, что его возражения сведут на нет мейсоновский опыт. Однако у присяжных создалось впечатление, что Клайд, движимый сознанием своей вины и страхом смерти, вероятно, постарался изобразить свои действия куда менее зловредными, чем они, без сомнения, были на самом деле. Ведь показали же врачи под присягой, какова могла быть сила этого удара, так же как и другого, по темени? И ведь Бэртон Бэрлей свидетельствовал, что он обнаружил на фотографическом аппарате волосы Роберты? А крик, слышанный той свидетельницей? Как это понять? Но после этой сцены в суде объявлен был перерыв до следующего дня. На другое утро, едва простучал молоток судьи, поднялся Мейсон, по обыкновению, бодрый, напористый и злой. А Клайд провел прескверную ночь в своей камере. Его усиленно накачивали и подбодряли Джефсон и Белнеп, после чего он решил держаться возможно хладнокровнее и тверже, с видом ни в чем не повинного человека, но ему не хватало настоящего мужества и энергии, чтобы справиться с подобной задачей, ибо он был убежден, что все здесь враги ему и глубоко уверены в его виновности. А Мейсон начал ожесточенно и неистово: — Итак, Грифитс, вы все еще утверждаете, что пережили душевный переворот? — Да, сэр, утверждаю. — Вы когда-нибудь слышали об утопленниках, возвращенных к жизни? — Я вас не совсем понимаю. — Вы, конечно, знаете, что людей, погрузившихся в воду и больше не вынырнувших, — тех, кого считают утонувшими, — иногда удается воскресить? Им оказывают первую помощь: делают искусственное дыхание или перекатывают по бревну или бочке и таким образом возвращают к жизни. — Да, сэр, как будто слышал. Рассказывали об утопленниках, которых удавалось оживить, но, по-моему, я никогда не слыхал, как именно это делается. — Никогда не слыхали? — Нет, сэр. — А о том, сколько времени человек может пробыть под водой и все-таки потом ожить? — Нет, сэр. Никогда не слыхал. — Никогда, к примеру, не слыхали, что можно вернуть к жизни человека, который оставался под водой целых пятнадцать минут? — Нет, сэр. — Стало быть, когда вы добрались до берега, вам не пришло в голову, что вы еще можете позвать на помощь и тем самым спасти мисс Олден? — Нет, сэр, это мне не пришло в голову. Я думал, что она уже мертва. — Понимаю. Ну, а пока она была еще жива и держалась на воде, как было дело? Вы ведь отличный пловец, так? — Да, сэр, я плаваю недурно. — Скажем, настолько недурно, что могли спастись, проплыв более пятисот футов в одежде и башмаках. Это верно? — Пожалуй, тогда я проплыл такое расстояние… да, сэр. — Безусловно, проплыли — и весьма недурно для человека, который не мог проплыть тридцати пяти футов до перевернувшейся лодки, скажу я вам, — заключил Мейсон. Белнеп хотел было заявить протест и потребовать, чтобы подобные выпады не включались в протокол, но Джефсон удержал его. Далее Клайду пришлось рассказать обо всех своих упражнениях по части гребли и плавания и о том, сколько раз он катался по озерам в столь ненадежном суденышке, как байдарка, причем никогда с ним не случалось ничего плохого. — В первый раз, на озере Крам, вы ведь катали Роберту на байдарке, так? — Да, сэр. — Но тогда с вами не приключилось никакой беды? — Нет, сэр. — Тогда вы были сильно влюблены в нее, верно? — Да, сэр. — А в тот день, когда она утонула в озере Большой Выпи и когда у вас была надежная, устойчивая лодка, вы уже вовсе не были влюблены в мисс Олден? — Я ведь говорил, что я тогда чувствовал. — И, конечно, не может быть никакой связи между теми фактами, что на озере Крам вы были влюблены в нее, а на Большой Выпи… — Я уже сказал, что я тогда чувствовал. — Но вы все же хотели от нее отделаться, так? Не успела она умереть, как вы побежали к другой девушке. Ведь вы этого не отрицаете, верно? — Я уже объяснил, почему я это сделал, — повторил Клайд. — Объяснили! Объяснили! И вы воображаете, что хоть один здравомыслящий, порядочный, разумный человек поверит вашему объяснению, так, что ли? Мейсон был вне себя от ярости, и Клайд не осмелился возражать. Судья, предвидя протест со стороны Джефсона, прогремел заранее: «Протест принят!» Но Мейсон уже продолжал: — А скажите, Грифитс, может быть, вы управляли лодкой немножко неосторожно — самую малость, и сами ее перевернули? Он подошел еще ближе и подмигнул Клайду. — Нет, сэр, я не был неосторожен. Это был несчастный случай, и я не мог его предотвратить. Клайд был совершенно спокоен, хотя бледен и утомлен. — Несчастный случай. Примерно как тот, другой случай, вКанзас-Сити. Вы вполне освоились с такого рода несчастными случаями, не так ли, Грифитс? — с расстановкой, издевательски произнес Мейсон. — Я уже объяснял, как это случилось, — устало ответил Клайд. — Вы вполне привыкли к несчастным случаям, которые приводят к смерти девочек или девушек, верно? И вы всегда сбегаете потом, когда какая-нибудь из них умирает? — Протестую! — выкрикнул Белнеп, срываясь с места. — Протест принят, — резко сказал Оберуолцер. — Никакие другие несчастные случаи к данному процессу отношения не имеют. Попрошу обвинителя держаться ближе к делу. — Скажите-ка, Грифитс, — продолжал Мейсон, очень довольный, что отплатил Джефсону за извинение, которое ему пришлось прежде принести в связи с происшествием в Канзас-Сити, — когда лодка опрокинулась после вашего нечаянного удара и вы и мисс Олден оказались в воде, на каком расстоянии вы были друг от друга? — Право, я тогда не заметил. — Довольно близко, так? Вряд ли много дальше, чем на расстоянии фута или двух, примерно так, как вы стояли в лодке? — Не знаю… Я не заметил… может быть, и так, сэр. — И не настолько близко, чтобы схватить ее и удержать, если бы вы этого хотели? Ведь вы для того и вскочили, когда увидели, что она падает, так? — Да, для того я и вскочил, — с усилием ответил Клайд, — но я был не настолько близко, чтобы подхватить ее. Я помню, что сразу ушел под воду, а когда выплыл, она оказалась несколько дальше от меня. — На каком же расстоянии, точнее? Как отсюда до этого конца скамьи присяжных? Или до того конца? Или вполовину этого, или как? — Право же, я совершенно не заметил. Примерно как отсюда до того конца, мне кажется, — солгал Клайд, преувеличивая расстояние по крайней мере на восемь футов. — Неужели! — воскликнул Мейсон, изображая величайшее изумление. — Вот эта лодка опрокидывается, вы оба почти рядом падаете в воду, а когда выплываете на поверхность, оказываетесь чуть ли не в двадцати футах друг от друга? Не кажется ли вам, что на сей раз ваша память вас немножко подвела? — Ну, так мне показалось, когда я вынырнул. — Ну, ладно, — а после того как лодка опрокинулась и вы оба вынырнули на поверхность, где вы оказались по отношению к лодке? Вот лодка, — в каком месте зала вы должны находиться — в смысле расстояния, я хочу сказать? — Но я же сказал, что я этого сразу точно не заметил, когда вынырнул, — повторил Клайд, беспокойно и неуверенно оглядывая простирающийся перед ним зал. Мейсон явно готовил ему западню. — Мне кажется, примерно на таком расстоянии, как отсюда до барьера за вашим столом. — Стало быть, футов тридцать — тридцать пять, — выжидательно и коварно подсказал Мейсон. — Да, сэр. Пожалуй, около того. Я не совсем уверен. — Итак, вы были вон там, а лодка здесь, — а где в это время была мисс Олден? И Клайд понял, что у Мейсона на уме какой-то план, основанный на математических или геометрических расчетах, при помощи которого он намерен установить его виновность. Он мгновенно насторожился и взглянул в сторону Джефсона. При этом он не мог сообразить, как бы ему поместить Роберту подальше от себя. Он сказал, что она не умела плавать. Тогда не должна ли она быть ближе к лодке, чем он? Да, несомненно! Безрассудно, наугад он схватился за мысль, что лучше всего сказать, будто она была примерно в половине этого расстояния от лодки, — скорее всего не дальше. Он так и сказал. — Стало быть, она была не больше чем в пятнадцати футах и от вас и от лодки? — тотчас подхватил Мейсон. — Да, сэр, пожалуй. Как будто так. — Значит, вы хотите сказать, что не могли проплыть это ничтожное расстояние и потом помочь ей продержаться на воде до тех пор, пока вам не удалось бы достигнуть лодки, находившейся всего на пятнадцать футов дальше? — Но я уже говорил, я был отчасти ошеломлен, когда вынырнул, а она так сильно билась и кричала… — Но ведь тут же была лодка — не дальше, чем в тридцати пяти футах, как вы сами сказали (что-то очень далеко ее отнесло за такое короткое время, должен заметить!). После этого вы сумели проплыть пятьсот футов до берега — и вы хотите сказать, что не могли доплыть до этой лодки и подтолкнуть ее к Роберте, чтобы она успела спастись? Ведь она билась, стараясь удержаться на поверхности, так? — Да, сэр. Но я сперва был совсем ошарашен, — хмуро оправдывался Клайд, чувствуя на себе неотступные пристальные взгляды всех присяжных и зрителей, — и… и… (напряженная подозрительность и недоверие всего зала придавили его неимоверной тяжестью, и мужество едва не покинуло его; он путался и заикался) и, наверно, я недостаточно быстро соображал, что надо делать. К тому же я боялся, что если я подплыву к ней ближе… — Да-да, знаю: нравственный и умственный трус, — ехидно усмехнулся Мейсон. — К тому же очень медленно соображаете, когда вам выгодно медлить, и очень быстро — когда вам выгодно действовать быстро. Так, что ли? — Нет, сэр. — Ладно, если не так, скажите-ка мне вот что, Грифитс: почему, когда вы через несколько минут выбрались из воды, у вас хватило присутствия духа задержаться и спрятать этот штатив, прежде чем уйти в лес, а когда надо было спасать мисс Олден, вы оказались так «ошарашены», что не могли и пальцем шевельнуть? Как это вы сразу стали таким спокойным и расчетливым, едва ступили на берег? Что вы на это скажете?» — Ну… я… я ведь говорил… после я понял, что больше мне ничего не остается делать. — Да, все мы это знаем. А вы не думаете, что после столь сильной паники, пережитой в воде, нужна была весьма трезвая голова, чтобы в подобную минуту задержаться ради такой предосторожности — прятать этот штатив? Как же это вы сумели так здраво подумать о штативе, а за несколько минут до того совсем не в силах были подумать о лодке? — Но… ведь… — Вы не желали, чтобы она осталась жива, несмотря на этот ваш выдуманный душевный переворот! Разве не так? — заорал Мейсон. — Это и есть мрачная, прискорбная истина. Она тонула, а вам только того и надо было, и вы попросту дали ей утонуть! Разве не так? Его трясло, когда он выкрикивал все это. А Клайд глядел на лодку, и ему со страшной, потрясающей ясностью представились глаза Роберты и ее предсмертные крики… Он отшатнулся и съежился в кресле: в своем толковании Мейсон был слишком близок к тому, что произошло на самом деле, и это ужаснуло Клайда. Ведь ни разу, даже Джефсону и Белнепу, он не признавался, что, когда Роберта оказалась в воде, он не захотел ее спасти. Неизменно скрывая истину, он утверждал, будто хотел ее спасти, но все случилось так быстро, а он был так ошеломлен и так испуган ее криками и отчаянной борьбой за жизнь, что не в силах был что-либо предпринять, прежде чем она пошла ко дну. — Я… я хотел ее спасти, — пробормотал он; лицо его посерело, — но… но… как я сказал, я был оглушен… и… и… — Вы же знаете, что все это ложь! — крикнул Мейсон, надвигаясь на Клайда; он поднял свои сильные руки, обезображенное лицо его пылало гневом, словно уродливая маска мстительной Немезиды или фурии. — Знаете, что умышленно, с хладнокровным коварством позволили этой несчастной, измученной девушке умереть, хотя могли бы спасти ее так же легко, как легко могли проплыть пятьдесят из тех пятисот футов, которые вы проплыли ради собственного спасения! Так или нет? Теперь Мейсон был убежден, что точно знает, каким образом Клайд убил Роберту, — что-то в лице и поведении Клайда убедило его в этом, — и он решил непременно вырвать у обвиняемого это признание. Впрочем, Белнеп уже вскочил на ноги, заявляя протест: присяжных недопустимым образом восстанавливают против его подзащитного, а потому он вправе требовать — и требует — отменить весь этот судебный процесс как неправильный и недействительный, — заявление, которое Оберуолцер решительно отклонил. Все же Клайд успел возразить Мейсону, хотя и крайне слабым и жалким тоном: — Нет, нет! Я этого не делал! Я хотел спасти ее, но не мог! Но все в Клайде (и это заметил каждый присяжный) выдавало человека, который и в самом деле лжет, и в самом деле — умом и сердцем трус, каким его упорно изображал Белнеп, и, что хуже всего, — в самом деле виновен в смерти Роберты. В конце концов, спрашивал себя каждый присяжный, слушая Клайда, почему же он не мог ее спасти, если у него хватило сил потом доплыть до берега? Или, во всяком случае, почему он не поплыл к лодке и не помог Роберте за нее ухватиться? — Она весила всего сто фунтов, так? — в лихорадочном возбуждении продолжал Мейсон. — Пожалуй, да. — А вы? Сколько вы весили в то время? — Сто сорок или около того, — ответил Клайд. — И мужчина, который весит сто сорок фунтов, — язвительно произнес Мейсон, обращаясь к присяжным, — боится приблизиться к слабой, больной, маленькой и легонькой девушке, когда она тонет, из страха, как бы она не уцепилась за него и не затащила под воду! Да еще когда в пятнадцати или двадцати футах от него — прекрасная лодка, достаточно крепкая, чтобы выдержать трех или четырех человек! Что это, по-вашему? И, чтобы подчеркнуть сказанное и дать ему глубже проникнуть в сознание слушателей, Мейсон умолк, вытащил из кармана большой белый платок и вытер шею, лицо и руки, совершенно мокрые от душевного и физического напряжения. Потом обернулся к Бэртону Бэрлею: — Можете распорядиться, чтобы лодку убрали отсюда, Бэртон. Во всяком случае, пока она нам больше не нужна. И четверо помощников сейчас же унесли лодку. Тогда, вновь овладев собой, Мейсон опять обратился к Клайду. — Грифитс, — начал он, — вам, конечно, хорошо известно, какого цвета были волосы Роберты Олден и каковы они были на ощупь, — так? Ведь вы были достаточно близки с нею, чтобы это знать? — Я знаю, какого они цвета… мне кажется, знаю, — вздрогнув, ответил Клайд. Казалось, и постороннему взгляду был заметен охвативший его при этом озноб. — И каковы они на ощупь, тоже знаете, да? — настаивал Мейсон. — В дни вашей большой любви к ней, до появления мисс X, вы, должно быть, нередко дотрагивались до них? — Не знаю, не уверен, — ответил Клайд, перехватив взгляд Джефсона. — Ну, а приблизительно? Должны же вы знать, были они грубые, жесткие или тонкие, шелковистые. Это вы знаете, верно? — Да, они были шелковистые. — Так вот, у меня есть прядь ее волос, — заявил Мейсон больше для того, чтобы измотать Клайда, поиграть на его нервах. Он взял со стола конверт и извлек из него длинную прядь светло-каштановых волос. — Похоже это на ее волосы? И он протянул их Клайду. Потрясенный и испуганный, Клайд отшатнулся, словно от чего-то нечистого или опасного, но уже в следующее мгновение постарался овладеть собой, и все это не ускользнуло от зорких глаз присяжных. — Полно, не пугайтесь, — язвительно успокоил его Мейсон. — Ведь это всего лишь локон вашей покойной возлюбленной. Потрясенный этим пояснением, ощущая на себе любопытные взгляды присяжных, Клайд протянул руку и взял волосы. — По виду и на ощупь похоже на ее волосы, верно? — настаивал Мейсон. — Да, как будто похоже, — нетвердым голосом ответил Клайд. — А теперь вот что… — Мейсон шагнул к столу и тотчас вернулся к Клайду, протягивая ему фотографический аппарат: между крышкой и объективом аппарата запутались сунутые туда в свое время Бэрлеем два волоска Роберты. — Держите-ка. Это ваш аппарат, хоть вы и клялись в обратном. Взгляните на эти два волоска. Видите? — Он так сунул аппарат в лицо Клайду, словно хотел его ударить. — Они зацепились здесь, надо думать, в ту минуту, когда вы ударили ее — ударили так легко, что разбили ей лицо. Так вот, не можете ли вы сказать присяжным, ее это волосы или нет? — Я не знаю, — еле слышно выговорил Клайд. — Что такое? Говорите громче. Не будьте таким нравственным и умственным трусом! Ее это волосы или нет? — Не знаю, — повторил Клайд, но при этом даже не взглянул на них. — Посмотрите на них, посмотрите! Сравните с этой прядью. Нам известно, что это прядь волос мисс Олден. А вам известно, что и волосы в аппарате тоже ее, так? Можете не брезговать ими. Пока она была жива, вы достаточно часто их касались. Теперь она мертва. Они вас не укусят. Что же, эти два волоска отличаются чем-нибудь от этой пряди — заведомо ее пряди — на ощупь, по цвету, по всему или ничем не отличаются? Смотрите! Отвечайте! Одни и те же это волосы или нет? И под таким нажимом, несмотря на протесты Белнепа, Клайду пришлось осмотреть волоски и даже потрогать их. Но ответил он осторожно: — Ничего не могу сказать. На вид и на ощупь они немножко похожи, но наверно сказать не могу. — Ах, вы не можете? Хотя и знаете, что, когда вы нанесли ей тот жестокий, злодейский удар, эти два волоска запутались в аппарате? — Никакого злодейского удара я ей не наносил, — возразил Клайд, уловив взгляд Джефсона, — и не могу сказать, что это за волосы. Он говорил себе, что не даст этому человеку сбить и запугать себя, и все же испытывал болезненную слабость и тошноту. А торжествующий Мейсон, довольный уже и этим психологическим эффектом, вновь положил аппарат и волосы на стол и заметил: — Ладно, тут было достаточно показаний насчет того, что эти волоски были в аппарате, когда его вытащили из воды, а перед тем как упасть в воду, он, по вашим же собственным словам, был у вас в руках. Он умолк на минуту, спрашивая себя, какую бы еще пытку придумать для Клайда, потом снова заговорил: — Теперь о вашей прогулке по лесу, Грифитс: в котором часу вы дошли до Бухты Третьей мили? — По-моему, около четырех часов утра, как раз перед рассветом. — А что вы делали с этого времени и до отбытия парохода? — Просто ходил взад и вперед. — По самому поселку? — Нет, сэр, поблизости. — В лесу, надо полагать? Выжидали часа, когда поселок проснется, чтобы ваше слишком раннее появление не показалось странным, так? — Просто я ждал, чтобы взошло солнце. Кроме того, я устал и прилег немного отдохнуть. — И вы хорошо спали и видели приятные сны? — Да, я устал и поспал немного. — А откуда у вас были такие точные сведения о пароходе, и о времени его отплытия, и вообще о Бухте Третьей мили? Постарались ознакомиться со всем этим заранее? — Ну, в этих местах всем известно, что между Шейроном и Бухтой Третьей мили ходит пароход. — Вот как, всем известно? Только поэтому и вы об этом знали? — Ну, еще и потому, что, когда мы подыскивали место, где бы обвенчаться, мы оба обратили внимание на Бухту Третьей мили, — хитроумно ответил Клайд. — Но мы видели, что туда нельзя добраться поездом: железная дорога доходит только до Шейрона. — Однако вы заметили, что это южнее озера Большой Выпи? — Да, как будто заметил, — сказал Клайд. — И что дорога, проходящая к западу от станции Ружейной, ведет на юг к Бухте Третьей мили мимо южной части Большой Выпи? — Просто в лесу на южном берегу я наткнулся на какую-то дорогу или тропу, но я вовсе не думал, что это и есть правильная дорога. — Понятно. Как же тогда вышло, что, встретившись в лесу с тремя прохожими, вы спросили их, далеко ли до Бухты Третьей мили? — Я их не о том спрашивал, — ответил Клайд, следуя наставлениям Джефсона. — Я спросил, не знают ли они какой-нибудь дороги до Бухты Третьей мили и далеко ли до этой дороги. Я не знал, что это и есть та самая дорога. — Ну, они показывали здесь совсем другое. — Мне все равно, что они показывали, я-то их спрашивал именно об этом. — Вас послушать, так выходит, что все свидетели лгуны, один только вы честный человек, так, что ли?.. Ну, а когда вы добрались до Бухты Третьей мили, вы не зашли куда-нибудь поесть? Вы же, наверно, проголодались, так? — Нет, я не был голоден, — просто ответил Клайд. — Хотели поскорее выбраться из этих мест, да? Боялись, что те трое, дойдя до Большой Выпи и услыхав о несчастье с мисс Олден, расскажут, как они с вами встретились, так? — Нет, не так. Но мне не хотелось оставаться в тех местах, я уже говорил почему. — Понятно. Зато в Шейроне, где вы почувствовали себя в большей безопасности — подальше от тех мест, — вы, не теряя времени, взялись за еду, так? Там вы покушали с аппетитом, верно? — Ну, право, не знаю. Я выпил чашку кофе и съел сандвич. — И еще кусок пирога, как тут уже было установлено, — прибавил Мейсон. — А затем присоединились к толпе, шедшей с вокзала, как будто только что приехали из Олбани, как вы это потом всем рассказывали. Так было дело? — Да, так. — А не кажется ли вам, что для действительно невинного человека, в душе которого только недавно произошел благодетельный перелом, вы были ужасно предусмотрительны и осторожны? Прятались в лесу, выжидали в темноте, делали вид, будто приехали прямо из Олбани… — Я уже объяснил все это, — упрямо ответил Клайд. Следующим своим ходом Мейсон намеревался изобличить позорное поведение Клайда, который, несмотря на все, чем пожертвовала для него Роберта, способен был изобразить ее незаконной сожительницей нескольких мужчин, поскольку он во время поездки записывался в разных гостиницах под разными именами. — Почему вы не брали отдельных комнат? — Видите ли, она этого не хотела. Ей хотелось быть со мной. И, кроме того, у меня было не слишком много денег. — Даже если и так, выходит очень странно: тогда вы проявляли к ней так мало уважения, а потом, когда она умерла, вас стала до того заботить ее репутация, что вы сбежали и хранили про себя тайну ее гибели, лишь бы, как вы говорите, сберечь ее доброе имя? Как это так получается? — Ваша честь, — вмешался Белнеп, — это уже не вопрос, а целая речь. — Беру свой вопрос назад, — огрызнулся Мейсон. — Кстати, Грифитс, — продолжал он, — сами-то вы признаете, что вы умственный и нравственный трус, или нет? — Нет, сэр. Не признаю. — Не признаете? — Нет, сэр. — Стало быть, когда вы лжете, да еще под присягой, вы ничем не отличаетесь от любого другого человека, не труса в умственном и нравственном отношении, и заслуживаете такого же презрения и кары, как и всякий клятвопреступник и лжесвидетель? Правильно? — Да, сэр. Думаю, что правильно. — Так вот, если вы не умственный и нравственный трус, тогда чем объяснить, что, нанеся мисс Олден нечаянный, по вашим словам, удар, вы оставили ее на дне Большой Выпи и, зная, какие страдания причинит ее родным эта утрата, не сказали никому ни слова, а просто-напросто ушли, — спрятали штатив в кусты и удрали тайком, как самый обыкновенный убийца? Что вы подумали бы, если бы вам рассказали такую вещь о ком-нибудь другом? Что это, по-вашему: поведение человека, который задумал и совершил убийство и потом попытался благополучно скрыться, или просто подлые, хитрые уловки умственного и нравственного труса, который старается избежать ответственности за случайную гибель соблазненной им девушки, потому что огласка может повредить его благоденствию? Что именно? — А все-таки я не убивал ее, — упрямо повторил Клайд. — Отвечайте на вопрос! — прогремел Мейсон. — Прошу суд разъяснить свидетелю, что он не обязан отвечать на подобный вопрос, — вмешался Джефсон, поднимаясь и пристально посмотрев сперва на Клайда, потом на Оберуолцера. — Это вопрос чисто риторический, не имеющий прямого отношения к обстоятельствам данного дела. — Правильно, — подтвердил Оберуолцер. — Свидетель может не отвечать. И Клайд только молча посмотрел на всех, чрезвычайно ободренный этой неожиданной помощью. — Ладно, продолжаем, — сказал Мейсон. Более чем когда-либо он был раздосадован и обозлен бдительностью Белнепа и Джефсона и их стремлением свести на нет силу и смысл каждой его атаки и тверже чем когда-либо решил, что не позволит им восторжествовать. — Так вы говорите, что до этой поездки вы не намерены были жениться на мисс Олден, если бы только удалось этого избежать? — Да, сэр. — Она хотела, чтобы вы с ней обвенчались, но вы еще не пришли к такому решению? — Да. — Ну, а не припоминаете ли вы поваренную книгу, солонку, перечницу, ложки, ножи и все прочее, что она уложила в свой чемодан? — Да, сэр, припоминаю. — Так что же, по-вашему, уезжая из Бильца и беря все это с собой, она могла думать, что останется не замужем и поселится где попало в дешевой комнатушке, а вы будете навещать ее раз в неделю или раз в месяц? И прежде чем Белнеп успел заявить протест, Клайд выпалил именно то, что следовало: — Мне неизвестно, что она могла думать на этот счет. — А вы случайно в телефонном разговоре, — например, после того, как она написала вам, что, если вы не приедете за нею в Бильц, она сама приедет в Ликург, — не обещали ей жениться? — Нет, сэр, не обещал. — Вы не были до такой степени умственным и нравственным трусом, чтобы с перепугу сделать что-нибудь в этом роде, а? — Я никогда не говорил, что я умственный и нравственный трус. — И не дали бы девушке, которую вы соблазнили, запугать себя? — Просто я тогда не чувствовал, что должен на ней жениться. — Вы думали, что она не такая блестящая партия, как мисс X? — Я думал, что не должен жениться на ней, раз я больше не люблю ее. — Даже и для того, чтобы спасти ее честь и самому не оказаться непорядочным человеком? — Видите ли, я тогда думал, что мы не можем быть счастливы вместе. — Это было, конечно, до великого перелома в вашей душе? — Да, это было до того, как мы поехали в Утику. — Тогда вы еще были без ума от мисс X? — Да, я был влюблен в мисс X. — Помните, в одном из своих писем, на которые вы никогда не отвечали, Роберта Олден писала вам (тут Мейсон достал одно из первых семи писем и прочел): «Меня мучит тревога и ужасная неуверенность, хоть я и стараюсь гнать их от себя, — ведь теперь у нас все решено и ты приедешь за мной, как обещал». Так что же именно она подразумевала, говоря: «теперь у нас все решено»? — Не знаю, — разве только то, что я должен приехать за ней и увезти ее куда-нибудь на время. — Но не жениться на ней, конечно? — Нет, этого я ей не обещал. — Однако сразу же после этого, в том же самом письме, она пишет: «По пути сюда, вместо того чтобы поехать прямо домой, я решила остановиться в Гомере и повидаться с сестрой и зятем. Ведь неизвестно, когда мы увидимся опять, потому что я хочу встретиться с ними только как порядочная женщина — или уж никогда больше не встречаться!» Как, по-вашему, что она хотела сказать словами «порядочная женщина»? Что, пока не родится ребенок, она будет жить где-то вдали от всех, не выходя замуж, а вы будете понемножку посылать ей деньги, а потом, может быть, она вернется и будет изображать из себя невинную девушку или молодую вдову, — или как? А не кажется вам, что она себе представляла нечто другое: что она выйдет за вас замуж, хотя бы на время, и ребенок будет законным? «Решение», о котором она упоминает, не могло означать чего-то меньшего, не так ли? — Ну, может быть, она и так себе это представляла, — уклончиво ответил Клайд. — Но я никогда не обещал на ней жениться. — Ладно, пока мы это оставим, — упрямо продолжал Мейсон. — Займемся вот чем (и он стал читать из десятого письма): «Милый, ведь ты, наверно, мог бы приехать и на несколько дней раньше, — какая разница? Все равно, пускай у нас будет немножко меньше денег. Не бойся, мы проживем и так, пока будем вместе, — наверно, это будет месяцев шесть — восемь самое большее. Ты же знаешь, я согласна тебя потом отпустить, если ты хочешь. Я буду очень бережливой и экономной… Иначе невозможно, Клайд, хотя ради тебя я хотела бы найти другой выход». Как, по-вашему, что все это означает: «быть бережливой и экономной» и отпустить вас не раньше, чем через восемь месяцев? Что она будет ютиться где-то, а вы навещать ее раз в неделю? Или что вы действительно соглашались уехать с нею и обвенчаться, как она по-видимому, думала? — Не знаю, может быть, она думала, что сумеет меня заставить, — ответил Клайд; публика и присяжные — все эти фермеры и лесорубы, обитатели лесной глуши, возмущенно и насмешливо зафыркали, разъяренные выражением «сумеет меня заставить», так незаметно для Клайда слетевшим у него с языка. — Я никогда не соглашался на ней жениться, — закончил он. — Разве что она сумела бы вас заставить. Стало быть, вот как вы к этому относились, да, Грифитс? — Да, сэр. — И вы присягнете в этом с такой же легкостью, как в чем угодно еще? — Я ведь уже принес присягу. И тут Мейсон почувствовал — и это почувствовали и Белнеп, и Джефсон, и сам Клайд, — что страстное презрение и ярость, с какими почти все присутствующие с самого начала относились к подсудимому, теперь с потрясающей силой рвутся наружу. Презрение и ярость переполняли зал суда. А у Мейсона впереди было еще вдоволь времени, чтобы наугад, как придется, выхватывать из массы материалов и показании все, чем ему вздумается издевательски терзать и мучить Клайда. И вот, заглядывая в свои заметки (для удобства Эрл Ньюком веером разложил их на столе), он снова заговорил: — Грифитс, вчера, когда вас допрашивал здесь ваш защитник мистер Джефсон (тут Джефсон иронически поклонился), вы показали, что в вашей душе произошел этот самый перелом после того, как вы снова встретились с Робертой Олден в Фонде, — то есть как раз когда вы пустились с нею в это гибельное для нее путешествие. — Да, сэр, — сказал Клайд, прежде чем Белнеп успел заявить протест; однако адвокату удалось добиться замены «гибельного для нее путешествия» просто «путешествием». — Перед этим вашим с нею отъездом вы уже не любили ее по-прежнему, верно? — Не так сильно, как прежде… верно, сэр. — А как долго — с какого именно времени и по какое — вы ее действительно любили? То есть не успели еще разлюбить? — Ну, я любил ее с того времени, как встретился с нею, и до тех пор, пока не встретился с мисс X. — Но не дольше? — Ну, я не могу сказать, чтобы после я совсем ее разлюбил. Она была мне дорога… даже очень… но все-таки не так, как раньше. Мне кажется, я главным образом жалел ее. — Это значит… дайте сообразить… примерно с первого декабря и до апреля или до мая, так? — Да, примерно так, сэр. — И что же, все это время — с первого декабря до апреля или мая — вы оставались с нею в интимных отношениях, да? — Да, сэр. — Несмотря на то, что уже не любили ее по-прежнему? — То есть… да, сэр, — ответил Клайд с запинкой. И едва разговор перешел на сексуальные темы, как все эти сельские жители, заполнявшие зал суда, встрепенулись и заинтересованно подались вперед. — И, зная, как вы тут сами же показывали, что, безукоризненно верная вам, она по вечерам сидит одна в своей комнатушке, вы все-таки отправлялись на танцы и вечеринки, на званые обеды и автомобильные прогулки и оставляли ее в одиночестве? — Да, но ведь я не всегда уходил. — Ах, не всегда? А вы слышали, что показали здесь по этому поводу Трейси Трамбал, Фредерик Сэлс, Фрэнк Гарриэт и Бэрчард Тэйлор, или, может быть, не слыхали? — Слышал, сэр. — Так что же, они все лгали или, может быть, говорили правду? — Мне кажется, они говорили правду, насколько могли припомнить. — Но припоминали они не слишком точно, так, что ли? — Просто я не всегда уходил. Пожалуй, раза два-три в неделю… может быть, иногда и четыре, но не больше. — А остальные вечера вы проводили с мисс Олден? — Да, сэр. — Стало быть, именно это она и хотела сказать вот здесь в письме? — Мейсон взял еще одно из пачки писем Роберты и прочел: — «Почти все время после того ужасного рождества, когда ты покинул меня, я вечер за вечером провожу совсем одна». Что же, она лжет? — свирепо рявкнул Мейсон, и Клайд, понимая, как опасно обвинить Роберту во лжи, робко и сконфуженно ответил: — Нет, она не лжет. Но все-таки часть вечеров я проводил с нею. — И, однако, как вы слышали, миссис Гилпин и ее муж засвидетельствовали, что, начиная с первого декабря, мисс Олден постоянно, вечер за вечером, сидела одна у себя в комнате, что они жалели ее и считали такое затворничество неестественным и старались сблизиться с нею и немного развлечь ее, но она уклонялась от их приглашений. Слышали вы эти показания? — Да, сэр. — И тем не менее утверждаете, что часть вечеров проводили с нею? — Да, сэр. — И в то же время вы любили мисс Х и стремились чаще встречаться с нею? — Да, сэр. — И старались добиться, чтобы она вышла за вас замуж? — Да, я хотел этого, да, сэр. — И, однако, между делом, в вечера, не занятые ухаживанием за другой, продолжали свои прежние отношения с мисс Олден? — То есть… да, сэр, — снова запнулся Клайд. Его безмерно огорчало, что все эти разоблачения выставляют его в таком жалком виде, и, однако, он чувствовал, что был вовсе не так подл — по крайней мере не хотел быть таким, каким изображал его Мейсон. Ведь и другие поступали не лучше, хотя бы те же светские молодые люди в Ликурге, во всяком случае, это можно было понять по их разговорам. — А вам не кажется, что ваши просвещенные защитники нашли для вас весьма мягкое наименование, называя вас умственным и нравственным трусом? — ехидно заметил Мейсон. И тут откуда-то из глубины длинного и узкого зала суда среди глубокой тишины раздался мрачный, мстительный выкрик какого-то разъяренного лесоруба: — И на кой черт возиться с этим окаянным выродком! Прикончить его — и все тут! В то же мгновение Белнеп закричал, что он протестует, и Оберуолцер, водворяя тишину, застучал молотком и приказал арестовать нарушителя порядка, а заодно удалить из зала всех, для кого не хватало сидячих мест, что и было исполнено. Нарушитель был немедленно арестован: ему надлежало наутро предстать перед судом. И потом в наступившей тишине вновь заговорил Мейсон: — Вы говорили, Грифитс, что, уезжая из Ликурга, не намеревались жениться на Роберте Олден, если только вам удастся уладить все каким-либо иным путем. — Да, сэр. В то время так оно и было. — И, следовательно, вы были вполне уверены, что вернетесь в Ликург? — Да, сэр, я рассчитывал вернуться. — Тогда почему вы уложили все свои вещи в сундук и заперли его? — Это… это… просто… — Клайд замялся. Нападение было столь внезапно, столь мало оно было связано со всем сказанным ранее, что Клайд не успел собраться с мыслями. — Видите ли, я был не вполне уверен… я думал — вдруг мне придется уехать, независимо от того, хочу я или нет. — Понятно. Стало быть, если бы вы неожиданно решили уехать с мисс Олден, как оно и вышло (тут Мейсон фыркнул ему в лицо, будто говоря: «Так тебе и поверили!»), у вас могло не оказаться времени для того, чтобы вернуться домой и перед отъездом спокойно уложить вещи? — Н-нет, сэр, дело было не в этом. — А в чем же? — Видите ли… — И так как он прежде не думал об этом и ему не хватало смекалки, чтобы сразу же найти подходящий и правдоподобный ответ, Клайд опять замялся, что было замечено всеми и прежде всего Белнепом и Джефсоном; потом он продолжал: — Видите ли, я думал, что если понадобится уезжать, хотя бы и на короткое время, мне, пожалуй, придется спешно захватить все свои вещи. — Понятно. Но вы опасались такой спешки при отъезде не потому, что полиция могла выяснить, кто такие Клифорд Голден и Карл Грэхем? Вы в этом уверены? — Нет, сэр, не в этом дело. — И, значит, вы не говорили миссис Пейтон, что отказываетесь от комнаты? — Нет, сэр. — Вчера, давая показания, вы говорили что-то такое о недостатке денег. Будто вам не на что было увезти мисс Олден, жениться и прожить с нею вместе хоть некоторое время, хотя бы даже полгода. — Да, сэр. — Сколько у вас было денег, когда вы отправились из Ликурга в эту поездку? — Около пятидесяти долларов. — «Около» пятидесяти? Вы не знаете точно, сколько у вас было? — Знаю, сэр, — пятьдесят долларов. — Сколько вы истратили, пока были в Утике и на Луговом озере и после, пока не добрались до Шейрона? — По-моему, у меня ушло на эту поездку долларов двадцать. — А точно не знаете? — Точно… нет, сэр… но примерно что-то около двадцати долларов. — Ладно, попробуем подсчитать точнее, — продолжал Мейсон, и Клайд, почуяв западню, снова заволновался: ведь у него были еще и те деньги, которые дала ему Сондра, и часть их он тоже истратил. — Сколько вам лично стоил проезд от Фонды до Утики? — Доллар с четвертью. — А комната в Утике, в гостинице, где вы останавливались с Робертой? — Четыре доллара. — Вы, конечно, пообедали там в тот вечер и позавтракали на другое утро, — во сколько вам это обошлось? — Около трех долларов за все вместе. — И больше вы ничего не потратили в Утике? Мейсон изредка косился на листок с какими-то цифрами и пометками, но Клайд этого не замечал. — Нет, сэр. — А как насчет соломенной шляпы, которую, как тут было установлено, вы купили в Утике? — Ах да, сэр, я и забыл про нее! — спохватился Клайд. — Да, сэр, это еще два доллара. Он понял, что следует быть осторожнее. — Проезд до Лугового озера обошелся вам, разумеется, в пять долларов, правильно? — Да, сэр. — Затем, на Луговом озере вы взяли напрокат лодку. Сколько это стоило? — Тридцать пять центов в час. — А сколько времени вы катались? — Три часа. — Это составляет доллар и пять центов. — Да, сэр. — А потом вы переночевали в гостинице, сколько с вас за это взяли? Пять долларов, так? — Да, сэр. — И затем вы купили завтрак, который взяли с собой на озеро Большой Выпи? — Да, сэр. Он стоил центов шестьдесят. — А сколько вам стоила дорога до Большой Выпи? — Мы ехали поездом до Ружейной, — это доллар, и оттуда автобусом до Большой Выпи — еще доллар. — Я вижу, вы недурно помните все цифры. Да это и естественно. У вас не было денег, и приходилось учитывать свои расходы. А сколько вам потом стоил проезд от Бухты Третьей мили до Шейрона? — Семьдесят пять центов. — Вы ни разу не пробовали подсчитать общую сумму? — Нет, сэр. — Не подсчитаете ли сейчас? — Но ведь вы уже, наверно, и сами подсчитали? — Да, сэр, подсчитал. Получается двадцать четыре доллара и шестьдесят пять центов. А вы сказали, что потратили двадцать долларов. Выходит, разница в четыре доллара шестьдесят пять центов. Как вы это объясните? — Ну, наверно, я что-нибудь не очень точно вспомнил, — сказал Клайд, раздраженный этими мелочными подсчетами. Но тут Мейсон лукаво и мягко спросил: — Ах да, Грифитс, я и забыл! Сколько стоит прокат лодки на Большой Выпи? Он долго и тщательно готовил эту западню и теперь с нетерпением ждал, что ответит Клайд. — Э… м-м… то есть… — неуверенно начал Клайд. Он вспомнил, что на озере Большой Выпи не потрудился справиться о цене лодки, так как знал, что ни он, ни Роберта не вернутся. И только теперь впервые всплыл этот вопрос. А Мейсон, понимая, что поймал его, быстро переспросил: — Ну, что же? И Клайд ответил наугад: — А, да — тридцать пять центов в час, то же самое, что и на Луговом, — так мне лодочник сказал. Но он чересчур поспешил. Он не знал, что в резерве у Мейсона имеется лодочник, который должен засвидетельствовать, что Клайд не стал спрашивать его о цене. И Мейсон продолжал: — Вот оно что! Стало быть, это вам лодочник сказал? — Да, сэр. — А вы забыли, что даже и не спросили лодочника о цене? Лодка стоила вовсе не тридцать пять центов в час, а пятьдесят. Но, ясное дело, вы этого не знаете, потому что вы ужасно спешили отчалить и вовсе не собирались возвращаться и платить за лодку. Ясно, потому вы и не спросили о цене. Понятно, да? Теперь припоминаете? — Тут Мейсон достал счет, полученный им от лодочника, и помахал им перед самым носом Клайда. — Лодка стоила пятьдесят центов в час, — повторил он. — На Большой Выпи за лодку берут дороже, чем на Луговом. Но я хочу знать, как случилось, что вы, будучи столь осведомлены обо всех остальных ценах, — вы это нам только что доказали, — вовсе не знакомы именно с этой цифрой? Что же, отправляясь с мисс Олден на озеро, вы не подумали, во сколько вам обойдется катание на лодке с полудня и до вечера? Эта внезапная и ожесточенная атака сразу привела Клайда в замешательство. Он крутился и вертелся, судорожно глотал и смотрел в пол, не решаясь взглянуть на Джефсона, который как-то упустил из виду возможность подобного вопроса. — Ну, — рявкнул Мейсон, — получу я какое-нибудь объяснение по этому поводу? Вам-то самому не кажется странным, что вы можете вспомнить все статьи своих расходов, все без исключения, но только не эту? И снова все присяжные в напряженном ожидании подались вперед. И Клайд, заметив их нетерпеливое и явно подозрительное любопытство, наконец ответил: — Вот уж, право, не представляю, как я это забыл. — Еще бы! Конечно, не представляете! — фыркнул Мейсон. — Человек, который собирается убить девушку на пустынном озере, должен думать о целой массе вещей, — не удивительно, если вы и забыли кое-что. Однако вы не забыли спросить кассира, сколько стоит билет до Шейрона, когда пришли в Бухту Третьей мили, верно? — Не помню, спрашивал ли я об этом. — Зато он помнит. Он дал соответствующие показания. Вы позаботились справиться о цене комнаты на Луговом озере. Вы спросили там и о стоимости проката лодки. Вы даже спросили, сколько стоит проезд на автобусе до Большой Выпи. Какая жалость, что вы не подумали спросить, сколько стоит прокат лодки на Большой Выпи! Вам не пришлось бы теперь так волноваться из-за этого, правда? И тут Мейсон посмотрел на присяжных, словно говоря: «Сами видите!» — Наверно, я об этом просто не подумал, — повторил Клайд. — Исчерпывающее объяснение, по-моему, — язвительно заметил Мейсон и затем продолжал на всех парах: — Надо полагать, вы вряд ли помните и расход в тринадцать долларов двадцать центов на завтрак в «Казино» девятого июля — на другой день после смерти Роберты, — так, что ли? Мейсон был драматичен, быстр и напорист и не давал Клайду времени ни подумать, ни хотя бы перевести дух. При этом его вопросе Клайд чуть не подскочил: он и не подозревал, что Мейсону известно о том завтраке. — А вы помните, — продолжал Мейсон, — что еще свыше восьмидесяти долларов было у вас обнаружено при аресте? — Да, теперь я припоминаю, — ответил Клайд. Он совсем забыл об этих восьмидесяти долларах. Однако сейчас он ничего об этом не сказал, так как не сообразил, что можно сказать. — В чем же тут дело? — настойчиво и беспощадно допытывался Мейсон. — Выезжая из Ликурга, вы имели только пятьдесят долларов, а в момент ареста — свыше восьмидесяти, — и при этом истратили двадцать четыре доллара шестьдесят пять центов плюс тринадцать долларов на завтрак. Откуда же у вас взялись остальные деньги? — На это я сейчас не могу ответить, — угрюмо сказал Клайд, чувствуя, что его загнали в угол и притом оскорбили. Эти деньги он получил от Сондры, и никакие силы в мире не вырвали бы у него такого признания. — То есть почему вы не можете ответить? — заорал Мейсон. — Вы где, собственно, находитесь, как по-вашему? И для чего мы все здесь собрались, как по-вашему? Чтобы вы рассуждали, на что вам угодно отвечать, а на что не угодно? Вы перед судом, и речь идет о вашей жизни, не забудьте! Вам не удастся играть в прятки с законом, сколько бы вы мне прежде ни лгали. Вы отвечаете перед лицом этих двенадцати присяжных, и они ждут прямого ответа. Ну, что же? Откуда вы взяли эти деньги? — Занял у друга. — Что за друг? Как его имя? — Это мое дело. — Ах, ваше! Значит, вы солгали насчет той суммы, которую имели при себе, уезжая из Ликурга, это ясно. Да еще под присягой. Не забывайте этого! Под присягой, которую вы так свято чтите. Что, неправда? — Да, неправда, — сказал наконец Клайд, придя в себя под ударами этих обвинений. — Я занял денег после того, как приехал на Двенадцатое озеро. — У кого? — Этого я не могу сказать. — Стало быть, грош цена вашему заявлению, — отрезал Мейсон. Клайд заартачился. Он все больше понижал голос, и Мейсон каждый раз приказывал ему говорить громче и повернуться так, чтобы присяжные могли видеть его лицо. И каждый раз, повинуясь ему, Клайд испытывал все большее и большее озлобление против этого человека, хотевшего вырвать у него все его тайны. Мейсон коснулся и Сондры, а она была еще слишком дорога сердцу Клайда, чтобы он мог открыть что-либо, бросающее на нее тень. И вот Клайд сидел и смотрел на присяжных как-то даже вызывающе. Тем временем Мейсон взял со стола какие-то фотографии. — Это вам знакомо? — спросил он, показывая Клайду несколько неясных, попорченных водою изображений Роберты, несколько фотографий самого Клайда и еще кое-какие снимки (ни на одном из них не было Сондры): Клайд сделал их во время первого посещения дачи Крэнстонов, а четыре — позже, на Медвежьем озере, причем на одной из последних фотографий был снят он сам, играющий на банджо. — Помните, когда это было снято? — спросил Мейсон, показывая сперва фотографию Роберты. — Да, помню. — Где это было? — На южном берегу Большой Выпи, в тот день, когда мы там были. Клайд знал, что эти пленки были в аппарате, и говорил о них Белнепу и Джефсону; однако теперь он немало удивился, увидев, что их сумели проявить. — Грифитс, — продолжал Мейсон, — ваши защитники не говорили вам, как упорно они старались выудить из озера Большой Выпи фотографический аппарат — тот самый, которого, как вы клялись, у вас не было? Не говорили, как выуживали его до тех пор, пока не выяснили, что он у меня в руках? — Они никогда мне ничего такого не говорили, — ответил Клайд. — Очень жаль. Я мог бы их избавить от массы хлопот. Итак, это снимки, найденные в аппарате, и сделаны они были сразу после пережитого вами душевного переворота, — помните? — Я помню, когда они были сделаны, — угрюмо ответил Клайд. — Ну да, они были сделаны перед тем, как вы оба в последний раз отплыли от берега, перед тем, как вы наконец сказали ей все, что вы там хотели сказать, перед тем, как убили ее, — в то самое время, когда, по вашим же показаниям, она была очень печальна. — Нет, печальна она была накануне, — возразил Клайд. — А, понятно. Ну, во всяком случае, на этих снимках она что-то чересчур весела для человека, который был так подавлен и расстроен, как выходит по вашим рассказам. — Но ведь в это время она вовсе не была такой подавленной, как накануне, — выпалил Клайд: это была правда, и он хорошо это помнил. — Понятно. А теперь поглядите вот на эти снимки. Хотя бы на эти три.Где они были сделаны? — Кажется, на даче Крэнстонов на Двенадцатом озере. — Правильно. Восемнадцатого или девятнадцатого июня, так? — Кажется, девятнадцатого. — А не помните ли, какое письмо написала вам Роберта девятнадцатого июня? — Нет, сэр. — Вы не помните ни одного из ее писем в отдельности? — Нет, сэр. — Но вы говорили, что все они были очень грустные? — Да, сэр, это верно. — Так вот, у меня в руках письмо, написанное в то самое время, когда сделаны эти снимки. — Тут Мейсон повернулся к присяжным: — Я попрошу вас, господа присяжные заседатели, взглянуть на снимки, а затем выслушать один отрывок из письма, которое мисс Олден написала в тот день подсудимому. Он признался, что отказывался писать ей и старался пореже звонить по телефону, хотя и жалел ее. — И Мейсон взял письмо и, обращаясь к присяжным, прочел вслух длинную, горькую жалобу Роберты. — А вот еще четыре фотографии, Грифитс, — продолжал он, вручая Клайду снимки, сделанные на Медвежьем озере. — Очень весело, как, по-вашему? Не слишком похоже на портрет человека, только что пережившего великий душевный переворот после длительных, ужасающих сомнений, тревог и дурного поведения, — человека, только что видевшего внезапную гибель женщины, с которой он поступил самым жестоким и бесчестным образом и свою вину перед которой как раз перед этим хотел загладить. Судя по этим снимкам, вы были беззаботнейшим человеком на свете, верно? — Но ведь это групповые снимки. Мне неудобно было не сняться вместе со всеми. — Ну, а этот, где вы в воде? Вам ничуть не трудно было войти в воду на второй или на третий день после того, как Роберта Олден нашла свою могилу на дне Большой Выпи? Да еще после пережитого вами столь облагораживающего нравственного переворота, совершенно изменившего ваше к ней отношение? — Я не хотел, чтобы кто-либо понял, что я был там с нею. — Знаем, знаем. А как насчет вот этой фотографии — с банджо? Поглядите-ка! — И Мейсон протянул ему фотографию. — Очень весело, а? — съязвил он. И растерянный, испуганный Клайд ответил: — Но все равно, мне совсем не было весело! — Даже когда вы играли на банджо? И когда развлекались гольфом и теннисом со своими друзьями на другой же день после ее смерти? И когда поедали тринадцатидолларовые завтраки? И когда снова находились в обществе мисс X, что, по вашим собственным показаниям, предпочитали всему на свете? Мейсон не говорил, а рычал — гневный, зловещий, свирепо иронизирующий. — А все-таки именно тогда мне не было весело, сэр. — Что значит «именно тогда»? Разве вы не были там, куда стремились? — Видите ли, в известном смысле это, конечно, верно, — ответил Клайд, спрашивая себя, что-то подумает Сондра: ведь она наверняка прочтет его показания… Все материалы процесса изо дня в день публикуются во всех газетах. Он не может отрицать, что был тогда подле Сондры и что стремился к этому. И, однако, ведь он не был счастлив. Как отчаянно несчастен он был, оттого что запутался в своем постыдном и жестоком замысле! Но как объяснить это, чтобы Сондра поняла, когда она станет читать, и чтобы все эти присяжные тоже поняли? И Клайд прибавил, судорожно глотая пересохшим горлом и облизывая губы пересохшим языком: — А все-таки мне было очень жаль мисс Олден. Я не мог тогда чувствовать себя счастливым, просто не мог. Я только старался так себя вести, чтобы люди не подумали, что я имею какое-то отношение к этой ее поездке, вот и все. Я не знал, как иначе этого добиться. Я не хотел, чтобы меня арестовали за то, чего я не делал. — Да разве вы сами не знаете, что все это ложь! Вы же знаете, что лжете! — закричал Мейсон, словно призывая весь свет в свидетели, и его неистовства, страстного недоверия и презрения было достаточно, чтобы убедить и присяжных и публику, что Клайд — отъявленнейший лжец. — Вы слышали показания Руфуса Мартина, младшего повара, ездившего с вашей компанией на Медвежье озеро? — Да, сэр. — Вы слышали, как он под присягой показал, что видел вас с мисс Х в укромном уголке на берегу у Медвежьего озера и вы держали ее в объятиях и целовали? Было это? — Да, сэр. — И это ровно через четыре дня после того, как Роберта Олден осталась лежать на дне озера Большой Выпи?! Что же, вы и тогда боялись ареста? — Да, сэр. — Даже тогда, когда держали мисс Х в объятиях и целовали ее? — Да, сэр, — тоскливо и безнадежно повторил Клайд. — Ну, знаете ли! — заорал Мейсон. — Никто бы не поверил, что такую чушь можно нести на суде, если бы мы тут не слышали все это собственными ушами! И вы сидите тут и под присягой заявляете суду, что могли разводить нежности, обнимая одну обманутую девушку, в то самое время как другая обманутая вами девушка лежала на дне озера за сто миль от вас, и при этом чувствовали себя несчастным и мучились угрызениями совести? — А все-таки именно так и было, — ответил Клайд. — Превосходно! Бесподобно! — вскричал Мейсон. Утомленно вздыхая, он снова вытащил из кармана большой белый платок, обвел взглядом зал суда и стал вытирать лицо, всем своим видом говоря: «Ну, и тяжкая задача!» Потом продолжал с еще большей силой, чем прежде: — Грифитс, только вчера, вот здесь, на свидетельском месте, вы под присягой показали, что, уезжая из Ликурга, вы совсем не предполагали отправиться на озеро Большой Выпи. — Да, сэр, не предполагал. — А оказавшись с мисс Олден вдвоем в номере гостиницы в Утике и увидев, как она утомлена и измучена, вы подали мысль, что какой-то отдых — небольшая прогулка, доступная вам при общих ваших скромных средствах, — пойдет ей на пользу. Так было дело? — Да, сэр, так, — ответил Клайд. — Но до той минуты вам и в голову не приходило поехать именно к озерам в Адирондакских горах? — Нет, сэр… то есть я не думал о каком-либо определенном озере. Я думал, что мы могли бы, пожалуй, съездить в какое-нибудь дачное место — они ведь тут почти все около озер, — но я не имел в виду никакого определенного озера. — Понятно. А когда вы предложили это, именно мисс Олден сказала, что надо достать какие-нибудь карты и путеводители, так? — Да, сэр. — И вы спустились в вестибюль гостиницы и достали их? — Да, сэр. — В гостинице «Ренфру», в Утике? — Да, сэр. — А может быть, случайно, где-нибудь в другом месте? — Нет, сэр. — А потом, просматривая эти карты, вы оба увидели Луговое озеро и озеро Большой Выпи и решили туда поехать? Так было дело? — Да, так мы решили, — ответил Клайд, с трудом подавляя тревогу. Он уже жалел, что сказал, будто достал путеводители в утикской гостинице. Может быть, тут опять скрыта какая-то западня… — Вы и мисс Олден? — Да, сэр. — И вы вдвоем выбрали Луговое озеро, как самое подходящее, потому что там все особенно дешево, так было дело? — Да, сэр, так. — Понятно. А это вы припоминаете? — И, взяв со стола несколько путеводителей (было удостоверено, что все они оказались среди вещей Клайда в его чемодане на Медвежьем озере в момент ареста), Мейсон вручил их Клайду. — Просмотрите их. Это и есть те справочники, которые я обнаружил в вашем чемодане на Медвежьем озере? — Как будто те самые. — Те самые, которые вы отыскали в киоске гостиницы «Ренфру» и отнесли наверх, в номер, чтобы показать мисс Олден? Немало испуганный тщательностью, с которой Мейсон разбирался в этой истории с путеводителями, Клайд взял брошюрки и повертел в руках. Но так как штамп ликургской гостиницы «Привет из Ликурга — отель «Ликург», штат Нью-Йорк» был красный, почти такой же, как красный шрифт всего текста, Клайд даже теперь его не заметил. Он все вертел справочники в руках и наконец, решив, что тут нет никакого подвоха, ответил: — Да, мне кажется, те самые. — Ну, а в котором из них вы нашли рекламу гостиницы на Луговом озере и тамошние цены? — коварно выспрашивал Мейсон. — Не в этом ли? И он снова подал Клайду тот же справочник с ликургским штампом и указал страницу с тем самым объявлением, к которому Клайд когда-то привлек внимание Роберты. Посередине напечатана была карта Индийских гор вместе с Двенадцатым, Луговым, Большой Выпью и другими озерами, а в самом низу карты была ясно обозначена дорога, ведущая от Лугового озера и станции Ружейной на юг, мимо южной части озера Большой Выпи к Бухте Третьей мили. Увидев опять через столько времени знакомую карту, Клайд вдруг решил, что Мейсон, должно быть, старается установить его осведомленность относительно этой дороги, — и робко, нетвердо ответил: — Да, может быть. Как будто он похож на тот. Кажется, это он и есть. — А точно вы не знаете? — мрачно и непреклонно настаивал Мейсон. — Вы не можете, прочитав это объявление, сказать, тот ли это путеводитель или не тот? — Похоже, что тот, — уклончиво ответил Клайд, проглядев то самое объявление, которое заставило его вначале остановить свой выбор на Луговом озере. — Думаю, что, пожалуй, тот. — Думаете! Думаете! Становитесь осторожнее, когда дело доходит до чего-то конкретного. Ладно, взгляните-ка еще раз на эту карту и скажите мне, что вы там видите. Не видите ли вы на ней дорогу, ведущую к югу от Лугового озера? — Да, — не сразу, угрюмо и немного резко ответил Клайд, — так истерзал и измучил его этот человек, твердо решивший затравить его, загнать в могилу. Клайд теребил карту и притворялся, будто разглядывает ее, как ему было велено, но увидел только то, что уже видел когда-то давно в Ликурге, перед самым своим отъездом в Фонду для встречи с Робертой. И вот теперь этим пользуются против него. — Как же она проходит, эта дорога, скажите, пожалуйста? Будьте так любезны, скажите господам присяжным, откуда и куда она ведет? И Клайд, издерганный, запуганный, чувствуя слабость во всем теле, ответил: — От Лугового озера к Бухте Третьей мили. — А что там по соседству, мимо каких мест она проходит? — Мимо Ружейной. И все. — А как насчет озера Большой Выпи? Разве дорога не проходит близко от его южной части? — Да, сэр, проходит. — Вы когда-нибудь видели или изучали эту карту, прежде чем поехали из Утики на Луговое озеро? — возбужденно и энергично добивался Мейсон. — Нет, сэр, никогда. — И не знали, что там есть эта дорога? — Ну, может быть, я и видел ее, — ответил Клайд, — но если и видел, так не обратил на нее внимания. — И уж, конечно, вы ни в коем случае не могли видеть и изучать этот справочник и эту дорогу до отъезда из Утики? — Нет, сэр. Я его прежде никогда не видел. — Понятно. Вы в этом совершенно уверены? — Да, сэр, совершенно уверен. — Ну так, помня свою торжественную присягу, которую вы столь глубоко чтите, объясните, если можете, мне или господам присяжным, откуда на этом путеводителе взялся штамп: «Привет из Ликурга — отель «Ликург», штат Нью-Йорк»? И, закрыв брошюрку, Мейсон показал Клайду сзади на обложке, среди остального красного шрифта, слабо оттиснутый красный штамп. А Клайд, впервые заметив штамп, в оцепенении уставился на него. Неестественно бледное лицо его снова посерело, тонкие пальцы судорожно сжимались и разжимались, красные, опухшие, усталые веки то и дело мигали, словно он ждал, не исчезнет ли возникшая перед его глазами проклятая неопровержимая улика. — Не знаю, — упавшим голосом сказал он, помолчав. — Он, наверно, каким-то образом попал в киоск гостиницы «Ренфру». — Вот как? А если я приведу двоих свидетелей, которые покажут под присягой, что третьего июля — за три дня до вашего отъезда из Ликурга в Фонду — они видели, как вы зашли в отель «Ликург» и взяли там четыре или пять путеводителей? Тогда вы тоже станете повторять, что он, наверно, каким-то образом попал в киоск гостиницы «Ренфру» шестого июля? Мейсон замолчал и торжествующе посмотрел вокруг, словно хотел сказать: «Ну-ка, что ты на это ответишь!» И Клайд, потрясенный, помертвевший, задохнувшийся, добрую четверть минуты собирался с силами, прежде чем сумел настолько овладеть своими нервами и голосом, чтобы ответить. — Да, наверно, так. Я не доставал его в Ликурге. — Очень хорошо. Но пока дадим этим джентльменам взглянуть на него. — И Мейсон передал путеводитель старшине присяжных, а тот, в свою очередь, передал брошюрку своему соседу, и она стала переходить от присяжного к присяжному. А по всему залу суда тем временем поднялся взволнованный шепот и гул голосов. И когда все присяжные осмотрели путеводитель, — к большому удивлению публики, ждавшей новых и новых непрерывных атак и разоблачений, — Мейсон заявил: — Народ закончил. И сразу же многие в зале суда стали шептать друг другу: «Попался! Попался!» Судья Оберуолцер тотчас объявил, что, ввиду позднего времени, а также принимая во внимание предстоящий допрос ряда дополнительных свидетелей со стороны защиты и нескольких со стороны обвинения, он считает разумным на сегодня закончить работу суда. И Белнеп и Мейсон с радостью согласились. Публику не выпускали из зала, пока Клайда не провели через площадь в тюрьму, в его камеру. Под охраной Сиссела и Краута он вышел через ту самую дверь и спустился по той самой лестнице, которые много дней назад были замечены им и навели его на размышления… Когда Клайда увели, Белнеп и Джефсон посмотрели друг на друга, но не обменялись ни словом, пока не укрылись в своей надежно запертой конторе. — Не хватило выдержки. Лучшая система защиты, какая была возможна, но мало храбрости. Он на это не способен, и все тут, — начал Белнеп. Джефсон, не сняв пальто и шляпы, тяжело опустился на стул. — Нет, тут, несомненно, дело серьезное, — сказал он. — Должно быть, он действительно ее убил. Но, по-моему, теперь мы не можем удрать с корабля. А он в конце концов вел себя даже лучше, чем я ожидал. — Ну, черт возьми, я в заключительной речи буду лезть из кожи вон, — отозвался Белнеп. — Это все, что я могу сделать. И Джефсон ответил с ноткой усталости в голосе: — Правильно, Элвин, теперь, к сожалению, это ложится плавным образом на вас. А пока что я, пожалуй, схожу в тюрьму и постараюсь его немножко подбодрить. Не годится, чтобы он завтра выглядел мокрой курицей. Он не должен вешать носа. Пускай присяжные видят, что сам он не чувствует себя виновным, что бы они там ни думали. Он поднялся, засунул руки в карманы своего долгополого пальто и сквозь зимнюю холодную тьму зашагал по угрюмым улицам к Клайду.Глава 92
Остальная часть процесса прошла в допросе одиннадцати свидетелей: четырех со стороны Мейсона и семи со стороны защиты. В числе последних был доктор А. К. Суорд из Риобета, который случайно оказался на озере Большой Выпи в тот день, когда тело Роберты доставили на лодочную станцию. Он показал, что осмотрел тогда тело и что кровоподтеки на лице, судя по их тогдашнему виду, были похожи на следы именно случайного удара, в чем признался Клайд, — и, бесспорно, мисс Олден утонула, находясь в сознании, а не будучи оглушенной, как уверяет присяжных обвиняющая сторона. Выслушав это заключение, Мейсон занялся профессиональным прошлым господина медика, которое, увы, оказалось вовсе не столь солидным: доктор Суорд окончил второразрядную медицинскую школу в Оклахоме и с тех пор практиковал где-то в провинциальном городке. Вслед за ним появился свидетель Сэмюэл Ирсли, фермер из окрестностей станции Ружейной, постоянно ездивший по дороге, по которой тело Роберты везли с озера Большой Выпи на станцию. Ни словом не касаясь обвинения, предъявленного Клайду, он с глубоким убеждением заявил, что дорога эта, как он заметил, проезжая по ней в то утро, когда перевозили тело, была совсем плоха, вся в ухабах. Таким образом Белнеп, который вел допрос, получил возможность указать, что состояние дороги могло в какой-то мере усугубить серьезность ушибов на лице и голове Роберты. Однако позднее это показание было опровергнуто свидетелем со стороны Мейсона, — это был не более и не менее как кучер фирмы «Братья Луц», который столь же убежденно клялся, что нигде на дороге не видел никаких выбоин и ухабов. Далее, Лигет и Уигэм показали, что, насколько они могли заметить и судить, Клайд при исполнении своих служебных обязанностей на фабрике Грифитсов всегда был усерден, аккуратен и исполнителен. В деловом отношении они считали его безупречным. Затем еще несколько менее значительных свидетелей показали, что, по их наблюдениям, Клайд всегда вел себя в обществе очень благопристойно, осмотрительно и сдержанно. Они не замечали за ним ничего дурного. Но, увы, как быстро выяснил Мейсон при перекрестном допросе, они никогда не слыхали о Роберте Олден, о ее несчастье или хотя бы о том, что Клайд с нею знаком. Наконец, после того как обе стороны по мере сил постарались подкрепить и обосновать или опровергнуть массу опасных и трудных мелочей, для Белнепа настал час сказать последнее слово в защиту Клайда. Он потратил на это целый день: с величайшей тщательностью, в духе своей вступительной речи, он вновь подчеркнул все доказательства того, как наивно и простодушно, почти бессознательно, Клайд завязал вначале знакомство с Робертой, окончившееся для обоих столь трагически. Умственное и нравственное малодушие, повторил Белнеп, возросшее под влиянием различных неблагоприятных обстоятельств в детстве и юности, вместе с открытием новых счастливых возможностей, о каких Клайд прежде не мог и мечтать, — вот что губительно подействовало на его «быть может, слишком неустойчивую, чувственную, непрактичную и мечтательную натуру». Без сомнения, он нечестно поступил с мисс Олден. Спору нет. Поступил нечестно. Но с другой стороны, — и это со всей очевидностью подтверждается теми признаниями, которые он сделал, когда его допрашивал защитник, — он в конечном счете вовсе не был таким жестоким негодяем, каким хочет выставить его обвинитель перед достопочтенными господами присяжными и публикой. Многие мужчины бывали гораздо более жестоки в делах любви, чем могло даже пригрезиться этому юноше, почти мальчику, — и, разумеется, отнюдь не всегда их за это вешали. Решая же с точки зрения закона вопрос о том, действительно ли этот мальчик совершил преступление, в котором его обвиняют, господа присяжные должны быть крайне осторожны: пусть благородное сочувствие к несчастной девушке, к страданиям, перенесенным ею из-за любовной связи с этим юношей, не окажет давления на господ присяжных и не заставит их поверить и заявить в своем решении, будто этот юноша действительно совершил преступление, указанное в обвинительном акте. Найдется ли такой мужчина или такая женщина, которые не бывали порою жестоки друг к другу в делах любви? Далее, путем длительного и подробного анализа Белнеп постарался доказать, что против Клайда имеются одни лишь косвенные улики: ни один человек не видел и не слышал, как именно произошло предполагаемое преступление, а между тем сам Клайд совершенно исчерпывающе объяснил, каким образом он оказался в столь необычайном положении. Эпизод с путеводителем, а также то, что Клайд забыл справиться о цене лодки на озере Большой Выпи, предусмотрительно закопал штатив и, наконец, оказавшись в воде так близко от Роберты, не пришел ей на помощь, — все это Белнеп отмел в сторону: по его словам, это было либо чистейшей случайностью, либо забывчивостью. Клайд не попытался спасти Роберту потому, что был ошеломлен, растерян, испуган и «проявил роковую, но не преступную нерешительность, как раз в ту минуту своей жизни, когда следовало быть решительным». Поистине, это была сильная, хотя и казуистическая защитительная речь, отнюдь не лишенная достоинства и значительности. А затем Мейсон, страстно убежденный, что Клайд — гнуснейший и хладнокровнейший убийца, потратил целый день на то, чтобы распутать «паутину лжи и необоснованных утверждений», которыми защита надеялась отвлечь внимание присяжных от неразрывной, неопровержимой цепи веских и основательных улик, доказывающих, что этот «совершенно взрослый мужчина» поистине — «злодей и убийца». Долгие часы Мейсон заново перебирал утверждения различных свидетелей. И еще часы он потратил на то, чтобы очернить Клайда и снова пересказать скорбную повесть страданий Роберты, так что опять едва не довел и присяжных и публику до слез. И Клайд, сидя между Белнепом и Джефсоном, решил про себя, что присяжные ни в коем случае не оправдают его ввиду всей этой массы столь искусно и трогательно представленных улик. Потом Оберуолцер с высоты своего судейского кресла произнес напутственное слово присяжным: — Джентльмены! В сущности, всякие улики являются в какой-то мере косвенными, будь то факты, указывающие на виновность, или показания очевидцев. Ведь и самые показания очевидцев зависят от обстановки. Если какие-либо существенные факты данного дела противоречат вероятной виновности подсудимого и говорят в его пользу, ваш долг, джентльмены, принять эти факты во внимание. Следует помнить, что улики не могут быть поставлены под сомнение и отвергнуты только потому, что они косвенные. Нередко они могут быть надежнее и достовернее, чем прямые улики. Здесь много говорилось о мотивах преступления и об их значении в данном деле, но вам надлежит помнить, что определение этих мотивов отнюдь не необходимо и не существенно для вынесения обвинительного приговора. Мотивы эти могут иметь значение обстоятельства, помогающего установить наличие преступления, но доказывать существование их вовсе не обязательно. Если присяжные придут к заключению, что Роберта Олден случайно, непроизвольно упала за борт и подсудимый не попытался ее спасти, это еще не означает виновности подсудимого, и тогда следует признать, что он не виновен. С другой стороны, если присяжные придут к заключению, что при данных обстоятельствах подсудимый тем или иным путем преднамеренно вызвал эту роковую случайность или способствовал ей, нанеся Роберте Олден удар или как-либо иначе, тогда следует признать его виновным. Я не настаиваю, чтобы вы обязательно вынесли единогласное решение, но я советовал бы каждому из вас не проявлять чрезмерного упорства и несговорчивости, если по тщательном размышлении он найдет, что заблуждался. Так торжественно и поучительно судья Оберуолцер напутствовал присяжных с высоты судейского кресла. Когда он закончил — ровно в пять часов дня, — присяжные поднялись и проследовали на совещание. И сразу же, прежде чем публике разрешено было покинуть зал суда, Клайда снова отвели в тюрьму: шериф все время опасался, как бы подсудимый не подвергся нападению. Пять долгих часов Клайд провел в ожидании: он то шагал взад и вперед, взад и вперед по своей камере, то делал вид, что читает или отдыхает; а Краут и Сиссел, которым различные репортеры дали «на чай», чтобы получить сведения о том, как он все это переносит, втихомолку старались держаться поближе и наблюдали за ним. А тем временем судья Оберуолцер, Мейсон, Белнеп и Джефсон со своими помощниками и друзьями обедали в разных концах бриджбургского отеля «Сентрал» и, потягивая вино, чтобы успокоить свое нетерпение, ждали, пока присяжные договорятся между собою; и все от души желали, чтобы приговор, каким бы он ни оказался, был вынесен поскорее. А тем временем двенадцать человек — фермеры, клерки, торговцы — для очистки совести стали вновь перебирать и обсуждать каждую мелочь, о которой говорили Мейсон, Белнеп и Джефсон. Но из всех двенадцати лишь один — аптекарь Сэмюэл Апхем (он был политическим противником Мейсона, и притом на него произвел большое впечатление Джефсон) — сочувствовал Белнепу и Джефсону. Поэтому он делал вид, что сомневается в непреложности доводов Мейсона, пока, наконец, проголосовав пять раз кряду и не достигнув единодушия, остальные не пригрозили ему разоблачением и всеобщим возмущением и издевательствами, которых не миновать, если присяжные замешкаются с приговором. — Мы вас выведем на чистую воду, так и знайте! Так просто вы не отделаетесь. Публика в точности узнает, какие у вас взгляды на этот счет! И Апхем, у которого был недурной аптекарский магазин в Северном Мэнсфилде, счел за благо спрятать в карман свое несогласие с Мейсоном и присоединиться к общему мнению. А затем — четыре глухих удара в дверь, ведущую из комнаты для совещаний в зал суда. Это стучал своим громадным кулаком старшина присяжных Фостер Ленд, торговец цементом и известью. И сотни людей, заполнивших после обеда жаркий, душный зал (многие, впрочем, и не уходили обедать), стряхнули с себя охватившее их оцепенение. — Что такое? Что случилось? Присяжные вернулись с решением? Какой приговор? И вся публика — мужчины, женщины, дети — подалась ближе к барьеру. А два пристава у двери откликнулись на стук: — Ладно, ладно! Сейчас придет судья! Другие пристава поспешили через площадь в тюрьму, чтобы известить шерифа и доставить Клайда в суд, третьи — в отель «Сентрал» вызвать Оберуолцера и остальных. Клайд, ошеломленный, оцепеневший от полного одиночества и убийственной неизвестности, был прикован наручниками к Крауту и отведен в суд под охраной Слэка, Сиссела и прочих. Оберуолцер, Мейсон, Белнеп и Джефсон и многочисленные репортеры, художники, фотографы вошли в зал и разместились в том же порядке, как и все эти долгие недели. Клайд мигал и щурился, усаживаясь на этот раз не между Белнепом и Джефсоном, как прежде, а позади них: прочно прикованный к Крауту, он должен был сидеть рядом с ним. Как только Оберуолцер и клерк заняли свои места, дверь комнаты присяжных распахнулась и торжественно вошли двенадцать человек — странные, разнохарактерные фигуры в грубых, по большей части изрядно поношенных костюмах. Все они уселись на скамье присяжных, но тотчас снова поднялись, услышав вопрос клерка: — Господа присяжные заседатели, готово ли ваше решение? Никто из присяжных ни разу не взглянул в сторону Белнепа, Джефсона и Клайда, и Белнеп сразу понял, что в этом заключен роковой смысл. — Сорвалось, — шепнул он Джефсону. — Не в нашу пользу. Ясно. И тут Ленд объявил: — Да, мы вынесли решение. Мы признаем подсудимого виновным в убийстве с заранее обдуманным намерением. Клайд, совершенно ошеломленный, все же постарался сохранить самообладание и внешнее спокойствие и не мигая смотрел прямо перед собой, на присяжных, или, вернее, поверх них. Ведь только прошлой ночью в тюрьме Джефсон, застав его совершенно подавленным, сказал ему, что приговор этого суда, если даже он и будет неблагоприятным, не имеет значения. Все разбирательство с начала и до конца было пристрастным. Предубеждение и несправедливость определяли в нем каждый шаг. Любая высшая инстанция признает недопустимыми и незаконными одергивания, угрозы и инсинуации, которые позволял себе Мейсон на суде. Будет подана апелляция, после чего, безусловно, назначат новое разбирательство дела (впрочем, Джефсон предпочел не вдаваться в рассуждения о том, кто именно подаст эту апелляцию). И теперь, вспоминая объяснения Джефсона, Клайд говорил себе, что, пожалуй, этот приговор и в самом деле не имеет особенного значения… Не может иметь, правда же! Или… Подумать только, что означают вот эти слова, если нельзя будет добиться пересмотра дела! Смерть! Это решение присяжных означало бы смерть, если бы оно было окончательным… а может быть, оно и есть окончательное. И тогда ему придется сесть на тот стул, — это видение преследовало его уже давно, много дней и ночей, и у Клайда не хватало сил его отогнать. И сейчас ему снова привиделся этот ужасный, отвратительный стул, только ближе и больше, чем прежде: он был здесь, перед Клайдом, на полпути между ним и судьей Оберуолцером… Клайд ясно видел его: массивный, прочные ручки, широкая прочная спинка, по бокам и сверху ремни… Господи! Что, если никто ему не поможет! Вдруг Грифитсы не пожелают нести новые расходы… Подумать только! Или суд второй инстанции, о котором говорили Белнеп и Джефсон, отвергнет его апелляцию. И тогда решение присяжных станет окончательным. Конец! Конец! Господи! У Клайда застучали зубы, но он тотчас заметил это и стиснул челюсти. К тому же в эту минуту поднялся Белнеп и потребовал поименного голосования присяжных, а Джефсон обернулся к Клайду и прошептал: — Вы не волнуйтесь. Приговор не окончательный. Мы наверняка добьемся пересмотра. А в это время каждый присяжный по очереди говорил свое «Да!» — и Клайд слушал их, а не Джефсона. Почему все они так подчеркивают это «да»? Неужели ни один из них не подумал, что, вопреки всем речам Мейсона, Клайд мог ударить Роберту нечаянно? Неужели ни один не поверил хотя бы наполовину в пережитый им, по утверждению Белнепа и Джефсона, душевный переворот? Он смотрел на них. Все они, и высокие и низенькие, походили на почерневшие деревянные игрушки с темными или желтоватыми, как старая слоновая кость, руками и лицами. Потом он подумал о матери. Она обо всем узнает, ведь столько репортеров, художников, фотографов собралось здесь, чтобы услышать приговор. А что теперь подумают Грифитсы — его дядя и Гилберт? А Сондра? Сондра! От нее — ни слова. А ведь здесь, на суде, он все время открыто говорил — и Белнеп и Джефсон поощряли его — о властной, неодолимой страсти к Сондре, о страсти, которая одна была истинной причиной всего совершившегося? И вот — ни слова. И теперь она, уж конечно, не напишет ему ни строчки, а ведь она готова была выйти за него замуж и все ему отдать! Однако толпа вокруг была безмолвна, хотя и ощущала глубокое удовлетворение, — или, быть может, именно поэтому. Не вывернулся, паршивец! Не удалось ему провести двенадцать здравомыслящих людей, представителей всего округа, своим вздором насчет нравственного переворота! Экая чушь! Джефсон в это время сидел, неподвижно глядя прямо перед собой, а Белнеп, чье энергичное лицо явственно выражало презрение и вызов, возбуждал все новые ходатайства. Мейсон, Бэрлей, Ньюком и Редмонд едва прикрывали маской сверхъестественной суровости свое величайшее удовлетворение. Белнеп попросил отсрочить оглашение приговора на неделю, до следующей пятницы — тогда ему лично будет удобнее при этом присутствовать, — но судья Оберуолцер ответил, что не может согласиться, если ему не представят для этого серьезных оснований. Однако завтра он готов, если угодно защитникам, выслушать их доводы. В случае, если они окажутся убедительными, он отложит оглашение приговора, если же нет — приговор будет объявлен в ближайший понедельник. И, однако, Клайда сейчас не занимали эти пререкания. Он думал о матери, о том, что она подумает и почувствует. Он постоянно писал ей все это время и упорно повторял, что не виновен: пусть она не верит тому, что читает о нем в газетах, — это просто басни. Он, безусловно, будет оправдан. Он сам будет свидетельствовать в свою пользу. А теперь… теперь… Ему так недостает ее теперь, так недостает… Все, решительно все покинули его. Он так страшно, бесконечно одинок. Надо поскорее написать ей. Скорее. Скорее. И, попросив у Джефсона листок бумаги и карандаш, он написал: «Миссис Грифитс, миссия «Звезда упования», Денвер, Колорадо. Дорогая мама, я осужден. Клайд». Он протянул листок Джефсону и тревожно и жалобно спросил, нельзя ли сейчас же послать телеграмму. — Ну конечно, дружок, сейчас пошлем, — ответил Джефсон, тронутый его несчастным видом, и, поманив стоявшего поблизости рассыльного, вручил ему листок и деньги на отправку телеграммы. Потом двери для публики были заперты, и Клайда в сопровождении Краута и Сиссела вывели из суда через боковую дверь — дорогой, которой он когда-то надеялся ускользнуть. И представители печати, и публика, и присяжные, продолжавшие сидеть на своих местах, — все глазели на него, как будто они еще не насмотрелись на него вдосталь и непременно должны были уставиться ему в лицо, чтобы видеть, как он принял приговор. Зная, насколько публика враждебна Клайду, судья Оберуолцер по просьбе Слэка не закрывал заседания суда, пока ему не сообщили, что Клайд уже снова заперт в своей камере; только тогда двери зала суда вновь открылись. Толпа кинулась к выходу, но задержалась здесь, ожидая, пока выйдет Мейсон, ибо из всех, кто был причастен к этому делу, именно Мейсон оказался настоящим героем: он покарал Клайда, отомстил за Роберту! Но сперва появился не он, а Белнеп и Джефсон, и вид у них был не столько угнетенный, сколько суровый и презрительный, — особенно вызывающе и пренебрежительно смотрел Джефсон. — А все-таки не удалось вам его вытащить! — крикнул кто-то из толпы. И Джефсон, пожав плечами, ответил: — Пока нет, но есть еще закон и за пределами этого округа. И тотчас появился Мейсон; на плечи его было накинуто тяжелое мешковатое пальто, поношенная мягкая шляпа надвинута на глаза; за ним, как королевская свита, следовали Бэрлей, Хейт, Ньюком и прочие. Он шагал, словно совершенно не замечая лестного внимания ожидавшей его толпы. Ведь он был победитель, избранный судья округа! И мгновенно с приветственными возгласами его вплотную окружила возбужденная человеческая масса; те, кто оказался поближе, старались пожать ему руку или в знак благодарности хлопнуть по плечу. — Ура Орвилу! Молодчина, судья! (Все уже привыкли к его новому званию.) Ей-богу, Орвил Мейсон, вы заслужили благодарность всего округа! Ура! Браво! Трижды ура Орвилу Мейсону! И толпа разразилась троекратным громовым «ура». Клайд в своей камере услышал крики и хорошо понял, что это означает. Они приветствуют Мейсона за то, что он добился обвинительного приговора. В этой громадной толпе нет ни одного человека, который не считал бы Клайда полностью виновным. Роберта… ее письма… ее твердое решение непременно заставить его обвенчаться с нею… и безмерная боязнь огласки… вот что привело его к этому. Осуждение. Быть может, смерть. Он утратил все, чего так жаждал, чем мечтал обладать. И Сондру! Сондра! Ни слова от нее! Ни слова! И, опасаясь, что Краут, Сиссел или еще кто-нибудь, возможно, следят за ним, — ведь они готовы даже теперь сообщать о каждом его движении, — и не желая показать, как велики в действительности его уныние и отчаяние, Клайд сел, взял в руки какой-то журнал и сделал вид, что читает… но смотрел он куда-то вдаль, сквозь страницы, и видел не их, а мать, брата и сестер, ликургских Грифитсов — всех, кого знал… Под конец ему стало невмочь от этих призрачных теней, он поднялся и, скинув одежду, забрался на свою железную койку. Осужден! Осужден! Так, значит, надо умереть! Господи! Но какое счастье, что можно зарыться лицом в подушку, чтобы никто не мог увидеть его, как бы ни были справедливы их догадки!Глава 93
Безрадостны плоды ожесточенной борьбы и жестокого поражения: столь суровое истолкование трагедии местным судом внушило всему народу от океана до океана непоколебимое убеждение, что Клайд действительно виновен и, как повсеместно возвестили газеты, осужден по заслугам. Бедная девушка, жертва злодейского убийства! Как печальны ее письма! Сколько она выстрадала! И что за жалкая защита! Даже денверские Грифитсы во время процесса были настолько потрясены множеством улик, что не осмеливались открыто читать газеты друг другу, но чаще всего читали их порознь, в одиночку, а после перешептывались о том, как ужасен этот убийственный ливень, этот поток косвенных улик. Но потом, прочитав речь Белнепа и свидетельские показания Клайда, маленькая семья, которая так долго жила одним чувством и одной мыслью, воспрянула духом и на время поверила в своего сына и брата, наперекор всему, что до тех пор пришлось прочитать о нем в газетах. Поэтому на всем протяжении процесса, до самого его конца, они писали Клайду бодрые письма, исполненные надежды (основанной главным образом на письмах самого Клайда, в которых он снова и снова повторял, что не виновен). Но едва он был осужден и из пучины отчаяния телеграфировал матери — и газеты подтвердили приговор, — безмерный ужас охватил всю семью. Ведь это — доказательство, что он виновен? Разве не так? Видимо, таково мнение всех газет. К миссис Грифитс ринулись репортеры; она попыталась вместе со своим маленьким выводком укрыться от невыносимой известности на глухой окраине Денвера, совсем не связанной с тем миром, с которым ей приходилось соприкасаться во время миссионерской деятельности. Подкупленный служащий фирмы по перевозке вещей раскрыл ее новый адрес. И вот эта американка, свидетельница того, как правит господь бог делами мирскими, сидит в своем жалком, убогом жилище, почти не имея средств к существованию; гнетущие силы бытия, свирепые и беспощадные удары судьбы обрушились на нее, но она непоколебима в своей вере. — Сейчас я не могу думать, — заявляет она. — Я словно оцепенела, и все кажется мне непонятным. Моего мальчика признали виновным в убийстве! Но я — его мать, и я отнюдь не убеждена в его виновности! Он писал мне, что не виновен, и я верю ему. Кому же, как не мне, мог он высказать правду? От кого другого мог ждать веры своим словам? Но есть еще господь, он все видит, и ему все ведомо. И все же многое в нескончаемом потоке улик, вместе с воспоминанием о первой безрассудной выходке Клайда в Канзас-Сити, заставляло ее недоумевать — и страшило. Почему он не сумел объяснить, что произошло с этим путеводителем? Почему не пришел на помощь девушке, раз он так хорошо плавает? Почему он так заторопился к этой таинственной мисс X, кто бы она ни была? Нет, конечно, конечно, ее не заставят поверить наперекор глубокому ее убеждению, что ее старший сын, самый беспокойный, но и самый честолюбивый и самый многообещающий из всех ее детей, повинен в таком преступлении! Нет! Она не сомневается в нем даже теперь. Велико милосердие бога живого — и не совершит ли мать зла, поверив злу о чаде своем, как бы ужасны ни казались его заблуждения? Пока любопытные и докучливые посетители не заставили ее переехать, бросить миссию, сколько раз останавливалась она посреди какой-нибудь жалкой комнатушки, прервав уборку, и застывала в тишине, не опасаясь соглядатаев… Она стояла, закинув голову, сомкнув веки, черты ее энергичного смуглого лица были некрасивы, но дышали суровой прямотой и искренним убеждением — облик, выхваченный из далеких библейских времен, в мире, постаревшем на шесть тысячелетий, — и ревностно устремляла все мысли к воображаемому престолу, на котором, представлялось ей, восседал во плоти живой гигантский дух ее живого бога-творца. И она молилась по четверти часа, по получасу, чтобы он даровал ей силу и понимание и открыл ей, виновен ли или невинен ее сын. Если невинен, да будет снято с него и с нее и со всех, кто дорог им обоим, бремя жгучих страданий; если же виновен, да вразумит ее господь, что делать, как перенести такое горе, а Клайда — как навеки омыть свою душу от совершенного им ужасного греха, как — если это возможно — вновь очиститься перед всевышним. — Ты всемогущ, господи, и ты един, и нет для тебя невозможного. В твоем благоволении вся жизнь. Будь милосерд, господи! Если грехи его как пурпур, убели их как снег, и если они как кровь, убели их как руно. Но и в те минуты, когда она молилась, она обладала мудростью Евы в отношении к дочерям Евы. А что же девушка, которую будто бы убил Клайд? Разве она не согрешила тоже? И разве не была она старше Клайда? Так писали в газетах. Внимательно, строчку за строчкой читая письма Роберты, она была глубоко тронута ими, всей душой скорбела о несчастье, постигшем Олденов. И все же, как мать и как женщина, наделенная извечной мудростью Евы, она понимала, что Роберта сама согласилась на грех, что в ней таился соблазн, который способствовал слабости и падению Клайда. Стойкая, добродетельная девушка никогда бы не согласилась — не могла бы согласиться. Сколько признаний в таком же прегрешении выслушала она в миссии и на уличных молитвенных собраниях! Разве не может быть сказано в защиту ее сына, как в начале бытия, в садах Эдема: «Жена соблазнила меня»? Поистине так… а потому… «Ибо вовек милость его», — процитировала она. И если господне милосердие безгранично, неужели менее милосердной может быть к Клайду она, мать? «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно…» — снова процитировала она про себя и затем обратилась к неотвязным, ворвавшимся к ней репортерам: — Правда ли, что мой сын ее убил? Вот в чем вопрос. Одно лишь это имеет значение в глазах создателя. — И она посмотрела на бесчувственных, видавших виды молодых газетчиков, как человек, убежденный в том, что бог просветит их. И даже на них произвели впечатление ее глубокая искренность и вера. — Признали его присяжные виновным или невиновным, — это суета в глазах того, кто держит звезды в руке своей. Присяжные — только люди, и решение их — мирское, человеческое. Я читала речь защитника. Мой сын сам говорил мне в письмах, что не виновен. Я верю своему сыну. Я убеждена, что он невинен. А Эйса почти все это время молчал, забившись в дальний угол комнаты. Ему не хватало знания жизни, он понятия не имел о властной и неумолимой силе страстей, а потому не способен был уловить и осмыслить даже десятой доли случившегося. Он никогда не понимал Клайда, его неудовлетворенности, его пылкого воображения, сказал он, и потому предпочитает не обсуждать его поступки. — Но я никогда не оправдывала Клайда в его грехе против Роберты Олден, — продолжала миссис Грифитс. — Он поступил дурно, однако и она тоже поступила дурно, ибо не противилась ему. Нельзя мириться с грехом, кто бы его ни совершил. Душа моя полна сочувствия и любви к ее несчастным родителям, чьи исстрадавшиеся сердца обливаются кровью. И, однако, нельзя упускать из виду, что в грехе повинны оба — не один мой сын. Люди должны знать это и сообразно с этим судить. Я вовсе не хочу его оправдывать, — повторила она. — Ему следовало лучше помнить все, чему его учили с детства. — И тут ее губы сжались скорбно и укоризненно. — Но я читала и ее письма. И я знаю: если бы не они, прокурор не мог бы обвинить моего сына. Он воспользовался ими, чтобы повлиять на чувства присяжных. — Она поднялась, словно сжигаемая мучительным огнем, и воскликнула в прекрасном порыве: — Но он мой сын! Он только что выслушал свой приговор. И я, мать, должна думать о том, чтобы ему помочь, как бы я ни относилась к его прегрешению. — Она стиснула руки, и даже репортеры были тронуты ее горем. — Я должна поехать к нему! Мне надо было еще прежде поехать, теперь я понимаю… Она замолчала, спохватившись, что перед нею — уши и голос толпы, люди, которым совершенно непонятны и глубоко безразличны ее сокровенные муки, ее страдания и опасения. — Многих удивляет, — вставил один из репортеров, весьма практический и внутреннеочерствевший юноша, ровесник Клайда, — почему вы не присутствовали на процессе. У вас не было денег, чтобы туда поехать? — Да, не было денег, — просто ответила она. — Во всяком случае, слишком мало. И, кроме того, мне не советовали приезжать, говорили, что я там не нужна. Но теперь… теперь я должна поехать, так или иначе, должна придумать, как это сделать. — Она подошла к жалкому столику, такому же убогому, как и вся скудная и бесцветная обстановка этой комнаты. — Вы сейчас пойдете в город, молодые люди, — сказала она. — Не возьмется ли кто-нибудь из вас отправить телеграмму? Денег я вам дам. — Ну конечно! — воскликнул тот, кто задал ей самый бестактный вопрос. — Давайте ее мне. Денег не нужно. Я отправлю ее за счет газеты. Он подумал, что перепишет телеграмму и вставит ее в свой отчет о визите к миссис Грифитс. Она подсела к желтому, покрытому царапинами столу и, отыскав бумагу и перо, написала: «Клайд. Уповай на господа, для него все возможно. Немедля подай апелляцию. Читай псалом 50. Новый суд установит твою невиновность. Мы скоро к тебе приедем. Отец и мать». — Пожалуй, лучше я все-таки дам вам денег, — сказала она; ее охватило беспокойство: хорошо ли позволять газете платить за телеграмму? И захочет ли дядя Клайда оплачивать издержки по апелляции? На это, должно быть, нужны большие деньги. — Телеграмма получилась длинная, — прибавила она. — Да вы не беспокойтесь! — воскликнул еще один из этого трио (ему тоже хотелось поскорее прочесть телеграмму). — Пишите, что хотите, а отправить — наше дело. — Мне нужна копия, — резко и заносчиво потребовал третий, видя, что первый репортер взял у миссис Грифитс листок и уже сует его в карман. — Это не частная телеграмма. Я получу копию — от вас или от нее, сейчас же! Услышав это, первый, чтобы избежать скандала, приближение которого почувствовала даже миссис Грифитс, вытащил из кармана записку, передал ее остальным, и они тут же стали снимать копии. А в это самое время ликургских Грифитсов запросили, благоразумно ли, по их мнению, возбуждать новый процесс и как будет с издержками, и выяснилось, что они вовсе не считают, будто следует подавать апелляцию (во всяком случае, не за их счет!), и вообще отнюдь в ней не заинтересованы. Что это за пытка, и как все это гибельно сказывается если не на делах, то на положении в обществе! Каждый час — поистине Голгофа! Будущее Беллы, не говоря уже о положении Гилберта и самого Сэмюэла, загублено, разбито. И все потому, что оказалось выставленным напоказ это злодейское преступление, задуманное и совершенное их кровным родственником! Сэмюэл Грифитс и его жена были просто раздавлены внезапной катастрофой, разразившейся как следствие пусть непрактичного и бессмысленного, но все же доброго поступка, в основе которого лежали наилучшие побуждения. А ведь долгий опыт жизненной борьбы научил Сэмюэла, что примешивать чувства к делам сумасбродно! До того часа, как он встретил Клайда, он никогда не позволял себе никакой чувствительности. Надо же было выдумать, будто отец несправедливо поступил с младшим братом! И вот что из этого вышло! Жене и дочери придется покинуть родные места, где прошли счастливейшие, безмятежные годы их жизни, и поселиться, словно изгнанницам, — быть может, навсегда, — в каком-нибудь предместье Бостона или еще где-нибудь… или вечно выносить сочувственные и назойливые взгляды окружающих! А сам он почти непрерывно с момента катастрофы обсуждал с Гилбертом, не слить ли предприятие на акционерных началах с какой-нибудь другой ликургской или иногородней фирмой или, может быть, перевести все дело (и не постепенно, а в самом срочном порядке), скажем, в Рочестер или Буффало, Бостон или Бруклин, где можно построить главную фабрику. Весь этот позор можно снести, только отказавшись от Ликурга и от всего, что с ним связано. Придется начинать жизнь заново, по крайней мере, заново создавать себе положение в обществе. Это не так уж важно для него самого и для его жены — ведь они уже почти отжили свой век. Но Белла, Гилберт, Майра… где и как теперь восстановить их доброе имя? И, еще прежде чем закончился процесс, Сэмюэл и Гилберт решили перевести производство воротничков и рубашек в Южный Бостон, где они могли бы скромно оставаться в тени до тех пор, пока хотя бы отчасти не забудется эта несчастная и постыдная история. Вот почему в дальнейшей помощи Клайду было отказано наотрез. И тогда Белнепу и Джефсону пришлось призадуматься. Ведь ясно, что их время, которое доныне было посвящено весьма успешной практике в Бриджбурге, надо расценивать на вес золота; многие дела, отложенные из-за необычайной срочности процесса Клайда, ожидали их внимания, и оба юриста отнюдь не были убеждены, что из деловых расчетов или филантропических побуждений они должны и могут позволить себе помогать Клайду и впредь, не надеясь на какое-либо вознаграждение. Совершенно очевидно, что издержки при подаче апелляции будут очень значительны. Протоколы суда огромны. Придется делать большие, дорогостоящие выдержки и конспекты, а отпускаемые на это государственные средства ничтожно малы. Однако, заявил Джефсон, нелепо предполагать, что западные Грифитсы совсем ничего не могут сделать. Ведь говорят же, что они долгие годы занимались религиозной и благотворительной деятельностью. Если им указать, как трагично теперь положение Клайда, быть может, они сумеют посредством всевозможных воззваний о помощи собрать средства хотя бы на то, чтобы покрыть расходы, связанные с подачей апелляции? Да, конечно, они до сих пор не помогали Клайду, но ведь в свое время мать предупредили, что ей нет надобности приезжать. Теперь — другое дело. — Дадим ей телеграмму, пусть приедет, — предложил Джефсон. — Мы добьемся, чтобы Оберуолцер отложил оглашение приговора до десятого, если скажем, что она приезжает. И вот что: сперва просто предложим ей приехать, а если она ответит, что не может, тогда подумаем насчет денег. Но уж наверно она достанет на дорогу, а может быть, кое-что и на апелляцию. Итак, были составлены и отосланы телеграмма и письмо, извещавшее миссис Грифитс, что хотя Клайду пока ни слова еще об этом не сказано, однако его ликургские родственники отказали ему на будущее в какой-либо помощи. Кроме того, приговор будет объявлен не позднее десятого числа, и ради душевного спокойствия Клайда необходимо, чтобы при этом был кто-нибудь из близких, лучше всего мать. Речь шла также о том, что следует изыскать средства на покрытие расходов по апелляции или хотя бы представить какие-то гарантии на этот счет. И вот миссис Грифитс на коленях молит бога помочь ей. Ныне он должен явить свое всемогущество, свое неизменное милосердие. Откуда-то должны прийти просветление и помощь, иначе как достать денег на дорогу, не говоря уже о расходах на апелляцию? Так она молилась, стоя на коленях, и вдруг — внезапная мысль. Газеты изводят ее, добиваясь интервью. Репортеры преследуют ее на каждом шагу. Почему она не поехала на помощь сыну? Что она думает о том и что об этом? Так почему бы, сказала она себе, не пойти к редактору какой-нибудь большой газеты из тех, что вечно осаждают ее расспросами, и не рассказать ему, в какой крайности она оказалась? Пусть редактор поможет ей вовремя поехать к сыну, так, чтобы она могла быть рядом с ним в день, когда будет прочитан приговор, — и она, мать, обещает сама написать обо всем в газету. Ведь репортеров посылают повсюду, даже в суд, — она об этом читала. Почему же не послать ее, мать Клайда? Разве не могла бы она все рассказать и написать? Разве не написано ею многое множество проповедей? И она встала — лишь для того, чтобы снова опуститься на колени. — Ты ответил мне, господи! — воскликнула она. Снова поднявшись, она достала свое старое коричневое пальто, ужасную коричневую шляпу с завязками — порождение каких-то особых представлений о наряде, подобающем лицу, посвятившему себя религиозной деятельности, — и тотчас отправилась в редакцию самой большой и влиятельной денверской газеты. Процесс ее сына был так широко известен, что ее сейчас же провели к главному редактору. Необычайная посетительница очень заинтересовала его, и он выслушал ее сочувственно и уважительно. Он понял, каково ее положение, и сообразил, что согласиться — в интересах газеты. Он вышел и через несколько минут вернулся. Итак, она зачислена корреспондентом на три недели, о дальнейшем ее известят особо. Ее расходы на дорогу в оба конца будут оплачены. Помощник, к которому он сейчас направит ее, разъяснит, как ей следует составлять и передавать корреспонденции. Он снабдит ее и некотором количеством наличных денег. Она может выехать уже сегодня вечером, если угодно: чем скорее, тем лучше. Для газеты желательно получить от нее перед отъездом несколько фотографий… Объясняя ей все это, редактор вдруг заметил, что глаза ее закрыты и голова откинута назад. Она благодарила бога, который так быстро внял ее молитве.Глава 94
Бриджбург. В полночь восьмого декабря из почтового поезда на перрон вокзала выходит усталая, растерянная женщина. Резкий холод и яркие звезды. Одинокий дежурный в ответ на ее вопрос указывает ей путь к бриджбургскому отелю «Сентрал»: прямо по улице, начинающейся у вокзала, до первого поворота налево, и там еще два квартала. Заспанный ночной клерк тотчас отводит ей номер и, узнав, кто она, спешит объяснить, как пройти к окружной тюрьме. Но, пораздумав, она решает, что сейчас не время. Он, может быть, уже спит. И она ляжет спать, а завтра встанет чуть свет. Она телеграфировала ему несколько раз. Он знает, что она должна приехать. Но уже в семь часов утра она на ногах, а в восемь с письмами, телеграммами, удостоверениями наготове, является в окружную тюрьму. И тюремное начальство, проверив ее документы, посылает предупредить Клайда о ее приезде. А он, подавленный, отчаявшийся, с радостью хватается за мысль об этой встрече, мысль, которая раньше приводила его в ужас. Потому что теперь многое изменилось. Страшная повесть была рассказана во всеуслышание. И благодаря разумной версии, разработанной для него Джефсоном, он теперь, пожалуй, сможет взглянуть матери в глаза и, не колеблясь, сказать, что это правда: у него не было намерения убивать Роберту, не по злому умыслу он дал ей утонуть. И вот он спешит в комнату для посетителей, где благодаря Слэку ему предоставлена возможность увидеться с матерью наедине. Она встает навстречу, и он бросается к ней с немалой тревогой в смятенной своей душе и в то же время с уверенностью, что здесь он найдет опору, сострадание, а быть может, и помощь, не отравленную порицанием. И с усилием, словно что-то застряло в горле, у него вырывается: — Ох, мама! Я так рад, что ты приехала! Но она слишком взволнована, чтобы говорить, она только прижимает его к себе — своего мальчика, осужденного законом, кладет его голову себе на плечо, а сама устремляет взгляд к небу. Господь бог даровал ей эту милость. Быть может, он дарует и другие. Сын ее получит свободу — или хотя бы, назначено будет новое рассмотрение дела со справедливым разбором всех данных, говорящих в его пользу, чего ведь не было на этом суде. И так, не двигаясь, они стояли несколько мгновений. Потом пошли рассказы о доме, о том, как ей удалось приехать, о ее обязанностях корреспондента: она должна проинтервьюировать его, а потом быть рядом с ним в час вынесения приговора… (Клайд вздрогнул при этих словах.) И дальше он услышал, что судьба его теперь целиком зависит от ее усилий. Ликургские Грифитсы из личных соображений решили больше не помогать ему. Но она, если только она сможет выступить перед людьми со справедливыми требованиями, — она еще может ему помочь. Ведь до сих пор господь не оставлял ее своей помощью. Но для того, чтобы она могла смело обратить мольбу к творцу и людям, нужно, чтобы он сейчас, здесь же, сказал ей всю правду — случайно или намеренно он ударил Роберту, невольно или умышленно дал ей погибнуть. Она читала его показания и его письма и отметила все уязвимые места в его рассказе о случившемся. Так правда или неправда то, что утверждал Мейсон? Клайд, как и в былое время, почувствовал страх и стыд перед этой непоколебимой безукоризненной честностью, которую он никогда не мог понять до конца, но постарался заявить как можно тверже, хоть втайне и холодея, что все сказанное им под присягой — чистая правда. Он не совершал того, в чем его обвиняют. Не совершал! Но она, наблюдая за ним, с горечью отметила про себя, что в глазах у него что-то мелькнуло при этом — какая-то неуловимая тень. В нем не чувствовалось той уверенности, того ясного и нерушимого сознания своей правоты, которых она ожидала, которые надеялась встретить. Нет, нет, во всей его повадке, в словах, которые он произносил, была какая-то едва заметная уклончивость, оттенок какой-то тревоги или сомнения, и при мысли об этом все замирало у нее внутри. Ему не хватало твердости. Так, может быть, ее первые опасения были не напрасны, может быть, он и вправду замышлял это страшное дело, может быть, он и ударил девушку там, на глухом, пустынном озере? Кто знает! Как вынести жгучую и сокрушительную боль этой догадки! А ведь в показаниях своих он говорил совсем другое. — Но — «Всевышний, ты не захочешь, чтобы мать усомнилась в сыне в самый страшный час своей и его жизни, чтобы она неверием своим подтвердила его смертный приговор! О нет, ты не потребуешь этого. Нет, нет, о агнец господень!» Она отвернулась; она раздавила пятой чешуйчатую голову ехидны подозрения; для нее оно было не менее страшно, чем для Клайда сознание вины. — «О Авессалом, мой Авессалом! Полно, полно, мы не допустим такой мысли. Сам великий господь не взыщет с материнского сердца». — Ведь вот он — он, ее сын, — стоя перед нею, заявляет, что не совершал этого злодеяния. Она должна верить, она поверит ему безоговорочно. Должна и верит, хотя бы бес сомнения и притаился в уголке ее жалкой души. Полно, полно, люди должны услышать, что думает обо всем этом она, мать. Вдвоем с сыном они найдут выход. Он должен веровать и молиться. Есть у него Библия? Читает он ее? И Клайд, которого один из тюремных надзирателей давно уже снабдил Библией, поспешил успокоить мать: да, есть, и он читает. А теперь она должна идти, нужно повидать адвокатов, затем отправить первую корреспонденцию, а потом она придет опять. Не успевает она, однако, выйти на улицу, как ее окружают репортеры и засыпают вопросами о цели и смысле ее приезда. Верит ли она в невиновность сына? Считает ли, что процесс велся справедливо и беспристрастно? Почему она до сих пор не приезжала? И миссис Грифитс с обычной своей прямотой, серьезностью и материнской задушевностью отвечает на все вопросы, объясняет, почему приехала теперь и почему не приезжала раньше. Но раз уж она приехала, то так скоро не уедет. Господь укажет ей способ спасти жизнь сына, в невиновности которого она не сомневается. Может быть, и они попросят господа помочь ей? Может быть, помолятся за успех ее дела? И репортеры, тронутые и взволнованные, наперебой обещают ей помолиться, а потом описывают ее миллионам читателей такою, какой она была в ту минуту — средних лет, некрасивая, исполненная решимости и религиозного рвения, искренняя, серьезная и непоколебимо уверенная в невиновности своего сына. Однако, когда это доходит до ликургских Грифитсов, они вне себя: ее приезд — еще новая неприятность! А Клайд в своей камере тоже читает газеты, правда, с некоторым опозданием, и хотя он болезненно воспринимает вульгарную огласку, которой подвергается теперь все, так или иначе связанное с ним, сознание, что мать здесь, близко, умиротворяет его, а немного спустя ему становится даже приятно. Ведь это же его мать, каковы бы ни были ее слабости и промахи! И она приехала, чтобы ему помочь. Пусть там думают, что хотят. Мать одна не оставила, не изменила, когда на него легла тень смерти. И разве не заслуживает всяческих похвал неожиданная находчивость, которую она проявила, связавшись с денверской газетой? Раньше она не казалась способной на такие поступки. Кто знает, быть может, несмотря на горькую свою нищету, она сумеет разрешить проблему вторичного суда и спасти ему жизнь?! Кто знает?! А ведь как преступно равнодушен он бывал к ней подчас, как много, как глубоко он виноват перед нею! А она все-таки поспешила к нему, мучится за него, и страдает, и любит, и ради его же блага собирается описывать для какой-то провинциальной газеты подробности его осуждения. Ее поношенное пальто и старомодная шляпка, ее широкое неподвижное лицо, неуклюжие, угловатые манеры уже не вызывали у него раздражения и стыда, как еще совсем недавно. Ведь это его мать, и она любит его, верит ему и борется за его спасение. Зато Белнепа и Джефсона первая встреча с ней несколько обескуражила. Почему-то они не ожидали увидеть нечто до такой степени провинциальное и непросвещенное, хотя и столь уверенное в своей правоте. Эти тупоносые башмаки без каблуков. Эта невероятная шляпа. Это старое коричневое пальто. Но прошло несколько минут, и даже их заворожила серьезная простота ее речи, и сила ее веры и материнской любви, и прямой, вопрошающий взгляд ее чистых голубых глаз, в которых читалось непоколебимое убеждение и готовность жертвовать всем без оглядок и оговорок. Верят ли они сами в то, что ее сын не виновен? Это ей нужно знать прежде всего. Или же втайне они считают его виновным? Все эти противоречивые показания замучили ее. Господь возложил тяжелый крест на плечи ее и ее близких. Но да святится имя его! И оба адвоката, видя и чувствуя ее великую тревогу, поспешили заверить ее, что не сомневаются в невиновности Клайда. Если его казнят за преступление, которого он не совершал, это будет страшная карикатура на правосудие. И все же обоих во время этой беседы смущала мысль о материальной стороне дела, так как из ее рассказа о том, каким способом она приехала в Бриджбург, явствовало, что у нее ничего нет. Апелляция же, несомненно, должна стоить тысячи две, если не больше. Целый час они толковали с ней, перечисляя все статьи расхода — составление выписок, снятие копий, необходимые командировки, а миссис Грифитс только повторяла, что не знает, как быть. Потом вдруг, несколько неожиданно для своих собеседников, но с трогательной и волнующей силой она воскликнула: — Господь не оставит меня! Я знаю. Он явил мне свою волю. Это его голос повелел мне обратиться в денверскую газету. И здесь я тоже положусь на него, и он меня направит. Но Белнеп и Джефсон только переглядываются с недоверием и недоумением безбожников. Так верить! Да она одержимая! Или просто религиозная фанатичка. Но Джефсона вдруг осеняет идея. Религиозное чувство у публики — фактор, с которым приходится считаться, и такая исступленная вера всегда встретит отклик. Предположим, что ликургские Грифитсы будут упорствовать — что ж, тогда, раз уж она здесь, существуют ведь церкви и немалое количество верующих. Так нельзя ли использовать этот темперамент и эту силу веры для воздействия на те самые слои, которые до сих пор особенно решительно осуждали Клайда и способствовали вынесению сурового приговора, — вызвать в них сочувствие и добыть от них необходимые средства? Скорбящая мать! Ее вера в сына! Скорей за работу! Публичная лекция, столько-то за вход, и с лекторской эстрады мать, потрясенная своим явным для всех горем, попытается убедить враждебно настроенных слушателей в том, что дело ее сына — правое дело, и попробует добиться не только сочувствия, но и тех двух тысяч долларов, без которых нечего и думать о подаче апелляции. И вот Джефсон посвящает ее в свой план и предлагает набросать текст лекции, используя материалы защиты, — все те данные, которые проливают истинный свет на дело ее сына, — а она вольна расположить и преподнести это публике по-своему. И у нее уже загораются глаза и смуглые щеки заливает краска: она согласна. Она попытается. Она обязана попытаться. Ибо разве это не господня длань протянулась к ней и не божий глас прозвучал в час беспросветного страдания? На следующее утро Клайда привели в суд, чтобы объявить ему приговор, и миссис Грифитс с карандашом и блокнотом в руке заняла место рядом с ним, готовясь делать репортерские заметки об этой нестерпимо тягостной для нее сцены, происходящей на глазах у толпы, которая с любопытством ее разглядывала. Его родная мать! В роли репортера! В том, как они сидят рядом, во всей этой сцене есть что-то чрезмерно нелепое, бессердечное, даже противоестественное. И подумать только, что ликургские Грифитсы приходятся им ближайшей родней! Но Клайда ее присутствие ободряет и поддерживает. Ведь вчера вечером она снова побывала в тюрьме и рассказала ему о своем плане. Сейчас же после объявления приговора — каков бы он ни был — она примется за дело. И когда настает наконец этот самый страшный миг его жизни, он поднимается, почти машинально, и слушает монотонный голос судьи Оберуолцера, который излагает вкратце сущность обвинения и основные моменты процесса — по его мнению, вполне справедливого и беспристрастного. За этим следует обычный вопрос: — Можете ли вы привести соображения, в силу которых объявление вам смертного приговора сейчас было бы противозаконно? В ответ на это Клайд, к удивлению матери и всех присутствующих, кроме Джефсона, по чьему совету и подсказке он действует, твердым и ясным голосом произносит: — Я не виновен в том преступлении, о котором говорится в обвинительном акте. Я не убивал Роберту Олден и потому считаю, что не заслужил такого приговора. И устремляет в пространство невидящий взгляд, уловив только выражение восторга и любви в обращенных к нему глазах матери. Вот он, ее сын, высказался перед всеми этими людьми в роковую для него минуту. И, что бы ни почудилось ей там, в тюрьме, сказанное здесь не может не быть правдой. А значит, он не виновен. Не виновен. Не виновен. Да славится имя всевышнего! И она тут же решает особенно подчеркнуть это в своем сообщении (пусть все газеты напечатают его) и в своей лекции тоже. Между тем Оберуолцер без тени удивления или замешательства продолжал: — Имеете ли вы еще что-нибудь сказать? — Нет, — после минутного колебания отвечал Клайд. — Клайд Грифитс! — торжественно заключил тогда Оберуолцер. — Суд постановляет, что вы, Клайд Грифитс, виновны в преднамеренном убийстве некоей Роберты Олден, и настоящим приговаривает вас к смертной казни; суд далее определяет, что не позднее десяти дней после данного судебного заседания шериф округа Катараки передаст вас при должным образом засвидетельствованной копии решения суда начальнику и особоуполномоченному тюрьмы штата Нью-Йорк в Оберне, в каковой тюрьме вы будете содержаться в одиночном заключении до недели, начинающейся в понедельник 28 января 19.. года, после чего в один из дней указанной недели начальник и особоуполномоченный тюрьмы штата Нью-Йорк в Оберне предаст вас, Клайда Грифитса, казни в соответствии с законами и предписаниями, действующими в штате Нью-Йорк. И как только приговор дочитан до конца, миссис Грифитс улыбается Клайду, и он отвечает ей улыбкой. Потому что, когда он здесь, — здесь — во всеуслышание заявил, что не виновен, она воспрянула духом, невзирая на приговор. Он в самом деле не виновен — иначе быть не может, раз он здесь сказал об этом. А Клайд, видя ее улыбку, говорит себе: да, мать в него верит. Ее веры не поколебало все это нагромождение улик. А эта вера, даже если она покоилась на ошибке, так ободряла его, так была ему нужна. Теперь ему и самому казалось: то, что он сказал, — правда. Ведь он не ударил Роберту. Это-то правда. А значит, он не виновен. Но Краут и Слэк снова уводят его в тюрьму. Между тем миссис Грифитс уселась за стол прессы и виновато объясняла столпившимся вокруг нее корреспондентам: — Вы, господа журналисты, не осуждайте меня. Я в этом деле не много понимаю, но у меня не было другого способа приехать сюда и быть подле моего мальчика. И тут один долговязый корреспондент протискивается поближе и говорит: — Ничего, ничего, мамаша! Может, вам помочь чем-нибудь? Хотите, я выправлю то, что вы тут собираетесь написать? С удовольствием это сделаю. И он подсаживается к ней и помогает изложить ее впечатления в той форме, которая представляется ему наиболее подходящей для денверской газеты. И другие тоже наперебой предлагают свои услуги, и все кругом растроганы. Через два дня все необходимые бумаги были готовы — миссис Грифитс уведомили об этом, но сопровождать сына не разрешили, и Клайда перевезли в Оберн, западную тюрьму штата Нью-Йорк; здесь, в «Доме смерти», или «Каземате убийц» (так называлось это сооружение из двадцати двух камер, расположенных в два этажа), в мрачном аду, пытку которого, казалось, никакой смертный не в силах был вынести, ему предстояло дождаться либо решения о пересмотре дела, либо казни. Поезд, везший его от Бриджбурга до Оберна, на каждой станции встречали толпы любопытных; старые и молодые, мужчины, женщины и дети — все стремились хоть одним глазком поглядеть на необыкновенного молодого убийцу. И бывало, что какая-нибудь женщина или девушка, у которой под видом участия скрывалось, в сущности, просто желание мимолетной близости с этим хоть неудачливым, но смелым романтическим героем, кидала ему цветок и громко и весело кричала вслед отходящему поезду: «Привет, Клайд! Мы еще увидимся», «Смотрите не засиживайтесь там!», «Подайте апелляцию, вас наверняка оправдают. Мы будем надеяться». И Клайд, несколько удивляясь и даже радуясь этому лихорадочно-повышенному и, в сущности, нездоровому интересу, приятно неожиданному после настроения толпы в Бриджбурге, раскланивается, улыбается, а иной раз и машет рукой. Но все же его не покидает мысль: «Я на пути в Дом смерти, а они так дружелюбно приветствуют меня. Как это они решаются?» А Краут и Сиссел, его конвоиры, крайне горды сознанием, что именно им принадлежит двойная честь поимки и охраны столь важного преступника, и польщены необычным вниманием пассажиров в поезде и толп на перронах станций. Но после коротких и ярких минут первой со дня ареста поездки по вольным просторам, мимо людных вокзалов, мимо освещенных зимним солнцем полей и снежных холмов, которые напомнили ему Ликург, Сондру, Роберту и весь калейдоскоп событий этого года, и такой роковой для него их конец, — серые, неприступные стены обернской тюрьмы, где угрюмый канцелярист, записав в книгу его имя и состав преступления, передал его двум надзирателям; ванна, и под ножницами парикмахера упали черные волнистые кудри, его краса и гордость; затем ему выдали полосатую тюремную одежду и премерзкую шапчонку из той же полосатой материи, тюремное белье и толстые серые войлочные туфли, благодаря которым не слышно, как мечутся иногда по камерам арестанты, — когда-нибудь и он будет так метаться, — и выдали номер: 77221. Обрядив таким образом, его немедленно препроводили в самый Дом смерти и заперли там в одну из камер нижнего этажа — почти квадратное, восемь футов на десять, светлое, чистое помещение, где, кроме унитаза, находились еще железная койка, стол, стул и небольшая полка для книг. И, лишь смутно сознавая, что справа и слева от него, вдоль длинного коридора, тянутся еще ряды точно таких же камер, он сперва постоял, потом присел на стул и устало подумал о том, что более оживленная, более согретая человеческой близостью жизнь бриджбургской тюрьмы осталась позади, как и те странные, шумные встречи, которыми был отмечен его путь сюда. Болезненное напряжение и мука этих часов! Смертный приговор, поездка и шумные, крикливые толпы на станциях; тюремная парикмахерская внизу, где парикмахер из заключенных остриг его; белье и платье, которое на него надели и которое теперь ему предстоит носить каждый день. Ни в камере, ни в коридоре не было зеркала, но все равно, он чувствует, какой у него вид. Эта мешковатая куртка и штаны, этот полосатый колпак. Клайд в отчаянии сорвал его и бросил на пол. Ведь всего только час назад на нем был приличный костюм, сорочка, галстук, ботинки, и, выезжая из Бриджбурга, он имел вполне пристойную и даже приятную внешность — так ему самому казалось. Но сейчас — на кого он стал похож! А завтра приедет его мать, а там, может быть, Джефсон и Белнеп. Боже! Но это было еще не все. Он увидел, как в камере напротив худой, заморенный, страшный китаец, в такой же полосатой одежде, вплотную подошел к решетке и вперил в него загадочный взгляд своих раскосых глаз, но тут же отвернулся и стал яростно чесаться. «Может быть, вши?» — с ужасом подумал Клайд. В Бриджбурге ведь были клопы. Китаец — убийца. Но ведь это Дом смерти. И здесь между ними нет никакой разницы. Даже одеты одинаково. Слава богу, посетители, видно, бывают редко. Мать говорила ему, что к заключенным почти никого не допускают, только раз в неделю смогут приходить она, Белнеп и Джефсон да еще священник, которого он сам укажет. А эти неумолимые, выкрашенные белой краской стены, — днем их, должно быть, ярко освещает солнце через стеклянную крышу здания, а ночью, вот как сейчас, электрические лампы из коридора — все совсем не так, как в Бриджбурге: гораздо больше света, яркого и беспощадного. Там тюрьма была старая, серо-бурые стены не отличались чистотой, камеры были просторные, более щедро обставленные, на столе порой появлялась скатерть, были книги, бумаги, шашки и шахматы, тогда как здесь… здесь ничего нет: только тесные, суровые стены, железные прутья решетки, доходящие до массивного, крепкого потолка, и эта тяжелая-тяжелая железная дверь с таким же, как в Бриджбурге, крошечным окошком для передачи пищи. Но вот откуда-то раздается голос: — Эй, ребята, у нас новенький! Нижний ярус, вторая камера по восточному ряду. Ему откликнулся другой: — Ей-богу? А на что он похож? И сейчас же третий: — Эй, новичок, как тебя звать? Не робей, мы тут все одного поля ягода. И снова первый, в ответ второму: — Да так, длинный, тощенький. Видать, маменькин сынок, но, в общем, ничего. Эй, ты, там! Как тебя звать? Клайд сперва молчит — в раздумье, в недоумении. Как отнестись к подобной встрече? Что говорить, что делать? Стоит ли держаться с ними по-дружески? Но врожденный такт не покидает его даже здесь, и он спешит вежливо ответить: — Клайд Грифитс. И один из спрашивающих тотчас подхватывает: — А, Грифитс! Слыхали, слыхали. Добро пожаловать, Грифитс! Мы не такие уж страшные, как кажется. Мы читали про твои бриджбургские дела. Так и думали, что скоро с тобой увидимся. И еще новый голос: — Не вешай носа, приятель! Не так уж здесь плохо. Как говорится: тепло и не дует. И откуда-то слышен смех. Но Клайду было не до разговоров; в тоске и страхе он оглядывал стены, дверь, потом перевел глаза на китайца, который, молча припав к своей двери, снова смотрел на него. Ужас! Ужас! И вот так они переговариваются между собой, так фамильярно встречают каждого новичка. Никакого внимания к его несчастью, к его растерянности перед новым, непривычным положением, к его мучительным переживаниям. А впрочем, кому придет в голову считать убийцу несчастным и растерянным? Страшней всего, что они тут заранее прикидывали, когда он попадет в их компанию, а это значит, что все обстоятельства его дела здесь известны. Может быть, его будут дразнить, изводить, пока не заставят вести себя, как им нравится. Если бы Сондра или кто-нибудь из прежних его знакомых мог видеть его здесь, мог хоть вообразить себе все это… Господи! А завтра сюда придет его родная мать! Час спустя, когда уже совсем стемнело, высокий, мертвенно-бледный тюремщик в форменной одежде, менее оскорбительной для глаз, чем одежда заключенных, просунул в дверное окошечко железный поднос с едой. Ужин! Это ему. А тот худой, желтый китаец напротив уже получил и ест. Кого он убил? Как? И вот уже со всех сторон слышно, как скребут по жестяным тарелкам! Звуки, больше напоминающие кормление зверей, чем человеческую трапезу. А кое-откуда даже доносятся разговоры вперемежку с чавканьем и лязгом железа. Клайда стало мутить. — А, дьявол! И чего они там, на кухне, ни черта не могут выдумать, кроме холодных бобов, жареной картошки и кофе? — Ну, уж и кофе нынче! Вот когда я сидел в тюрьме в Буффало… — Ладно, ладно, заткнись! — крикнули из другого угла. — Слыхали мы уже про тюрьму в Буффало и про тамошнюю шикарную жратву. Что-то не видать, чтоб ты здесь страдал отсутствием аппетита. — Нет, правда, — продолжал первый голос, — даже вспомнить и то приятно. По крайней мере сейчас так кажется. — Ох, Раферти, будет тебе! — крикнул еще кто-то. А Раферти все не унимался: — Вот теперь немножко отдохну после ужина, а потом скажу шоферу, чтоб подавал машину, — поеду прокатиться. Приятный вечерок сегодня. Послышался новый, хриплый голос: — А, пошел ты со своими бреднями! Вот я бы жизнь отдал, лишь бы курнуть. А потом перекинуться в картишки. «Неужели они тут играют в карты?» — подумал Клайд. — Пожалуй, Розенстайн теперь играть не будет, после того как продулся. — Ты уверен? — Это, очевидно, отвечал Розенстайн. Из камеры слева от Клайда чуть слышно, но отчетливо окликнули проходившего тюремщика: — Эй! Из Олбани все ни слова? — Ни слова, Герман. — И писем тоже нет? — И писем нет. В вопросах звучали тревога, напряжение, тоска. Потом все стихло. Минуту спустя донесся голос из дальнего угла, полный невыразимого, предельного отчаяния, точно голос из последнего круга ада: — Боже мой! Боже мой! Другой откликнулся с верхнего яруса: — Ах ты, черт! Опять этот фермер начинает! Я не выдержу. Надзиратель! Дайте вы ему там чего-нибудь принять, ради бога. И снова голос из последнего круга: — Боже мой! Боже мой! Клайд вскочил, судорожно сцепив руки. Нервы у него были натянуты, как струна, готовая лопнуть. Убийца! А теперь сам, должно быть, ждет смерти. И оплакивает свою скорбную участь, такую же, как и у него, Клайда. Стонет — как часто и он в Бридж бурте стонал, только про себя, не вслух. Плачет! Господи! А ведь он не один здесь такой, наверно! И вот это предстоит изо дня в день, из ночи в ночь, пока, быть может… кто знает… если только не… О нет, нет! Нет! С ним этого не будет… Нет, его день не придет. Нет, нет! Раньше чем через год это вообще не может случиться, так сказал Джефсон. Может быть, даже через два года. Но ведь все-таки!.. Через два года!!! Дрожь пробрала его при мысли о том, что так скоро, всего только через два года… Та комната! Она тоже где-то здесь. Туда ведет ход прямо из этого помещения. Он знает, ему говорили. Там есть дверь. Открываешь, а за ней стул. Тот стул. И снова прежний голос: — Боже мой! Боже мой! Клайд рухнул на постель и зажал руками уши.Глава 95
Дом смерти в обернской тюрьме был одним из тех чудовищных порождений человеческой бесчувственности и глупости, настоящего виновника которых трудно бывает указать. Устройство этого дома и существовавший в нем распорядок явились следствием ряда отдельных правительственных актов, на которые постепенно наслаивались решения и постановления, выносившиеся различными начальниками в соответствии с темпераментом и прихотями каждого, причем ни один не давал себе труда думать над тем, что делает; в конце концов здесь подобрались и теперь применялись на практике все мыслимые образцы ненужной и, по существу, незаконной жестокости, нелепой, убийственной пытки. И все для того, чтобы человеку, осужденному на смерть, пришлось пережить тысячу казней еще до казни, предназначенной ему судебным приговором. Ибо самое расположение Дома смерти, равно как и режим, которому подчинялись его обитатели, невольно этому способствовали. Это было сооружение из камня, бетона и стали — сорок футов в длину, тридцать в ширину и стеклянная крыша на высоте тридцати футов. По сравнению со старым, менее благоустроенным Домом смерти, который с ним граничил, в планировку было внесено усовершенствование: во всю длину шел широкий коридор, и по обе стороны его находились камеры, восемь на десять футов каждая; в первом этаже их было двенадцать: шесть справа, шесть слева, одна против другой. А над ними тянулась так называемая галерея — второй ярус камер, расположенных точно так же, только по пять с каждой стороны. В центре главный коридор пересекался другим, поуже, делившим оба нижних ряда камер пополам; один его конец упирался в старый Дом смерти, как его называли (там теперь только принимали посетителей, являвшихся к смертникам), на другом находилась комната казней, где стоял электрический стул. Две из нижних камер, расположенные на перекрестке, были обращены в сторону комнаты казней. Из двух противоположных виден был другой конец узкого коридора и дверь, ведущая в старый Дом смерти, который при живом воображении можно было назвать приемной осужденных, так как там дважды в неделю происходили свидания с ближайшими родственниками или с адвокатом. Больше никто к смертникам не допускался. Камеры старого Дома смерти (которые сохранились в прежнем виде и теперь использовались как часть приемной) расположены были в один ряд и только по одну сторону коридора; таким образом, заключенные не могли наблюдать друг за другом; кроме того, имелись особые зеленые занавеси, которые можно было задернуть перед каждой камерой. В прежнее время, когда заключенного приводили или уводили, или когда он шел на свою ежедневную прогулку, или же в баню, или когда его вели к маленькой железной двери в западном конце, где тогда находилась комната казней, — все занавеси бывали задернуты. Прочим заключенным не полагалось его видеть. Впоследствии, однако, решили, что старый Дом смерти, ввиду такой предусмотрительной изоляции заключенных, обрекающей их на полное одиночество, — учреждение недостаточно гуманное, и тогда был спроектирован и построен новый дом, более совершенный с точки зрения заботливых и сострадательных властей. Здесь, правда, камеры были не такие тесные и мрачные, как в старом Доме с его низким потолком и первобытной санитарией; потолок здесь был высокий, в камерах и коридорах много света и сами камеры просторнее — не меньше, чем восемь футов на десять. Но огромным недостатком по сравнению со старым Домом было то, что вся жизнь заключенного протекала на глазах у других. Кроме того, при таком сосредоточении всех камер в одном двухъярусном коридоре каждый заключенный должен был мучиться, поневоле становясь свидетелем чужих настроений — чужого гнева, бешенства, отчаяния, тоски. Никакой возможности остаться действительно одному. Днем — поток ослепительного света, беспрепятственно льющегося через стеклянную крышу. Ночью — яркие, сильные лампы, освещающие каждый угол, каждый закоулок камеры. Ни покоя, ни развлечений, кроме карт и шашек — единственных игр, в которые заключенные могли играть, не выходя из своих камер. Правда, для тех, кто способен был читать и находить удовольствие в чтении при таких обстоятельствах, оставались еще книги и газеты. И посещения духовных наставников: утром и вечером являлся католический священник; раввин и протестантский пастор, хотя и менее регулярно, тоже приходили для молитвы и утешения к тем, кто соглашался их слушать. Но истинным проклятием этого места было то, что вопреки всем благим намерениям усовершенствователей создавалась эта постоянная и неизбежная близость между людьми, чье сознание затуманила и исказила неотвратимость надвигающейся смерти, для многих столь близкой, что они уже ощущали у себя на плече холод ее тяжелой руки. И никто, сколько ни храбрись, не мог уберечь себя от тех или иных проявлений распада личности под действием этой пытки. Уныние, безнадежность, безотчетные страхи, словно дуновения, носились по всему Дому, всех по очереди заражая ужасом или отчаянием. В самые неожиданные минуты все это находило выход в проклятиях, вздохах, даже в слезах; откуда-нибудь вдруг доносилась жалобная мольба: «Ради бога! Хоть бы спели что-нибудь!» — или просто раздавались вопли и стоны. Но самые, быть может, нестерпимые мучения были связаны с поперечным коридором, соединявшим старый Дом смерти с комнатой казней. Ведь ему — увы, довольно часто! — приходилось служить подмостками для одной из сцен той трагедии, которая опять и опять совершалась в этих стенах, — трагедии казни. Ибо по этому коридору осужденного накануне казни переводили из благоустроенной камеры нового здания, где он протомился год или два, в одну из камер старого Дома смерти, чтобы он мог провести свои предсмертные часы в тишине и одиночестве; в последнюю минуту, однако, он должен был совершить — на глазах у всех — обратный путь, все по тому же узкому коридору, в комнату казней, расположенную в другом его конце. Отправляясь на свидание с адвокатом или с кем-нибудь из родных, тоже надо было пройти сначала по главному коридору, а затем по узкому поперечному до двери, ведущей в старый Дом смерти. Там заключенного вводили в камеру, и он мог наслаждаться беседой со своим гостем (женой, сыном, матерью, дочерью, братом, защитником), причем каждое слово этой беседы слышал надзиратель, сидевший между решеткой камеры и проволочной сеткой, натянутой в двух футах от нее. Ни рукопожатие, ни поцелуй, ни ласковое прикосновение, ни слово любви не могли укрыться от этого стража. И когда для одного из заключенных наступал роковой час, все остальные — угрюмые и добродушные, чувствительные и толстокожие — если не по чьей-то злой воле, то в силу обстоятельств должны были наблюдать все заключительные приготовления: перевод осужденного в одну из камер старого Дома, последнюю скорбную встречу с матерью, сыном, дочерью, отцом. И никто из занимавшихся планировкой здания и установлением порядков в нем не подумал, на какие ненужные, неоправданные мучения они обрекали тех, кому приходилось отсиживать здесь долгие месяцы в ожидании решений высшего апелляционного суда. Первое время, разумеется, Клайд ничего этого не замечал. В свой первый день в обернской тюрьме он только пригубил горькую чашу. А назавтра, к облегчению или усугублению его страданий, приехала мать. Не получив разрешения сопровождать его, она задержалась, чтобы еще раз посовещаться с Белнепом и Джефсоном и написать подробный отчет о своих впечатлениях, связанных с отъездом сына. (Сколько жгучей боли таилось в этих впечатлениях!) И как ни заботила ее необходимость подыскать комнату поближе к тюрьме, все же по приезде она сразу поспешила в тюремную канцелярию, предъявила распоряжение судьи Оберуолцера, а также письменное ходатайство Белнепа и Джефсона о том, чтобы ей дали свидание сКлайдом, и ей тотчас разрешили повидать сына, да не в старом Доме смерти, а совсем в другом помещении. Дело в том, что начальник тюрьмы читал о ее энергичной деятельности в защиту сына, и ему самому интересно было взглянуть и на нее и на Клайда. Но неожиданная и разительная перемена во внешности Клайда потрясла ее, и она не вдруг нашлась что сказать при виде его бледных, запавших щек, его ввалившихся, лихорадочно блестящих глаз. Эта коротко остриженная голова! Эта полосатая куртка! И этот жуткий Дом с железными дверьми и тяжелыми запорами, и длинные переходы с охраной в тюремной форме на каждом углу… На мгновение она вздрогнула, пошатнулась и едва не лишилась чувств, хотя ей не раз случалось бывать в тюрьмах, больших и малых — в Канзас-Сити, Чикаго, Денвере; она ходила туда разъяснять слово божие и поучать и предлагать свои услуги тем, кому они могли пригодиться. Но это… это! Сын, родной сын! Ее сильная, широкая грудь вздымалась и опускалась. Она взглянула еще — и отвернулась, чтобы хоть на миг скрыть лицо. Губы и подбородок ее дрожали. Она стала рыться в сумочке, отыскивая носовой платок, и в то же время повторяла вполголоса: — Господи, за что ты покинул меня? Но в ту же минуту в ее сознании возникла мысль: нет, нет, сын не должен видеть ее такой! Так нельзя, так никуда не годится, ее слезы только расстроят его. Но даже ее сильной воли не хватило, чтобы сразу переломить себя, и она продолжала тихо плакать. Видя это, Клайд позабыл о своем решении держать себя в руках и найти для матери какие-то слова утешения и ободрения и бессвязно залепетал: — Ну, ну, мама, не надо. Не надо плакать. Я знаю, что тебе тяжело. Но все еще устроится. Наверно, устроится. И не так уж тут плохо, как я думал. А про себя воскликнул: «Боже мой, до чего плохо!» И миссис Грифитс тотчас отозвалась: — Бедный мой мальчик! Сынок мой дорогой! Но мы не должны терять надежду. Нет. Нет. «И спасу тебя от сетей зла». Господь не покидал нас до сих пор. Не покинет и впредь, я твердо знаю это. «Он водит меня к водам тихим». «Он укрепляет дух мой». Будем уповать на него. И потом, — добавила она быстро и деловито, чтобы подбодрить не только Клайда, но и себя, — я ведь уже все подготовила для апелляции. На этой неделе она будет подана. А это значит, что твое дело не может быть рассмотрено раньше, чем через год. Просто я не ожидала увидеть тебя таким. Оттого и растерялась. — Она расправила плечи, подняла голову и даже выжала некоторое подобие улыбки. — Начальник тюрьмы, видно, добрый человек, так хорошо ко мне отнесся, но когда я тебя увидела… Она вытерла глаза, еще влажные после этого неожиданного и страшного удара, и, чтобы отвлечь себя и его, заговорила о предстоящих ей неотложных делах. Мистер Белнеп и мистер Джефсон очень обнадежили ее в последний раз, когда она с ними виделась. Она заходила к ним в контору перед отъездом, и они сказали, что ни она, ни Клайд не должны унывать. А теперь она, не откладывая, приступит к своим лекциям, и это сразу же даст ей необходимые средства. Пусть Клайд и не думает, что все уже кончено. Ничего подобного! Тот приговор наверняка будет отменен, и дело направят на новое рассмотрение. Ведь процесс был сплошной комедией. Клайд сам это знает. Ну вот, а она, как только найдет себе комнату где-нибудь неподалеку от тюрьмы, отправится к самым видным представителям обернского духовенства и постарается добиться, чтобы ей разрешили устроить свои выступления в церкви, и не в одной, а в нескольких. Мистер Джефсон должен через два-три дня прислать ей кое-какие материалы, она сможет их использовать. А потом она поедет в Сиракузы, Рочестер, Скенэктеди и в другие города на востоке и будет ездить, пока не наберет достаточно денег. Но она не оставит и его. Она будет приезжать к нему по крайней мере раз в неделю и будет писать ему письма через день или даже каждый день, если сможет. Она поговорит с начальником тюрьмы. И пусть Клайд не отчаивается. Конечно, ей предстоит большая работа, но господь будет с ней во всех ее начинаниях. Она это знает твердо. Разве он не явил уже ей свою великую и чудотворную милость? А Клайд пусть молится за нее и за себя. Пусть читает Исайю. Псалмы 23, 50 и 91, каждый день. И Аввакума тоже. «Есть ли препоны деснице господней?» И в конце концов, после новых слез, после трогательной и надрывающей душу сцены, она простилась и ушла, а Клайд вернулся к себе в камеру, безмерно потрясенный ее горем. Мать в ее годы, нищая, без гроша, будет колесить по городам, собирая деньги, необходимые для его спасения. А он был таким скверным сыном — теперь он это понимает. Он присел на край койки и уронил голову на руки, а в это самое время миссис Грифитс остановилась у ворот тюрьмы — тяжелые железные ворота захлопнулись за нею, а впереди ждала чужая, неприветливая комната и все испытания задуманной ею поездки… Сама она совсем не чувствовала той уверенности, которую старалась внушить Клайду. Но, конечно, господь ей поможет. Ведь он никогда ее не покидал. Так неужели же он покинет ее теперь — в самый страшный ее час, в самый страшный час ее сына? Неужели? Она дошла до автомобильной стоянки неподалеку и снова остановилась, чтобы еще раз взглянуть на тюрьму, на ее высокие серые стены, сторожевые башни с вооруженными часовыми в тюремной форме, зарешеченные окна и двери. Каторжная тюрьма. И ее сын теперь там, в самом ее сердце — тесном и отгороженном от мира Доме смерти. И его ждет смерть на электрическом стуле. Если только… если только… Нет, нет, нет, это невозможно. Этого не случится. Апелляция, Необходимые средства. Она должна сейчас же взяться за работу, а не поддаваться тоске и отчаянию. Нет, нет! «Щит мой и опора моя». «Свет мой и источник силы моей». «О господи, ты сила моя и избавление мое. На тебя уповаю». Снова она вытерла глаза и прошептала: — Верую, господи! Помоги моему неверию. И пошла дальше, продолжая молиться и плакать.Глава 96
Для Клайда потянулись долгие дни заключения. Лишь раз в неделю его одиночество прерывалось свиданием с матерью, — ведь хлопоты, в которые миссис Грифитс ушла с головой, не оставляли ей времени для большего — за два месяца она объездила все кругом от Олбани до Буффало, побывала даже в Нью-Йорке, но результаты обманули ее ожидания. После трехнедельных упорных, фанатических стараний добиться успеха она вынуждена была устало сознаться (если не Клайду, то себе самой), что христиане отнеслись к ней по меньшей мере равнодушно, отнюдь не так, как подобает христианам. Ибо все, к кому она обращалась, по крайней мере все местные духовные руководители, считавшие себя обязанными как можно сдержаннее и осторожнее выражать мнение своей паствы, склонны были видеть в деле Клайда лишь нашумевший и достаточно скандальный судебный процесс, закончившийся осуждением, вполне справедливым с точки зрения всех солидных и благонамеренных граждан — по крайней мере, если судить по газетам. Во-первых, кто такая, собственно, эта женщина — мать осужденного? Самозванка, подпольная проповедница, которая, в обход всех установлений организованной, исторически сложившейся и веками освященной церковной иерархии (богословские семинарии, официальная церковь и ее ответвления и новообразования, аккуратно и осмотрительно занимающиеся традиционным и догматическим, а потому законным истолкованием слова божия), вздумала на свой страх и риск руководить никем не разрешенной и, следовательно, сомнительной миссией. А во-вторых, если бы она сидела дома, как добрая мать, и посвятила бы себя воспитанию сына и других своих детей, может быть, тогда и не случилось бы то, что случилось. Да, и, кроме того, — убил или не убил Клайд эту девушку, но, как бы то ни было, он находился с нею в преступной связи, что видно из его собственных показаний на суде. А это в глазах многих грех едва ли меньший, чем убийство. И в этом грехе он сам сознался. Так позволительно ли в церкви произносить речи в защиту осужденного прелюбодея, а может быть, и убийцы, — кто знает. Нет, нет, — отдельные христиане любого толка вправе сколько угодно сочувствовать миссис Грифитс или возмущаться юридическими неправильностями, допущенными при разборе дела ее сына, но христианская церковь не место для критики этого процесса. Нет, нет! Это было бы нарушением нравственных основ. Это даже грозило бы пагубными последствиями, так как внимание молодежи было бы привлечено к подробностям преступления. Наконец, под влиянием газетных сообщений о цели приезда миссис Грифитс на Восток, дополненных личным впечатлением от ее старомодной причудливой фигуры, большинство клерикальных властей решило, что перед ними просто полубезумная фанатичка из тех, которые не признают ни религиозных сект, ни научного богословия, и уже одно ее появление перед аудиторией может набросить тень на истинную и непогрешимую религию. И потому каждый из запрошенных, не то чтобы ожесточившись сердцем, но просто хорошенько подумав, решал: нет, можно найти другой путь, менее рискованный для христиан, — скажем, снять в городе какой-нибудь зал и, несомненно, объявив через печать, привлечь туда тех же добрых христиан. Таким образом, миссис Грифитс неизменно получала отказ и совет обратиться в другое место. Искать же помощи у католического духовенства ей даже ни разу не пришло в голову отчасти в силу предубеждения, отчасти же в силу безотчетного недоверия, не лишенного оснований. Она знала, что милосердие Христово в понимании ключаря св. Петра не для тех, кто отказывается признавать наместника Христа. И вот, после того как она много дней безуспешно стучалась то в одни, то в другие двери, пришлось ей скрепя сердце обратиться к одному еврею, содержателю самого большого в Утике кинотеатра — истинного вертепа. И он предоставил ей бесплатно свой зал для выступления с речью об обстоятельствах осуждения Клайда. «Речь матери в защиту сына» — так гласили афиши, и при входной плате в двадцать пять центов это принесло ей двести долларов. Как ни мала была эта сумма, миссис Грифитс в первую минуту возликовала: ей уже казалось, что, вопреки недружелюбию ортодоксальных христиан, она непременно соберет деньги, необходимые для апелляции. Пусть на это потребуется время, но она их соберет. Однако очень быстро обнаружилось, что есть еще статьи расхода, которые необходимо принять во внимание: проезд, ее траты на ночлег и еду в Утике и других городах, не говоря уже о тех суммах, которые она должна высылать в Денвер мужу — ему совсем не на что было жить, и вдобавок он тяжко заболел из-за всех трагических переживаний, выпавших на долю семьи, и письма Фрэнка и Джулии звучали все тревожнее. Видимо, существовала опасность, что он больше не поправится. Помощь была необходима. Таким образом, помимо личных трат, миссис Грифитс приходилось снова и снова заимствовать из этого единственного источника своих доходов. Это было ужасно, учитывая положение Клайда, но разве не обязана она всячески поддерживать свои силы во имя конечной победы?! И мужа ведь тоже нельзя совсем забросить ради Клайда. Но хотя выступления ее собирали все меньше и меньше народу (через неделю ей уже приходилось говорить перед каким-нибудь десятком человек) и хотя она с трудом сводила концы с концами в своем личном бюджете, ей все же удалось, покрыв неизбежные расходы, отложить тысячу сто долларов. Как раз в это время, в самую трудную для нее минуту, она получила телеграмму от Фрэнка и Джулии, что если она еще хочет увидеть Эйсу живым, то пусть поспешит домой. Ему очень плохо, и дни его, как видно, сочтены. Не зная, что делать под напором всех этих бедствий, не решаясь лишить Клайда своих посещений, иногда раз в неделю, иногда два раза, если обстоятельства позволяли, — единственной радости, которую она в силах была ему сейчас доставить, — миссис Грифитс бросилась за советом к Белнепу и Джефсону. Почтенные адвокаты, убедясь, что добытые ее трудами тысяча сто долларов им обеспечены, в порыве человеколюбия посоветовали ей ехать к мужу. Положение Клайда сейчас не так уж плохо, поскольку должно пройти не менее десяти месяцев или года, прежде чем апелляционная инстанция затребует необходимые материалы и документы. И, несомненно, до решения пройдет еще год. За это время она, надо думать, еще успеет собрать остальную сумму, необходимую для покрытия расходов, связанных с апелляцией. А если это даже и не удастся — ну, все равно, пусть она не тревожится. Мистеры Белнеп и Джефсон (которые видят, как она извелась и исстрадалась) будут стоять на страже интересов ее сына. Они подадут апелляционную жалобу, подготовят материалы для защиты и вообще сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить своевременное и беспристрастное рассмотрение дела. Таким образом, главное бремя свалилось с ее души, и, побывав еще два раза у Клайда, которого она заверила, что вернется очень скоро, — как только Эйса поправится и можно будет изыскать средства на новую поездку, — она отправилась в Денвер, где сразу же убедилась, что даже с ее приездом о быстром выздоровлении старика не может быть и речи. А Клайд остался коротать время, раздумывая и пытаясь как-то приспособиться к существованию в этом духовном аду, над которым, как над Дантовым адом, можно было написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Беспросветность. Тупой, но нестерпимый гнет. Ужас и отчаяние, постоянно, неотвязно владеющие всеми — смельчаками и трусами, склонными к браваде и впавшими в полное безразличие (были даже и такие), — всеми, кто вынужден еще думать и ждать. Ибо, по условиям этой особенно жестокой и тягостной тюремной обстановки, он находился в постоянном если не физическом, то психическом общении с двадцатью другими осужденными разного нрава и разных национальностей, и каждый из них, так же как и он сам, не устоял перед какой-нибудь страстью или слабостью своей натуры, или роковым стечением обстоятельств. И заключительным актом драмы явилось убийство, давшее исход предельному напряжению душевных и телесных сил; а потом, пережив поимку и арест и пройдя через мучительные этапы безуспешных попыток юридической и нравственной самозащиты, так хорошо знакомые и Клайду, все они очутились здесь, запертые, замурованные в одной из двадцати двух железных клеток, в ожидании — чего? О, они хорошо знали — чего, хорошо знал и он. Какие страшные припадки бешенства, отчаяния, молитвенного экстаза приходилось здесь слышать и наблюдать! А иногда ругань, грубые и непристойные шутки, длинные рассказы во всеуслышание, похотливый смех или вздохи и стоны в те поздние часы, когда должен был наступить отдых для тела и для истомленной души. В конце длинного центрального коридора был дворик для прогулок, и туда, дважды в день, между десятью и пятью часами, выводили на несколько минут заключенных группами по пять-шесть человек размять ноги, подышать воздухом, проделать несколько гимнастических упражнений или даже побегать и попрыгать, если у кого-нибудь появлялась охота. Но все это под неусыпным надзором охраны, достаточно многочисленной, чтобы сладить с ними в случае попытки бунта. Сюда же со второго дня его пребывания в тюрьме стали выводить и Клайда, каждый раз с другой группой. Но первое время он был твердо убежден, что никогда не примет участия в жалких развлечениях, которые, несмотря на атмосферу обреченности, царившую кругом, видимо, доставляли удовольствие другим узникам. Два черноглазых мрачных итальянца: один зарезал девушку, которая не пожелала выйти за него замуж; другой ограбил и убил своего тестя, потому что ему и его жене не давали покоя деньги старика, а потом пытался сжечь труп. Великан Лэрри Донэхью с квадратной головой, с квадратными плечами, с огромными ручищами и ножищами, бывший солдат экспедиционных войск, который, лишившись места сторожа на одной из бруклинских фабрик, подстерег ночью уволившего его директора и убил, но при этом имел неосторожность потерять на месте преступления военную медаль, и по ней его опознали и изловили. Все это Клайд узнал от тюремщиков, которые несли при них охрану попарно, сменяясь через каждые восемь часов; к заключенным они относились на редкость равнодушно, но в общем довольно снисходительно. Был тут и полицейский, некто Райордан из Рочестера; он убил свою жену за то, что она хотела уйти от него, а теперь и сам должен был умереть. И Томас Маурер, тот самый «фермер», стоны которого Клайд слышал в первый вечер, — на самом деле это был батрак с фермы, заколовший своего хозяина вилами; до казни ему осталось всего несколько дней — так сказали Клайду, — и на прогулке он все шагал и шагал вдоль самой стены, понурив голову, заложив руки за спину, сильный, неуклюжий человек лет тридцати, на вид такой прибитый и загнанный, что его трудно было представить себе в роли мучителя и убийцы. Клайд глядел на него и думал: неужели он в самом деле виновен? Затем Миллер Николсон, адвокат из Буффало, лет сорока, высокий, стройный, внешне выгодно отличавшийся от всех остальных — утонченный интеллигент, так же мало похожий на убийцу, как и сам Клайд; и тем не менее он был осужден за то, что отравил богатого старика и пытался завладеть его состоянием. Глядя на него, никак нельзя было подумать, что он совершил такое страшное злодеяние, — так по крайней мере казалось Клайду. Этот адвокат был вежливый, любезный; он в первое же утро, заметив Клайда, подошел к нему и спросил: «Страшно?» — таким ласковым, участливым тоном, что Клайд поневоле был тронут его добротой, хотя от ужаса совсем оцепенел, боялся даже шевелиться, даже думать. Повинуясь этому чувству ужаса, сознанию, что он погиб, Клайд ответил: — Да, признаться, страшно. И тотчас сам изумился своему унизительному признанию, и именно потому, что в этом человеке было что-то ободряющее, пожалел о сказанном. — Ведь ваша фамилия — Грифитс? — Да. — А моя — Николсон. Не бойтесь. Скоро привыкнете. Он улыбнулся бледной, ласковой улыбкой. Но в глазах у него улыбки не было. — Да нет, не так уж мне страшно, — возразил Клайд, стараясь сгладить впечатление от своего первого, слишком поспешного ответа. — Ну, тем лучше. Не вешайте носа. Нам нельзя распускаться, иначе здесь совсем с ума сойдешь. Лучше старайтесь побольше наглотаться свежего воздуха. Походите быстрым шагом. Увидите, как это помогает. Он отошел на несколько шагов и стал делать различные гимнастические упражнения для рук, а Клайд, все еще не овладевший собой, старался стоять на том же месте, повторяя чуть не вслух: «Нам нельзя распускаться, иначе здесь совсем с ума сойдешь». Справедливые слова, разве не почувствовал он это в первую же свою ночь в тюрьме? Именно сойдешь с ума. Или замучит насмерть постоянное созерцание чужих трагедий, их страшная, разрушительная сила. Но долго ли ему придется это терпеть? Надолго ли хватит у него сил? Но прошел день или два, и он убедился, что не все в Доме смерти так мрачно, как ему показалось сначала; не все в нем сплошной ужас, по крайней мере внешне. В самом деле, несмотря на близость смерти, тяготевшую над каждым обитателем, здесь шутили, смеялись, насмешничали, даже играли, спорили на все мыслимые темы — от смерти до женщин и спорта, состязались в разных видах остроумия или его отсутствия, — все это применительно к довольно низкому общему уровню развития. Сейчас же после завтрака те, кто не попадал в первую очередь на прогулку, принимались обычно за шашки или карты. Это не значит, что играющие выходили из своих камер и усаживались вдвоем за одной доской или сдавали партнерам карты из одной колоды: нет, просто тюремщик вручал каждому любителю шашек доску, но без фигур. В них не было надобности. Один из игроков объявлял ход; f2-e1. Горизонтальные ряды клеток обозначались цифрами, а вертикальные — буквами. Ходы отмечали карандашом. Второй игрок, отметив на своей доске ход противника и изучив, как он отразился на его положении, в свою очередь, объявлял: e7-f5. Если находились охотники принять участие в игре на стороне того или иного из сражающихся, каждому тоже приносили доску и карандаш. И тогда можно было услышать голос, скажем, «Коротышки» Бристола, заинтересованного в победе «Голландца» Сунгхорта, который сидел за три камеры от него: — Не советую, Голландец. Погоди минутку, тут можно лучше пойти. И игра продолжалась под крики, насмешки, хохот, споры по поводу каждого промаха или удачи. Так же играли и в карты. Здесь тоже каждый партнер оставался запертым у себя в камере, однако интерес игры от этого не страдал. Но Клайд не любил карт и не находил удовольствия в грубой болтовне, длившейся часами. За исключением одного только Николсона, все кругом изощрялись в непристойных и даже оскорбительных выражениях, которые резали его слух. К Николсону его тянуло. Спустя некоторое время ему стало казаться, что близость адвоката, дружеские беседы с ним во время прогулки, когда они попадали в одну группу, помогут ему вынести все это. Николсон был самым интеллигентным, самым» приличным из всех обитателей тюрьмы. Остальные резко отличались от него: они либо угрюмо молчали, либо — что случалось чаще — говорили, но их речи казались Клайду слишком мрачными, грубыми или непонятными. Шла вторая неделя его пребывания в тюрьме, и благодаря Николсону он уже начал чувствовать себя немного тверже, но вот наступил день, назначенный для казни Паскуале Кутроне, итальянца из Бруклина, который убил родного брата за то, что тот пытался соблазнить его жену. Паскуале занимал одну из камер у скрещения коридоров, и Клайд слышал, что от страха он несколько помутился в уме. Во всяком случае, его никогда не выводили на прогулку вместе с остальными. Но Клайду хорошо запомнилось его лицо, которое он видел, проходя мимо, — жуткое, исхудалое лицо, как бы разрезанное натрое двумя глубокими бороздами — тюремными складками горя, — шедшими от глаз к углам рта. В тот вечер, когда Клайд был доставлен в тюрьму, Паскуале вдруг начал молиться и молился, не переставая, день и ночь. Потом оказалось: его предупредили, что ему предстоит умереть на следующей неделе. После этого он стал ползать по камере на четвереньках, целовать пол и лизать ноги Христа на небольшом бронзовом распятии. Несколько раз навещали его брат и сестра, только что приехавшие из Италии, и для свидания с ними его водили в старый Дом смерти. Но кругом шептались, что помраченный разум Паскуале уже не может воспринять никаких родственных утешений. Весь день и всю ночь, за исключением этих часов свиданий, он ползал по камере и бормотал молитвы, и те из заключенных, которые не могли уснуть и читали, чтобы скоротать время, должны были беспрестанно слушать его бормотанье и постукиванье четок, на которых он отсчитывал бесчисленные «Отче наш» и «Богородице, дево, радуйся». И так без конца, без конца — хоть порой и раздавался откуда-нибудь жалобный голос: «О господи, хоть бы он поспал немного!» И снова глухой стук земного поклона — и снова молитва, и так до самого кануна казни, когда Паскуале перевели в старый Дом смерти, где, как Клайд узнал позднее, происходили последние прощания, если было с кем прощаться. Кроме того, осужденному предоставлялось несколько часов покоя и уединения, чтобы он мог приготовить свою душу к свиданию с творцом. Но страшное смятение овладело в ту ночь всеми обитателями рокового Дома. Почти никто не прикоснулся к ужину, о чем говорили унесенные подносы. В камерах царила тишина, кое-кто молился вполголоса, зная, что и ему в недалеком будущем предстоит та же участь. Потом с одним итальянцем, осужденным за убийство сторожа в банке, сделался нервный припадок: он стал кричать, разломал свой стул и стол о прутья решетки, в клочья изодрал простыни на постели и даже пытался удавиться, но его связали и унесли в другое отделение тюрьмы, где врач должен был установить его вменяемость. Остальные во время всей этой суматохи метались по своим камерам и твердили молитвы, а некоторые звали тюремщиков и требовали, чтоб те навели порядок. А Клайд, который никогда еще не переживал и не представлял себе ничего подобного, дрожал неуемной дрожью от страха и отвращения. Всю эту ночь, последнюю ночь жизни Паскуале Кутроне, он лежал на койке, отгоняя кошмары. Вот, значит, какова здесь смерть: люди кричат, молятся, сходят с ума, но страшное действо, несмотря ни на что, совершается своим чередом. В десять часов, чтобы успокоить тех, кто еще оставался жить, принесли холодную закуску, но никто не стал есть, кроме китайца, что сидел напротив Клайда. А на рассвете следующего дня, ровно в четыре, тюремные служители, выполняя свою страшную обязанность, бесшумно появились в центральном коридоре и задернули тяжелые зеленые занавеси перед решетками камер, чтобы никто не увидел, как роковая процессия пройдет из старого Дома смерти в комнату казней. Но, несмотря на эту предосторожность, Клайд и все остальные проснулись при первом же звуке. Вот она, казнь! Час смерти пробил. Это был сигнал. Те из заключенных, которых страх, раскаяние или врожденное религиозное чувство побуждали искать защиты и утешения в вере, стояли на коленях и молились. Остальные — кто просто шагал по камере, кто бормотал что-то про себя. А другие вскрикивали порой, не совладав с лихорадочным приступом ужаса. Клайд же точно отупел и онемел. Даже мысли в нем замерли. Сейчас там, в той комнате, убьют человека. Стул, этот стул, который с первого дня стоял перед ним неотвязным кошмаром, он здесь, совсем близко. Но ведь и мать и Джефсон говорили, что его срок наступит еще очень нескоро, если только… если вообще наступит… если… если… Новые звуки. Чьи-то шаги взад и вперед по коридору. Где-то далеко стукнула дверь камеры. А это отворяется дверь старого Дома, — совершенно ясно, потому что теперь стал слышен голос, голоса… пока еще только смутный гул. Вот еще голос, более отчетливый, будто кто-то читает молитву. Зловещее шарканье подошв — процессия движется по коридору. — Боже, смилуйся над нами! Иисусе, смилуйся! — Пресвятая матерь божия, преблагая Мария, мать милосердная, моли бога обо мне! Ангел-хранитель, моли бога обо мне! — Пресвятая Мария, моли бога обо мне! Святой Иосиф, моли бога обо мне! Святой Амвросий, моли бога обо мне! Все святые и ангелы, молите бога обо мне! — Святой Михаил, моли бога обо мне? Ангел-хранитель мой, моли бога обо мне! То был голос священника, который сопровождал осужденного на смерть и напутствовал его словами молитвы. А тот, говорили, давно не в своем уме. Но ведь вот и его голос тоже слышится. Да, его. Клайд узнал этот голос. За последнее время он достаточно часто его слышал. Вот сейчас отворится та, другая дверь. Он заглянет туда — человек, осужденный умереть, — так скоро, так скоро… увидит… все увидит… этот шлем… эти ремни. О, Клайд уже хорошо знает, какие они на вид, хотя ему, может быть, никогда не придется надеть их… может быть… — Прощай, Кутроне! — хриплый, срывающийся голос из какой-то камеры неподалеку. Клайд не мог определить, из какой именно. — Счастливого пути в лучший мир! И тотчас другие голоса подхватили: — Прощай, Кутроне! Храни тебя господь, хоть ты и не говоришь по-английски! Процессия прошла. Хлопнула та дверь. Вот он уже там. Сейчас его, наверно, привязывают ремнями. Спрашивают, не хочет ли он сказать еще что-нибудь, — он, который не в своем уме. Теперь, наверно, ремни уже закрепили. Надели шлем. Еще миг, еще один миг, и… Тут — хотя Клайд в ту минуту не заметил или не понял — все лампочки в камерах, в коридорах, во всей тюрьме вдруг мигнули: по чьей-то глупости или недомыслию электрический стул получал ток от той же сети, что и освещение. И сейчас же кто-то отозвался: — Вот оно. Готово, Крышка парню. И кто-то другой: — Да, сыграл в ящик, бедняга. А через минуту лампочки мигнули снова и через полминуты еще раз, третий. — Так. Ну вот и конец. — Да. Теперь он уже видит, что там, на том свете, делается. И потом тишина — гробовое молчание. И только изредка слышно, как кто-то шепчет молитву. Но Клайда бьет страшная, леденящая дрожь. Он не смеет даже думать, не то что плакать. Значит, вот как это бывает… Задергивают зеленые занавеси. А потом… потом… Паскуале нет больше. Трижды мигнул свет. Это когда пропускали ток, ясно. Как он молился все эти ночи! Как стонал! Сколько бил земных поклонов! И ведь только минуту назад он был еще жив — шел вон там, по коридору. А теперь умер. А когда-нибудь и он… он сам… разве можно поручиться, что этого не будет? Разве можно? Он лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку, и неукротимо дрожал. Пришли тюремщики и отдернули зеленые занавеси — так спокойно, такими уверенными, живыми движениями, как будто в мире вовсе не было смерти. Потом он услышал разговор в коридоре; обращались не к нему — он слишком замкнуто держался до сих пор, — а к кому-то из его соседей. Бедный Паскуале! Следовало бы вообще отменить смертную казнь. Начальник тюрьмы так считает. И они тоже. Начальник даже хлопочет об ее отмене. Но Кутроне, Кутроне! Как он молился! А теперь его уже нет. Камера его пуста, и скоро в нее посадят другого, а рано или поздно и его не станет. И здесь, в этой камере, тоже раньше был другой… много других… таких же, как он, как Кутроне… и они лежали на этой койке… Клайд встал, пересел на стул. Но тот… те… тоже сидели на этом стуле. Он вскочил — и снова рухнул на койку. «Боже мой! Боже мой!» — повторял он про себя, и сразу ему вспомнился тот заключенный, который так напугал его в первый раз. Он еще здесь. Но скоро и его не станет. И так же будет со всеми остальными… может быть, и с ним, если только… если только… Это была первая казнь при Клайде.Глава 97
Между тем здоровье Эйсы поправлялось плохо, и прошло целых четыре месяца, прежде чем он окреп настолько, что мог хотя бы сидеть на постели, и миссис Грифитс получила возможность вновь подумать о своих выступлениях. Но за это время интерес публики к ней и к судьбе ее сына значительно упал. В Денвере не нашлось газеты, которая сочла бы для себя выгодным финансировать ее поездку. Что же касается жителей того края, где совершилось преступление, они, правда, еще достаточно хорошо помнили все дело и к самой миссис Грифитс относились с сочувствием, но на сына ее почти все смотрели как на преступника, получившего по заслугам, и поэтому считали, что апелляцию вообще незачем подавать, а если она будет подана, то решение должно быть отрицательным. Уж эти преступники со своими бесконечными апелляциями! А в обиталище Клайда казнь следовала за казнью, но каждый раз он, к ужасу своему, убеждался, что к таким вещам не привыкают. Был казнен батрак Маурер за убийство хозяина, полицейский Райордан за убийство жены, — и каким бравым воякой он казался всего за минуту до смерти! В том же месяце настала очередь китайца, у которого почему-то все это особенно затянулось (пошел он на смерть, никому ничего не сказав на прощанье, хотя известно было, что несколько слов по-английски он знает). А следующим оказался Лэрри Донэхью, солдат экспедиционной армии; этот храбро крикнул перед тем, как дверь за ним закрылась: — Прощайте, ребята! Желаю счастья! А затем… о, это было самое ужасное, самое тяжелое для Клайда, — казалось даже, что после этого у него не хватит сил тянуть дальше лямку тягостного тюремного существования, — настал черед Миллера Николсона. За эти пять месяцев они так привыкли гулять вместе, беседовать, иногда переговариваться, сидя в своих камерах, и Николсон советовал ему, какие книги читать, и дал одно очень ценное указание на случай пересмотра дела и вторичного суда, а именно: всеми способами протестовать против публичного оглашения писем Роберты на том основании, что сила их эмоционального воздействия на любой состав присяжных препятствует трезвой и беспристрастной оценке фактов, о которых в них идет речь, и добиваться, чтобы вместо оглашения их полностью были сделаны выборки по существу и только эти выборки представлены присяжным на рассмотрение. — Если вашим адвокатам удастся убедить апелляционный суд в справедливости такого требования, можете считать свое дело выигранным. Клайд тотчас же потребовал свидания с Джефсоном и передал ему это соображение, которое Джефсон признал совершенно разумным и сказал, что они с Белнепом непременно используют его, составляя апелляционную жалобу. Но однажды тюремщик, запирая Клайда после возвращения с прогулки, мотнул головой в сторону камеры Николсона и шепнул: — Следующая очередь — его. Он вам сказал? Через три дня. Клайд содрогнулся — на него точно ледяным холодом дохнуло при этом известии. Только что они гуляли вместе, разговаривая о новом заключенном, поступившем сегодня, — венгерце из Утики, который сжег в печи свою любовницу и сам потом во всем сознался. Это был огромный, тупой, невежественный детина с лицом химеры. Николсон говорил, что в нем, безусловно, больше от животного, чем от человека. Но о себе Николсон так и не сказал ни слова. Через три дня! А он так спокойно гулял и разговаривал, как будто ничего особенного не должно было произойти, хотя, по словам тюремщика, его предупредили еще накануне. И на другой день он вел себя так же: гулял, разговаривал как ни в чем не бывало, смотрел на небо и дышал свежим воздухом. Зато Клайд, который всю ночь не мог уснуть от одних только мыслей об этом, шагая с ним рядом, чувствовал себя совсем разбитым и больным, даже не в силах был вести разговор и только думал: «И он еще может гулять! И казаться таким спокойным! Что же это за человек такой?» — и замирал от благоговейного ужаса. На следующее утро Николсон не вышел на прогулку: он сидел у себя в камере и рвал письма, которые он во множестве получал со все» сторон. Около полудня он окликнул Клайда, сидевшего через две камеры от него: — Я вам тут кое-что посылаю на память. И ни слова о том, что его ожидало. Надзиратель передал Клайду две книги: «Робинзона Крузо» и «Тысячу и одну ночь». Вечером Николсона перевели в старый Дом смерти, а на рассвете повторилась обычная процедура: зеленые занавеси, шаги зловещей процессии по коридору — все то, что было уже так хорошо знакомо Клайду. Но на этот раз он ощущал происходящее особенно остро, с особенной мукой. И перед тем как хлопнула дверь, голос: — Храни вас всех бог, друзья! Желаю вам благополучно выбраться отсюда. А потом та страшная тишина, которая всегда водворялась под конец. Для Клайда настала пора полного одиночества. Не было теперь никого — ни одного человека, который хоть сколько-нибудь был бы ему близок. Ему оставалось только думать, или читать, или делать вид, будто он интересуется разговорами окружающих, потому что интересоваться ими на самом деле он не мог. Склад его ума был таков, что если ему удавалось отвлечься мысленно от своей несчастной судьбы, его больше влекло к мечтам, чем к действительности. Легкие романтические произведения, рисовавшие тот мир, в каком ему хотелось бы жить, он предпочитал книгам, которые напоминали о суровой неприглядности подлинной жизни, не говоря уже о его жизни в тюрьме. А что ожидало его впереди? Он был так одинок! Только письма матери, брата и сестер нарушали это одиночество. Но в Денвере все обстояло неважно: здоровье Эйсы не поправлялось, мать не могла еще и думать о возвращении. Она подыскивала себе какое-нибудь дело, которое можно было бы совместить с уходом за больным, — занятия в религиозной школе, например. Но она обратилась к преподобному Данкену Мак-Миллану, молодому священнику, с которым познакомилась во время своих выступлений в Сиракузах, и просила его побывать у Клайда. Это очень добрый, большой души человек. И она убеждена, что Клайд обретет в нем поддержку и опору в эти горькие дни, когда сама она не может быть с ним рядом. Еще в то время, когда миссис Грифитс искала помощи у клерикальных авторитетов округа, — что, как известно, не увенчалось успехом, — она повстречалась с преподобным Данкеном Мак-Милланом. Это было в Сиракузах, где он возглавлял маленькую независимую церковную общину, не принадлежавшую ни к какой определенной секте. Он был молод и так же, как Эйса и она сама, проповедовал слово божие, не имея духовного сана, однако обладал гораздо более энергичным и пламенным религиозным темпераментом. Еще до появления на сцене миссис Грифитс он много читал о Клайде и о Роберте и считал вынесенный приговор справедливым и не вызывающим сомнений. Но горе миссис Грифитс и ее метания в поисках помощи глубоко тронули его сердце. Он сам был преданным сыном. И благодаря своей возвышенно поэтической и эмоциональной, несмотря на подавленную сексуальность, натуре он был одним из немногих жителей этого северного края, кого всерьез глубоко взволновали обстоятельства преступления, приписываемого Клайду. Эти письма Роберты, полные страсти и муки! Эта печальная жизнь, которую она вела в Ликурге и в Бильце! Сколько раз он задумывался над всем этим еще до своей встречи с миссис Грифитс! Простые и высокие добродетели, носителями которых были, видимо, Роберта и ее родные в тихом, поэтическом мирке, откуда они вышли! Виновность Клайда, казалось, не подлежала сомнению. Но вот неожиданно появляется миссис Грифитс, жалкая, убитая горем, и утверждает, что сын ее не виновен. А где-то там, в тюремной камере, сидит обреченный на смерть Клайд. Возможно ли, что в силу несчастного стечения обстоятельств допущена судебная ошибка и Клайд осужден безвинно? Мак-Миллан был человек редкого темперамента — неукротимый, не знающий компромиссов. Настоящий святой Бернар, Савонарола, святой Симеон, Петр Отшельник наших дней. Все формы жизни, мышления, общественной организации для него были словом, выражением, дыханием господа. Именно так и не иначе. Однако в его представлении о мире находилось место и дьяволу с его адской злобой — Люциферу, изгнанному из рая. Любил он размышлять о Нагорной проповеди, о святом Иоанне, который видел Христа и истолковал слово его: «Кто не со мною, тот против меня; кто не собирает со мною, тот расточает». В общем, это была своеобразная, сильная, богатая, смятенная, добрая и по-своему прекрасная душа, истомившаяся жаждой справедливости, недостижимой на земле. Миссис Грифитс, беседуя с ним, настойчиво напоминала, что и Роберта была не безгрешна. Разве не согрешила она вместе с Клайдом? Как же можно полностью оправдывать ее? Тут большая юридическая ошибка. Сын осужден несправедливо — и все из-за жалостных, исполненных романтики писем этой девушки, писем, которые вообще не следовало показывать присяжным. Мужчины, утверждала миссис Грифитс, не способны судить справедливо и беспристрастно там, где речь идет о горестях молодой и красивой девушки. Она достаточно убедилась в этом на своей миссионерской работе. Эта мысль показалась преподобному Данкену Мак-Миллану существенной и верной. А миссис Грифитс между тем продолжала: если бы какой-нибудь авторитетный и справедливый посланец божий посетил Клайда и силою своей веры и слова божьего заставил бы его понять то, чего он до сих пор не понимает и чего она, как мать, и притом угнетенная горем, не в силах ему разъяснить, — всю глубину и весь позор его греха с Робертой и все, чем этот грех грозит его бессмертной душе в этом мире и в будущем, — он преисполнился бы благодарности, веры и смирения, и содеянное им зло было бы смыто. Ведь совершил он приписываемое ему преступление или нет, — она-то уверена, что нет! — но сейчас ему угрожает электрический стул, угрожает опасность окончить свое земное существование и предстать перед творцом с душой, отягченной смертным грехом прелюбодеяния, не говоря уже о лжи и двоедушии, в которых он повинен не только перед Робертой, но и перед той, другой девушкой из Ликурга. А признание своих заблуждений и покаяние очистит его от этой скверны. Только бы спасти его душу, и тогда она — да и он — обретут покой. И вот после двух умоляющих писем от миссис Грифитс, уже из Денвера, в которых она описывала ему одиночество Клайда и то, как он нуждается в помощи и совете, преподобный Данкен отправился в Оберн. И, разъяснив начальнику тюрьмы истинную цель своего посещения, — спасение души Клайда во имя его собственного благополучия, и благополучия его матери, и во славу божию, — получил право доступа в Дом смерти и в камеру Клайда. У самой двери он помедлил, разглядывая внутренность камеры и жалкую фигуру Клайда, свернувшегося на койке с книгой в руке. Затем Мак-Миллан приник своим длинным, худощавым телом к прутьям решетки и без всякого вступления, склонив голову в молитвенном порыве, начал: — «Помилуй меня, боже, по великой милости твоей и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сотворил, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня иссопом, и чищуся; омой меня, и паче снега убелюся. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, боже, боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи? Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертвы ты не желаешь — я дал бы ее — и к всесожжению не благоволишь. Жертва богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного ты не уничижишь, боже». Он умолк лишь после того, как своим звучным, удивительно богатым по интонации голосом дочитал 50-й псалом до конца. А Клайд в полном недоумении сначала присел на койке, потом, привлеченный обаянием этого юношески стройного, крепкого на вид, хотя и бледного человека, встал и подошел к двери; тогда гость поднял голову и произнес: — Клайд, я принес вам милость и спасение господне. Он призвал меня — и вот я здесь. Он послал меня возвестить вам, что если грехи ваши красны, как кровь, они станут белы, как снег. И если они алы, как пурпур, то убелятся, как руно. Давайте же поразмыслим о могуществе господа бога. Он помолчал, ласково глядя на Клайда. Светлая, немного мечтательная юношеская полуулыбка играла у него на губах. Его подкупали молодость и сдержанность Клайда, а тот, в свою очередь, явновсе больше поддавался обаянию необыкновенного гостя. Еще новый священник, конечно. Но совсем не похож на тюремного пастора, в котором нет ничего привлекательного и располагающего. — Меня зовут Данкен Мак-Миллан, — сказал гость, — и я из Сиракуз, где тружусь во славу господа. Это он послал меня сюда, он и вашу мать направил ко мне. Из ее слов я понял, что она думает о вашем деле. Из газет узнал, что вы сами говорили. И мне известно, почему вы здесь. Но я здесь затем, чтобы дать вам радость и веселие духовное. — И он вдруг прочел третий стих из 12-го псалма: — «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь». Это псалом двенадцатый, стих третий. А вот и еще слова, которые приходят мне на память, слова, которые я должен сказать вам. Это тоже из Библии — псалом девятый: «Говорит в сердце своем: «не поколеблюсь; в род и род не приключится мне зла». Но вот вам приключилось зло. Всем нам, нечестивым, не миновать этого. А вот и еще слова, которые вам полезно услышать, — это из девятого псалма, стих тридцать второй: «Говорит в сердце своем: «забыл бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Но мне велено сказать вам, что бог не закрыл лица своего. Мне велено привести вам еще вот эти слова из семнадцатого псалма: «Они восстали на меня в день бедствия моего: но господь был мне опорою». «Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих». «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». «Он вывел меня на пространное место и избавил меня; ибо он благоволит ко мне». Клайд, все это слова, обращенные к вам. Они приходят мне на ум здесь в беседе с вами, словно кто-то шепотом подсказывает мне их. Я лишь рупор, доносящий эти слова, сказанные непосредственно для вас. Спросите же совета у собственного сердца. Обратитесь из тьмы к свету. Разобьем оковы горя и уныния; разгоним тень и мрак. Вы согрешили. Господь может простить вас и простит. Покайтесь. Придите к тому, кто создал этот мир и хранит его. Он не отвергнет ваших молитв, не презрит веры вашей. Обратитесь к господу — внутри себя, не покидая этих тесных стен, и скажите: «Боже, помоги мне! Боже, услышь мою молитву! Боже, дай свет очам моим!» Или вы думаете, что нет бога, что он не ответит вам? Молитесь. В бедствии прибегайте лишь к нему, не ко мне, ни к кому иному. Лишь к нему одному. Молитесь. Говорите с ним. Взывайте к нему. Поведайте ему правду и просите его о помощи. И если только в душе своей вы подлинно раскаиваетесь в содеянном зле, воистину, воистину вы услышите его и восчувствуете — это так же верно, как то, что я сейчас стою перед вами. Он возьмет вас за руку. Он войдет в эту камеру и войдет в душу вашу. Вы узнаете его по тому свету и покою, которых исполнится ваш разум и ваше сердце. Молитесь. А если вы почувствуете, что я могу что-нибудь сделать для вас — помолиться с вами, оказать какую-либо услугу, просто скрасить на время ваше одиночество, — вам стоит только позвать меня, хотя бы почтовой открыткой. Я дал слово вашей матери и готов сделать все, что только в моих силах. Мой адрес есть у начальника тюрьмы. Он остановился, произнеся последние слова особенно веско и вразумительно, потому что до сих пор во взгляде Клайда было больше любопытства и удивления, чем каких-либо иных чувств. Но юный, почти мальчишеский облик Клайда и какое-то жалкое, беспомощное выражение, застывшее на его лице после отъезда матери и казни Николсона, заставили Мак-Миллана тут же прибавить: — Помните, я всегда в вашем распоряжении. У меня много работы в Сиракузах, но я охотно прерву ее, как только узнаю, что могу еще чем-нибудь быть вам полезен. С этими словами он повернулся, словно собираясь уйти. Но Клайд, уже плененный им — тем дыханием жизни, уверенности и добра, которым вдруг повеяло от священника среди вечного напряжения, страха и одиночества, непрестанно мучивших его в тюрьме, — воскликнул вслед Мак-Миллану: — Не уходите еще! Пожалуйста, не уходите. Это так хорошо с вашей стороны, что вы приехали навестить меня, и я вам так благодарен. Мне мать писала, что вы, может быть, приедете. Здесь, знаете, очень тоскливо. Может быть, я не слишком задумывался над теми вещами, о которых вы тут говорили, но это потому, что я за собой не чувствую той вины, какую мне приписывают. Но я очень жалею о многом. И, конечно, всякий, кто сюда попадает, платится очень горько. Взгляд у него был тревожный и грустный. И Мак-Миллан, впервые за время этого свидания глубоко, по-настоящему тронутый, поспешил откликнуться: — Не печальтесь, Клайд. Я снова приеду к вам не позже, чем через неделю, ведь теперь я вижу, что нужен вам. Я не потому прошу вас молиться, что считаю вас виновным в смерти Роберты Олден. Этого я не знаю. Вы мне еще ничего не говорили. Все ваши грехи и все ваши печали известны только вам да господу богу. Но я знаю, что вы нуждаетесь в духовной поддержке, а это вы найдете — верьте мне. «И будет господь прибежищем страждущему, прибежищем в час бедствия». Он ласково улыбнулся, казалось, он уже по-настоящему полюбил Клайда. И Клайд, к немалому своему удивлению, почувствовав это, ответил, что сейчас ему ничего не нужно, он только просит сообщить матери, что здоров, и, если можно, хоть немножко ее подбодрить. Письма от нее приходят очень печальные. Она слишком тревожится за него. По правде сказать, он и сам чувствует себя неважно последние дни — тяжело и тревожно на душе. Что ж, не мудрено. Честное слово, если молитва может дать ему хоть немного покоя душевного, он с радостью будет молиться. Мать всегда старалась приучать его к этому, но, стыдно сознаться, он не очень-то прислушивался к ее советам. Вид у Клайда был удрученный и мрачный — лицо его давно уже приобрело землистый оттенок, характерный для тюремных узников. И преподобный Данкен Мак-Миллан, окончательно растроганный его жалким положением, ответил: — Ничего, Клайд, не печальтесь. Вот увидите, мир и благодать снизойдут в вашу душу. Я в этом не сомневаюсь. У вас, я вижу, есть Библия. Откройте любую страницу псалтыри и читайте — пятьдесят первый псалом, девяносто первый, двадцать третий. Откройте Евангелие от Иоанна, прочтите его все от начала и до конца. Размышляйте и молитесь — размышляйте обо всем, что вас окружает: о луне, звездах и солнце, о деревьях и море, о вашем собственном бьющемся сердце, о вашем теле, о вашей силе, и спросите себя: кто все это создал? Откуда взялось оно? И если не найдете объяснения, спросите себя еще: неужели у создавшего все это — и вас в том числе, — кто бы он ни был, где бы ни пребывал, не хватит мудрости и милосердия и силы помочи вам в час, когда вы нуждаетесь в помощи, просветить вас, утешить и указать вам путь? Только спросите себя: кто же творец этого зримого мира? А потом обратитесь к нему, создателю всего сущего, и у него ищите ответа, как быть и что делать. Не предавайтесь сомнениям. Спрашивайте — и вы получите ответ. Спрашивайте днем и ночью. Склоняйте голову, молитесь и ждите. Воистину он не оставит вас. Я знаю, потому что сам обрел покой душевный. Он пристально посмотрел на Клайда, словно стараясь внушить ему свою веру, потом улыбнулся и пошел прочь. А Клайд задумался, прислонясь к решетке. Создатель! Его создатель! Создатель мира!.. Спрашивайте и получите ответ. И все-таки еще жило в нем старое недоверие к религии и ее плодам — память о вечных, но напрасных молитвах и проповедях отца и матери. Неужели же теперь и он обратится к утешениям религии лишь потому, что ему тоже тяжело и страшно? Нет уж. Или, во всяком случае, не так. Но все же преподобный Данкен Мак-Миллан — его жар и страстная, вдохновенная сила убеждения, его юношеская ладная фигура, лицо, глаза — все это произвело на Клайда такое глубокое впечатление, какого никогда не производил ни один проповедник или священнослужитель. Вера этого человека заинтересовала, пленила и словно загипнотизировала его, хоть он и не знал, сумеет ли сам когда-нибудь до конца проникнуться такой верой.Глава 98
Каких-нибудь полтора года назад человек типа преподобного Мак-Миллана вряд ли мог бы поразить Клайда силою духа и религиозного убеждения (поскольку он с детства привык к таким вещам), но сейчас это произвело на него совсем иное впечатление. Сидя за решеткой, вдали от мира, вынужденный в силу ограниченности тюремной жизни искать прибежища и утешения в собственных мыслях, Клайд, как и всякий другой в подобных обстоятельствах, должен был сосредоточиться на своем прошедшем, настоящем или будущем. Но о прошедшем вспоминать было слишком тяжело. В нем все жгло и палило. А настоящее (его непосредственное окружение) и будущее с грозной неизбежностью того, что должно случиться, если апелляция окажется безуспешной, одинаково отпугивали его пробуждающееся сознание. И произошло то, что неминуемо происходит при пробуждении сознания, омраченного тревогой. От того, что внушает страх или ненависть, но является неотвратимым, оно обращается к тому, что сулит надежду или хотя бы тешит мечтой. Но на что мог надеяться Клайд, о чем мечтать? Благодаря идее, поданной Николсоном, его мог спасти лишь один-единственный поворот судьбы — постановление о пересмотре дела, и если бы новый суд нашел возможным оправдать его, он мог бы уехать куда-нибудь подальше — в Австралию, Африку или Мексику и там, под другим именем, отказавшись от честолюбивых притязаний на беспечную светскую жизнь, которая еще так недавно влекла его, зажить совсем по-иному, тихо и скромно. Но путь к этим обнадеживающим мечтам преграждал грозный призрак — возможный отказ апелляционного суда направить дело на новое рассмотрение. Это вполне вероятно — после бриджбургского суда. И тут, как в том сне, когда он, попятившись от клубка змей, натолкнулся на рогатое чудовище, вставало перед ним страшное видение — стул из комнаты в конце коридора. Тот стул! Ремни и ток, от которого опять и опять мигал свет в Доме смерти. Мысль о том, что когда-нибудь придется переступить порог этой комнаты, была для него невыносима. И все-таки вдруг апелляция встретит отказ? Нет! Не надо об этом думать. Но если не об этом, о чем же тогда думать? Этот вопрос и мучил Клайда, когда появился преподобный Данкен Мак-Миллан и стал призывать его обратиться прямо к творцу всего живого с мольбой, которая (как он уверял) не могла остаться без ответа. И вот как просто разрешался этот вопрос! — «Дано вам познать мир божий», — настаивал Мак-Миллан словами апостола Павла и затем, приводя отдельные фразы из посланий к коринфянам, галатам, ефесянам, доказывал, как легко Клайду, — если только он захочет исполнять все его наставления и молиться, — познать «мир божий, который превыше всякого ума», и насладиться им. Ибо мир этот с ним и вокруг него. Надобно лишь искать; сознаться в слабостях и заблуждениях души своей и принести покаяние. «Просите, и дастся вам; ищите и обрящете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий обретает, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» — Так, сосредоточенно и вдохновенно, повторял он святые слова. И все же перед Клайдом неизменно стоял пример его отца и матери. Чего они добились в жизни? Не очень-то им помогли молитвы. Вот и здесь он пока не замечал, чтобы молитва помогла его товарищам по заключению, хотя большинство из них усердно слушало молитвы и увещания католического священника, раввина, пастора, каждый день поочередно посещавших тюрьму. Все равно, в назначенный срок каждый шел на смерть — кто с жалобами, кто с протестом, кто обезумев, как Кутроне, кто равнодушно. Что касается Клайда, то он до сих пор не обращал никакого внимания на священников. Чушь? Фантазии! А почему? Этого он не мог бы сказать. Но вот преподобный Данкен Мак-Миллан. Его ясный, кроткий взгляд. Его мелодичный голос. Его вера. Она и трогала и привлекала Клайда. А может быть… может быть? Он так одинок, так несчастен, так нуждается в помощи. И разве неправда (настолько уже успело сказаться влияние поучений Мак-Миллана), что если б он вел более добропорядочную жизнь, — больше прислушивался к словам и наставлениям матери, не ходил бы в тот публичный дом в Канзас-Сити, не преследовал бы своими домогательствами Гортензию Бригс, а позднее Роберту, думал бы только о работе и сбережениях, как, должно быть, большинство людей, — все сложилось бы для него гораздо лучше. Но, с другой стороны, нельзя ведь отрицать, что существуют властные желания и стремления, которые так трудно побороть и вместе с тем нельзя заставить замолчать. Это тоже побуждало его задуматься. Но ведь вот многих других людей, — хотя бы его мать, дядю, двоюродного брата, этого священника, — по-видимому, не тревожат подобные чувства. Впрочем, иногда ему приходило в голову, что, быть может, и им знакомы те же страсти, но, обладая большей нравственной и духовной силой, они легче с ними справляются. Быть может, он просто давал слишком много воли этим мыслям и чувствам, видимо, так считают его мать, и Мак-Миллан, и те, чьи речи ему пришлось слышать со времени ареста. Что же это все означает? Есть ли бог? Вмешивается ли он в дела и поступки людей, как утверждает мистер Мак-Миллан? Верно ли, что в тяжкую минуту ты можешь обратиться к нему или к какой-то иной всемогущей силе и просить о помощи, даже если ты прежде никогда не верил? А помощь так нужна, когда ты одинок и покинут и находишься во власти закона — закона, а не людей, потому что все эти люди вокруг тебя только слуги закона. Но захочет ли эта таинственная сила помочь? Существует ли она, слышит ли людские молитвы? Преподобный Мак-Миллан утверждает, что да. «Говорит он: забыл бог; закрыл лицо свое. Но бог не забыл. Он не закрыл лица». Но так ли это? Можно ли этому верить? Теперь, когда ему грозила смерть, томясь жаждой поддержки хотя бы моральной, если не материальной, Клайд занимался тем, чем занимается всякий при подобных обстоятельствах: искал — и притом самым окольным, извилистым путем, чуть ли не вслепую — признаков существования какой-нибудь, хотя бы сверхъестественной личности или силы, которая могла и захотела бы ему помочь, и уже начинал склоняться — пока еще нетвердо и бессознательно — к приданию человеческих черт и свойств тем силам, которые были ему известны только в формах, подсказываемых религией. «Небеса возглашают славу господу, и твердь являет плоды трудов его». Он вспомнил плакат с этими словами в окне миссии, которой руководила его мать. Вспомнил и другой: «Ибо он есть жизнь твоя и мера дней твоих». И все-таки, даже при внезапном своем расположении к преподобному Данкену Мак-Миллану, неужели он серьезно готов допустить, что какая бы то ни было религия может дать ему избавление от его несчастья? Но время шло, и не реже двух раз в месяц, а то и каждую неделю преподобный Мак-Миллан навещал Клайда в тюрьме, расспрашивал о его самочувствии, выслушивал его жалобы, давал советы, касавшиеся физического и душевного равновесия. И Клайд, боясь лишиться этого участия и этих встреч, все больше и больше поддавался его дружескому влиянию. Высокий дух этого человека. Его чудесный голос. И всегда он находит такие льющиеся в душу слова: «Братья, все мы — чада господни. И неведомо еще, чем мы будем; знаем только, что, когда он придет, будем подобны ему, ибо увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя, так как господь чист». «Узнаем, что пребываем в нем, он же в нас, ибо он уделил нам от духа своего». «Ибо нам есть цена». «По собственной воле зачал он нас словом истины, и мы должны быть как бы первыми плодами среди созданного им. И всякое благо, и всякий совершенный дар дарован свыше и исходит от отца всех светов, который не ведает перемен, ни тени отклонения». «Приблизьтесь к господу, и он приблизится к вам». Порой Клайд склонен был поверить, что, обратясь к этой силе, можно обрести мир и спокойствие, и даже — как знать? — реальную помощь. Так действовали на него настойчивость и целеустремленность преподобного Мак-Миллана. Но вставал вопрос о покаянии и, следовательно, об исповеди. Кому же исповедаться? Преподобному Мак-Миллану, разумеется. Тот как будто чувствовал потребность Клайда излить свою душу перед ним — или кем-нибудь ему подобным, — посланцем божьим, духовным, но облеченным во плоть. Но здесь-то и возникала трудность. Как быть с теми ложными показаниями, которые он давал на суде и на которых была основана вся его апелляция? Отречься от них сейчас, когда апелляционной жалобе уже дан ход? Лучше подождать, посмотреть, к чему приведет апелляция. Ох, как он жалок, лицемерен, изменчив, фальшив! Станет господь бог нянчиться с человеком, который вот так торгуется по мелочам. Нет, нет! Это тоже неправильно. Что подумал бы о нем преподобный Мак-Миллан, если бы мог прочесть его мысли? Но снова в сознании возникал тревожный вопрос о его подлинной виновности — о степени этой виновности. Да, конечно, вначале у него был замысел убить Роберту — сейчас этот замысел казался ему ужасным. Ведь, когда немного рассеялся хаос противоречий и страстей, созданный его неистовым влечением к Сондре, он обрел способность рассуждать, не испытывая той безумной, болезненной одержимости, которая им владела в пору встречи с нею. Те смутные, страшные дни, когда он, помимо своей волн (теперь, после защитительной речи Белнепа, он это хорошо понимал), сгорал от страсти, которая в своих проявлениях напоминала какую-то форму душевной болезни… Прекрасная Сондра! Изумительная Сондра! Какая колдовская сила и огонь были тогда в ее улыбке! Даже сейчас пламя не совсем угасло в нем — оно еще тлеет, наперекор всем страшным событиям, что произошли за это время. И нужно, необходимо отдать ему справедливость: никогда, ни при каких обстоятельствах не возникла бы у него такая страшная мысль или намерение — убить человека, девушку, да еще такую, как Роберта, если б не эта страсть, овладевшая им, подобно наваждению. Но не захотели же в Бриджбурге посчитаться с этим доводом. Захочет ли апелляционный суд? Наверно, не захочет. А между тем разве это неправда? Разве он в самом деле кругом виноват? Может ли преподобный Мак-Миллан или кто другой, услышав от него подробный рассказ обо всем, дать ответ на этот вопрос? Ему хотелось завести разговор с преподобным Мак-Милланом — признаться во всем, чтобы раз навсегда все стало ясно. Ведь пусть люди не знают этого, но бог знает, — замыслив злодеяние ради Сондры, он в конце концов не сумел его совершить. А на суде об этом не было речи, потому что ложная основа, избранная для защиты, не позволяла тогда раскрыть всю истину, а тут очень важное смягчающее обстоятельство, — сумеет ли преподобный Мак-Миллан это понять? Джефсон настоял на том, чтобы он солгал. Но разве от этого правда перестала быть правдой? Вспоминая теперь свой дикий, жестокий замысел, Клайд ясно видел в нем такие моменты, такие запутанные и противоречивые обстоятельства, которые нельзя было просто взять и сбросить со счета. Самых серьезных было два: во-первых, когда он завез Роберту в дальнюю, безлюдную бухту на том озере и вдруг почувствовал, что не в состоянии совершить задуманное, его охватила такая жгучая и бессильная злоба на самого себя, что он испугал ее и тем самым заставил встать и сделать движение к нему. И тогда он случайно ударил ее, и таким образом все-таки выходит, что он в какой-то мере повинен в этом ударе — так ведь? — ударе, который в этом смысле оказался преступным. Может быть. Что скажет на это преподобный Мак-Миллан? И второе: раз от этого удара она в конце концов упала в воду — значит, он виноват в ее падении. Его теперь больше всего смущала мысль о его реальной, фактической вине в совершившемся несчастье. Правда, Оберуолцер на суде сказал (когда речь шла о том, как он уплыл от нее), что если она упала в воду нечаянно, то нежелание помочь ей еще не является преступлением с его стороны, но сам он теперь, рассматривая это в связи со всем своим прежним отношением к Роберте, приходил к мысли, что все равно преступление было. Разве бог — или Мак-Миллан — не рассудит так же? Совершенно верно указал на процессе Мейсон — ведь он вполне мог ее спасти. И спас бы, без всякого сомнения, если бы это случилось с Сондрой или с тою же Робертой, но прошлым летом. А кроме того, страх, что она потащит его с собою под воду, — недостойный страх! (Обо всем этом он думал и спорил с самим собой по ночам, после того как Мак-Миллан стал побуждать его покаяться и примириться с богом.) Да, в этом он должен себе сознаться. Будь на месте Роберты Сондра, он тотчас же бросился бы спасать ее. А значит, он должен будет признать это и вслух, если решит покаяться перед Мак-Милланом или перед кем совершаются подобные покаяния… может быть даже, они приносятся публично? Но ведь такое покаяние, если на него решиться, наверняка приведет к его окончательному и безвозвратному осуждению. А разве он хочет признать себя виновным и умереть? Нет, нет, лучше подождать еще немного, хотя бы до решения апелляционного суда. Зачем рисковать? Ведь бог все равно знает правду. А он горько, очень горько обо всем сожалеет. Он теперь хорошо понимает, как все это ужасно, сколько горя и несчастья, не говоря уже о смерти Роберты, он посеял кругом… Но… но жизнь так хороша… Ах, если бы только вырваться! Если бы только уйти отсюда и никогда больше не знать, не чувствовать, не вспоминать кошмара, который сейчас нависает над ним! Медленно сгущаются сумерки. Медленно наступает рассвет. Долгая ночь! Эти вздохи… Эти стоны! Пытка эта длится день и ночь, так что порой кажется: вот-вот он сойдет с ума; и, наверно, сошел бы, если бы не Мак-Миллан, который все больше и больше привязывается к нему и так умеет обласкать, утешить, ободрить. Как хорошо было бы как-нибудь сесть с ним рядом, здесь или в другом месте, и рассказать ему все, и от него услышать, виновен ли и насколько виновен, — и если виновен, то чтобы Мак-Миллан помолился за него! Иногда Клайд ясно чувствовал, что заступнические молитвы его матери и преподобного Данкена Мак-Миллана будут иметь больший успех у этого их бога, чем его собственные. Он еще не мог молиться. И, слушая порою мягкий, мелодичный голос Мак-Миллана, несущий к нему из-за решетки слова молитвы или посланий к галатам, коринфянам, фессалоникийцам, он думал, что нужно рассказать этому человеку все — и как можно скорей. Но дни шли, а он упорно хранил молчание, так что преподобный Данкен стал уже терять надежду когда-либо склонить его к покаянию и спасению души, как вдруг через полтора месяца пришло письмо, вернее, записка, от Сондры. Оно было получено через канцелярию начальника и передано Клайду преподобным Престоном Гилфордом, протестантским духовником тюрьмы. Подпись отсутствовала, но бумага была хорошая, дорогая. Согласно тюремным правилам, письмо распечатали и прочли. Но в содержании его начальник и преподобный Гилфорд не усмотрели ничего, кроме сочувствия и укора, а так как, кроме того, было совершенно очевидно, что автор не кто иной, как неоднократно упоминавшаяся на суде мисс X, то после должного размышления решено было, что Клайду можно прочесть письмо — и даже следует прочесть. Это может послужить ему полезным уроком. «Пути беззаконных…» А потому как-то под вечер — дело было осенью, сменившей долгое томительное лето, и уже шел к концу год пребывания Клайда в тюрьме — ему принесли это письмо. Он взял его в руки. И хотя оно было написано на машинке и не имело ни даты, ни обратного адреса (только почтовый штемпель был нью-йоркский), он мгновенно почувствовал, что это от Сондры. И сразу же разволновался — даже рука, державшая конверт, слегка задрожала. Потом прочел строчки, которые много дней после этого перечитывал без конца: «Клайд! Эти строки пишутся для того, чтобы вы не думали, будто та, которая была вам дорога когда-то, совсем вас забыла. Она тоже много выстрадала. И хотя она никогда не доймет, как вы могли сделать то, что сделали, все же и сейчас, хотя вы с ней никогда больше не увидитесь, она жалеет вас и желает вам свободы и счастья». Без подписи — без единого следа ее руки. Она побоялась подписать свое имя и внутренне уже настолько отдалилась от него, что не захотела даже сообщить, где она теперь. Нью-Йорк? Но письмо могло быть написано где угодно и только отправлено из Нью-Йорка. И он никогда не узнает… никогда не узнает… даже если умрет в этих стенах, что легко может случиться. Рухнула его последняя надежда, последний проблеск его мечты. Конец! Так бывает, когда ночь гасит последнюю слабую полоску света над горизонтом. Неясный розоватый отблеск — и затем полный мрак. Он присел на койку. Полосатая ткань его жалкой одежды и серые войлочные туфли привлекли его взгляд. Уголовный преступник. Эти полосы. И туфли. И камера. И смутная угроза впереди, о которой всегда одинаково страшно думать. И теперь — это письмо. Вот и кончился его чудесный сон! И ради этого он так отчаянно стремился освободиться от Роберты — готов был даже убить ее. Ради этого! Этого! Он повертел в руках письмо, потом руки его опустились. Где она теперь? В кого влюблена? За год ее чувства могли измениться. Может быть, у нее это было лишь легкое увлечение. А страшные вести о нем, вероятно, разбили всякое чувство к нему. Она свободна. Она хороша… богата. И, наверно, кто-нибудь другой… Он встал и прошелся до двери камеры, чтобы заглушить растущую боль. Напротив, в камере, которую раньше занимал китаец, теперь сидел негр Уош Хиггинс. Говорили, что он зарезал в ресторане официанта, который отказался ему подавать и еще оскорбил вдобавок. А рядом сидел молодой еврей. Он убил владельца ювелирного магазина с целью грабежа. Но здесь, в ожидании казни, он все время был в подавленном, угнетенном состоянии — сидел целыми днями на койке, обхватив голову руками, и молчал. Клайд из своей камеры видел их обоих. Еврей сидел, как всегда, уронив голову на руки. А негр лежал на койке, закинув ногу на ногу, курил и пел: Вот большое колесо катится — бац! Вот большое колесо катится — бац! Вот большое колесо катится — бац! Прямо на-а меня! Клайд отвернулся, не в силах спастись от собственных мыслей. Впереди казнь! Он должен умереть! А это письмо — знак, что и с Сондрой тоже все кончено. Ясно. Это — прощание. «Хотя вы с ней никогда больше не увидитесь…» Он бросился ничком на койку — не плакать, просто отдохнуть, он так устал. Ликург. Двенадцатое озеро. Смех… Поцелуи… Улыбки. Все, чего он жаждал прошлой осенью. И вот — год спустя… Но тут раздался голос молодого еврея. Когда молчание становилось нестерпимым для его истерзанных нервов, он начинал бормотать нараспев что-то вроде молитвы, но так, что это надрывало душу. Многие из заключенных пытались протестовать. Но сейчас его причитания пришлись как нельзя более кстати. — Я был злым. Я грешил. Я лгал. О-о-о! Я нарушал слово. В сердце моем гнездился порок. Я был заодно с теми, кто творил дурные дела. О-о-о! Я воровал. Я лицемерил. Я был жесток. О-о-о! Из другого конца откликнулся Большой Том Руни, осужденный за убийство некоего Тайса (тот отбил у него какую-то девицу из уголовного мира): — Послушай, бога ради! Тебе нелегко, верно. Но ведь и мне не легче. Ради бога, перестань! Клайд сидел на своей, койке, и мысли его кружились в такт причитаниям еврея, безмолвно вторя им: «Я был злым. Я грешил. Я лгал. О-о-о! Я нарушал слово. В сердце моем гнездился порок. Я был заодно с теми, кто творил дурные дела. О-о-о! Я лицемерил. Я был жесток. Я замышлял убийство. О-о-о! А ради чего? Ради пустой, несбыточной мечты. О-о-о! О-о-о!» Когда час спустя тюремщик поставил ужин на полку дверного окошка, Клайд не шевельнулся. Ужинать! И вернувшийся через полчаса тюремщик нашел поднос на том же месте нетронутым, как и у еврея напротив, и унес его, не сказав ни слова. Тюремщики знали, что, когда на обитателей этих клеток находит тоска, они не могут есть. А случалось, что даже самим тюремщикам не шел кусок в горло.Глава 99
Когда два дня спустя явился Мак-Миллан, Клайд все еще был угнетен и подавлен; это не укрылось от Мак-Миллана, и он захотел узнать причину. В их последние встречи Клайд своим поведением дал ему право думать, что хотя не все его поучения воспринимаются так горячо, как хотелось бы, но все же Клайд мало-помалу начинает проникаться теми религиозными идеями, которые он пытался ему внушить. Казалось, он сумел довести до сознания Клайда мысль, что не следует предаваться унынию и отчаянию. Как! Разве путь к благодати господней не открыт для вас? Тот, кто ищет и находит господа, — а кто ищет, тот находит, — не ведает печали, но лишь радость. «Узнаем, что пребывали в нем, он же в нас, ибо он уделил нам от духа своего». Таков был смысл всех его поучений и цитат, и вот наконец через две недели после письма Сондры, все еще находясь под тем тяжелым впечатлением, которое это письмо на него произвело, Клайд попросил Мак-Миллана похлопотать у начальника тюрьмы, чтобы им разрешили уединиться в какой-нибудь другой камере, подальше от этой части тюрьмы, где, казалось Клайду, самые стены пропитаны были его тяжелыми мыслями, и там он, Клайд, хочет поговорить с ним и просить его совета. По-видимому, сказал он Мак-Миллану, он не в состоянии сам решить, как велика его ответственность за все то, что произошло в его жизни в последнее время, и именно потому не может обрести тот душевный покой, о котором так много говорит преподобный Мак-Миллан. Может быть… может быть, он заблуждается в чем-то основном. Одним словом, он хотел бы обсудить с Мак-Милланом все подробности преступления, в котором его обвиняют, и выяснить, нет ли ошибки в том, как он сам ко всему этому относится. У него возникли кое-какие сомнения. И Мак-Миллан, сильно взволнованный, — это ли не духовная победа, это ли не вознаграждение за веру и благочестие! — поспешил к начальнику тюрьмы, который рад был содействовать такой благой цели и тут же разрешил ему свидание с Клайдом в одной из камер старого Дома смерти на неограниченное время и без надзирателя, только с охраной в коридоре. И Клайд рассказал Мак-Миллану всю историю своих отношений с Робертой и Сондрой. О том, что было известно из судебных отчетов, он только упомянул, не касаясь, впрочем аргументов защиты, истории с душевным переломом и прочего; затем более подробно остановился на роковом эпизоде в лодке. Он хотел бы узнать мнение преподобного Мак-Миллана: виновен ли он, раз у него был такой замысел, и, следовательно, вначале было такое намерение? А тут еще его безумное увлечение Сондрой, все мечты о будущем, связанные с нею… значит, его действительно нужно считать убийцей? Он задает этот вопрос, потому что вот так на самом деле все и было — именно так, а не как выходило из показаний на суде. Это все неправда, будто у него в душе произошел перелом. Адвокаты придумали это для его защиты, потому что считали его невиновным и думали, что так легче всего будет добиться оправдания. Но это неправда. И насчет того, что он думал и чувствовал там в лодке, перед тем как Роберта встала и шагнула к нему, и после, — тут он тоже сказал неправду, верней, не всю правду. Тот случайный удар, который он нанес… очень хотелось бы разобраться во всем, что связано с этим ударом, потому что это мешает его попыткам религиозного просветления, его желанию с чистой совестью предстать перед творцом. (Он не упомянул, что до сих пор это его мало беспокоило.) Но сам он еще не вполне разобрался во всем этом. Даже сейчас тут для него много сомнительного и непонятного. На суде он сказал, что не чувствовал к ней злобы, что у него в душе произошел перелом. Но никакого перелома не было. На самом деле за минуту перед тем, как она встала, чтоб подойти к нему, им овладело какое-то странное, смутное состояние — что-то похожее на транс или столбняк, так ему теперь кажется, — а чем оно было вызвано, он и сам не знает. Тогда — нет, потом — он думал, что, может быть, ему вдруг стало жаль Роберту или стыдно за свою жестокость. А с другой стороны, была и злоба, и даже ненависть, ибо она хотела заставить его сделать то, чего он не хотел. И третье — правда, в этом он не уверен (он столько думал об этом, а все-таки до сих пор не уверен) — был еще, может быть, и страх перед последствиями такого злодеяния, хотя сейчас ему кажется, будто в ту минуту он думал не о последствиях, а лишь о своей неспособности совершить задуманное и злился на себя за эту слабость. Но когда он ударил ее, — нечаянно ударил в то мгновение, как она встала с места и шагнула к нему, — может быть, тут бессознательно сказалась и злоба на нее за то, что она хочет к нему подойти. И может быть — наверняка он этого и сейчас не знает, — но, может быть, именно потому удар получился такой сильный. Так, во всяком случае, он подумал потом. Но верно и то, что, вставая, он хотел ей помочь, несмотря на свою ненависть. В ту минуту он пожалел, что ударил ее. Однако, когда лодка перевернулась и они оба очутились в воде и она стала захлебываться, у него сразу мелькнула мысль: «Пусть». Потому что это был случай от нее избавиться. Да, у него была такая мысль. Но не надо забывать, — и это особенно подчеркивали мистер Белнеп и мистер Джефсон, — что все это время он был одержим страстью к мисс Х и что это была главная причина всего случившегося. Так вот, если принять во внимание все, как было, с начала до конца, — и то, что хоть он ударил Роберту и нечаянно, а все-таки со зла, так как был зол на нее за ее упрямство — да, был, — и то, что потом он не стал спасать ее (он сам сейчас честно старается это подчеркнуть), — думает ли преподобный Мак-Миллан, что он все-таки повинен в убийстве, что он совершил смертный грех, кровавое преступление и по совести и по закону заслуживает казни? Да? Он хотел бы знать это ради собственного спокойствия, чтоб можно было хотя бы молиться. Преподобный Мак-Миллан слушал все это, глубоко потрясенный, — еще никогда в жизни он не стоял перед необходимостью решать такую сложную и необычную задачу, а кроме того, доверие и уважение Клайда налагало на него огромную ответственность. Он сидел не шевелясь, погруженный в глубокое, печальное, почти болезненное раздумье: слишком серьезным и важным был ответ, которого от него ждали, ответ, в котором Клайд надеялся обрести земной и душевный покой. А преподобный Мак-Миллан был слишком ошеломлен, чтобы так быстро найти нужный ответ. — Клайд, значит, до того как вы сели с нею в лодку, ваше настроение не изменилось, — я хочу сказать, ваше намерение ее… ее… Лицо у преподобного Мак-Миллана осунулось и побледнело. Глаза смотрели печально. Он только что выслушал грустную и страшную повесть — нехорошую, жестокую повесть, полную мучительного самобичевания. Этот мальчик… значит, в самом деле… Страстная, беспокойная душа, которая взбунтовалась, потому что ей не хватало многого, чего никогда не жаждал преподобный Мак-Миллан. И, взбунтовавшись, впала в смертный грех и была осуждена погибнуть. Сердце преподобного Мак-Миллана сжималось от жалости, а в мыслях царило смятение. — Нет, не изменилось, — ответил Клайд. — И вы сердились на себя, говорите вы, за то, что не находили в себе сил свершить задуманное? — Да, это тоже было. Но я и жалел Роберту, понимаете? А может быть, еще и боялся. Я сам сейчас точно не знаю. Может быть, да, а может быть, и нет. Преподобный Мак-Миллан покачал головой. Так странно все это! Так неопределенно! Так дурно! И все же… — Но в то же время, если я вас верно понял, вы сердились и на нее за то, что она довела вас до такого положения? — Да. — Заставила вас разрешать столь мучительную задачу? — Да. Мак-Миллан огорченно поцокал языком. — И тогда вам захотелось ее ударить? — Да, захотелось. — Но вы не смогли? — Не смог. — Да будет благословенна милость божия. Но в этом ударе, который вы ей нанесли, — нечаянно, как вы говорите, — сказалась все же ваша злоба против нее. И потому удар вышел такой… такой сильный. Вы не хотели, чтобы она к вам приближалась? — Не хотел. По крайней мере так мне теперь кажется. Я не могу сказать с уверенностью. Может быть, я был немножко не в себе. То есть… ну, очень взволнован… почти болен. Я… я… Клайд сидел перед ним, в тюремной полосатой одежде, остриженный под машинку, и силился честно и беспристрастно представить все, как оно было на самом деле, ужасаясь, что ему не удается даже для самого себя точно установить, виновен он или не виновен. Да или нет? И преподобный Мак-Миллан, сам крайне взволнованный, мог только пробормотать: — «Широки врата и просторен путь, ведущий к погибели». — Потом прибавил: — Но вы встали, чтобы прийти ей на помощь? — Да, потом я встал. Я хотел подхватить ее, когда увидел, что она падает. Оттого и опрокинулась лодка. — Это верно, что вы хотели ее подхватить? — Не знаю. В ту минуту, по-моему, хотел. Во всяком случае, я пожалел, что так вышло. — Но можете ли вы сказать точно и определенно, как перед богом, что вы пожалели об этом и что в ту минуту вы хотели ее спасти? — Знаете, все произошло так быстро, — начал Клайд нервно, почти с отчаянием в голосе, — я просто боюсь утверждать. Нет, я не уверен, что пожалел очень сильно. Нет. Честное слово, я теперь сам не знаю. Иногда мне кажется: да, пожалуй, а иногда я сомневаюсь. Но когда ома исчезла под водой, а я выплыл на берег, тут я пожалел… немножко. Но была и радость — понимаете, ведь я почувствовал, что свободен… и страх тоже… Вы понимаете… — Да, да, я понимаю. Вы думали об этой мисс X. Но раньше, когда вы только увидели, что она тонет… — Тогда — нет. — Вам не хотелось спасти ее? — Нет. — Вам не было тяжело? Не было стыдно? — Стыдно — да, пожалуй. Может быть, и тяжело тоже. Я понимал, что все это ужасно. Я это чувствовал. Но все-таки… понимаете… — Да, да, конечно. Эта мисс X. Вам хотелось вырваться. — Да… но главное, я испугался, и мне не хотелось помогать ей. — Понятно, понятно… Наверно, вы думали о том, что, если она утонет, вы сможете уйти к мисс X. Об этом вы думали? Губы преподобного Мак-Миллана плотно и скорбно сжались. — Да. — Сын мой! Сын мой! Значит, вы совершили убийство в сердце своем! — Да, вы правы, — задумчиво сказал Клайд. — Я уже и сам пришел к мысли, что это было именно так. Преподобный Мак-Миллан помедлил, потом, чтобы укрепить свой дух для непосильной задачи, стал молиться — безмолвно, про себя: «Отче наш, иже еси на небеси — да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя — яко на небеси и на земли». Потом вышел из своей неподвижности. — Послушайте меня, Клайд. Нет Греха слишком большого для милосердия божьего. Я твердо знаю это. Он сына своего послал смертью искупить зло мира. Он простит и ваш грех, если только вы покаетесь. Но этот замысел! Этот ваш поступок! Многое вам надо замаливать, сын мой, очень многое! Ибо в глазах господа, боюсь я… да… Но все же… Я буду молиться о том, чтобы господь просветил меня и наставил. То, что вы рассказали мне, странно и страшно. На это можно смотреть по-разному. Может быть… но, впрочем, молитесь. Молитесь здесь, со мною, о ниспослании света очам нашим. Он склонил голову и несколько минут сидел молча, и Клайд, тоже молча, а сомнении и нерешительности, сидел рядом с ним. Потом Мак-Миллан начал: — О господи, не отринь меня в ярости твоей и не покарай во гневе твоем. Помилуй меня, господи, ибо я слаб… Исцели меня в моем стыде и печали, ибо душа моя изранена и темна пред очами твоими. Изгони нечестие из сердца моего. Осени меня, господи, праведностью твоею. Изгони нечестие из сердца моего и забудь о нем. Клайд сидел, опустив голову, — тихо, совсем тихо. Теперь и он был потрясен и полон скорби. Да, видно, он совершил большой грех. Большой, тяжкий грех! И все же… Но тут преподобный Мак-Миллан умолк и встал, и Клайд тоже поспешил встать. — Мне пора, — сказал Мак-Миллан. — Я должен помолиться… подумать. Все, что вы рассказали, смутило и взволновало меня. Видит бог, это так. А вы — вы, сын мой, ступайте к себе и продолжайте молиться в одиночестве. Кайтесь. На коленях просите господа о прощении, и он услышит вас. Да, да. Услышит. А завтра — или как только я почувствую себя готовым — я опять приду. Но не отчаивайтесь. Молитесь и молитесь, ибо только в молитве и покаянии — спасение. Уповайте на могущество того, кто весь мир держит в деснице своей. Его могущество и милосердие сулят вам прощение и мир душе вашей. Истинно так. Он постучал в решетку кольцом ключа, который держал в руке, и надзиратель, шагавший по коридору, сейчас же подошел. Преподобный Мак-Миллан проводил Клайда до его камеры и постоял, покуда его вновь запирали в эту тесную клетку; потом простился и вышел. Все, что он услышал сегодня, тяжелым камнем лежало у него на душе. А Клайд остался со своими размышлениями обо всем сказанном и о том, как это отразится на Мак-Миллане и на нем самом. Его новый друг был так подавлен. С каким ужасом и болью он выслушал все это! Неужели же он, Клайд, действительно и безоговорочно виновен? Действительно и безоговорочно заслуживает смерти за свою вину? Может ли быть, чтобы преподобный Мак-Миллан решил именно так? Несмотря на всю свою кротость и милосердие? Прошла неделя, — за эту неделю преподобный Мак-Миллан, под впечатлением видимого раскаяния Клайда и всех осложняющих и смягчающих обстоятельств, на которые тот ему указывал, еще и еще раз тщательно продумал нравственную сторону дела, — и вот он вновь у двери его; камеры. Но он пришел лишь для того, чтобы сказать, что, даже со всей снисходительностью рассматривая факты, как их наконец правдиво обрисовал Клайд, он не может снять с Клайда вину — непосредственную или косвенную. Он замышлял убить Роберту — не так ли? Он не пытался спасти ее, когда мог это сделать. Он желал ей смерти и не испытывал потом сожаления. В ударе, который опрокинул лодку, нашла выход его злоба. И даже к чувствам, помешавшим ему нанести этот удар сознательно, тоже примешивалась злоба. То, что он замыслил свое преступление, пленившись красотой и высоким положением мисс X, и что Роберта, после их беззаконной связи, настаивала, чтобы он женился на ней, — не может служить ему оправданием; напротив, это лишь новые доказательства его греховности я преступности перед людьми. Грешен он во многом и перед господом. В ту страшную пору он, увы, являл собою лишь сочетание корысти, беззаконных желаний и блуда — всех тех пороков, которые бичевал апостол Павел. И так продолжалось без изменений до самого конца, пока его не арестовали. Он не раскаялся даже на Медвежьем озере, где у него было достаточно времени для размышлений. И, кроме всего, разве не усугублял он свою вину с начала и до конца заведомой и злонамеренной ложью? Истинно так. С другой стороны, без сомнения, послать его наэлектрический стул сейчас, когда он впервые, но так явно обнаружил признаки раскаяния, когда он только-только начал понимать весь ужас содеянного, не значит ли это помножить преступление на преступление, причем преступником в данном случае явилось бы государство? Подобно начальнику тюрьмы и многим другим, Мак-Миллан был противником смертной казни, считая, что разумнее заставлять правонарушителя в той или иной форме служить государству. Но тем не менее он должен был признать, что Клайд — далеко не безвинно осужденный. Сколько он ни думал и как бы ни хотел найти оправдание в своей душе, но разве не был Клайд на самом деле виновен? Напрасно Мак-Миллан указывал Клайду, что его пробудившееся нравственное и духовное самосознание делает его более совершенным, более пригодным для жизни и деятельности, чем прежде. Клайд чувствовал, что он одинок. Не было на свете человека, который бы в него верил. Никого. Ни единого человека, который в его бессвязных и противоречивых действиях перед катастрофой усмотрел бы что-либо, кроме тягчайшего преступления. И все же… все же (наперекор Сондре, и преподобному Мак-Миллану, и всему миру, включая Мейсона, присяжных в Бриджбурге и апелляционный суд в Олбани, если он оставит в силе решение бриджбургских присяжных) в глубине его души жило чувство, что он не так виноват, как всем им, по-видимому, кажется. В конце концов ведь их не мучили, как мучила его Роберта своим упорным стремлением выйти за него замуж и тем испортить ему жизнь. Их не жгла неистребимая страсть к Сондре, к воплощению сказочной мечты. Они не изведали всех мук и унижений его несчастного детства, им не приходилось петь и молиться на улице, сгорая со стыда, когда вся душа, все существо рвалось к иной, лучшей доле. Кто из всех этих людей, включая и его мать, смеет судить его, не зная, какие нравственные, телесные и душевные муки он успел пережить? Даже сейчас, мысленно переживая все это вновь, он так же остро чувствует боль этих страданий. Хотя факты все против него и хотя нет человека, который не считал бы его виновным, что-то в глубине его существа громко протестует против этого, так что даже сам он порой удивляется. Но ведь вот преподобный Мак-Миллан — такой справедливый, хороший и добросердечный человек. Конечно, он лучше, чем сам Клайд, способен видеть и оценить все происшедшее… Так временами твердое сознание своей невиновности сменялось в нем мучительными сомнениями. Ах, эти противоречивые, запутанные, мучительные мысли!! Неужели ему так и не удастся ясно — раз и навсегда — понять все это? Так и не может Клайд найти истинное утешение в привязанности, дружбе и вере такой чистой и любящей души, как преподобный Мак-Миллан, или во всемогущем и всемилостивом боге, чьим посланцем он является. Что же все-таки делать? Где взять слова для молитвы, проникновенной, чистой, смиренной? И, следуя настояниям преподобного Данкена, увидевшего в исповеди Клайда доказательство полного его обращения к богу, он снова листает указанные ему страницы, читает и перечитывает уже хорошо знакомые псалмы, надеясь, что они вдохновят его на раскаяние — залог покоя и твердости духа, которых он так жаждет в эти долгие томительные часы. Но вдохновение не приходит. Так миновало еще четыре месяца. А по истечении этого срока, в январе 19.. года апелляционный суд в составе Кинкэйда, Бриггса, Трумэна и Добшутера, рассмотрев дело (по докладу Дж. Фулхэма, резюмировавшего материалы Белнепа и Джефсона), признал Клайда виновным и постановил оставить в силе приговор суда присяжных округа Катараки и привести таковой в исполнение в один из дней недели, начинающейся двадцать третьего февраля, то есть через полтора месяца. В постановлении говорилось: «Мы учитываем, что обвинение основывается исключительно на косвенных уликах, и единственный очевидец отрицает, что смерть явилась результатом преступления. Но представитель обвинения в соответствии с самыми строгими требованиями, предъявляемыми к этому виду обвинений, весьма тщательно и умело собрал огромный материал в виде косвенных улик и показаний и представил его суду на предмет правильного решения вопроса о виновности подсудимого. Можно было бы считать, что некоторые факты, взятые в отдельности, являются спорными ввиду недостаточности или противоречивости улик и что некоторые обстоятельства допускают толкование в пользу подсудимого. Защита весьма талантливо пыталась отстаивать эту точку зрения. Но, будучи рассмотрены в общей связи, факты представляют собой столь убедительное доказательство виновности, что мы не можем опровергнуть его никаким логическим рассуждением и вынуждены заявить, что приговор не только не находится в противоречии с данными следствия и суда и с теми выводами, которые надлежит из них сделать, но, напротив, полностью таковыми оправдывается. Решение низшей судебной инстанции единогласно подтверждается». Мак-Миллан услышал об этом в Сиракузах и немедленно поспешил к Клайду, чтобы в час официального объявления результатов апелляции быть с ним и духовно поддержать его, ибо он был убежден, что лишь господь — постоянная и вездесущая опора наша в тяжелую минуту — может дать Клайду силы перенести этот удар. Но, к глубокому его облегчению, оказалось, что Клайд еще ни о чем не подозревает, так как в подобных случаях решение объявляли осужденным, только когда прибывало распоряжение о казни. После сердечной и вдохновенной беседы, в которой Мак-Миллан приводил слова Матфея, Павла и Иоанна о бренности мира сего и об истинных радостях будущего, Клайд должен был выслушать от своего друга известие о том, что суд решил дело не в его пользу. Правда, Мак-Миллан тут же упомянул, что он и еще ряд лиц, на которых он рассчитывал повлиять, обратятся с прошением к губернатору штата, но это означало, что, если губернатор не захочет вмешаться, через полтора месяца Клайд умрет. Но наконец эти страшные слова были произнесены, и Мак-Миллан продолжал говорить о вере — о прибежище, которое человек обретает в милосердии и мудрости божией, — а Клайд стоял перед ним, выпрямившись, и взгляд его был твердым и мужественным, как никогда за всю его короткую и бурную жизнь. «Итак, они решили против меня. Значит, все-таки я войду в ту дверь, как многие другие. И для меня опустят занавески перед камерами. И меня поведут в старый Дом смерти и потом по узкому коридору назад, и я, как другие, скажу что-нибудь на прощание, перед тем как войти. А потом и меня не станет». Он словно перебирал в памяти все подробности процедуры — подробности, которые так хорошо были ему знакомы, — только сейчас он впервые переживал их, зная, что все это произойдет с ним самим. Сейчас, уже выслушав роковое известие во всей его грозной и словно гипнотизирующей силе, он не чувствовал себя подавленным и ослабевшим, как ожидал. Напротив, к своему удивлению, он сосредоточенно и внешне спокойно размышлял о том, как теперь поступать, что говорить. Повторить молитву, которую прочитал преподобный Данкен Мак-Миллан. Да, конечно. Даже с радостью. Но все же… В своем мгновенном оцепенении он не заметил, что преподобный Данкен шепчет: — Только не думайте, что это уже конец. В январе приступает к своим обязанностям новый губернатор. Говорят, это очень умный и добрый человек. У меня есть знакомые, которые хорошо знают его, и я рассчитываю отправиться к нему лично, заручившись письмами от людей, которые его знают и которые напишут на основании моих слов. Но по глазам Клайда и по его ответу Мак-Миллан понял, что тот не слушал. — Мать… Надо, чтобы кто-нибудь телеграфировал матери. Ей будет очень тяжело. — И потом: — Наверно, они не согласились, что было неправильно читать те письма полностью, да? А я надеялся, что согласятся. Он думал о Николсоне. — Не беспокойтесь, Клайд, — отвечал измученный, опечаленный Мак-Миллан; ему сейчас больше всего хотелось не говорить, а обнять Клайда, приласкать и утешить его. — Вашей матушке я уже телеграфировал. А что касается самого решения, я сейчас же повидаюсь с вашими адвокатами. И потом, я уже сказал вам, я сам поеду к губернатору. Он из новых людей, вот что важно. И снова он повторил все то, чего Клайд в первый раз не услышал.Глава 100
Место действия — кабинет только что избранного губернатора штата Нью-Йорк, недели через три после того, как Мак-Миллан сообщил Клайду о решении апелляционного суда. После многих предварительных и безуспешных попыток Белнепа и Джефсона добиться замены смертной казни пожизненным заключением (обычная просьба о помиловании, затем ссылка на неправильное истолкование улик, на незаконность оглашения писем Роберты, что, однако, ни к чему не привело, так как губернатор Уотхэм, бывший окружной прокурор и судья из южной части штата, счел своим долгом ответить, что не видит поводов к вмешательству) перед губернатором Уотхэмом предстала миссис Грифитс в сопровождении преподобного Мак-Миллана. Губернатор согласился наконец принять ее, отчасти ввиду широкого общественного интереса к делу Клайда, а отчасти и потому, что движимая своей несокрушимой любовью мать, узнав о решении апелляционного суда, снова поспешила в Оберн и с тех пор настойчиво требовала в письмах и через печать, чтобы он заинтересовался смягчающими обстоятельствами, связанными с падением ее сына, а потом стала добиваться личного свидания с ним, желая изложить собственную точку зрения на дело. Губернатор решил, что вреда от этого не будет. А матери, может быть, станет легче. Изменчивое в своих настроениях общество, — какого бы мнения оно ни придерживалось в том или ином случае, — если верить газетам, склонно было считать Клайда виновным. Но миссис Грифитс после долгих раздумий о Клайде и Роберте, обо всем, что вынес Клайд во время и после суда, и, наконец, о том, что, по словам преподобного Мак-Миллана, он полностью раскаялся в своем грехе и обратился к богу, — сейчас больше, чем когда-либо, была убеждена, что по законам человечности и даже справедливости ему должны хотя бы сохранить жизнь. И вот она стоит перед губернатором, высоким, сдержанным и несколько угрюмым человеком, который едва ли хоть раз в жизни ощущал на себе дыхание тех страстей, что палили Клайда, но, как примерный отец и муж, готов был понять переживания миссис Грифитс. Впрочем, сейчас он нервничал под бременем обязательств, которые налагало на него, с одной стороны, уже сложившееся представление об обстоятельствах дела, а с другой стороны — привычная и неискоренимая приверженность к закону и порядку. Он внимательно прочитал и все материалы, фигурировавшие в апелляционном суде, и последние документы, представленные Белнепом и Джефсоном. Но на каком основании он, Дэвид: Уотхэм, не имея перед собой никаких новых данных, — только попытку иного истолкования уже рассмотренных улик, — рискнет заменить Клайду смертный приговор пожизненным заключением? Ведь уже два суда постановили, что он должен умереть! И когда миссис Грифитс дрожащим голосом стала обстоятельно рассказывать всю историю жизни Клайда с самого начала, — какой он был хороший, никогда не совершал дурных или жестоких поступков вплоть до этого случая (а здесь и сама Роберта не без греха, не говоря уже о мисс X), — губернатор только смотрел на нее с глубоким волнением. Как велика в ней сила материнской любви! Как она страдает сейчас, как твердо верит, что ее сын не повинен в злодеянии, в котором изобличают его факты, неопровержимые для него, Уотхэма, и для всякого другого. — О, дорогой господин губернатор, если вы отнимете жизнь у моего сына теперь, когда он омыл свою душу от прегрешений и готов посвятить себя служению господу, — разве вы этим возместите государству смерть той бедной девушки, чем бы она ни была вызвана? Неужели миллионы граждан штата Нью-Йорк не способны быть милосердными? Неужели вы, их представитель, не можете явить на деле милосердие, которое, наверно, пробудилось в них? Голос ее сорвался… она не могла продолжать. Она отвернулась и беззвучно зарыдала, а Уотхэм растерянно смотрел на нее, с трудом сдерживая охватившее его волнение. Бедная женщина! Такая искренняя и честная, — это сразу видно. Тогда, воспользовавшись минутой, заговорил преподобный Мак-Миллан. С Клайдом произошла большая перемена. Он не берется судить о его прошлой жизни, но со времени своего заключения — за последний год, во всяком случае, — этот юноша научился по-новому понимать жизнь, свой долг, свои обязанности перед богом и людьми. Если б только можно было заменить ему смертную казнь пожизненным заключением… Губернатор, человек добросовестный и вдумчивый, самым внимательным образом слушал Мак-Миллана, который показался ему незаурядной личностью с высокими нравственными идеалами. Он ни на минуту не усомнился, что каждое слово этого человека правдиво — в том единственном понимании правды, которое было ему доступно. — Но скажите, мистер Мак-Миллан, — сумел наконец выговорить губернатор, — вы лично, после вашего длительного общения с ним в тюрьме, смогли бы привести какой-нибудь конкретный факт, не упоминавшийся на суде, который мог бы изменить или опровергнуть значение тех или иных свидетельских показаний? Поймите, мы имеем дело с законом. Я не могу действовать, повинуясь только голосу чувства, в особенности после того, как два разных суда пришли к единогласному решению. Он смотрел прямо в глаза Мак-Миллану, а Мак-Миллан смотрел ему в глаза, бледный и безмолвный, ибо теперь на его плечи легла вся тяжесть решения, от его слова зависело, признают ли Клайда виновным или нет. Но как он может? Разве он не решил уже после должного раздумья над выслушанной им исповедью, что Клайд виновен перед богом и людьми? Так смеет ли он сейчас, милосердия ради, изменить своему глубокому душевному убеждению, заставившему его осудить Клайда? Будет ли это правильно, истинно и бесспорно в глазах господа? И тотчас Мак-Миллан решил, что он, как духовный наставник Клайда, обязан полностью сохранить в его глазах свое духовное превосходство. «Вы соль земли; если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» И он ответил губернатору: — В качестве духовного наставника я интересовался только его духовной жизнью, а не юридической ее стороной. Но что-то в выражении его лица тут же подсказало Уотхэму, что Мак-Миллан, как и все, убежден в виновности Клайда. И он наконец нашел в себе мужество сказать миссис Грифитс: — Пока у меня нет совершенно конкретных и прежде неизвестных данных, которые ставили бы под сомнение законность двух предыдущих решений, я не вправе, миссис Грифитс, что-либо изменить в приговоре. Я глубоко скорблю об этом, скорблю от всего сердца. Но если мы хотим, чтобы люди уважали закон, мы не должны менять основанные на нем решения, не имея на то законных же оснований. Я был бы счастлив, если б мог ответить вам иначе. Поверьте, это не слова. Буду молиться за вас и за вашего сына. Он нажал кнопку. Вошел секретарь. Было ясно, что прием окончен. Миссис Грифитс все еще не могла произнести ни слова, странная уклончивость Мак-Миллана в критическую минуту, когда губернатор прямо задал ему самый важный вопрос — вопрос о виновности Клайда, совершенно сразила ее. Что же теперь? Куда броситься? У кого искать помощи? У бога — и только у бога. Господь вознаградит ее и Клайда за горести, за телесную гибель в этом мире. Поглощенная такими мыслями, она продолжала тихо плакать; преподобный Мак-Миллан бережно взял ее под руку и повел из кабинета. Когда она ушла, губернатор повернулся к секретарю: — Никогда мне не приходилось исполнять более печальной обязанности. Это не изгладится из моей памяти до конца дней моих. Он отвернулся и стал смотреть в окно, на снежный февральский пейзаж. И после этого Клайду осталось жить всего две недели. Об этом последнем и окончательном решении сообщил ему тот же Мак-Миллан, но в присутствии его матери, по лицу которой Клайд все понял еще прежде, чем Мак-Миллан начал говорить, и она снова повторила ему, что он должен искать прибежища в боге, спасителе нашем. И вот он ходит взад и вперед по тесной камере, потому что покой и неподвижность для него теперь невыносимы. Сейчас, когда окончательно и бесповоротно решено, что он умрет через несколько дней, у него появилась потребность еще раз вспомнить всю свою неудачную жизнь. Юность. Канзас-Сити. Чикаго. Ликург. Роберта и Сондра. Как быстро проносилось перед его умственным взором все, что было связано с ними обеими. Немногие, короткие, яркие мгновения. Его желание продлить их — властное желание, всецело захватившее его тогда в Ликурге, после встречи с Сондрой, — и потом это, это! А теперь и этому приходит конец — и этому тоже… Да ведь он еще почти и не жил: уже два года он томится в давящих стенах тюрьмы. Но и здесь ему осталось лишь четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь зыбких, лихорадочных дней. Они уходят… уходят… Но жизнь… жизнь… как же так: вдруг не станет жизни — красоты дней, солнца и дождя, работы, любви, энергии, желаний? Нет, нет, он не хочет умирать. Не хочет. Зачем все эти разговоры матери и Мак-Миллана о том, что нужно уповать на милосердие божие и думать только о боге, когда главное — это сегодня, сейчас?! А Мак-Миллан утверждает, что только во Христе и в загробной жизни истинный мир. Да, да… но все же, разве он не мог сказать губернатору… разве он не мог ему сказать, что Клайд не виновен или не совсем виновен, — только в ту минуту так взглянуть на это, — и тогда… тогда… быть может, губернатор заменил бы ему казнь пожизненным заключением… быть может… Он спросил у матери (умолчав о своей исповеди), заступился ли преподобный Мак-Миллан за него перед губернатором, и она ответила, что он говорил об искреннем смирении Клайда перед господом, но не сказал, что он не виновен. И Клайд думал: как странно, что Мак-Миллан не сумел заставить себя сделать для него больше! Как грустно! Как ужасно! И неужели никто никогда не поймет, не оценит его человеческих страстей — пусть дурных, пусть слишком человеческих, но ведь и многих других они терзают так же, как и его. Но вот что хуже всего: миссис Грифитс знала, что преподобный Мак-Миллан сказал (вернее — чего он не сумел сказать) в ответ на последний вопрос губернатора Уотхэма, — то же он повторил позднее и ей в ответ на такой же вопрос, и ее потрясла мысль, что, быть может, в конце концов Клайд действительно виновен, как она вначале опасалась. И потому она как-то сказала: — Клайд, если есть что-нибудь такое, в чем ты не признался, ты должен признаться прежде, чем наступит конец. — Я признался богу и мистеру Мак-Миллану, мама. Разве этого не довольно? — Нет, Клайд. Ты сказал всему миру, что не виновен. Если это не так, ты должен сказать правду. — Но если совесть моя говорит мне, что я прав, разве этого не довольно? — Нет, Клайд, если господь говорит иначе, — взволнованно ответила миссис Грифитс, испытывая жестокие душевные муки. Но он на этот раз предпочел прекратить разговор. Как мог он обсуждать с матерью или со всем миром странные, смутные оттенки чувств и событий, которые остались для него неясными даже после исповеди и дальнейших бесед с Мак-Милланом? Об этом нечего было и думать. Сын отказался ей довериться! Миссис Грифитс и как служительница религии и как мать жестоко страдала от этого удара. Родной сын на пороге смерти не пожелал сказать ей то, что он, видимо, уже сказал Мак-Миллану. Неужели господь вечно будет испытывать ее? И все же Мак-Миллан сказал, что, по его мнению, каковы бы ни были прегрешения Клайда в прошлом, ныне он покаялся и стал чист перед всевышним, и поистине этот юноша готов предстать пред лицо создателя; вспоминая эти слова Мак-Миллана, она несколько успокаивалась. Господь велик и милостив. В лоне его обретешь мир. Что значит смерть и что значит жизнь для того, чье сердце и дух пребывают в мире с господом? Ничто! Еще немного лет (очень немного!) — и она и Эйса, а затем и брат и сестры Клайда соединятся с ним, и все его земные невзгоды будут забыты. Но если нет примирения с господом, нет полного и прекрасного сознания его близости, любви, заботы и милосердия… Минутами она трепетала в религиозном экстазе, уже не вполне нормальном, как видел и чувствовал Клайд. И в то же время по ее молитвам и тревоге о его душевном благополучии он видел, как мало, в сущности, она всегда понимала его подлинные мысли и стремления. Тогда, в Канзас-Сити, он мечтал о многом, а было у него так мало. Вещи — просто вещи — так много значили для него, ему было так горько, что его водят по улицам, выставляя напоказ перед другими детьми, — и у многих из них есть все те вещи, которых он так жаждал… и тогда он был бы счастлив оказаться где угодно, лишь бы не быть там, на улице! Ох, эта жизнь миссионеров, которая казалась матери чудесной, а ему такой тоскливой! Но, может быть, нехорошо, что он так думал? Возможно ли? Пожалуй, бог теперь разгневается на него за это? Быть может, мать была права в своих мыслях о нем. Бесспорно, он больше преуспел бы, если бы следовал ее советам. Но как странно: мать полна любви и жалости к нему, она стремится помочь ему со всей силой своего сурового самопожертвования — и, однако, даже теперь, в свои последние часы, когда он больше всего на свете жаждет сочувствия и более чем сочувствия — подлинного и глубокого понимания, — даже теперь он не может ей довериться и сказать ей, родной матери, как все это случилось. Их словно разделяет глухая стена, неодолимая преграда взаимного непонимания — в этом все дело. Никогда ей не понять, как он жаждал комфорта и роскоши, красоты, любви — той любви, что неотделима от пышности, удовольствий, богатства, видного положения в обществе, — не понять его страстных, неодолимых желаний и стремлений. Она не может этого понять. Она сочла бы, что все это очень дурно — грех, себялюбие. А в его роковых поступках в отношении Роберты и Сондры увидела бы разврат, прелюбодеяние, даже убийство. И она упорно ждет от него проявлений глубокого и полного раскаяния, тогда как даже теперь, несмотря на все, что он говорил преподобному Мак-Миллану и ей, его чувства не такие… не совсем такие, как ни горячо он желает найти прибежище в боге, а еще лучше, если бы это было возможно, в любящем и всепонимающем сердце матери. Если бы это было возможно… Господи, как все это ужасно! Он так одинок, даже в эти последние немногие, неуловимо проносящиеся дни и часы (они проходят так быстро…), одинок, ибо хотя мать и преподобный Мак-Миллан с ним, но ни та, ни другой его не понимают. Но главное (и это хуже всего), он заперт здесь, и его не выпустят. Он давно уже понял, что это система — страшная, раз навсегда установленная. Железная. Она действует автоматически, как машина, без помощи людей или человеческих сердец. Эти тюремщики! Они тоже железные — со всей своей верностью букве закона, со своими расспросами, неискренними любезностями, готовностью оказать мелкую услугу, вывести арестованных на прогулку или отвести их в баню… это — только машины, автоматы, они толкают тебя куда-то… держат в этих стенах… они одинаково готовы и услужить и убить в случае сопротивления… но главное — они толкают, толкают, непрестанно толкают — туда, к той маленькой двери… туда, откуда нет спасения… нет спасения… вперед и вперед… пока, наконец, не втолкнут в ту дверь… и не будет возврата! Не будет возврата! Каждый раз, подумав об этом, он вставал и начинал ходить по камере. Потом обычно возвращался все к той же головоломной задаче: к своей вине. Он пытался думать о Роберте и о зле, которое причинил ей, читал Библию и даже, лежа ничком на железной койке, снова и снова твердил: «Боже, дай мир моей душе! Боже, просвети меня! Боже, дай мне силы противиться всем дурным мыслям, которых я не должен был бы допускать! Я знаю, совесть моя не вполне чиста. О нет! Я знаю, я замышлял зло. Да, да, я знаю это. Я признаю. Но неужели я в самом деле должен умереть? Неужели неоткуда ждать помощи? Неужели ты не поможешь мне, господи? Неужели не явишь свое могущество, как говорит об этом мать? Не повелишь губернатору в последнюю минуту заменить смертную казнь пожизненным заключением? Не повелишь преподобному Мак-Миллану переменить свое мнение и пойти к губернатору? И моя мать могла бы пойти… Я отгоню все грешные мысли. Я стану другим. Да, да, я стану совсем другим, если только ты спасешь меня. Не дай мне умереть так рано. Не дай умереть теперь. Я буду молиться, буду. Дай мне силы понимать и верить… и молиться. Дай, господи!» Так думал и молился Клайд в эти короткие, страшные дни — с тех пор, как мать и преподобный Мак-Миллан вернулись после решающего разговора с губернатором, и до своего последнего часа… Душа его была полна ужаса перед близкой и верной смертью и неведомой загробной жизнью, и этот ужас, вместе с верой и волнением матери и преподобного Мак-Миллана (он навещал Клайда каждый день, говорил ему о милосердии божьем и убеждал в необходимости всецело уповать на господа), заставили Клайда наконец решить, что он не только должен обрести веру, но уже обрел ее и с нею полный и нерушимый душевный мир. В таком состоянии по просьбе матери и преподобного Мак-Миллана, который непосредственно помогал ему, давал указания и тут же, при нем и с его согласия изменил некоторые его выражения, Клайд составил следующее письмо, обращенное ко всему миру и в особенности к молодым людям его возраста: «Вступая в тень Долины Смерти, я хочу сделать все возможное, чтобы устранить всякое сомнение в том, что я обрел Иисуса Христа, спасителя моего и неизменного друга. Ныне я сожалею лишь о том, что, имея возможность трудиться во имя его, не отдал свою жизнь на служение ему. Если бы только я мог силою слов своих обратить к нему молодых людей, я счел бы это величайшим из благ, мне дарованных. Но теперь я могу сказать только одно: «Я знаю, в кого уверовал, и верую, что в его власти сохранить залог мой на оный день» (цитата, хорошо ему известная благодаря Мак-Миллану). Если бы молодые люди нашей страны могли постичь сладость и отраду жизни во Христе, я знаю, они сделали бы все, что только в их силах, чтобы стать истинными, деятельными христианами, и старались бы жить, как повелел Христос. Я не оставил ни единой преграды, которая помешала бы мне предстать перед господом. Знаю, что грехи мои отпущены, ибо я был честен и откровенен с моим духовным наставником, и господу ведома вся правда обо мне. Задача моя выполнена, победа одержана. Клайд Грифитс». Написав это письмо и вручая его Мак-Миллану, Клайд и сам удивился: так мало походили эти его утверждения на мятежное настроение, которое владело им еще совсем недавно. А Мак-Миллан, обрадованный и торжествующий, воскликнул: — Да, Клайд, поистине победа одержана! «В оный день будешь со мною в раю». Он обещал вам это. Душою и телом вы принадлежите ему. Да будет вовеки благословенно имя его! Он был так возбужден своим торжеством, что взял руки Клайда в свои, поцеловал их и затем заключил Клайда в объятия. — Сын мой, сын мой, в тебе моя отрада. Истинно, в тебе господь явил правду свою и спасительную силу свою. Я это вижу. Я это чувствую. В твоем обращении к миру поистине прозвучит голос самого господа! И он спрятал письмо: порешили, что оно будет опубликовано после смерти Клайда, не раньше. Но, даже написав такое письмо, Клайд все же минутами сомневался. Верно ли, что он спасен? За такой короткий срок? Может ли он столь твердо и безоговорочно уповать на бога, как он заявил в своем письме? Верно ли это? Жизнь так непостижима. Будущее так темно. Правда ли, что есть жизнь за гробом, что есть бог, который встретит его с любовью, как уверяют мать и преподобный Мак-Миллан? Правда ли это? А тем временем за два дня до его смерти миссис Грифитс в порыве безмерного ужаса и отчаяния телеграфировала достопочтенному Дэвиду Уотхэму: «Можете ли вы сказать перед богом, что у вас нет сомнений в виновности Клайда? Прошу, телеграфируйте. Иначе кровь его падет на вашу голову. Его мать». И секретарь губернатора Роберт Феслер ответил телеграммой: «Губернатор Уотхэм не считает для себя возможным отменить решение апелляционного суда». И, наконец, последний день… последний час… Клайда переводят в камеру старого Дома смерти и после бритья и ванны выдают ему черные брюки, белую рубашку без воротничка (потом ее должны были открыть на шее), новые войлочные туфли и серые носки. В этом наряде ему разрешено еще раз увидеться с матерью и Мак-Милланом, — с шести часов вечера накануне казни и до четырех часов последнего утра им позволено оставаться подле Клайда, беседуя с ним о господней любви и милосердии. А в четыре часа появился начальник тюрьмы и сказал, что миссис Грифитс пора удалиться, оставив Клайда на попечение Мак-Миллана. (Печальная необходимость, требуемая законом, сказал он.) И затем — последнее прощание Клайда с матерью; в эти минуты, то и дело замолкая, чувствуя, как больно сжимается сердце, он все же с усилием выговорил: — Мама, ты должна верить, что я умираю покорно и спокойно. Смерть мне не страшна. Бог услышал мои молитвы. Он даровал силы и мир моей душе. Но про себя он прибавил: «Так ли?» И миссис Грифитс воскликнула: — Сын мой! Сын мой! Я знаю, знаю, я верю в это! Я знаю, что искупитель мой жив и не оставит тебя. Пусть мы умираем, но будем жить вечно! — Она стояла, подняв глаза к небу, пронзенная страданием. И вдруг обернулась, схватила Клайда в объятия и долго и крепко прижимала его к груди, шепча: — Сынок… мальчик мой… Голос ее оборвался, она задыхалась… казалось, вся ее сила перешла к нему, и наконец она почувствовала, что должна оставить его, чтобы не упасть… Пошатнувшись, она быстро обернулась к начальнику тюрьмы, который ждал, чтобы отвести ее к обернским друзьям Мак-Миллана. И потом, в темноте этого зимнего утра, — последние минуты: пришли тюремщики, сделали надрез на правой штанине, чтобы можно было приложить к ноге металлическую пластинку, потом пошли задергивать занавески перед камерами. — Кажется, пора. Смелее, сын мой! — это сказал, увидев приближающихся надзирателей, преподобный Мак-Миллан; вместе с ним теперь при Клайде находился и преподобный Гилфорд. И вот Клайд поднялся с койки, на которой он сидел рядом с Мак-Милланом, слушая чтение 14-й, 15-й и 16-й глав Евангелия от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в бога и в меня веруйте». И потом — последний путь; преподобный Мак-Миллан по правую руку, преподобный Гилфорд по левую, а надзиратели — впереди и позади Клайда. Но взамен обычных молитв преподобный Мак-Миллан провозгласил: — Смиритесь под всемогущей десницей господа, дабы он мог вас вознести, когда настанет час. Возложите на него все заботы свои, ибо он печется о вас. Да будет мир в душе вашей. Мудры и праведны пути того, кто через Иисуса Христа, сына своего, после кратких страданий наших призвал нас к вечной славе своей. «Аз есмь путь, и истина, и жизнь. Лишь через меня придете к отцу небесному». Но, когда Клайд, направляясь к двери, за которой ждал его электрический стул, пересекал коридор Дома смерти, послышались голоса: — Прощай, Клайд! И у Клайда хватило земных мыслей и сил, чтобы отозваться: — Прощайте все! Но голос его прозвучал так странно и слабо, так издалека, что Клайду и самому показалось, будто это крикнул не он, а кто-то другой, идущий рядом с ним. И ноги его, казалось, переступали как-то автоматически. И он слышал знакомое шарканье мягких туфель, пока его вели все дальше и дальше к той двери. Вот она перед ним… вот она распахнулась. И вот наконец электрический стул, который он так часто видел во сне… которого так боялся… к которому его теперь заставляют идти. Его толкают к этому стулу… на него… вперед… вперед… через эту дверь, которая распахивается, чтобы впустить его, и так быстро захлопывается… а за нею остается вся земная жизнь, какую он успел изведать.Четверть часа спустя преподобный Мак-Миллан с совершенно серым, измученным лицом, несколько нетвердой походкой человека, разбитого нравственно и физически, вышел из холодных дверей тюрьмы. А как немощен, как жалок и пасмурно-сер был этот зимний день… совсем как он сам… Мертв! Всего лишь несколько минут назад Клайд так напряженно и все же доверчиво шел с ним рядом, а теперь он мертв. Закон! Тюрьмы — вот такие, как эта. Сильные и злые люди уже глумятся там, где Клайд молился. А его исповедь? Верно ли он решил, ведомый мудростью господа, насколько господь приобщил его к своей мудрости. Верно ли? Глаза Клайда! Преподобный Мак-Миллан и сам едва не упал без чувств подле Клайда, когда тому надели на голову шлем… и дан был ток… он весь дрожал, его мутило… кое-как, с чьей-то помощью он выбрался из этой комнаты — он, на кого так надеялся Клайд. А он просил бога даровать ему силы, просил… Он побрел по безмолвной улице, но ему пришлось остановиться, прислонясь к дереву, безлистному в эту зимнюю пору, такому голому и унылому… Глаза Клайда! Его взгляд в ту минуту, когда он бессильно опустился на этот страшный стул… тревожный взгляд, с мольбой и изумлением, как подумалось Мак-Миллану, устремленный на него и на всех, кто был вокруг. Правильно ли он поступил? Было ли решение, принятое им в разговоре с губернатором Уотхэмом, действительно здравым, справедливым и милосердным? Не следовало ли тогда ответить губернатору, что может быть… может быть… Клайд был игрушкой тех, других влияний?.. Неужели душе его больше не знать покоя? «Я знаю, искупитель мой жив и сохранит его на оный день». И еще долгие часы Мак-Миллан бродил по городу, прежде чем собрался с силами пойти к матери Клайда. А она в доме преподобного Фрэнсиса Голта и его супруги — деятелей Армии спасения в Оберне — с половины пятого утра на коленях молилась о душе своего сына; мысленно она все еще пыталась узреть его обретшим покой в объятиях создателя. «Я знаю, в кого уверовала», — молилась она.
Воспоминание
Летний вечер, сумерки. И торговый центр Сан-Франциско — высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле. И на широкой улице к югу от Маркет-стрит, теперь почти затихшей после шумного дня, — группа в пять человек: мужчина лет шестидесяти, коротенький, толстый, но с застывшим лицом и поблекшими, тусклыми глазами мертвеца — весьма невзрачная и усталая личность; густая грива седых волос выбивается из-под старой круглой фетровой шляпы; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, всего лет на пять моложе, повыше, не такая полная, но крепко сбитая, с белыми как снег волосами, вся в черном с головы до пят — черное платье, шляпа, башмаки. Ее широкое лицо выразительнее, чем лицо мужа, но глубоко изборождено следами невзгод и страданий. Рядом, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет семи-восьми, не больше, бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный; как видно, он очень привязан к пожилой женщине и старается держаться поближе к ней. Вслед за ними, но чуть поодаль идут увядшая, бесцветная женщина лет двадцати семи и другая — лет пятидесяти, очень похожие друг на друга — очевидно, мать и дочь. Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома тихоокеанского лета. Дойдя до угла Маркет-стрит, большой и оживленной улицы, по которой в противоположных направлениях снует множество автомобилей и трамваев, эти люди задержались, ожидая знака полисмена на перекрестке. — Стань поближе ко мне, Рассел, — сказала старшая женщина. — Дай-ка руку. — Мне кажется, движение здесь возрастает с каждым днем, — тихо и без выражения произнес ее муж. Дребезжали трамвайные звонки, фыркали и гудели автомобили. Но маленькая группа казалась равнодушной ко всему и только старалась поскорее перейти улицу. — Уличные проповедники, — заметил, проходя мимо, банковский клерк своей приятельнице-кассирше. — Да, я встречаю их здесь чуть не каждую среду. — Ну, по-моему, совсем не дело таскать такого малыша по улицам. Он слишком мал для этого, правда, Элла? — По-моему, тоже. Не хотела бы я, чтобы мой братишка занимался такими вещами. Что это за жизнь для ребенка? — поддержала Элла. Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась и осмотрелась, словно достигнув своей цели; мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. Тем временем его жена взяла из рук внука Библию и книжечки псалмов, передала Библию и одну из книжечек мужу, другую поставила на пюпитр, еще одну оставила себе и дала по книжечке всем остальным. Муж огляделся рассеянно, но все же с напускной уверенностью и провозгласил: — Сегодня мы начнем с двести семьдесят шестого псалма: «Сколь крепка твердыня». Мисс Шуф, прошу вас. И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, — судьба ничем не одарила ее, — уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам и перелистав ноты, заиграла названный псалом; все запели. Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив маленькую группу, так удобно расположившуюся близ главной улицы города, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. И пока те пели, безличная и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на эту невзрачную горсточку чудаков, возвысивших свой голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. Этот седой, жалкий и никчемный старик в поношенном мешковатом синем костюме, эта сильная, но грубоватая и усталая женщина с совершенно белыми волосами, этот свежий, чистый, неиспорченный и наивный мальчуган… он-то здесь зачем? И еще эта бесцветная и тощая старая дева и ее мать, такая же тощая, с растерянным взглядом… Из всей этой группы в одной только седовласой женщине прохожие могли почувствовать силу и решительность, которые, как бы ни были они слепы и ложно направлены, способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, — и многие из тех, кто замешкался здесь, глядя на нее, говорили себе, каждый на свой лад: «Да, вот кто, при всех своих недостатках, наверно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, непреклонная вера в мудрость и милосердие той высшей, могущественной и бдительной силы, которую она прославляла, запечатлелась в каждой черте ее лица, в каждом движении. Когда псалом был пропет, жена прочитала длинную молитву; потом муж произнес проповедь, а остальные засвидетельствовали все, что было содеяно господом для каждого из них. Затем книжки были собраны, орган закрыт, муж перекинул его на ремне через плечо, и они пустились в обратный путь. — Прекрасный вечер. Кажется, публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заговорил муж. — О да, — подхватила женщина, игравшая на органе. — По меньшей мере одиннадцать человек взяли брошюрки. И один старый джентльмен спросил меня, где помещается миссия и когда у нас бывает служба. — Хвала господу! — заключил старик. И вот наконец сама миссия — «Звезда упования. Миссия диссидентов. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера; по воскресеньям в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне другая: «Бог есть любовь», — а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?» — Дай монетку, бабушка! Я сбегаю на угол за мороженым! — попросил мальчик. — Хорошо, Рассел. Только сейчас же возвращайся, слышишь? — Ну конечно, бабушка! Не беспокойся! Он схватил десятицентовую монетку, которую бабушка извлекла из глубочайшего кармана юбки, и бегом пустился к мороженщику. Ее дорогой мальчик. Свет и радость ее на склоне лет. Она должна быть добра к нему, снисходительна, не слишком строга, как, может быть, она была к… С нежностью и чуть рассеянно смотрела она вслед убегавшему мальчику. «Ради него». И вся маленькая группа, кроме Рассела, вошла в невзрачную желтую дверь и скрылась.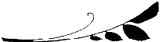
ОПЛОТ (роман)
В центре романа «Оплот» три поколения религиозной квакерской семьи. Религия не только не уберегает главного героя и его семью от соблазнов нового времени, но и противопоставляет ему собственных детей, толкает их на путь лжи и преступлений.
Пролог
Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей.— Я, Солон Барнс, перед богом и людьми беру в жены Бенишию Уоллин и клянусь, с помощью господней, быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть. — Я, Бенишия Уоллин, перед богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь, с помощью господней, быть ему верной и любящей женою, пока не разлучит нас смерть. Эти торжественные слова прозвучали однажды ясным июньским утром в глубокой тишине молитвенного дома квакеров в Дакле, штат Пенсильвания, где собралось около ста человек — родственники и друзья вступающих в брак. Дело происходило в конце прошлого века, но каждый, кто знаком с историей и традициями квакерства, сразу заметил бы, что многое изменилось с того времени, когда члены этой высоконравственной организации еще строго соблюдали обычаи и верования, на которых зиждется ее единство и сила, и не только носили традиционную квакерскую одежду, но и держали себя со степенным достоинством, как подобает тому, кто всегда помнит о Внутреннем свете, озаряющем все людские мысли и дела. Этот Внутренний свет, по-видимому, означает для каждого квакера постоянное присутствие в человеке животворящего божественного духа, которое и знаменует собою единение бога с его земными детьми. Некоторые из собравшихся костюмом и всем обликом сравнительно мало отличались от своих недавних предков, но больше было таких, чья внешность казалась вполне современной, хотя до существующей моды им еще было очень далеко. Мужчины постарше брили бороду, и большинство из них сохраняло дедовскую простоту в одежде: стоячий воротничок, длинный сюртук без карманов, широкополая круглая черная шляпа. Костюм пожилых женщин состоял из широкой, доходящей до щиколоток, серой юбки и серого же лифа с белой косынкой на шее; его дополняли простые тупоносые башмаки без каблуков, строгая черная тальма или шаль и традиционный квакерский чепец без всяких украшений, завязанный под самым подбородком узенькими, точно шнурок, серыми ленточками. Здесь не было нарядов в нашемпонимании этого слова, но не было и каких-либо жалких или неряшливых подражаний им. Зато среди представителей более молодого поколения многие, и мужчины и женщины, настолько поддались духу новшеств и перемен, за последние годы проникшему в квакерскую среду, что почти перестали заботиться о внешних признаках внутренней, духовной красоты. Они по-прежнему обращались к богу — или к Внутреннему свету, что для них было одно и то же — за поддержкой и руководством, хотя в наш сугубо материалистический век этому и не придается уже значения. Но в то же время кое у кого из них появилась упорная тяга к житейскому благополучию, к положению в обществе, выработалась практическая сметка, каким-то образом уживавшаяся с высокими стремлениями, некогда вдохновлявшими их или во всяком случае их отцов. И многие, в частности, уже пришли к мысли, что вовсе незачем придерживаться старомодного однообразия в костюме; это лишь создает неудобства и отнюдь не вытекает из учения основателя квакерства, непоколебимого в своей вере Джорджа Фокса. У него нет нигде упоминаний о какой-то обязательной квакерской форме одежды. Он требовал простоты и скромности, и только. Вот этот практицизм в конечном счете и подточил основы Общества друзей, отдалил его от тех возвышенных побуждений, того стремления к совершенству в не слишком совершенном мире, которое на первых порах так привлекало правительства и народы. Жизнь есть не что иное, как совокупность явлений, находящихся в довольно приблизительном и неустойчивом равновесии, и первые квакеры с прекрасной и трогательной решимостью стремились к тому, чтобы сделать это равновесие полным, безупречным и непоколебимым. Вот что писал Джордж Фокс:
«Теперь, когда господь своей непостижимой властью открыл мне, что божественный свет Христа озаряет души всех людей, я вижу этот свет в каждом человеке. И те, кто уверовал в него, спаслись от осуждения и обрели радость жизни и стали истинными детьми божьими; а те, кто не уверовал и возненавидел, осуждены навеки, хотя и зовут себя христианами».Но идеал Джорджа Фокса пришел в столкновение с повседневной действительностью нашего мира, мира страстей и лишений, тягот и неравенства. Мелкие душонки, ограниченные умы сразу же повели бесплодную борьбу против учения Фокса, зато мечтатели и поэты из Общества друзей восторженно ухватились за него. Дни Джорджа Фокса напоминали времена Франциска Ассизского в Италии. Немало было таких людей, которые стремились претворить идеал в жизнь. Но потом пришел искуситель. Под зноем палящим и бременем жизненных тягот многие изнемогли и предпочли более далекий путь. Видимость, буква стала для них всем, дух — ничем. И сейчас в этом скромном молитвенном доме с выбеленными стенами, со строгим темным фасадом, перед которым зеленела на солнце июньская травка, уже явственно чувствовалось оскудение высокого идеала. Блюстители традиций сидели на скамьях, ничем не нарушая чинного церковного благолепия, время от времени вставали и произносили трогательные речи о «свете, ведущем нас к совершенству», а потом возвращались к своим житейским делам и заботам, один — на принадлежащую ему корабельную верфь, другой — в свою лавку, третий — в банк или контору компании, четвертый — еще куда-нибудь, и кроме мелких, чисто внешних штрихов, ничто в их жизни не напоминало того, о чем мечтал и во что верил Фокс. На людях такой человек почти не отличался от других. Только у себя дома или в молитвенном собрании он еще соблюдал традиционное квакерское обращение на «ты» ко всем без различия возраста и положения. Давно были позабыты старые обычаи — например, вызывавший в свое время немало протестов обычай не снимать шляпы перед кем бы то ни было из людей, в том числе и перед представителями земной власти. Что касается танцев, пения, музыки, театральных зрелищ, нарядов, книг и картин вольного или просто занимательного содержания, а также чрезмерного накопления богатств — то на словах все это по-прежнему безоговорочно осуждалось. Однако на деле были исключения и тут. Среди квакеров насчитывалось довольно много удачливых дельцов, в домах у которых можно было увидеть и книги, и гравюры, и другие произведения искусства, и даже услышать музыку. Тем не менее и они, хотя бы по своему образу мыслей, оставались сторонниками простоты в обращении и умеренности в привычках. Итак, здесь, в этом молитвенном доме, где солидные и зажиточные родственники невесты сидели рядом с более скромной родней жениха, были представлены все разнообразные оттенки отношения к квакерским взглядам и обычаям, встречающиеся в том кругу, где прошла юность Солона Барнса.
Часть I
Глава 1
Родители Солона Барнса, Руфус и Ханна Барнс, были людьми далеко не богатыми. В ту пору, когда Солон появился на свет, Руфус Барнс сочетал в своем лице мелкого фермера и средней руки торговца. Его ферма, расположенная у самой окраины городка Сегукит, штат Мэн, была невелика, но все же овощи и фрукты в хозяйстве всегда имелись свои, сено и овес шли на продажу, и благодаря этому Руфусу в конце концов удалось купить небольшую лавку в центре города, торговавшую конским фуражом. Прежний владелец порядком запустил торговлю, но Руфус, как человек благочестивый и нравственный, пользовался доброй славой у окрестных квакеров, да и не только у них, и потому дела его в скором времени пошли так хорошо, что он смог послать и Солона, своего первенца, и Синтию, его единственную сестру, в начальную школу местной квакерской общины, где они и проучились, первый до десяти, вторая до восьми лет. Тут, однако, встал вопрос о том, где им учиться дальше. Случилось так, что в это время умер дядя Солона, Энтони Кимбер. Он был женат на сестре Ханны Барнс, но давно уже переехал вместе с женой и двумя дочерьми в Трентон, штат Нью-Джерси, где занялся производством фаянсовой посуды. И вот Феба Кимбер стала просить Руфуса, отца Солона, чтобы он приехал в Трентон и помог ей распорядиться полученным наследством. Муж оставил солидный капитал, вложенный в гончарные предприятия Трентона, кроме того, дом и закладные на несколько земельных участков в быстро застраивающемся районе между Трентоном и Филадельфией. Обе сестры, миссис Кимбер и миссис Барнс, с детства нежно любили друг друга, и каждая встреча всегда была для них настоящим праздником, да и сам Руфус по-родственному тепло относился и к Кимберу и к его жене. Поэтому он сразу согласился выполнить просьбу Фебы, хоть это было связано для него и с хлопотами и даже с немалыми расходами — пришлось ведь нанять человека, одного из сегукитских квакеров, чтобы тот хозяйничал в лавке в его отсутствие. Однако поездка обернулась для Руфуса приятнее и даже выгоднее, чем можно было ожидать. Выяснилось, что покойный свояк, человек весьма энергичный и способный, сумел так приумножить капитал, вложенный им в гончарные предприятия Трентона, что теперь вдовья доля его жены исчислялась в сорок пять тысяч долларов. Кроме того, он ссужал окрестным фермерам деньги под заклад земельных участков, расположенных между Трентоном и Филадельфией; а так как население в округе быстро росло, то и земля неуклонно повышалась в цене. Срок одной такой закладной как раз недавно истек, и заложенный участок, довольно значительный по своим размерам, должен был перейти в собственность Кимбера, но смерть помешала ему закончить все необходимые формальности, и теперь Руфус, искренне заботясь об интересах свояченицы и ее детей и зная ее беспомощность в вопросах практических, решил довести дело до конца. Землю, рассуждал он, можно будет сдать в аренду или продать, а на вырученные деньги и на доход от других капиталовложений Феба с детьми сможет жить в своем трентонском доме, как жила до сих пор. Этой родственной услуге суждено было сыграть в жизни Руфуса и его семьи не меньшую, если не большую роль, чем в жизни миссис Кимбер и ее детей. Правда, Феба Кимбер понимала, что в смысле коммерческих способностей Руфусу далеко до ее покойного мужа, но она уважала его за чистоту нравственных и религиозных принципов; а Ханна Барнс всегда была ей родною не только по крови, но и по душевному складу, и потому она всячески стремилась укрепить близость между обеими семьями. Руфуса все знали как человека честного и благожелательно относящегося к людям. Своим небольшим достатком он был обязан собственному трудолюбию и добропорядочности. И Феба давно уже убедилась, — и по письмам и когда приезжала гостить в Сегукит, — что заботы о хозяйстве и о торговле не мешали Руфусу исправно выполнять свой религиозный долг; мало того — со всеми соседями и собратьями по квакерской общине он старался жить в добром согласии и за свою готовность каждому услужить и помочь пользовался расположением всех, кто его знал. Недаром в сорок лет он уже был одним из старейшин сегукитской общины и в День первый (так у квакеров именуется воскресенье) восседал на возвышении лицом к молящимся среди прочих старейшин и духовных руководителей общины, мужчин и женщин. В доме Барнсов, как и во многих домах той округи, никогда не угасал пламень веры. Дети, Солон и Синтия Барнс, ни разу не сели за стол без благодарственной молитвы, и день в семье всегда начинался с того, что все домашние собирались вместе и миссис Барнс читала главу из Библии, после чего на несколько минут водворялось торжественное молчание. Эти минуты наложили отпечаток на всю последующую жизнь Солона и его сестры. Правда, в то время они были еще слишком юны, чтобы чувствовать что-либо, кроме безмолвного изумления. Но весь житейский и религиозный уклад, с детства привычный Солону и Синтии, настолько вошел в их плоть и кровь, что и тот и другая до конца своих дней сохранили незыблемую веру в животворящий божественный дух, пребывающий в каждом из нас, определяющий все дела и поступки людские, — тот божественный дух, или Внутренний свет, к которому можно обратиться в час невзгоды, сомнения или душевной тревоги и обрести помощь и утешение. Итак. Феба Кимбер встретила в Руфусе Барнсе надежного и добросовестного советчика. Он не только дал ей ценные наставления относительно того, как распорядиться доставшимся ей имуществом и как им управлять в дальнейшем, но даже выразил готовность и впредь помогать ей советом в случаях каких-нибудь затруднений и, хоть ему и трудно отрываться от собственных дел, приезжать для этого из Сегукита. Однажды в разговоре Феба сказала ему: — Руфус, а что, если тебе продать ферму и лавку в Сегуките и переселиться сюда? Ты сам видишь, как мне здесь трудно одной с моими девочками. Энтони всегда умел наставлять и направлять их — да и меня тоже. Вот мне и пришло в голову: если б вы с Ханной жили не в Сегуките, а в Трентоне, это было бы для меня большим подспорьем, да и я кое в чем, пожалуй, могла бы вам помочь. Ты знаешь, денег у меня на всех хватит, особенно, если ты будешь управлять моим имуществом. Конечно, там, в Сегуките, у тебя своя ферма и торговля, но ведь у меня, как ты знаешь, кроме этого дома, есть еще большая усадьба близ Даклы — закладная на нее просрочена, и Энтони как раз собирался закрепить дом и участок за собой. Ты мог бы поселиться там и вести самостоятельное хозяйство — если, разумеется, вы с Ханной не предпочтете жить здесь, вместе с нами. Вот я и подумала: может, это будет даже на пользу тебе, Ханне и детям, особенно Солону, когда он подрастет, а уж о своих девочках я и не говорю. Трентон, как ты сам мог убедиться, становится процветающим городом. И пусть молитвенный дом в Сегуките не хуже нашего, но если говорить, к примеру, о воспитании детей, то Ханна найдет здесь или в Филадельфии школы, о которых она могла только мечтать, живя на сегукитской ферме. Кроме того, потеряв такого мужа, как Энтони, я едва ли соберусь когда-нибудь снова замуж, а потому я очень желала бы, чтобы ты взял на себя попечение и о моих делах, — надеюсь, это не окажется для тебя чересчур обременительным или невыгодным. Я со своей стороны готова устроить все так, как ты найдешь лучше для себя, Ханны и детей, — ведь ты же знаешь, как я вас всех люблю. Руфус молчал, сосредоточенно глядя на миссис Кимбер. Перед ним была женщина еще довольно молодая и привлекательная, и многое в ее предложении заставляло призадуматься. Наряду с выгодами он предвидел и осложнения. Например, перспектива соединить обе семьи под одной крышей; при всей привязанности Фебы и Ханны друг к другу, не стали бы они со временем тяготиться подобной близостью. Не так просто наладить мирную и счастливую жизнь в доме, где четверо детей с утра до вечера вместе. Пойдут ссоры; кому из матерей разбирать их? И как находить обидчика? Нет. Это не годится. И Руфус попытался как можно убедительнее объяснить Фебе, что, прежде чем дать ей ответ, он должен съездить в Сегукит и посоветоваться с Ханной. В другом варианте — поселиться в усадьбе близ Даклы и привести ее в порядок — тоже были свои сложности. Он знал эту усадьбу: шестьдесят акров земли и большой двухэтажный дом в тени раскидистых кедров, с красивой флорентийской кровлей, нависающей над ступенями входа. Когда-то имение принадлежало семейству Торнбро, чье имя было известно всем в округе еще до Гражданской войны. В свое время у хозяев водились деньги; об этом говорил узорный переплет высокой чугунной ограды, которая шла вокруг усадьбы. Слева (если стать лицом к дому) в ограде были широкие ворота. И полукруглая подъездная аллея вела к парадному входу; массивная дубовая дверь была украшена искусною резьбой, изображавшей букеты цветов. Вообще в доме было много резного дерева, и резьба по большей части превосходно сохранилась — Руфус отметил это, еще когда осматривал имение в качестве доверенного миссис Кимбер, — но там, где она попортилась или стерлась, восстановление должно было стоить больших денег. В парадных комнатах с лепных плафонов спускались хрустальные люстры, в которых когда-то горели свечи; теперь все это нужно было заменить электричеством. Печи тоже требовалось разобрать и вместо них провести центральное отопление. Нынешний владелец дома был простой фермер, не лентяй, но человек довольно неотесанный; имение досталось ему по наследству. Он жил там с женой и пятерыми детьми, но не чаял разделаться с ним и перебраться в город, потому что, несмотря на все труды, доходов едва хватало, чтобы прокормить семейство, а ведь нужно было еще платить налоги и проценты по той самой закладной, которая попала в руки Энтони Кимбера.Глава 2
Однако дом и его внутренняя отделка были делом второстепенным, и, осматривая усадьбу Торнбро, Руфус только мельком отметил все это. Гораздо больший интерес представлял по своим размерам и состоянию сад, а главное — примыкающие к нему шестьдесят акров пахотной земли. Земля была отличная, и Руфус опытным глазом сразу оценил это; применяя правильную систему севооборота, здесь можно было снимать большие урожаи любой культуры, имеющей сбыт на местном рынке, — обстоятельство, которое он не преминет выгодно использовать, если поселится в Торнбро и найдет хорошего работника себе в помощь. Что же касается дома и сада, он решил, не откладывая, рассказать Фебе, как обстоит дело, и выяснить, нельзя ли употребить часть свободных средств, оставленных Кимбером, на необходимый ремонт и перестройки. Он рассуждал так: если они с Ханной согласятся переехать в Торнбро, надо сделать дом мало-мальски пригодным для жилья. Если же, как он предполагал раньше, решено будет продать имение целиком, к выгоде Фебы и ее детей, — то тем более нужно привести его в такой вид, чтобы оно могло понравиться покупателю, а на это требуются деньги. Руфус еще раз снизу доверху обошел старый дом, затем посоветовался кое с кем из местных агентов по продаже недвижимости, разузнал подробности о других старых домах такого же типа, перестроенных и проданных или же продолжающих служить загородным жильем для состоятельных филадельфийских семейств, и сообщил Фебе следующее: из Торнбро, несомненно, можно извлечь выгоду, но для этого нужно привести там все в годный для существования вид, что потребует немалых затрат. Впрочем, по его мнению, эти затраты оправдаются. Если же, продолжал он, Феба в самом деле хочет, чтобы он с семьей переселился в этот чужой для них край, то вот план, который потребует наименьших расходов и будет самым приятным для него и Ханны: они поселятся в Торнбро, и Руфус станет хозяйничать на ферме с помощью хорошего работника, которого он постарается подыскать. Придется отремонтировать часть комнат — чтобы только им уместиться вчетвером с детьми, — а когда ферма начнет давать приличный доход, можно будет подумать и о капитальном ремонте всего дома. В ответ на это Феба еще раз повторила, что он может распоряжаться в Торнбро, как ему угодно: все равно она уже решила отказать усадьбу по завещанию им с Ханной. Что же до денег, то она с радостью даст ему столько, сколько потребуется для ремонта и восстановления, потому что у нее одно только желание — чтобы они жили поближе к ней. Была и еще причина, побудившая Руфуса согласиться на переезд, хотя в то время он никому не говорил об этом. Странное, неведомое прежде поэтическое чувство влекло его к этому уголку земли, в котором нашлось так много близкого его сердцу. Позади дома стоял старый, полуразвалившийся каретный сарай, в котором и сейчас могли бы свободно разместиться три экипажа. К нему примыкала конюшня на шесть лошадей с решетчатыми яслями и просторным сеновалом под крышей. Вдоль задней стены шли красивые застекленные ящики, где когда-то хранилась, должно быть, парадная сбруя. За конюшней имелась пристройка, служившая хлевом; теперь она пустовала, но было время, когда с заходом солнца сюда загоняли коров, пасшихся весь день на ближнем лугу. Когда Руфус впервые заглянул в каретный сарай, он увидел там целую груду железного лома — старые ржавые плуги, бороны, лопаты, грабли, топоры. В конюшне были заняты только два стойла, в них стояла пара убогих кляч, на которых весной пахали, а зимой ездили в город. Но почему-то это зрелище упадка и запустения не подействовало на Руфуса так удручающе, как следовало бы ожидать. Было во всем этом что-то, и сейчас рождавшее видения иной, лучшей жизни, не похожей на ту, к которой он привык с детства, — какие-то далекие отзвуки легкого, беспечного существования, барского уклада, ни разу не изведанного ни им, ни его женой или родными. Теперь, когда он уже почувствовал дыхание прошлого, которым веяло от этих мест, его неприятно поразил вид грязной свинарни, где лежала свинья с выводком поросят, — да еще рядом со старинным колодцем, откуда в былые времена брали питьевую воду. К югу от дома посреди пустыря, который некогда, наверное, был лужайкой, радовавшей глаз своей зеленью, торчали остатки полусгнивших столбов, расположенных двойным кольцом. Когда-то они поддерживали, должно быть, лиственный свод огромной беседки, — такие еще сохранились в других богатых имениях округи. Виноградные лозы или плющ, вероятно, заплетали просветы между столбами, образуя прохладную тень. Эта беседка наводила на мысли о том, что до сих пор было чуждо всему жизненному укладу Руфуса: о праздности, о веселых сборищах людей, привыкших к достатку, избавленных от повседневного труда и забот, которые всегда тяготели над ним. Она заставляла думать об изобилии и даже излишествах в еде, питье, одежде, о вещах суетных и, по его глубокому убеждению, не нужных, в его доме во всяком случае. Отчего, думал Руфус, радость и красота должны непременно сочетаться с излишествами и суетностью — не говоря уже о жадности, пьянстве, разврате и прочих грехах, с которыми Джордж Фокс и последователи его учения так мужественно стремились навсегда покончить? Но больше всего поразила воображение Руфуса речушка, на которую он набрел еще в первый свой приезд в Торнбро. Левер-крик — так называлась эта речка; она брала свое начало где-то к северо-западу от Трентона и текла на юго-восток, впадая в Делавэр, — где именно, Руфус не пытался узнать. Местами она была совсем узенькая, почти ручей, не больше восьми — десяти футов, но кое-где становилась и пошире. На земли Торнбро она вливалась футах в трехстах за каретным сараем и бежала, извиваясь, но не теряя своего направления, наискось через всю усадьбу, к проселочной дороге, проходившей мимо Торнбро с запада на восток. Здесь она разливалась до тридцати, а то и пятидесяти футов, образуя три неглубокие заводи; самая большая из них, фута в четыре глубиной, подходила вплотную к лужайке перед домом. Живописная извилистая дорожка вела к ней среди заброшенного цветника. Было начало марта, зима еще держалась, и хотя на земле снег уже стаял, поверхность речки еще была скована блестящей синей корочкой льда. Но Руфус мысленно видел, как все это должно выглядеть весной: еще в детские годы ему часто представлялась в мечтах такая речка, но никогда не было времени поискать в окрестностях что-нибудь похожее. И вот теперь эта речка перед ним! Сколько радости доставит она его детям, Солону и Синтии! И девочкам Фебы тоже! На другом берегу еще виднелись следы вкопанных когда-то в землю скамеек. Здесь, перейдя речушку по легкому мостику, отдыхали, должно быть, в летнюю пору в густой тени деревьев обитатели дома. Мостик этот давно сгнил и обвалился, и паводки многих лет почти стерли с лица земли воспоминания о нем. Два-три обломка свай — вот все, что от него осталось. Руфус думал о том, сколько поколений детей резвилось здесь у воды, купалось, ловило всякую мелкую рыбешку; в солнечный день окуньков и пескарей легко разглядеть сквозь прозрачную воду, особенно там, где охряный песок устилает дно. Так Руфус, переходя от свинарни к колодцу и от колодца к беседке в поисках новых следов разрушения и упадка, отдавался неожиданным и приятным мыслям о том, как все это выглядело раньше. И ему захотелось, не преступая запретив религии, возродить хотя бы отчасти эту ушедшую жизнь, сделать так, чтобы все в Торнбро вновь стало — не греховным и суетным, но светлым и радующим глаз.Глава 3
Вот как случилось, что Руфус Барнс со всей своей семьей водворился в усадьбе Торнбро близ Даклы, милях в двадцати пяти от Филадельфии. Феба Кимбер была очень довольна: ведь от ее трентонского дома до Торнбро насчитывалось не более шести миль — расстояние, которое кимберовские лошади пробегали в короткий срок. Такое близкое соседство способствовало тому, что обе семьи зажили в любви и мирном согласии. Руфус, правда, не обладал деловой хваткой и изворотливостью покойного Кимбера, но усердия и добросовестности у него было достаточно. Выгодно продав пай Энтони Кимбера в трентонских гончарных предприятиях и пустив вырученные деньги под заклад земельных участков в районе Трентона, он сумел обеспечить Фебе довольно круглую сумму постоянного дохода, из которого кое-что приходилось и на его долю, как душеприказчика и управляющего. Очень скоро Руфус стал пользоваться в даклинской общине не меньшим уважением, чем его покойный свояк пользовался в трентонской. За те десять лет, которые отделяли переезд Барнсов в Торнбро от женитьбы их сына на Бенишии Уоллин, многое изменилось в материальном и общественном положении семьи. Жизнь в старинной усадьбе Торнбро и заботы о приведении ее в такой вид, который хотя бы отдаленно напоминал былое, оказывали на Руфуса Барнса своеобразное действие. Он жил словно зачарованный веянием прекрасной старины. Он вовсе не думал о том, о чем иногда толковали другие, — о роскоши, праздности, высоком положении в обществе; нет, просто он ощущал присутствие каких-то смутных теней прошлого и не мог заставить себя отнестись к ним с неодобрением. Потому что в них была красота. А красота для Руфуса, воспитанного на заповедях религии, привыкшего читать Библию и слушать возвышенную беседу старших Друзей, была исконным и неизменным свойством всякого божьего творения. В результате его неторопливых и разумных усилий усадьба Торнбро постепенно вновь приобретала черты былой красоты и благоустройства. Прежде всего каретный сарай освободили от хлама, починили и заново покрасили; инвентарь, который еще годился в дело, тоже починили и сложили в отремонтированной пристройке. Полусгнившие столбы старой беседки вырыли и убрали, чтобы расчистить место для новой, не менее красивой и уютной. Речку, так нравившуюся Руфусу, тщательно вычистили и перегородили в верхнем течении, чтобы никакие наносы не портили песчаного дна. Перед домом на прежнем месте разбили газон и сделали цветочные клумбы затейливой формы. Подновили и покрасили заржавевшую чугунную ограду. Словом, мало-помалу усадьба приняла такой вид, какого не знала уже тридцать лет, с тех пор как уехал отсюда последний Торнбро. Сложней обстояло дело с внутренней отделкой дома, потому что здесь у Руфуса возникали сомнения религиозно-нравственного порядка. Впервые в жизни ему пришлось столкнуться с роскошью. Если не по существу, то хотя бы по форме. Он считал, что его долг перед Фебой — сделать из Торнбро загородный дом, приемлемый для любого покупателя; но для этой цели необходимо было внести в устройство дома элементы той самой роскоши, которая казалась Руфусу несовместимой с его религиозными представлениями. Парадная дверь, например, открывалась в просторный холл, откуда вела наверх широкая красивая лестница с резными перилами из полированного ореха. Эта лестница довольно хорошо сохранилась; нужно было только поскоблить и заново отполировать перила. Слева от главного входа шла деревянная же колоннада, отделявшая холл и лестницу от просторной залы, из высоких окон которой открывался в обе стороны красивый вид на поля и далекие рощи. В простенке между окнами западной стены находился камин, такой большой, что в нем умещались целиком колоды по четыре фута длиной; стенки и свод его были облицованы мрамором, к несчастью, треснувшим во многих местах. Белая мраморная каминная доска тоже вся растрескалась и требовала замены. Стены и потолок зала когда-то были выбелены и украшены лепными медальонами и карнизами искусной работы; теперь все это осыпалось и пропиталось многолетней грязью, все нужно было исправлять и отделывать заново. Впрочем, в таком запущенном виде зал как-то меньше оскорблял строгий и простой вкус Руфуса. Но остальные помещения этого почти сто лет простоявшего дома — его двенадцать жилых комнат, его парадная лестница с полукруглыми маршами и другая, черная, специально для прислуги, его обширные кладовые и чуланы, спальни с небольшими уютными каминами и встроенными плетеными диванчиками у окон, винные погреба — немало смущали Руфуса, ибо говорили о жизни богатой и роскошной, какую он не считал подобающей для себя и своих близких. С другой стороны, чтобы дом можно было в дальнейшем продать, требовалось отремонтировать его как следует, и Руфус положительно не знал, как ему примирить эти два противоречивых обстоятельства — собственную любовь к простоте и прихотливые вкусы возможного покупателя. Единственным выходом было ограничиться пока восстановлением лишь небольшой части дома — сколько нужно для скромного житейского обихода. Но когда усадьба наконец была приведена в порядок и стала приносить доход, а Феба по-прежнему твердила, что никогда не согласится передать Торнбро в собственность кому-либо, кроме него, Ханны или их детей и наследников, решимость Руфуса поколебалась. Слишком сильна была его любовь к Ханне и детям, слишком свежа память о долгих годах жизненной борьбы и невзгод, и казалось жестоким настаивать на том, чтобы Ханна и дети продолжали вести тот скромный, даже суровый образ жизни, который прежде представлялся ему единственно возможным — хотя бы сама Ханна и была на это согласна. Между тем Феба, движимая нежной привязанностью к сестре, не унималась. Она настояла на том, чтобы четыре комнаты верхнего этажа были отремонтированы и обставлены за ее счет. Одна, самая просторная, из окон которой открывался прекрасный вид, должна была служить спальней Руфусу и Ханне. Другая, рядом, предназначена была для гостей, а так как самой частой гостьей предстояло быть самой Фебе, то вполне понятно, что она пожелала отделать и обставить эту комнату по своему вкусу. Синтия должна была делить свою комнату с Родой и Лорой, дочерьми Фебы, когда им случится заночевать в Торнбро. Четвертую комнату отвели Солону, и Феба с особенной заботой выбирала простую, скромную мебель, которая пришлась бы мальчику по вкусу. Она очень любила племянника за его уравновешенность, за безграничную преданность матери и за то, что он, казалось, был совершенно чужд тщеславия в каких бы то ни было формах.Глава 4
Усадьба Торнбро резко отличалась от скромного домика Барнсов в Сегуките. И как должна была отозваться подобная перемена на прямодушном и вместе с тем впечатлительном мальчике, каким был Солон, — это мог бы до конца понять только тот, кто наблюдал его на протяжении первых десяти лет его жизни, иначе говоря, от рождения до переезда семьи в Даклу. Детский мир Солона был ограничен Сегукитом и родным домом, и в этом мире главное место принадлежало матери. Так было отчасти и потому, что Ханна Барнс — трезвая, набожная, деятельная натура — много душевных сил отдавала ему, первенцу и единственному сыну. Еще когда он лепетал свои первые слова, она стала замечать, что ему недостает той живости соображения, той изобретательности в забавах, которой отличались другие дети. В два, в три года, до появления на свет Синтии, будущей подруги его игр, он часто ходил с таким видом, словно не знал, куда себя девать. А между тем у него были игрушки — красный мячик, тряпичная зеленая обезьяна, которую Руфус привез из соседнего городка Огасты, красная деревянная повозочка, которую можно было толкать перед собой. Но иногда он бросал все это и подолгу сидел притихший, засунув палец в рот и глядя перед собой невидящим взглядом. Мать, обеспокоенная его молчанием и неподвижностью, подхватывала сына на руки, ласкала и целовала его или же пыталась рассмешить. Потом она придумала другое: стала приводить к нему играть соседскую девочку одних с ним лет, живую, непоседливую шалунью. И той действительно очень скоро удалось расшевелить Солона; ему словно открылись радости дружеского общения. Солон рос здоровым, крепким ребенком и очень рано стал помогать матери в ее хлопотах по дому; стоило ей попросить что-нибудь подать или принести, он с радостью бежал выполнять просьбу и даже сам старался придумывать разные маленькие услуги. Не ускользало от миссис Барнс и то, с каким вниманием слушал Солон слова молитвы и библейские тексты, которые она или Руфус каждое утро и вечер читали в домашнем кругу; видно было, что эти чтения оставляют в его душе гораздо больший след, чем в душе его сестры. Однажды — ему шел шестой год — он спросил, глядя на мать большими, задумчивыми глазами: — А какой он, бог? Он с виду похож на нас? Мать ответила: — Нет, Солон, бог — это дух. Он повсюду, как свет, как воздух, которым ты дышишь, как звук, который слышат твои уши. — Значит, он не внутри нас живет? — Нет, не внутри нас. — Миссис Барнс сама была несколько смущена и озадачена его вопросами. — Он — ну, вот представь себе, что ты о чем-то думаешь, что ты чувствуешь нечто приятное-приятное. Ведь если ты поступил дурно, это бог помогает тебе сознать свою ошибку и пожалеть о ней. — А бог всех заставляет сознавать свои ошибки? — Старается всех заставить, милый. Но ведь ты-то ничего дурного не делаешь, я это знаю. Ты добрый, хороший мальчик — божье дитя. — Она ласково погладила его по голове и, спохватившись, как бы не перекисло поставленное с утра тесто, поспешила на кухню, прибавив: — А теперь беги к своим игрушкам. Но, к ее большому удивлению, Солон не тронулся с места. Он с минуту постоял молча и вдруг отчаянно, в голос, зарыдал, прижав к глазам кулачки. Изумленная мать бросилась к мальчику, подхватила его на руки и принялась целовать, приговаривая: — Что с тобой, мой маленький, о чем ты плачешь? Скажи маме. Ну, скажи же. Я знаю, это какой-нибудь пустяк, но все-таки скажи маме, ведь она тебя так любит. Она долго еще утешала его, прижимая к груди, уговаривая не плакать и рассказать ей, в чем дело; и наконец он выговорил прерывающимся от рыданий голосом: — Я у-убил птичку. Я нечаянно. Я не хотел ее убивать. Мне Томми дал свою новую рогатку, и я… я попробовал выстрелить. — Тут он снова залился слезами. Миссис Барнс уже догадалась, что речь идет о какой-то мальчишеской проказе, и ей еще больше захотелось утешить сына, внушить ему, что она поймет его и простит, и бог тоже; но она не знала, как это сделать, и только все качала мальчика на руках, целовала его круглую головку и упрашивала рассказать ей толком, что случилось. Мало-помалу все выяснилось. Героем случайной маленькой трагедии оказался Томми Бриггем, мальчуган года на два старше Солона; отец его, железнодорожный рабочий, с утра до вечера гнувший спину в местном депо, не был квакером, и мальчик ходил в сегукитскую городскую школу. Недавно Томми завел себе рогатку и усердно упражнялся в стрельбе из нее. Вчера, проходя мимо дома Барнсов, он остановился поболтать с Солоном. Заметив на росшей перед домом сосне шишку, которая показалась ему достойной мишенью, Томми достал из кармана камешек, прицелился — и не попал, выстрелил еще раз и снова промахнулся. Солон, крайне заинтересованный всем этим, попросил: — Дай мне разок попробовать, Томми! — Валяй! — сказал Томми. — Покажи, какой ты стрелок. В эту секунду на высокую ветку сосны уселась славка, свившая себе гнездо в одном из уголков барнсовского сада. Солон увидел ее, машинально, нимало не рассчитывая попасть, прицелился и стрельнул. И тотчас же, к величайшему изумлению самого Солона и Томми Бриггема, птица свалилась на землю мертвая. Солон обомлел: ни разу еще ему не случалось не только что убивать, но даже просто причинить боль живой твари. Бледный, как полотно, охваченный желанием убежать, спрятаться, он жалобно забормотал: — Ой, я не хотел! Я нечаянно! На что юный Бриггем не замедлил ответить: — Понятное дело, нечаянно! Тебе ни за что на свете не попасть в другой раз. А ну-ка, посмотрим, что за птица такая. Не обращая внимания на окаменевшего от ужаса Солона, он нагнулся, поднял с земли бездыханное серое тельце, взвесил на руке и сказал: — Пригодится нашей кошке на завтрак. — Потом оглянулся и добавил: — Надо поглядеть, у ней тут, наверно, гнездо недалеко. Он стал шарить в кустах, раздвигая руками ветки, и, наконец, торжествующе закричал: — Эй, малыш, иди сюда! Я тебе что-то покажу. Ловко у тебя получилось. Он ухватил перепуганного Солона под мышки, приподнял его, и Солон увидел круглое гнездо из травы и прутьев, а в нем четырех тощих птенцов, вытягивавших шеи и разевавших большие желтые клювы. — Видишь? — спросил Бриггем. — Это ее выводок. Пожалуй, можно и птенцов отдать кошке. Все равно с голоду подохнут. — Это была их мама? — жалобно спросил Солон. — Ну да, — сказал Бриггем. — А чего ж она тут летала, по-твоему? Солон в ужасе скорчился у Бриггема на руках. Бедные маленькие птенчики. А Бриггем еще хочет отдать их кошке вместе с мертвой матерью. И все это наделал он, Солон! — Не надо, не надо! — закричал он, когда Бриггем, опустив его на землю, потянулся за гнездом. — Не бери! Я сам попробую их кормить! Я маму попрошу! Я не хотел убивать птичку! Я нечаянно, нечаянно! — Он припал к кусту, в котором было гнездо с птенцами, и горько заплакал. — Ой, ой, ой! Бедные птенчики. И зачем только я стрелял в их маму! — Да ведь ты же не думал, что попадешь, — попробовал утешить его Бриггем, тронутый его слезами. — Это у тебя случайно вышло. А кормить их ты все равно не сможешь. Откуда тебе знать, что они едят? Не реви. Ты ни в чем не виноват. Другой раз не стреляй в птиц, только и всего. — И, достав гнездо с четырьмя птенцами, он побежал домой, а Солон, ни живой ни мертвый от ужаса, стоял и смотрел ему вслед. За обедом он и куска не мог проглотить, а когда все встали из-за стола, забился молча в угол дивана в гостиной. Мать, увидя это, решила, что он устал, и велела ему идти спать. Но, оставшись один в своей мансарде, половина которой была отгорожена для Синтии, Солон, против обыкновения, долго не мог уснуть и наутро встал такой бледный и вялый, что мать встревожилась — не заболел ли он. Но у него уже сложилось решение рассказать матери о случившемся: про это он и думал, задавая ей свой вопрос, — похож ли бог с виду на человека? Выслушав рассказ о его воображаемом преступлении, миссис Барнс невольно задумалась над тем, какова же истинная причина свершившегося зла. Ведь нельзя считать грехом желание ребенка иметь рогатку, если у него не было в мыслях причинить вред какому-либо живому существу. Солон прицелился в птицу, как Томми до него целился в сосновую шишку; он совершенно не отдавал себе отчета в том, что это не одно и то же — тем более что вообще не рассчитывал попасть, — его искреннее горе не оставляло сомнений на этот счет. Им руководило одно лишь детское любопытство; ведь он даже не знал, что славки имеют обыкновение вить гнезда в таких местах или что сейчас время выведения птенцов. Миссис Барнс понимала это и потому всем сердцем готова была простить сыну его невольную вину — в особенности видя, как болезненно он переживает гибель матери-славки и ее птенцов; но в душе у нее была тревога: то, что зло может совершиться так случайно, не по чьей-либо жестокости или дурному умыслу, не укладывалось в ее религиозные и житейские представления. Она ласково постаралась уверить сына, что ему не в чем себя укорять, но не забыла указать тут же, как важно всегда думать о том, что делаешь, и в любых обстоятельствах обращаться к Внутреннему свету за советом и наставлением. Однако душевные сомнения, порожденные этим маленьким происшествием, еще долго не оставляли ее. В сущности, она не забыла их до конца своих дней.Глава 5
Восьмой год жизни Солона ознаменовался еще одним крупным событием, на этот раз — болезнью. Он был от природы сильный и выносливый мальчик, настоящий крепыш, и отец рано начал брать его с собой, отправляясь в лес, чтобы наготовить дров на зиму. Сперва Солон ездил с ним только для забавы — покататься, побегать по лесу. Когда он стал старше, Руфус подарил ему маленький топорик и разрешил обрубать ветки со сваленных уже стволов. Но прошло еще немного времени, и мальчик, не по годам рослый и сильный, стал помогать отцу в занятии, которое ему казалось увлекательней всего на свете, — валить могучих вечнозеленых красавцев в заснеженном лесу. И вот однажды остро отточенный топор соскользнул и глубоко, до самой кости, врезался Солону в левую ногу, чуть повыше щиколотки. Следовало немедленно промыть и перевязать рану, но прошло несколько часов, прежде чем это удалось сделать — хоть мать и старалась помочь беде домашними средствами. Единственный в округе врач, за которым тут же послали, не торопился, к тому же он был не слишком умудрен в хирургии и вообще в медицине, — достаточно сказать, что, осмотрев рану, которую отец Солона перевязал, как умел, носовым платком и обрывками ветоши, он отправился точить свой ланцет на оселке для кос! Следствием всего этого явилось заражение, и настолько серьезное, что, хотя мать потом сама тщательно промывала и перевязывала рану, Солону становилось все хуже и хуже; наконец не только мать, но и он сам по-своему, по-детски почувствовал приближение последней великой перемены. Страшная мысль о том, что она может потерять сына, мучила Ханну, и на ее бледном напряженном лице читалось страдание. Когда дело стало совсем плохо, из города привезли другого врача, чтобы показать ему вновь открывшуюся рану. Во время перевязки Солон увидел рану; он был не из плаксивых, но тут у него хлынули слезы — лицо матери, сосредоточенное и полное тревоги, невольно выдало ему то, что от него пытались скрыть. Ханна продолжала бинтовать ногу; вдруг она остановилась, и Солон увидел, что по лицу ее разлилась вдохновенная бледность, как в те утренние и вечерние часы, когда она обращалась к богу. Сейчас она молчала, но в ее взгляде, устремленном ввысь, была и страсть, и мольба, и глубокая вера. Так прошло несколько минут. Потом Ханна опустила голову и, глядя прямо в непросохшие еще от слез глаза сына, проговорила, точно в забытьи, глухим и торжественным голосом: — Не плачь, Солон, сын мой, теперь твоя жизнь и здоровье вверены мне. Это не конец твоего пути, это только начало. Господь сулит тебе еще много хорошего впереди. Ты будешь жить, чтобы служить ему в любви и правде. С этими словами она положила правую руку на голову сына и снова подняла взгляд. И в наступившей тишине мальчик вдруг почувствовал, что ему лучше. Страх прошел, воля к жизни вернулась к нему; он поверил в свое исцеление — и исцелился. После этого случая Солона никогда не оставляла мысль о матери, о том, как она добра, как искренне и горячо желает его благополучия, и он чувствовал себя в неоплатном долгу перед ней. Он никогда, даже в ее отсутствие, не сделал бы того, что могло вызвать ее недовольство. Первое место в его душе принадлежало ей; однако всю свою и всю ее жизнь — пока эти две жизни протекали рядом — он был крайне скуп на проявления своей глубокой преданности. Но она всегда знала (он был уверен в этом), что он любит ее так, как только может желать мать, и сама платила ему не меньшей любовью. При всей своей физической силе Солон никогда не был забиякой. Напротив, он отличался самыми миролюбивыми склонностями, но отсюда не следовало, что каждый мог безнаказанно дразнить его или унижать, — это он доказал еще в самом юном возрасте. Появился по соседству мальчик немного старше Солона, по имени Уолтер Хокат, сын плотника. Это был коренастый паренек, не из тех, какие нравятся девушкам, но тщеславный, как все люди; он никогда не упускал случая показать, что никто лучше его не умеет кататься на коньках, плавать, нырять, бороться. В квакерскую школу Уолтер Хокат не ходил, да и вообще всячески отлынивал от ученья, но зато очень скоро стяжал себе в Сегуките славу чемпиона по борьбе среди мальчишек его лет, роста и веса. Летом окрестные любители купанья собирались на берегу небольшого озера, расположенного в двух милях от городского центра, и Уолтер Хокат постоянно околачивался там, выискивая охотников помериться с ним силой. Как-то раз он вызвал на бой Солона, который давно раздражал его и своим крепким телосложением и своим ровным приветливым нравом, а кроме того, Уолтер Хокатвообще недолюбливал квакеров с их патриархальной манерой ко всем без различия обращаться на «ты». Хокату не терпелось доказать, что ему ничего не стоит побороть такого противника. Солон, уверенный в своей природной силе, получив вызов, ничуть не смутился. — Ну что ж, давай, если хочешь, — ответил он, и тотчас же борцы начали примеряться друг к другу, а зрители, человек семь мальчишек разных возрастов, обступили их тесным кольцом. И тут очень скоро выяснилось, что сильный и напористый Хокат, заранее не сомневавшийся в поражении и посрамлении своего противника, не может справиться с ним. Он ловчился и так и этак, то неожиданно наскакивал, то отскакивал, давал подножки, но Солон крепко стоял на ногах, и все эти хитрости только изматывали самого Хоката. Тогда, окончательно разозлясь, он решил навалиться на Солона всей своей тяжестью и попросту опрокинуть его. Но Солон, не растерявшись, обхватил его поперек туловища, приподнял на воздух и разом уложил на обе лопатки, после чего, не давая противнику подняться, спросил все тем же невозмутимым тоном: — Ну как, сдаешься? При виде этого все жертвы прежних побед Хоката радостно завопили: — Ура, Барнс выиграл! Ура! Барнс уложил Хоката! Это привело Хоката в настоящее бешенство, и, как только Солон отпустил его, он вскочил и заорал: — Ладно, квакер паршивый! В борьбе-то ты победил, но давай подеремся, так от тебя живого места не останется! Тут зрители-мальчишки, давно копившие обиду против Хоката, зашумели еще громче: — Барнс уложил Хоката! Барнс уложил Хоката! А тому, видно, мало — лезет в драку! Их крики распаляли Хоката еще больше, но Солон только заметил в ответ: — Зачем нам драться? Я с тобой не ссорился и драться не хочу. Тогда Хокат, вместо того чтобы принять предложенный мир, со всего плеча замахнулся на Солона, но тот левой рукой легко отвел удар. На счастье обоих, в это время к месту действия подошел мальчик постарше; он знал Хоката и, сразу оценив миролюбие Солона и неистовство его противника, выступил на середину круга и заявил: — Вот что, Хокат, ты это брось! Тебя уложили по всем правилам. И нечего лезть в драку, раз он не хочет драться с тобой. — Затем, обернувшись к Солону, он прибавил: — Ступай спокойно, Барнс. Он тебя не тронет, за этим я пригляжу. И Солон отправился купаться, а Хокат, угрюмо косясь на пришельца, занявшего сторожевую позицию на берегу, оделся и пошел восвояси. Ярость так и клокотала в нем. Понести такое поражение, и от кого — от презренного квакера!Глава 6
В Дакле Солона прежде всего поразил их новый дом — его размеры, его своеобразие, его красота. Мальчик замечал, как считаются родители с волей тетушки Фебы во всем, что касается дома; не только отец, которого к этому обязывало положение душеприказчика, но даже мать, обожаемая мать, прислушивалась к ее рассуждениям о том, чего требует изменившееся положение семьи. Что ж, и немудрено; ведь это обширное имение, как скоро понял Солон, принадлежало на самом деле Фебе Кимбер, и долг отца, да, пожалуй, и матери тоже, состоял в том, чтобы сделать все возможное для его процветания. А потому вся семья Барнсов, включая и детей, подчинилась необходимости изменить свои привычки и в домашнем обиходе и в общении с людьми; начать с того, что Солон и Синтия теперь ходили в школу, одетые гораздо лучше, чем раньше. Надо сказать, что в даклинской общинной школе, где обучались дети окрестных квакеров — всего человек шестьдесят, — принято было уделять костюму куда больше внимания, чем в школах Сегукита, общинной и городской. Впрочем, в чем именно заключалась разница, этого Солон не мог бы с точностью сказать. И его новый костюм, подарок тетушки Фебы, и новое платье Синтии были скромного покроя и мягких, не бросающихся в глаза, цветов; правда, сшиты они были из лучшей ткани, чем обычная одежда сегукитских школьников. Но дело было не только в одежде. Новые сверстники юных Барнсов держались с особой высокомерной холодностью, как будто ни на минуту не забывали о том, что они лучше других. Такое поведение и злило и озадачивало Солона. Он не понимал, чем, собственно, они могут быть лучше — разве только родители у них побогаче; во всяком случае, в сегукитской школе он с этим не сталкивался. Кое-что стало для него проясняться после того, как он побывал в доме тетушки Фебы на Розвуд-стрит в Трентоне. Его и Синтию пригласили провести субботу и воскресенье у двоюродных сестер, Лоры и Роды, и вместе с ними посетить молитвенное собрание трентонской общины. Убранство теткиного дома поразило Солона; ничего подобного ему в Сегуките видеть не приходилось. А в девочках, из которых одна была его ровесницей, а другая — Синтии, он сразу почувствовал что-то такое, что делало их похожими на учениц даклинской школы. На его не слишком искушенный взгляд, они казались даже еще жеманнее в обращении с мальчиками. Солона они обе встретили ласково и приветливо, но он к тому времени успел заметить, что девочки вообще проявляют к нему гораздо меньше интереса, чем к другим мальчикам. И в Сегуките и в Дакле он часто видел, как девочки и мальчики вместе подходят к воротам школы или вместе уходят после уроков, но не было, кажется, случая, чтобы какая-нибудь из школьниц остановилась поговорить с Солоном или предложила проводить ее домой. С ним мимоходом здоровались или прощались — только и всего. Зато Синтия, заметно похорошевшая, всегда была окружена сверстниками и сверстницами и весело болтала с ними о своем новом доме, об уроках или еще о чем-нибудь, дожидаясь у ворот школы отцовского шарабана, на козлах которого восседал Джозеф Кумбс, один из двух работников, недавно нанятых Руфусом. В этом шарабане Солон и Синтия каждое утро ездили в школу и после уроков возвращались в усадьбу Торнбро, которая становилась все более и более похожей на другие богатые усадьбы в округе. Однако отец и мать Солона по-прежнему утром и вечером обращались с молитвой к богу — к Внутреннему свету, прося наставить их на путь смиренной простоты и уберечь от излишеств в одежде, в жилье и убранстве, от влечения к ярким и красивым вещам, — от всего, что может тешить людей суетных и легкомысленных, но не тех, кто печется об истинной пользе души. Может быть, в утренних и вечерних молитвах и не всегда говорилось об этом, но во всяком случае достаточно часто, чтобы в голову Солона и даже Синтии надолго запала мысль о пагубе всяческого стремления к роскоши. И все же Солон замечал, как новые дела и обязанности постепенно меняют его отца и как скромный сегукитский фермер и торговец становится человеком совсем иного и куда более заманчивого образа жизни. Так, в Сегуките он носил самую простую, крестьянского покроя одежду; так же одевался и Солон, когда после школы помогал отцу в лавке. Но здесь Руфус был уже не фермером, а экономом или управляющим семи-восьми крупных фермерских хозяйств, принадлежавших Фебе, и на его обязанности лежало не только увеличить их доходность, но и сделать так, чтобы их можно было с выгодой продать в случае надобности. И он настолько преуспевал в этом, что в скором времени счел возможным пятнадцать процентов общего дохода брать себе в качестве жалованья. Управление имениями заставляло его иногда заниматься куплей и продажей. Торговцы, с которыми приходилось иметь дело, были все больше люди богатые, да и местными порядками и обычаями тоже не стоило пренебрегать — и мало-помалу Руфус, подчиняясь обстоятельствам, стал тщательней одеваться, а там завел выезд с хорошими лошадьми, что сразу придало ему вид человека зажиточного и благоденствующего. И в эти весенние, а потом и летние дни, глядя, как отец выезжает со двора или возвращается домой в своем нарядном шарабане, Солон невольно чувствовал, что это уже не тот простой и скромный человек, каким он был в Сегуките. Даже в свои тринадцать с небольшим лет мальчик замечал, что отец как-то приосанился, даже взгляд его стал более острым и живым. И привычки у него появились новые: он полюбил бродить по лужайке и по дорожкам парка или, присев на каменную скамью в новой беседке, увитой зеленью, любоваться изгибами Левер-крика, мирно катящего свои струи по расчищенному и углубленному руслу среди цветов и деревьев Торнбро. Едва ли не впервые в жизни Руфус отдавался неподдельному поэтическому восторгу, который рождала в нем красота природы. Сколько прелести в этом веселом ручье! В высоких островерхих елях, выстроившихся по его берегам! В этих каменных скамейках! В маленьких рыбках, проворно снующих в прозрачной воде! В цветах, пестревших повсюду, — вьюнках, маргаритках, желтых и белых ромашках! Трудно поверить, что этот чудесный приют, созданный волею творца, может быть достоянием одного человека, а между тем разве Руфус не хозяин здесь, разве все это не вверено ему сестрой его жены, любящей Фебой? Однажды среди таких размышлений Руфусу вспомнились слова пророка Исайи, которые он не раз читал своим детям: «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Вслед за этим текстом память подсказала другой — заключительные слова псалма 22-го: «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме господнем многие дни». Где-то в кустах подала голос славка, в ответ ей залился самозабвенной трелью дрозд. Руфус стряхнул раздумье и прислушался. И тут у него родилась мысль, от которой сразу стало легче и спокойнее на душе. Все комнаты своего нового дома — спальни, гостиную, столовую — он решил украсить священными текстами, подобрав такие, в которых отразилась бы его благодарность творцу за ниспосланные ему блага. В своей супружеской спальне он велит написать на стене цветными буквами: «Он водит меня к водам тихим; подкрепляет душу мою». Над камином в большой гостиной будут красоваться слова: «Ибо милость твоя пред моими очами». В столовой: «Ты приготовил передо мною трапезу». Для комнаты Солона он выбрал такой текст: «Господня есть вселенная и все, что наполняет ее». Для комнаты Синтии: «Укажи мне, господи, пути твои, и научи стезям твоим». А в спальне миссис Кимбер будет написано: «Надеющийся на господа бога будет безопасен». Ибо Руфус был глубоко уверен, что каждый угол в его доме и все вообще, чем он владеет на земле, должно отражать его беззаветное служение богу.Глава 7
Проникновенная религиозность уживалась в Руфусе с трезвым практицизмом. Он чутьем уловил то, что отличало быт многих из местных квакеров от их более скромных собратьев по вере, и почти инстинктивно, не отдавая себе в этом ясного отчета, старался заводить в округе дружбу с теми, в ком видел возможных покупателей на хлеб, сено, овощи, плоды, ягоды, — словом, на все, что на своих шестидесяти акрах выращивал он сам и что ему удавалось получить с фермеров, закладные на участки которых находились в руках миссис Кимбер. И мало-помалу как в самой Дакле, так и в ее окрестностях он подобрал круг торговцев и скупщиков, казавшихся не столь корыстолюбивыми, как те коммерсанты, с которыми ему приходилось иметь дело в Трентоне. Не все они принадлежали к Обществу друзей, но все единодушно сходились на том, что Руфус — человек приятный как в деловом, так и просто в житейском общении, бесспорно честный и не гонящийся за чрезмерной наживой. В квакерской общине Даклы Руфус и его семья тоже быстро снискали общую любовь и уважение, и даже Феба Кимбер решила время от времени посещать молитвенные собрания этой общины, членами которой были близкие ей люди. В сущности говоря, Феба всегда была не более чем тенью Энтони Кимбера, и теперь, когда его не стало, Руфус и Ханна невольно заняли в ее жизни опустевшее место. Сложнее обстояло дело с Солоном. За последние годы он привык к тому, что отец не только каждодневно заботился о нем, но и старался практически подготовить его к жизни. В Сегуките, еще до перемены в их судьбе, ему часто случалось после занятий в школе помогать отцу зимою в лавке, летом в огороде и в поле, и Руфус не раз замечал как бы вскользь, а то и прямо говорил, что ему, Солону, нужно всерьез учиться хозяйничать на ферме — править лошадьми, пахать, сеять, убирать сено; не мешало бы присмотреться и к торговому делу: как вести конторские книги, выписывать накладные, держать в порядке счета. — Когда меня не будет, тебе придется заниматься всем этим, чтобы мать и сестра не знали нужды, — говорил бывало Руфус, и слова его глубоко запали в душу Солону, особенно потому, что речь шла о матери. Уж о ней-то он будет заботиться, если суждено похоронить отца! И, следуя отцовскому совету, он со всем усердием старался приучаться к хозяйственным делам. Что бы ни случилось с отцом, мать, безгранично любимая мать, должна быть окружена самой нежной заботой. Но с переездом в Даклу все изменилось. Лавки не стало. Отец вел жизнь, которая все больше казалась Солону похожей на жизнь чиновника или служащего какой-нибудь фирмы. Ранним утром, тотчас же после завтрака, он усаживался в свой новый шарабан, запряженный недавно купленной холеной гнедой кобылой — Солону она казалась необыкновенно красивой, — и уезжал до позднего вечера. Видно, ему приходилось бывать за день во многих местах; Солон вскоре сам убедился в этом, потому что Руфус, по-прежнему озабоченный практическим воспитанием сына, стал брать его с собой по субботам, когда завершал свои объезды за неделю. Иной раз, если дела приводили его в Даклу в обычный, будний день, он прихватывал с собой вернувшегося из школы Солона и возил его по своим новым деловым знакомым — бакалейщикам, торговцам фруктами и овощами, страховым агентам и маклерам; случалось им заезжать и к местному банкиру. Во время этих поездок Руфус объяснял Солону процедуру сделок по закладным; рассказывал, каким образом Феба Кимбер после смерти мужа оказалась держательницей всех этих бумаг, дававших ей право распоряжаться собственностью своих должников, и почему важно, чтобы фермеры, заложившие свою землю, научились производительнее и прибыльнее вести хозяйство. Руфус считал своей обязанностью сдружиться с этими людьми, определить по возможности их слабые места и ошибки и мягко, не назойливо постараться помочь им наладить дело, для чего лучшим средством было дать им кое-какие познания в области земледелия и сельского хозяйства. Солону нравилась в отце эта черта — желание помогать другим. Еще в Сегуките его всегда привлекало добросовестное, заботливое отношение Руфуса к покупателям, приходившим в лавку за товаром, — привлекало едва ли не более, чем сама торговля. Другой торговец быстро отпустил бы покупателю требуемое и на том кончил бы дело; но Руфус поступал иначе. Нередко, особенно если он знал, что покупатель человек бедный, едва сводящий концы с концами, он спрашивал: — А зачем тебе это понадобилось, Джон? И в иных случаях, прикинув, что тут вполне можно обойтись меньшей мерой овса или сена, что грабли, мотыга или топор второго сорта сделают свое дело не хуже первосортных, он сам уговаривал покупателя взять товару поменьше или подешевле и тем сэкономить немного денег, в которых тот так нуждался. Эти своеобразные торговые приемы отца в представлении Солона были неразрывно связаны с религиозным учением квакеров, и когда он видел, что кто-нибудь поступает иначе, ему казалось, что этому человеку попросту не хватает того проникновения в суть вещей, каким наделен его отец и другие члены Общества друзей. Вот и теперь, в Дакле, чувство безотчетной симпатии влекло Солона к одиноким скромным труженикам; фермер ли распахивал свою полоску земли, кузнец ли, один, без подручных, подковывал лошадь или чинил колесный обод, часовщик ли склонялся над своей кропотливой работой, гончар ли вручную вертел свой круг, выделывая кувшин или чашку, — Солон, глядя на них, размышлял о том, как это, должно быть, хорошо — усердно и вдумчиво трудиться в одиночку над избранным делом, не стремясь к иным выгодам, кроме того, чтобы прокормить себя и свою семью. В детстве Солон любил стоять рядом и смотреть; позднее, подростком тринадцати-четырнадцати лет, он старался узнать имя труженика, а когда можно, то и поговорить с ним. Таким образом, знакомясь с деловой жизнью, он в то же время находил радость и удовлетворение в общении с простыми людьми, в которых зачастую угадывал способность истинно постигать бога и природу. Но был у Солона один серьезный недостаток: он не стремился стать человеком высокообразованным. Правда, к четырнадцати годам он хорошо усвоил школьную математическую премудрость вплоть до алгебры. Знал он о том, что на свете существует литература: рассказы, стихи, пьесы, очерки, повести. Их было много в школьных хрестоматиях, и ученики читали их вслух на уроках или затверживали наизусть. Но из квакерской «Книги поучений» ему было известно, что чтение романов есть занятие, пагубное для души; романы несут в себе зло, и потому печатать их, продавать или одалживать — грех. В школе он приобрел также кое-какие познания в географии, грамматике, правописании, даже немного в ботанике и естественной истории. Что же до точных наук, то в одной из хрестоматий попалась ему статейка, описывавшая, как был открыт горючий газ; но ни Солон, ни даже Руфус Барнс не сознавали огромного значения таких наук, как физика и химия, хотя их практическое применение в сельском хозяйстве с каждым днем все глубже вкоренялось в быт. Солон воспитывался так, как воспитываются обычно дети в фермерских семьях: подбирал случайные обрывки знаний, а остальное дополняла религия. В доме постоянно читались и цитировались библейские тексты, и Библия, ее поэзия, ее пророческий дух наложили неизгладимый отпечаток на весь душевный склад Солона. Он привык к мысли, что творец велик и всемогущ, а люди малы и ничтожны, подвластны воле творца и обязаны ему послушанием. Мальчику с самых ранних лет запали в память слова Исайи, постоянно повторяемые Руфусом: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его; ибо что он значит?» Все эти представления укоренились в сознании Солона, как незыблемые и вечные, наряду с верой во Внутренний свет; в них был для него источник знания, точного и глубокого, в них был и ключ к разрешению всех житейских задач. К каким же еще знаниям стремиться? Вот только нужно овладеть каким-нибудь ремеслом или специальностью, что может дать средства к пропитанию; так жил его отец и так намерен был жить он сам. Но в последнее время отец только и говорил, что о делах — дела, дела! В конце концов он решил поручить Солону ведение всех книг — и главной, и кассовой, и еще особого журнала, который он недавно завел для записи всех произведенных за день сделок по купле и продаже, всех отправленных и полученных счетов. Счета, для удобства справок, подшивались в особую папку с указанием имен и дат; папка эта лежала на конторке Руфуса, и Солону во всякое время был открыт к ней доступ.Глава 8
Занятия в школе даклинской общины привели, в частности, к тому, что Солон впервые стал задумываться о девушках. Была среди школьниц одна, которую звали Бенишия Уоллин; прелесть ее черт и изящество фигуры, грациозная походка и милое застенчивое выражение лица привлекли внимание Солона. Отец этой девушки был один из самых богатых квакеров в округе; она приезжала в школу в щегольской коляске и так же уезжала домой после занятий. Однажды Солон и Синтия стояли у ворот школы, дожидаясь Джозефа, работника из усадьбы, который должен был приехать за ними в шарабане. Бенишия, проходя мимо, увидела Синтию и остановилась поговорить с нею. — Бенишия, это мой брат Солон, — сказала Синтия. Бенишия негромко ответила: — Я знаю. Она ласково улыбнулась Солону, подняв на него фиалковые глаза, смотревшие доверчиво и простодушно; и Солон тут же решил, что никогда еще не встречал девушки красивее. Еще ни одна во всяком случае не вызывала в нем такого беспредельного восхищения. Но он знал, что девушки обычно не интересуются им, и даже не помышлял о том, что может заслужить внимание такой, как Бенишия. К тому же все его время помимо школьных занятий было заполнено многочисленными, но довольно однообразными обязанностями, которые возлагал на него отец, и у него попросту не оставалось досуга для того, чтобы мечтать о девушках. Он усердно помогал Руфусу вести бухгалтерские книги, записывать расходы и поступления, вносить в реестры посланные и полученные счета. И все же выдавались у него такие минуты, когда он положительно не мог отделаться от мыслей о Бенишии. Она была так скромна, так сдержанна и в то же время так хороша! После того первого разговора он довольно часто встречал ее, и они всегда обменивались улыбками и приветствиями, но учебный год уже подходил к концу, а между ними не возникло даже обыкновенной школьной дружбы, какая часто связывает девочек и мальчиков. Солон был слишком робок, и Бенишия тоже. Разумеется, еще в Сегуките у него не было недостатка в сверстниках и сверстницах. И как ни оберегали его дома, все же до него доходили кое-какие слухи, кое-какие происшествия, слегка приоткрывшие перед ним тайну пола. Ему случалось видеть, как какой-нибудь мальчик гнался за девочкой, и, настигнув, не отпускал, пока не срывал поцелуя. Смысл таких сценок Солон понимал без объяснений. Начиная с четырехлетнего возраста он не раз присутствовал при брачных церемониях, совершавшихся на молитвенных собраниях общины. Он видел, как двое людей, мужчина и женщина — обычно молодые мужчина и женщина — выходили и усаживались рядом, лицом к собравшимся, в полнейшем молчании. Тут же, поблизости, находились и родители каждого. Под конец собрания оба поднимались по очереди — сперва мужчина, потом женщина — и по квакерскому обычаю торжественно доводили до общего сведения, что намерены стать мужем и женой. Затем родители объявляли о своем согласии. После этого все собравшиеся единодушно одобряли этот союз и давали молодым людям разрешение вступить в брак. Потом все их поздравляли, и на том дело кончалось. Слово «брак» смутно связывалось в представлении Солона с появлением детей — вот и у его родителей появились они с Синтией. Когда Солону шел одиннадцатый год, в Сегуките произошел случай, нарушивший мирное течение городской жизни. На Солона этот случай произвел сильнейшее впечатление, которому не суждено было никогда изгладиться; впервые он узнал о том, как велика власть пола над человеком, и в то же время сделал для себя вывод, что это сила, которой лучше вовсе не поддаваться, если нельзя направить ее должным образом. Необычайное общественное потрясение, о котором идет речь, относилось к области нравственной, или, точнее сказать, безнравственной и произвело тем больший эффект, что дело происходило в маленьком городишке, где люди жили по старинке и уважали религию. Вот потому происшествие это и смешало все представления о жизни и нравственности не только у Солона, но и у многих других юных граждан Сегукита; однако не всех это привело к столь душеспасительным результатам. Суть в том, что в Солоне, если не от природы, то благодаря воспитанию, сильно было религиозно-нравственное начало; из сверстников же его многие росли без твердого духовного руководства. В силу этого поначалу большинство мальчиков и девочек отнеслось к делу не столько с возмущением, сколько с любопытством: во всем, что было связано с полом, они усматривали приятно волнующую тему, а отнюдь не источник зла. Даже в таком маленьком городке, как Сегукит, существовали свои разногласия. Сторонники обучения в городской школе, например, не одобряли духа, царившего в школе квакерской общины, считая, что она воспитывает детей сектантами и догматиками. Квакерская простота в одежде, квакерское обращение на «ты» ко всем без разбора не вязались с ходовыми представлениями об американском духе и американской демократии. Северная окраина Сегукита носила название «фабричной стороны», потому что там были расположены две маленькие фабрички — одна шляпная, другая обувная. Только административный персонал этих фабричек состоял из уроженцев Новой Англии, работали же там главным образом канадские французы, жалкая, невежественная беднота, которая прибилась сюда в чаянии пусть грошового, но верного заработка и более дешевой, хоть и далеко не лучшей жизни, чем в Канаде. Прочее население Сегукита смотрело на этих канадцев свысока, считая их привычки и нравы низменными и недостойными, а собственные привычки и нравы — даже недоступными их пониманию. Близ фабрик и деревянных бараков, в которых ютились рабочие, внося за это плату, еще увеличивавшую хозяйские барыши, открылись два маленьких бара, и — что хуже всего — нашлись в городе дурные, распутные люди, которые не видели ничего плохого в существовании этих заведений и даже сами охотно там развлекались. Мало того: здесь же, неподалеку, помещались два притона, из тех, что называются веселыми домами, и ходили слухи, что не только в будни, но даже по воскресеньям там собираются самые отпетые из числа рабочих-канадцев; да и кое-кто из лицемерных американских обитателей центральной части города захаживает туда. Это было действительно большое зло, и для борьбы с ним потребовались усилия не только Общества друзей, но и других сект. С полгода шли толки и пересуды, а дурное влияние тем временем все распространялось; но наконец возникла настоящая война, окончившаяся тем, что в один прекрасный день оба бара и оба веселых дома были подожжены и сгорели дотла. А несколько дней спустя пожар уничтожил семь домов в городе. Это были дома тех горожан, которые особенно яростно преследовали грешников, и, конечно, их подожгли в отместку. Руфус Барнс тоже получил грозное предупреждение в записке, подсунутой под дверь. Страсти улеглись лишь после того, как на место прибыл окружной шериф и с помощью понятых принялся за розыск виновных; впрочем, виновные к тому времени уже успели исчезнуть. Все время, пока длилась эта скандальная история, — пять или шесть месяцев, — в городе не прекращались толки. И родители Солона, и другие почтенные жители Сегукита открыто и громко выражали свое неодобрение. Немудрено, что и дети горячо обсуждали все перипетии этого события, воспринимая его каждый в соответствии со своим характером и темпераментом. Что касается Солона, то он слишком много слышал разговоров о добре и зле и слишком мало знал действительное зло в той форме, в которой оно на этот раз проявилось, а потому, разумеется, не способен был заглянуть поглубже в суть дела и распознать действовавшие тут подспудные силы — нищету, невежество, отсутствие тех сдерживающих и в то же время облагораживающих влияний, среди которых протекала его собственная жизнь. Он понятия не имел обо всем том, что с детства окружало этих темных, забитых людей. Он совсем еще не знал жизни. Для него все было просто: кто согрешил — тот дурной человек и ему нечего надеяться на блаженство души. Эти впечатления детских лет, а также строгое воспитание в духе благочестия и нравственной чистоты и, наконец, пониженная от природы чувственность — все вместе привело к тому, что влечение Солона к Бенишии носило чисто романтический характер. Он дорожил каждой встречей с нею — но только как романтический влюбленный, для которого красота возлюбленной не связывается с ее плотским существом. Мечты его были скромны. Пройтись с нею рядом. Получить позволение дотронуться до нее или взять ее под руку. Удостоиться улыбки, исполненной ласки и значения!..Глава 9
К середине последнего года своего пребывания в школе Солон окончательно решил, что дальше учиться не пойдет. Ему уже исполнилось шестнадцать лет, отец постоянно твердил, что нужно глубже вникать в то дело, заниматься которым ему предписывали обстоятельства, да и самому Солону нравилось работать с отцом. С каждым днем он все больше убеждался, что практическое воспитание, которое дал ему Руфус, помогает понимать, что от него требуется, и правильно выполнять поручения. Геометрия, физика, химия — все это, бесспорно, вещи важные, но стоит ли тратить на их изучение еще три-четыре года, если в будущем он не желал для себя ничего иного, как только работать вместе с отцом? Он поделился своими мыслями с отцом и матерью, и те согласились, что ему едва ли имеет смысл учиться дальше — разве только если он заинтересуется какой-нибудь специальной отраслью практических знаний, которая в будущем помогла бы ему более успешно продолжать отцовское дело. Но тут Синтия сообщила Солону новость, заставившую его призадуматься. Выяснилось, что Бенишия Уоллин на следующий год уже не вернется в даклинскую школу: осенью она поступает в Окволд — закрытое учебное заведение для юношей и девушек близ Филадельфии. Рода и Лора также собираются туда, и сама Синтия надеется через год последовать их примеру. Казалось бы, Солону это должно быть безразлично, — ведь все его отношения с Бенишией до сих пор сводились к тому, что он издали любовался ею, когда она в перемену прогуливалась с другими девочками по двору, и раскланивался с ней, встречаясь у школьных ворот до или после занятий. Но она словно излучала какое-то таинственное обаяние, и он, душой и телом поддаваясь этому обаянию, всегда пребывал в нервно-возбужденном состоянии, точно больной, которого треплет лихорадка. В просторном школьном помещении, где одновременно занимались все классы, его взгляд был постоянно прикован к ней. У нее были такие блестящие иссиня-черные волосы, такие глубокие глаза, такая нежная кожа; она казалась такой хрупкой по сравнению с ним. И столько грации было в ее движениях, когда она выходила на середину класса прочесть стихи или шла к доске решать арифметическую задачу, что Солона захлестывало томительное чувство, в котором смешивались любовь, восторг, желание и ощущение, что он во всем, решительно во всем безнадежно недостоин ее. Таким образом, последнее полугодие, проведенное Солоном в даклинской школе, стало для него порой бесконечных тайных мук, которые еще усилились, когда он узнал от Синтии, что Бенишия расстается со школой. Будь он похитрее, он, может быть, разыграл бы внезапно проснувшийся интерес к знанию и добился, чтобы его тоже послали учиться в Окволд. Но ему это не приходило в голову. Как ни силен был в нем любовный жар, он понятия не имел о тех уловках и ухищрениях, на которые способна любовь. Он только бродил и размышлял или же трудился над счетными книгами отца, в то же время мечтая о Бенишии. Между тем Бенишия, хоть и не видела никаких знаков особого внимания со стороны Солона, сама все чаще и чаще задумывалась о нем. Но ей казалось, что девушки его вообще не занимают.Глава 10
Отец Бенишии, Джастес Уоллин, был человек умный, способный и от природы деятельный, хотя значительное состояние, доставшееся ему по наследству, позволяло вести жизнь спокойную и праздную. Он не видел греха в том, чтобы упрочивать и умножать свой капитал, поскольку он при этом оставался верен заветам Джорджа Фокса и «Книги поучений», где под заголовком «Торговля» можно найти следующее предостережение: «Если кто станет обладателем большого достатка, пусть не забывает, что он — лишь управитель, обязанный отчитаться в справедливом употреблении доверенных ему благ». Бенишия была единственной дочерью Уоллина, и к ней должно было перейти все накопленное им богатство, но она явно была не из тех, кого привлекают деньги. Тихая, кроткая девушка, Бенишия казалась созданной для любви и скромного семейного счастья, а не для суетности и показного блеска; и Джастес и его жена понимали и высоко ценили эти ее качества, но с тем большей тревогой задумывались они над тем, кто же станет ее избранником и мужем. Они от души желали, чтобы ей повстречался честный и энергичный человек, достойный ее любви и способный ответить ей такой же любовью, человек, в чьи руки они спокойно могли бы передать все то, что должно было обеспечить благосостояние ей и ее мужу, а там, быть может, и детям. Впрочем, пока это еще оставалось делом далекого, туманного будущего. Однако на благополучном пути Уоллина встречались и тернии, уколы которых были довольно чувствительны. Прежде, в молодые годы, он очень страдал от своего малого роста и даже завидовал втихомолку высоким мужчинам; теперь источником беспокойства служили постоянные толки среди жителей округи: многие из них, квакеры и не квакеры, склонны были осуждать верхушку местной общины, к которой, по своему имущественному положению, принадлежал и он, не только за растущее благосостояние, но и за известную косность житейских представлений. А между тем Джастес, с его живым умом и природной демократичностью, был чужд всякого снобизма и отнюдь не склонен заблуждаться относительно прочности земных, материальных благ. Как и Руфус Барнс, он получил религиозное воспитание, веровал искренне и глубоко, и ему было неприятно, когда люди сомневались в неподдельности его квакерского благочестия, тогда как он в самом деле старался со всеми поступать по справедливости. Богатство и положение в обществе он приобрел не обманом или хитростью, а благодаря своим деловым способностям и уменью быть полезным другим. Но, так или иначе, он был богат, а среди местных квакеров многие относились к богатству недоброжелательно, о чем ему было известно, и потому он всегда чувствовал как бы некоторую потребность в самозащите, особенно на молитвенных собраниях в День первый, которые он исправно посещал. Среди присутствующих на собрании всегда находилось немало бедных, больных или плохо одетых членов общины, и нередко бывало, что кто-либо из них тут же вставал и обращался к Внутреннему свету, прося наставить его в час испытания. И, надо сказать, Уоллин всегда проявлял чрезвычайную отзывчивость к людям. Он не только выполнял поручения комитета старейшин даклинской общины, членом которого был, но и, никому о том не говоря, старался по возможности удовлетворять нужды беднейших, не поощряя при этом нахлебничества или праздности. Однако даже сам он чувствовал, что это еще не разрешает проблемы богатства — богатства, которое так необходимо для личного благополучия. Ему не давали покоя строки из «Книги поучений», в которых осуждалась «чрезмерная приверженность к земным благам» и говорилось о том, что подобные чувства «сковывают и принижают дух». Ему, Джастесу Уоллину, принадлежало большинство акций Торгово-строительного банка, треть всего капитала Филадельфийского страхового общества, дом на Джирард-авеню в Филадельфии, стоивший не менее сорока тысяч долларов, дом и земли при нем в сорок акров здесь, в Дакле, и еще немало движимого и недвижимого имущества; не следовало ли все это считать «сковывающим и принижающим дух»? А с другой стороны, разве мало добра он делает с помощью своего богатства? Разве он не член попечительского совета своего прежнего учебного заведения, Окволда? Разве он не оказывает ему постоянную поддержку щедрыми приношениями? Не финансирует любое начинание, возникающее в его стенах? Да, все это верно. А разве не с его помощью, денежной, конечно, построен новый молитвенный дом и школа в Дакле? Да, верно и это. Так, размышляя о своем все растущем богатстве, Уоллин наконец пришел к мысли, которая ему самому показалась разумной: что торговля и предпринимательство созданы господом богом специально для того, чтобы способствовать просвещению, образованию и общему благополучию всех людей на земле. Эту мысль он иногда высказывал вслух на молитвенном собрании, стремясь оградить себя от возможных упреков и в то же время оправдаться нравственно и перед богом и перед собратьями по общине; чаще всего это бывало в тех случаях, когда к нему обращались за денежной помощью — но уже после того, как он такую помощь оказал. Члены общины отлично понимали, в чем тут дело; но, зная его щедрую и широкую натуру, охотно верили в его искренность и соглашались признать за истину его постоянное утверждение, что он, как и всякий, кто занят каким-нибудь полезным делом на земле, — не хозяин своего имущества, вольный распоряжаться им к своей выгоде, но скорей лишь управитель или приказчик, выполняющий волю творца. Этим мыслям Джастеса Уоллина суждено было способствовать осуществлению мечты Солона, хотя последний — в то время во всяком случае — меньше всего думал об Уоллине и о его умонастроениях. И сам Джастес, и его жена, и дочь теперь редко показывались в Дакле. Жили они большею частью в Филадельфии, в своем доме на Джирард-авеню, неподалеку от конторы Уоллина, и посещали молитвенный дом на Арч-стрит. И вот впервые в жизни Солон узнал, что значит тосковать в разлуке. Но ни отец, ни мать, ни сестра — никто не догадывался о его тайной привязанности. Скрытный и замкнутый, он ничем себя не выдавал. Тем временем и Бенишия все чаще и чаще задумывалась о Солоне, сама не зная почему — ведь он никогда не выказывал ей каких-либо знаков нежного внимания. Но этот юноша, сильный, смелый, серьезный, прилежный, обходительный, — каким он ей казался, — невольно привлекал ее мысли. У него были такие ясные серые глаза и он так отличался от окружавших ее молодых людей, которые больше всего заботились о своих костюмах и кичились богатством и общественным положением своих родителей. Но, к сожалению, его, видно, не интересовали девушки. По странному стечению обстоятельств в семействе Барнсов нашелся еще человек, вызвавший симпатии одного из Уоллинов, и этим человеком была Ханна Барнс. Как-то раз Руфусу Барнсу пришлось поехать в Сегукит для выяснения некоторых деловых вопросов, связанных с его старой фермой, и Ханна отправилась на молитвенное собрание вдвоем с Солоном. Случилось так, что Джастес Уоллин, находившийся в это время в Дакле, тоже решил посетить молитвенный дом даклинской общины, в котором давно уже не бывал. Как почетный член общины, немало сделавший для нее в прошлые годы, он был приглашен занять место среди наставников и старейшин, которые сидели на возвышении, лицом к остальным, и таким образом не мог не увидеть Ханну и Солона, сидевших в одном из первых рядов. Если не в Солоне, то в Ханне, во всяком случае, было что-то, невольно привлекавшее взгляд каждого вдумчивого человека. От всего ее облика, ничуть не старомодного, веяло спокойствием и сосредоточенностью, этому способствовало одухотворенное выражение, присущее ей не только в час молитвы. Она не была красива в общепринятом смысле этого слова, но ее отличало какое-то особое, внутреннее обаяние. Ибо мысли ее всегда были заняты нуждами других людей — о собственных нуждах она не думала. Она располагала к себе проникновенным взглядом темных, широко поставленных глаз, энергичной и в то же время ласковой складкой губ, порой шевелившихся, словно в беззвучной молитве, — чаще всего это бывало в те минуты, когда она задумывалась о бедах и несчастьях, постоянно подстерегающих живые существа, и скорбела душой не только за людей, но и за животных. Очень долго — не меньше часу — длилась тишина. Никто, видимо, еще не почувствовал, что Внутренний свет велит ему встать и заговорить. Уоллин раздумывал, не встать ли ему и не обратиться ли к присутствующим с кратким словом о сущности богатства и о роли богача как управителя, выполняющего божью волю. Уже около года он не был на молитвенном собрании даклинской общины, и за это время здесь появилось немало новых лиц. Но только он принял решение, как в задних рядах поднялась пожилая, болезненного вида женщина в чепце и в шали из дешевой серой материи; она устремила взгляд в потолок и заговорила дрожащим, надтреснутым голосом: — Пусть Внутренний свет поможет мне и наставит на путь истины. Сын мой, Уильям Этеридж, которого многие из вас знают, — он работал здесь, в Дакле, несколько лет назад, — вернулся ко мне беспомощным калекой: в чужих краях он потерял правую руку, а теперь его мучает какая-то непонятная болезнь. Доктор Пэйтон, один из наших Друзей, лечит его; но боюсь, он не выживет. Я знаю, он не всегда был хорошего поведения, и здесь, верно, найдутся люди, которым есть в чем его упрекнуть. Но он мой единственный сын, и Внутренний свет, к которому я всегда старалась обращаться, говорит мне, что мать не должна отнимать у сына свою любовь. Я сама долго болела, и мне теперь живется нелегко, но я прошу вас всех об одном — помочь мне своей верой и своими молитвами, потому что мой сын очень болен. Она тяжело опустилась на свое место; но казалось, сама ее телесная слабость в сочетании с той силой и мужеством духа, которые давала ей вера, возвышает эту маленькую, тщедушную женщину над окружающими. Члены общины, взволнованные и растроганные, благоговейно молчали. Джастес Уоллин хотел было встать и вслух выразить свою уверенность в том, что старейшины общины не замедлят помочь миссис Этеридж в ее беде, но тут он увидел Ханну Барнс. Она стояла бледная, исполненная чувства религиозного и общественного долга по отношению к ближнему, которое в ней было так сильно. Постояв немного, она сказала: — И я, как миссис Этеридж, в свое время искала поддержки Внутреннего света, и потому уверена, что ее молитва будет услышана. Ее великая вера спасет ее сына. Я знаю это по себе. Когда моему сыну Солону, который сейчас сидит здесь, с нами, шел восьмой год, ему случайно вонзился в ногу топор; рана воспалилась, и он был при смерти. От страха и боли он горько плакал, и я сама готова была отчаяться. Но, веря в безграничную мудрость и милосердие господа, я всем сердцем обратилась к нему — так же как миссис Этеридж, — и в то же мгновение мой сын исцелился. Он сам может подтвердить это. Страх его прошел. Боль в ране утихла. Он стал улыбаться, и в моей душе наступил полный покой и просветление. Тогда я поняла, что бог услышал молитву и даровал исцеление моему сыну и мне. И вот сейчас, вместе с горячей благодарностью, я чувствую непоколебимое убеждение, что господь сделает для миссис Этеридж и ее сына то же, что сделал для меня и моего мальчика. Разве когда-нибудь он оставался глух к тем, кто прибегал к нему с любовью и верой? — С этими словами она села на место. Тогда в приливе сыновней любви и преданности встал Солон; дождавшись, когда шум и движение в комнате стихли, и, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, так, чтобы ясно было, что речь его обращена ко всем присутствующим, он сказал: — Моя горячо любимая мать говорит истинную правду. Я был на пороге смерти и чувствовал ее приближение. Я видел, как мать молилась у моего изголовья. Я слышал слова, с которыми она потом обратилась ко мне, — о том, что господь поручил мою жизнь ее заботам. И вдруг боль исчезла. Мне сделалось как-то необъяснимо хорошо. Через три дня моя рана, которая была очень серьезна, почтизатянулась. А через неделю я уже мог ходить и чувствовал себя совершенно здоровым. И я готов подтвердить, что молитва, обращенная к богу, не остается без ответа. Он обвёл взглядом всех, затем с нежностью посмотрел на свою мать и сел. На Джастеса Уоллина все это произвело сильное впечатление, хотя на собраниях квакеров не в редкость были подобные речи. Он был глубоко тронут горем и нуждой миссис Этеридж, ее искренней любовью к сыну, не мешавшей ей с горечью признавать его недостатки; но едва ли не больше всего поразила его вдохновенная человечность и отзывчивость миссис Барнс, ее чистосердечный рассказ о чудесном исцелении сына, который тут же подкрепил этот рассказ своим свидетельством. Какая сила чувствуется в этой женщине, сколько в ней простоты и в то же время какого-то своеобразного обаяния — в ее высокой, статной фигуре, уверенных движениях, безыскусственной манере говорить и держаться! Какой прекрасный пример силы квакерского учения! И как хорошо, что он, Джастес, не успел выступить со своим излюбленным тезисом о сущности богатства! Ну пусть богач — управитель земных благ, творящий божью волю; какое значение это может иметь перед лицом такой веры, рядом с такими доказательствами снисхождения творца к человеческим нуждам? Разве богатством можно исцелить человека, умирающего от тяжелой раны? Джастес Уоллин был настолько взволнован всем услышанным, что как только старейшины, сидевшие на возвышении, встали и начали прощаться, возвещая этим, что собрание окончено, он спустился вниз и подошел к Ханне, которую уже окружили другие члены общины, взволнованные не меньше его. Успев от соседа по скамье узнать ее имя, он взял ее за руку и спросил: — Тебя зовут Ханна Барнс, не так ли? — И, получив утвердительный ответ, сказал: — Я — Джастес Уоллин. Солон, стоявший в двух шагах от них, вздрогнул: он понял, что перед ним отец Бенишии. — А это, как видно, твой сын, — продолжал Уоллин, повернувшись к Солону и протягивая ему руку. — Да, это Солон, мой единственный сын, — ответила Ханна. — Мой муж Руфус на несколько дней уехал в Сегукит, штат Мэн. Мы раньше жили в этом городе, и у него еще остались там кое-какие неулаженные дела. — Значит, ты человек новый в Дакле и в даклинской общине, — не унимался Уоллин. Личность Ханны произвела на него сильное впечатление. Да и Солон тоже ему понравился — он так горячо и искренне говорил, подтверждая слова матери. — Да, мы здесь всего полтора года. После смерти Энтони Кимбера, мужа моей сестры, — он умер около двух лет тому назад, — мой муж взял на себя заботу о ее имуществе. Но прости меня. Я боюсь, что миссис Этеридж уйдет, а мне хотелось бы поговорить с ней. Меня так тронуло ее горе. — О, пожалуйста, пожалуйста! Извини, что я тебя задержал. — Уоллин поспешил посторониться. — Я сам хочу помочь этой бедной женщине, хотя, надо думать, община позаботится о ней. — Он сердечно пожал ей руку, и Ханна поспешила вдогонку за миссис Этеридж, чтобы спросить, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Имя Уоллина ничего ей не сказало, она не знала ни о том, что у него есть дочь, ни о любви своего сына к этой дочери. А Солон так и остался стоять, совершенно растерявшись от этого неожиданного внимания, проявленного Уоллином к его матери и к нему самому. — На меня большое впечатление произвело то, что рассказывала твоя мать и ты, — сказал ему Уоллин. — Я хотел бы узнать об этом поподробнее. Прошу тебя, передай матери, что, когда твой отец вернется, моя жена и я были бы очень рады видеть вас всех у нас. Ты, вероятно, знаешь наш дом — большой, серый, в конце Марр-стрит. Дела заставляют меня жить больше в Филадельфии, там у нас тоже дом, на Джирард-авеню, но мы охотно приезжаем в Даклу, когда только возможно. Он приветливо улыбнулся и протянул Солону руку. Солон, занятый мыслями о Бенишии, и только о ней одной, схватил эту руку и изо всех сил пожал, благодаря в душе судьбу, счастливый случай или Внутренний свет за то, что все так удачно вышло.Глава 11
Знакомство с Джастесом Уоллином не замедлило сказаться на жизни Ханны: по его предложению она была избрана членом женского комитета даклинской общины (при каждой общине имелись мужские и женские комитеты помощи нуждающимся; члены их должны были навещать больных и бедных и оказывать им посильную помощь). Уоллин был немало удивлен, узнав о родстве Руфуса Барнса с Энтони Кимбером; Кимбера он хорошо знал при жизни, и часть состояния покойного до сих пор была застрахована в компании, где Уоллин был одним из главных воротил. Примерно через неделю после случая в молитвенном собрании Уоллин с женой заехали в бакалейную лавку Эдварда Миллера, помещавшуюся на главной улице городка, — сделать кое-какие закупки на воскресенье. Миллер, один из самых зажиточных квакеров Даклы, был по природе человек общительный и всегда старался заручиться личным расположением своих сограждан. Так и на этот раз, увидя Уоллина, он рассыпался в приветствиях: — Кого я вижу! Друг Уоллин! Как поживаешь? Что-то ты стал забывать свой даклинский дом. Уоллин пояснил: Бенишия теперь учится в Окволде и не всегда приезжает домой даже на субботу и воскресенье, а потому они предпочитают проводить это время с ней, в специально отведенных для гостей помещениях. — Кстати, друг Уоллин, — продолжал Миллер, — знаешь, у тебя тут появился конкурент, который тоже утверждает, что всякая выгода и всякое богатство ниспосланы господом для блага всех людей. Это некий Руфус Барнс. Он сюда приехал из Сегукита, штат Мэн. Заметив, что Уоллин заинтересован, словоохотливый Миллер пустился в подробности. — Этот Руфус Барнс, видишь ли, является душеприказчиком покойного Энтони Кимбера по управлению его имениями, но вместо того, чтобы прижимать должников, друг Барнс с сыном взялись учить их, как лучше вести хозяйство, чтобы легче было платить по закладным. Мало того, он хлопочет о сбыте, о том, чтоб людям было где продавать все то, что они выращивают по его наставлениям. Сам он поселился в старой усадьбе Торнбро — милях в трех к востоку отсюда, и, знаешь ли, творит там чудеса. Усадьба стала просто украшением наших мест. У этого Барнса двое детей — сын по имени Солон и дочь. Мне он нравится, хороший человек. — А как зовут его дочь? — спросила миссис Уоллин. — Кажется, Синтия, — сказал Миллер. — И сын и дочь, оба ходили в местную школу в прошлом и в запрошлом году. А теперь, слыхал я от моей дочки Мэри, девочка собирается в Окволд вместе со своими двоюродными сестрами, дочерьми миссис Кимбер. — Да, да, это очень интересно, — прервал его Уоллин. — Рад слышать, что у меня нашелся единомышленник. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей, особенно из членов нашего Общества, прониклись этой идеей и руководствовались бы ею в жизни. Мое глубокое убеждение, что все мы — лишь управители при господе боге, — заключил он, и Миллер поспешил поддакнуть: — Разумеется, ты прав, друг Уоллин. Но при этом он невольно подумал, что, пожалуй, управитель, как называл себя Уоллин, не так уж обязан столь упорно заботиться о приумножении своих богатств. Спустя несколько дней, отправляясь по делам в Трентон, Уоллин, подстрекаемый любопытством, велел кучеру проехать мимо Торнбро, чтобы хоть издали взглянуть на усадьбу. Он помнил ее с детства, и как только за поворотом дороги открылись знакомые места, ему сразу же стало ясно, что к Торнбро вернулась вся былая прелесть. Да, этот Руфус Барнс, простой фермер из мэнского захолустья, видно, человек со вкусом, — судя по тому, чтó он сумел сделать из старого, полуразвалившегося строения и заброшенного участка земли. Уоллин ехал в Трентон в мечтательном, праздничном настроении, и всю дорогу его искушала мысль: а что, если нанести визит Барнсам? В конце концов ведь он же познакомился с Ханной и Солоном на молитвенном собрании общины. Не раз с тех пор мать и сын приходили ему на память. Уж не связывает ли он мысль об этом славном юноше со своей дочерью, Бенишией? Что за глупости! Ведь они оба еще дети. А все-таки надо будет, не откладывая, пригласить все семейство в гости. Однако прежде ему следует поинтересоваться судьбой миссис Этеридж и ее сына. Лия Этеридж, бедная швея, жила с сыном в убогом, покосившемся домишке на далекой окраине, почти у самой железной дороги. Дом был сколочен из тонких сосновых досок, во все щели дуло, черепица на крыше почернела от времени. Миссис Этеридж, худая, высохшая женщина, пригласила Уоллина войти и представила ему своего сына, чахлого молодого человека лет двадцати трех, который сидел, обложенный подушками, на кровати, занимавшей целый угол в одной из двух комнат домика; другая служила его матери мастерской. Оказалось, что Уильям Этеридж чувствует себя лучше, но Уоллина поразил не столько самый факт, сколько то обстоятельство, что улучшение, по словам Лии и ее сына, началось сразу же после того, как Ханна произнесла свою памятную речь. На вопрос Уоллина, когда именно Уильям почувствовал себя лучше, молодой человек отвечал совершенно точно: — Это случилось, когда матушка находилась в молитвенном собрании. — А когда вас навестил мой доктор? — спросил Уоллин; он просил врача, постоянно пользовавшего в Дакле все его семейство, осмотреть больного. — В День третий, — сказала миссис Этеридж. — Он дал Уильяму пилюли, и Уильям их аккуратно принимает. Ему стало лучше в Первый день, а пилюли врача он принимает лишь с Третьего, подумал Уоллин, но вслух ничего не сказал. Ему вспомнилось одухотворенное выражение лица Ханны, когда она говорила на молитвенном собрании, потом мысль его перескочила на Лию Этеридж, на ее горячую любовь к сыну, который явно того не стоил. Матери, матери! А впрочем, кто он, чтобы судить их? — Рад, очень рад, что твоему сыну лучше, — сказал он. — Я велю своему врачу, чтобы он и впредь навещал его. — И тут же он подумал, что в сущности незачем беспокоиться о враче, когда юноша в таких надежных руках — ведь о нем заботятся и миссис Этеридж и Ханна. Разве улучшение в здоровье больного не было прямым откликом на их обращение к богу, вдохновленное искренней верой? Уоллин твердо был убежден в этом. Неприятно пораженный нищенской обстановкой дома, Уоллин, уходя, сделал миссис Этеридж знак следовать за ним. Притворив дверь, он вынул бумажник и достал из него несколько банкнот. Но женщина отстранила его руку и взволнованно зашептала: — Нет, нет, нет! Не надо! Я не возьму, я не могу взять! — Ты должна принять от меня эту помощь, миссис Этеридж, — торжественно произнес Уоллин. — Глас веры, глас божий велит мне оказать ее. Что же, ты хочешь отринуть волю создателя? При этих словах выражение ее лица изменилось. Она внимательно посмотрела на него. В конце концов ведь он — член Общества друзей, такой же, как и она сама. Она беспомощно улыбнулась, и он вложил деньги ей в руку. — Наша вера тем и сильна, что она учит нас помогать друг другу в час нужды, — и Уоллин поставил ногу на единственную ступеньку крыльца. — Если тебе кажется, что врач не нужен, скажи ему, чтоб больше не приходил. Миссис Барнс помогла мне понять, что в боге наше истинное прибежище и наша сила. Он торопливо прошел через двор и сел в свой экипаж. Им владело незнакомое прежде чувство духовного просветления. Мысль работала лихорадочно и напряженно. Нужно научиться по-другому думать, по-другому жить. Нужно укрепить в себе веру. Ханна Барнс — вот чья жизнь воистину озарена Внутренним светом. С этой семьей нужно познакомиться поближе. В таком настроении он ехал домой, торопясь рассказать жене о событиях этого дня.Глава 12
Дом Уоллина в Дакле был обширных размеров и прочной, добротной стройки: нижний этаж каменный, из серого плитняка, столь излюбленного некогда строителями Пенсильвании и Нью-Джерси; верхний — деревянный, с резными украшениями и большой верандой на западной стороне, откуда открывался красивый вид на окрестности. При доме был сад величиной около двух акров, обнесенный невысокой плитняковой оградой, — с цветочными клумбами и симметрично расположенными дорожками, вдоль которых стояли каменные скамейки. Но всему этому недоставало той естественной прелести, которою отличалась усадьба Торнбро. Сразу было видно, что дом Уоллина обошелся куда дороже — об этом говорило все, от кладки стен до наружной отделки; но стоило только представить себе Левер-крик и его берега, усеянные цветами, увитую зеленью беседку в старинном духе, чугунную решетку, так красиво сочетающуюся с выбеленными стенами старого дома Торнбро, и становилось ясно, что эти два жилища и сравнивать нельзя. И дело тут было не в том, что Руфус обладал более утонченным вкусом, чем Уоллин. Не так уж далеко один ушел от другого в этом отношении. Но дом в усадьбе Торнбро был построен архитектором, понимавшим и ценившим красоту гораздо больше их обоих. Его чувство прекрасного и помогло ему осуществить то, что, по счастью, сумел подметить и воссоздать в своем воображении Руфус и к чему сейчас не остался глух Уоллин. Вернувшись после поездки по окрестностям Торнбро и посещения миссис Этеридж, Уоллин рассказал жене обо всем, что так сильно затронуло его эстетическое и религиозное чувство. Он поделился с ней впечатлением, которое произвела на него усадьба Торнбро, восстановленная в своем прежнем виде, потом описал свое пребывание у миссис Этеридж и высказал глубокую уверенность в том, что это Ханна Барнс и сама миссис Этеридж силою своей веры содействовали чудесному исцелению Уильяма Этериджа. Миссис Уоллин, женщину глубоко религиозную, заинтересовал и взволновал рассказ мужа, и она согласилась, что хорошо было бы поближе познакомиться с семейством Барнсов. А потому не прошло и недели, как Уоллины явились с визитом в усадьбу Торнбро, где Руфус и Ханна оказали им самый сердечный прием, — Руфус, надо сказать, был немало польщен вниманием Уоллина к нему и к его семье. Так было положено начало знакомству, скоро перешедшему в дружбу между семьями Уоллинов и Барнсов. Спустя некоторое время Руфус и Ханна получили от Уоллинов письмо с приглашением отобедать у них в Дакле всем семейством; дело происходило в День первый, и Синтия, как и Бенишия, приехала из Окволда домой. На всех Барнсов, кроме разве Ханны, большое впечатление произвела роскошь уоллиновского дома — массивная мебель красного дерева, украшенная затейливой резьбой, ковры и звериные шкуры на паркетных полах, большие красивые вазы с цветами и декоративными растениями. Вскоре после того как все общество расположилось в гостиной, вошел лакей, неся серебряный поднос, уставленный высокими бокалами с фруктовым соком, что весьма удивило и даже несколько смутило не искушенных в светских обычаях Барнсов. Корнелия Уоллин сразу почувствовала сердечное расположение к Ханне Барнс. А Джастес Уоллин, беседуя с Руфусом, все больше и больше изумлялся искренности и простоте, отличавшими этого человека. Солон тоже понравился хозяину дома своими скромными, сдержанными манерами, своим немногословием. Он, видимо, был вдумчив по натуре; когда к нему обращались с вопросом, требовавшим сложившегося мнения или точного знания фактов, он слегка щурил глаза и морщил лоб, потом, если не мог найти быстрого и убедительного ответа, улыбался милой, подкупающей улыбкой и говорил: — Сэр, я недостаточно знаю этот предмет, чтобы говорить о нем с уверенностью. Иногда он прибавлял: — Могу только сказать, что мне кажется так-то и так-то. Или: — Позволь мне подумать, прежде чем ответить. Такая осмотрительность была по душе не только Джастесу, но и родителям юноши. Впрочем, при всей своей выдержке и кажущемся спокойствии Солон очень волновался, так как мать сказала ему, что Бенишия тоже будет на обеде. А он, с самой первой их встречи, и надеялся понравиться ей, и в то же время мучительно опасался, что надежда эта не сбудется. Она казалась ему такой прекрасной, такой привлекательной — и, надо сказать, о том, что она дочь богатого отца, он вовсе и не думал; только вот сейчас ему пришло в голову, что ей скорее может понравиться юноша, более близкий по положению — тоже сын какого-нибудь богача. Эта мысль показалась ему настолько невыносимой, что он не мог усидеть на месте, встал и принялся ходить из угла в угол, что вообще было не в его привычках, однако сейчас неожиданно послужило ему на пользу, так как Уоллин увидел в этом проявление пытливого ума, — качества, по его давним, хотя, может быть, и не вполне верным наблюдениям, весьма ценного для делового человека. Но тут в комнату вошла Бенишия с книгами под мышкой, свежая, улыбающаяся, одетая удивительно к лицу. Во всяком случае, Солону, увидевшему ее даже раньше, чем отец и мать, она показалась очаровательной в своем простеньком синем с голубым платье, сером корсаже и квакерском чепчике. В ее матовой бледности не было ничего болезненного. Темные глаза казались совсем фиалковыми. А белизна ее рук! А эта улыбка, которой она улыбнулась отцу и матери, еще не успев увидеть гостей! Тем более что Солон, заслышав ее шаги, поспешил забиться в самый дальний угол гостиной, где стояла этажерка с книгами, взял в руки одну из них, «Дневник» Джона Вулмэна, и сделал вид, что читает. Однако, услыхав свое имя, произнесенное Уоллином, он отложил книгу, вышел на середину гостиной и, глядя на Бенишию с благоговением и чуть ли не со страхом (почему — этого он сам бы не сумел объяснить), сказал: — Как поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Бенишия в первый раз за все их знакомство ласково улыбнулась ему, и Солон с восторгом почувствовал, что его присутствие не раздражает ее, а напротив, даже чем-то ей приятно. — Бенишия, — сказал Джастес, — ты ведь знакома с этим молодым человеком? Вы как будто ходили в одну школу? И сестру его, Синтию, ты тоже знаешь? — Ну еще бы, — отвечала Бенишия. — Мы с Синтией вместе учимся в Окволде. Любезность Уоллина и ласковый взгляд Бенишии подбодрили Солона, и он нашел в себе силы выговорить: — Я тоже собирался поступать в Окволд, но я нужен отцу дома, пока во всяком случае. Может быть, поступлю поздней. Уоллин между тем снова подсел к Барнсу и завел с ним беседу о кое-каких старых домах в округе, которые стоило бы приобрести, с тем чтобы, произведя необходимый ремонт, пустить в продажу, а Корнелия с Ханной углубились в обсуждение деятельности местной общины. Бенишия, чувствуя себя обязанной занимать Солона, поддержала начатый им разговор. — Тебе бы, наверно, понравилось в Окволде, — сказала она. — Лекций много, и они очень разнообразны. — Она перечислила несколько предметов, которые там изучали. — Разумеется, молодые люди отделены от девушек; у нас свои дортуары и аудитории, у них свои, но мы сходимся вместе на утреннем чтении Библии, и некоторые специальные лекции тоже слушаем вместе. А вообще там очень славно, почти как дома. Есть особые помещения для гостей, очень уютные, и ко многим по праздничным дням приезжают родители. Мои папа и мама тоже часто навещают меня, и я слыхала, твоя тетя Феба собирается в гости к твоим двоюродным сестрам. Бенишии хотелось добавить, что и он мог бы как-нибудь приехать вместе с родителями в гости к Синтии или присоединиться к тетушке Фебе, когда та отправится навестить своих дочерей, но ей припомнились отцовские наставления насчет знакомств с молодыми людьми, и она решила посоветоваться прежде с матерью. У Солона не хватило смелости заговорить с нею о новой встрече, так что дело у них, казалось бы, ничуть не подвинулось. Однако при мысли, что, может быть, он не скоро ее опять увидит, все его радостное настроение улетучилось. Лицо его так уныло вытянулось, что Бенишия, чутьем угадывая причину, отказалась от принятого было решения и сама предложила ему как-нибудь приехать в Окволд. Эта неожиданная смелость с ее стороны и удивила его и привела в восторг; он мгновенно просиял, и уже весь вечер с его лица не сходила благодарная улыбка. Бенишия сразу заметила в нем перемену, — трудно было этого не заметить, — и порадовалась за него, но в то же время и встревожилась: она вдруг поняла, как много она для него значит. Ей стало стыдно за свое притворное безразличие, и она постаралась загладить его если не словами, то всем своим поведением. Ее глаза смотрели на Солона ласково, губы нежно улыбались. Вошел дворецкий и торжественно объявил, что кушать подано. Никому из Барнсов до сих пор еще не доводилось присутствовать при такой церемонии. Уоллин подошел к Бенишии и Солону и с улыбкой спросил: — Ну как, у вас, видно, нашлось о чем поговорить? — Конечно, нашлось, папа, — с живостью ответила Бенишия. — Я рассказывала Солону про Окволд и про то, как вы с мамой приезжаете туда ко мне в гости. Он бы тоже мог как-нибудь приехать с вами, повидать свою сестру и кузин. — Отчего же, разумеется, — радушно согласился Уоллин. — Места сколько угодно, и это очень приятная поездка. — Вот и чудесно, папа! — весело вскричала Бенишия. И Солон, ободренный столь благоприятным оборотом дела, вежливо поблагодарил Уоллина за приглашение. — Тебе не меня надо благодарить, а мою дочку, — сказал Уоллин, обнимая Бенишию за плечи. — Ведь это она первая придумала. Но мне эта мысль нравится не меньше, чем вам обоим.Глава 13
Любезный прием, оказанный Уоллином гостям, объяснялся не только искренним удовольствием, которое ему доставляла дружба, установившаяся между обеими семьями и, в частности, между Солоном и Бенишией. Руфус с сыном навели его на мысль о том, как можно практически разрешить одну стоявшую перед ним задачу. Дело в том, что за последнее время в Дакле все больший размах приобретала финансовая деятельность — страховое дело, операции по ссудам и по закладным. И вот ему пришло в голову, что неплохо бы поручить двум таким честным и работящим людям — к тому же квакерам, как и он, — представлять здесь его деловые интересы. План был прост: Руфус открывает в Дакле контору, сажает туда своего сына и выступает в качестве представителя банка и страховой компании Уоллина; Уоллин готов был взять на себя расходы по найму помещения в первый год, а если дело окажется выгодным, то и в дальнейшем. Ему все сильнее нравился Солон, и, поскольку родного сына у него не было, он стал подумывать о том, чтобы, приучив этого мальчика к делу, взять его потом в свой банк в Филадельфию. Еще до описанного обеда он поделился своими планами с Руфусом и встретил полное одобрение; Руфус даже сказал, что у него есть на примете подходящее место для конторы. В ближайшие две недели все было подробно обсуждено и вырешено, и Руфус с сыном сделались служащими Джастеса Уоллина. Руфус снял половину пустовавшего склада неподалеку от городской почты, и Солон вместе с маляром и плотником немало потрудились над тем, чтобы придать помещению как можно более солидный вид. Уоллин прислал из Филадельфии три конторки, два стола, несколько стульев и картотечных шкафов — все это вышло из употребления в его банке, но вполне могло пригодиться здесь. В результате их общих стараний в Дакле появилось новое агентство по продаже и покупке недвижимости, занимавшееся также страховыми и ссудными операциями, что, несомненно, подняло деловой престиж городка. Все эти перемены в жизни Солона, возбуждая его энергию, в то же время нарушили его душевное равновесие. Его теперь постоянно преследовал образ Бенишии, ее лицо, ее улыбка, звук ее голоса. Он молча хранил все это в себе, хотя бывали минуты, когда ему мучительно хотелось поговорить о ней с кем-нибудь, и прежде всего — со своей матерью. Но как ни сильно было его увлечение, оно не могло вытеснить заветов квакерской веры, внушенных ему с детства, и потому при первом же посещении дома Уоллинов его поразило несоответствие между богатством этого дома и той простотой жизненного уклада, к которой он привык. Правда, и нынешний дом Барнсов, после всего, что там сделал его отец, не вполне соответствовал этому идеалу простой жизни. Но, с другой стороны, Солон хорошо знал, как трудно жилось его горячо любимой матери в Сегуките; неужели же все эти годы любви и беззаветного служения не дали ей права на более красивое и удобное жилье, чем обветшалая, невзрачная сегукитская ферма, тем более что у многих их собратьев по вере дома гораздо лучше? И ему ли требовать от Уоллинов, чтобы они изменили свой образ жизни согласно «Книге поучений»? Ведь теперь и он сам и его отец трудятся изо дня в день для того, чтобы заработать Уоллину побольше денег, и за это он получает пятнадцать долларов в неделю, а его отец — процент с оборота. Где еще он, в свои годы, мог бы занимать такое положение? Да и отец его тоже. Спустя короткое время Уоллин стал уговаривать Руфуса заменить свой старомодный шарабан и кобылу новым выездом, и Руфус с Солоном не нашли что возразить, поскольку Уоллин брал на себя всю разницу между стоимостью старого экипажа и нового. При этом он сказал Руфусу: — Ты же знаешь, как много я выиграл от того, что ты передал страховку и все закладные Кимбера в мою фирму. Да, можно рассчитывать, что дела у нас здесь пойдут неплохо. И должен тебе сказать, Руфус, сын у тебя — просто клад. Эта похвала до того растрогала Руфуса, что вечером, перед тем как сесть за обеденный стол, он прочитал в семейном кругу 33-й псалом:«Благословляю господа во всякое время; хвала ему непрестанно в устах моих».И голос его дрогнул от избытка благодарного чувства. А ведь он еще не подозревал о влечении Солона к Бенишии и ее ответной склонности, не знал он и тех планов относительно этой пары, которые уже шевелились в голове Уоллина. Решение Уоллина взять на службу Руфуса и Солона сразу же оправдало себя. Не прошло и месяца, как Руфус уже отыскал в округе три больших дома, которые с помощью несложных перестроек можно было превратить в удобные загородные виллы. Что касается Солона, то на его попечении находились все приходно-расходные книги; кроме того, он вел переговоры с намечаемыми клиентами по указанию отца или главной конторы в Филадельфии, а иногда и по собственной инициативе. К этим своим обязанностям он относился особенно ревностно и, только учуяв где-либо возможность завербовать нового страхователя или иного клиента, рвался вперед, точно гончая за зайцем. Но как он ни был занят работой, он все же находил время томиться и мечтать о Бенишии. Это превратилось для него в настоящую пытку. Неделя за неделей проходила после того знаменательного обеда у Уоллинов, а от нее все не было вестей. Любопытно, что именно в эту пору, когда он почитал себя забытым и покинутым, ему удалось совершить два поступка, которые хоть и не имели прямого отношения ни к любви, ни к деловой карьере, однако сразу же продвинули его к цели и в том и в другом. Как-то раз, проходя мимо недавно открывшейся в Дакле книжной лавки, он увидел в витрине Библию небольшого формата. Склонный от природы к благочестивым размышлениям, он приобрел эту Библию и принес ее не домой, где имелся старый и довольно потрепанный экземпляр, а в контору. До сих пор ему не доводилось еще самостоятельно выступать в молитвенном собрании общины, не считая того раза, когда он поднялся вслед за матерью, чтобы подтвердить ее слова; но после этого случая у него появилось желание подготовиться к тому, чтобы когда-нибудь встать и рассказать членам общины об озарениях Внутренним светом, которые у него подчас бывали и которым он готов был приписать правильность тех или иных своих поступков и суждений как о людях, так и о делах. Купленную Библию вместе со старенькой «Книгой поучений», давним подарком матери, Солон держал в дальнем углу своей конторки, но тем не менее очень скоро они попались на глаза его отцу. Тот, однако, лишь порадовался этому, как доказательству, что его сын, ведомый Внутренним светом, на верном пути, — и ничего не сказал. Напротив, лицо его просияло от удовольствия, и он мысленно возблагодарил бога за руководство помыслами юноши. Затем, надев шляпу, он вышел пройтись, чтобы не смущать Солона, когда тот вернется в контору; с тех пор как семья переехала в Даклу и сын мало-помалу сделался его незаменимым помощником во всех делах, Руфус стал относиться к нему с искренним уважением, ценя его энергию, его ум, его сыновнюю привязанность и честный, справедливый подход к людям. Немного спустя Солон, часто вспоминавший «Дневник» Джона Вулмэна, который он в замешательстве листал в гостиной Уоллинов, ожидая появления Бенишии, решил приобрести и эту книгу и выписал ее из Филадельфии. История удивительной жизни этого человека оказалась весьма занимательным чтением; написанная в форме связного повествования, она воспринималась легче, чем Библия или «Книга поучений». К тому же он знал, что и Бенишия читала эту книгу, и ему хотелось непременно прочесть ее до их новой встречи. Уоллин часто наведывался в даклинское агентство, чтобы посмотреть, как там идут дела. В одно из своих посещений он заметил книги, лежавшие на конторке Солона. Это лишь подтвердило первое впечатление, которое произвел на него молодой Барнс, и укрепило его в мысли, что юноша заслуживает всяческой помощи и практической поддержки. Тем более что и Бенишии он нравился. Со слов жены Уоллин знал, что Бенишия откровенно призналась в своей склонности к Солону и просила как-нибудь захватить его с собой, когда они поедут в Окволд. И вот наконец после долгих недель терпеливого ожидания Солон получил приглашение сопутствовать Уоллинам в их поездке в Окволд в ближайший же День первый, который пришелся на седьмое апреля.
Глава 14
Ханна Барнс, узнав об этом приглашении, не столько удивилась, сколько встревожилась, увидя в нем предвестие перемен в положении семьи, перемен, к которым она не считала себя и своих близких подготовленными. В Сегуките они с Руфусом вели нелегкую, трудовую жизнь, но, на взгляд Ханны, им жилось там достаточно хорошо. Когда ее сестра Феба вышла замуж за Энтони Кимбера, все кругом сочли это большой удачей, и только Ханне казалось, что Феба отчасти утратила природную скромность и простоту, которые так высоко ценились в квакерской среде. Разве теперь, после замужества, Внутренний свет ярче воссиял в ее душе? При всей своей любви к сестре Ханна знала, что это не так. Вот и сейчас — хотя Корнелия Уоллин сразу же внушила ей симпатию, да и сам Джастес тоже, — тем более что она угадывала его душевное смятение и считала, что он особенно нуждается в руководстве свыше, — она искренне желала им уразуметь, какие серьезные испытания для души несет с собою богатство. А Уоллину, видимо, не терпелось увеличить свои владения в округе Бартрем, — не для того ли он предложил обоим Барнсам работать у него? Конечно, Солону, как и Руфусу, нужна прилично оплачиваемая работа, и потому следовало бы, пожалуй, посоветовать Солону принять это крайне любезное приглашение; но в ночь после того, как оно было получено, Ханне приснился сон, который ее озадачил и смутил. Около четырех часов утра Ханна внезапно проснулась, вся под впечатлением напугавшего ее сна. Ей привиделся большой огороженный луг, на котором паслась красивая черная кобыла. И вот появляется Солон, через плечо у него перекинуты нарядная уздечка и седло темно-коричневой кожи. Повесив то и другое на столбик, он перепрыгивает через изгородь и негромко свистит, подзывая кобылу. Та поднимает голову и рысцой бежит на зов. Пока Солон седлает и взнуздывает ее, она стоит смирно, только роет землю левым передним копытом. Но вот все готово, Солон легко вскакивает в седло, держа в руке повод, — и тотчас кобыла начинает брыкаться, словно взбесившись. Она кидается в одну сторону, потом в другую, неистово мотает головой, то взвивается на дыбы, то приседает на передние ноги, а задними в это время отчаянно бьет, стараясь сбросить Солона. Но он сидит так крепко, что ей это не удается. Тогда, разъяренная, она устремляется прямо на изгородь; сила толчка выбрасывает Солона из седла, он перелетает через изгородь и ничком падает на землю, разметав руки в стороны. Его неподвижность, вся его поза говорят о том, что он без сознания и, вероятно, серьезно ранен… Тут Ханна и проснулась, вся в холодном поту от пережитого страха. Она тотчас же встала и, засветив лампу, поспешила в комнату Солона. Но еще с порога она увидела, что он мирно спит в своей постели, живой и невредимый; до нее доносилось его ровное, спокойное дыхание. Стараясь не потревожить его, она тихонько притворила дверь и вернулась к себе; но до утра пролежала подле Руфуса, не смыкая глаз и думая о том, к чему бы этот странный сон — прекрасное животное, такое кроткое и покорное, и этот внезапный приступ непонятной, губительной ярости. А ведь Солон, пока не очутился в седле, казалось, был так уверен в добром нраве кобылы и ее послушании. Что бы все это могло значить? Ханна решила никому не рассказывать о своем сне, но она не могла отделаться от чувства, что каким-то образом он связан с предстоящей поездкой Солона в Окволд в обществе Уоллинов. Или во всяком случае с неожиданной переменой в материальном и общественном положении семьи. Что касается Солона, то его эта поездка в Окволд привлекла только потому, что сулила ему встречу с Бенишией. В Окволде жило и училось около двухсот человек молодежи, все — сыновья и дочери филадельфийских и окрестных квакеров, разумеется, юноши и девушки были отделены друг от друга, и это разделение строго соблюдалось: не только их дортуары и столовые находились в разных зданиях, но они не встречались даже в часы отдыха и приготовления домашних заданий. Вот почему девушки особенно дорожили посещениями родных: под родительским присмотром можно было приглашать в гости нравившихся им молодых людей из числа однокашников. Бенишия относилась к этому равнодушно; она от природы была застенчива, и молодые люди ее не интересовали — за исключением Солона. Однако в день его приезда она тоже решила воспользоваться присутствием родителей и позвать гостей. В числе приглашенных были двое красивых юношей, отпрыски богатых уилмингтонских семейств, успевшие заслужить благосклонность сестер Кимбер, хорошенькая темноглазая девушка по имени Сьюзен Скэттергуд, приятель Синтии, Барнабас Литтл, и еще двое молодых людей, Коггсхолл и Паркер. Обоим очень нравилась Бенишия, но так как все ее внимание было поглощено Солоном, им пришлось ухаживать за Лорой Кимбер. Окволдская молодежь очень любила такие сборища, позволявшие им хоть на несколько часов вырваться из благочестивого однообразия школьной рутины. Конечно, ни музыки, ни танцев, ни сколько-нибудь азартных игр тут не допускалось. Да и наряды собравшихся мало чем отличались от традиционной квакерской одежды, которую они носили в будни. Особенно запомнилась Солону в этот день затеянная кем-то игра в «веревочку». Веселая вереница играющих растянулась по просторной зеленой лужайке, окружавшей павильон для гостей. Солон побежал было, чтобы встать рядом с Бенишией, но Коггсхолл и Паркер оказались проворнее его. Лора Кимбер, стоявшая первой, оказалась без пары; Солон подошел и взял ее за руку. Оба его соперника вместе с Бенишией стояли довольно далеко, и это обстоятельство немало раздосадовало Солона. — Слушай, — сказал он Лоре, становясь с нею рядом, — как только я обниму тебя за талию, сейчас же отпусти руку соседа. Наконец все встали по местам. Солон крикнул: «Вперед!» и бросился бежать, увлекая за собой всю вереницу. Он бежал зигзагами и петлями, делая неожиданные и резкие повороты, и согласно правилам игры все должны были следовать за ним, стараясь не оторваться. Наконец он заметил, что Бенишия уже с трудом поспевает за остальными. Этого-то он и дожидался. Круто завернув назад, к хвосту вереницы, где было место Бенишии, он шепнул Лоре: — Отпускай! Я тебя удержу! Она сразу вырвала у соседа руку. Все остальные по инерции еще продолжали бежать вперед, но порядок нарушился, и задние наскакивали на передних. Солон подскочил к Бенишии, беспомощно цеплявшейся за Коггсхолла и Паркера, обхватил ее за талию и помог устоять на ногах. — Ах, ты меня просто спас! — с благодарностью воскликнула она. — Еще секунда — и я бы упала и разбила себе нос. — А я знал, что ты не упадешь, — сказал он. — Как же ты мог знать? Ты был так далеко от меня. — Если ты обещаешь не выдавать меня, я тебе скажу. — Обещаю, — заверила Бенишия, польщенная и тронутая его вниманием, но в то же время заинтригованная неожиданно проявившейся в нем хитростью. — Я нарочно свернул, чтобы оказаться поближе к тебе, когда все начнут падать, — сказал он, указывая на остальных участников игры, которые в это время поднимались с земли и отряхивали запачкавшуюся одежду. — Так, значит, ты это все подстроил ради меня? — сказала она, и в ее голосе прозвучала нежность, похожая на любовь. — Какой ты сильный — всех перетянул! — Но ты не сердишься на мою проделку? — Он посмотрел на нее умоляюще. — Я просто не мог удержаться. — Солон! — Она как-то особенно ласково произнесла его имя. — За что же мне сердиться? Ведь это игра! Он помолчал, как будто ему трудно давались слова, которые он хотел сказать. — Если бы… если бы я… — начал он и запнулся. — Что, Солон? — Бенишия… — вымолвил он робко. — Я не могу. Я тебе скажу в другой раз. Их окружили остальные, и разговор поневоле сделался общим.Глава 15
Это взаимное полупризнание явилось полной неожиданностью и для Бенишии и для Солона; оба были смущены и даже потрясены тем, что сорвалось у них с губ во время краткой сцены на лужайке. Бенишию помимо всего тревожила мысль о том, что скажут отец и мать, если они заметят все растущую взаимную склонность ее и Солона. Что до Джастеса Уоллина, то он пока не был расположен поощрять Солона в чем-либо, не имеющем прямого отношения к делам фирмы. Он считал, что Бенишия еще слишком молода, да и Солон тоже. Мальчик старается, но нужно еще посмотреть, что из него выйдет. Таким образом, после возвращения в Даклу и до самого конца учебного года в Окволде, то есть до последней недели мая, Солон не имел никаких известий о Бенишии, разве только его сестра Синтия иногда упоминала о ней. Но на помощь ему неожиданно пришли иные силы. Роде Кимбер к тому времени исполнилось уже шестнадцать лет; это была хорошенькая девушка живого и бойкого нрава. Квакерское воспитание не мешало ей инстинктивно чувствовать, какую большую роль играют в жизни отношения между полами, и в ней уже сильна была потребность кое-что испытать, побуждавшая ее откликаться на такую же потребность в существах другого пола, — хоть дело и не шло дальше приветливых улыбок, расточаемых юношам одного с ней или даже более высокого общественного положения. Как и ее покойного отца, Роду влекло к беспечной жизни, к роскоши, которая лишь в очень умеренной степени допускалась у них в доме и в других квакерских домах округи, но зато бросалась в глаза у богатых соседей не из квакеров, щеголявших дорогими лошадьми и экипажами, пышностью обстановки, изысканными, модными нарядами. Рода сознательно предпочитала этот мир роскоши и богатства. Стремления квакеров к строгой простоте были вовсе не по ней, и она твердо надеялась со временем посредством замужества вырваться из привычной среды. Она не без интереса отметила, как ласкова была Бенишия с Солоном, когда он приезжал в Окволд; не укрылась от нее и все растущая близость между семьями Уоллинов и Барнсов. И вот, горя желанием поскорее начать светскую жизнь, она задумала устроить домашнюю вечеринку, пригласив Солона — в качестве приманки для Бенишии — и трех или четырех молодых людей из Окволда, в частности Айру Паркера, который ей давно уже нравился. Но тут возникала основная или, вернее, дополнительная проблема — где именно устраивать вечеринку. Дело в том, что дом Кимберов в Трентоне не мог и сравниться с особняком Уоллинов. Он стоял на одной из лучших улиц в городе и был хорошо обставлен, но не велик и с обеих сторон зажат другими такими же домами. Здесь не приходилось и думать о каких-либо развлечениях на свежем воздухе, что так легко было бы устроить в саду при даклинском доме Уоллинов или на просторах усадьбы Торнбро. И зачем только матери вздумалось отдать эту чудесную усадьбу дяде Руфусу? Правда, когда Роде случалось проезжать с матерью мимо Торнбро до того, как там поселился Руфус, запущенная, полуразрушенная усадьба вовсе не казалась ей чудесной. Но в нынешнем своем виде это было просто идеальное место для осуществления ее затеи! Можно будет объяснить Айре Паркеру, что Торнбро подарен тетке Ханне и дяде Руфусу ее матерью, это даже поднимет семейство Кимбер в его глазах. Единственное, что не нравилось Роде в Торнбро, это библейские тексты на стенах. Но в конце концов и это не так уж важно, поскольку все гости будут из квакерской среды. Оставалось одно: уговорить Синтию подать мысль насчет того, чтобы устроить праздник в Торнбро. Солон, в своем увлечении Бенишией, разумеется, возражать не будет. И в конце концов все вышло именно так, как хотела Рода. Солон втайне радовался ее затее, а Ханна нашла ее вполне естественной и одобрила. Бенишия, думая о Солоне, охотно согласилась принять участие, и вскоре все было решено окончательно: праздник должен был состояться в первую субботу июня.Глава 16
Трудно было представить себе более красивое и более располагающее к веселью место, чем усадьба Торнбро, — так по крайней мере казалось всем этим юношам и девушкам, еще только вступающим в жизнь. В парке было множество поэтических уголков, особенно по берегам Левер-крика. Беседка из зелени, с ее скамейками в узорной тени молодой листвы, казалась словно созданной для игр или флирта. Тетушка Феба, восхищенная успехами Руфуса и Солона, а также из желания сделать приятное дочери, позаботилась о том, чтобы в развлечениях не было недостатка. Она распорядилась расчистить в парке площадку для тенниса, привезла из города сетку, ракетки и мячи, а для желающих — крокет. Ей же пришло в голову заготовить с десяток сачков на длинных палках, на случай если найдутся охотники половить не слишком расторопную рыбешку, водившуюся в Левер-крике. По просьбе Роды были куплены также шахматы, шашки и домино. О картах, разумеется, не могло быть и речи. День выдался солнечный и теплый, и молодежь веселилась от души. Рода, помня о новых жизненных перспективах, открывавшихся Солону, изощрялась перед ним в любезности и остроумии, чем повергла его в немалое недоумение. Не мог же он знать, что все это предназначалось не столько для его ушей,сколько для ушей Айры Паркера. Рода не преминула поставить этого молодого джентльмена в известность о том, что Уоллины специально привезли на этот день Бенишию из Филадельфии, а вечером заедут за ней и отвезут в свой даклинский дом. Что касается Солона, то с той минуты, как появилась Бенишия, он уже ни о чем и ни о ком не мог думать. Она была так прелестна в своем бледно-голубом муслиновом платье, — настоящее воплощение весны. Ее личико, точно цветок, выглядывало из синего квакерского чепца, к корсажу был приколот букетик полураспустившихся роз. Из-под длинной, доходившей до щиколоток юбки порой мелькали серые с синим туфельки. Она приехала вскоре после полудня в сопровождении отца и матери, и Солон тотчас же вызвался показать ей дом и парк; впрочем, за ними увязалось еще несколько девушек и молодых людей. Бенишия от всего приходила в восторг; она помнила Торнбро обветшалым и заброшенным, каким оно было несколько лет назад, и изумлялась тому, что его удалось так хорошо восстановить. В доме внимание Бенишии привлекли цитаты из Библии, выведенные на стенах. — Ах, как мне нравятся здесь эти библейские тексты! — воскликнула она. — Кто это придумал? — Придумал мой отец, — сказал Солон. — Но выбирать тексты помогала мама. — И моя мама тоже, — ревниво поспешила вставить Рода, уязвленная нескончаемыми похвалами, которые Бенишия расточала по адресу Руфуса. — Да, правда, — скромно подтвердил Солон. — Видишь ли, после смерти дяди Энтони тетушка Феба пожелала, чтобы мой отец взял на себя управление ее имениями, — только благодаря этому мы и попали в Даклу. Отец не хозяин здесь. Если бы не тетушка Феба, мы бы и мечтать не могли о том, чтобы жить в таком доме. А вообще он у нас в конторе числится как продажный, и любой, у кого хватит средств, может приобрести его. Рода осталась очень довольна таким объяснением, как нельзя лучше, по ее мнению, обрисовывавшим суть отношений между семьями Барнсов и Кимберов. Но Бенишию неприятно кольнуло это явное желание Роды принизить своего двоюродного брата, тем более что, как не трудно было заметить, мать Роды больше всех выиграла от управительства Руфуса. Вслух Бенишия ничего не сказала, ничем не выдала своих мыслей, но Рода с этой минуты стала ей гораздо менее симпатична. Солон недаром в последнее время усиленно читал «Дневник» Джона Вулмэна; он больше всего боялся показаться корыстным и себялюбивым и потому, как только они с Бенишией остались одни, вернулся к этому вопросу, желая представить себя и своих родителей в истинном свете. — Знаешь, Бенишия, — начал он, — перед тем, как переехать в Даклу, мы жили на ферме в Сегуките, в простом деревенском доме. Да еще у отца была в городе небольшая фуражная лавка. Я не хочу, чтобы ты обманывалась относительно нашего положения. Мы действительно очень многим обязаны тетушке Фебе. Если нам так хорошо живется здесь, то лишь благодаря ее доброте и заботам. Бенишия ответила не сразу. — Не надо, Солон, — сказала она наконец с глубоким чувством в голосе. — Ты мне ничего не должен объяснять. Ты сам знаешь, как мы все к тебе относимся. У нас в доме очень часто говорят о тебе, и отец и мать. А я… — она запнулась и вся порозовела от смущения. — Бенишия! — Голос Солона взволнованно задрожал. — Что — ты, Бенишия? Но Бенишия молчала. Они приближались к берегу Левер-крика, а там, в тени раскидистого дерева, среди травы и цветов сидели Рода и Айра Паркер. — Идите сюда, глядите, сколько здесь рыбок! — позвала их Бенишия; она остановилась на мостике, перекинутом через ручей, и смотрела, как бурлит вода у большого камня. Но Рода продолжала начатый разговор. — Когда дядя Руфус приехал сюда, — рассказывала она, обращаясь к Айре Паркеру, достаточно, впрочем, громко, чтобы Бенишия могла услышать ее, — ручей был полон тины, а дно все завалено камнями и корягами, но мама велела его вычистить, и вот теперь видишь, какой он стал красивый! Да, кстати, Солон, где те сачки, которые мама купила в Филадельфии? Принес бы ты их сюда, мы бы попробовали половить пескарей — это очень весело. Сквозь прозрачную воду было отчетливо видно, как между островками водорослей снуют серебристые, серые, красноватые рыбки. Попадались и пескари и рыба покрупнее; одни проворно шныряли от островка к островку, другие словно дремали в тихо катящихся струях. — Я сейчас сбегаю, — вызвался Паркер, вскочив на ноги. — Где они? — Нет, я пойду сам, — сказал Солон. — Ты не найдешь. — И он бегом пустился к дому. Через несколько минут он вернулся с сачками, дал по одному Бенишии, Роде и Айре Паркеру, а остальные положил на видном месте, на случай, если найдутся еще любители рыбной ловли. Бенишия перешла на другой берег, и Солон последовал за ней. — Только не нужно надолго вынимать рыбок из ручья, — говорила она, наклоняясь со своим сачком над водой. — Я как поймаю, сейчас же брошу обратно. Это им пойдет на пользу: научатся быть осторожнее. Солон рассмеялся. — Хлопотливое занятие ты себе придумала — внушать пескарям осторожность! — заметил он. Тут их окликнул один из гостей, юноша по имени Адлар Келлес. Он лежал на самом берегу чуть выше по течению. В руке у него был сачок, в котором билась довольно крупная рыба. Он выхватил ее из сачка и бросил на траву позади себя. — Видали? — закричал он. — Окунек порядочный! Таких с десяток поймать — вот и ужин готов! Бенишия едва не уронила свой сачок в воду. — Ах, нет, нет! — взмолилась она. — Не надо! Пожалуйста, брось его назад, пока он еще жив. Ты все равно не станешь его есть! Адлар Келлес пропустил бы мимо ушей эту просьбу, но к звенящему голоску Бенишии и ее хорошенькому личику он не мог остаться равнодушным. — Ну, ну, ладно, — он вскочил на ноги, размахнулся и бросил рыбу в ручей. — Не такой уж я изверг, Бенишия Уоллин, честное слово. Просто окунь, говорят, очень вкусная рыба, ну, я и думал попробовать. А если тебя это так огорчает, пусть себе живет на здоровье. Вид у него при этом был в самом деле смущенный и даже покаянный. Рода и Паркер, с интересом наблюдавшие эту сцену, расхохотались. — Зачем же тогда вообще ловить рыбу, если ты только смотришь на нее и бросаешь обратно? — спросила Рода, и Солон по своей природной честности должен был признать, что это замечание не лишено здравого смысла. Но Бенишия сделала вид, будто не расслышала, и Солон предложил ей переменить место, чтобы уйти подальше от Роды и ее замечаний. Они поднялись немного выше по течению ручья. Бенишия принялась высматривать в воде рыбок покрупнее, которым не причинил бы вреда ее сачок. Солон глядел на нее, взволнованный ее красотой, ее близостью, и ему вдруг неудержимо захотелось сказать ей о том, как она хороша и как дорога ему. Но тут, впервые в жизни, он словно лишился дара речи и беспомощно мямлил, не находя нужных слов. — Мисс Бени… то есть Бенишия… — Да, Солон? — Она оглянулась, словно желая подбодрить его. — Ты о чем? — Она вдруг увидела, что губы у него побелели и слегка дрожат. — Говори, Солон, говори все, что хочешь, ведь ты же знаешь, я… я… — Тут она осеклась, точно испугавшись собственных слов. Как можно было так забыться, подумала она с ужасом. Где ее девическая скромность? Она похолодела, какая-то непонятная слабость охватила ее, и ей вдруг захотелось вскочить и убежать; но она видела перед собой эти дрожащие губы и понимала, что никуда не убежит. Никуда. Она глядела на него и думала: вот он, ее Солон, такой сильный, красивый, благородный, мужественный — и такой слабый сейчас, потому лишь, что он ее любит. Она не знала, как помочь ему. Но тут он заговорил, и в ту же минуту она почувствовала, как его рука сжала ее руку. — Бенишия, — сказал он. — Бенишия, я люблю тебя. Может быть, мне не следовало говорить это, но я не могу иначе. Я робел перед тобой, но только потому, что боялся тебя обидеть. Если б ты знала, как я тосковал по тебе все это время, как мне тебя недоставало! Несколько раз я принимался писать тебе, но у меня не хватало мужества. И пусть даже я тебя больше никогда не увижу, я хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя. Может быть, я тебе не нужен, но все равно я буду любить тебя всегда, всю жизнь. Она стояла перед ним, склонив голову, и ему показалось, что она плачет. В испуге он воскликнул: — Бенишия, прости, прости меня! Не сердись на мою дерзость! — Что ты, Солон! Я плачу не потому, что сержусь. Я плачу от счастья, потому что я тебя тоже люблю. Разве ты не видишь? Мне кажется, я тебя всегда любила, с самой нашей первой встречи. Я люблю тебя, и я… Но тут она увидела, что через мостик идут к ним Рода и Айра Паркер, и, оборвав себя на полуслове, поспешно наклонилась к воде, словно ее внимание привлекла какая-то рыба. Солон, изо всех сил стараясь скрыть свое волнение, повернулся к подходившей парочке и сказал как можно небрежнее: — Очень уж они тут пугливые. Бенишия между тем выпрямилась и пошла к мостику. Что-то попало ей в глаз, сказала она; нужно промыть его чистой водой.Глава 17
В эту ночь Солон спал очень мало. Он проснулся в три часа, просыпался и в четыре, в пять; наконец в половине восьмого встал, оделся и вышел побродить в прохладе ясного июньского утра по тем местам, где вчера произошли столь важные для него события. Был День первый, и он знал, что завтрак будет не раньше девяти часов. Мать слышала, когда он вышел, и из своего окна видела, как он беспокойно кружит по лужайке. Она наблюдала за ним с тревогой: болен он, или какая-нибудь забота не дает ему покоя? Если бы только она могла помочь ему! Солон между тем направился к мостику и, перебравшись через ручей, дошел до того места на берегу, где он сказал Бенишии, что любит ее. Какой трогательно юной она казалась в ту минуту, склонившись над водой с сачком в руке! И здесь же, в этом живописном местечке, у самой воды, среди июньских цветов, она призналась ему в ответной любви. Но что же делать теперь, когда их взаимное чувство перестало быть тайной для обоих? При нравах, царивших тогда в квакерской среде, нечего было и мечтать, чтобы семнадцатилетней девушке — да еще наследнице богатых родителей — позволили выйти за такого, как он, почти еще мальчика и без всякого положения в обществе! Он круто повернул и направился к дому — воспоминание слишком жгло его. После завтрака он вместе со всей семьей отправился в Даклу, в молитвенное собрание. Может быть, господь укажет ему путь. И Бенишии тоже. Но, войдя в дом, он сразу же заметил, что Уоллинов нет среди собравшихся. Вероятно, они вернулись в Филадельфию. Уж не рассказала ли Бенишия родителям? Уж не увезли ли ее нарочно? В зале стояла тишина, желающих встать и обратиться со словом к присутствующим пока не находилось, и Солон, сидя в уголке, тоскливо размышлял о своем. Наконец один из мужчин нарушил затянувшееся молчание. — Господь велит мне поделиться с вами такими мыслями, — начал он. — Кто верит в чистоту и справедливость своих помыслов, каковы бы они ни были, пусть уповает на творца, ибо он не даст ему сойти с пути истины. Не сказано ли в Евангелии от Иоанна, глава четырнадцатая, стих тринадцатый: «И если чего попросите во имя мое, то сделаю». И далее: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Солон подумал о том, как мало подходит внешний облик говорившего для роли проповедника слова божия. Оливер Стоун, местный торговец скобяным товаром, был малорослый седой человек с изборожденным морщинами лицом. Правое плечо у него поминутно дергалось от нервного тика. И все же к словам, произнесенным этим человеком, Солон, думавший о своем, отнесся с величайшей серьезностью и вниманием; казалось, они недаром прозвучали именно сейчас, когда у него было так тяжело на душе. Он сразу приободрился, даже мать, наблюдавшая за ним с дальней скамьи, заметила это и порадовалась за него. Но на следующее утро, по дороге в контору, он снова с тревогой задумался о тех последствиях, которые могли иметь его объяснение в любви и ответное признание Бенишии. Обычно по утрам он заходил на почту за корреспонденцией. На этот раз он зашел туда с тайной мыслью, что, может быть, найдет весточку от Бенишии или письмо от Джастеса Уоллина с суровой отповедью за то, что он осмелился говорить дочери Уоллина о своих чувствах. Но среди немногих писем, адресованных конторе, он не нашел ни одного на свое имя; зато был там запрос от какого-то фермера об условиях получения ссуды в пятьсот долларов, — Солон знал, что этот запрос очень порадует и Уоллина и отца. У самой конторы Солона остановил Мартин Мейсон, председатель правления единственного даклинского банка, который вот уже двадцать лет вел все дела с окрестными фермерами и торговцами. После обычных приветствий и расспросов о здоровье отца и матери Солона Мейсон вдруг выступил с неожиданным предложением: не согласится ли Солон перейти на службу в его банк, на должность главного конторщика и помощника кассира с окладом двадцать пять долларов в неделю. Мейсон умолчал о том, что его все больше и больше беспокоит деятельность содружества Барнс — Уоллин, вторгавшегося в сферу влияния банка там, где дело касалось ссуд и закладов. Однако он заявил без обиняков, что и Руфус мог бы найти у него работу на более выгодных условиях, чем те, которые он имеет у Уоллина. Солон, чрезвычайно удивленный этим разговором, поблагодарил и сказал, что не может пока дать определенного ответа и тем более не берется говорить за отца, но непременно попросит его зайти к мистеру Мейсону. На всякий случай юноша все же упомянул о глубокой признательности, которую он и его отец питают к мистеру Уоллину, так много сделавшему для них обоих. Нужно сказать, что как раз в это время сам Уоллин, чрезвычайно довольный успехами предприятия Барнс — Уоллин и усердием Солона, немало способствовавшим этим успехам, подумывал о том, чтобы повысить Солону жалованье до двадцати долларов — что, по всей вероятности, немало удивило и смутило бы Солона, если бы он об этом знал. Таким образом, несмотря на все тревоги и опасения, обстоятельства складывались для него самым благоприятным образом, а на следующий день он получил от Бенишии письмо, в котором она сообщала, что, пораздумав, решила ничего пока не говорить родителям об их взаимной любви, и просит его тоже хранить молчание впредь до получения от нее новых вестей.Глава 18
Когда Солон передал отцу свой разговор с мистером Мейсоном, Руфусу прежде всего пришло в голову, что не худо бы как-нибудь довести содержание разговора до сведения Уоллина, — это может пойти на пользу и ему и сыну. А потому он решил повидать Мейсона и устроить так, чтобы тот повторил свое предложение в письменной форме. Такое письмо вполне естественно будет показать мистеру Уоллину, разумеется, дав при этом понять, что ни у Солона, ни у самого Руфуса нет ни малейшего желания нарушать ныне существующее благотворное содружество. Не откладывая дела в долгий ящик, Руфус назавтра же отправился к Мейсону, и результатом их свидания явился обстоятельный документ, содержащий все предлагаемые условия: Солону — двадцать пять долларов в неделю жалованья, а Руфусу — пятнадцать процентов комиссионных с каждой сделки, заключенной им в интересах банка Мейсона. Между тем Уоллин, который давно уже считал, что Солон заслуживает прибавки к жалованью, именно в этот день решил объявить ему приятную новость. Застав юношу в конторе одного, он ласково приветствовал его: — Здравствуй, Солон, ну, как дела? Отец и мать здоровы? Моя дочка в таком восторге от своей поездки в Торнбро, что только об этом и говорит. И тут же, выслушав от Солона выражения признательности, перешел к разговору о делах. После этого обмена любезностями перспектива перейти на службу к Мейсону показалась Солону еще менее заманчивой, и в то же время он почувствовал, что нельзя ни минуты скрывать от Уоллина полученное предложение. Что, если сейчас войдет отец и, прежде чем Солон успеет рот раскрыть, положит перед Уоллином письмо Мейсона? Нет, нет, нужно без промедления, не дожидаясь прихода отца, все рассказать самому. Уоллин, услышав новость, ничуть не рассердился; но это подтолкнуло его принять решение, которое с недавних пор зрело в его мозгу. Речь шла о том, чтобы перевести Солона на работу в банк Уоллина в Филадельфии, где юноша мог бы серьезно изучать банковское дело к выгоде своего хозяина. Времена менялись, развитие страны шло полным ходом, все виды коммерческой деятельности процветали, и хотя Уоллин, по его собственному убеждению, сумел окружить себя толковыми и преданными людьми, все же Солон своей энергией и добросовестностью выделялся среди прочих. Ведь вот и Мейсон, несомненно, разглядел в нем человека многообещающего. А Руфус, надо думать, согласится на такое предложение; в конце концов подыскать кого-нибудь на место Солона в даклинской конторе не составит особого труда. Всеми этими соображениями Уоллин тут же поделился с Солоном, и того совершенно ослепил блеск открывшихся перед ним перспектив — увеличение жалованья, место в банке Уоллина, а главное, переезд в Филадельфию и возможность хотя бы изредка видеться с Бенишией. Все эти и еще многие другие мысли вихрем закружились у него в голове. И вот, после совещания с Руфусом, сразу же одобрившим этот план, было решено, что Солон переходит на работу в филадельфийский банк, на жалованье в двадцать пять долларов плюс путевые расходы, а Руфус остается единоличным представителем всех интересов фирмы Уоллина в Дакле. Теперь, казалось Солону, самые его безумные мечты, связанные с Бенишией, близки к осуществлению. И он решил тотчас же написать ей в Окволд о неожиданно привалившей ему удаче.Глава 19
В то самое время, когда Солон обдумывал свое послание к Бенишии, Ханна Барнс получила от нее письмо — обычную предусмотренную долгом вежливости благодарность за радушный прием; но письмо это, обращенное ко всем гостеприимным обитателям усадьбы, должно было послужить для Солона одному ему понятным знаком того нового и глубокого чувства, которое зародилось в душе Бенишии и которое — хотя он все еще не решался в это поверить — волновало и смущало ее ничуть не меньше, чем его самого смущала и волновала его любовь. Как много значила для девушки ее душевного склада встреча с таким юношей, как Солон, сильным и крепким, серьезным и вдумчивым, — все эти качества выгодно отличали его от прочей молодежи, увивавшейся вокруг Бенишии с тех пор, как она вышла из детского возраста! С ней и с другими девушками он был всегда вежлив, скромен, даже застенчив; зато когда дело касалось игр или спорта, никто не мог соперничать с ним в силе и проворстве. Как ловко он разорвал тогда вереницу, чтобы оказаться в нужный момент подле нее и не дать ей упасть. А потом, на берегу Левер-крика, когда он заговорил о своей любви к ней, она видела у него на глазах слезы; ведь именно эти слезы, это подавленное рыдание, помешавшее ему говорить, и заставили ее расплакаться в ответ, именно тогда она и поняла, что любит его всей душой. Все та же крайняя застенчивость мешала ему, вероятно, и написать ей, тем более что он ведь — служащий ее отца; а между тем она знает, что и отец ее и мать относятся к Солону очень хорошо. Правда, настолько ли хорошо, чтобы принять его в качестве жениха или будущего мужа для своей дочери, — это уже особый вопрос. И потому письмо Бенишии, где она благодарила за гостеприимство родителей Солона и его самого, Синтию и миссис Кимбер с дочерьми, было написано крайне осторожно. Вот это письмо:«Дорогие друзья! Спасибо за прелестный день, который я и все мы провели в Торнбро благодаря вам, вашей сестре Фебе Кимбер и ее дочерям, моим милым подругам Роде и Лоре, и, конечно, вашим детям, Солону и Синтии. В моей памяти навсегда сохранится и ваш прекрасный дом, и красивые берега Левер-крика, и все наши игры и развлечения, особенно ловля рыбок сачками, которой учил меня ваш сын Солон. Право же, это был один из самых чудесных дней в моей жизни. Папа и мама просят передать, что им было очень приятно встретиться с вами снова и что они надеются видеть вас обоих, Солона, Синтию, а также миссис Кимбер и ее девочек у нас, в Дакле, в наш следующий приезд туда»Письмо было показано семейству Кимбер и произвело на Роду и Лору очень сильное впечатление. Правда, они предпочли бы, чтобы Уоллины пригласили их непосредственно, а не через Барнсов, но в конце концов приглашение все же получено — а это главное. Сердце у Солона радостно билось, когда он читал то место письма, где упоминалось о нем, но его все время тревожила мысль, что глубокая взаимная любовь, в которой они признались друг другу, едва ли встретит одобрение со стороны родителей Бенишии. И потому, сообщая ей о выпавшей на его долю удаче, он тут же поспешил предостеречь ее от каких-либо слов или поступков, которые могли бы вызвать подозрение ее отца и матери. Он писал:Искренне ваша Бенишия Уоллин.
«Бенишия, дорогая! Как ни велика моя любовь к тебе и мое желание тебя увидеть, я все же боюсь, что если ты сейчас станешь говорить обо мне с родителями или выказывать мне особое внимание, это может повредить нам обоим. Поверь, мне очень тяжело принять такое решение — особенно теперь, когда я знаю, что ты меня тоже любишь, и я день и ночь думаю только о тебе. Я решил, что ездить каждый день в Филадельфию и обратно слишком сложно и неудобно. Лучше, если удастся снять комнату в Филадельфии, где-нибудь поближе к банку твоего отца, и возвращаться в Даклу только на День седьмой и День первый. Я тебе сообщаю об этом для того, чтобы ты знала, что если у тебя возникнет желание написать мне как-нибудь на неделе, ты сможешь послать письмо на мой филадельфийский адрес. Мне кажется, в этом нет ничего дурного, как нет ничего дурного в том, что я пишу тебе в Окволд. Если ты согласна, давай поддерживать переписку таким путем, хотя бы пока твой отец не убедится, что я чего-то стою. Ах, Бенишия, как еще долго нам ждать, а я так люблю тебя! Пиши мне сюда, в Даклу, пока я не дал тебе другого адреса. И пожалуйста, напиши поскорее, хорошо?»Спустя несколько дней он получил ответ:Твой Солон.
«Дорогой мой Солон! Меня так порадовало твое чудесное письмо и известие о том, что ты переедешь в Филадельфию и будешь работать здесь в банке. Ведь все, что я тебе сказала на берегу Левер-крика, — правда. Я люблю тебя, и мне очень-очень хочется поскорее тебя увидеть. Мне кажется, когда ты будешь жить в Филадельфии, ты вполне сможешь бывать у нас в доме; я просто буду приглашать тебя. Попробую устроить, чтобы тебя позвали к нам на обед. Вот было бы чудно! Солон, я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя всем сердцем и всегда буду любить. Я теперь молюсь за нас обоих. Помолись же и ты о том, чтобы господь даровал нам счастье»Нужно ли говорить, что в этом письме, полном нежности и желания ободрить того, к кому оно обращено, Солон видел доказательство неизменной любви Бенишии. Оно пришло в тот самый день, когда он собирался в Филадельфию, чтобы в первый раз явиться в банк. Он еще раньше сказал матери, что думает для экономии времени снять комнату в Филадельфии, и с огорчением заметил, как она сразу изменилась в лице. Было ясно, что в этом новшестве она почувствовала надвигающуюся утрату. Все эти годы, с первого своего дыхания, он принадлежал ей, и вот теперь жизнь отнимала его у нее. Перед тем как уйти, Солон обнял мать и, целуя ее шелковистые щеки, попытался найти слова утешения. — Мама, ты знаешь, как я люблю тебя. Мы ведь не расстаемся по-настоящему, это будет все равно, как если бы я продолжал работать в конторе мистера Уоллина здесь, в Дакле. Чуть только работа позволит, я буду приезжать домой. Ты знаешь, что я никогда с тобой не расстанусь, пока мы оба живы. И в знак своей глубокой сыновней привязанности он все целовал и целовал ее, так что в конце концов она улыбнулась и сказала: — Да, да, я знаю, Солон. Не обращай внимания. Конечно, ты должен переехать. Ты должен поступать так, как для тебя лучше. Мы с отцом оба так думаем. — И, отстраняя его от себя, она прибавила: — А теперь спеши, иначе не попадешь сегодня в Филадельфию. И возвращайся, когда тебе будет удобно, — сегодня, так сегодня, через неделю, так через неделю. Делай так, как тебе кажется лучше. До свидания, сынок. Я буду ждать тебя.Любящая тебя Бенишия.
Глава 20
Торгово-строительный банк был одним из самых старых банков Филадельфии, и к тому времени, когда накопленный капитал позволил Уоллину встать во главе его, насчитывал уже семьдесят лет существования. Люди, причастные к делам банка, составляли цвет местного общества и городских финансовых кругов. В их числе были двое дядей Корнелии Уоллин и несколько человек, доводившихся родней Джастесу. Как большинство банков, основанных на заре существования республики, Торгово-строительный банк был создан с определенной целью: воспользоваться правом эмиссии денежных знаков, которым так называемое демократическое правительство столь великодушно наделило тогда своих фаворитов, или, вернее сказать, своих хозяев — представителей олигархии того времени. Еще в 1811 году семеро филадельфийцев, семеро хладнокровных, дальновидных дельцов, среди которых были и квакеры, услыхали об издании «Акта о банковских привилегиях», которым любому достаточно солидному банку разрешался выпуск ценных бумаг на сумму, в три раза превышающую его основной капитал. На основании этого акта упомянутая семерка тут же и выпустила примерно на четыреста тысяч долларов банкнот, а затем стала ссужать их под неслыханные проценты изголодавшимся спекулянтам всех мастей, рыскавшим по стране в поисках выгодного и надежного помещения капитала. Эта блестящая идея имела один только недостаток: она породила чрезмерное обилие разного рода «золотых миражей» и в результате свелась к ограблению широкой публики. Дело кончилось финансовым крахом, и банки Филадельфии были вынуждены закрыть свои двери, причем не только те, что были зачинщиками этой погони за наживой, но и многие другие, которые вели свои дела честно. Не избежал общей участи и «почтенный» Торгово-строительный банк. Вкладчики и акционеры лишились своих денег, и, что хуже всего, Торгово-строительный прибегнул к помощи полицейских властей города и штата, чтобы избавиться от наседавших кредиторов. Вполне понятно, что после этого события название «Торгово-строительный банк» на долгие годы сделалось синонимом недобросовестности в делах, а имена руководителей банка произносились многими не иначе как с гневом и отвращением. Однако это не был окончательный крах, так как с течением времени большинство вкладчиков все же получили свои деньги. Претензии прежних акционеров тоже мало-помалу были удовлетворены. Во главе правления встали новые люди, которые сумели лучше повести дело, и в конце концов если не все, то во всяком случае многие жители Филадельфии поверили, что в основе прежних неудач лежал не злой умысел, а неумелое руководство. Именно тогда отец Джастеса Уоллина, владевший еще до краха солидным пакетом акций банка, посоветовал сыну вступить в дело, переписав на себя отцовские акции и прикупив к ним еще немного. Джастес, в то время молодой человек, довольно успешно занимавшийся страховыми операциями, не преминул воспользоваться советом отца и вскоре благодаря своей безукоризненной деловой репутации и уважению, которым он пользовался в квакерской среде, занял руководящее положение в правлении Торгово-строительного банка. Родственники и единоверцы служили ему постоянной и надежной опорой во всех его начинаниях. Ко времени его знакомства с Руфусом и Солоном это был уже очень богатый человек, отличавшийся религиозностью и консерватизмом убеждений и не чуждый заботы о благе человечества в целом. Нынешние директора и руководители Торгово-строительного банка являли собой довольно любопытный подбор людей. Председатель правления, Эзра Скидмор, чем-то напоминал дом, в котором помещался банк, — солидную постройку, носившую на себе отчетливые следы времени. Это был высокий, угловатый мужчина, с большой, массивной головой и пышными, седеющими бакенбардами; гладко выбритая длинная верхняя губа придавала его облику нечто пасторское. Человек холодный и суровый, он обладал раз навсегда сложившимися воззрениями на порядок вещей в этом мире и тонким чутьем дельца, чей интерес к вкладчикам и ссудополучателям никогда не идет дальше сведений об их материальном положении, религиозных взглядах и добропорядочности; судьба денег, выдаваемых из окошечка кассы, его не занимала. Он был квакером, и к представителям иных религиозных толков относился без особого доверия. Однако, будучи обязан своей карьерой не только собственным усилиям, но и покровительству со стороны, он предпочитал держать свои религиозные убеждения при себе. Адлар Сэйблуорс, вице-председатель, был чистенький, вежливый, очень жизнерадостный толстячок лет пятидесяти пяти, не такой заядлый рутинер, как Скидмор, но тоже из тех людей, которые всегда поступают сообразно требованиям и воззрениям своего круга. Он был отпрыском старинного, хоть и захудалого, рода и принадлежал к епископальной церкви. В отличие от Скидмора он состоял членом нескольких клубов, и имя его значилось в списках попечителей разнообразных учреждений — колледжей, богаделен и тому подобное. На этом основании он считал себя полезным членом общества и старался безукоризненным костюмом и изысканностью манер снискать себе славу его украшения. Он благоговел перед такими финансовыми тузами, как Сэйдж, Гулд, Джей Кук и Вандербильт. Он искренне считал их людьми гениальными, и его заветной мечтой было личное знакомство с кем-либо из них — хотя бы самое кратковременное. Недавно на его долю выпала честь в отсутствие мистера Скидмора принимать министра финансов Соединенных Штатов, прибывшего в Филадельфию по какому-то важному делу. Эйбел Эверард, главный бухгалтер банка, незадолго до описываемых событий введенный в состав правления, являлся человеком иного склада. Он был далеко не так богат и не занимал такого положения в обществе, как остальные, и тем не менее можно было ожидать, что он опередит всех прочих на жизненном пути. Этот человек поистине обладал талантом наживать деньги, только его время еще не пришло. Его личное состояние пока не превышало сотни тысяч долларов, но он поставил себе целью сделаться миллионером и тем подняться над уровнем мира тихого благополучия, представителями которого являлись Скидмор и Сэйблуорс. Он был лишен иллюзий в области морали, хоть и казался личностью высокоморальной, и не обладал пышной родословной, но это не смущало его. Новая пора расцвета, наступавшая в сфере финансов и коммерции, пока что занимала его мысли больше, чем успехи в обществе. Однако в банке влияние Эверарда было невелико. Он владел всего двадцатью пятью учредительными акциями и лишь несколько месяцев состоял в правлении. Но это был человек недюжинной воли и характера, и методы руководителей банка казались ему чересчур консервативными; по его мнению, они недостаточно использовали все законные пути и возможности обогащения. И в самом деле, многие другие банки обгоняли Торгово-строительный на этом поприще, но делалось это такими способами, которые еще несколько лет назад показались бы предосудительными. Страной уже овладевала новая горячка спекуляций, подобная той, которая охватила ее на заре существования республики. Предприимчивые дельцы добивались в муниципалитетах концессий на водопровод, газоснабжение, эксплуатацию городских железных дорог и извлекали из них неслыханные доходы. Банки тоже вступали в эту игру, выдавая ссуды под дополнительное обеспечение и в чаянии крупных прибылей широко рискуя средствами своих вкладчиков. На Уолл-стрит шла спекуляция вовсю. Но правление Торгово-строительного банка не хотело иметь со всем этим ничего общего. Здесь предпочитали более надежные формы помещения капитала: ренту, паи в торговом судоходстве, привилегированные акции и облигации процветающих корпораций. Дивиденды при этом получались скромнее, чем от более рискованных предприятий, но зато тут можно было считать наверняка. Торгово-строительный ни на какие модные ухищрения не пускался — это было учреждение солидное и сверхреспектабельное.Глава 21
Торгово-строительный банк помещался в большом, красивом здании, внутренняя отделка которого соответствовала его внешнему виду. Оно было выстроено лет сорок назад, когда новые владельцы пришли на смену тем, кто довел банк до краха, и эти новые владельцы решили, что пышность обстановки поможет восстановить доверие клиентуры. Вот почему, когда Солон с рекомендательным письмом в кармане впервые переступил порог этого здания, он был поражен роскошью, представившейся его глазам. Прежде всего он увидел нечто вроде клетки из полированного дуба, в которой сидели кассиры и их помощники, а также счетоводы и бухгалтеры. В глубине находились кабинеты председателя и других должностных лиц, о чем свидетельствовали прибитые к дверям таблички. Облицованные голубовато-серым мрамором стены были прорезаны высокими окнами, из которых на пол, выложенный голубыми и белыми плитками, падали полосы света. Огромные позолоченные газовые люстры спускались с необычайно высокого потолка. Солон даже растерялся немного, подавленный всем этим великолепием. Однако он тут же вспомнил о письме и о том, зачем пришел сюда. Кассир у одного из окошечек на вопрос, где можно найти мистера Сэйблуорса, буркнул: «С той стороны, третья дверь направо». Солон постучал в указанную дверь, и ему отворил какой-то юнец в форменной куртке. Услыхав, что посетитель явился к мистеру Сэйблуорсу с письмом от мистера Джастеса Уоллина, юнец сразу утратил свое высокомерие и пригласил Солона войти. — Мистер Сэйблуорс еще не приходил, — сказал он. — Но, вероятно, скоро будет. Присядьте, пожалуйста. И он указал на глубокие, удобные кресла, расставленные вдоль полированной перегородки напротив двери. Солон сел и принялся рассматривать комнату, красивые лампы, полированное дерево панелей. Потом его мысли вернулись к письму Уоллина; это письмо было вручено ему незапечатанным, чтобы он мог ознакомиться с его содержанием. Письмо было написано в самом доброжелательном тоне и гласило следующее:«Друг Сэйблуорс! Это письмо передаст Вам Солон Барнс, тот молодой человек, о котором мы уже беседовали. Он вместе со своим отцом работал у меня в даклинской страховой и посреднической конторе и выказал себя человеком очень способным и заслуживающим всяческого доверия. Буду весьма признателен, если Вы позаботитесь о том, чтобы он мог ознакомиться с различными видами банковских операций, а затем уже мы вместе с ним решим, подходит ли ему работа в банке, и если да, то какая именно»Солон не прождал и десяти минут, как дверь распахнулась и в комнату вошел человек, в котором он тотчас же угадал мистера Сэйблуорса, — невысокого роста толстяк с круглым, румяным лицом. При виде Солона он остановился и вопросительно поднял брови. Солон поспешил встать ему навстречу и, вынув из кармана письмо Уоллина, сказал: — Мистер Сэйблуорс, меня зовут Солон Барнс. Я работал у мистера Уоллина в Дакле; вот письмо от него. — Ах, да, да, — живо отозвался Сэйблуорс, взяв письмо. — Что ж, пройдемте ко мне. — И он ввел Солона в просторную, богато обставленную комнату, где тотчас же уселся за стол и углубился в чтение письма. Дочитав до конца, он критически оглядел Солона, как бы прикидывая, чего от него можно ожидать, затем сказал: — Из этого письма я заключаю, что вам должен быть предоставлен широкий выбор в смысле работы. Вы могли бы приступить сегодня же? — Вот не знаю, как вам сказать. Я, видите ли, живу в Дакле и предполагал каждый день ездить сюда. Но теперь я вижу, что на это потребуется очень много времени, а потому я подумал, не лучше ли будет снять комнату здесь, в Филадельфии, где-нибудь неподалеку от банка. Так, может быть, мне сначала устроиться с комнатой, а потом уже вернуться сюда и приступить к работе — скажем, в час дня. Вы не возражаете? — Пожалуйста, как вам удобнее, — сказал Сэйблуорс. — Можете взять даже целый день на устройство своих дел. Все равно, жалованье вам пойдет с сегодняшнего числа. Кстати, к северу отсюда, — он указал рукой направление, — есть много пансионов и меблированных комнат, и цены, я слыхал, недорогие. Поищите там. Это близко и от вокзала и от делового центра города. Дома там, конечно, старые, без удобств, но многие из коренных филадельфийских жителей и сейчас предпочитают этот район. Он ласково улыбнулся Солону; видно было, что юноша понравился ему и своей наружностью и манерой держаться. — Я вас не спрашиваю, знакомы ли вы со счетоводством. В конторе мистера Уоллина вам, вероятно, приходилось заниматься такими вещами. Все же, я думаю, лучше всего вам будет начать именно с бухгалтерии. Она у нас находится в ведении мистера Эверарда. Но дело, конечно, терпит до завтра, — заключил он свою речь. — А я тем временем поговорю с мистером Эверардом и попрошу его что-нибудь подготовить для вас. Он поднялся, позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и, взяв Солона под руку, дошел с ним до дверей. — Проводите мистера Барнса, — ласково сказал он мальчику-рассыльному, явившемуся на звонок. Шагая по улице, Солон перебирал в памяти все подробности происшедшей с ним удивительной перемены: от рекомендации Уоллина до любезного приема, оказанного ему в банке. Потом его мысли вернулись к письму Бенишии, лежавшему у него в кармане. Он вынул и снова перечитал письмо. И вдруг тревога сдавила ему сердце: что, если он потеряет ее? Может быть, он поспешил с решением поселиться в Филадельфии? Может быть, лучше не торопиться, выждать? Смущенный этими мыслями, он повернул к вокзалу и как раз вовремя поспел к поезду, отходившему в Даклу. И в течение всей недели он каждое утро, поездом в 7.45, ездил в Филадельфию, а вечерним, в 5.35, возвращался домой. Вечером Дня седьмого, приехав в Торнбро, он застал там письмо от Бенишии с приглашением на обед к Уоллинам в их филадельфийский дом. Обед этот должен был состояться в следующий День седьмой — то есть через неделю. «Тогда, — писала Бенишия, — мы и обсудим, снимать ли тебе комнату в Филадельфии. Отец очень интересуется твоими успехами в банке; кстати, это он сам предложил пригласить тебя к нам на обед». Итак, он снова увидит свою дорогую Бенишию. И ее родители настроены к нему благосклонно. Сам Уоллин предложил пригласить его на обед! Как отблагодарить бога за такую милость! Это был первый из многих вечеров, которые Солону предстояло провести в доме Уоллинов. Радушный прием, оказанный ему мистером и миссис Уоллин, позволял надеяться, что отныне в той жизни, которую они вели в Филадельфии, найдется и для него хотя бы скромное местечко. Что же до плана Солона поселиться в городе, неподалеку от банка, то мистер Уоллин вполне одобрил эту мысль и даже дал ему адрес одного квакерского семейства на Джонс-стрит, сдававшего комнаты. Солон на следующий же день отправился по этому адресу и благодаря рекомендации Уоллина получил там уютную, чистенькую комнатку за скромную плату в четыре доллара в неделю. — Приходи к нам опять, будем рады тебя видеть, — сказал ему мистер Уоллин на прощанье. Лишь несколько мгновений удалось Солону побыть наедине с Бенишией, и все же он проникся уверенностью, что любовь их обрела прочную и надежную основу. Взгляд темных, выразительных глаз Бенишии сказал ему больше, чем могли сказать слова. Он ушел, окрыленный радостью, с твердым намерением показать себя достойным того огромного счастья, которое выпало ему на долю.С искренним уважением Уоллин.
Глава 22
С каждым днем Солон все больше и больше входил во все детали банковского дела, но, верный себе, он при этом склонен был видеть во всем проявление божественного промысла. Ему трудно было свыкнуться с роскошью окружавшей его обстановки, и тем более — с мыслью об огромных средствах, которыми ворочал банк и которые составлялись из сбережений сотен и сотен вкладчиков. В его глазах забота о сохранности этих средств была священным долгом. Для Солона — хоть он и не сумел бы выразить это словами — жизнь представляла ряд закономерных частностей, смысл которых был в том, что каждая из них несла в себе крупицу божественной воли. Честность — богом заповеданное свойство. Женская добродетель — выражение прекрасных основ миропорядка. Разумеется, Солон никогда не видел и не мог даже вообразить себе женщины, которая была бы не добродетельна. Он знал, что в мире существуют грех и порок, но, помня то, чему его учили с детства, твердо верил, что всякий запутавшийся в тенетах зла поплатится за это, если не в здешнем мире, так в будущем. Может быть, он и не представлял себе эту расплату в виде геенны огненной, но все же, при всей полноте своих квакерских убеждений, склонялся к мысли, что существует такое место, где грешники несут заслуженную кару. Он с уважением относился к христианской церкви вообще, видя в ней силу, противостоящую язычеству, однако религиозные верования и учения других сект казались ему бессодержательными. Только в религии Джорджа Фокса и Джона Вулмэна он видел спасение от всех бед земных. Неудивительно, что молодой человек подобного склада внушал уважение даже своим начальникам. Его открытое, честное лицо с большим ртом, коротким носом и ясными иссиня-серыми глазами носило на себе отпечаток какой-то одухотворенности — по крайней мере такое впечатление он производил на окружающих. Все в нем говорило о готовности прилежно трудиться над порученным ему делом. Квакерская манера его речи звучала приятно для слуха. Квакеров много было и среди служащих и среди вкладчиков банка, да и вообще в Филадельфии, но искреннее благочестие Солона выделяло его из общей массы. Для начала ему поручили обработку материалов, косвенным образом связанных со ссудами, которые банк выдавал компаниям и частным лицам. На основе этих материалов составлялся своего рода финансовый справочник. Это была идея Эверарда — для собственного удобства и в интересах банка собирать и систематизировать всякого рода финансовую информацию: о сделках по недвижимости иторговых операциях, о продаже акций и облигаций, об управлении наследственным имуществом, — одним словом, все, что могло оказаться полезным для расширения деятельности банка. Сюда же он относил газетные объявления о браках и смертях и разные другие сведения, касавшиеся лиц, которые играли видную роль в финансовой жизни страны. Кто знает, говорил он, как все это когда-нибудь может сказаться на делах банка. Особым его вниманием пользовались некоторые филадельфийские корпорации — их рост, их история, отраженная в судебных документах и газетных сообщениях. Все это нужно было тщательно сортировать, наклеивать и подшивать. До сих пор мистер Эверард делал это сам с помощью то одного, то другого из служащих банка; но теперь он решил все передать Солону. Кроме того, по субботам, в самые горячие утренние часы, Солон помогал одному из кассиров проверять счета и документы, принимать вклады и выдавать деньги. Первое время это нравилось ему больше, чем работа в отделе кредитов. Здесь он имел дело с живыми людьми, привыкал к именам, подписям, лицам вкладчиков. Это словно бы подводило его ближе к существу банковского дела. Но довольно скоро он понял, что это работа чисто механическая, незначительная, которая для способного человека должна служить лишь ступенькой к операциям более серьезным. Время шло, и банковское дело все больше и больше увлекало Солона. Стремясь быстрее освоиться со своей новой профессией, он стал аккуратно читать «Банковский еженедельник» и нередко по вечерам уносил домой книгу образцов подписей и пачки аннулированных чеков, чтобы на досуге хорошенько вникнуть во все тонкости. Нашел он себе и еще занятие: обходить по очереди все городские районы и знакомиться с различными домовладениями и земельными участками. Отчасти это интересовало его лично, поскольку его сбережения уже порядком округлились к этому времени, а кроме того, он хотел быть осведомленным на случай, если под какое-либо из этих владений захотят получить в банке ссуду и начальство поручит ему произвести оценку. В одно из таких странствований, проходя по незнакомой улице, Солон вдруг заметил двоих людей, занятых чем-то, что на первый взгляд могло показаться упражнением во французской борьбе. Однако когда Солон остановился посмотреть на них, один из боровшихся вдруг поднял крик. — Караул! Полиция! Грабят! — вопил он. Поняв, что на его глазах совершается преступление, Солон перебежал улицу и поспешил на помощь к тому из двоих, которому, по всей видимости, приходилось худо: противник вцепился в него мертвой хваткой. Наконец Солону удалось заставить нападавшего выпустить свою жертву, и тотчас же освобожденный человек вскочил и бросился бежать со всех ног. Солон меж тем крепко ухватил преступника за ворот, чтобы тот не мог вырваться, — но каково же было его удивление, когда на него посыпались гневные упреки: — Чего ты в меня вцепился, болван? Ведь это он меня ограбил! Да еще избил так, что на мне живого места нет, — вот, посмотри сам! — Послушай, друг, — возразил ему Солон почти ласково, — я тебя поймал за нехорошим делом, и теперь тебе придется пойти со мной. Тут на месте происшествия появился полисмен, услыхавший со своего поста шум и крики. Он схватил Солона за плечо и грозно спросил: — В чем дело? Что здесь происходит? Кто звал полицию? — На меня напал грабитель, — пояснил человек, которого держал Солон, — а вот этот болван, не знаю, откуда он взялся, не только помог вору удрать, но вдобавок вздумал еще меня же задерживать! Услышав это, полисмен повернулся к Солону. — Это что же значит? Кто вы вообще такой? Я этого человека знаю. Он служит приказчиком в бакалейной лавке за углом. А вы кто? Как ваша фамилия? Пойдемте-ка со мной. — Затем, обращаясь к негодующей жертве ограбления, он спросил: — Много денег у вас вытащили, Джон? Солон, совершенно сбитый с толку этой неожиданной переменой ролей, воскликнул: — Послушайте, инспектор, моя фамилия Барнс. Я работаю в Торгово-строительном банке. Я шел по улице, услышал крики и поспешил на помощь, вот и все. — Хороша помощь! Я схватил вора, а этот дурак заставил меня выпустить! Джон весь трясся от злости. — Ну вот что, вы оба ступайте со мной в участок, там разберемся, — решил полисмен. Солон стал объяснять, что, по-видимому, ошибся, приняв грабителя за ограбленного. Если вор, которому он помог уйти, украл у этого человека деньги, он готов возместить потерю. Кончилось тем, что все трое вместе отправились в банк; там установили личность Солона, и он отсчитал мистеру Джону Уилсону десять долларов, после чего полисмен удалился. Тем и закончилось это приключение, послужившее Солону уроком — впредь быть умнее и не всегда верить собственным глазам. Но это был не единственный урок, полученный им во время его странствований по городу. Волей-неволей он видел много такого, что тяжелым камнем ложилось ему на душу: целые кварталы, населенные беднотой, публичные дома, где открыто и нагло процветал разврат, притоны и кабаки, теснившиеся на каждом перекрестке и привлекавшие к себе самые подонки человеческого общества. В Дакле Солону почти не приходилось сталкиваться с подобными явлениями. Отец его был из тех людей, которые жалеют слабых и незадачливых, но предпочитают держаться от них подальше. Так же примерно относился к ним и Солон, только с бóльшим сочувствием. Вот почему он очень болезненно воспринимал эти новые для него стороны городской жизни; в то же время в нем крепла уверенность, что лишь твердо опираясь на заветы религии, можно избежать тех бедствий, которые подстерегают безбожника.Глава 23
Между тем в семье Уоллинов к Солону относились все благосклоннее и благосклоннее. Как раз такого молодого человека давно мечтал подыскать Уоллин, таким он сам был — или воображал, что был, — в молодости. И хоть он вовсе не торопился выдать дочь замуж, он мало-помалу привык смотреть на Солона, как на идеального мужа для нее. Конечно, в смысле достатка и общественного положения можно было пожелать более видной родни, чем Барнсы, но зато трудолюбие молодого человека и его интерес к финансам и банковскому делу внушали уверенность, что состояние Бенишии будет в надежных руках. Всякий раз, когда Бенишия приезжала из Окволда домой, Солон получал приглашение к Уоллинам, и в промежутках молодые люди продолжали обмениваться письмами, все белее и более нежными. Весной Бенишии предстояло кончить курс учения, и это означало, что летом они смогут вместе проводить в Дакле праздничные дни. И вот наступило лето, и Бенишия приехала домой, навсегда покинув Окволд. Теперь каждый День седьмой сулил Солону радости, о которых он даже не мечтал прежде. То были простые, невинные радости: поехать вдвоем на прогулку за город, бродить на закате по саду, а вечером сидеть рядом в просторной гостиной уоллиновского дома и строить планы будущей жизни.В один из таких вечеров Бенишия, склонившись над пяльцами, внимательно слушала Солона, рассказывавшего ей о своей работе в банке. Вдруг он замолчал и, подойдя к Бенишии, несмело обнял ее за плечи. Она подняла на него удивленный взгляд. Его глаза странно, непривычно блестели. — Что с тобой, Солон? Тебе нездоровится? Столько тревоги и ласки прозвучало в ее голосе, что у Солона дрогнуло сердце. — Бенишия, я так люблю тебя! Нет слов, которыми я мог бы рассказать об этом. Для меня жить без тебя, все равно что совсем не жить. — Моя жизнь принадлежит тебе, Солон, и ты это знаешь, — прошептала Бенишия, взяв его за руку. — Можно мне завтра поговорить с твоим отцом, Бенишия, попросить у него согласия на нашу помолвку? — Конечно, можно, Солон! — Она вся расцвела от радости. — Я знаю, что он к тебе очень хорошо относится. Матери я давно уже призналась, что люблю тебя, и, вероятно, она сказала об этом отцу. Назавтра, сидя в молитвенном собрании даклинской общины (был День первый) и глядя на Джастеса Уоллина, восседавшего среди старейшин, Солон решил: сегодня же вечером он будет просить у него руки Бенишии. В течение всей службы он больше ни о чем не мог заставить себя думать. Молча он молился о том, чтобы Внутренний свет озарил и наставил его в этот день, который должен был стать поворотным пунктом всей его жизни. Знаменательный разговор произошел под вечер в той самой гостиной, где накануне сидели Солон с Бенишией, и так трогательно было глубокое душевное волнение, звучавшее в голосе молодого человека, что Джастес Уоллин, от природы немногоречивый, на этот раз изменил своим привычкам. — Я давно уже к тебе присматриваюсь, Солон, — сказал он, — и не вижу ничего такого, что помешало бы мне с радостью принять тебя в свою семью. Бенишия тебя любит, знаю. Но она так еще молода. У нас нет других детей, и нам очень тяжело будет с нею расстаться. Мне известны твои успехи в банке, но ведь не прошло и года, как ты начал работать там. Подождем еще год; это даст возможность и тебе, и Бенишии лучше подготовиться к такому серьезному шагу. — Но позволь нам хотя бы считать себя помолвленными, чтобы мы не должны были скрывать свою любовь друг к другу! — Солон, — ласково сказал Уоллин, кладя руку на его широкое плечо, — прошу тебя, потерпи еще немного. — Но, увидя, как омрачилось лицо юноши, он тут же добавил: — Ну, хорошо, как только ты получишь новое повышение и будешь занимать пост, свидетельствующий о завоеванном доверии, мы объявим о вашей помолвке. И он повернулся к двери, давая понять, что разговор окончен. Это было жестокое разочарование для Солона, но он утешал себя тем, что все-таки Уоллин согласился на его брак с Бенишией, и теперь от него требовалось только одно: удвоить старания, чтобы оказаться достойным ее. Естественным следствием этого разговора было то, что Солон стал все чаще и чаще проводить субботу и воскресенье у Уоллинов, в их даклинском доме. Правда, это противоречило квакерским обычаям, согласно которым если между молодым человеком и девушкой зашел разговор о браке, то они не должны больше оставаться под одной кровлей. Но Уоллины, как и многие другие члены Общества друзей, склонны были к несколько смягченному истолкованию суровых заветов квакерской старины. Так прошло лето, и Солон с Бенишией вступили во второй год своей любви. Немало праздничных дней и вечеров провели они вместе, мечтая о будущем. Обоим хотелось, чтобы день свадьбы наступил поскорее, но в то же время оба уже примирились с мыслью о длительной отсрочке, на которой настаивал отец Бенишии. Вышло, однако, так, что счастливый день настал раньше, чем можно было ожидать, и обязаны они были этим случайному замечанию одного из самых мудрых и уважаемых старейшин даклинской общины. Выходя из молитвенного дома после того, как там состоялось оглашение помолвки одной молодой пары из соседнего городка, этот почтенный человек вскользь заметил Джастесу Уоллину: — Надеюсь, мы не станем особенно тянуть с освящением этого брака. Мне кажется, вообще нашим молодым людям слишком долго приходится быть на положении жениха и невесты. Раз уж они помолвлены, так чем скорее их поженить, тем лучше. Я не раз даже собирался поговорить об этом на собрании общины. Уоллин внимательно прислушался к этим словам. Ему и самому уже приходило в голову, что он неверно понимает свой долг по отношению к дочери. Как раз недавно Солон получил в банке место помощника кассира, так что эта часть их условия была уже, в сущности, выполнена. Уоллин решил посоветоваться с женой. В результате их беседы он на следующий же день отправился в Торнбро, к родителям Солона, с предложением немедля объявить о помолвке Солона и Бенишии и начать приготовления к свадьбе, которую и сыграть в начале лета. Ханна Барнс давно уже отгадала, как тяжела ее сыну неопределенность в его отношениях с Бенишией. Она видела, что он томится этим бесконечным ожиданием счастья, и молча страдала за него. Поэтому она обрадовалась предложению Уоллина. Руфус, который, как и она, успел уже полюбить Бенишию, тоже поспешил согласиться. И две недели спустя на молитвенном собрании общины было объявлено: «С соизволения господа и с одобрения Друзей мы, Солон Барнс и Бенишия Уоллин, намерены вступить в брачный союз». Это сообщение было с восторгом встречено членами обоих семейств. На следующем молитвенном собрании, согласно заведенному обычаю, родители жениха и невесты уведомили общину о своем согласии на брак, а там, выдержав требуемый приличиями срок, назначили и время свадьбы — на первой неделе июня.
Глава 24
И вот наконец Солон и Бенишия предстали перед конгрегацией, которая должна была освятить их союз. Трудно вообразить себе более счастливую молодую пару, трудно представить большее счастье родных и близких. Дело происходило ясным летним утром — будничным, так как День первый не полагается отдавать столь земным интересам. Около ста человек собралось в молитвенном доме даклинской общины; были тут и родственники, и друзья, и просто любопытные. Торжественная тишина, стоявшая во время брачной церемонии, свидетельствовала о настроении большинства присутствующих. Даже те, кто сменил традиционную квакерскую одежду на обычный городской костюм, во всем прочем оставались верны заветам квакерского учения. Но были и в этой толпе люди, которые охотно сбросили бы с себя оковы религии; были родители, удрученные поведением отпавших от веры детей. Разумеется, родня жениха и невесты была в полном сборе, причем нетрудно было с первого взгляда отличить одних от других. Уоллины, учтивые и подтянутые, держались особняком, хотя и старались выказать скромность и смирение, согласно требованиям исповедуемого учения; Барнсы выглядели скромнее и проще. Ханна была одета со всей строгостью квакерского обычая: гладкое серое платье, шаль и чепец; так же были одеты Синтия Барнс и Феба Кимбер. Зато Рода и Лора пришли в платьях, сшитых хотя и скромно, но в соответствии с модой другого, не квакерского мира. Среди родственников невесты насчитывалось немало людей, занимавших видное место в филадельфийском и уилмингтонском обществе: мистер Бенджамен Уоллин, крупный маклер из Филадельфии, двоюродный брат Джастеса, мистер Керкленд Парриш с женой, владелец судостроительной верфи, мистер и миссис Айзек Стоддард из Трентона, родственники миссис Уоллин, которая происходила не из квакерской семьи. Был там еще молодой Сигер Уоллин из Филадельфии, сын и наследник одной из ветвей семейства Уоллинов, студент-медик последнего курса, весьма светский молодой человек, а также Эстер Уоллин, чрезвычайно богатая старая дева, приходившаяся Бенишии теткой, самая энергичная и деятельная особа из всей уоллиновской родни; она сначала отнеслась было к Солону неодобрительно ввиду его скромного положения в обществе, но серьезность и положительность юноши очень быстро покорили сердце старой девы. Кроме того, присутствовали члены правления и служащие Торгово-строительного банка с женами, и, разумеется, родители невесты, прятавшие свое волнение под внешней сдержанностью. Главные действующие лица вместе с родными и с целой свитой сопровождающих прибыли ровно в одиннадцать часов утра. Все расселись по местам — женщины слева, мужчины справа, и церемония началась. Жених и невеста, встав друг к другу лицом, соединили руки; затем воцарилось короткое молчание, дабы каждый из присутствующих мог углубиться в себя, призывая божественное наитие. Солон, одетый в простой черный костюм, стоял неподвижно и прямо, и когда пришла его очередь говорить, он произнес слова брачной формулы с глубоким чувством человека, который сознает, что настала решающая минута его жизни. — Я, Солон Барнс, перед богом и людьми беру в жены Бенишию Уоллин и клянусь, с помощью господней, быть ей верным и любящим мужем, пока не разлучит нас смерть. Бенишия, несмотря на свою набожность и природную скромность, порозовела, слушая эти слова. На ней было простенькое, серое, как принято у квакеров, платье из тафты, доходившее до лодыжек. Чепец из такой же серой тафты обрамлял ее личико, трогательное в своей застенчивой прелести. Она волновалась, и это было заметно, Однако легкая, радостная улыбка все время дрожала на ее губах. Отвечая Солону, она смотрела ему прямо в глаза своими ясными, фиалковыми глазами. — Я, Бенишия Уоллин, перед богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь, с помощью господней, быть ему верной и любящей женой, пока не разлучит нас смерть. После этого они присели за небольшой столик и поставили свои подписи под брачным свидетельством. Затем это свидетельство было прочитано вслух всем собравшимся, после чего поднялся один из старейшин общины и от имени всех пожелал молодой чете счастья, а другой призвал благословение божие на их союз. На этом церемония закончилась. До сих пор миссис Уоллин, призвав все свое мужество, старалась казаться веселой, но тут она повернулась к тетушке Эстер, сидевшей рядом, и шепнула: — Если бы ты знала, Эстер, как мне тяжело! Сидевшая по другую ее руку Ханна Барнс вдохновенно и страстно молилась о счастье своего горячо любимого сына и его жены. У Джастеса Уоллина вид был довольный и важный. Руфус Барнс сосредоточенно и горделиво смотрел на молодых. За высокими окнами с частым переплетом, открытыми целиком, чтобы дать доступ легкому летнему ветру, стлались поля, окаймленные болиголовом и рябиной, дубами и тополями, а вдали синели невысокие горы, уходившие на запад, к Аллеганскому хребту. Где-то совсем близко звенел колокольчик у коровы на шее, перекликаясь с веселым щебетом птиц. После окончания церемонии знакомые разошлись, а близкие друзья и родственники отправились в дом к родителям новобрачной, где торжество завершилось парадным завтраком. Женщины рассматривали и хвалили свадебные подарки. После завтрака новобрачная переоделась в дорожное платье, и настала волнующая минута прощания. Бенишия нежно целовала свою мать и плакала у нее на плече, а Солон пожимал руки всем подряд. Потом они вышли на крыльцо; им вслед, совсем уже не по-квакерски, полетели пригоршни риса и старые башмаки — и экипаж умчал их на станцию, откуда они должны были поездом отправиться в Атлантик-Сити. Только когда они, наконец, остались вдвоем в номере курортной гостиницы, Солон дал волю своим чувствам. Больше не сковывали его никакие запреты религии и морали, и можно было всей душой отдаться тем радостям, которых он ждал так долго. — Ты такая чудесная, Бенишия, — повторял он, нежно касаясь ее щек. В этой нежности было и преклонение и благоговейный страх перед тайнами пола, о которых он так мало знал. Горевшая в нем страсть умерялась безотчетной, томительной потребностью в материнской ласке со стороны девушки, так горячо им любимой, и Бенишия словно поняла это. — А ты, Солон, ты такой хороший, — сказала она и поцеловала его сперва в глаза, а потом в резко очерченные, твердые губы. — И ты мой, на всю жизнь мой. Мы принадлежим друг другу, Солон, милый, отныне и вовек.Часть II
Глава 25
Медовый месяц пришел к концу, и счастливая молодая чета, вернувшись в Даклу, поселилась в доме, который Джастес Уоллин преподнес своей дочери в качестве свадебного подарка. Это был большой белый особняк с куполообразной крышей, стоявший на одной из тихих, отдаленных улиц. В нем было с десяток просторных комнат, к которым подошло бы любое убранство, но молодые согласились на том, что лучше всего обставить их в стиле, к которому Бенишия привыкла в отцовском доме, — в стиле американской старины. К дому примыкал участок земли акров в двадцать пять. Джастес закрепил за дочерью капитал в сорок тысяч долларов, а его жена позаботилась о полном обзаведении молодых, начиная с мебели — все шератон, чиппендейл, хеппелуайт — и кончая бельем и посудой. От других родственников Бенишия получила в подарок серебро, хрусталь, медную и бронзовую утварь. Тетушка Эстер из Дэшии прислала ящик столового серебра, а мистер и миссис Бенджамен Уоллин из Филадельфии — бронзовые каминные щипцы старинной работы. Ханна Барнс, не желая отстать от богатой родни, подарила чудесный сервиз китайского фарфора. Одним словом, с первых же дней в доме воцарилось изобилие, казавшееся Солону даже чрезмерным. — Поистине провидение милостиво к нам, если только это волею провидения мы живем среди такой роскоши, — сказал он однажды Бенишии, вскоре после того, как они устроились в своем новом доме. — Твоя правда, милый, — ответила Бенишия. — Мне часто приходило на ум, что мои родители и я сама слишком щедро осыпаны божьими милостями, но раньше у меня не было своих денег и я не могла помогать другим. Теперь же, имея собственные средства, мы с тобой можем делать немало добра и утешаться мыслью, что достаток, который нам дан, мы обращаем на цели, угодные господу. Это соображение поразило Солона своей глубиной и справедливостью; Бенишия словно показала ему, что она и умней его и глубже разбирается в религиозно-нравственных вопросах — хоть у ней вовсе не было такого намерения. Солон подошел и обнял ее. — Какая ты умная и какое у тебя золотое сердце, Бенишия. Не знаю, чем я заслужил такое счастье. И в самом деле — сбылись все его юношеские мечты: у него хорошая работа, красивый дом, прелестная молодая жена, влиятельные друзья и родственники, он здоров и полон сил. Солон посмотрел в окно, на поля, уходившие вдаль, к западу, и у него даже дух перехватило, такая красота была кругом. За широким лугом виднелся другой дом, живописно белевший на темной зелени сосновой рощи. От косых лучей заходящего солнца оконные стекла пламенели золотым огнем. На лужайке, у гамака, подвешенного меж двух старых дубов, попрыгивала малиновка и несколько черных дроздов. — Хорошо, правда? — задумчиво спросил он. — Ах, Солон, — вздохнув, ответила Бенишия, — я так счастлива с тобой. У меня есть все, чего можно желать. Солон и Бенишия вполне готовы были удовлетвориться той немудреной жизнью, которой жило даклинское общество. Войти в эту жизнь им было легко. Молодую чету, известную своим примерным благочестием, а кроме того, обладавшую положением и связями, везде встречали с распростертыми объятиями. Очень скоро после свадьбы Бенишия поняла, что к душевному складу Солона как нельзя лучше подходит старозаветная безмятежность этого полудеревенского существования. Он был наделен всеми добродетелями, располагавшими к такой жизни, и свободен от всех пороков, которые мешали бы примириться с ней. Лучшее общество округи состояло из квакерских семейств, и Солон со своей милой и приветливой женой скоро заняли видное место в даклинской общине. Со многими членами этой общины Солона связывали добрые отношения, установившиеся еще в ту пору, когда он вел с ними дела, помогая отцу. Но теперь он для них был уже не «молодой Барнс», состоявший при отце и матери, а Солон Барнс, помощник кассира филадельфийского Торгово-строительного банка, молодой человек с отличными видами на будущее, один из самых уважаемых граждан Даклы. Ему уже не раз случалось держать речь в молитвенном собрании, и старейшины общины, ее духовные наставники, находили, что у него есть все данные для того, чтобы со временем самому сделаться одним из старейшин, и что следует почаще привлекать его к участию в богоугодных делах общины. Женская часть общины была в восторге от Бенишии. Молодых супругов наперебой приглашали в дома окрестных Друзей, и сами они тоже нередко принимали гостей в своем уютном доме. Как-то раз Солона попросили вместе еще с двумя Друзьями взять на себя обязанность воздействовать на одного из членов общины, позволившего себе обидные замечания по адресу другого. Солон дал согласие и повел дело так умно и тактично, что по всей округе заговорили о его необыкновенной чуткости и добросердечии. Вскоре после этого его избрали членом постоянного Комитета вспомоществования, назначением которого было заботиться о беднейших членах даклинской общины и помотать им в нужде. Солон вставал в половине седьмого, обходил свое хозяйство, заглядывал на конюшню и в хлев, отдавал распоряжения работнику. После завтрака он садился в кабриолет, и тот же работник вез его на железнодорожную станцию. Без пяти девять он выходил из вагона на вокзале Брод-стрит в Филадельфии и ровно в девять являлся в банк. До трех часов, а иногда и дольше, он сидел у одного из кассовых окошечек, проверяя чеки и отсчитывая кредитные билеты, а иногда, по поручению своего начальника, мистера Эверарда, разбирал просьбы о мелких ссудах, поступавшие в отдел кредитов. Картотека, которую он завел для Эверарда, успела разрастись до гигантских размеров. К его услугам был и другой справочный материал — разные каталоги, бюллетени, указатели, но нигде не нашлось бы таких исчерпывающих сведений о браках, кончинах, судебных процессах, банкротствах, оценках и переоценках — словом, обо всем, что касалось частных лиц, банков и корпораций Филадельфии и ее окрестностей. Человек глубоко нравственный по природе, Солон, кроме того, привык судить о делах и людях в свете определенных, незыблемых принципов и понятий. По его представлениям, люди, достигшие высокого положения в обществе или большого богатства, были обязаны этим только своему трудолюбию и благоразумию. Правда, иногда до его ушей доходили слухи о сомнительном происхождении иных крупных состояний, и это смущало его — ведь в Библии ясно сказано, что кто нажил богатство неправедными путями, тому добра не будет. Он всячески старался идти навстречу мелким дельцам и предпринимателям, состоявшим в числе клиентов банка. Но мало-помалу ему пришлось убедиться, что и среди этих людей далеко не все безупречны в своих делах. Работая с отцом в Дакле, он привык думать, что только истинно достойные люди имеют право на поддержку кредитных учреждений; здесь же на его глазах через кабинет мистера Эверарда проходили ежедневно самые разнокалиберные дельцы, фабриканты, торговцы, предприниматели, и единственным, что решало вопрос, оказывать или не оказывать им такую поддержку, служила их платежеспособность. Солон пытливо присматривался ко всем этим людям. На его взгляд, следовало бы принимать во внимание и нравственные качества каждого клиента. Исправно ли он исполняет свой религиозный долг? Воздержан ли в своих привычках, в образе жизни? Достаточно ли скромно и в то же время опрятно одевается? В добропорядочном ли окружении живет? Заслуживает ли он вообще звания честного человека и доброго гражданина? Все эти обстоятельства казались Солону крайне важными для суждения о человеке. Полный таких возвышенных мыслей, он каждый день ездил в Филадельфию и обратно, соблюдал в обращении положенные формы вежливости, интересовался всем, чем считал себя обязанным интересоваться, и мечтал о том времени, когда они с Бенишией обзаведутся большой семьей и станут жить, как завещано людям от бога. Так, мирно и безоблачно текли его дни в ожидании счастливого события: Бенишия должна была скоро сделаться матерью, — как вдруг слегла Ханна Барнс, заразившись инфлюэнцей, эпидемия которой свирепствовала в Восточных штатах. Несмотря на старания врачей и самый заботливый уход, она прохворала две недели и умерла, к поистине безутешному горю мужа и детей. Синтия незадолго до того вышла замуж и жила в Йорке, штат Пенсильвания, где муж ее был одним из руководителей квакерской общины, но когда мать заболела, ее вызвали в Даклу. Самый жестокий удар эта смерть нанесла Солону. Он страдал так глубоко, что временами на него находили приступы мрачного, мертвящего оцепенения, грозившие не только поколебать его религиозные устои, но и повредить рассудок. Он как-то сразу постарел и долгое время был не в силах сосредоточиться даже на работе. Не раз он рыдал, оставшись один в комнате, но в конце концов на помощь ему пришла религия. Призвав все свое мужество, он напомнил себе, что нужно быть благодарным творцу за многие милости, ниспосланные ему прежде. Кроме того, он чувствовал себя обязанным утешить и поддержать Бенишию, — ведь она не только горевала о Ханне, но и болела душой за него, зная, как он любил свою мать. Единственным, что облегчало их скорбь, была мысль о ребенке, который скоро должен был родиться. Эта мысль помогала им крепиться в ожидании лучших дней.Глава 26
Четыре месяца спустя Бенишия родила девочку. Солон не помнил себя от счастья: ему хотелось дочку. Девочке дали ими Айсобел, в честь любимой тетки Бенишии. Ее нельзя было назвать красивым ребенком, и родилась она, к огорчению родителей, довольно слабенькой. Но тем не менее ее появление на свет вызвало бурную радость в обеих семьях — Барнсов и Уоллинов. Ведь она была первой внучкой, и Джастес Уоллин тут же положил в Торгово-строительный банк две тысячи долларов на ее воспитание. За девочкой родился мальчик, которого назвали Орвилом. Это был круглолицый, темноволосый крепыш, и если дочь не могла порадовать родителей красотой и здоровьем, то у сына того и другого оказалось в избытке. Орвил рос тихим, послушным, ласковым ребенком; пожалуй, ему недоставало живости, но зато нельзя было пройти мимо, не залюбовавшись им. Прошло еще два года, и на свет явилась вторая девочка, получившая имя Доротеи. У нее было хорошенькое кукольное личико, блестящие каштановые волосы, круглые, розовые щечки, серые глаза с поволокой, а когда она улыбалась, то становилась похожа на ангелочка. С первых же шагов, с первого детского лепета в ней проявилась неугомонная, переимчивая натура; она старательно подражала всему, что делали старшие брат и сестра. Ее веселый голосок целый день звенел без умолку, и мать, слушая его, думала о том, что у этой резвушки жизнь непременно сложится счастливо и легко. С рождением детей перед Солоном и Бенишией встали те вопросы, связанные с их воспитанием, которые беспокоят всех родителей на земле. Солону, всегда высоко ценившему послушание и порядок и, с другой стороны, дух хорошей, дружной семьи, теперь представлялся случай осуществить свои идеи на деле. И он готов был приложить все старания для того, чтобы каждый из его детей мог служить образцом разумно воспитанного ребенка — серьезного, правдивого, справедливого и доброго. Бенишия была с детьми более снисходительной, но, впрочем, и Солон никогда не прибегал к суровым или слишком крутым воспитательным мерам. Оба сходились на том, что лаской и мягким внушением можно достигнуть куда лучших результатов. В уходе за детьми Бенишии помогала девушка по имени Кристина, совмещавшая в своем лице няньку и гувернантку. Дети ее очень любили. Она происходила из небогатой, но почтенной квакерской семьи, жившей в Ред-Килне, селении неподалеку от Даклы, и Солон получил о ней самые похвальные отзывы. Когда дети подросли настолько, что могли уже осилить начатки грамоты, Кристина стала их первой учительницей. Она учила их с помощью таких нехитрых пособий, как деревянные раскрашенные брусочки, небольшая классная доска и простой букварь без картинок. Сперва, разумеется, все внимание Солона было обращено на Айсобел, затем настал черед Орвила. В каждом из них он как бы вновь переживал собственные ранние годы и думал: какая это, в сущности, загадочная, почти непостижимая пора — детство. От года к году крепло в нем сознание своей родительской ответственности, заставлявшее его постоянно тревожиться о том, как лучше направить и наставить своих детей в их первых, неуверенных еще шагах. Ведь в любом из них можно воспитать стремление к высоким и благородным целям — так по крайней мере надеялся Солон. И он с особым вниманием перечитывал то место из «Книги поучений», которое начинается словами: «С горячей любовью к подрастающему поколению» — и дальше гласит: «Помните всегда, дорогие мои юноши и девушки, что страх божий есть начало мудрости». Он не готовил своим детям беззаботного существования, потому что сам привык жить в скромности и труде, но твердо верил, что они должны быть и будут довольны тем путем, который он для них изберет. Жизнь в семье текла размеренно и спокойно, тем порядком, к которому с детства привыкли и Солон и Бенишия. В их доме, как и в других квакерских домах округи, не было ни картин, ни музыкальных инструментов, ни книг, за исключением разве нескольких сочинений о сущности квакерской веры или сходного содержания. Библия, «Дневник» Джорджа Фокса, «Дневник» Джона Вулмэна и его же «Друг Оливия» и «Квакерский крест». Такие темы, как искусство, театр, светские развлечения, никогда не затрагивались в разговоре. Воскресные и даже ежедневные газеты находились под запретом, только Солон просматривал их для деловых надобностей. Бенишия чтением не интересовалась и читала редко. В День первый Солон и Бенишия торжественно отправлялись в молитвенный дом даклинской общины, захватив с собой двоих или даже всех троих детей. Солон ехал с озабоченным видом, весь поглощенный мыслями о делах общины. В молитвенном доме он с Орвилом усаживался по одну сторону от прохода, а Бенишия и Айсобел — по другую. И пока длилось торжественное молчание, предшествующее началу беседы, оба сидели, погрузившись в благочестивые размышления, с той только разницей, что Бенишия то и дело возвращалась мыслью к своим домашним делам, тогда как Солон сосредоточенно ждал, когда Внутренний свет озарит его душу. Даже Бенишия не представляла себе всей глубины религиозного чувства своего мужа. В молитвенном доме он больше молчал, благоговея перед мудростью творца. Лишь в редких случаях он вставал и обращался к собравшимся со словом. Говорил он закрыв глаза, и дети смотрели на него с любопытством, не слишком понимая, что все это означает. Бенишии еще реже случалось говорить в молитвенном собрании. Ей мешала природная застенчивость, и кроме того, ее духовная близость с мужем была так велика, что в своих речах он как бы выражал и ее мысли и чувства. После собрания они на каких-нибудь полчаса задерживались у входа, обмениваясь приветствиями с многочисленными друзьями и знакомыми. Потом возвращались домой, и в большой синей с серым столовой, обставленной незатейливой и прочной старинной мебелью, садились за простой, но сытный обед, до и после которого читалась традиционная молитва. Иногда эта трапеза совершалась в семейном кругу, иногда в ней принимал участие кто-нибудь из друзей или родных. Вина и крепкие напитки на стол не подавались, а единственной формой веселья была задушевная беседа или мягкая, дружеская шутка. Детям полагалось сидеть за столом прямо и вести себя чинно; обычно они строго выполняли это правило — насколько можно было уследить за ними. Малейший шум и возня тотчас привлекали внимание Солона, и одного его укоризненного взгляда в сторону провинившегося бывало достаточно, чтобы водворить тишину. Впрочем, он не часто прибегал к этому способу, предпочитая по возможности не замечать мелких нарушений порядка. В сущности говоря, эти годы, пока Айсобел не исполнилось шести лет, Орвилу — четырех, а Доротее — двух, были самыми счастливыми в жизни Солона Барнса. Конечно, не обошлось без обычных детских болезней, но и только. По праздничным дням ездили всем семейством в гости — то в Филадельфию к родителям Бенишии, то в Торнбро к отцу Солона, то в Дэшию к тетушке Эстер; эти постоянные изъявления родственного внимания, почти столь же обязательные, как в еврейских семьях, совершались со всей торжественностью и серьезностью, которая в то время была присуща любым человеческим отношениям в квакерской среде.Глава 27
Однако даже и в этот счастливый период у Солона были свои заботы, коренившиеся в особенностях его душевного оклада. За годы службы в Торгово-строительном банке он многому научился, стал лучше разбираться в жизни и в людях. С другой стороны, работа в банке открывала перед ним широкие коммерческие перспективы. Пользуясь своей осведомленностью в городских делах, он поместил часть собственных средств в закладные на принадлежавшую городу недвижимость. Это оказалось выгодным, и банковский счет Солона все больше округлялся. Однако Солон не обладал настоящим размахом; он был не из тех людей, в чьем воображении рождаются грандиозные планы строительства железных дорог или прокладки трамвайных линий, кого не смущают мелкие сделки с совестью, ценой которых зачастую покупается большой успех. Напротив, он никогда не заглядывал далеко вперед и предпочитал оставаться в сфере дел небольшого масштаба, где прибыли сравнительно скромны и укоры совести не тревожат душу. Так, например, вскоре после женитьбы Солона к нему явился один старик фермер, разводивший домашнюю птицу, и предложил купить его ферму. Сам он был уже слишком стар, чтобы справляться с таким хлопотным делом, и в последние два года не мог даже выплачивать проценты по закладной. За пятьсот долларов наличными он готов был уступить Солону все обзаведение. Между тем, по самым скромным подсчетам, одна только ферма стоила не меньше двух тысяч, а птичник при умелом хозяйничанье мог дать еще тысячи полторы. Солон уплатил старику шестьсот двадцать долларов, а спустя короткое время перепродал ферму за три тысячи, причем ему даже не пришлось уплатить накопившиеся проценты. Вскоре после этого ему попалось на глаза газетное объявление о продаже с публичных торгов небольшого домовладения в Филадельфии, состоявшего из нескольких построек. Он посоветовался с тестем и заручился его обещанием в случае надобности помочь деньгами, а затем пригласил специалиста для оценки назначенных к продаже домов. Получив нужные сведения, Солон отправился на торги. Вел он себя осторожно, не торопился, но пока цена держалась ниже суммы, ассигнованной им на покупку, методически надбавлял по сотне долларов всякий раз, когда молоток аукциониста готов был опуститься. Так он в конце концов дошел до восемнадцати тысяч долларов, и дома остались за ним, к большому его удовлетворению, так как у него уже был на примете подходящий покупатель. Через два месяца он продал эти дома за двадцать семь тысяч и полученную прибыль вложил в другую недвижимость здесь же, в Филадельфии. Но как ни приятны были подобные удачи, их постоянно омрачала тревожная мысль о том, где же грань между простым стремлением к лучшему и корыстью, несовместимой с велениями религии, между жаждой денег и власти и верностью квакерским заветам. Снова и снова он принимался перечитывать давно знакомые главы из «Книги поучений», где речь шла о законах, о третейских судах и коммерческой деятельности, — не ради укрепления своей веры, но в чаянии найти поддержку своим взглядам на карьеру дельца. Особенно запомнились ему два наудачу выбранных отрывка из главы: «О предпринимательстве»:«Мы призываем всех помнить, что никто не должен пускаться на такие предприятия, в основе которых лежат зачастую обманчивые перспективы, связанные со спекуляцией или риском; пусть лучше удовольствуется жизнью скромной и умеренной, сообразно принципу самоотречения, каковой мы исповедуем».И в другом месте:
«Наше горячее желание состоит в том, чтобы Друзья во всех своих начинаниях смиренно ожидали, когда господь наставит их, и неукоснительно сообразовались бы с указаниями и запретами Духа истины в делах своих и торговле, не позволяя себе увлекаться необузданной жаждой земных благ и памятуя столь часто и прискорбно оправдывающиеся в наши дни слова апостола о том, что «желающие обогащаться впадают в искушение», а уклонения от правой веры «погружают людей в бедствия и пагубу».Но ни в Филадельфии, ни в других местах Солону почти не встречались люди, — кроме разве очень немногих твердых в своей вере квакеров, — которые старались бы избежать забот или соблазнов, связанных с богатством. Жажда власти и денег словно была разлита в воздухе. Даже в Дакле, этом патриархальном уголке, который, впрочем, быстро застраивался и рос благодаря живописной природе и удобному местоположению, — даже здесь Солон уже подмечал у многих фермеров, торговцев и обыкновенных горожан это стремление урвать свою долю добычи. На столбцах филадельфийских газет то и дело поминались и возвеличивались новые имена. В то же время ходили слухи о политических интригах, которые велись с целью захватить и расхитить городские доходы. Солону не раз приходилось слышать о товариществах, специально создававшихся для того, чтобы захватить в свои руки выгодные подряды на снабжение газом и водой, на прокладку и эксплуатацию конных железных дорог. Совсем недавно клика продажных политиков попалась на том, что использовала муниципальные средства для финансирования частных предприятий и для биржевых спекуляций. Их махинации были разоблачены и планы сорваны, но только одного человека удалось поймать и засудить. С другой стороны, находилось немало вполне порядочных по видимости людей, которые, располагая крупными средствами, желали вложить их в новые предприятия; именно эти люди открыли новую эру — эру финансового процветания в развитии американского общества. Большинство дельцов помельче и просто зажиточных граждан тянулось к тем, у кого была сила, власть и успех, в убеждении, что собственное их благополучие зависит от ума и способностей этих финансовых воротил — честных или бесчестных, все равно. И временами Солон невольно задумывался о том, каких высот материального благополучия мог бы достигнуть он сам, если бы решился вступить в эту битву за деньги и власть. В банке у него постоянно был перед глазами выразительный пример мистера Скидмора и мистера Сэйблуорса, которые разъезжали в собственных дорогих автомобилях, с шоферами, разодетыми в щегольские ливреи. У Скидмора был отделанный с большой роскошью дом на Риттенхауз-сквер, а у Сэйблуорса — особняк на Мэн-лайн. Их имена, так же как имена их жен, сыновей и дочерей, постоянно мелькали в светской хронике местных газет. Но и они, по наблюдениям Солона, охотно преклоняли колена перед еще более крупными представителями местной финансовой олигархии — Биддлами, Дрекселами, Уайденерами или же такими нью-йоркскими магнатами, как Вандербильты, Гулды, Морганы и Рокфеллеры. Видимо, всякому, кто занимался банковским делом, полезно было соприкасаться с этими лицами и подражать их примеру. И вот словно нарочно, чтобы еще усугубить одолевавшие Солона сомнения, случилось одно происшествие, потрясшее его до глубины души. Героем этого происшествия явился сын одного из даклинских соседей. Восемнадцатилетний Уолтер Бриско был личностью, характернойдля своего времени, порождением новых, изменившихся условий жизни. Хотя и воспитанный в добрых квакерских традициях, он жадным взглядом озирался по сторонам, в любую минуту готовый сбросить с себя узду. Как-то в День первый его отец Арнольд Бриско, в сопровождении самого Уолтера, явился к Солону с просьбой: не может ли он, Солон, употребив свое влияние, пристроить юношу в Торгово-строительный банк. У Бриско-отца была небольшая ферма и кроме того лавка в городе, но ни сельское хозяйство, ни торговля сына не привлекали. Придавая большое значение личным добродетелям и деловым качествам, Солон вместе с тем не умел разбираться в людях, особенно если дело касалось его единоверцев. Он хорошо относился к Арнольду Бриско, которого знал как набожного и благочестивого квакера. Сын произвел на него впечатление порядочного молодого человека, прямого, чистосердечного и к тому же расторопного. Когда Бриско изложил цель своего посещения, Солон на несколько мгновений задумался. — Видишь ли, друг Бриско, — сказал он наконец, — как ты знаешь, вакансии у нас в банке открываются редко. Но все же для молодого человека, желающего начать с самой скромной должности, случай иногда может представиться. Не стану тебе ничего твердо обещать, но как только услышу о чем-нибудь подходящем, сейчас же сообщу. Случилось так, что через несколько месяцев после этого разговора администрация Торгово-строительного банка произвела ряд перемещений среди своих низших служащих; многие получили повышение, в результате чего одно место конторщика оказалось свободным, и Эверард спросил Солона, нет ли у него кого-либо на примете. Солон тотчас же послал за молодым Бриско, и тот сразу понравился как Эверарду, так и старшему бухгалтеру, под началом у которого ему предстояло работать. Около года все шло хорошо. Но вот однажды Торгово-строительному банку понадобилось отправить крупную сумму денег в банк Атланты. Старший бухгалтер лично отсчитал полторы тысячи долларов пяти— и десятидолларовыми купюрами, сложил, запечатал и надписал адрес; но когда пакет прибыл на место и был вскрыт, в нем оказалась только газетная бумага, нарезанная по формату государственных казначейских билетов, да кусочек свинца, положенный в середину для тяжести. Казначей атлантского банка без труда установил, что его служащие не причастны к мошенничеству: пакет был вскрыт в его присутствии и всех одинаково поразила жульническая проделка. Приглашенные Торгово-строительным банком сыщики пришли к заключению, что виновным мог быть только мистер Децисматис, старший бухгалтер, или кто-нибудь из служащих его отдела. Мистер Децисматис, несмотря на свою иностранную фамилию, был уроженец Пенсильвании, баптист и республиканец, скучнейший и честнейший человек — идеальный образец банковского служащего. Он прослужил на одном месте пятнадцать лет, и для него не составило труда доказать свою невиновность. Таким образом, под подозрением оставались четверо служащих отдела, в том числе и юный Бриско. За ними была установлена тщательная слежка, и спустя месяц или около того стали выясняться любопытные подробности, касавшиеся поведения молодого Бриско. Так, например, удалось установить, что со времени его поступления на работу в банк у него появились новые привычки, раньше ему несвойственные: нередко он поздно задерживался в городе, ссылаясь перед домашними на сверхурочную работу или занятия в вечерней школе. На самом же деле он в это время околачивался в разных увеселительных местах, играл на бильярде; его видели в компании молодых людей и девушек сомнительной репутации. На одну из таких девушек он тратил немалые деньги, гораздо больше, чем могло позволить его скудное жалованье. В конце концов его арестовали под предлогом наспех состряпанного обвинения в нарушении общественного порядка. На допросе стали допытываться, откуда у него деньги. Кроме того, ему сказали, будто бы номера банковых билетов, посланных в Атланту, были заранее переписаны и что у тех денег, которые нашли при нем, оказались эти самые номера. Это была неправда, но юноша струсил и во всем признался. В оправдание себя он жаловался на чрезмерную строгость отца, на томительное однообразие домашней жизни; именно потому, мол, он и не устоял перед соблазном другого, более легкого и приятного существования. С помощью настойчивых расспросов удалось выяснить, что свыше тысячи долларов из украденной суммы и сейчас лежат спрятанные в амбаре его отца. Уолтера тотчас же отвели к судье, в кабинете которого он подписал полное признание, и теперь ему оставалось только ждать судебного приговора. Вся эта история с самого начала чрезвычайно смущала и волновала Солона; но теперь, когда виновность Бриско была доказана, дело обернулось новой, особенно тягостной для него стороной. Его угнетала мысль, что он поручился за Уолтера, что отец юноши — квакер, собрат по религии. Он уехал в этот вечер домой совершенно подавленный, не поговорив даже со своими сослуживцами. Ему нужно было время и тишина, чтобы обдумать случившееся и помолиться. Бенишия, встретившая его на пороге, сразу увидела, что он чем-то расстроен. — Солон, милый, что случилось? У тебя неприятности? — Знаешь, Бенишия, — с трудом выговорил он, медленно расстегивая пальто, — преступником оказался Уолтер. — Не может быть! — вскричала она, потрясенная не меньше его. — Неужели это правда? Пойдем, расскажи мне все. Ах, Солон, какой ужас! Они вошли в гостиную, и там, устало опустившись в кресло у окна, он рассказал ей все подробности дела. — Ты только подумай, Бенишия, ведь это я устроил его в банк! — повторял он, а Бенишия тяжело вздыхала в ответ, вся — воплощение материнской заботы и сочувствия. В эту минуту у дверей раздался звонок, и служанка доложила о приходе мистера Арнольда Бриско. Бенишия и Солон поспешили к нему навстречу. Его вид испугал их. Этот плотный, розовощекий человек за один день постарел на много лет. Глаза его ввалились, весь он был какой-то понурый, жалкий. Он остановился на пороге, нервно теребя в руках шляпу. — Друг Барнс, — начал он глухим, словно замогильным голосом. — Я не знаю, что сказать тебе. Он вдруг прикрыл глаза рукой, рот его страдальчески искривился. Солон, потрясенный до глубины души, шагнул вперед и положил ему руку на плечо. — Друг Бриско, я понимаю, как тебе тяжело. Мне самому тяжело, словно это случилось с моим сыном. — Никогда не думал, что мой мальчик может стать вором, — срывающимся голосом продолжал Бриско. — Деньги я возмещу. Не в этом дело. Стыд, позор, вот что страшно! Он совершил преступление, и, может быть, даже лучше, если он понесет кару, как бы она ни была сурова. Никогда бы я этому не поверил, если бы он сам не сказал мне. — Он снова заплакал. — Друг Барнс, он находит, что я был слишком строг с ним. Я все себя спрашиваю — может быть, это и в самом деле так? Ты знаешь, я всегда старался быть ему хорошим отцом… — Как он мог сказать это! — возмущенно вскричал Солон. То, что случилось с Уолтером, было недоступно его пониманию, потому что он сам никогда не испытывал тех желаний и чувств, во власти которых оказался юноша. — Это злые, несправедливые слова! Он смотрел на своего соседа, осунувшегося, с воспаленными от слез глазами, и думал, что сына, который осмеливается так говорить с отцом, ничто не исправит. — Может быть, и так, — продолжал Бриско. — Но особенно тяжело мне, когда я думаю о том, какую жизнь он вел, каких друзей себе выбрал. Я спросил его, раскаивается ли он, но он ответил, что нет, а я, мол, ничего не понимаю в жизни. Что ж, пусть правосудие совершится, мне кажется, так будет лучше. Дождусь приговора, а там продам свою лавку и уеду из Даклы. Ведь я уже никогда не посмею смотреть людям в глаза. — Нет, нет, друг Бриско! — горячо возразил ему Солон. — Ты ни в чем не виноват, и ни один честный человек тебя не обвинит. Тебе незачем уезжать отсюда. Но, произнося эти слова, Солон почувствовал, что говорит не вполне искренне, уклончиво. Может быть, и в самом деле для Бриско лучше уехать, чем оставаться здесь и постоянно ловить на себе сострадательные или любопытные взгляды. Он сам не знал, что посоветовать несчастному. Он думал о своем сыне, который в это время мирно спал наверху, в детской, под присмотром преданной няньки. Что, если бы ему, Солону, пришлось когда-нибудь оказаться в положении Бриско? Захотел бы он увидеть своего сына за тюремной решеткой? Последние годы он часто задумывался о будущности своих детей. Он так любил их. Когда они плакали от боли, ему самому становилось больно. Когда они смеялись, он радовался вместе с ними. И сейчас, думая о них, он колебался. Правильно ли будет, если Уолтера посадят в тюрьму, заклеймят на всю жизнь, как преступника? Может быть, он просто сбился с пути, попав в дурную компанию? Солон готов был вступиться за юношу, если бы Бриско попросил его об этом. Но сраженный горем отец повернулся к двери, и Солон понял, что предложить свою помощь было бы сейчас неуместно и бесполезно. — Сам не знаю, что тебе посоветовать, друг Бриско, — сказал он с глубоким участием. — Может быть, ты и прав. Тебе виднее. Конечно, проступок серьезный, и все же, если дать Уолтеру возможность исправиться… — Но тут ему представились холодные, равнодушные лица Эверарда и Сэйблуорса. — А впрочем, раз он не понимает всей глубины своих заблуждений, пожалуй, ему же полезнее, если его отправят куда-нибудь, хотя бы ненадолго… После ухода лавочника Солон стал упрекать себя за то, что не взял Уолтера под свою защиту, но в то же время он не мог отделаться от мысли, что, пожалуй, и в самом деле недолгое заключение пойдет ему на пользу. Уж очень претили Солону хитрость и ловкость, с которой было совершено мошенничество, равно как и все то, на что пошли украденные деньги. С другой стороны, как быть с дорогими его сердцу строчками из «Книги поучений»: «Братья, если какой-нибудь человек впал в грех, вы, в ком дух силен, кротостью и увещанием помогите ему воспрянуть, памятуя, что и на вашем пути может встать соблазн». Как толковать эти слова: «помогите ему воспрянуть»? Но Бриско уже ушел, а проблема осталась нерешенной, и решить ее было тем трудней, что она слишком близко затрагивала мысли и чувства самого Солона и он не видел возможности забыть о них при ее решении. Спустя несколько дней Уолтера судили и приговорили к четырем годам исправительной тюрьмы. Только после суда, когда Уолтер уже отправился в заключение, а Арнольд Бриско заканчивал свои приготовления к отъезду, Солон вдруг понял, что совершил непоправимую ошибку. По смыслу своей религии он должен был прийти на помощь — и не пришел. Эта мысль угнетала его. Первый раз в жизни Солон Барнс погрешил против своих религиозных убеждений — и погрешил серьезно.
Глава 28
За эти годы произошло еще несколько событий, словно нарочно рассчитанных на то, чтобы заставить Солона взглянуть жизни в лицо. На седьмом году его брака скоропостижно скончался Руфус Барнс, оставив на шестьдесят пять — семьдесят тысяч долларов имущества, которое предстояло разделить поровну между ним и Синтией. Не говоря уже о боли утраты, на Солона, как душеприказчика, легла большая забота: нужно было ликвидировать дела отца, произвести оценку и раздел имущества. Стоя у гроба в просторной гостиной усадьбы Торнбро, он уронил лишь несколько скупых слезинок, но Бенишия, стоявшая рядом, лучше других понимала всю глубину его безмолвного горя, его любви и его смирения. Теперь Торнбро принадлежало ему пополам с сестрой; но Синтия была замужем, удобно обосновалась вместе с мужем в Йорке, штат Пенсильвания, и не думала оттуда уезжать; а потому Солон пришел к решению, которое Бенишия горячо поддержала: выплатить Синтии ее долю и переселиться с семьей в родное гнездо. Правда, оттуда было дальше до железнодорожной станции, до рынка и лавок Даклы, но в конце концов на резвой лошади можно было покрыть это расстояние за десять — пятнадцать минут. Свой даклинский дом Солон без долгих хлопот продал, взяв за него хорошую цену; это не представило большого труда, потому что городок быстро рос и фактически уже превратился в пригород Филадельфии. Вероятно, отец и мать порадовались бы тому, что дом, на украшение которого они потратили столько усилий, служит теперь пристанищем для разросшейся семьи их сына, — так думал Солон. К тому же с усадьбой Торнбро у него были связаны дорогие, почти священные воспоминания. Ведь именно здесь он и Бенишия впервые признались друг другу в любви; это было на живописном берегу Левер-крика, при виде которого в его памяти неизменно воскресали картины счастливого детства. Он был уверен, что и его дети полюбят эти места. А кроме того, здесь, среди зеленых сельских просторов, дети будут ограждены от нежелательного влияния сверстников, растущих в менее набожных семьях. Через три месяца после переезда семьи в Торнбро у Бенишии родился еще ребенок. Доротее в это время шел уже третий год, и Солон с Бенишией от души радовались появлению новой дочки. Ей дали имя Этта — так звали двоюродную сестру матери Солона. А еще два года спустя в семье прибавился пятый и последний ребенок, мальчик. Долго обсуждали и перебирали разные имена, и наконец решили назвать его Стюартом, в честь одного из дядей Солона. У этих двух малышей, едва они научились ходить, тоже стал проявляться свой, особый характер. Этта цветом лица и сложением походила на Доротею, но в ней было меньше задорной резвости и больше глубины. Уже в раннем детстве ей были свойственны романтические взлеты фантазии, которых ее родителям не суждено было никогда понять. Но их умиляло ее крохотное тельце, задумчиво-пытливый взгляд ее светлых глаз, которые уже в первый год ее жизни так внимательно всматривались в окружающий мир. — Видишь, как она на меня смотрит, — говорила Бенишия, взяв девочку на руки. — Такая малышка, а кажется, будто она все хочет знать. Стюарт, синеглазый, белокурый, отличался живым и непокорным нравом. В раннем детстве он часто капризничал, если что было не по нем, визжал и вырывался у матери из рук. Он был самым проказливым и самым задорным из всех пятерых, и Солон порой с изумлением глядел на маленького строптивца, который так напоминал чертами свою мать и был так непохож на нее характером. Между тем Айсобел подросла, и настало время всерьез подумать об ее образовании. О том, чтобы отдать ее в городскую школу, даже не заходила речь. При всем уважении Солона Барнса к родной стране он никогда не одобрял принятой в ней системы школьного образования. Городская школа давала детям чересчур много свободы, оставляя их без достаточного присмотра. Кроме того, доброму квакеру не следовало ставить своих детей в условия, при которых мирская распущенность могла оказать на них дурное влияние и даже подорвать их веру. Один из девяти вопросов, которые формулируются на ежегодном съезде Друзей и рассылаются всем общинам, так и гласит: «Стараются ли Друзья вверять детей своих заботам и влиянию тех, кто принадлежит к нашему Обществу?» По счастью, в Ред-Килне, селении, расположенном неподалеку от Даклы, имелась небольшая школа для квакерских детей. Летиция Бриггс, учительствовавшая в этой школе, была когда-то преподавательницей в Окволде. Потом она вышла замуж за одного из окрестных квакеров и только после смерти мужа снова обратилась к своей профессии. Это была добрая, терпеливая женщина, одна из тех бесполых натур, которым свойственны искренняя любовь к детям и умение считаться с их характерами и настроениями. Солон находил ее женщиной весьма почтенной и решил отдать Айсобел в ред-килнскую школу, хотя бы на небольшой срок, в течение которого она сможет приобрести начатки школьных знаний и усвоить основы квакерского вероучения. После этого она на два или три года поедет в Окволд, а там, если захочет, будет продолжать свое образование в колледже. И вот Айсобел стала ездить в Ред-Килн. Старый Джозеф, тот самый, что работал у Руфуса Барнса с первых дней его жизни в Торнбро, и теперь остался у Солона в качестве конюха и кучера, отвозил ее туда каждое утро к половине девятого, а в три часа приезжал за нею. Требовалось ли кому в семье куда-нибудь ехать, нужно ли было что перевезти, — об этом заботился Джозеф. Он был уже глубокий старик, сгорбленный, с морщинистым, словно пергаментным лицом. Чувствуя себя почти членом семьи, он с утра до ночи хлопотал на дворе, а к детям относился как к своим родным. Его сын, тоже Джозеф, только гораздо более толковый, вел все хозяйство усадьбы и в доме показывался редко. — Пора, пора, мисс Айсобел! — кричал утром старый Джозеф. — Поторапливайся, а не то опоздаешь. Айсобел выбегала с тоненькой связкой книг под мышкой, и они уезжали. Годы шли, подрастали другие дети, и все тот же старый Джозеф возил их в школу и из школы, — двоих, троих, а потом и четверых зараз. Барнсовскую двуколку, когда-то блестевшую лаком, а ныне уже довольно потрепанную и облезлую, знали во всей округе. Хозяйки и батраки со всех ферм между Даклой и Ред-Килном проверяли по ней часы. «Вон старый Джозеф повез барнсовских детишек в школу, значит, уже больше половины девятого!» или: «Верно, уже четвертый час: барнсовские детишки едут из школы». Старый Джозеф на козлах, выезжающий из ворот Торнбро или дожидающийся у почты, у вокзала или какой-нибудь даклинской лавки, представлял для местных жителей зрелище не менее привычное, чем закат и восход или поезд Пенсильванской железной дороги. В Джозефе и детях, так же как в Солоне и Бенишии, люди видели некий символ добропорядочности и благосостояния. Барнсы были зажиточными людьми, строго придерживались квакерских обычаев, и всякий мог рассчитывать у них на ласковый и радушный прием. Солон был не мастер на сладкие речи и чужд тех ухищрений, которыми покупается и удерживается внимание толпы, но люди умные и проницательные из любого общественного круга всегда чувствовали к нему расположение. Его хвалили за справедливое отношение к подчиненным, ценили за готовность помогать бедным и обездоленным (если они того заслуживали), он неизменно пользовался уважением своих собратьев по даклинской общине. Это был в полном смысле слова хороший человек — один из тех, кто служит оплотом Америки. Первое свое отцовское огорчение Солон испытал тогда, когда понял, что Айсобел некрасива, не в пример своим младшим братьям и сестрам. И вот настало время, когда она сама поняла это. У нее был чересчур длинный нос, волосы тусклые, какого-то неопределенного пепельно-серого оттенка, цвет лица землистый, лоб в прыщах. Еще маленькой девочкой она не раз ощущала, что чем-то отличается от других, красивых детей, теперь же, в ред-килнской школе, ей с этим приходилось сталкиваться на каждом шагу. Мало-помалу она стала смутно догадываться, что эти тридцать пять мальчиков и девочек (в классе было примерно поровну тех и других) приходят в школу не только для того, чтобы учиться. Что-то еще происходило здесь, что-то гораздо более близкое человеческой природе, и проявлялось оно в постоянном соперничестве между мальчиками из-за благосклонности той или иной девочки. Как-то раз уроки кончились раньше обычного, и Айсобел решила пойти Джозефу навстречу. На дороге она вдруг увидела Уильяма Тесса, мальчика из жившей по соседству квакерской семьи, который гнался за одной из ее сверстниц, Порцией Даггетт. Догнав девочку, он схватил ее и поцеловал в щеку, насильно, по-видимому, но все же поцеловал. Бедная Айсобел! Она не могла не замечать, что Порция, хорошенькая, румяная блондинка, нравится всем мальчикам. Уильям был самым красивым из ред-килнских школьников, и сама Айсобел втайне чувствовала к нему безотчетное влечение. То, чему она стала невольной свидетельницей, задело ее за живое; несколько дней она ни о чем другом не могла думать. Мать, заметив, что девочка словно не в себе, спросила, не захворала ли она. — Да нет, мама, я здорова, — ответила Айсобел безучастно. — Но у тебя какой-то странный вид, детка, — настаивала обеспокоенная Бенишия. — Может быть, неприятности в школе? — Нет, мама, никаких неприятностей. Просто мне очень надоели все наши мальчики и девочки. Хоть бы у меня были еще какие-нибудь знакомые дети! Ты даже не знаешь, мамочка, как это надоедает, — каждый день делать одно и то же, видеть одни и те же лица. Никуда мы не ходим, ничем не занимаемся. Бенишия была озадачена. — Что ты, Айсобел! — сказала она. — Ведь ты же знаешь, что мы, твой отец и я, делаем для тебя все, что только можем. Ты живешь в чудесном доме, ты не одна, у тебя есть братья и сестры. Чего тебе еще нужно? Право, я тебя не понимаю, Айсобел. Но голос ее звучал не совсем уверенно; у нее уже мелькнула смутная догадка о том, что, собственно, огорчает ее девочку. Между тем Айсобел, видно, сочла этот разговор бесполезным, и ушла к себе, сославшись на то, что у нее на завтра много уроков. В одном Айсобел была права: ее отец и мать действительно не склонны были расширять круг знакомств, довольствуясь своей многочисленной родней да друзьями из местных квакеров. Если нужно было что-нибудь купить в городе или побывать на почте, детям не разрешалось ехать иначе как в сопровождении старого Джозефа или одной из служанок. Летними вечерами они часто выезжали встречать отца на станцию, но никакие бесцельные прогулки не допускались. Немудрено поэтому, что внешний мир казался Айсобел заманчивым и таинственным, непохожим на тот, в котором она жила. Постоянно видеть перед глазами младшую сестру Доротею тоже не доставляло ей особого удовольствия. Доротея была хорошенькая, жизнерадостная девочка, которой всегда все любовались. Это, естественно, воспитывало в ней уверенность в себе; она очень рано привыкла нравиться и держалась так, словно это было в порядке вещей. Она ходила легкой, пританцовывающей походкой, капризно надувала губки и не скупилась на улыбки и взоры, которые были очень не по душе ее отцу. — Дочка, — говорил он ей, — почему это ты не можешь ходить спокойно и прямо, как подобает девочке нашей веры? Почему нужно непременно вертеться штопором или извиваться, как червяк? Это и некрасиво и нескромно… — Но, папа, я же ничего дурного не делаю! — Знаю, Доротея. Я тебя не упрекаю, я только хочу обратить твое внимание на то, как следует держать себя разумной и благонравной девочке твоего круга и воспитания. Надеюсь, ты не заставишь меня возвращаться к этому разговору. — Нет, папа. Но жизнь продолжала бурлить в Доротее, особенно когда она находилась вне дома. Мальчикам в школе она нравилась. Было что-то в ее взгляде, в изгибе губ, что смущало и тревожило их. Они увивались за ней, а она принимала это с благосклонной непринужденностью, держась с ними запросто, но не слишком; и вокруг нее создавалась атмосфера поклонения, сильно раздражавшая Айсобел. Когда Айсобел исполнилось четырнадцать лет, ее отправили в Окволд. Но и там было не лучше, чем в Ред-Килне. Как-то, спустя несколько недель после ее поступления туда, Солон и Бенишия собрались навестить дочь. После обеда, оставшись наедине с матерью, она, к величайшему изумлению последней, вдруг разрыдалась. — Мама, милая, возьми меня домой, возьми меня домой! — твердила она сквозь слезы. — Айсобел, девочка моя! — заволновалась Бенишия, полная жалости и материнской любви. — Что случилось? Тебе не нравится здесь? Кто-нибудь тебя обидел? Но Айсобел, растроганная этой нежностью, зарыдала еще сильнее, уткнувшись ей в плечо. — Мама, меня никто не любит, никому я не нужна. Почему я не такая красивая, как Дженнет Гайл или Персис Ченелер… — Названные девочки возглавляли две разные компании в ее классе. — Ах, мама, если б ты знала, как мне иногда хочется умереть! — Айсобел! — Бенишия была потрясена горем дочери и сознанием, что этому горю нельзя помочь. — Так говорить нельзя. Это не по-христиански. Если ты хочешь домой, пожалуйста, мы сегодня же увезем тебя. Но подумай хорошенько. Ведь ты здесь совсем недавно, ты еще не успела познакомиться и подружиться со своими сверстницами. Немного терпения, и все будет хорошо. А зато вспомни, сколько полезных знаний ты можешь тут приобрести. Хорошее образование очень пригодится в жизни, детка. Неужели тебе так уж плохо здесь? Ведь я сама училась в Окволде, и мне здесь очень нравилось. Солон тоже, жалея дочь, постарался выказать ей побольше нежности и участия, и Айсобел, пригретая родительской лаской, постепенно дала себя уговорить и решила остаться. Она выплакала все накопившиеся обиды, и ей стало легче. Но Солон и Бенишия только теперь поняли до конца, как много теряет в жизни их дочка из-за своей непривлекательной наружности. Они почти не разговаривали об этом, но обоим было больно за девочку. Айсобел некрасива и потому страдает, — однако, раз жизнью управляет божественное провидение и все на земле устроено ко благу земных чад, значит, и в этом скрыт какой-то высокий смысл. Айсобел может обрести и постигнуть этот смысл, развивая те достоинства, которые ей даны. А их долг помочь ей в этом. И все-таки разговор в Окволде навсегда остался в памяти Солона и Бенишии, как напоминание о кресте, который они и их дочь обречены нести. Так жизнь заставила Солона мало-помалу уразуметь еще одну непреложную истину: хотя существующий в мире порядок вещей установлен от бога и хотя человек готов подчиниться божественным предначертаниям, в меру своей способности постичь их, — есть в жизни много такого, что может показаться несправедливым. Сын Арнольда Бриско оказывается вором; его, Солона, отец умирает во цвете лет, хотя мог бы счастливо и с пользой прожить еще многие годы; Айсобел суждено горевать из-за того, что она некрасива, а в будущем это может сделать ее глубоко несчастной. Подобные мысли одолевали Солона и в банке, во время работы, и по дороге в Филадельфию или обратно, и ночью, в постели, когда он лежал рядом с Бенишией, обняв ее одной рукой. И, думая об этом, Солон сокрушенно качал головой. Странно устроена жизнь. Взять хотя бы его: дела его идут превосходно, состояние быстро умножается, положение в банке с каждым годом становится все прочнее, у него прекрасные, здоровые дети, которые растут благополучнее, чем у многих других родителей, а между тем он не может отделаться от тягостных мыслей. Разве же не кощунство — подвергать сомнению данный от бога порядок вещей? Но в мире творилось так много непонятного, печального, страшного; он особенно ясно понял это сейчас, когда благодаря работе в банке полнее и лучше узнал жизнь. Так почему же всемогущее и всемилостивое провидение допускает это?Глава 29
Дети Барнсов очень отличались друг от друга по характеру, и это несходство с каждым годом становилось заметнее. Орвил в двенадцать лет был красивым, хотя немного туповатым мальчиком, приветливым и послушным; он никому не доставлял особых забот, и его будущее не вызывало беспокойства. Зато Этта и Стюарт оставались загадкой не только для Солона, но даже и для Бенишии. Оба смутно начинали понимать, что в их младших детях есть много такого, что нелегко укладывается в рамки привычных представлений о жизни. Особенно своеобразной и непохожей на других была Этта, в чем Солону пришлось убедиться уже в первые годы ее жизни. Эта крошечная и грациозная, словно лесной эльф, девочка обещала развиться в женщину, прекрасную телом и душой, но Солон не понимал и чувствовал, что никогда не поймет мечтательного склада ее ума, склонного к романтике и отвлеченным раздумьям и совершенно чуждого той житейской трезвости суждений, которой он, как отец, всегда добивался от своих детей. Это была натура слишком тонкая, слишком поэтическая. Есть люди, которые, в отличие от натур реального, практического склада, очень рано подпадают под власть идеала и уже не могут с ним расстаться. Это в них заложено от природы. Мир для таких людей не есть нечто материальное, конкретное, как для большинства из нас; он воспринимается ими как симфония красок, звуков и образов. Но им трудно приспособиться к этому миру, потому что они не встречают у окружающих того понимания, того душевного отклика, которых так жаждут. С первых лет своей жизни Этта была мечтательницей. Она постоянно жила среди видений красоты, какие порой открываются каждому из нас, увлекая и очаровывая, но вместе с тем оставаясь непонятными. Там, где ее отец, сестры, братья могли бы проявить свой ум, она ума не проявляла. Бывает особый ум, направленный только на восприятие прекрасного, способный вдохновляться формой облаков или изгибом усиков лозы, ум, далекий от всего материального, сущность которого не мысль, а мечта, но мечта эта сродни надеждам и стремлениям всех людей на земле. Такой ум был у Этты. С тех пор как началось ее сознательное существование, она жила в своем, особом мирке. Правда, Стюарт и Доротея были постоянными товарищами ее игр, а иногда к ним присоединялся и Орвил или Айсобел, но общение с ними было для Этты чисто внешним; внутренне, духовно она оставалась им чужой. Часто, играя со Стюартом или Доротеей, она вместе с ними собирала чурки и камешки, чтобы построить дом, крепость или город, но в то время как они целиком были поглощены этим конкретным занятием, ее маленькая душа витала далеко, среди великанов, ангелов и безыменных крылатых существ, роящихся в воздухе и наполняющих его прекрасными видениями. Как-то раз соседка, миссис Тенет, женщина, не лишенная поэтической жилки, рассказала ей сказку о фее Берилюне, которой стоило только взмахнуть палочкой, и все вокруг становилось прекрасным. Услыхав эту сказку, Этта создала в своем воображении целое царство, где все было красиво до слез: на зеленых равнинах возвышались дворцы из халцедона и яшмы, а вокруг росли цветы невиданной красоты. Она часами сидела, слегка раскачиваясь в своей маленькой качалке, и ее круглые голубые глаза, устремленные вдаль, казалось, смотрели на что-то, недоступное другим взглядам. — О чем ты задумалась, Этта? — ласково спросила ее в одну из таких минут мать. — О феях, мама. Я только что видела принцессу Берилюну. — Девочка произнесла это просто и очень серьезно. — О феях? — немного растерянно переспросила Бенишия. Она знала, что Солон не любит, когда детям рассказывают о том, чего не существует на самом деле. — А кто тебе говорил про них, детка? — Миссис Тенет. Она мне рассказала про одну прекрасную фею, которую зовут Берилюна. — Что же, это добрая фея или злая? — спросила Бенишия, в глубине души сама не вполне убежденная в том, что ничего подобного не существует на свете. — Конечно, добрая! — решительно заявила Этта. — Ну, расскажи мне про нее, — попросила мать; ей хотелось узнать, чем заняты мысли дочери. Минуты три или четыре Этта довольно сбивчиво пересказывала сказку, которую она слышала от миссис Тенет. Бенишии сказка понравилась, и она сказала: — Может быть, и вправду есть такие феи, которые награждают хороших детей и наказывают дурных. Так что ты помни, всегда будь хорошей девочкой. Этта задумчиво посмотрела на нее, и много дней после этого разговора, услышав шелест листьев на ветру, она тотчас же вскакивала и озиралась по сторонам. А вдруг это фея Берилюна, окруженная свитой эльфов, про которых так хорошо рассказывала миссис Тенет, пролетает мимо, направляясь к садам, где цветут райские цветы! Даже поступив в школу, Этта не перестала мечтать. Мир казался ей неотразимо прекрасным; солнечный восход и закат, стук дождя по оконному стеклу, шелест деревьев, когда по ним пробегает ветер, — сколько красоты было во всем этом! Что касается Стюарта, белокурого младшего сынишки Барнсов, то у него не проходило дня без какой-нибудь проказы, — так по крайней мере утверждал Солон. То он притащил с чердака маленьких голубят, из которых несколько успело околеть, прежде чем их обнаружили в комнате. То вздумал прокатиться на дворовых псах Барке и Тэксе и соорудил упряжь из веревок, в которой они потом запутались, и дело кончилось отчаянной собачьей грызней. Не было уголка в доме, куда бы Стюарт не сунул носа: он постоянно оказывался в самых неожиданных и неподходящих местах, откуда вылезал весь в грязи и пыли. Бенишия, как и Солон, не была сторонницей телесных наказаний. Но Стюарт частенько вызывал у нее желание задать ему хорошую трепку. — Подождем несколько лет: вырастет — образумится, — утешал ее Солон; он так любил своих детей, что готов был ждать сколько угодно. Но однажды Стюарт выкинул штуку, которая встревожила Солона больше всех его прежних шалостей. К ним с Эттой пришли играть соседские дети, два мальчика и две девочки, все в возрасте от пяти до восьми лет, и Стюарт, которому тогда шел седьмой год, предложил играть в индейцев; они раскрасят себе тело, сказал он, и будут рыскать по лесам. Совершив набег на материнские рабочие столики, они раздобыли всяких лент и шнурков, а в курятнике нашлись перья, которыми они себя украсили. Вблизи от усадьбы Барнсов протекала небольшая речка с берегами из красной глины, обладавшей свойствами хорошего и прочного красителя. Дети побежали к речке, разделись, вымазались глиной и в таком виде отправились в лес. Но когда, наигравшись и устав, они захотели вернуться, то оказалось, что память у всех шестерых значительно уступает воображению: никто не мог вспомнить, в каком месте они оставили свое платье. Начались утомительные поиски. Между тем родители, видя, что детей долго нет, забеспокоились и пошли их искать. Сперва миссис Барнс послала за Стюартом и Эттой Кристину, а когда Солон вернулся из банка, он и сам пустился на розыски. Услышав окликавшие их голоса, дети в испуге заметались по лесу. Потом сообразили, что надо хотя бы отмыть краску с кожи, но для этого требовалась вода, а чтобы добраться до воды, нужно было выйти и обнаружить себя. Решили лучше спрятаться. Тут одна маленькая девочка заплакала, а за ней и самый младший мальчик. Но Стюарт, быстро вошедший в роль предводителя, прикрикнул на них и велел сидеть смирно. Было уже без четверти шесть, когда Солон и отец одного из мальчиков, обходя с разных сторон небольшой пригорок, вдруг за поворотом увидели беглецов. Этта сидела, прижавшись в страхе к другой девочке; Стюарт и еще один мальчик с мрачными лицами стояли на страже. При виде отцов все дружно заревели. Сбежались остальные родители и бросились к детям, позабыв свою тревогу. Только Солон остановился в растерянности. Вид детей, как он ни был забавен, смутил его. Ведь они были совершенно голые. А их родители смеялись! Все же он с чувством облегчения взял сына и дочь за руки и повел домой. Он меньше винил Этту, чем Стюарта: хоть она и была старше, но он знал, что все шалости исходят от него. Войдя в комнату Бенишии, он подтолкнул к ней обоих плачущих детей и сказал: — Вот, полюбуйся, Бенишия. Играли в лесу и потеряли свое платье. При взгляде на Стюарта и Этту Бенишии захотелось и плакать и смеяться, но ее удержало серьезное выражение лица Солона. Однако потом, отмывая Стюарта от красной глины (Эттой занялась Кристина), она потребовала, чтобы он рассказал ей все, как было, и все-таки посмеялась втихомолку. Солон, однако, отнесся к делу иначе. Отец пятерых детей, он хорошо знал, что только строжайшая дисциплина и воспитание в истинно религиозном духе могут внушить ребенку правильные представления о добре и зле. Но разве они с Бенишией не делали все для того, чтобы сохранить своих детей чистыми в помыслах и поступках? Так что же, значит, где-то все-таки был допущен промах? Раз Стюарт мог преспокойно раздеться догола и в таком виде разгуливать среди других детей, да еще уговаривать их последовать его примеру… Придется нынче же поговорить с мальчиком серьезно. Стюарт со смиренным и покаянным видом выслушал отцовское нравоучение на тему о святости человеческого тела. Впрочем, назавтра вся эта история вылетела у него из головы; зато Солон еще очень и очень долго не мог ее забыть.Глава 30
Когда Солону Барнсу шел сороковой год, в делах банка произошли перемены, принесшие ему новые заботы и новые, более ответственные обязанности. Серьезно заболел Эзра Скидмор, председатель правления, — настолько серьезно, что уже не оправился и умер, три года проболев. В связи с его болезнью пришлось произвести некоторые перемещения среди администрации банка. Сэйблуорс был назначен временным председателем, Эверард — временным вице-председателем, а Солону поручили обязанности казначея. Его жалованье, постепенно повышавшееся из года в год, теперь уже достигало десяти тысяч долларов. Кроме того, так как по уставу все лица, занимавшие руководящие должности, входили в правление банка, Солону необходимо было стать для этого владельцем хотя бы нескольких акций. Из этих соображений на него записали две учредительские акции. Газеты широко оповестили публику обо всех этих переменах и перемещениях, и понадобилось очень немного времени, чтобы за Солоном утвердилась репутация настоящего делового человека, выдающегося по своим способностям и знаниям. Джастес Уоллин с удовлетворением мог сказать себе, что не ошибся в выборе зятя. Что касается самого Солона, то ему и льстило и в то же время казалось забавным то внимание, которое он теперь встречал со стороны людей, прежде почти его не замечавших. Одним из таких людей был Комптон Бенигрейс-младший, с которым Солон когда-то вместе учился в школе. Столкнувшись с ним однажды на улице, Бенигрейс выразил восторг, показавшийся Солону явно преувеличенным. — Здравствуй, Солон! — шумно приветствовал он бывшего одноклассника. — Я прочел в газетах, что ты назначен казначеем Торгово-строительного банка. Тебе можно позавидовать: казначей такого солидного учреждения — это не шутка. Солону бросилось в глаза, что Бенигрейс одет не в традиционный квакерский сюртук, а в костюм, сшитый по моде. И этот тоже стал отступником, подумал он. Но в конце концов, если человеку угодно поддерживать приятельский тон в разговоре с товарищем детских лет, что тут можно возразить? — Да, — сказал Солон. — Я доволен. Ну, а у тебя как дела? Выглядишь ты очень хорошо. — О, мои дела превосходны, лучше не надо, — небрежно ответил Бенигрейс. — Я служу в Американском учетном банке. Выберешь время, зайди ко мне, буду очень рад. И с тем распрощался. Так же повел себя Джордан Парриш, сын Керкленда Парриша, человека богатого, с большим весом в обществе. Парриши приходились сродни Уоллинам, но Солон, вопреки своим религиозным убеждениям, всегда испытывал к Джордану неприязнь. Это был малорослый человечек желчного и ехидного нрава; встретившись с ним случайно в коридоре банка, Солон тотчас же отметил, что он, как и Бенигрейс, отказался от традиционной квакерской одежды и, что еще хуже, от традиционного обращения на «ты». — А, здравствуйте, брат Барнс! — воскликнул он. — Где это вы пропадаете? Я вас не видел целую вечность. Да, скажите, вы, говорят, получили место казначея? — Это только временно, пока не вернется мистер Скидмор, — ответил Солон. — Да уж ладно, я-то знаю. Скидмор никогда больше не вернется. А вы где живете — все там же, в Дакле? Непринужденный тон, которым разговаривали эти отпрыски богатых семейств, невольно внушал Солону чувство, близкое к восхищению. Для них такой скачок в его карьере был словно в порядке вещей. — Да, я живу там с тех пор, как женился, — сказал он. — Собственно не в самой Дакле, а по дороге к Ред-Килну. — Скажите на милость! Вы теперь, верно, глава многочисленного семейства? Сколько у вас детей? — Пятеро, — с гордостью ответил Солон. — А у вас? — Всего двое. Я живу в своем имении в Девоне. Собрались бы вы когда-нибудь к нам в гости! Как поживает кузина Бенишия? Передайте ей привет и непременно приезжайте с ней вместе. Кстати, ведь я служу у Рула и Симмонса (это была известная маклерская контора) — мы могли бы с вами делать дела. Он ушел, и Солон должен был признаться себе, что все эти любезности не были ему неприятны. Новая должность повлекла за собой более тесное общение с клиентурой банка — ее представителями и доверенными лицами. Многих из них Солон уже знал по своей прежней работе в качестве кассира и помощника мистера Эверарда по отделу кредитов, но теперь ему приходилось встречаться с этими людьми при несколько иных обстоятельствах. Они являлись, чтобы исхлопотать ссуду, учесть одни векселя и получить отсрочку по другим; нередко это были сделки на тысячи долларов. Разумеется, там, где дело касалось очень крупных сумм, Солон ничего не решал единолично; вопрос должен был рассматриваться на заседании правления. Но небольшие ссуды он вправе был предоставлять по собственному усмотрению. И, занимаясь нуждами мелких коммерсантов, он всячески старался пойти им навстречу и устроить их дела наилучшим образом. — Послушайте, Барнс, — сказал однажды мистер Эверард, видя, как осаждают Солона подобные клиенты. — Вы слишком уж много возитесь с этой мелюзгой. Очень хорошо, конечно, что вы стараетесь помогать им, но, право же, вы сберегли бы немало времени и энергии, если бы попросту закрыли им счет. Есть достаточно небольших банков, которые охотно займутся их делами. Солон понимал, что это совет разумный, но ни за что на свете не согласился бы ему последовать. Он с глубокой симпатией относился к честным, небогатым коммерсантам, людям, не лишенным честолюбивых надежд, но порою не знавшим, как свести концы с концами. Сердце у него сжималось, когда он видел, как меняется лицо человека, которому отказывают в кредите или требуют немедленной уплаты долга. Не раз он тут же приглашал беднягу приехать к нему в Даклу с приходо-расходной книгой и всеми прочими документами, желая вместе с ним разобраться в положении и попытаться найти выход. Обычно, впрочем, это ни к чему не приводило. Те, кому везло, не нуждались в помощи по мелочам. Банк был заинтересован в такой клиентуре, которая вовсе не искала поддержки, вела свои дела в крупных масштабах, а ссуды, взятые в банке, погашала в срок и с высокими процентами. Но все же новое назначение пошло Солону на пользу; он теперь сталкивался с людьми, которых раньше почти не знал, и мало-помалу у него завязались в обществе и в коммерческих кругах знакомства, длившиеся потом долгие годы и сыгравшие немалую роль в его жизни.Глава 31
По мере того как молодые Барнсы росли, жизнь становилась для них все более сложной, потому что один за другим они невольно начинали подмечать резкое несоответствие между родным домом и окружающим миром. Как ни прекрасны были традиции, господствовавшие в домашнем укладе Барнсов, эти традиции явно шли вразрез с живым, стремительным инапряженным духом времени, и даже от не слишком пытливого ума не могло укрыться это противоречие. Айсобел первая стала замечать, что в доме многое идет не так, как в других домах. И одежда и образ жизни ее родителей и их близких друзей отличались какой-то особой чопорностью. Во внешнем мире люди одевались и держали себя совсем иначе. Они чаще смеялись, их поведение было гораздо более непринужденным. Барнсы жили словно приглушенной жизнью. Разговоры вполголоса, подавление всяких вспышек веселья или гнева, скупость на слова — все это было скорее правилом, чем исключением. Детям не разрешалось шуметь, особенно по вечерам, если отец работал, что бывало нередко. За столом им полагалось сидеть чинно, говорить только когда взрослые обращались к ним с вопросом, особенно если в доме были гости. Им вменялось в обязанность держать в порядке свое платье и свои вещи, выполнять все требования религии, соблюдать утром и вечером час молчания, когда надлежало читать про себя молитву или же ждать, покуда зазвучит в душе голос божий, — короче говоря, в своих поступках, речах и мыслях они должны были следовать всем правилам, предписываемым не только хорошим воспитанием, но тем особенным, глубоким ощущением религиозного смысла жизни, которое неотделимо от квакерского учения. Между тем дети видели, что в мире, частицей которого являлся каждый из них, в Дакле, Ред-Килне, Филадельфии, бурлит веселая молодая жизнь, а доступ к этой жизни для них закрыт. Зимою школьники, мальчики и девочки, устраивали катанье на санях или, собравшись у кого-нибудь в доме, затевали разные игры, варили и ели сладкую помадку; когда замерзали реки, они гурьбой носились на коньках по Телл-ривер или Левер-крику, а когда выпадало много снега, скатывались на салазках с горы, что за городской почтой. Летом по Телл-ривер тянулись целые флотилии лодок. Население округи быстро росло, усиленно завязывались и поддерживались знакомства, особенно между детьми, с малых лет проникавшимися вольным духом времени. Солон, однако, относился ко всему этому неодобрительно. Он твердо решил по возможности ограждать своих детей от посторонних влияний и потому не разрешал им принимать участие в подобных забавах. Что касается театра — о театре Айсобел слышала от одной из своих окволдских товарок, — это уж заведомо было от лукавого. А между тем Доротея, приезжая в город с отцом и матерью, просто глаз не могла отвести от крикливых, размалеванных афиш, возвещавших об очередном представлении. Немало беспокойства доставляла Солону растущая популярность велосипеда. Этот вид спорта, позволявший юношам и девушкам разъезжать без присмотра по улицам и сельским дорогам, развивал стремление к свободе, которое, на его взгляд, было весьма рискованно удовлетворять. А Орвил, с тех пор как ему исполнилось двенадцать лет, беспрестанно донимал родителей просьбами о велосипеде, и ссылки на то, что у хорошего мальчика и желаний таких не должно быть, по-видимому, его не убеждали. Впрочем, около этого времени случилось небольшое происшествие, показавшее Солону, что Орвил не всегда придерживается определенных ему домашними правилами границ. Это открытие было сделано Солоном совершенно случайно. На окраине Даклы, там, откуда начиналась дорога, ведущая в Торнбро, находились кварталы, населенные беднотой. Местная детвора имела обыкновение после школы собираться для игры у входа в большое кирпичное здание методистской церкви. На стенах церкви и нескольких пустующих лавок, расположенных по соседству, часто можно было увидеть надписи мелом, сделанные неверной детской рукой. Десятки имен упоминались здесь в довольно неожиданных подчас сочетаниях. И вот однажды, проезжая мимо, Солон, к своему удивлению, прочитал на церковной стене ошеломляющее сообщение о том, что «Мейси Лэтем любит Орвила Барнса». Приехав домой, он рассказал об этом Бенишии. — Боюсь, что он там водится с детьми, с которыми ему совсем не следовало бы водиться, — сказал он строго. — Я не знаю в нашей общине семьи по фамилии Лэтем. Да и вообще рано ему думать о девочках. Пришла очередь Бенишии встревожиться. В тот же вечер перед ужином Орвил был вызван к отцу и подвергнут строгому допросу. Сначала он пробовал увильнуть от прямого ответа, но в конце концов сознался: да, он действительно несколько раз побывал у методистской церкви, но это только потому, что его уговорил одноклассник, Эдвард Нирджон. Он не хотел обидеть товарища отказом. Да, среди игравших там были и девочки, но никакой Мейси Лэтем он не помнит и о надписи на стене ему ничего не известно. Орвилу поверили на слово, и дознание на этом закончилось. Однако уклончивость ответов сына не ускользнула от внимания Солона. Бунт Доротеи был более откровенным и непосредственным. — Просто не понимаю, почему это мама и отец так строги с нами, — пожаловалась она как-то старшей сестре. — Кроме как к родственникам, мы никуда и носа показать не смеем. Посмотри, как живет Миртл Пиплз. Никто ей не говорит: ходи только туда-то, возвращайся домой в такой-то час. И Реджине Тенет тоже. А ведь они обе принадлежат к нашей общине. Айсобел сидела, глубоко зарывшись в кресло, с обычным своим угрюмым видом. Даже Доротея, целиком занятая собственными огорчениями, почувствовала в настроении сестры какую-то непонятную грусть. Во взгляде, который та подняла на нее, была безнадежность, почти отчаяние. Конечно, ей тоже очень хотелось пойти покататься на роликах, но не этим одним объяснялась ее тоска. — Ты права, Доротея, — сказала она и глубоко, протяжно вздохнула. — Не знаю, что тут можно сделать, но что-то сделать надо. — Даже колясочку с пони, и то не разрешают завести! — продолжала Доротея. — Отец говорит, что хватит с нас двуколки и кабриолета. А ведь места в каретном сарае еще сколько угодно, и деньги на покупку тоже нашлись бы, я знаю. — Попробую я поговорить с мамой. Может быть, она придумает, как нам помочь. При всей решительности, с которой были сказаны эти слова, в тоне Айсобел не чувствовалось надежды на успех. В тот же день, улучив удобную минуту, она спросила у матери, почему им не позволяют бывать на вечеринках, которые часто устраиваются у соседей. Однако полученное ею объяснение было далеко не утешительного свойства. — Твой отец против этого, родная, — мягко, почти печально сказала Бенишия. — На таких вечеринках бывают всякие дети, а кроме того, там приняты игры и развлечения, которые он для вас считает неподходящими. Ведь ты всегда можешь пригласить подруг к себе и провести с ними вечерок в приятной беседе. Неужели тебе недостаточно общества тех, кто исповедует нашу веру? — Но я знаю, что все мои окволдские сверстницы, тоже дочери Друзей, ходят на вечеринки, — жалобно сказала Айсобел, вспоминая увлекательные рассказы подруг о том, как весело они проводят дома субботу и воскресенье. — А вот нам так ничего нельзя! — недовольно пискнула Доротея. Она услышала разговор Айсобел с матерью и поспешила вставить свое слово. — Дом да школа, больше мы ничего не видим. Детям из городской школы куда веселее живется! — Доротея, Доротея! — с ласковой укоризной остановила ее мать. — Придет время, ты все это поймешь и оценишь. А сейчас ты еще слишком мала. Мне очень грустно слышать от тебя такие речи. Ведь ты отлично знаешь, что в полезном и нужном тебе никогда не отказывают. — Но полезное и нужное — это еще не все, — надув губы, возразила Доротея. — И что ни говори, детям из городской школы живется веселее! Так ничего и не вышло из их попытки выговорить себе бóльшую свободу, большее разнообразие жизни. У Орвила и Стюарта разница в характерах была выражена еще более ярко. Стюарт с самого нежного возраста был неистощим на выдумки во всем, что касалось шалостей и проказ. Орвил отличался жадностью, копил центы и не любил, когда другие дети брали его игрушки; Стюарт, напротив, был ветрен и беспечен, постоянно терял свои шарики и волчки, а потом без спросу хватал братнины. Кристине и Бенишии то и дело приходилось разбирать возникавшие на этой почве бурные ссоры, взывая к столь высоким чувствам, как братская любовь, уступчивость, доброта и великодушие. С годами различие между мальчиками стало сказываться еще резче. Орвил тянулся к состоятельной родне: к тетушке Эстер, к бабушке и дедушке Уоллинам, к Парришам и им подобным. Ему нравились их красивые благоустроенные дома с многочисленной прислугой, их сады, их породистые лошади и дорогие выезды. Стюарт тоже не оставался равнодушным к этим признакам материального благополучия, но особого значения он им не придавал. Его с самых ранних лет влекло все яркое, быстрое, красивое, все то, в чем ощущалось биение живой жизни. Иногда отец брал его и Орвила с собой в Филадельфию, чтобы сделать какие-нибудь необходимые покупки. Шумные улицы, толпы пешеходов, автомобили, освещенные витрины — все это производило на Стюарта ошеломляющее впечатление. Он в жизни не прочел ни одной сказки, не знал ни Мальчика-с-пальчик, ни Синей Бороды, ни Синдбада-морехода, но пестрый таинственный городской мир был для него настоящим сказочным царством. Как-то раз они попали на Маркет-стрит во время военного парада. Музыканты в красных мундирах с медными пуговицами и особенно капельмейстер в высоченном кивере, размахивавший блестящей серебряной палочкой, привели Стюарта в такой восторг, что он стал прыгать, визжать и хлопать в ладоши. Отец удивился столь бурному ликованию, тем более что Орвил, который был всего на пять лет старше брата, отнесся к зрелищу совершенно равнодушно. Единственное, что его, по-видимому, заинтересовало, был большой барабан. «Вот так махина», — спокойно сказал он, когда барабанщик поравнялся с ними. Зато у Стюарта блестели глаза, горели щеки. Он чуть было не увязался за солдатами под оглушительный грохот барабана. Дома у него только и было разговоров, что о музыкантах в красных мундирах, о высоком черном кивере на голове капельмейстера и о сверкающих медью трубах. Он повидал уголок волшебного мира. Наблюдая за обоими сыновьями, Солон покачивал головой. Орвил, осторожный и умеренный, больше заслуживал одобрения; Стюарт был слишком порывист, слишком нетерпелив, беспечен и опрометчив. И, однако, в самой этой живости и стремительности младшего сына заключалось для Солона что-то неуловимо притягательное. Что за человек из него получится? Можно ли судить о чем-либо по склонностям ребенка? Станет ли он когда-нибудь энергичным, смелым дельцом, каких Солону приходилось встречать в том мире, к которому принадлежал он сам и к которому наверняка будет принадлежать Орвил? Будущее Стюарта тревожило своей неопределенностью, и Солону хотелось силой своей отцовской любви спасти его от тех испытаний, которые, быть может, подстерегали его впереди. В детстве, когда Стюарт капризничал или просто хотел спать, устав за день, Солон любил укачивать его на руках. Он невольно любовался светлыми кудряшками мальчика, голубыми глазами, прямым, точеным носиком и похожим на купидонов лук изгибом рта. То был чувственный изгиб — но этого Солон Барнс не мог понять до конца, потому что природная застенчивость и сдержанность во всем, что касалось чувств, не позволяли ему даже думать о таких вещах. Что до Этты, младшей из дочерей, то редко можно было встретить ребенка с такой огромной потребностью любви. Она всюду ходила за матерью по пятам, просто для того, чтобы быть к ней поближе. Но в ответ на всякую ласку она только слегка, словно нехотя, улыбалась, как будто ей было нужно что-то неизмеримо большее. «Чудачка ты моя маленькая», — говорила Бенишия, целуя ее и заглядывая в ее глазки, так напоминавшие глаза Солона.Глава 32
Эстер Уоллин была старшей сестрой Джастеса Уоллина. Впервые увидев Солона в день его свадьбы с Бенишией, она сразу же почувствовала к нему расположение и в последующие годы сделалась частой гостьей в его доме. А поскольку Бенишия всегда была ее любимицей, то немудрено, что свою симпатию к родителям она распространяла и на детей, по мере их появления на свет. Сама она жила в Дэшии, в неуютном сером каменном доме, который сначала стоял довольно уединенно, но впоследствии, когда городок разросся, оказался окруженным со всех сторон другими домами, довольно претенциозными и безвкусными по своей архитектуре. После переезда Солона с семьей в Торнбро у нее вошло в привычку гостить у них по месяцу летом и зимой. В Торнбро, по ее уверениям, она чувствовала себя лучше, чем где бы то ни было. Комнатка, которую Феба Кимбер так любовно отделала для себя, после ее смерти пустовала — Феба ненадолго пережила сестру; и эту комнатку отвели теперь тетушке Эстер. Ее приезды служили для детей серьезным испытанием по части выдержки и благонравия: когда тетушка Эстер почивала после обеда или же сидела в особом кресле с высокой спинкой, защищавшей ее от малейшего дуновения ветерка, и любовалась садом, приходилось вести себя особенно примерно; но была тут для них и своя выгода. Приезжая, тетушка Эстер всегда привозила подарки каждому из детей, кроме того, во время ее пребывания готовились особенно вкусные блюда и комнаты украшались цветами. Составлять букеты и ставить их в вазы лежало на обязанности Этты, и она всегда радовалась, когда тетушка Эстер хвалила ее природный вкус, помогавший ей находить наиболее удачные сочетания форм и красок. Эстер Уоллин была женщина весьма передовая, умевшая смотреть на жизнь по-современному, трезво и без предрассудков. Благодаря тому, что она сама управляла солидным состоянием, доставшимся ей еще в молодые годы, у нее образовался широкий и разнохарактерный круг знакомств. С Солоном и Бенишией эта долговязая, сухопарая, энергичная старая дева любила вести нескончаемые споры, касавшиеся будущего их детей. Сама бывшая воспитанница Окволда, она давно уже пришла к выводу, что знания, получаемые в этом заведении, далеко не отвечают тем разнообразным требованиям, которые современная жизнь ставит перед молодым человеком или девушкой. — Ты же прекрасно понимаешь, Бенишия, — начинала она обычно, считая, что Бенишию легче урезонить, чем Солона, — ты прекрасно понимаешь, что в наше время уже нельзя удовлетворяться теми знаниями, которые дает Окволд. Чересчур они ограниченны. Ну чему там учат девушек? Словесность, история, немножко математики да, пожалуй, еще ботаника или геология. О мальчиках я и не говорю! Допустим даже, что они выносят оттуда чуть побольше знаний, но уж, конечно, там не получишь такой подготовки к колледжу или к какой-либо практической деятельности, как в других школах. Помни, молодежь теперь не та, что была двадцать лет назад. Ты обязана позаботиться, чтобы твои дети получили все лучшее, что может дать современная школа, иначе твой долг перед ними не будет выполнен. В отсутствие Солона Бенишия всегда соглашалась с теткой. Она сама, в своем общении с людьми, здесь и в Филадельфии, чувствовала, как ей не хватает знаний. Да и Солон не раз признавался в том же. Но зато в Окволде и других квакерских учебных заведениях за молодежью был бдительный присмотр, а этому он по-прежнему придавал первостепенное значение. — Я и сам знаю, как важны в наше время профессиональные, технические знания, — возражал он. — Но ведь их можно приобрести и после окончания Окволда. Пусть проведут несколько лет там, а тогда уж я с более легким сердцем доверю их каким-нибудь новомодным заведениям, — мальчиков, во всяком случае. Что до девочек, они едва ли будут стремиться продолжать учение. К тому времени каждая из них повстречает, должно быть, славного молодого квакера, за которого она захочет выйти замуж, — заключал он с добродушной улыбкой. Бенишия настолько любила мужа, что ему нетрудно было склонить ее на свою сторону. Но ведь вот тетушка Эстер, которая вдвое больше ее прожила на свете, так и не сделавшись ничьей избранницей, настаивает, что замужество не единственный путь, возможный для женщины, и что девушку, по каким-либо причинам не вышедшую замуж, ждут горькие разочарования на жизненном пути, если она заранее не найдет себе других интересов. Тетушка даже приводила в пример нескольких своих знакомых, которые, оставшись одинокими сиротами, вынуждены были зависеть от подачек родни, потому что не могли сами позаботиться о себе, не получив достаточного для этого образования. Так, под влиянием тетушки Эстер, Айсобел в конце концов было разрешено готовиться к поступлению в колледж. Надо сказать, что мысль о колледже давно уже приходила ей в голову, и одна из окволдских учительниц, некая мисс Фрэзер, всячески поддерживала ее в этом. Мисс Фрэзер учительствовала уже восемнадцать лет; в свое время ей самой довелось пережить все то, что сейчас мучило Айсобел, и потому она с горячим сочувствием отнеслась к желанию девушки расширить круг знаний, полученных в Окволде, и придать им несколько более практический уклон. Мисс Фрэзер была убеждена в том, что новому поколению квакеров понадобятся более высоко и разносторонне образованные учителя, и она не раз указывала Айсобел на перспективы, которые могут открыться в этом направлении для честолюбивой и взыскательной девушки. Среди окволдских одноклассниц Айсобел нашлась еще одна, по имени Аделаида Прентис, у которой были такие же планы. Она тоже происходила из квакерской семьи, но верования и принципы Общества друзей не наложили на нее особенно глубокого отпечатка, потому что, принадлежа к этой среде по рождению, она никогда не разделяла полностью господствующих в ней религиозных взглядов. Как и Айсобел, она не отличалась красотой и довольно болезненно ощущала недоступность тех радостей, которые украшали жизнь более красивых девушек. Одинаковые недостатки и одинаковые стремления послужили основой дружбы между Айсобел и Аделаидой; они часто и подолгу обсуждали вопрос о поступлении в высшую школу, пока, наконец, мисс Фрэзер не помогла им подойти практически к решению этого вопроса. Солон, однако, поставил условие, что сам выберет учебное заведение, в котором Айсобел будет готовиться к педагогической деятельности, если уж она так на этом настаивает. Он остановился на Льевеллинском колледже для девиц. Это заведение было основано членами Общества друзей, хотя и носило вполне современный характер; к тому же оно находилось сравнительно недалеко от Филадельфии. Айсобел согласилась с выбором отца, и было решено, что на следующий год она поступит в Льевеллинский колледж.Глава 33
Орвилу к этому времени исполнилось семнадцать лет, и он уже три года проучился в Окволде. Это был высокий стройный юноша, темноглазый, темноволосый, с приятными чертами лица, чрезвычайно выдержанный и самоуверенный. В отличие от Айсобел его ничуть не привлекала перспектива продолжать свое образование. Родственные связи с широко разветвленной фамилией Уоллинов внушили ему уверенность, что его ожидает обеспеченная и притом незаурядная карьера. По правде сказать, он больше времени уделял приобретению полезных знакомств, чем занятиям, но все же ухитрялся сдавать все экзамены и даже получать хорошие отметки. Чести быть его ближайшим другом удостоился Эдвард Стоддард, сын Айзека Стоддарда из города Трентона. Этой дружбе придавало особый интерес то обстоятельство, что у Эдварда была сестра Алтея, которая тоже училась в Окволде. Правда, обучение в Окволде велось раздельно, и девушки с юношами встречались только в часы молитвы и в свободные от занятий дни, так что знакомство Орвила с Алтеей подвигалось довольно медленно. Но все же оно подвигалось, потому что Алтея, бесцветная, недалекая девица, характером весьма схожая с Орвилом, почувствовала к нему сильное влечение и вскоре сумела устроить так, что брат пригласил его приехать в Трентон. После этого они часто виделись по праздничным дням, и Орвил стал задумываться над заманчивой перспективой породниться с богатым семейством Стоддардов. Алтея в глубине души была довольно равнодушна к вере отцов; для нее, как и для Орвила, важно было не религиозное содержание квакерства, а его внешняя сторона. Но брак с такой девушкой принес бы Орвилу деньги, обеспеченную, удобную жизнь, почет и уважение окружающих, а это было все, чего он желал для себя в этом мире. Солон был очень доволен, узнав о том, что Орвил питает склонность к Алтее Стоддард. Он считал Орвила идеальным сыном и человеком, который по своим нравственным качествам безусловно заслуживает всяческого благополучия в этом мире. Поэтому его ничуть не удивило, когда Орвил, достигнув восемнадцатилетнего возраста, заявил о своем желании оставить Окволд и поступить на службу к Айзеку Стоддарду, главе фирмы «Американский фаянс». В колледж он идти не собирался, и карьера делового человека была ему как нельзя более по душе. Двадцатилетний с лишком опыт банковской работы убедил Солона в том, что достигнуть успеха на этом поприще можно только обладая соответствующими способностями. Он не был уверен, что у Орвила эти способности есть, и радовался тому, что юноша сам нашел себе занятие по душе. Поэтому он вполне одобрил намерение Орвила поступить на работу в «Американский фаянс». К старшим Стоддардам, Айзеку и его жене, он относился с величайшим уважением. Но и на этот раз при решении судьбы барнсовского отпрыска не обошлось без тетушки Эстер. Дело в том, что упомянутая почтенная дама в свое время оказала Айзеку Стоддарду финансовую поддержку, которая помогла ему стать на ноги. Ей и поныне принадлежала треть капитала фирмы «Американский фаянс», и потому так важно было заручиться ее одобрением. К Орвилу она всегда благоволила, хотя, по правде сказать, была не слишком уверена в его нравственном и умственном совершенстве — уж очень редко от него можно было услышать меткие, оригинальные суждения о чем бы то ни было; но все же она знала, что он человек по-своему неглупый и способный, и можно не сомневаться, что он оправдает ее рекомендацию. А потому она уведомила Айзека Стоддарда, что будет очень рада, если Орвил станет приучаться к делу под его руководством, и ручается за его практическое чутье и безупречную добросовестность. Любопытно, что одно из самых ранних воспоминаний Орвила было связано с фаянсовой посудой редких художественных достоинств, образцы которой он впервые увидел в трентонском доме своей двоюродной бабки Фебы. Муж Фебы, Энтони Кимбер, был первым владельцем фабрики «Американский фаянс», которую он приобрел, когда все оборудование состояло из двух гончарных кругов и печи для обжига, и со временем превратил в процветающее промышленное предприятие. После его смерти Руфус Барнс, действуя в интересах Фебы, продал это предприятие Эстер Уоллин и Айзеку Стоддарду. Таким образом, через Орвила восстанавливалась теперь оборвавшаяся было связь с прошлым, и в семейную историю Барнсов вновь вплеталась нить, ведущая к «Американскому фаянсу».Глава 34
Льевеллинский колледж для девиц представлял собою своеобразное скрещение устоявшихся старых порядков с тем духом новизны, который все сильнее овладевал наиболее свободомыслящей интеллигентной частью квакерства Восточных штатов. Основатели колледжа принадлежали к Обществу друзей, но в те годы, о которых идет речь, он с таким же правом мог считаться квакерским, как и протестантским или католическим. И все же, пусть правила, регулировавшие внутреннюю жизнь колледжа, и не были чрезмерно строгими, но сами стены его словно дышали какой-то стародевичьей святостью. Готическая чистота линий отличала архитектуру зданий и планировку парка. Плавно закругляющиеся дорожки пересекали зеленый простор газонов, сводчатые каменные галереи вели к жилым помещениям; за библиотекой, расположенной в пристройке более позднего времени, был дворик, окруженный крытой аркадой, где студентки любили заниматься в погожие дни. Там же происходили разные торжественные церемонии, отмечавшие конец и начало учебного года. В стенах Льевеллинского колледжа жило около пятисот девушек в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет, предназначенных служить тем материалом, из которого должны были создаваться зиждительные нравственные силы будущего. Жилые помещения были расположены так, что студентки волей-неволей постоянно общались между собой. Все спальни выходили в обширный центральный холл; оттуда же был ход в умывальные и общую буфетную. Многие девушки жили по две, по три вместе; некоторые занимали вдвоем целый «апартамент», состоящий из двух крошечных спаленок, разделенных уютной маленькой гостиной. Предполагалось, что Айсобел с Аделаидой Прентис тоже поселятся в одном из таких «апартаментов», но в последнюю минуту у Аделаиды серьезно заболела мать, и она не решилась ее оставить. Для Айсобел это было большим огорчением: она понимала, что не только лишается подруги, но что, если она будет жить одна, ей гораздо труднее будет завязывать знакомства. Солон и Бенишия, не одобрявшие роскоши у себя дома, все же предоставили в распоряжение Айсобел достаточно денег, чтобы она могла купить все, что ей захочется, для украшения своей комнаты, и она заранее рисовала себе приятные картины: как вечером, после занятий, избранный кружок студенток будет сходиться у них в гостиной, как они будут петь, болтать, варить помадку, весело и дружно коротая время. Она съездила в Филадельфию, накупила гравюр, занавесок, диванных подушек, приобрела комнатную жаровню и хорошенький чайный сервиз. Ей самой, конечно, доставляли удовольствие все эти вещи, но, кроме того, она помнила, что уютная обстановка всегда производит благоприятное впечатление и на других. Однако и тут, как в Окволде, она натолкнулась на уже сложившиеся компании, казалось, еще более замкнутые и тесные. Здесь точно так же ценились красота и личное обаяние, тем более что все эти девушки уже вступили в ту пору, когда вопросы любви и пола начинают играть первостепенную роль; и нужно было обладать особо жизнерадостным, общительным нравом, чтобы получить доступ в заколдованный круг. Процветало здесь злословие и даже снобизм, несмотря на то, что на словах подобные настроения осуждались. Льевеллинские студентки были старше окволдских школьниц и потому охотнее и увереннее критиковали особенности чужого характера, вкуса и умения одеваться. Но в то же время здесь, как и везде, чувствовалось стремление следовать тону, который задавала кучка избранных. Провинциальные простушки, только что вырвавшиеся из удручающего однообразия какого-нибудь маленького промышленного городка, но с туго набитым благодаря родительским заботам кошельком, превращались здесь в чистейшей воды снобов. Когда появлялась новенькая, десятки глаз пытливо оглядывали ее со всех сторон, прикидывая, заслуживает ли она принятия в тот или иной тесно сдружившийся кружок. Айсобел в общем встретили благосклонно, как бесспорно «приемлемую» по общественному положению родителей, но всем своим складом она как-то не подходила к тому своеобразному стилю манер и поведения, который уже выработался у всех этих девушек. Ее никто не сторонился, но никто особенно и не искал ее общества. Зато она обратила на себя внимание учителей, потому что отличалась большей сообразительностью и бóльшим прилежанием, чем многие ее сверстницы, а кроме того, не стеснялась отвечать на вопросы, когда была уверена в ответе. Но слава хорошей ученицы не завоевала Айсобел симпатии тех девушек, привлекательности и остроумию которых она так завидовала. Ее редко приглашали на совместные чаепития или дружеские беседы, хотя и не показывали, что избегают ее. Просто, завидя ее издали или услышав ее шаги, девушки норовили потихоньку улизнуть, а назавтра, при встрече, говорили ей: «Ах, мы вас искали, искали, но нигде не могли найти», или: «Мы думали, что вы занимаетесь, и не хотели мешать», хотя отлично знали, что в те часы она вовсе не занималась. Айсобел, от природы наделенная повышенной чувствительностью, прекрасно все видела и понимала. Девушкам было скучно с ней, и они нарочно изображали дело так, будто это она прячется от них и предпочитает уединяться с книжкой где-нибудь в дальнем уголке аудитории или жилого флигеля; и в конце концов она действительно стала прятаться и уединяться, притворяясь, будто погружена в занятия даже тогда, когда на самом деле и не думала о них. Как-то раз одна из девушек в шутку подарила ей табличку с надписью: «Работаю, не беспокоить». Эту табличку Айсобел иногда вывешивала на своей двери, а сама в это время сидела в комнате одна, прислушиваясь к веселому смеху проходивших мимо студенток. Если бы ее однокашницам задали вопрос, как они к ней относятся, большинство, вероятно, ответило бы «очень хорошо» — но и только. Они не искали ее общества, и, в сущности говоря, ей вовсе незачем было вывешивать табличку на дверях: никто и не думал мешать ей, точно так же, как никому не пришло бы в голову, пренебрегши табличкой, войти к ней в комнату и ласково пожурить ее за то, что она такая «зубрила». Вероятно, она заплакала бы от радости, если бы произошло что-либо подобное. Постепенно, с жестокой ясностью, ей открылось, что она тут всем чужая, что ее мысли и чувства не находят отклика в окружающих и что есть какое-то особое очарование, свойственное молодости, которого она начисто лишена. В других девушках это было. Они умели одеться. Они высоко держали голову. Они пели, танцевали, шептались, у них были бесконечные тайны и секреты, которые они поверяли друг другу, тогда как у нее — у нее не было ничего, кроме ее книг. Мало-помалу, почти помимо своей воли, она пристрастилась к учению и, занимаясь историей, психологией, родным языком, впервые задумалась над тем, что в доме ее отца почти нет книг. Часто она говорила себе: «На что мне все эти знания? Быть учительницей я не хочу и не буду. Все это лишь потеря времени. Того единственного, чего бы мне хотелось, я все равно не могу получить». Она думала о том, сколько интереса и разнообразия вносят в жизнь других студенток молодые люди, которые приходят к ним в гости по субботам или встречаются с ними в Филадельфии. Одна студентка, такая же некрасивая, как и она сама, рассказала ей о любовных отношениях между некоторыми девушками и навещавшими их поклонниками, и Айсобел сначала ужаснулась, а потом почувствовала зависть. В конце концов, говорила она себе, ради чего вообще жить? Чтобы умереть старой девой? Так и не выйти замуж? Так и не узнать любви? Ах, если б и у нее появился поклонник! Пусть не красавец собой, но человек, которому нужна была бы именно такая, как она, который сумел бы оценить ее ум. Тогда и он и она были бы спасены от одиночества. Как-то раз, под конец первого учебного года, в самый разгар той волнующей поры, когда каждый колледж живет в атмосфере весны, нарядных платьев, подготовки к экзаменам, грез о любви и надежд на счастье, которое многим кажется таким близким, Айсобел вбежала к себе в комнату, бросилась на постель, повесив на дверь спасительную табличку «Работаю, не беспокоить», и горько зарыдала. Таким обделенным природой, как она, видно, нечего ждать и не на что надеяться! Столько есть красивых девушек на свете; но что же делать ей, которой бог не дал красоты? На что употребить свою жизнь? У нее слишком трезвый, практический склад ума, чтобы она могла отдаться полностью религии отцов. Конечно, живя дома, она часто читала Библию, читала и «Дневники» Джона Вулмэна и Джорджа Фокса, поскольку ничего другого не было, и эти книги нравились ей. Но ведь она — это именно она, а не Джордж Фокс и не Джон Вулмэн и не отец, который так верит в них обоих. Она — это она, и у нее свои, иные мысли и чувства. Ей скоро двадцать лет, а жизнь оборачивается к ней только своей унылой изнанкой. Айсобел поднялась, подошла к зеркалу и тяжело вздохнула. Да, волосы ее не блестят и не ложатся мягкими волнами, кожа не отличается гладкостью и белизной; фигура нескладная и угловатая, а глаза, мутные от слез, какого-то неопределенного линяло-серого цвета. Нельзя сказать, что она безобразна, решила Айсобел, но хорошенькой ее тоже не назовешь. В ней нет ничего привлекательного. Примирившись с тем, что жизнь не сулит ей никаких или почти никаких интересных и волнующих встреч, Айсобел решила посвятить себя целиком науке. Однако в начале следующего семестра случилась приятная неожиданность: преподавательница, возглавлявшая кафедру психологии, ушла, и на ее место был назначен новый профессор — мужчина. Если не считать субботних и воскресных гостей, мужчин в Льевеллине можно было встретить немного — при колледже жили всего двое преподавателей, оба люди семейные; кроме них, было еще человек пять-шесть, которые являлись из внешнего мира и, отпустив своим слушательницам положенную дозу знаний, снова возвращались в свой мир. Дэвид Арнольд, новый профессор психологии, принадлежал к числу «приходящих». Его худощавая, подтянутая фигура произвела впечатление на многих студенток. Он был всегда серьезен, и его приятный, низкий голос звучал сдержанно и внушительно. Некоторая общность во взглядах на жизнь и ее превратности послужила причиной того, что профессор Арнольд почувствовал симпатию к Айсобел. Задумчивая и всегда печальная, она резко выделялась из среды студенток. Он угадывал в ней угнетенную психику, которая заинтересовала его как ученого. Айсобел, однако, истолковала его дружеское участие как признак начинающейся привязанности. Она, разумеется, ошибалась, но эта иллюзия сразу расцветила ее жизнь и отразилась даже на ее занятиях. Она решила специализироваться по психологии и за короткий срок обнаружила глубокое проникновение в суть предмета, что дало ей повод беседовать иногда с профессором после лекции или заходить к нему в кабинет. Впрочем, их разговоры не выходили из круга вопросов, связанных с темой, над которой она работала. Он редко расспрашивал девушку о ее семье, о ее личной жизни. Но и этой взаимной симпатии было достаточно, чтобы она почувствовала себя вознагражденной за все унижения, которые ей пришлось претерпеть. Однако в последний год ее пребывания в Льевеллине туда поступила Доротея, и все обиды и страдания Айсобел начались снова. Младшая сестра, веселая, хорошенькая, была вполне под стать тем самым девушкам, которые чуждались и сторонились старшей, и ее сразу же приняли как свою. Чуть ли не в первый месяц она уже ездила на воскресные дни в гости к своим новым приятельницам и сделалась непременной участницей всех вечеринок и развлечений. Когда она спрашивала сестру, почему та вечером, в свободное время, не приходит посидеть с другими девушками, Айсобел вынуждена была прибегать к своей старой жалкой отговорке: она, мол, больше всего интересуется наукой и не хочет отвлекаться от своих занятий. Не раз Доротея из самых добрых намерений пыталась давать ей советы по части платьев или прически, но Айсобел в ответ только раздраженно пожимала плечами или огрызалась: «Тебя не спрашивают». В конце концов Доротея убедилась в бесполезности своих стараний и решила, что Айсобел — просто сварливая чудачка. Пример этих двух сестер лишний раз доказывал, к чему сводится на деле миф о родственных чувствах. Между тем Доротея пришла к убеждению, что образ жизни, принятый в родной семье, решительно не по ней. Все ее существо восставало против тесных рамок, в которые пытались замкнуть ее существование. Ей только что исполнилось семнадцать лет, и целый мир радостей был открыт перед нею. Она жадно вглядывалась в фотографии актрис и светских дам на страницах журналов и газет, которые впервые попали ей в руки, и мечтала о том, что когда-нибудь и она станет знаменитой и портреты ее будут печататься в газетах. И вот как-то в воскресном выпуске, в разделе светской хроники, появилась фотография, которая так взволновала ее, что она тут же с восторженными возгласами помчалась к Айсобел. Фотография изображала миссис Сигер Уоллин-младшую, супругу известного врача, и это была не кто иная, как бывшая Рода Кимбер. Роде удалось с течением времени осуществить свою честолюбивую мечту — выйти замуж за человека из богатой и влиятельной семьи. Отец ее мужа был квакером и приходился двоюродным братом Джастесу Уоллину; в свое время он унаследовал большое состояние, нажитое на эксплуатации каботажной пароходной линии. Рода была снята в сильно декольтированном платье, с жемчугом на шее и браслетами на полных округлых руках; волосы ее были уложены в замысловатую прическу. Подпись под фотографией гласила, что миссис Сигер Уоллин-младшая в настоящее время находится в одном из первоклассных отелей Атлантик-Сити, куда она уехала отдохнуть от своих утомительных светских обязанностей. В юности и Солон и Бенишия были очень дружны с Родой, но после ее замужества почти не встречались с нею. Тот образ жизни, который она теперь вела, не мог быть по нраву Барнсам. Солон иногда встречал в газетах сообщение о светской деятельности Роды: то она совершала путешествие за границу, то устраивала обед в честь какой-нибудь знаменитости, то давала бал для очередной светской дебютантки, то еще что-нибудь в этом же духе. Но отношения между обеими семьями ограничивались формальными визитами, которыми обменивались два-три раза в год, причем и тут и там без слов понимали, что разница взглядов делает бóльшую близость и невозможной и ненужной. И потому сейчас, когда Доротея сунула сестре под нос газету, Айсобел лишь мельком взглянула на фотографию и тут же заметила, что оригинал никогда не пользовался ее симпатией ввиду своего чрезмерного легкомыслия. Айсобел в то время готовилась к окончанию колледжа и не могла ни о чем думать, кроме своих академических успехов. Ей хотелось напоследок произвести на профессора Арнольда сильное впечатление, которое бы как-то сблизило их перед разлукой. Профессор довольно сдержанно проявлял свой интерес к Айсобел — иногда хвалил ее, изредка просил помочь в постановке какого-либо эксперимента, но ей казалось, что он уже привык видеть в ней помощницу, на которую можно положиться. В последний день, разыскав Айсобел, чтобы поздравить с успешной сдачей выпускных экзаменов, он сказал ей несколько слов, которые еще больше укрепили эту надежду. — Надеюсь, вы будете продолжать свою работу в области психологии, мисс Барнс, — заметил он серьезным тоном. — Жаль было бы, если бы ваш ум и способности не нашли себе применения. Вы не думаете учиться дальше? Или у вас есть другие планы — наверно, собираетесь выйти замуж? — Последнее было сказано с оттенком сожаления. — Ах нет, профессор Арнольд, этого можно не опасаться! — Сердце у Айсобел заколотилось от внезапного волнения. — Но, вероятно, мне некоторое время придется побыть дома. Впрочем, иногда я буду приезжать на ваши лекции. Я ведь живу не так далеко отсюда. — Буду рад вас видеть в любое время, — сказал он. — До свидания, дорогая мисс Барнс. И это было все.Глава 35
К большому удивлению Солона и Бенишии их младшая дочь не захотела идти по стопам своих сестер, по крайней мере в одном отношении. Когда Этте исполнилось четырнадцать лет и она уже усвоила все, чему можно было научиться в маленькой ред-килнской школе, она прямо заявила родителям, что Окволд ее не привлекает и ей хотелось бы поступить в какое-нибудь другое учебное заведение. И тут снова на сцену явилась все та же тетушка Эстер. Она предложила отдать Этту в пансион для девочек в Чэддс-Форде, городке, расположенном среди живописных холмов на юго-востоке Пенсильвании, близ Брендивайна. Старые квакерские традиции соблюдались там не столь неукоснительно, как в Окволде, и наряду с физическим и духовным воспитанием ученицам старались привить вкус к сокровищам человеческого разума. Были выписаны проспекты Чэддс-Фордского пансиона; в них Этте особенно понравились фотографии, из которых явствовало, что воспитанницы совершают разные загородные экскурсии, иногда даже с ночлегом на свежем воздухе. Затем она с отцом и матерью съездила в Чэддс-Форд, чтобы повидать все на месте, и это окончательно решило вопрос. Местность, где находился пансион, была довольно уединенной. Он стоял в стороне от шоссе, и добраться туда можно было только по узкой грунтовой дороге, тянувшейся от самого Чэддс-Форда и обычно почти безлюдной. Лишь изредка доносился гудок проносящегося автомобиля, перекличка велосипедных звонков или звучавший особенно романтично далекий свисток паровоза. И снова наступала тишина. К центральному зданию школы примыкали небольшие пристройки в виде крыльев, где жили воспитанницы; тут же по соседству был домик директора, прачечная, кухня и столовая. Десятка два учителей и около сотни воспитанниц составляли население этого маленького мирка. Этте, привыкшей к тишине родного дома, в пансионе все показалось новым и удивительным. Множество разнообразных книг, смех, болтовня, веселые, жизнерадостные девочки, — наверно, она найдет себе среди них подруг по сердцу, с которыми можно будет делить чувства, мысли и мечты. Этта всем своим существом тянулась к любви. Она не могла жить без ласки и в то же время, как это ни странно, с виду казалась недотрогой. Глаза ее смотрели так безмятежно, задумчиво и в то же время испытующе, совсем как у отца. Замкнутая по натуре, она постоянно томилась жаждой чего-то, однако иначе, чем ее мать, которая тоже когда-то испытывала это томление, но с нерассуждающей покорностью подавляла его в себе. Этта знала, что родители любят ее, но чего-то они в ней не понимали, каким-то душевным потребностям не умели ответить. Отец был слишком далек, слишком поглощен делами, особенно в последний год; мать настолько подчинилась его влиянию, что и к ней не всегда можно было подойти с раскрытой душой. И какая же наступала скука, когда день забот приходил к концу и двери дома запирались на ночь! Здесь такой скуки не знали. Этта иногда думала, что хорошо бы вовсе не возвращаться домой! Время шло, а ее интерес к школьной жизни не ослабевал. Особенно она любила те часы, когда девочки, под предводительством мисс Лансинг, учительницы ботаники, отправлялись куда-нибудь в лес, на поиски подснежников и других еще несмелых вестников весны. Учительница показывала им побеги дикого винограда, поднималась с ними на скалистые уступы, откуда далеко видна была оживающая земля. Она учила их по обнажениям пород читать геологическую историю мира и, в частности, этих мест. Мисс Лансинг всегда старалась держаться подальше от проезжих дорог; но при том автомобильно-велосипедном психозе, которым в это время была охвачена страна, в любом месте можно было наткнуться на какую-нибудь компанию веселых путешественников. Такие компании или же отдельные парочки подъезжали иногда на велосипедах к самым стенам пансиона, как будто хотели проникнуть в тайныжизни, которая шла за этими стенами. И перед жадными и пытливыми взглядами пансионерок вдруг на мгновение открывался просвет в кипучий внешний мир. Как-то в субботу, под вечер, Этта выглянула из окна своей комнаты и увидела двух молодых людей, юношу и девушку, которые медленно поднимались на велосипедах в гору. На девушке был белый свитер и очень короткая зеленая юбка. Мягкий берет небрежно сидел на ее темных локонах. Юноша был в коротких брюках и куртке спортивного покроя. Простота их костюмов понравилась Этте, но особенно поразила ее та ласковая нежность к спутнице, которая сквозила в каждом движении юноши. Неподалеку от западной стены жилого флигеля был тенистый уголок; здесь юноша соскочил со своей машины и бережно помог слезть девушке, а затем, к величайшему изумлению Этты, приподнял за подбородок ее лицо и поцеловал в губы. Этта застыла, глядя на них широко раскрытыми глазами. Отдохнув несколько минут, молодые люди снова уселись на велосипеды и укатили, сверкая спицами колес в лучах закатного солнца. Этта, словно завороженная, смотрела им вслед, пока они не скрылись за поворотом дороги. Так вот она какая, любовь! Вся эта сцена на много лет врезалась ей в память. Но, пожалуй, наиболее знаменательное событие в пансионской жизни Этты произошло на второй год ее учения, когда в Чэддс-Форде появилась Волида Лапорт. Волида, живая, полная энергии девушка, приехала из Мэдисона, штат Висконсин. Ее нельзя было назвать хорошенькой, но чем-то она привлекала внимание, — быть может, тем, что больше походила на задорного крепыша-мальчишку, чем на девушку. Синее форменное платье, строгое и скромное, еще больше подчеркивало это сходство. Волида постоянно с восторгом говорила о своем родном Западе, — причем с решительностью, не допускавшей возражений. Она рассказала, что у ее отца аптека в Мэдисоне; ее родители — квакеры, переселившиеся на Запад из Пенсильвании. — Вот меня и прислали сюда, чтобы я не отбилась совсем от их веры, — объясняла она. — Да только зря! Меня это ни чуточки не интересует, и потом до чего мне не нравится тут, на Востоке! Побывали бы вы в Мэдисоне или в Чикаго! Разве ваши восточные городишки могут с ними сравниться! Этте Барнс эта забавная девушка понравилась с первого дня. Как-то раз, после лекции о правилах хорошего тона и об искусстве светской переписки, Волида сказала Этте: — Все пансионы для девиц у вас, на Востоке, — сплошная чепуха! Ну чему тут учат? Хорошим манерам, да как одеваться к обеду, да как себя вести в обществе! Будто каждая девушка только о том и думает, как бы поскорей выйти замуж. Я, например, вовсе не для того живу на свете, чтобы в один прекрасный день стать чьей-то женой. Доучусь здесь, а потом поступлю в Висконсинский университет. Вот там действительно можно чему-то научиться! Пойду на медицинский факультет, сделаюсь врачом. Наш университет — самый лучший из всех, где принято совместное обучение. А совместное обучение самое правильное! Ведь у вас тут девочки смотрят на мальчиков, как на чудо какое-то! А что в них особенного? У нас, на Западе, считается, что у женщины голова не хуже, чем у мужчины. Подумаешь, невидаль — мальчишки! Даже слушать противно. Но в том, что касалось мальчиков, Этте трудно было согласиться со своей новой подругой. В ней проснулся уже интерес — не то, чтобы к мальчикам вообще, но к любви, к тому прекрасному и необычайному в отношениях между юношей и девушкой, что дает обоим радость, силу и душевный покой. По мере того как крепла ее дружба с Волидой, Этте все чаще приходилось выслушивать увлекательные рассказы о Висконсине — о Мэдисоне, об Окономовоке, об озере Бафф. Для Этты все это были только названия, но красноречие Волиды придавало им ту волшебную прелесть, которой манят нас берега далекой Индии. В изображении Волиды жизнь на Западе выглядела куда более яркой, привольной, увлекательной, чем на Востоке, а люди казались смелее и интереснее. Этту поражала та свобода, которой Волида пользовалась в родительском доме. Она могла покупать себе любые книги, какие хотела прочесть, ей разрешалось самой выбирать себе платья, встречаться с мальчиками, петь, танцевать, даже играть в карты! Этта невольно завидовала ей, сравнивая ее жизнь со своей жизнью в Торнбро. Смелый и независимый образ мыслей подруги покорял ее. А кроме всего прочего, Волида, бесспорно, не лишена была обаяния, правда, несколько своеобразного, скорее мальчишеского, чем девичьего. Обычно в тех случаях, когда школьная форма была необязательна, она надевала строгий английский костюм и белую блузку с накрахмаленным воротничком и манжетами. Мало-помалу Этта стала относиться к ней, как могла бы относиться к другу-мальчику, и слушалась каждого ее слова, по-женски преклоняясь перед мужским складом ее ума и характера. Растущую привязанность Этты заметили в школе и стали дразнить ее тем, что она «влюблена» в Волиду. Но Этта не обращала внимания на болтовню подружек; ей хотелось жить жизнью Волиды или хотя бы как-то приобщить ее к своей жизни, чтобы этим выразить свою признательность за дружбу и понимание. И вот она написала матери, прося разрешения пригласить Волиду в Торнбро на ближайшие каникулы, которые должны были начаться в День благодарения. В этом же письме она осторожно намекнула, что хотела бы по выходе из пансиона поехать учиться в Висконсинский университет, а не в Льевеллин, как предполагали родители.Глава 36
Нельзя сказать, чтобы новая подруга Этты произвела особенно благоприятное впечатление на ее домашних. Когда обе девушки приехали в Торнбро, Солон и Бенишия приняли гостью ласково и сердечно, но она показалась им дерзкой и невоспитанной, и ни ее рассуждения, ни манера держать себя не пришлись им по душе. — Это что же, девчонка или мальчишка? — спросил Стюарт у сестры, застав ее одну в гостиной. Его смешили и короткие волосы Волиды, и ее упрямый подбородок, и размашистая мальчишеская походка. — Вот и не водись с ней, если она тебе не по вкусу, — сказала Этта, слегка обиженная. — Да оставь ты ее себе, очень она мне нужна! — пренебрежительно заявил Стюарт. Впрочем, в обращении с гостьей он был неизменно вежлив и мил. Айсобел и Доротея — они обе тоже приехали домой на каникулы — отнеслись к Волиде довольно сдержанно. Доротее она просто не понравилась, а Айсобел сочла ее не заслуживающей внимания по молодости лет. Но после нескольких дней знакомства эта совсем еще юная девушка заинтересовала Айсобел своим недюжинным умом и самостоятельностью мнений и поступков. Старшая невольно почувствовала уважение к младшей, слушая, как твердо и уверенно говорит та о своих жизненных планах. Зато для Бенишии самый тип такой девушки, как Волида, был чужд и непонятен. Она привыкла видеть назначение женщины в том, чтобы создавать домашний очаг мужчине и быть матерью его детей. Таков удел, определенный ей господом богом. Немудрено, что желание Этты уехать с Волидой на Запад и поступить в Висконсинский университет не встретило у Солона ни малейшего сочувствия. Он уже раньше написал представителю Торгово-строительного банка в Мэдисоне и просил его навести справки о семействе Лапорт. Полученные сведения оказались достаточно благоприятными, чтобы развеять его первоначальные опасения по поводу новой привязанности Этты; но когда он увидел Волиду, то сразу же смутно почувствовал, что это все-таки неподходящая подруга для его дочери. К тому же Висконсин был слишком далеко; молодой девушке не следовало так далеко уезжать от дома. Солон сделал вид, будто в этом все дело, не желая говорить Этте о том, какое тревожно-неприязненное чувство внушает ему Волида. Этта, чутьем угадавшая правду, промолчала, но в глубине души окончательно пришла к выводу, что ее родители — люди безнадежно отсталые и старомодные. И она решила, что все равно поедет в Висконсин, пусть даже против их воли. До окончания пансиона остается еще год, а за это время можно будет что-нибудь придумать. По возвращении в Чэддс-Форд подруги сблизились еще больше, и мечта Волиды о самостоятельности сделалась их общей мечтой. Они строили планы о том, как вместе будут учиться в университете, а потом, может быть, поедут в специальное учебное заведение, чтобы усовершенствоваться в профессии врача. Этта готова была подражать Волиде решительно во всем: Волида на целый год старше, лучше знает жизнь и вообще так хорошо разбирается во многих вещах! В самом деле, у Волиды почти на все были свои взгляды, даже по таким вопросам, как экономика, политика, религия. И в Этте под ее влиянием зародилась глубокая жажда знаний. Но если Волиду интересовали практические области науки, Этту больше влекли музыка, история, искусство, поэтические предания старины. Огромное впечатление на ее ум и чувства произвела «Дама с камелиями» Дюма. Эту книгу она увидела у Волиды и, уезжая на летние каникулы, взяла с собой, чтобы прочесть на досуге дома. Разумеется, она тщательно прятала ее от посторонних глаз, но трагический образ двух любовников не покидал ее целыми днями. Она еще не вполне понимала физическую сторону любви, и многие детали сюжета от нее ускользали, но все же ей казалось, что перед ней открылся новый, неведомый прежде мир, где поэзия сливалась с действительностью.Глава 37
Внутренний протест Этты и Стюарта против домашнего уклада становился тем сильнее, чем лучше они понимали, что этот уклад совершенно не отвечает душевным потребностям каждого из них, и яснее всего это сказывалось в их отношениях с отцом. А между тем в глазах своей жены Солон Барнс был безупречным человеком, какого она и ожидала в нем найти. За двадцать лет она не могла припомнить случая ни в личной, ни в деловой его жизни, когда бы он, больной или здоровый, кстати или некстати, вышел из себя, допустил какую-нибудь некрасивую вспышку, сделал что-либо бесчестное и нехорошее. У него словно все время находился перед глазами излюбленный квакерами библейский текст, который гласит: «Но да будет слово ваше: «да, да» и «нет, нет». Когда к нему в дом или в его кабинет в банке являлся какой-нибудь коммерсант, банкир или адвокат, ему в голову не приходило прежде всего заподозрить посетителя в желании обмануть его, провести или подвести, нарушив свои обязательства перед ним или перед другими. Скорее напротив. Он всегда ожидал от людей только хороших и честных поступков и, надо сказать, редко ошибался. А если обнаруживал, что все-таки ошибся, то это скорее огорчало его, чем возмущало. Правда, он всегда старался иметь дело с людьми, которые выше подозрений. Его часовщик, бакалейщик, мясник, портной — все это были люди с безукоризненной личной и деловой репутацией. Он считал, что величайшее предначертание, данное человеку от бога, — вступить в брак, иметь детей и вырастить их добронравными и послушными божьей воле. Изменить этому предначертанию — значит играть с огнем, и если, оглядываясь кругом, он видел, что кое-где массив, который представляет собой общество, дал трещину и появились люди или целые группы людей, позабывшие о долге и о добродетели, то всегда искал корень зла в ранее совершенных ошибках, в том, что кто-то уклонился от брака и рождения детей или же, вступив в брак, не сумел выполнить свои родительские обязанности. Бывают, конечно, необъяснимые на первый взгляд бедствия, несчастные случаи, болезни и разные слабости, нарушающие порядок вещей и мирное течение жизни, но если бы можно было добраться до первопричины, то, вероятно, оказалось бы, что и тут дети в третьем и даже четвертом поколении караются за грехи отцов. Господь восседает на престоле своем. Он повелевает и солнцем и мраком. Человеку в его ничтожестве не пристало восставать, глумиться или отрицать. Пусть лучше благоговейно преклонит колена и возблагодарит за многократно явленную ему милость, радуясь, если, наставляемый Внутренним светом, он сумел уберечь от зла свое потомство. Однако для собственных детей — причем для всех пятерых по-разному — Солон Барнс был загадкой. Айсобел и Этта любили его и уважали, как человека строгих нравственных правил, но Этта с каждым годом все сильнее ощущала между собой и отцом пропасть, через которую не перекинуть моста. Только Доротея, с присущей ей беззаботностью, считала, что отец «прелесть» и «золото», потому что ей обычно удавалось его обойти. Орвил, думая о нем, создал себе отвлеченный образ человека властного и неприступного, которого можно чтить и уважать, но любить нельзя — разве только некоей условной сыновней любовью. А Стюарту чудилась в отце какая-то особая нежность, ничуть не умаляющая силу его личности, но тем не менее сокрытая в глубине его души, точно драгоценная порода в шахте, и почти недосягаемая, потому что ход к ней прегражден тяжелыми глыбами морали и долга. Солон не понимал, что если ему до сих пор удавалось контролировать поступки своих детей, то над мыслями их он не был властен. Вероятно, сумей он проникнуть в мысли и желания, волновавшие его младшего сына, он бы ужаснулся. Стюарт был самым жизнерадостным и легкомысленным из всех пятерых, в нем особенно сильна была жажда удовольствий, и в четырнадцать лет любопытство неудержимо влекло его ко всему тому, что запрещалось домашними правилами и порядками. Он видел, что многие из его школьных товарищей живут гораздо веселее, и завидовал им. Особенную зависть внушал ему Перси Парсонс. Перси был не из квакерской семьи, хотя и учился в ред-килнской школе; отец у него был инженер, и жили они неподалеку от Торнбро. Этот черноволосый, черноглазый, задорный паренек очень нравился Стюарту. Он охотно после школы заходил к нему домой, всякий раз, когда удавалось разрешить себе подобную вольность. У Перси было так интересно! Можно было играть в разные игры, и книги там попадались такие занимательные — про индейцев, про следопытов, про дикий Запад — не то, что дома, где единственным чтением служили старые скучные квакерские трактаты. Но примерно в это же время Стюарт познакомился с книгами другого рода, которые еще сильнее поразили его воображение. Просветил его в этой области Космо Родхивер. У отца Космо была книжная лавка в Дакле около почты, и Стюарт никогда не упускал случая завернуть туда, потому что у Космо всегда находилось для него что-нибудь интересное. Космо слыл докой по книжной части; кроме того, он уже разбирался в вопросах пола. Роясь среди книг, выставленных на продажу в отцовской лавке, он выискивал разные пикантные места, а то и прямую порнографию, и с особым наслаждением давал читать это другим мальчикам. Когда приходил Стюарт, он тотчас же вел его в глубину лавки и там демонстрировал свою очередную находку. Иногда это была фотография в каталоге какой-нибудь художественной выставки, изображавшая соблазнительную в своей наготе женскую фигуру. — Хороша штучка, а? Неплохо бы провести с ней часок наедине? — говорил он, причмокивая, и оба впивались в фотографию жадными глазами. С помощью Космо Стюарт узнал о многих вещах, о которых не опоздал бы узнать и через три-четыре года. Достойным завершением этого периода его жизни явилось событие, происшедшее несколько месяцев спустя: вместе с Родхивером и Вилли Вудсом, тоже юнцом из Даклы, он побывал в трентонском театре на так называемом «ревю». Затея принадлежала все тому же Космо. — Ребята, поехали в Трентон, там в «Орфеуме» каждый вечер шикарное представление и вход всего двадцать пять центов, — сказал он, и оба приятеля с готовностью согласились. Родителям они решили сказать, что едут в гости к дяде Вилли Вудса, владельцу большой молочной фермы неподалеку от Трентона. Предлог показался вполне основательным, и разрешение было получено. Представление отдавало дешевым балаганом: с десяток тощих девиц в трико маршировали по сцене под сальные шутки, отпускаемые двумя красноносыми клоунами. Но Стюарту это показалось волшебным зрелищем. Особенно сильное впечатление произвела на него одна из девиц. На ней было зеленое трико, расшитая курточка, доходившая только до талии, золотые туфли и золотой колпачок. Последующие дни он провел словно в экстазе. Смотрел ли он в окно классной комнаты, за которым цвели поля, брел ли домой по обсаженным кустарником проселочным дорогам, девица в зеленом неотступно была перед ним. Она плясала над полями, пряталась за деревьями в лесу, купалась в сверкающих струях ручья, шептала слова, слышные только ему. Девочки-школьницы, сидевшие вместе с ним в классе, теперь совсем по-иному притягивали его взгляды. Самых хорошеньких из них он мысленно раздевал донага. Но неделю спустя ему пришлось вернуться с небес на землю и познать ту горькую истину, что все тайное рано или поздно становится явным. Один знакомый Орвила, заехавший в Торнбро узнать его трентонский адрес, в разговоре случайно упомянул о том, что в прошлую субботу встретил Стюарта в Трентоне, в театре «Орфеум». Никогда еще Стюарт не видел отца таким суровым и мрачным, как в тот вечер, по его приказанию явившись к нему в кабинет. — Смотри мне в глаза, Стюарт! — строго сказал Солон, усадив мальчика в кресло напротив себя. — Я должен с тобой серьезно поговорить! Мне сказали, что в прошлую субботу тебя видели в трентонском театре. Я хочу знать, правда ли это. Стюарт, с первой минуты заподозривший истинную причину неожиданного приглашения в отцовский кабинет, немного помялся, но потом чистосердечно рассказал все, как было. Дослушав до конца, Солон встал со своего кресла, подошел к мальчику и остановился перед ним, заложив руки за спину. — Я требую, чтобы это было в первый и в последний раз! Все театры — зло, и тебе там не место! — Он помолчал с минуту, затем продолжал: — Но больше всего меня огорчает, что ты солгал мне. Лживость — большой порок. Если ты приучишься лгать, не жди от жизни ничего хорошего. Ты никогда не сможешь смотреть в глаза порядочным людям. Они будут сторониться тебя, как прокаженного. — Стюарт, сын мой, — продолжал он уже несколько более мягким тоном, заметив, что мальчик сидит совсем пришибленный, — у меня такие прекрасные планы относительно твоего будущего. Я не хочу, чтобы мои надежды оказались обманутыми. Через год или два я намерен определить тебя во Франклин-холл, а потом в специальный колледж, где ты получишь хорошее техническое образование. Если же ты предпочтешь карьеру банковского дельца, я и в этом готов пойти тебе навстречу. Но прежде всего я должен знать, что ты заслуживаешь моего доверия. А о каком доверии может быть речь, если ты станешь лгать мне? Я хочу, чтобы ты сейчас же дал честное слово, что никогда больше не скажешь неправды о своих намерениях, о том, куда ты идешь, с кем и тому подобное. Ты должен быть откровенным, правдивым и чистым при любых обстоятельствах. Стюарт низко опустил голову, но по-прежнему молчал. Отец, подождав немного, возобновил свою речь, и в голосе его опять зазвучали строгие нотки. — Предупреждаю тебя, Стюарт, если я утрачу доверие к тебе, не жди от меня впредь снисходительности. Мне нельзя быть снисходительным, потому что я за тебя в ответе. Так вот, обещай мне, что ты больше никогда не будешь лгать. Стюарт пообещал, но хмуро и нерешительно. Он не был уверен, что ему удастся сдержать обещание, точно так же как Солон не был уверен, что вопрос разрешен раз и навсегда.Глава 38
В почтительности предупреждайте друг друга.Живя среди колеблющегося, изменчивого мира, Солон находил утешение в незыблемой упорядоченности своего трудового дня. Окончив ровно без пяти пять работу, он принимался «наводить у себя порядок», как он это называл, чтобы к поезду 5.15 поспеть на вокзал. Важные деловые бумаги он тщательно запирал в ящики и потайные отделения своего бюро; перья, карандаши и всякую мелочь складывал в маленькую плетеную корзинку, стоявшую на крышке, и, наконец, клал в портфель те документы, над которыми рассчитывал поработать дома. Затем он неизменно вытаскивал из кармана маленькую записную книжку в черном переплете и делал в ней необходимые отметки для памяти. Покончив с этим, он надевал пальто из прочного, без износу, тяжелого коричневого драпа — если дело было зимой; а летом застегивался на все пуговицы, брал с вешалки круглую соломенную шляпу с высокой тульей, излюбленного квакерами фасона, и отправлялся на вокзал. Но в тот весенний день, о котором идет речь, он собрался уходить немного раньше обычного, так как ему предстояло сделать кое-какие покупки. Утром он получил известие о том, что скончалась тетушка Эстер, и хотел послать цветов ей на гроб. Кроме того, в книжной лавке издательства «Альянс» он давно уже приглядел на витрине вставленный в рамку текст, который, по его мнению, должен был понравиться Бенишии. Слова: «В почтительности предупреждайте друг друга» («Послание к римлянам», 12, 10), вышитые желтой, зеленой и синей шерстью, приобретали особое значение сейчас, когда смерть так внезапно напомнила о тщете земного существования; а между тем не проходило дня, чтобы газеты не сообщили об очередном бракоразводном процессе или о каком-нибудь преступлении, явившемся следствием распутного образа жизни. Не далее как в это самое утро Солон прочел о том, что кассир одного из трентонских банков скрылся с крупной суммой, бросив жену и ребенка. — Беда нашего времени в том, — заметил Солон мистеру Эверарду, выходя вместе с ним из здания банка и продолжая начатый разговор о трентонском происшествии, — что люди перестали думать о боге. Они забыли, что они лишь управители, исполняющие его волю. — Вы правы, мистер Барнс, — с серьезным видом согласился Эверард, а сам в это время думал: «Не совратила ли сбежавшего кассира какая-нибудь хорошенькая женщина?» Расставшись с Эверардом, Барнс зашел в цветочный магазин и распорядился послать корзину цветов в Дэшию, по адресу тетушки Эстер, а потом отправился в книжную лавку за понравившимся ему текстом. В Дакле на станции его поджидал кабриолет, в котором сидела Айсобел, держа в руках вожжи. К вороту ее темно-синего платья был приколот цветок — это сразу бросилось в глаза Солону. Завидя отца, идущего по усыпанной гравием дорожке, она улыбнулась ему, впрочем довольно равнодушно. — Устал? — спросила она, когда он усаживался с нею рядом. Она заметила сосредоточенно-грустное выражение его лица. — Нет, дочка, — ответил он. — Но я привез печальные вести. Тетя Эстер скончалась. Тебе с матерью нужно будет завтра поехать в Дэшию. Есть что-нибудь от детей? — Было письмо от Этты, — сказала она и тут же спросила, слегка оживившись (все-таки, хоть печальная, а новость): — А когда умерла тетя Эстер? — Сегодня утром. Я узнал около полудня. Кабриолет катился среди зеленых полей, пестревших крокусами и подснежниками. Проехали речку; над ней склонялись ивы, шевеля на ветру бледной зеленью молодых побегов. — Красивое время года — весна, — мечтательно уронила Айсобел. Солон оглянулся, но ничего не ответил; его чувства оставались глухи к томлению, разлитому в природе. Старый Джозеф вышел из ворот встретить хозяина и отвести лошадь на конюшню. — Добрый вечер, мистер Барнс, — прошамкал он. Рот у него совсем ввалился, выдавая отсутствие зубов, а морщин вокруг глаз стало еще больше. — Добрый вечер, Джозеф, — ответил Солон, выходя из экипажа и направляясь к веранде. — Миссис Барнс дома? — спросил он у горничной, попавшейся навстречу. — Она, кажется, наверху, мистер Барнс. Он повесил шляпу, положил на стол сверток и пошел искать Бенишию, тогда как Айсобел поднялась к себе. Бенишия, с годами слегка располневшая, но все еще молодая лицом, поздоровалась с ним по квакерскому обычаю, без бурных проявлений чувства, но задушевно и тепло. — Ты слышала новость? — спросил он, думая, что, может быть, компаньонка тетушки Эстер уже дала знать в Торнбро о ее смерти. Бенишия, по его виду угадав неладное, забеспокоилась. — Что-нибудь случилось? — Тетушка Эстер скончалась сегодня утром. — Не может быть! — вскричала Бенишия. — Бедная, милая тетушка Эстер. Ведь она собиралась к нам на будущей неделе! Она всплеснула руками в горестном изумлении. Солон шагнул вперед и обнял ее, подавленный грозной неотвратимостью смерти. — Ах, Солон, Солон, как мы должны быть благодарны, что столько лет прожили, не зная горя утраты! — сказала Бенишия с глубокой скорбью в голосе. — Бедная Эстер! Но такова воля божия, и никто не избегнет этой участи. С минуту они постояли молча, потом, не сговариваясь, пошли в гостиную. В связи с предстоящими похоронами возникало, разумеется, множество мелких дел, которые нужно было уладить. Но, проходя мимо большого шератоновского стола, Солон заметил сверток и вспомнил о своей покупке. Он развернул бумагу и протянул Бенишии вышитый текст. — Бенишия, — сказал он взволнованно, — мне это очень понравилось, и я решил, что тебе понравится тоже. Она взяла, прочитала и подняла на мужа глаза, полные слез. — Какие чудесные слова! — сказала она тихо и еще раз прочла текст вслух. — Мне кажется, хорошо будет повесить это в столовой, — сказал Солон. Она согласилась, и он тут же вбил гвоздики и повесил коврик с текстом на стену, против окон. Окна выходили на запад, мягкий вечерний свет лился в них, оттеняя теплые, сочные тона вышивки, и казалось, выведенные здесь слова выражают самый дух этого дома.
Глава 39
На похороны Эстер Уоллин, состоявшиеся двумя днями позже, съехалась в Дэшию вся родня. Покойница не только была старшей сестрой Джастеса Уоллина и любимою теткой Бенишии; она состояла в родстве и свойстве еще с двумя-тремя десятками Уоллинов, Стоддардов, Парришей и прочих, и все они не замедлили прибыть — кто из Уилмингтона, штат Делавэр, кто из Трентона, Нью-Брансуика, Метучена и других городов, расположенных на севере штата Нью-Джерси, а кто даже из безбожного Нью-Йорка. Среди явившихся отдать последний долг покойнице было немало лиц, присутствовавших двадцать лет назад при бракосочетании Солона и Бенишии. Кое-кто из них до сих пор носил традиционную квакерскую одежду — в том числе Солон с Бенишией и две молодые родственницы тетушки Эстер, жившие в том же старинном городке Дэшии. Но большинство было одето вполне по-современному, и только Доротее пришла фантазия нарядиться для этого случая в одно из девичьих воскресных платьев матери и надеть на голову ее чепец. Когда она, прибыв из Льевеллина, чтобы вместе со всем семейством отправиться на похороны, выразила желание ехать в таком костюме, Айсобел недоверчиво покосилась на сестру — она сразу же заподозрила в этом одну из ее привычных уловок, рассчитанную на привлечение внимания, но, впрочем, сочла за благо оставить свое мнение при себе. Доктор Сигер Уоллин с женой тоже не преминули явиться, хотя покойница относилась к ним не слишком благосклонно, ввиду легкомысленного светского образа жизни, который они вели; бывшая Рода Кимбер, несмотря на черное платье и длинную траурную вуаль, сразу бросалась в глаза, выделяясь на фоне прочих родственников своими тщательно завитыми локонами, ярким румянцем, блестящими глазами и всем своим элегантным обликом. Ее супруг, подтянутый, учтивый, безукоризненно одетый, подстриженный и выбритый, представлял собой законченный образец той породы врачей, что занимаются лечением лишь модных недугов. Джастес Уоллин и его жена от всей души оплакивали Эстер; ведь она была не только их любимой сестрой, но и последней, кроме них самих, представительницей старшего поколения семьи. Уоллин тоже прихварывал последнее время, и Солон предусмотрительно встал с ним рядом, готовый поддержать его в случае надобности. Бенишия, стоявшая подле мужа, казалась воплощением глубокой, искренней скорби. Молодые Барнсы сбились в кучу в дальнем углу комнаты: Айсобел довольно равнодушно взирала на все происходящее; Орвил, приехавший прямо из трентонской конторы, держался чопорно и натянуто; Доротея была скромна и мила в своем квакерском наряде; Этта, маленькая и хрупкая, с бледным личиком, обрамленным пепельными локонами, удивленно водила по сторонам широко раскрытыми голубыми глазами, а Стюарт даже в этой торжественно-печальной обстановке сохранял веселый, цветущий вид. — Какой прелестный мальчуган! — вполголоса заметила Рода мужу. — Я даже не представляла себе, что у Солона уже такие большие дети. А взгляни на Доротею! Просто красотка, правда? Доктор Уоллин, внимательно оглядев девушку, согласился с женой, а Рода уже думала о том, что хорошо бы залучить Доротею к себе на один из своих ближайших званых обедов. Она только что собиралась обсудить этот вопрос с мужем, но в это время кругом задвигали стульями, рассаживаясь, и ей пришлось отложить исполнение своего намерения. Теперь в комнате нависла гнетущая тишина. Ждали, когда на собравшихся снизойдет вдохновение. Однако нашелся всего один человек, почувствовавший желание заговорить. Это была старая миссис Уитридж, многолетний друг тетушки Эстер; она встала и довольно долго распространялась о добродетелях и щедротах покойной. После этого гроб повезли на кладбище. Бенишия поплакала немного; поплакала и София Кроуэлл, сморщенная, седая старуха, которая тридцать лет прожила при тетушке Эстер в качестве горничной и компаньонки. Наконец толпа у могилы понемногу стала редеть. Родственники обменивались традиционными квакерскими рукопожатиями, садились в свои экипажи или автомобили — больше было автомобилей — и исчезали в солнечном просторе. — Знаешь, у меня из головы не выходят Доротея и Стюарт, — сказала Рода мужу, сидя рядом с ним в машине, мчавшейся по направлению к Нью-Брансуику. — До того хороши оба! Зато Айсобел просто ужасна! А маленькая Этта? Она по-своему недурна, но кажется такой пресной, такой безжизненной. Бедные дети! Воображаю, как им живется при строгих нравах их папаши! Подумай только, он даже автомобиля себе не завел! Может быть, он просто скуп? — Нет, не думаю, — сказал Сигер, которому несколько раз приходилось иметь дело с Солоном в банке. — Он только человек осмотрительный и притом старомодных взглядов. — Но все-таки — разъезжать всем семейством в этом допотопном рыдване! Согласись, что это нелепо. — Готов согласиться, хотя мне от этого ни холодно, ни жарко, — шутливо ответил Сигер. — Интересно, много ли тетушка Эстер ему оставила. — Говорят, по завещанию только девочки и старая София получат кое-что, остальное отойдет на благотворительные нужды, — сказала Рода. — А все же я уговорю Солона отпустить свою хорошенькую дочку ко мне в гости.Глава 40
Еще на заре своей светской карьеры Рода Уоллин пришла к убеждению, что успех любого званого вечера только тогда обеспечен, когда его украшает присутствие молодости и красоты. Мужчины, старые и молодые, всегда охотно бывают в тех домах, где наверняка можно встретить признанных обществом красавиц. Руководствуясь этими соображениями, Рода сумела сделать свой дом средоточием всего молодого и красивого в округе, и ко времени похорон тетушки Эстер, на которых она повстречалась с молодыми Барнсами, ее светская репутация утвердилась так прочно, что приглашение на обед или бал к Уоллинам редко встречало отказ. Рода с мужем занимали просторный, светлый особняк на краю города, богато и со вкусом отделанный. Вдоль широких газонов и тщательно ухоженных цветников росли тенистые деревья, которые летом защищали от палящего солнца веранду и большие французские окна, а зимой радовали глаз тонким узором оголенных ветвей. Целый штат садовников был занят выращиванием тепличных цветов и растений, служивших для украшения комнат в парадных случаях. В гараже стояли три великолепных автомобиля, в том числе большой черный лимузин, которым обычно правил шофер в щегольской ливрее. В погребе хранились обильные запасы отборных вин и ликеров. Прошел целый месяц после похорон Эстер Уоллин, но Рода не забыла понравившихся ей юных родственников и все еще носилась с мыслью о том, как бы вовлечь их в круговорот светских развлечений. Не имея собственных детей, Рода решила, что нельзя допустить, чтобы такие прелестные молодые существа, как Доротея и Стюарт, «сохли на корню», как она выражалась. Она отлично понимала, что для осуществления своих планов ей придется преодолеть серьезное сопротивление Солона, но Рода была не из тех, кто отступает перед трудностями. Как-то раз, возвращаясь от знакомых, живших неподалеку от Льевеллинского колледжа, она вдруг вспомнила, что именно там живет и учится Доротея, и ей пришла в голову блестящая мысль: она заедет навестить племянницу и тем заложит фундамент для дальнейшего сближения. Шоферу было тут же приказано повернуть на север, и через полчаса он уже тормозил у ворот колледжа, а еще через несколько минут Рода сидела в кабинете декана и просила разрешения повидать племянницу. Доротея не замедлила прибежать, заинтересованная этим неожиданным знаком внимания со стороны нью-брансуикской тетушки; ее большие, иссиня-серые глаза так и светились любопытством. При виде Роды, одетой в изящный костюм красновато-кирпичного цвета, который дополняли коричневая шляпа, вуаль и перчатки, у нее дух захватило от удовольствия и гордости — не каждую студентку посещают такие элегантные гостьи. Рода с распростертыми объятиями поспешила ей навстречу, сияя ласковой улыбкой. — Доротея, милочка, как ты прелестно выглядишь! — воскликнула она. — И мне тут у вас так нравится, настоящее зеленое царство! А где вы все живете, — в том домике, откуда ты вышла? Мне хотелось бы посмотреть твою комнату, но об этом лучше не просить, я знаю. Я помню нашу комнату в Окволде — ведь мы с твоей мамочкой учились там вместе! У нас всегда был такой беспорядок! Впрочем, я к тебе только на минутку, повидаться: я о тебе не перестаю думать с тех пор, как мы виделись на похоронах тетушки Эстер. Бедная тетушка Эстер! Она остановилась, чтобы перевести дух, но тут же продолжала, глядя на улыбающуюся Доротею: — Скажи же мне, милочка, как ты поживаешь, как здоровье мамы и папы? Представь себе, я всегда немножко побаивалась твоего папы, даже когда мы были еще детьми. Он такой праведник и такой строгий. Если ему дать волю, он из всех вас сделает серьезных маленьких квакеров! Доротея засмеялась звонким искренним смехом. — Ну, я-то не очень серьезная. Я даже в ученье отстаю. — Ах ты моя прелесть! — воскликнула Рода. — Какой у тебя милый смех! Он мне напоминает мои школьные дни. Знаешь, — продолжала она доверительно, обняв Доротею за талию, — как только я тебя увидела на похоронах, я сейчас же сказала себе: с этой очаровательной девочкой я должна подружиться. (Тут Доротея конфузливо, но мило улыбнулась.) И у меня есть к тебе предложение — конечно, если позволят папа и мама: двадцать пятого числа, в будущую субботу — то есть, мне следовало бы сказать, в День седьмой, — мы с доктором устраиваем прощальный обед в честь мистера Кина с супругой — он только что назначен нашим послом в Италию; так вот, было бы чудесно, если бы ты могла у нас погостить с субботы до понедельника! Приедут еще несколько молодых девушек — дочери моих приятельниц, кто из Вассара, кто из колледжа Смита, а после обеда будут танцы. Да ведь ты же, вероятно, не танцуешь? Ну ничего, найдутся и другие развлечения. — Я немножко умею танцевать, только папа и мама про это не знают, — наивно призналась Доротея. — Мы с девочками иногда танцуем вечером у себя в комнате. Но, конечно, я танцую очень плохо. Рода расхохоталась. — Убеждена, что эту науку ты быстро одолеешь. — И она ласково потрепала Доротею по руке. На этот раз девушка понравилась ей даже больше прежнего; в ее красоте была какая-то весенняя свежесть. На прощанье было условлено, что Доротея попросит у родителей позволения навестить Роду, а Рода, кроме того, еще напишет им от себя, причем постарается так обрисовать предстоящие развлечения, чтобы картина получилась самая невинная. Взявшись под руку, они дошли до автомобиля Роды. — Стюарта я тоже думаю навестить как-нибудь на днях. Я бы и его с удовольствием позвала на двадцать пятое, да, пожалуй, он еще слишком молод. Это замечание заставило Доротею снова рассмеяться. — Ох, ты не знаешь, что за пострел наш Стюарт, — сказала она. — Прелестный мальчик, он мне очень нравится. Так ты, значит, напиши родителям, а я буду действовать со своей стороны. Поцеловав Доротею, она уселась в автомобиль и велела шоферу ехать. Доротея задумчиво проводила автомобиль глазами, помахала рукой Роде, посылавшей ей из окошка воздушные поцелуи, потом повернулась и медленно пошла к дому.Глава 41
Как-то под вечер, в конце мая, Солон и Бенишия Барнс сидели на западной веранде своего дома в Торнбро. Разговор шел о двух письмах, полученных в это утро, — спустя несколько дней после того, как Рода побывала в Льевеллинском колледже. Одно письмо было от Этты, которая сообщала дорогим папе и маме, что пришло время решать вопрос об ее поступлении в колледж, потому что она уже сейчас должна наметить, какими предметами будет заниматься в предстоящем году. А поскольку в Льевеллин она поступать не хочет, а хочет ехать в Висконсинский университет, то она ждет от них разрешения записаться на вступительные экзамены.«Мне очень хочется поступить именно туда, — писала она прямо и откровенно, — так как там, насколько я знаю, можно получить больше практических знаний, чем в любом из колледжей у нас, на Востоке, а для меня это важно, потому что я не хочу просто выйти замуж и тем ограничиться в жизни».— Узнаю влияние Волиды Лапорт, — проницательно заметил Солон, мысленно видя перед собой мальчишескую фигурку и короткие вьющиеся волосы. Второе письмо было от Роды Уоллин; хотя оба уже читали его, он прочел еще раз вслух: — «Дорогие Солон и Бенишия! Мы с Сигером очень рады были вас повидать, хотя поводом к этой встрече послужило такое печальное событие, как смерть дорогой тети Эстер. Приятно было повидать и детей. Доротея стала просто красавицей…» — тут Солон запнулся, словно в этих словах заключалось для него нечто обидное. — Рода всегда была чересчур восторженной, — сказал он и продолжал читать письмо. Дальше шла просьба отпустить Доротею к Уоллинам на ближайшую субботу и воскресенье. Рода не пыталась скрыть, что предстоит званый обед в честь мистера Кина, недавно назначенного послом в Италию, и даже добавляла в конце:
«После обеда, возможно, будут танцы, но я обещаю самым тщательным образом следить за Доротеей и оберегать ее от знакомств, которые могли бы вам показаться неподходящими».— Ну, что ты на это скажешь, Солон? — спросила Бенишия, когда он дочитал до конца. Она вязала, быстро перебирая спицами, но взгляд ее то и дело задумчиво устремлялся куда-то вдаль, поверх зеленой лужайки, раскинувшейся перед домом. Ей, видимо, хотелось, чтобы он разрешил Доротее поехать, но она молчала, дожидаясь, когда он выскажет свое мнение. — Ты же знаешь мое отношение к Роде, — ответил Солон. — Она живет не так, как того требуют скромность и благочестие. Я не сомневаюсь, что намерения у нее самые лучшие, но едва ли нам с тобой будет приятно, если Доротея наберется мыслей, которые нам чужды. Девочка и так уже внушает мне тревогу, и не только она — Этта и Стюарт тоже. Все трое какие-то беспокойные, старшие дети не были такими. И я не хотел бы, чтобы Доротея бывала в доме, где пьют и танцуют. — Но ведь Рода обещает приглядеть за ней, — сказала Бенишия почти умоляюще. — Да, но я знаю, что никакой пригляд не поможет, если кругом будут люди, которые по-другому смотрят на вещи. Давай предоставим Доротее решить самой. У нее, мне кажется, достаточно здравого смысла. Если ей очень хочется поехать, что ж, пожалуй, на этот раз можно ее и отпустить. Бенишия снова взялась за прерванное вязанье, несколько минут они молчали, пока в дверях не появилась Кристина, пришедшая сказать, что ужин готов. В этот вечер они были дома одни: Стюарт с их разрешения ужинал в гостях у Тенетов, соседей по усадьбе, Айсобел отправилась с родственным визитом к дедушке и бабушке Уоллин. Солон сидел во главе стола, держась прямо, как его учили с детства, и в выражении его серых глаз было что-то, говорившее о глубоком, но в то же время косном уме. Бенишия, одетая в простенькое серое платье с белой косынкой на шее, смотрела на своего спутника жизни тем же любящим, внимательным взглядом, что и двадцать пять лет назад, когда обещала стать его женой. Им никогда не бывало скучно вдвоем. Он был так нежен с ней, так неизменно заботлив, честен, верен своему слову, всегда добросовестно исполнял то, что считал своею обязанностью, никогда не делал того, что противоречило бы долгу службы или совести. Но в этот вечер, когда они сидели друг против друга и чистенькая, миловидная Кристина в синем полосатом платье и накрахмаленном белом переднике хлопотала у стола, какой-то застой, какая-то чрезмерная неподвижность чувствовались в окружавшей их тишине. Слишком уж все тут было упорядоченным, размеренным, безукоризненно правильным для хрупкой, мятущейся, полной томлений живой человеческой души. Солон Барнс, непогрешимый квакер, сидел и молчал, разглядывая скатерть на столе; потом он взял тарелку с рыбой, которую ему передала жена, и начал есть. Но брови его были нахмурены: в банке не все шло гладко, а тут еще эти домашние неприятности. Бывают такие дни, когда заботы сыплются на человека, как сухой лист осенью. — Да, насчет Этты, — заговорил он, подняв глаза на жену. — Не кажется ли тебе, что она слишком торопится? У меня нет особых возражений против Висконсинского университета, разве только то, что я о нем почти ничего не знаю и что это очень далеко. Но чем ей плох Льевеллин, откуда она могла бы при желании каждую неделю приезжать домой? Пока не стала вмешиваться в ее жизнь эта Волида Лапорт, она готова была поступить в Льевеллин. Я хочу, чтобы ты написала ей письмо и постаралась переубедить ее. Мне спокойнее, если она будет ближе к дому. — И мне тоже, — сказала Бенишия, и во взгляде ее мелькнула тревога. — Право, не знаю, что такое творится с Эттой. Она стала такая скрытная, так трудно ее понять. Иногда мне кажется, что она все чего-то ищет и не может найти. Она замолчала, словно подыскивая какие-то более вразумительные слова для выражения своей мысли. Солон задумчиво потер рукой щеку, потом выпил чашку кофе и перевел разговор на кобылу Бесси, прихварывавшую последнее время.Закончив на том, что придется позвать ветеринара, он поднялся и вместе с женой перешел в гостиную, где каждый сел заниматься своим делом: он — разбирать привезенные из банка бумаги, она — вязать и размышлять о своих дочерях и трудностях, связанных с воспитанием.
Глава 42
Доротея приехала в Нью-Брансуик в пятницу под вечер, и дом Уоллинов сразу поразил ее своей роскошью, обилием красивых вещей и той атмосферой праздничности, которой он был проникнут снизу доверху. Все вызывало в ней шумный восторг: цветы в комнатах, широкая терраса, откуда, точно в рамке из цветущих персиковых деревьев, открывался живописный вид на Рэритан-ривер, наконец, отведенная ей комнатка, вся белая и голубая, словно волшебное видение. Целых три дня Рода готовилась к достопамятному событию, которое должно было завершить собою неделю. Велись телефонные переговоры, писались записки, шли бесконечные совещания с поваром и садовниками. К обеду в честь отъезжающего посла ожидался весь цвет судейства, адвокатуры, законодательных властей и просто нью-джерсийского общества, и пышность декораций должна была отвечать торжественности зрелища. Задачу облегчали неистощимые богатства оранжереи, и в результате всех стараний эффектные массы пионов, азалий, гардений и роз в сочетании с пальмами и другими растениями превратили комнаты нижнего этажа в настоящее чудо красоты. Доротея застала в доме еще одну молоденькую гостью, по имени Пет Гэйр; вскоре приехали две вассарские студентки — Элис Барт и Джорджина Скотт, а за ними Этел Ван-Рэнст и Рита Пул из колледжа Смита. — Этел — дочь Уильяма Ван-Рэнста из «Харбор Траст компани», — не без гордости пояснила Доротее Рода. — Мы познакомились в прошлом году во время путешествия в Европу. И Доротея сразу почувствовала, что Этел у Роды почетная гостья. Девушек разместили в смежных комнатах, и Рода сразу же стала торопить их с туалетом, советуя принарядиться как можно лучше, потому что после обеда все поедут в Бремертон, к Кэдигенам, на вечер с танцами. Вопрос о том, что надеть, немало тревожил Доротею с той минуты, как она получила разрешение ехать к Роде. Были у нее два или три «выходных» платья, но все очень простенькие, из гладкой темно-синей или серой шелковой материи, строгого покроя и совершенно не подходящие к случаю. Однако Рода со свойственной ей предприимчивостью заранее решила эту проблему. Не успела Доротея приехать, как ей было предложено выбрать любое платье из обширного гардероба тетки; ростом и фигурой они были схожи, и никаких возражений Рода и слышать не хотела. Тут же было извлечено из шкафа платье, которое сама Рода считала наиболее подходящим: бледно-голубой шифон, отделанный тончайшей серебряной вышивкой, с небольшим вырезом и пышными короткими рукавами, — у Доротеи при виде его даже дух занялся от восхищения. По настоянию Роды она сразу примерила платье, — оно сидело на ней превосходно. Нашлись и туфли под цвет и прозрачные чулки телесного тона. — Ой, тетя Рода, я как будто совсем голая! — смутилась Доротея, так что даже щеки у нее порозовели. — Какие глупости! Платье скромнее скромного! И тебе очень хорошо в голубом — оттеняет цвет глаз. Словом, больше никаких разговоров, ступай к себе и собирайся. Обед будет готов через час. И платье было надето. А когда Доротея увидела, в каких красивых нарядах вышли к обеду другие девушки, она почувствовала глубокую благодарность Роде за ее доброту. Будь на ней одно из ее собственных платьев, она не знала бы куда деваться от стыда и огорчения. Обедали, по выражению Роды, «в семейном кругу». Сигер Уоллин, разумеется, тоже был здесь и отпускал девушкам восторженные комплименты, уверяя, что все вместе они похожи на прекрасный букет цветов. Говорили за столом преимущественно о танцах. Девушки оживленно обсуждали разные новые па. Доротея прислушивалась с некоторой тревогой. — Не знаю, следует ли мне танцевать, — потихоньку призналась она Пет Гэйр, когда все встали из-за стола. — Мама, правда, не брала с меня никакого обещания, но я ведь никогда, в сущности, не танцевала, разве только с подругами в колледже. — Конечно, нужно танцевать, — возразила Пет. — В этом ничего нет трудного. Давайте я поучу вас! И, обхватив Доротею за талию, она завертела ее по комнате в вальсе. — Боже мой, что я вижу? — вскричала Рода, входя в комнату с целой охапкой шалей и накидок: ехать к Кэдигенам предполагалось на автомобиле. — Моя милая Додо, — я решила называть тебя «Додо», — ты же знаешь, что мама отпустила тебя на мою ответственность. У Кэдигенов будет столько молодых людей, что среди них, наверно, найдутся нетанцующие; вот ты и будешь сидеть с ними, слушать музыку и смотреть, как танцуют другие. Ах, нет, я забыла, ведь слушать музыку, кажется, тоже не положено? Все весело посмеялись этой шутке и, закутавшись в накидки и шали, поспешили на улицу, где их уже дожидались два автомобиля. В памяти Доротеи осталась длинная проселочная дорога, стремительно убегавшая назад, темные стены леса по сторонам, которые то будто смыкались, то расступались вновь, весеннее кваканье лягушек на болотах. Потом — высокий, с колоннами, подъезд загородной виллы Кэдигенов; парадный зал, на пороге которого гостей встречали сама миссис Кэдиген и ее дочь Берил, обе в блестящем белом шелку; толпа молодых людей в черных фраках, обступившая их с приветливыми и любезными улыбками. Рода тотчас выбрала из них одного и приставила к Доротее. — Знакомься, Додо, это Нед Рейн, очень милый молодой человек. Нед, я вам поручаю занимать эту барышню. Она квакерша, и ей нельзя танцевать, во всяком случае, она так думает, но я надеюсь, что вы не дадите ей скучать и без танцев. И она исчезла в толпе, а молодые люди уселись в сторонке и принялись смотреть, как кружатся по залу вальсирующие пары. Музыка, смех, пестрое мелькание лиц — все это радостно волновало Доротею, но она сидела рядом с молодым Рейном и совершенно серьезно пыталась разъяснить ему основы квакерского учения, не позволявшего ей принять участие в танцах. А он слушал с глубоким интересом и как будто вовсе не жалел о том, что из-за нее пропускает вальс. Ее красота и нежный, мелодичный голос совсем пленили его. — Ну как, мы все еще тверды в своих убеждениях? — окликнула племянницу Рода, под руку с кавалером проходя мимо них в столовую. — Не совсем, — нерешительно ответила Доротея. — По-моему, она постепенно начинает сдаваться, — улыбнулся молодой Рейн. И он был прав: после ужина ему удалось уговорить Доротею сделать с ним тур вальса. Правда, она долго отнекивалась, уверяя, что он пожалеет о своем приглашении. Но природная грация помогла ей преодолеть некоторую неловкость и скованность первых шагов, и вскоре она уже легко и без смущения кружилась в его объятиях, а когда вальс кончился, заявила со счастливым смехом, что ей никогда еще не было так весело. Потом уже она танцевала почти все танцы подряд, не отказывая ни одному приглашавшему ее кавалеру — а в приглашениях недостатка не было. И всю дорогу домой она болтала без умолку, уверяя, что это был счастливейший вечер в ее жизни. Назавтра, в день парадного обеда, Рода снова позвала девушку к себе, чтобы выбрать ей платье. Но Доротея попросила позволения надеть опять то голубое шифоновое, в котором она была накануне; оно так нравилось ей, что она не желала другого. — Ну, как хочешь, — согласилась Рода. — Оно тебе в самом деле очень к лицу. Сама она была необыкновенно хороша в темно-синем бархате, оттенявшем белизну ее рук и плеч. На шее у нее был жемчуг, на руках браслеты и несколько бриллиантовых колец, в волосах торчал высокий, осыпанный драгоценными камнями гребень. Доротея и раньше знала, что доктор Сигер Уоллин и его супруга занимают видное положение в обществе; об этом не раз говорилось в доме Барнсов. Но только теперь она увидела, что это значит. С любопытством смотрела она, как съезжались гости: губернатор с супругой, член Верховного суда, сенатор и многие другие лица, чьи имена то и дело мелькали на столбцах светской хроники, которой Доротея стала интересоваться в последнее время. Обеденный стол даже несколько смутил ее своим великолепием. С детства она была приучена считать, что выставлять богатство напоказ — вульгарно и недостойно, а между тем все это было так красиво: тончайший фарфор, хрустальные бокалы и рюмки перед каждым прибором, ослепительная белизна столового белья, серебряные канделябры и со вкусом составленный букет роз и гардений посередине стола. В течение всего обеда ее не покидало чувство, что она изменяет какому-то более благолепному, устоявшемуся с давних пор порядку вещей. По мере того, как пустели и вновь наполнялись бокалы, речи за столом становились все развязнее, а смех — все громче. Судья Эллисон, сидевший напротив Доротеи, человек на вид довольно грубый, с отечным лицом и в торчащей колом крахмальной манишке, положительно пугал ее своими разговорами. У миссис Томлинсон, супруги сенатора, слишком молодой для такого старого мужа, был колючий взгляд и пронзительный голос. Посол Кин, высокий, сухопарый, с бакенбардами, делавшими его похожим на фермера, одинаково благодушно улыбался всем. Но вот обед пришел к концу, и стали прибывать новые гости, приглашенные на вечерний бал. Как и накануне, Доротея не могла пожаловаться на недостаток внимания со стороны молодых людей. Особенно донимал ее любезностями один из них, по имени Сатро Корт, молодой человек с тонкими, плотно сжатыми губами и чугунной челюстью. Он непременно хотел научить ее танцевать уан-степ и чрезвычайно интересовался ее жизнью в колледже. Оказалось, что он знаком кое с кем из уоллиновской родни. Доротея простодушно объяснила ему, что ее отец — человек старых правил, и поэтому они не поддерживают близких отношений с более вольнодумными родственниками. В ответ он улыбнулся с таким видом, словно хотел дать понять, что этот налет старомодности лишь увеличивает его интерес к Доротее. Танцуя с ним, она испытывала некоторое смущение — ей казалось, что он слишком крепко прижимает ее к себе, но танцор он, надо ему отдать справедливость, был превосходный, и, послушная его воле, она танцевала с увлечением, которого сама от себя не ждала. Его сменил Лютер Дэйб, молодой человек с красиво посаженной головой и спадавшими на лоб черными волосами. После танца они вместе вышли на террасу. Доротея молча наслаждалась красотой ночи, блеском звезд, благоуханием цветов, разлитым в воздухе. Она знала теперь, что она хороша, и мечтала о дне, когда к ней придет любовь и, быть может, избранником ее окажется один из тех молодых людей, которых она встретила сегодня. Дэйб, заметив мечтательное выражение ее глаз, придвинулся ближе. — Вы довольны сегодняшним вечером? — спросил он. — Ах, очень! Я никогда не думала, что танцевать так приятно. Это словно музыка, правда? Кажется, твои движения сливаются со звуком скрипок! Он взял ее за руку, и она вдруг поняла, что он хочет ее поцеловать. С неловким смешком она отвернулась от него и направилась к двери. — Пойдемте в комнаты; здесь становится прохладно, — сказала она, и молодой человек последовал за ней. В три часа утра, когда уже заходила луна, мистер и миссис Кин откланялись и уехали, а еще час спустя Доротея уже засыпала в своей постели, и ее последние сонные мысли были о Сатро Корте, Лютере Дэйбе и том волшебном мире, ворота которого распахнулись перед ней.Глава 43
Лето того года, когда совершилось вступление Доротеи в светское общество, прошло для младших Барнсов под знаком нарастающего беспокойства и неудовлетворенности. Все они проводили это лето в Торнбро, за исключением Орвила, который с полным комфортом и удовольствием жил в своей трентонской квартире. Иногда он приезжал по субботам в родительскую усадьбу, но чаще предпочитал воспользоваться приглашением Стоддардов, у которых была дача на Джерсийском побережье, близ Дила. Он усиленно ухаживал за Алтеей Стоддард с тех пор, как заручился благосклонностью ее семейства, и недавно, в апреле, состоялось оглашение их помолвки. Орвил был прирожденным консерватором. Венцом успеха в жизни для него была выгодная женитьба. Всегда безукоризненно одетый, он являл собою образец благовоспитанного молодого джентльмена с весьма ограниченным кругозором и неистребимым пристрастием к произнесению банальных истин. Чтобы изучить дело, ему пришлось пройти в «Американском фаянсе» все ступеньки служебной лестницы, но делал он это с каким-то высокомерным равнодушием, чуждаясь тех людей труда, с которыми ему при этом приходилось сталкиваться. Для него они были лишь жалкие неудачники, очевидно, не заслуживавшие больше того, что пришлось на их долю в этом мире. Он с известной гордостью говорил о традиционном укладе, сохранявшемся в его семье, но за последнее время взгляды отца стали казаться ему чуточку отсталыми. Впрочем, он считал, что к нему лично все это не имеет отношения; он уже четыре года вел самостоятельную деловую жизнь и был на пути к достижению своей цели — он жаждал обеспечить себе прочное положение, став одним из доверенных служащих фирмы, и жениться на богатой наследнице. Что касается Доротеи, то за первым ее посещением Нью-Брансуика последовало много других, и там она всегда делала, что хотела. Теперь, если обстоятельства вынуждали ее сидеть дома, она часами не выходила из своей комнаты — просматривала модные журналы, пробовала новые прически перед зеркалом или придумывала фасоны платьев. Она мечтала о том времени, когда ей удастся вырваться из захолустной тиши Торнбро. Возвращаться осенью в Льевеллин у нее тоже охоты не было. Хватит с нее и двух лет, проведенных там. Ее гораздо больше интересовали те удовольствия и развлечения, к которым ее приохотила Рода, но из осторожности она никогда не говорила при родителях ничего такого, что могло бы поколебать их терпимое отношение к этой родственной дружбе. Иногда кто-нибудь из них замечал, правда, что частые поездки в гости отвлекают Доротею от занятий, но настоящей опасности они тут не видели. Бывало даже, что Солон позволял себе залюбоваться красотой своей второй дочери. Шутливо взяв ее за подбородок, он говорил: — Ох, кажется, у меня в семье растет кокетка. Что-то я стал подмечать, в молитвенном собрании моя Доротея все больше на молодых людей посматривает. Доротея улыбалась, хотя ей всегда становилось немножко жаль отца, когда она видела его неумелые попытки быть веселым и остроумным. Что касается ее нежелания возвращаться в колледж, то Солон и Бенишия были даже рады, что она побудет дома, с ними; ее будущее не внушало им сомнений: когда придет пора, выйдет замуж и заживет семейной жизнью. Зато с Айсобел дело обстояло не так просто. С прошлого лета, после окончания колледжа, она безвыездно жила в Торнбро. Чтение и раздумья составляли ее единственное занятие, а между тем ей уже шел двадцать четвертый год. Радости чувственного мира остались недоступны ей, и она жестоко страдала от этого, но робость и замкнутость мешали ей бросить в чем бы то ни было вызов условностям. Ее несколько раз звали приехать в Нью-Брансуик вместе с Доротеей, но она упорно отказывалась. Ей казалось, что всюду, куда бы она ни попала, она встретит небрежное и невнимательное отношение к себе, и она боялась вновь испытать мучительную боль обиды. Нужно было обладать неотразимым обаянием Доротеи, чтобы преодолеть ту преграду, которую ставило им полученное в семье воспитание, — так думала Айсобел, и оттого, что у нее такого обаяния не было, она еще острей ощущала свою неполноценность. Однажды, будучи в особенно тяжелом настроении и, как всегда в таких случаях, думая о Дэвиде Арнольде, человеке, с которым были связаны немногие счастливые минуты ее жизни, Айсобел вдруг приняла решение: она напишет Арнольду и спросит, не возьмет ли он ее к себе в ассистентки, если она осенью надумает вернуться в Льевеллин для научной работы. В скромном ассистентском жалованье она не нуждалась, но положение ассистентки позволило бы ей чувствовать себя как-то уверенней, а главное — находиться в непосредственной близости к нему. Спустя неделю пришел ответ: Арнольд писал, что будет очень рад иметь такую сотрудницу. Айсобел словно ожила; она даже к людям стала относиться по-другому, и эта перемена в ней была так заметна, что Солон и Бенишия охотно дали согласие на то, чтобы она в сентябре вернулась в Льевеллин. Казалось, это ее самое горячее желание. Зато у Стюарта никаких таких утешительных перспектив не было. После трентонской истории его держали под самым строгим надзором, и к восьми часам вечера он уже должен был возвращаться домой. Все в нем возмущалось против этих строгостей, голова его была полна рассказами о рискованных приключениях сверстников: тот побывал в Филадельфии в кинематографе, другой в театре, третий в бильярдной. Один юнец совершил даже вылазку в квартал красных фонарей. Несколько человек успели съездить в Атлантик-Сити, и у них только и разговору было, что о тамошних чудесах: нарядные гостиницы, дощатый настил для прогулок по пляжу, плетеные кресла, морские купанья. А ему все это оставалось недоступным. Стюарту шел уже семнадцатый год, а красотой лица он все больше и больше напоминал Доротею. Но в отличие от нее он был подвержен приступам хандры, в которых находил себе выражение накипавший в нем протест. В такие минуты отец смотрел на него растерянно, по-видимому, не зная, как с ним быть. Лето подходило к концу, и Стюарту давно уже следовало взяться за учебники, чтобы начать готовиться к поступлению в новую школу, но он и не думал об этом. Целыми днями он слонялся без дела, не зная, как убить время. — Стюарт! — обратился к нему однажды вечером отец. — Как ты, собственно, рассчитываешь чего-нибудь добиться в жизни? Тебе уже шестнадцать лет, и на следующий год ты должен поступать во Франклин-холл, а ты бездельничаешь. Ведь ты же хочешь готовиться к самостоятельной жизни, верно? — Да, сэр. — Смотри, Стюарт, — продолжал Солон. — Не будешь учиться — потом пожалеешь. Я не собираюсь устилать розами твой жизненный путь. Тебе придется или самому добиваться всего, как это делает Орвил, или ты вообще ничего не добьешься. Стюарт смиренно склонил голову. Он чувствовал, что отец в какой-то степени прав, и в то же время этот разговор раздражал его. Зачем это нужно ставить ему в пример Орвила? Или говорить о том, что ему придется самому всего добиваться в жизни, когда у отца столько денег? И почему ему не разрешают хоть поразвлечься немножко? Надоели до смерти все эти разглагольствования о Внутреннем свете. Все равно на него, Стюарта, Внутренний свет не оказывает никакого воздействия. Джордж Фокс, Джон Вулмэн со своим «Дневником», о котором ему прожужжали все уши, — какое ему до них дело? Что общего у них с настоящей жизнью? «Настоящая жизнь», как ее понимал Стюарт, была описана во всех своих увлекательных подробностях на страницах некоторых печатных изданий, которые привели бы в ужас его отца, если бы он подозревал об их существовании. Стюарт с жадностью набрасывался на них, когда заходил в книжную лавку Родхивера в Дакле. Журнальчики типа «Вестника» или «Полицейской газеты» пестрели фотографиями пикантных, полураздетых хористок и молодых людей, именуемых «светскими джентльменами», «денди» или «нашей золотой молодежью», чье единственное занятие в жизни заключалось, по-видимому, в содержании подобных девиц. Он даже видел их во сне, эти ночные цветы большого города. Вообще все его мысли в этот период вертелись вокруг женского пола. У Айрис Кин, которая четыре года сидела с ним в одном классе в ред-килнской школе, были такие гладкие щеки и такие грациозные движения! Но почему-то она за последнее время стала ужасная недотрога; даже близко его не подпускает. А Марша Уоррингтон, дерзкая, пухленькая, вся розовая! Однажды он поцеловал ее на перекрестке, где расходились их пути; она сама подзадорила его на это, а потом сразу вырвалась и убежала. А когда он в другой раз попробовал поцеловать ее, она отвесила ему пощечину. Из ночи в ночь он томился этими мыслями, все острей ощущая свои желания, все сильней возмущаясь наложенным на них запретом. Для Этты летние месяцы в Торнбро были месяцами выжидания. Ей не хватало бодрящей и воодушевляющей близости Волиды, и под конец лета она уже считала дни до возвращения в Чэддс-Форд. Мир, в котором мечтала жить Доротея, был глубоко чужд Этте. В семнадцать лет она по своему умственному складу была ближе к Айсобел, но ее интересы лежали целиком в области прекрасного — искусства, музыки, литературы. Атмосфера родного дома казалась ей на этот раз особенно гнетущей, но ни на минуту она не теряла надежды вырваться из-под гнета. Она верила, что выход есть и она сумеет найти его.Глава 44
Прошел еще год, и одному из молодых Барнсов удалось все же осуществить свои надежды и честолюбивые стремления. В июне состоялась свадьба Орвила с Алтеей Стоддард, и теперь его дальнейшую судьбу можно было считать упроченной. Солон гордился своим старшим сыном. Орвил никогда не знал тех сумасбродных желаний и смятения чувств, которые обуревали его брата и сестер. И на его примере остальные должны были бы убедиться, что разумный и правильный образ жизни всегда вознаграждается. А вот Этта не успела приехать из Чэддс-Форда домой, как сразу же принялась донимать отца просьбами о том, чтобы он отпустил ее вместе с Волидой Лапорт на летние курсы при Висконсинском университете, Этта нервничала все больше и больше: несмотря на ее настояния и мольбы, отец был непреклонен, а до начала занятий оставалось всего несколько недель, и было похоже на то, что ей придется отказаться от своего плана. Но об этом она и думать не хотела. Волида была единственным звеном, еще связывавшим ее с внешним миром. Если она утратит эту связь, ее неминуемо засосет то однообразное, лишенное всяких событий существование, которое, казалось ей, воплощали в себе мать и отец. Не находя себе покоя, Этта скиталась по дому и саду, глубоко равнодушная к бесхитростным радостям сельской жизни. Ее единственным утешением были книги, и каждый день, запершись у себя в комнате, она на часок-другой уносилась в мир бурных, необузданных страстей, настолько непохожий на все окружавшее ее до сих пор не только наяву, но и в мечтах, что порой она даже чувствовала себя в чем-то виноватой. Слишком уж далеко отстояло все это от религии ее детства, от того, чему учили отец и мать. Книги, которые она читала, дала ей Волида; это были «Кузина Бетта» Бальзака, «Мадам Бовари» Флобера, «Сафо» Альфонса Доде. Не все в них было доступно ее пониманию, но, читая, она вспоминала ту сцену, которую однажды наблюдала из окна своей пансионской спальни, — юношу и девушку на велосипедах, их объятие и поцелуй, — и чутьем угадывала, что эта невинная близость лишь первый шаг на пути к какому-то более полному, более завершенному физическому сближению. По заведенному в доме порядку даже Солон и Бенишия не входили без спросу в комнаты детей, не прикасались к их личным вещам. Поэтому Этта могла спокойно читать у себя в комнате, не боясь, что ее потревожат. Но за последнее время, после того как она так неудачно, с точки зрения родителей, выбрала себе подругу, Солон пришел к мысли, что следует поближе присмотреться к ее жизни. Он наблюдал за ней, когда она бесцельно слонялась по комнатам, старался проникнуть в ее мысли, найти с нею общий язык, внушить ей, что он, отец, заботится только о ее благе. Но ничего из этого не получалось. Однажды, проходя мимо ее комнаты, дверь которой была распахнута настежь, он поддался безотчетному побуждению и вошел. На столе он увидел книгу, заложенную бумажной закладкой, по-видимому, там, где Этта прервала чтение; рядом, на полу, стоял раскрытый чемодан, и в нем виднелись еще несколько книг. Он вынул одну из них, перелистал, потом взял другую, третью. Но больше всего потрясла его та, которая лежала на столе. Это была «Сафо». Раскрыв ее на том месте, откуда торчала закладка, он прочел следующие строки:«Вопль отчаяния, звучавший со страниц «Книги любви», нашел отклик в душе Госсена, всегда испытывавшего при чтении этой книги лихорадочный трепет; и почти машинально он пробормотал:Не веря своим глазам, Солон захлопнул книгу, но тут же раскрыл ее опять, движимый настойчивым желанием узнать больше. На одной из соседних страниц его внимание привлек такой абзац:Я крови сердца не жалел, чтоб жизнь вдохнутьВ холодный мрамор тела твоего, Сафо!»
«Он восхищенно смотрел, как она двигалась по уютной гостиной в мягком свете затененных абажурами ламп, разливала чай, аккомпанировала пению молодых девушек, поправляя их с ласковой заботливостью старшей сестры, и было странно представлять ее себе совсем иной, вспоминать то воскресное утро, когда она пришла к нему мокрая, продрогшая и поспешила сбросить с себя все, даже не подойдя к огню, разведенному в ее честь. До позднего вечера они оставались в постели…»Дальше Солон не мог заставить себя читать. Забрав книги в охапку, он унес их к себе в кабинет и запер в ящике письменного стола. Потом он вышел в сад и долго шагал взад и вперед по берегу Левер-крика. Ему трудно было собраться с мыслями. Его дитя, его Этта вовлечена в мир разврата и скверны! Он успел заметить, что на заглавном листе каждой книги нацарапано имя Волиды Лапорт. Было ясно, что именно через Волиду его дочь соприкоснулась со всей этой мерзостью. А теперь та же Волида старается отторгнуть ее от родного дома и от веры отцов. Час спустя Этта, проходя мимо кабинета отца, увидела его в полуотворенную дверь и ласково пожелала ему доброго вечера. Вместо ответа он позвал ее к себе. Когда она вошла, он тщательно затворил за нею дверь, затем подошел к письменному столу и вынул из ящика томик «Сафо». — Ты прочла эту книгу? — строго спросил он. На миг Этта испуганно замерла, увидя книгу в руках отца, но за суровостью его тона чувствовался такой ужас и такое горе, что она не стала медлить с ответом. — Нет, отец, я только пролистала ее. — Но ту страницу, где лежала закладка, ты прочла? — Да, прочла, — ответила она, уже понимая, что сейчас над ней разразится буря, какой еще не бывало в ее жизни. Солон положил книгу с таким видом, словно ему противно было даже прикасаться к ней. — И тебе не стыдно, не омерзительно было читать то, что здесь написано? — Сначала было немножко стыдно. Но я хочу знать правду о жизни, а эта книга написана знаменитым французским писателем, который изображает жизнь, как она есть. — Знаменитый французский писатель! — в его тоне зазвучало презрение. — Знаменитый французский развратник — вот это будет верней. И такая книга издается в нашей стране, попадает в мой дом, в руки молодой девушки, моей дочери! А человек, написавший эти ужасные, безнравственные строки, еще считается знаменитым! — Но, папа, — запротестовала Этта, уже не вчерашняя Этта, мечтательная, наивная девочка, — многие люди считают авторов этих книг великими писателями. А потом ты не думай, что тут только про любовь, в книге много говорится о жизни вообще, и кстати сказать, она очень грустная. — Этта, дитя мое, что хорошего может быть в такой книге и что, кроме зла, может принести знакомство с ней? Неужели ты намерена и впредь читать подобные сочинения? Этта не сразу нашлась, что ответить. Казалось, от ее ответа будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. Она боялась сказать слишком много и потому не говорила ничего. Молчал и Солон, подавленный сложностью вставшей перед ним проблемы. Наконец он поднял на дочь взгляд, лучившийся бесконечной добротой. — Дитя мое, если ты отвернешься от Внутреннего света, кто же будет направлять тебя в жизни? Пойми, ведь я хочу только одного — чтобы ты совершенствовалась духовно и была счастлива. Мой долг указать на опасности, которые тебя подстерегают. И предупреждаю: если ты будешь упорствовать в своих нынешних намерениях, читать подобные книги и следовать советам таких подруг, как Волида Лапорт, это приведет тебя только к разочарованиям и несчастьям. — Значит, ты не позволишь мне ехать в Висконсин? — Ни в коем случае! — В голосе его снова зазвучали строгие ноты. — Если и раньше я опасался, что эта девушка может дурно влиять на тебя, то теперь я уверен! Я сделаю все, чтобы воспрепятствовать твоему желанию дружить с ней. Что же касается книг, то я позабочусь о том, чтобы они были уничтожены. Этта встала, готовая протестовать, но по тону отца она поняла, что спорить бесполезно; поняла она и другое — что, оставшись в родительском доме, лишится всего того, что теперь, когда она научилась по-иному смотреть на жизнь, стало для нее насущной потребностью, и потому она решила сейчас больше ничего не говорить. Ей вдруг сделалось ясно, что нужно уходить, нужно расстаться с отцом и матерью и уйти туда, где ничто не будет стеснять ее свободу. Она вышла из комнаты, подавленная и испуганная серьезностью вставшей перед ней проблемы, но с твердым решением не сдаваться и искать выхода. Однако, когда она осталась одна у себя в комнате и задумалась над тем, как осуществить это решение, ей сделалось страшно. Прежде всего, для того чтобы уехать, нужны деньги, а у отца их теперь, разумеется, не возьмешь. Жить в Висконсине она сможет в семье Лапорт, — так говорила Волида; но ведь это еще не все. Этта сидела погруженная в молчаливое раздумье, и чем больше она думала, тем безнадежней казалось ей ее положение. Вдруг у нее блеснула мысль, и хотя ей тут же сделалось мучительно стыдно за себя, она уже знала, что приведет эту мысль в исполнение. Материнские драгоценности! Сколько раз мать давала ей рассматривать их! Старенькая шкатулка, в которой они лежали, хранилась в одном из ящиков рабочего столика Бенишии, и та нередко доставала их, чтобы в простоте души полюбоваться ими или показать детям для забавы. Этте особенно запомнился один случай; она тогда простудилась и лежала в постели, и, желая развлечь больную дочку, мать разложила все драгоценности у нее на одеяле. Там была овальная камея тончайшей работы в массивной золотой оправе, нитка жемчуга, которую Бенишии подарила мать, в свою очередь получившая ее по наследству от своей матери, бриллиантовый кулон в виде солнца с лучами и еще с полдюжины разных украшений, в том числе изящный медальон, осыпанный жемчугом, с детским портретом самой Бенишии. Ничего этого Бенишия никогда не носила; вещи достались ей от матери, которая происходила не из квакерской семьи, и, только выйдя замуж за Джастеса Уоллина, отказалась от суетного обыкновения выставлять напоказ свои богатства. Этте припомнилось, что, когда Волида приезжала в Торнбро на День благодарения, она показала ей материнские драгоценности, быть может, из желания доказать, что ее родной дом не вовсе чужд роскоши. Волида тут же сказала: — С такими вещами и разорение не страшно. Если все это заложить, можно довольно долго просуществовать на полученные деньги. Сейчас эти слова ожили в памяти Этты и приобрели значение, которого она в них тогда не увидела. Наверно, Волида знает в Филадельфии место, где дают деньги под заклад таких вещей. Нужно будет написать ей и спросить. В конце концов ведь тетушка Эстер оставила Этте капитал, проценты с которого должны ей регулярно выплачиваться; вот эти деньги и пойдут на выкуп драгоценностей. В тот же вечер Этта написала Волиде письмо, рассказала обо всем случившемся и просила немедленно сообщить, сколько стоит железнодорожный билет до Мэдисона, сколько нужно платить за обучение на летних курсах, где можно заложить драгоценности и как это делается. Она тут же добавила, что не считает свой поступок воровством, поскольку у нее есть деньги, оставленные ей тетушкой Эстер, и со временем она получит право ими распоряжаться. Целую неделю после этого она каждое утро выбегала навстречу старому Джозефу, когда он возвращался из Даклы с утренней почтой. Ей казалось, что от письма Болиды зависит все ее будущее. О книгах больше разговору не было. Бенишии Солон только сказал, что застал Этту за чтением романов. Он не решился осквернить чистоту их общих родительских мечтаний теми тревогами, которые внушила ему глубокая испорченность Волиды, неоспоримо доказанная ее интересом к подобной литературе. Этта не раз заглядывала мимоходом в отцовский кабинет, но книг нигде не было видно. Зато во всем поведении отца чувствовалась безмолвная, но суровая укоризна, и это камнем ложилось ей на душу. Она чувствовала себя глубоко несчастной. Даже с Айсобел и Стюартом она с трудом заставляла себя разговаривать, когда они вместе сидели за столом. На третий день Бенишия, от которой не укрылось состояние дочери, не выдержала и, отведя ее после завтрака в сторону, спросила: — Этта, родная, неужели тебя так огорчает, что мы с отцом не одобрили твоего желания ехать в Висконсинский университет? Хочешь, съездим вместе в Льевеллин, выясним, можно ли тебе поступить туда уже нынешней осенью? — Нет, мама, в Льевеллин я не поеду, — сказала Этта, но так кротко, что мать не почувствовала в этом ответе всей силы ее протеста. Для нее уже теперь это был не только вопрос о том, в какое учебное заведение поступить. Выхода на простор жизни — вот чего искала она, полного освобождения от того гнета религиозных и нравственных представлений, который мешал ей дышать полной грудью. Волида словно олицетворяла для нее право думать и поступать, как считаешь нужным, и в то же время у Волиды она находила то тепло и понимание, которых жаждало все ее существо. И вот наконец из Мэдисона пришел ответ, очень деловой и ободряющий. Конечно, Этта должна ехать, и ехать не откладывая. И, конечно, нужно заложить драгоценности. Учение на летних курсах обойдется не дороже двухсот долларов, да еще сотню нужно считать на дорогу. Но, став студентками университета, они найдут себе работу. И потом, раз у нее есть наследство тетушки Эстер, о чем же вообще беспокоиться? А родители ее простят, когда увидят, как серьезно она относится к занятиям и какие делает успехи — потому что она непременно будет делать успехи. В конце письма была названа одна компания, ссужавшая деньги под залог и имевшая отделения во всех крупных городах — вероятно, в Филадельфии тоже. Это письмо словно прорубило брешь в той стене мрака и сомнений, которая до сих пор окружала Этту; теперь ей казалось, что стоит только собраться с силами, и можно будет выбраться на свет. О том, как ей уехать из дому, не вызвав подозрений у родителей, она уже много и долго думала. Сначала у нее была мысль посвятить в тайну Айсобел, которая иногда ездила в Даклу одна, без провожатых. Айсобел сама была достаточно несчастлива, и это позволяло надеяться на ее сочувствие. Но потом Этта вспомнила, что по пятницам старый Джозеф спозаранку отправляется в город за покупками, и решила, что, пожалуй, лучше будет поехать с ним, не взваливая на Айсобел ответственности за свой поступок. В роковое утро Этта сидела за завтраком очень бледная и молчаливая; ореол светлых волос еще сильнее подчеркивал бледность ее лица. После завтрака Бенишия по своему обыкновению вышла на кухню отдать распоряжения кухарке; не теряя времени, Этта бросилась наверх, в комнату матери, вытащила шкатулку с драгоценностями из ее рабочего столика и унесла к себе. Вещь за вещью она перебрала все содержимое шкатулки и, наконец, решила, что возьмет только нитку жемчуга и бриллиантовый кулон. Ей казалось, что это наиболее ценные вещи, а кроме того, в отличие от медальона и камеи, с ними не было связано никаких личных или семейных воспоминаний. Этта отнесла шкатулку на место, затем вернулась к себе в комнату и поспешно переоделась в дорожный костюм. Чемодан с бельем и платьем, уложенный еще накануне, стоял под кроватью. Этта вышла на площадку лестницы и прислушалась; потом достала чемодан из-под кровати, бесшумно ступая, спустилась с лестницы и вышла из дому. Подъездная аллея была обсажена живою изгородью; держась как можно ближе к ней, Этта прошла всю аллею и очутилась у ворот в ту самую минуту, когда подъехал в кабриолете старый Джозеф. — Раненько вы сегодня, мисс Этта, — приветливо сказал он, ожидая, когда она усядется. — Да, я за покупками в Филадельфию; хочу поспеть к раннему поезду, — ответила Этта и мысленно поздравила себя: первая часть задуманного ею предприятия благополучно завершилась. Наступило время обеда, а Этта все не показывалась, и Бенишия встревожилась не на шутку. Днем ее отсутствие никого не удивило: старый Джозеф сказал, что отвез ее к утреннему поезду в Филадельфию, и все считали, что она вернется вместе с Солоном, а может быть, даже и раньше. Но, когда Солон вернулся один и сразу прошел к себе в кабинет, Бенишия почуяла недоброе. Она подошла к двери кабинета и заглянула. Солон неподвижно сидел у стола, держа в руке какое-то письмо. — Солон, ты не видел Этту? — тревожно спросила Бенишия. Он поднял голову и как-то странно посмотрел на нее, потом молча протянул ей письмо. Она прочла:
«Отец! Я уезжаю в Висконсин. Ты знаешь, как горячо я люблю вас обоих, и тебя и маму, но после той истории с книгами я больше дома жить не могу. Мне нужно, чтобы меня понимали, чтобы не стесняли моих мыслей. Я поступлю в университет и, надеюсь, сумею выучиться там какому-нибудь полезному делу. Как только устроюсь — напишу. Прости меня»— Этта, моя маленькая Этта! — воскликнула Бенишия и зарыдала. Солон встал и нежно обнял ее. — Не надо плакать, Бенишия, — сказал он. — Мы должны придать друг другу мужества. Не беспокойся, я найду ее и привезу домой. Это все дело рук Болиды. Но наша девочка еще так молода, так невинна, что ее нетрудно будет вернуть на путь истины. Так, обнявшись, они и пошли в столовую, где их уже ждали с ужином. Весь вечер Солон раздумывал о том, где Этта могла взять деньги на побег — если только ей не прислала Болида. Да, поистине роковым оказалось влияние этой дерзкой и самоуверенной молодой особы; мало того, что она отравила воображение невинной девушки книгами гнусного содержания, — она еще подучила ее покинуть родной дом ради учебного заведения, где, наверно, девушки и молодые люди свободно общаются друг с другом! Но это влияние нужно побороть! Если понадобится, он сам поедет в Висконсин и привезет Этту домой. И тут он вспомнил о Внутреннем свете, который всегда был утешением от всех земных горестей, и, склонив голову, обратился к богу с безмолвной, но страстной мольбой о том, чтобы его дитя было возвращено ему невредимым. В это время в комнату вошла Бенишия и, взглянув на Солона, поспешила подойти к нему. — Не отчаивайся, Солон! Я уверена, что все не так страшно, как тебе кажется. Будь снисходителен к Этте. Она в сущности еще дитя. Поезжай в Висконсин, и если ты подойдешь к ней ласково, с добрым словом, она непременно послушает тебя и вернется. Но, говоря это, Бенишия чувствовала, что кривит душой, ибо всего лишь несколько минут назад она сделала ошеломляющее открытие. Стараясь собраться с мыслями, она в волнении расхаживала по своей комнате и вдруг заметила, что один из ящиков ее рабочего столика неплотно закрыт. Она машинально подошла исправить непорядок, но, повинуясь какому-то безотчетному побуждению, выдвинула ящик и заглянула в него. Шкатулка с драгоценностями была на месте; Бенишия рассеянно откинула крышку, и сразу же ей бросилось в глаза исчезновение жемчуга и бриллиантового кулона. Инстинкт подсказал ей, что вещи взяла Этта, и первым ее побуждением было бежать к Солону, чтобы поделиться с ним своей догадкой. Но когда она увидела его измученное лицо, его глаза, скорбно устремленные в одну точку, она не решилась заговорить. В глубине души Бенишия твердо верила, что Этта чиста душой — просто она молода, и ей хочется вырваться в другой, более красочный мир. Когда-то самой Бенишии были знакомы такие желания.Этта.
Глава 45
Этта и Волида шли рука об руку по университетскому парку, направляясь в канцелярию — записываться на лекции. С озера тянуло теплым летним ветерком, в аллеях парка и у входа в учебные корпуса толпились студенты, слышался смех и оживленные разговоры. Три дня прошло с тех пор, как Этта уехала из Торнбро, и все это время ей не давала покоя мысль об отце. — Как здесь красиво! — сказала она вздыхая. — Ах, только бы отец не очень рассердился! Только бы он не вздумал приехать за мной! Сегодня же напишу им про драгоценности, пока они сами не хватились. Меня это больше всего беспокоит. — Вот еще! — отозвалась Волида. — Мало, что ли, девушек уезжает из дому. А что касается драгоценностей, пошли отцу залоговые квитанции, и дело с концом. — А вдруг он не захочет выдать мне деньги тетушки Эстер? Что тогда, Волида? Ты уверена, что мы могли бы получить работу? — Совершенно уверена, да в этом пока нет надобности. У тебя ведь куча денег. — Не так уж много. За бриллиантовый кулон мне дали триста долларов, а за жемчуг только пятьдесят. Говорят, жемчуг теперь не в цене. По правде сказать, я думала, что получу гораздо больше. — Ничего, на лето тебе этого вполне хватит. Жить ты можешь у нас; сама видела, как хорошо тебя приняли папа и мама. Наконец рано или поздно твоему отцу придется же выплатить тебе твою долю старухиного наследства. А на работу мы все равно устроимся, так что нечего огорчаться. Доводы подруги, как всегда, убедили Этту и придали ей бодрости, но на душе у нее все-таки было неспокойно. Она не могла отделаться от мысли о родителях, о том, сколько тревоги и огорчений она им причинила. — Ты не знаешь моего отца, Волида, он так серьезно всегда все принимает! Ты даже представить себе не можешь, как он тогда расстроился из-за того только, что нашел у меня твои книги. — А, пустяки, — решительно заявила Волида. — В конце концов ты свободный человек. Если тебе хочется добиться, чтобы из тебя вышел толк, никто не вправе мешать твоему желанию. Это было бы бесчеловечно. По лицу Этты видно было, что она сосредоточенно думает о чем-то. — Ты в самом деле считаешь, Волида, что я могу прожить без помощи родных? Я так привыкла всегда все получать от них. — Ну что ж, привыкла, а теперь будешь отвыкать, только и всего. Тебе это даже полезно. Если у человека есть мужество, выход всегда найдется. — Все равно, я не могу отделаться от предчувствия, что отец приедет сюда, — сказала Этта. — Кто знает, можетбыть, он уже сейчас в пути. Ведь он будет требовать, чтобы я вернулась домой. Что же мне тогда делать? — Отказаться! Наотрез отказаться! Не может же он увезти тебя силой. Ты забываешь, что тебе уже исполнилось восемнадцать лет. — Волида остановилась и, глядя ей прямо в глаза, с пафосом проговорила: — Этта Барнс, если ты теперь, после всего, сдашься и уедешь, между нами все кончено! Так и знай! Этта вздохнула. — Хорошо, Волида, что бы ни случилось, я останусь и постараюсь быть твердой. Только ты не покидай меня. За разговором они дошли до главного здания, где происходила регистрация студентов. К большому удивлению Этты, ее зачислили и оформили без всяких оговорок. Девушки долго и внимательно изучали расписание занятий и в конце концов решили прослушать курсы литературы и психологии, а кроме того, еще и курс экономики. Это была идея Волиды, считавшей, что им необходимо получить некоторые познания о жизни общества. Хотя обе девушки выросли в обстановке материального благополучия, их всегда смущали те резкие контрасты между богатством и бедностью, которые они наблюдали в окружающей жизни. Им хотелось доказать, что они могут пробить себе дорогу самостоятельно, Волиде — в силу врожденного духа независимости, Этте — потому что она всегда с сочувствием и пониманием относилась к другим. Психология, как им казалось, должна была научить их лучше разбираться в жизни и людях; Волида считала также, что это пригодится ей впоследствии в ее занятиях медициной. Курс литературы выбрала Этта; она как-то смутно ощущала свою близость к миру искусства и красоты, хотя этот мир еще только чуть приоткрылся перед ней. Ее тянуло узнать побольше о великих писателях прошлого и настоящего, особенно о тех, чьи книги были так бесцеремонно у нее отняты. Она всей душой верила, что писатели — это существа высшего порядка, наделенные даром проникновения в истинную суть жизни. Таким же даром наделены и художники; впрочем, о художниках Этта знала еще меньше, чем о писателях. На немногих виденных ею картинах жизнь представала в каком-то особом свете и была не совсем понятна ей, но вызывала глубоко благоговейное чувство.А в это время поезд мчал Солона от Чикаго к Мэдисону. Из Филадельфии в Чикаго он ехал в спальном вагоне, но на более коротком перегоне до Мэдисона решил удовольствоваться сидячим местом. Он сидел у окна, застегнутый на все пуговицы, так что в вырезе темно-серого сюртука едва виднелся простой черный галстук. Странно было вдруг почувствовать себя оторванным от привычной обстановки. С тех пор как его тринадцатилетним мальчиком увезли из Сегукита в штате Мэн, где прошло его детство, он ни разу не совершал такого дальнего путешествия. За окном тянулись леса и рощи, иногда вдруг открывалось озеро, и Солону было приятно смотреть на этот пейзаж, напоминавший ему родные места. Но где-то в глубине его сознания все время билась тревожная мысль об Этте, о том, как добиться, чтобы она вернулась домой. Солон предвидел — это будет нелегко, однако не сомневался, что в конце концов он сумеет убедить ее в своей правоте и таким образом спасет от того, что ему представлялось верной гибелью. На одной из последних станций перед Мэдисоном в вагон вошел и уселся возле Солона пожилой человек с рыжеватыми волосами. Новый сосед — школьный учитель, как выяснилось позже, — был весьма общительного нрава и сразу же попытался завязать разговор, но Солон, занятый своими невеселыми мыслями, не склонен был его поддерживать. Однако, услышав вопрос: «Не в университет ли едете?» — Солон растерялся и вынужден был ответить. — Да… то есть я направляюсь в Мэдисон, — сказал он. — Вот и я тоже. Я каждое лето туда езжу. Это возможность, которой мы, старшее поколение, не должны пренебрегать! Нам никак нельзя отставать от молодых. Вероятно, и вы в своей деятельности это чувствуете, — говорил учитель. Солон пришел в замешательство. — Я мало знаю о Висконсинском университете, — сухо ответил он. — О, вам там, наверно, понравится! — воскликнул сосед. — И вы встретите много таких же, как и вы, священников, они съезжаются туда со всей страны. — Я не священник. Я — квакер, член Общества друзей, — сказал Солон. — И я не собираюсь посещать летние курсы при университете, я просто еду повидать свою дочь. По ледяному тону, которым все это было сказано, непрошеный собеседник почувствовал, что совершил ошибку, пытаясь завязать знакомство, и стал извиняться. — Вы уж простите меня, — сказал он, — я как увижу нового человека, так просто не могу удержаться, чтоб не заговорить о летних курсах. Это такое замечательное начинание! Каких только людей там не встретишь — и старых и молодых, да притом из самых различных кругов общества. И со всеми перезнакомишься! После этого он отодвинулся от Солона и, вынув из кармана книгу, стал читать. Солон с едва слышным вздохом облегчения повернулся к окну и снова стал смотреть на проплывающий мимо ландшафт. От этого случайного дорожного разговора на душе у него стало еще тревожнее. Удастся ли, в самом деле, уговорить Этту бросить университет, который вызывает такое восторженное отношение к себе даже у человека немолодого и, по всей видимости, почтенного?
Покончив с регистрацией и выбором учебных дисциплин, Этта и Волида вышли из канцелярии и не торопясь пошли по дорожке к главным воротам. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как Этта вдруг застыла на месте с округлившимися от ужаса глазами. — Волида! — вырвалось у нее. — Посмотри! Вон идет мой отец! Первым ее побуждением было повернуться и бежать, однако новое, еще неизведанное чувство независимости удержало ее. Она останется и сумеет постоять за себя. — Этта, дочка, как ты могла так поступить? — сразу же начал Солон, взяв ее за руку и словно не замечая Волиды. — Разве ты не понимаешь, сколько беспокойства ты нам причинила? Идем отсюда. Он сделал движение, намереваясь увести ее, но она не двигалась с места. — Постой, отец, нам нужно поговорить, — сказала она и, запнувшись на мгновение, прибавила: — Над озером есть скамейки, там нам никто не помешает. — Хорошо, но только попроси эту молодую особу оставить нас вдвоем. Он не обратился непосредственно к Волиде, опасаясь, как бы ему не изменила выдержка, но Волида сама вмешалась в разговор. — Мистер Барнс, позвольте вам сказать, что я никакого вреда не принесла вашей дочери. Это вы вредите ей, потому что мешаете жить нормальной человеческой жизнью. — Очевидно, вы считаете, что жить нормальной жизнью — это значит читать книги, которые вы читаете сами и даете другим. У меня на этот счет другое мнение. Живите, как вам угодно, а мою дочь прошу оставить в покое. — Отец! — вскричала Этта. — Пожалуйста, не говори с Волидой таким тоном! — За меня не беспокойся, Этта, — спокойно сказала Волида. — Я буду ждать тебя дома. Дорогу ты знаешь. И помни, о чем мы с тобой сегодня говорили! Она улыбнулась, как бы желая подбодрить Этту, и быстрым шагом пошла к воротам. — Пойдем, отец, — сказала Этта. Медленно, не глядя друг на друга, они спустились к берегу озера и сели там на скамейку. Несколько минут прошло в молчании, потом Солон заговорил. Снова он обрушился на книги, которые нашел у Этты, снова предостерегал ее от их тлетворного влияния. Мимо скамейки, где они сидели, то и дело проходили юноши и девушки и располагались парами на травке у воды. Этта долго слушала молча, но наконец терпение ее истощилось, и она прервала речь Солона. — Взгляни на этих молодых людей, — сказала она с мольбой в голосе. — Все они читают книги, которые ты так поносишь; что же, разве они от того стали хуже? Оглянись кругом, посмотри, как здесь красиво! — Этта! Неужели ты совсем забыла свой дочерний долг, забыла праведный путь, о котором так хорошо сказано в «Книге поучений»? Этта поднялась со скамейки; она поняла, что продолжать спор бесполезно. — Пойдем со мной к Лапортам, отец, ты сам увидишь, какие это славные, достойные люди. Они тоже принадлежат к Обществу друзей, однако не видят ничего дурного в желании Болиды учиться в университете. А дома у них так уютно и просто, гораздо проще, чем у нас. И встретили меня там, как родную. Пойдем, я хочу, чтобы ты сам убедился в этом. — Нет, дочка, это ни к чему, — сказал он. — Я подожду на улице, пока ты соберешь вещи. Я только хотел бы возместить этим людям расходы, в которые ты их ввела. — Но, отец… — Этта слегка дрожала, произнося эти слова. — Я с тобой не поеду. — Этта! Что ты сказала? Он словно не поверил своим ушам. — Я не могу, отец. Мне очень тяжело дома. Так тяжело, что я больше не в силах этого выносить. — Но отчего же тебе тяжело? — Я там не могу свободно дышать, — сказала она глухим голосом. — Думать ни о чем не могу свободно. — Ты раньше такой не была, дочка, это все твоя подруга сбивает тебя с пути. Неужели она тебе дороже отца, матери, братьев и сестер? — Не в том дело, отец, я хочу учиться, это мое право, и Болида понимает меня. — Она, может быть, понимает и ту безнравственную жизнь, о которой говорится в ее французских книгах, — сказал Солон. — Это-то и заставляет меня содрогаться — мысль о том, что ты, чистая, нежная девушка, не представляешь себе всей глубины падения, которое ожидает людей, преступивших нравственный закон господа бога, не знаешь, как легко поддаться соблазну, находясь в дурном обществе, в атмосфере таких вольных и распущенных нравов, какие царят здесь. — Перестань, отец! — вскричала Этта. — Позволь сказать тебе раз и навсегда, что ни я, ни Болида не собираемся брать пример с героев каждой прочитанной книжки, на каком бы языке она ни была написана. Нас просто интересует жизнь, так же как нас интересует психология и экономика. Болида решила даже изучить медицину, чтобы облегчать людские страдания. А о мужчинах она вовсе и не думает. Она только хочет стать человеком — и я тоже хочу! Борясь с подступающими слезами, она отвернулась и стала смотреть на озеро. Но Солон, хотя искренность этой вспышки и произвела на него впечатление, все еще цеплялся за мысль, что только Болида виновата в упорстве Этты. — Чего хочет Болида, меня не касается, — сказал он. — Но она не смеет увлекать тебя в своем падении. Где ты взяла деньги на поездку сюда? У Болиды? — Нет, отец, не у нее и ни у кого другого. Я совершила страшный проступок и как раз сегодня собиралась написать тебе об этом. Я взяла мамин бриллиантовый кулон и жемчуг и заложила их. Она об этом не знает. Вот квитанции. — Она достала квитанции из маленькой черной сумочки и показала отцу. — Я их выкуплю, как только смогу. — Этта! Что ты говоришь! Ты взяла материнские драгоценности! — Я рассчитывала выкупить их на те деньги, что мне завещала тетушка Эстер. Я не посмела просить денег у тебя. О папа, я не хотела сделать ничего дурного. — А чего же хорошего ты могла ожидать от воровства? — спросил Солон, но Этта, не слушая его, пылко продолжала: — Ты знаешь, как я люблю и тебя и маму, но я не могу больше думать так, как мне указывают. Я хочу сама отвечать за свои мысли и действия. — Сколько ты получила под залог? — глухо спросил Солон. — Всего триста пятьдесят долларов. Около сотни у меня ушло, а остальные — вот. Возьми их, если хочешь. Гнев в голосе Солона вдруг сменился мольбой. — Этта, девочка моя, мне нужна ты, только ты сама. Я готов тебе все простить, если ты поедешь со мною домой. — Не могу, отец, не могу, — повторяла она, бессильно опустившись на скамью. Раскрытая сумочка лежала у нее на коленях. Солон с минуту смотрел на нее в раздумье, потом потребовал, чтобы она отдала ему залоговые квитанции. — Драгоценности я выкуплю, потому что они принадлежат твоей матери, — сказал он грустным, усталым голосом. — А деньги пусть остаются тебе на жизнь, пока ты не одумаешься. Я не хочу, чтобы ты нуждалась или зависела от чужих людей. Они еще посидели, безмолвно глядя на студентов, группами и в одиночку спешивших мимо них к выходу. Наконец Этта встала. — Мне пора. Родные Волиды ждут меня. Отец, я тебя очень, очень прошу — пойдем со мной, посмотри сам, что это за люди. Но он отказался, и у ворот они расстались. Вернувшись к себе, в номер маленькой уютной гостиницы, выходившей окнами в университетский парк, Солон сел и задумался. Прошло около часу, и мало-помалу он стал успокаиваться, мысли его прояснились. В окно вливалась прохлада мягкого июньского вечера, над деревьями и газонами, над видневшимся вдали озером стояла чудесная тишина. У Солона немного отлегло от души, и он решил, что самое разумное будет отправиться к Лапортам, чтобы еще раз поговорить с Эттой или хотя бы познакомиться с людьми, у которых она нашла себе приют. Как он уже знал из слов дочери, Лапорты жили неподалеку от университета; пока он шел по улице, указанной ему портье гостиницы, навстречу то и дело попадались компании молодежи и студентов постарше, оживленно обсуждавших свои университетские дела. Наконец он очутился перед двухэтажным деревянным домиком, где на двери с невысокой приступкой, заменявшей крыльцо, значилась фамилия Лапорт. Он позвонил; дверь отворила женщина с открытым, приятным лицом. Услышав, что Солон желал бы видеть мистера Лапорта, она не выказала никакого удивления и, не вступая в разговоры, проводила его в комнату, служившую, очевидно, гостиной. Если это мать Волиды, подумал Солон, то дочка напористостью не в нее пошла. Гостиная была просто и скромно обставлена, но в ней было довольно много книг и картин, и чувствовалось, что это жилая комната, а не помещение, специально отведенное для приема гостей. Спустя несколько минут вошел невысокого роста, приятный с виду мужчина с небольшой лысиной, тщательно прикрытой гладкими черными волосами. — Лапорт, — представился он и протянул Солону руку с такой дружелюбной улыбкой, что Солон невольно тоже улыбнулся в ответ. Завязалась беседа, впрочем, говорил по преимуществу Лапорт, а Солону пришлось больше слушать. Выяснилось, что Лапорт происходит из квакерской семьи и воспитание получил квакерское, однако, как он тут же признался, не всегда находил время соблюдать все свои религиозные обязанности. Жизнь его сложилась нелегко, но в конце концов ему удалось стать владельцем солидного аптекарского магазина на соседней улице, неподалеку от университета. Благодаря этому сотни студентов постоянно вертелись у него на глазах, и он никогда не замечал, чтобы атмосфера университетской жизни оказывала на молодежь дурное влияние. Он не припомнит ни одного недоразумения, ни одной скандальной истории, связанной с совместным обучением девушек и молодых людей; напротив, благодаря умелой постановке дела университет пользуется во всем штате большим и заслуженным уважением. Люди не нахвалятся разнообразием учебных программ и основательностью знаний, приобретаемых студентами. Когда речь зашла о Болиде, стало ясно, что он немало гордится ее умом и той настойчивостью, с которой она добивается поставленной перед собой цели. У Солона не хватало духу прямо сказать отцу, что он считает его дочь безнравственной, но все же он отважился заметить: — Не кажется ли тебе, друг Лапорт, что нынешние молодые девушки читают и изучают много такого, что для них представляет большую опасность? — Видите ли, мистер Барнс, — ответил Лапорт, несколько смущенный старомодной формой обращения на «ты». — Я, признаться, не имею возможности следить за их чтением, но раз голова у них остается ясной и мысли здравыми — о чем же беспокоиться? Что касается моей Волиды, то я всегда считал ее девушкой благоразумной и рассудительной и думаю, что при такой подруге вам нечего опасаться за свою дочь. А жить Этта может у нас, мы ей будем очень рады; моя младшая дочка уезжает на все лето, так что места хватит. — Я вам очень признателен за вашу доброту, — сказал Солон с некоторым сомнением и даже ноткой враждебности в тоне. — Но мы, мать Этты и я, предпочли бы, чтобы она оставалась при нас, во всяком случае на ближайшее время. Я, собственно, с этим и пришел — убедить ее со мною вместе вернуться домой. — И он добавил, что желал бы поговорить с дочерью, после чего Лапорт простился и вышел, а через несколько мгновений в комнату вошла Этта. Потратив, однако, целый час на споры, доказательства и увещания, Солон понял, что дело безнадежно. Она не поедет. Единственное, чего ему удалось от нее добиться, это не слишком твердого обещания оставить дом Лапортов, как только окончатся занятия на летних курсах, которые были рассчитаны на полтора месяца. С этим он и ушел, поцеловав ее на прощание и в короткой безмолвной молитве поручив ее заботам всемогущего. На следующее утро Солон уже сидел в вагоне поезда, шедшего в Филадельфию. При всех огорчениях и разочарованиях у него теперь все же было легче на душе. Ему понравилась семья Лапортов и весь уклад их дома. В бумажнике у него лежали залоговые квитанции на драгоценности Бенишии, которые он собирался выкупить тотчас же по приезде в Филадельфию. Эту часть прегрешения Этты он уже простил и намерен был забыть навсегда. Перебирая в памяти происшедшее, он пришел к выводу, что сделал все, что мог.
Глава 46
В Дакле Солона ожидала печальная новость, которая сразу же вытеснила мысли об Этте и всех ее проступках. Накануне вечером скоропостижно, от разрыва сердца, умер Джастес Уоллин, и Бенишия была вне себя от горя. Для самого Солона смерть тестя явилась тяжелым ударом. Джастес Уоллин много лет был ему верным другом. Последующие недели принесли много новых забот, в которые Солону пришлось уйти с головой, — забот не только домашних, но и связанных с его работой в банке. Председатель правления банка Эзра Скидмор скончался еще несколько месяцев назад, и со смертью Джастеса Уоллина, который был одним из вице-председателей, в правлении оказалось два незанятых места. Нужно было срочно подобрать новых директоров и вообще произвести реорганизацию. В сущности говоря, за последние три года, с тех пор как Скидмор по болезни удалился от дел, многое изменилось в Торгово-строительном банке, хотя на первый взгляд это было незаметно. И Сэйблуорс и Эверард, люди более современных взглядов и более энергичного характера, считали возможным не так строго разбираться в достоинствах и репутации каждого возможного клиента. До сих пор Джастес Уоллин силой своего авторитета и влияния удерживал их от чересчур рискованных авантюр. Но время было такое, что стремление к переменам словно носилось в воздухе. Создавались грандиозные проекты. Транспортные компании и предприятия общественных услуг раскидывали свою сеть по всей стране. Город рос с каждым днем, в короткое время возникали целые кварталы, прорываясь за старую городскую черту. Господа Сэйблуорс и Эверард рассуждали так: почему бы Торгово-строительному банку — а заодно и лично им — не урвать свою долю в этом общем подъеме благосостояния? Казалось, нет ничего легче, чем взять деньги вкладчиков и пустить их в оборот, разумеется, под очень высокие проценты, или даже употребить на покупку акций каких-нибудь бурно развивающихся новых предприятий. Мысль о шестнадцати миллионах, лежащих в банке, и о том, чтó можно было бы сделать с такими деньгами, не давала Эверарду покоя. Сэйблуорс тоже об этом думал, но ему не хватало деловой сметки и решительности Эверарда. Между тем один из членов правления ушел в отставку, так что предстояло заместить целых три вакансии. И Эверард с Сэйблуорсом, заручившись поддержкой нескольких более молодых членов правления, без труда провели на все три места угодных им людей. Солону ни один из троих не внушал доверия, но, поскольку он остался в одиночестве, это ничего не изменило. В числе новых директоров оказался Уилтон Б. Уилкерсон, владелец ковроткацкой фабрики, которая была хорошо знакома Солону, — каждый день по дороге, из Даклы в Филадельфию и обратно, он видел ее высокие корпуса с бесчисленными, ярко освещенными окнами, ее красные трубы, подпирающие небо. Как-то раз, из чистого любопытства, он заглянул в баланс предприятия Уилкерсона и нашел, что дела его идут превосходно. Кроме фабрики, Уилкерсону принадлежала еще целая система бакалейных лавок, приносившая ему солидные доходы. Однако ни в обществе, ни в религиозных кругах этот человек не имел никаких связей и не пользовался влиянием. Это был огромный, нескладный детина, ходивший по-матросски, вразвалку; крючковатый нос и тяжелые нависшие брови придавали его лицу свирепое выражение людоеда. Верхняя губа, украшенная короткими сивыми усами, то и дело приподнималась, обнажая кривые желтые зубы. Из-под взлохмаченной седой гривы пронзительно и зорко смотрели голубые холодные глаза. Он словно щеголял нарочитой небрежностью, даже неряшливостью в одежде, что особенно бросалось в глаза по контрасту с дорогими материями, из которых эта одежда была сшита. На его текущем счету в Торгово-строительном банке значилась довольно крупная сумма. Но, кроме того, у него постоянно были дела с отделом кредитов; последнее время он вел переговоры о получении займа на сто тысяч долларов. Он и Сэйблуорс с первого знакомства прониклись симпатией друг к другу. Сэйблуорс решил, что Уилкерсон — именно тот тип дельца, который ему давно нужен, а Уилкерсон сразу почувствовал в Сэйблуорсе человека, которого можно выгодно использовать. Сэйблуорс не замедлил представить клиента Эверарду и Солону, намекнув им, что это крупная дичь. Но моралист Солон не мог правильно оценить такого человека, как Уилкерсон. Он внимательно поглядел на него, припомнил знакомые корпуса его фабрики и то, что он знал о его финансовом положении, и отнесся к нему с теплотой и сердечностью, которую при желании умел проявить как никто. Уилкерсону Солон понравился; он решил, что этот тихий, аккуратный человек может быть ему отличным помощником в делах. Зато в Эверарде фабрикант ковров сразу почуял равного себе по силе партнера, с которым нужно держать ухо востро. Вопрос о стотысячном займе был, разумеется, быстро улажен, но знакомство продолжалось, и вскоре у руководителей банка возникла мысль, что Уилкерсон, если только он согласится, может быть очень ценным приобретением в качестве директора. Об этом без конца шли разговоры у Сэйблуорса с Эверардом и другими директорами, и вскоре им удалось настроить в пользу Уилкерсона все правление. Барнс отнесся к этой идее не очень сочувственно — не то, чтобы он был решительно против, но ему казалось, что можно бы найти более подходящего кандидата; однако в конце концов и он решил, что Уилкерсон все-таки фигура, и не стоит придираться. Вероятно, и в самом деле у него, Барнса, слишком уж щепетильный и устарелый подход ко всему. Надо, пожалуй, приучить себя шире смотреть на вещи и относиться к людям более терпимо и снисходительно. Вместе с Уилкерсоном в правление вошел некий Фриборн К. Бэйкер, чье имя за последние годы все чаще и чаще упоминалось в деловом мире в связи со строительством городских железных дорог, угольных шахт и газовых заводов. Его избрание Солон тоже счел рискованной затеей, на которую банку не следовало бы идти. Очень уж он отличался от директоров прежнего типа. Наружность у Бэйкера была довольно курьезная: приземистый толстяк с короткими руками и ногами, похожими на обрубки, он производил впечатление человека дубоватого, но это впечатление было столь же обманчиво, как деревянная неподвижность крокодила. Жир складками висел на его квадратном лице, под маслянистыми глазками набрякли мешки, сальные волосы лоснились; однако за этой непривлекательной внешностью скрывался недюжинный ум и деловая хватка. Его специальностью было финансирование промышленных предприятий; никто лучше его не владел тонким и сложным искусством прибирать к рукам выгодные подряды или концессии, и притом с наименьшими затратами для себя и своих друзей. Он постоянно рыскал по Филадельфии и ее окрестностям, вынюхивая новые возможности, причем маленькие городки даже пользовались у него предпочтением, потому что в таких городках благодаря невежеству и беспечности обывателей легче провести и околпачить местные власти и буквально за гроши приобрести привилегии, которые сами по себе являются золотым дном. К тому же в крупных городах наиболее выгодные предприятия — снабжение газом, освещение, прокладка трамвайных линий и тому подобное — давно уже были отняты у общества и сосредоточены в руках гигантских корпораций, на могущество которых мистер Бэйкер не смел посягать. На его долю оставалась, таким образом, только провинция, но и эта провинция, ввиду своего уже наметившегося роста, представляла достаточно благодарную почву. Вот мистер Бэйкер и возделывал эту почву, подбирая себе помощников из числа людей, которые умели бы видеть и учитывать те перспективы, которые видел и учитывал он сам. Он вел нескончаемые закулисные переговоры с разными прожектерами и политическими авантюристами, и содержание этих переговоров всегда сводилось к одному и тому же: как похитрее изловчиться, чтобы за ничтожную цену получить тот или иной подряд, концессию, привилегию. Не обходилось и без денежной мзды нужному лицу или лицам, но сам мистер Бэйкер при этом никогда не фигурировал. Он был слишком осторожен. Подобно тем крупным хищникам, которые обитают в морских глубинах, он редко охотился на поверхности. Добыча сама плыла к нему в пасть. Третьим был С. Гай Сэй, владелец большого универсального магазина с отделениями в нескольких городах. По виду он легко мог сойти за одного из своих приказчиков: высокий, вылощенный, с большими темно-карими глазами и матовым лицом, бледность которого оттеняли холеные черные бакенбарды, доходившие до тщательно выбритого подбородка. Нрав у него был бешеный, но он умел скрывать это под светской непринужденностью манер, производившей всегда самое приятное впечатление. Кроме того, он занимал хорошее положение в обществе. Сэйблуорс и Эверард, а с ними и другие члены правления были убеждены в том, что банку предстоят большие дела. Сэйблуорс, по каким-то чисто эмоциональным побуждениям, стремился связать свою судьбу с судьбой Уилкерсона. Эверарда больше тянуло к Бэйкеру, хотя и Сэй ему нравился. Солон со стороны наблюдал всех троих и ни одного по-настоящему не понимал. Он отдавал должное деловой сметке Бэйкера и изяществу манер Сэя, Уилкерсон же казался ему человеком грубым и необузданным, настоящим дикарем. Будь Солон Барнс несколько иного склада, он мог бы значительно преуспеть в то время, потому что сами обстоятельства выводили его на путь, каким достигаются большие и даже огромные состояния. Люди, с которыми ему теперь приходилось работать, были из породы тех, кто постоянно стремится захватывать, господствовать, подчинять себе других. Там, где дело касалось денег, для них не существовало морали, хотя в других отношениях это были обыкновенные люди, такие же рабы условностей, как и все. К Солону они относились весьма благожелательно. Их подкупала его простота, чистосердечие, добросовестность; на Уилкерсона эти качества произвели такое сильное впечатление, что он как-то даже завел об этом разговор с мистером Сэйблуорсом. — Кстати, о квакерах, — сказал он, мотнув головой в сторону перегородки, за которой сидел Солон. — Много у нас вкладчиков из этой публики? — Да, немало, — ответил Сэйблуорс не без оттенка похвальбы, так как в Филадельфии популярность того или иного учреждения у квакеров служит наилучшей рекомендацией, чуть ли не гарантией солидности. — Мы всегда смотрели на мистера Барнса, — продолжал он, — как на одну из самых надежных ценностей в активе банка. Его честность и добропорядочность снискали ему всеобщее уважение. Состоятельные люди предпочитают иметь дело именно с ним. Он не из тех, кто легко заводит дружеские отношения, и тем не менее у него очень много друзей. Мистер Уилкерсон поджал губы. — Любопытно, как эти квакеры держатся за свои принципы, — сказал он. — А в то же время они неплохо умеют наживать деньги. — Да, это верно, — согласился Сэйблуорс, изображая на лице улыбку, которая ему самому казалась глубокомысленной. — Но вы не найдете человека, который лучше мистера Барнса разбирался бы в делах нашего банка, — да и не только нашего. Его осведомленности просто удивляешься. Прежде у нас ведал кредитами мистер Эверард, но задолго до того, как стать вице-председателем, он в сущности передоверил все дело Барнсу. Он вам и сам это подтвердит. Этот разговор заставил Уилкерсона задуматься. Такого человека, как Барнс, хорошо иметь другом и опасно — врагом. Бэйкер с первых же дней стал делать откровенные попытки сблизиться с Солоном. Бывая в банке, он постоянно останавливался у его стола поговорить о том, о сем. Как-то раз, дружески поздоровавшись с Солоном, он заметил, словно бы между прочим: — Скажите, мистер Барнс, вы последнее время не интересовались Пенсильванскими автомобильными и сталелитейными? — Специально не интересовался, — ответил Солон. — Но я обычно слежу за биржевыми курсами. Пенсильванские как будто стоят на шестидесяти восьми? — Именно, — подтвердил Бэйкер и затем добавил с благосклонной улыбкой: — Если у вас есть какая-нибудь мелочишка, которой вы хотели бы распорядиться, учтите, что на каждой акции, приобретенной до августа месяца, можно заработать десять долларов. Но это, разумеется, строго между нами… — Спасибо за любезный совет, — сказал Солон, улыбаясь в ответ. — Я не премину им воспользоваться. Он сразу же подумал о своей двоюродной сестре Роде: она недавно говорила ему, что у нее есть восемь тысяч долларов, которые ей хотелось бы вложить в какие-нибудь солидные бумаги, и спрашивала его совета. У Сэя тоже были причины стараться расположить Солона в свою пользу. Став одним из директоров банка, он быстро сообразил, что было бы очень неплохо заручиться поддержкой такого союзника, как Солон, и иметь возможность всегда рассчитывать на его голос. Видя, что Солон — человек высоких нравственных правил, он часто заводил с ним разговоры о квакерском учении, всячески превознося преимущества этого учения. Как-то раз он пригласил Солона вместе с Бенишией к себе на обед. Говоря о своем доме на Мэн-лайн, он всегда называл его «скромным», но когда Солон и Бенишия подъехали к этому дому в автомобиле, который прислал за ними предупредительный хозяин, их взгляду представился особняк, отделанный с кричащей роскошью, сразу оскорбившей сдержанный вкус Солона. Мишурное великолепие — так он назвал потом в разговоре с Бенишией этот вычурный фасад в стиле итальянских вилл, сад, разбитый по английскому образцу, и огромный вестибюль, увешанный картинами мастеров Возрождения и загроможденный всяким средневековым хламом. Но все это были люди сильные и влиятельные, и Солону льстило их внимание. Поэтому, как уже не раз в жизни, он решил смотреть и слушать, сам ничего не говоря и бдительно оберегая себя от опасности впасть в заблуждение. Сказано же в Библии: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».Глава 47
Гринвич-вилледж, начало двадцатых годов. То было время, когда вся атмосфера этого района Нью-Йорка необычайно благоприятствовала расцвету творческой деятельности. Население Гринвич-вилледжа почти сплошь состояло из людей, приехавших сюда в надежде стать писателями, художниками, танцовщицами, положить начало новому течению в театральном искусстве или основать журнал, единственное назначение которого — выражать взгляды редактора, вообразившего, что у него имеются взгляды, и на этом основании возомнившего себя достойным мировой славы. Были тут журналисты и адвокаты из Средне-западных штатов, которые пренебрегли налаженным, благополучным существованием, чтобы, вдохновляясь атмосферой Гринвич-вилледжа, попытать счастья на литературном поприще. Были девушки, приехавшие с далекого Юга в поисках знаний, волнующих приключений или просто заработка, так или иначе связанного с искусством. Ибо здесь и в самом деле был центр творческой жизни, притягивавший даже тех, кто, не обладая никакими художественными дарованиями, жаждал хотя бы общения с людьми искусства. Многие покидали куда более комфортабельные квартиры в других районах или даже загородные виллы, и ютились здесь в каком-нибудь подвале или на чердаке. Привлеченные духом романтики, приключения, съезжались сюда со всех концов страны мужчины и женщины, одни — работать, другие — просто пожить в таком месте, где могло случиться самое неожиданное. И из этой массы, бродившей под действием творческой закваски, нередко выходили и добивались признания настоящие таланты — писатели, драматурги, критики, художники, музыканты и теоретики искусства. Существенную роль в жизни Гринвич-вилледжа играли бесчисленные ресторанчики и подпольные кабачки (тогда в Америке еще действовал «сухой закон»). Были среди них такие, где за двадцать пять центов вы могли получить сносный обед — если соглашались предварительно вымыть посуду, помочь на кухне или обслужить двух-трех посетителей; и надо сказать, многие обитатели Гринвич-вилледжа пользовались преимуществами этой системы. Особенно популярен был ресторан «Голубой гусь». Он занимал просторное помещение в подвальном этаже, с низким потолком, на котором перекрещивались обнаженные балки, с огромным открытым очагом в одном конце; окна были завешаны темно-красными драпировками, на столах горели свечи, а в углу можно было всегда видеть парочку любителей шахмат, согнувшихся над шахматной доской. Как-то сентябрьским вечером в «Голубом гусе» шло большое веселье. Посредине зала было сдвинуто вместе несколько столов, и вокруг них разместились пирующие. Виновником торжества был красивый, хотя немного растрепанный молодой человек, праздновавший свой день рождения, а заодно и другое радостное событие: в этот самый день крупная издательская фирма приняла к печати его первый роман. Прочие столики занимали обычные посетители ресторана; были среди них и знаменитости, и только еще восходящие светила, и просто наблюдатели нравов Гринвич-вилледжа. За одним из таких столиков, у окна, из которого, несмотря на красные драпировки, порядком дуло, сидели две девушки; лица их казались розовыми в мерцании поставленной между приборами свечи. Одна — круглолицая, коротко подстриженная, похожая на рослого крепыша-мальчишку, другая — изящная, тоненькая, настоящая статуэтка, с бледным нежным личиком в ореоле шелковых пепельно-белокурых волос и голубыми глазами, удивленно скользившими по сторонам. Это были Волида Лапорт и Этта Барнс. Занятия на летних курсах при Висконсинском университете кончились в начале сентября, но до тех пор успели произойти события, в результате которых подруги и очутились в Нью-Йорке. На курсах они повстречали нескольких девушек, живших в Гринвич-вилледже и собиравшихся осенью туда вернуться. От них Волида и Этта наслушались восторженных рассказов о нравах и обычаях этого своеобразного места. Особенными энтузиастками Гринвич-вилледжа были две девушки, уже попробовавшие свои силы в искусстве и на мелкой газетной работе. Этта и Волида слушали их, как завороженные. Другим решающим обстоятельством явилось то, что Волида к этому времени уже раздумала поступать на медицинский факультет. Она переняла от Этты интерес к литературе, все лето усиленно занималась филологическими дисциплинами и с жаром рассуждала о журналистской карьере. Этта очень радовалась такой перемене в планах Волиды, тем более что сама она за эти полтора месяца прочла и узнала много нового по своему любимому предмету, написала несколько рассказов, которые все очень хвалили, и окончательно утвердилась в решении посвятить себя занятиям литературой. — Мы поедем в Нью-Йорк, будем учиться в университете и жить в Гринвич-вилледже! — объявила Волида в один из последних дней занятий на летних курсах. — Иначе просто быть не может! Это место положительно для нас с тобой создано. Представь только: быть среди людей, вся жизнь которых принадлежит искусству в той или иной его форме! А сколько из них выходит настоящих знаменитостей! — В самом деле, это будет чудесно! — подхватила Этта. — Может быть, нам удастся устроить себе такую студию, как у той танцовщицы, помнишь? Она говорила о девушке из класса истории искусств, рассказывавшей им как-то про свою студию в Гринвич-вилледже. Девушка эта приехала в Нью-Йорк с Юга почти без денег и в поисках жилья набрела на большую пустовавшую мансарду. В одном конце мансарды находилось небольшое возвышение, нечто вроде подмостков, что как нельзя лучше соответствовало ее планам. Она подробно описывала, как она устроилась в этой мансарде: раздобыла пустые упаковочные ящики и обила их кретоном, навесила черные занавеси на окна, приладила к одной из стен большое зеркало. А теперь у нее собираются ценители искусства, беседуют, иногда она танцует перед ними на своей импровизированной эстраде. Девушка была полна самых смелых честолюбивых замыслов, поговаривала даже о поездке в Париж и о занятиях в русском балете. — Только бы нам попасть туда, а уж где жить, мы найдем, — сказала Волида. — Ты понимаешь, Этта, ведь там бывает столько знаменитостей! И среди них легко встретить человека, который поможет найти работу по душе. Отец Волиды огорчился, узнав об этом новом решении: ему нравилась мысль, что его дочь будет врачом. Но он давно уже привык считать, что Волида сама сумеет устроить свою судьбу, и потому без всякого спора согласился дать ей денег на дорогу и на необходимые расходы. Солон за это время тоже более или менее примирился с тем, что младшая дочь в значительной мере ушла из-под его родительской власти. Она уже достигла совершеннолетия, и он не в праве был отказывать ей в деньгах, приходившихся ей по завещанию тетушки Эстер. Из этих денег он еще раньше удержал сумму, пошедшую на выкуп драгоценностей из заклада, и теперь скрепя сердце должен был обещать, — сопроводив свое обещание целой кучей родительских наставлений, — что каждый месяц будет высылать ей чек на семьдесят пять долларов. Этта сочла, что тем самым денежная проблема для нее раз и навсегда решена. На такую сумму она отлично проживет в Нью-Йорке вместе с Волидой, пока та не найдет себе работы. После конца занятий они прожили в семье Лапортов всего неделю. Отпуская их в Нью-Йорк, отец Волиды поставил единственное условие. У него имелась дальняя родственница, которая жила в Гринвич-вилледже на Хорэйшо-стрит и держала пользовавшийся солидной репутацией пансион для девушек, зарабатывавших на жизнь своим трудом. Там и должны были поселиться Волида с Эттой. Девушки охотно согласились на такое условие — теперь, когда заветная цель была близка, они согласились бы на что угодно; к тому же оказалось, что в большом каменном доме на Хорэйшо-стрит совсем не плохо жить, в особенности на первых порах, пока они еще не огляделись на новом месте. Они и столовались большей частью у своей хозяйки: это было дешевле, а они довольно быстро убедились, что их бюджет не допускает особых роскошеств. Но время от времени они разрешали себе променять сытный домашний ужин на тощую закуску в каком-нибудь ресторанчике, где лучше всего можно было почувствовать своеобразную и неотразимо привлекательную для них атмосферу Гринвич-вилледжа. Особенно полюбился им ресторан «Голубой гусь». Сегодня тут было веселей, чем когда-либо. Шум и оживление создавала компания за центральным столом; тосты обходили весь зал, в веселье втягивались сторонние посетители. Дошла очередь до Этты и Волиды, им прислали по бокалу красного вина с предложением выпить за виновника торжества. Девушки со смехом приняли предложенный тост. Опуская свой бокал, Волида бросила беглый взгляд на столик, стоявший как раз напротив их столика. — Слушай, Этта, — только не поворачивай сейчас головы, — сказала она вполголоса. — Ты заметила мужчину, который сидит вон за тем столом? Высокий, красивый, с темными волосами. С тех пор как мы вошли, он не сводит с тебя глаз. — Глупости! Ничего я не заметила! — Этту даже насмешило такое предположение. — Тебе просто показалось. — Нет, не показалось! — упрямо возразила Волида. — Постой, да он, кажется, хочет подойти. Этта не успела ответить, потому что рослый, плечистый молодой человек — Волида говорила правду, он действительно был красив — уже стоял у их столика и смотрел прямо на нее. Встретив ее вопросительный взгляд, он немного смущенно улыбнулся. — Моя фамилия Кейн, Уиллард Кейн, — сказал он. — Я художник. Скажите, вы не согласились бы позировать мне? Вам такая просьба может показаться чересчур смелой, но дело в том, что, — тут он повернулся к Болиде, — у вашей подруги такое лицо, какое я давно ищу. — Да вы присаживайтесь, — дружелюбно сказала Волида, снимая с соседнего стула свою сумочку и свертки с покупками. — Мне всегда хотелось, чтобы какой-нибудь художник написал портрет Этты, вот, кажется, мое желание и осуществляется. — Она засмеялась и повернулась к Этте. — Мою подругу зовут Этта Барнс. А меня — Волида Лапорт. Застенчивая улыбка Этты ободрила художника, и он стал объяснять, что работает над мужскими и женскими портретами, которые должны составить серию «Типы современных американцев». Ему кажется, что Этта подходит для этой серии, и он хотел бы сделать с нее несколько набросков, проверить свое впечатление. — А вы откуда, девушки? — спросил он как бы между прочим. — Мы приехали из Мэдисона — учились в Висконсинском университете, — сказала Волида. — Я там и живу, а Этта живет в Филадельфии. — Ну, а я родом из Мэна, — сказал художник. — Мне наскучило писать жителей Новой Англии; вот я и приехал сюда поискать другой натуры. Разговаривая, он все время смотрел на Этту, и она почувствовала, что нужно что-то сказать. — Мой отец тоже из Мэна, — сказала она. — Он родился в маленьком городке, который называется Сегукит. — Сегукит? Я там был, — с живостью подхватил Кейн. — Хотя мои родные места дальше к северу. Видя, что девушки слушают его с интересом, он принялся рассказывать о своей работе, о современных направлениях в искусстве. Болиде и Этте нравилась его легкая, непринужденная манера разговора и подкупающая искренность, с которой он критиковал самого себя. — Я думаю, Этта охотно согласится вам позировать, — сказала Волида во время минутной заминки в разговоре. Этта пришла в замешательство. — Ах, Волида, я, право, не знаю, удобно ли это. — И, обращаясь к Кейну, пояснила: — Видите ли, мне ни разу в жизни не случалось позировать, и… Онпоспешил перебить ее: — Я ведь хочу писать только вашу голову, мисс Барнс. Я уверен, что вам это не покажется трудным. Может быть, вам даже будет интересно. И он улыбнулся самой подкупающей улыбкой. Этта совсем растерялась. У нее просто в мыслях не укладывалось — как это она придет к художнику в мастерскую и будет позировать ему для портрета. С другой стороны, после того как она уже отрешилась от стольких условностей своей прежней жизни, отказать Кейну в его просьбе было бы, вероятно, глупо. И, кроме всего прочего, она невольно почувствовала себя польщенной. Кейн по выражению ее лица понял, что она колеблется. — Вы согласны, правда, согласны? — спросил он. Она молча кивнула. — Вот и чудесно! Давайте завтра в два часа и начнем. Он достал визитную карточку, приписал на ней адрес мастерской и подал девушке. — Это в двух шагах отсюда, — сказал он, поднимаясь. — Так не забудьте! Завтра в два часа! И, помахав на прощанье рукой, он вернулся к своему столику.И повторился старый, как мир, сюжет о художнике и его модели. В художнике говорило то же, что и всегда: извечное преклонение перед красотой и совершенством форм, перед жизнеутверждающей сущностью женщины. Кейн уже написал для своей серии пять или шесть портретов американцев, показавшихся ему типичными; но здесь он почувствовал возможность создать произведение, которое должно явиться венцом всей работы. Кроме того, его с первого взгляда потянуло к Этте; и девушку, хотя она сама этого не сознавала, тоже влекло к нему. Когда Этта в два часа явилась в мастерскую, Кейн уже ждал ее. Он был одет в длинную свободную блузу, перепачканную краской, и довольно поношенные брюки; на ногах у него были коричневые кожаные сандалии. Непокорная прядь спадала на лоб над правым глазом, и Этте он в небрежном рабочем костюме показался еще привлекательнее, чем накануне. Он сердечно поздоровался с ней и поблагодарил за то, что она пришла. И она вдруг почувствовала себя дома в этой большой комнате с голыми стенами, почти пустой, если не считать подрамников, сваленных в кучу в одном углу. Торнбро, Чэддс-Форд, вся безмятежная ясность прежних дней навсегда канули в прошлое; новый мир раскрылся перед ней, и она уже стала частицей этого нового мира. — Снимите, пожалуйста, шляпу, и начнем работать, — деловым тоном сказал Кейн и повел ее к большому старинному креслу, установленному на возвышении. Этта села, немного смущаясь, и спросила, не повернуться ли ей лицом к окну. — Да, пожалуй, — сказал Кейн. — А вообще примите удобную, непринужденную позу. Мне нужно, чтобы ваша голова была хорошо освещена, а свет лучше всего падает именно здесь. Смотрите для развлечения в окно — на воробьев, прыгающих по мостовой, или на хозяек в доме напротив. Вон одна как раз собирается вытрясти пыльную тряпку на головы прохожих. Этта рассмеялась, и Кейн взялся за кисть. Работая, он расспрашивал ее о занятиях в университете, о том, что привело ее сюда, в Гринвич-вилледж. Так прошло около часу. Наконец Кейн, видимо довольный сделанным, перевел дух и объявил, что на сегодня хватит. — Я вам больше не нужна? — спросила Этта вставая. Он молча посмотрел на нее, и она в ответ смущенно улыбнулась. Не отводя взгляда, он подошел и, помогая ей сойти с возвышения, сказал почти шепотом: — Красавица моя! Вы мне всегда будете нужны. — И тут же продолжал уже совсем другим тоном: — Видите ли, обычно я сперва делаю два-три наброска с модели, чтобы уяснить себе детали будущего портрета. Так что если вы не передумали позировать мне, наша работа только начинается. Разумеется, я буду платить вам гонорар, как всякой натурщице. Согласны? Тогда позвольте, я запишу ваш адрес и номер телефона. Он сделал паузу; его глубокие серые глаза смотрели на нее не отрываясь, в складке крупных, ласковых губ был горячий призыв. — Так, может быть, завтра в это же время? Вас устраивает? И Этта поняла, что никакая сила в мире не помешает ей завтра прийти. Так она вступила на новый путь, на котором искусство переплеталось с жизнью сердца.
Глава 48
Целых полтора месяца Этта почти каждый день приходила в мастерскую Уилларда Кейна, и отношения, складывавшиеся между ними, занимали все больше места в ее и его жизни. Однако ни эти первые проблески чувства, ни богатство и разнообразие новых впечатлений не могли заставить Этту окончательно забыть родную семью. Она очень тосковала по матери и в то же время боялась, что если она приедет домой, ей не избежать бесконечных споров с отцом, от которых у всех только останется неприятный осадок в душе. Солон ни в чем не изменил своих взглядов относительно того, как должны и как не должны поступать его дети; он по-прежнему пытался склонить Этту к возвращению в Торнбро, а она упорно не соглашалась, отказываясь даже приехать на два-три дня повидаться. Не раз Солон высказывал желание навестить Этту в Нью-Йорке, но Бенишия отговаривала его, опасаясь, как бы его посещение не отдалило девушку еще больше от семьи. В письмах, которые Этта довольно часто писала матери, уверяя, что здорова и занятия идут хорошо, постоянно говорилось о том, как ей не хочется, чтобы вновь повторялись ненужные и бесполезные сцены с отцом. В конце концов решено было, что в Нью-Йорк поедет Бенишия, и в один прекрасный день она появилась на Хорэйшо-стрит в простой серой тальме и квакерском чепце, из-под которого сияли лаской и надеждой ее лучистые глаза. У Этты при виде матери сердце сжалось от волнения; ей вдруг показалось непонятным, как она могла причинить малейшее страдание этой нежной, любящей душе. Мать и дочь обнялись и с минуту ни та, ни другая не могли произнести ни слова. Бенишия опомнилась первая. — Родная моя! — вымолвила она тихо. — Наконец-то я тебя вижу, могу тебя обнять, поцеловать! Если б ты только знала, как я по тебе соскучилась! Ну, расскажи же мне, как ты живешь, все, все расскажи! — Милая мамочка, а я как рада, что могу поговорить с тобой, — сказала Этта, целуя ее. — Все тебе расскажу, не утаю ничего! Она усадила мать в лучшее кресло, а сама села на пол у ее ног и положила ей голову на колени. И, пригретая материнской лаской, стала рассказывать обо всем, что с ней произошло после отъезда из Торнбро: об университете, о том, как они с Волидой решили ехать в Нью-Йорк, о своем желании стать писательницей, добиться успеха на этом поприще. Когда же мать попыталась спросить, не могла ли бы она работать, живя дома, Этта мягко, но решительно возразила, что ей необходимо, как воздух, ощущение свободы и независимости, а дома у нее этого ощущения никогда не будет. Ее занятия так же важны для нее, как для отца — его религия, но из этого вовсе не следует, что она разлюбила своих родных. — А больше тебе нечего мне рассказать, дорогая? — спросила Бенишия, выслушав ее до конца. — О твоих друзьях, например, — нет ли среди них таких, с кем бы тебе не следовало водить знакомство? Что, Волида в самом деле хорошая, серьезная девушка? Есть ли у нее или у тебя приятели мужчины? — Волида — настоящий верный друг, мама. Мы обе много и серьезно работаем, и мужчины нас не интересуют. Но кое о чем я, пожалуй, должна тебе рассказать. — Она замялась, голос ее зазвучал теплее, задушевнее. — Месяца полтора назад я повстречалась с одним художником. Он работает над серией американских типов и захотел написать для этой серии мой портрет. Человек он очень серьезный, пользуется известностью. Я позирую ему в его мастерской, и он мне платит за каждый сеанс. Надо сказать, эти деньги пришлись довольно кстати, потому что одними процентами с наследства тетушки Эстер не проживешь! — А ты уверена, что тут нет ничего дурного, — в том, что ты ходишь в мастерскую к этому человеку? — тревожно спросила Бенишия. — Ну, конечно, мама. Это так принято, и к тому же он ни о чем не думает, кроме своей работы. Мне бы очень хотелось тебя с ним познакомить. — В другой раз, Этта. Сейчас я спешу домой. Отец с нетерпением ждет вестей о тебе. У него столько забот и огорчений — и из-за тебя, и из-за Стюарта, и дела идут не всегда гладко. Но если я заверю его, что тебе в самом деле на благо твоя жизнь здесь, это снимет большую тяжесть с его души. Могу я сказать ему так? — Да, мама, можешь, — сказала Этта со слезами на глазах. Они еще немного поговорили о доме, об Айсобел, Доротее, Стюарте, потом Бенишия простилась и уехала. Свидание с матерью всколыхнуло все существо Этты, и много дней потом ее мучили сомнения — не отказаться ли от того, о чем она так долго и страстно мечтала, и не вернуться ли домой в Торнбро? Если б не ободряющая близость Волиды, тем бы, вероятно, и кончилось. Впрочем, тут сыграло роль еще одно обстоятельство — все растущее, хотя и безотчетное пока влечение к Уилларду Кейну. Так или иначе, она не уехала, и мало-помалу отношения ее с художником достигли такой стадии, когда отступать было уже невозможно. Как-то холодным ноябрьским утром придя в мастерскую, она увидела, что Кейн в раздумье стоит перед ее портретом. Она подошла и остановилась рядом. Так написать женщину мог только художник, глубоко проникший в душу своей модели и не оставшийся безучастным к тому, что творилось в этой душе. Чувство горделивой радости переполняло Этту. И вдруг она поняла главное, о чем без слов, но достаточно выразительно говорил этот портрет: Кейн ее любит! Она повернулась, глаза их встретились, и ей стало ясно, что противиться бесполезно. Медленно, словно покоряясь какой-то непреодолимой силе, она придвинулась ближе. Он обнял ее и прижал к себе. С этого безмолвного признания началась связь, которой суждено было стать для Этты источником и несказанного блаженства и постоянных терзаний, потому что она без ужаса не могла подумать о том, что будет, если каким-нибудь образом узнают отец и мать. Но время шло, опасность разоблачения казалась все менее и менее вероятной, и Этта невольно глубже и глубже втягивалась в новый для нее мир любви и эстетических наслаждений. Кейн, однако, принадлежал к людям, для которых все в жизни подчинено искусству; любовь и красота казались ему неотъемлемыми элементами существования, но он никогда не позволил бы любви перерасти в силу, способную причинить ущерб ему или его искусству. К Этте он относился с нежностью, был признателен ей за то, что она вдохновляет его в работе, ее юная красота влекла его к себе. Но он не задумывался о том, что если их отношения зайдут слишком далеко, это может принести Этте горе, даже погубить ее. Его пленяли в ней молодость, тонкий ум, чуткая душа. Он восхищался ею, желал ее, подчас испытывал к ней страстное обожание. Но он не любил ее по-настоящему. К тому же он ничего не знал о той атмосфере условностей и строгих правил, в которой она росла, о суровом религиозном духе, царившем в ее семье. Она никогда ему об этом не рассказывала, не говорила даже, что ее родные — квакеры. И с самого начала у него не было намерения превратить их связь в прочный, постоянный союз.Под конец осени у Этты вошло в привычку по пути из университета заходить в мастерскую к Кейну; он уже знал это и старался освободиться ко времени ее прихода. Портрет был окончен, но ему хотелось писать ее еще и еще. Теперь они почти каждый вечер ужинали вместе где-нибудь в ресторане, а потом Этта нередко возвращалась к нему в мастерскую. И вот на беду как-то раз они повстречали в ресторане человека, который оказался приятелем Орвила. Человек этот давно уже стал почтенным семьянином и жил в Трентоне, но время от времени наезжал в Гринвич-вилледж повидать одну свою старинную приятельницу. Он был знаком с Кейном и, гордясь этим знакомством, не преминул подойти, так что художнику ничего не оставалось, как только представить его Этте. — Знакомьтесь, пожалуйста: мисс Барнс — Рэнс Кингсбери, — сказал он. Молодой человек бросил на девушку взгляд, который показался Кейну чересчур пристальным. Это ему не понравилось: он знал, что Кингсбери человек женатый, живет в Трентоне, а сюда приезжает навещать прежнюю приятельницу, с которой сам Кейн тоже был знаком. В глазах Кингсбери, обращенных на Этту, читалось откровенное любопытство; она, видимо, показалась ему непохожей на тех женщин и девушек, которых он привык встречать в Гринвич-вилледже. Прощаясь, он вдруг спросил, как бы между прочим: — Скажите, мисс Барнс, не родственница ли вы Орвилу Барнсу, который живет в Трентоне? От неожиданности Этта до того растерялась, что, не успев подумать, сразу же ответила: — Это мой брат. — Да что вы! А я очень хорошо знаю Орвила; только на прошлой неделе провел очаровательный вечер у него в гостях. Вы ведь там не были, правда? Я бы непременно заметил вас. Этта, испугавшись, что выдала себя, ответила довольно сухо: — Я не видела Орвила с тех пор, как переехала в Нью-Йорк. Я здесь учусь в университете. Но сделанного промаха уже нельзя было исправить. Вернувшись в Трентон, Кингсбери не замедлил сообщить Орвилу, что видел его сестру в Гринвич-вилледже с известным художником Уиллардом Кейном. Орвил сделал вид, будто эта новость его ничуть не заинтересовала, однако на самом деле встревожился не на шутку. Человеку его положения не пристало иметь что-либо общее с Гринвич-вилледжем. И так уже, с тех пор как Этта уехала из дому, жена и родственники жены без конца донимали его расспросами — где она и что делает. Слова Кингсбери не давали ему покоя, и в конце концов он решил проверить все сам. В следующее воскресенье он приехал в Нью-Йорк и, несмотря на довольно ранний час, прямо с вокзала отправился на Хорэйшо-стрит. Там ему сказали, что его сестра еще в субботу уехала куда-то и не вернется до понедельника. Ничего больше ему узнать не удалось. Тогда он припомнил имя человека, с которым, по словам Кингсбери, Этта была в тот вечер: Уиллард Кейн. Он разыскал адрес Кейна в телефонном справочнике и пошел по этому адресу. Сонный лифтер, к которому он обратился, вызвал по внутреннему телефону квартиру Кейна. — Что, мистер Кейн дома? — спросил он. — А кто спрашивает мистера Кейна? — раздался в трубке женский голос, при звуке которого Орвил вздрогнул. Это был голос его сестры. Не дав лифтеру ответить, он поспешно крикнул в трубку: — Этта, послушай, это я, Орвил. Я хочу тебя видеть. Можно мне подняться наверх? Последовало короткое молчание, потом голос Этты сказал: — Подожди минуту, Орвил. Я сейчас спущусь к тебе. В ожидании Этты Орвил мерил шагами вестибюль. Прошло минут десять, прежде чем она появилась, явно смущенная. Орвилу сразу бросилась в глаза перемена, совершившаяся в ней за то время, что они не виделись: она словно выросла, стала живее и удивительно похорошела. Впрочем, это наблюдение не смягчило закипавшего в нем гнева. — Ты где, собственно, живешь, здесь или на Хорэйшо-стрит? — спросил он с ядовитой усмешкой. — Конечно, на Хорэйшо-стрит. Я просто зашла к мистеру Кейну. — Ты выбираешь странное время для визитов, — заметил он. — Я, видишь ли, позирую мистеру Кейну, и время сеансов от меня не зависит. Мистер Кейн назначает те часы, когда ему удобно. Он знаменитый художник. — Что ни говори — это выглядит довольно странно. Воскресенье, десять часов утра… — Не понимаю, Орвил, что с тобой такое, — сердито сказала Этта. — Мы не виделись чуть не полгода, и не успел ты приехать, как начинаешь говорить мне неприятности. Но Орвил пропустил ее слова мимо ушей. — Если за этим позированием действительно ничего не кроется, проводи меня наверх, я хочу поговорить с мистером Кейном. — И не подумаю! Я отлично знаю, что когда мистер Кейн работает, он никого не принимает, не примет и тебя. — Так я и думал! — Орвил оглянулся, желая удостовериться, что лифтера нет поблизости. — Что это все значит? Ты любишь этого человека или просто путаешься с ним? Глаза Этты сверкнули. — Тебя это во всяком случае не касается! — только и нашла она что ответить. — Конечно, доброе имя семьи для тебя ничего не значит. — Орвил распалялся все сильнее. — Зато для всех нас оно значит очень много. Неужели ты не понимаешь, что люди уже говорят о тебе? Если у тебя самой нет стыда, подумала бы хоть об отце и матери. — Тебя только и беспокоят людские толки и пересуды. А до отца и матери, как и до всех нас, тебе, в сущности, дела нет. По какому же праву ты берешься судить меня? У тебя своя жизнь, у меня своя. Она повернулась и пошла к лестнице. — Настанет день, когда ты пожалеешь об этом! — крикнул Орвил ей вслед. Но тут растворились дверцы лифта, Этта вошла в кабину и в следующее мгновение уже исчезла из глаз.
Глава 49
Казалось бы, посещение Орвила и неприятный разговор, который при этом вышел, должны были испугать Этту и заставить ее отказаться от Уилларда Кейна. Но случилось наоборот. Она восприняла это так, словно еще одна преграда легла между нею и всем тем, что составляло ее прежнюю жизнь. Орвил поднял совсем новый вопрос — о скандале в обществе, о людских пересудах, и все в ней возмутилось против этого гораздо больше, чем против религиозных и нравственных доводов отца; те по крайней мере шли от сердца — горячего сердца человека, который хоть и был ограничен в своем кругозоре, но искренне верил и любил. А в злобных упреках Орвила лишь сказалась мелкая душонка, не знающая иных стремлений, кроме стяжательства и погони за житейским благополучием, и Этта с радостью думала о том, что больше не принадлежит к его миру. Она не хотела причинять огорчения родным, но не могла допустить, чтобы их обывательские, узкоморалистские предрассудки стесняли ее свободу. Орвил, получивший от нее достаточно резкий отпор, никогда не узнает о том, как глубоко была она уязвлена на самом деле, а она никогда не забудет этого тупого филистерского выражения на его лице. Но за время, проведенное вдали от дома, Этта не только лучше узнала жизнь и приобрела некоторый опыт, она стала более смелой и независимой в своих взглядах. Что ей в конце концов презрение и осуждение мира богачей и мещан — мира, где брат может возненавидеть сестру, недавнюю подругу своих детских лет? Она радовалась при мысли о том, что ушла из этого мира — навлекла на себя его презрение, — ибо в нем все подчинено условным житейским правилам, которые душат стремление личности развиваться и совершенствоваться. Дружба с Волидой и общение с такой богатой артистической натурой, как Кейн, помогли ей окончательно сбросить гнет этого мира. Таким образом, все способствовало тому, что Этта умом и сердцем сильней и сильней привязывалась к Кейну. В отличие от ее отца и брата он так хорошо понимал смысл и красоту жизни. Он побуждал ее стремиться к духовному росту, учил ее находить наслаждение в мысли и понимать радости творчества. Он говорил с ней о книгах и музыке, водил ее в картинные галереи и так умно и хорошо объяснял все, что ей было непонятно. И в то же время он приобщал ее к таинствам любви, проявляя такое умение чувствовать и выражать свои чувства, которое как нельзя лучше отвечало самым сокровенным потребностям ее существа. Волида, несмотря на свои передовые идеи, была поражена и даже несколько разочарована, обнаружив в Этте свойственную всем обыкновенным смертным ее пола потребность любви и физической близости с любимым человеком. Впрочем, тут скорей всего проявилась безотчетная зависть или ревность, шевельнувшаяся в Волиде, потому что ей самой ни разу не случалось затронуть сердце мужчины, хотя бы и не такого привлекательного, как Кейн. Она много раз бывала вместе с Эттой в мастерской художника и восхищалась его умом и высоким мастерством его произведений. И она не теряла надежды, что когда-нибудь ей посчастливится внушить нежные чувства человеку, столь же красивому и внутренне утонченному. А пока дружба с Эттой заменяла ей более сильные привязанности. Она и в самом деле была беззаветно предана подруге, сознавая, что значительно уступает ей в богатстве мыслей и чувств. Услышав о встрече Этты с Орвилом, она тут же посоветовала ей выбросить из головы эту тяжелую и неприятную сцену. Ведь у нее есть свои деньги, правда? Она не должна спрашивать у старшего брата разрешения жить так, как ей хочется. Он и сам уже, наверно, понял, что не имеет над нею никакой власти. В этом Волида не ошиблась. Орвил действительно уехал из Нью-Йорка с чувством полного поражения. Больше всего его мучила мысль о скандале, боязнь, как бы слух о неподобающем образе жизни, который ведет его сестра, не достиг ушей жены и жениной родни. Он решил ни отцу, ни матери и никому в семье не говорить о своей поездке. Лучше молчать и ждать; надо посмотреть, как все сложится дальше. Быть может, Этта еще одумается и изменит свое поведение. Все равно ему скоро придется побывать в Торнбро — он аккуратно раз в месяц ездил навещать родных, — и тогда уж он на месте оглядится и надумает, как ему быть. Но когда на следующей неделе он приехал в родной дом, там все были увлечены подготовкой к свадьбе Доротеи, которая должна была состояться в октябре. Минувшим летом она стала невестой Сатро Корта, того самого молодого человека, с которым она танцевала в памятный вечер своего первого приезда к тетушке Роде; отец его был крупным подрядчиком по прокладке трамвайных линий, и Доротея не жалела изобретательности ради того, чтобы свадьба явилась событием в жизни местного общества. Орвил застал ее за изучением «Светского справочника», откуда она выписывала имена и адреса лиц, достойных приглашения на торжество. Она очень обрадовалась приезду брата, считая, что в этом вопросе он может быть неоценимым советчиком. Они были одни в кабинете Солона. Орвил стоял у окна и смотрел на лужайку перед домом, а Доротея сидела за отцовским столом. Она читала вслух имена, а он делал свои замечания, большею частью одобрительного свойства. — Рэнс Кингсбери с женой. — Карандаш Доротеи задержался в воздухе. — Пригласим? — Кингсбери? — Орвил отскочил от окна и поспешно подошел к ней. — Нет, нет, ни за что! — А почему? — удивилась Доротея. — Чем он нехорош? — Дело вовсе не в том, хорош он или нет, — сказал Орвил. — А просто ему кое-что известно об Этте, что нам вовсе не желательно распространять, особенно сейчас. Доротея выпрямилась в кресле. — Что такое? Я не понимаю, Орвил, о чем ты говоришь? Орвил нахмурился и приложил палец к губам, как бы в знак того, что это тайна. От этого, разумеется, любопытство Доротеи только разгорелось, и, пустив в ход присущую ей настойчивость, она в несколько минут вытянула из Орвила всю историю. То, что она услышала, потрясло ее и в то же время испугало: перед ее мысленным взором сверкнуло страшное слово «скандал». Подумать только, что ей и ее семье угрожает такая опасность — и именно сейчас, перед ее свадьбой! Она решила ничего не говорить родителям, но случилось так, что на следующий день, когда они с матерью обсуждали какие-то хозяйственные приготовления, Бенишия вдруг сказала: — Доротея, тебе, по-моему, следует написать Этте сердечное, теплое письмо и попросить ее приехать на свадьбу. Я не сомневаюсь, что она и так приедет, но пусть видит, что ты этого хочешь. — Но, мама… — начала Доротея и запнулась. — Что, дитя мое? — Мама, ты не все знаешь об Этте. Если б вы с отцом знали правду о ее нью-йоркской жизни, вы бы ее не похвалили. Мне кажется, лучше ей совсем не приезжать. — Доротея! — воскликнула Бенишия. — Как ты можешь так говорить о своей сестре! — Это не я говорю, мама, это Орвил; и он тоже считает, что ей лучше не приезжать. — Ты меня очень огорчаешь, Доротея, таким отношением к сестре. Это ее дом в такой же мере, как и твой. А если у Орвила есть в чем обвинить ее, пусть придет и расскажет мне все сам. И сразу у Бенишии мелькнула мысль о художнике, про которого упоминала Этта. С тех пор прошло немало времени, в письмах Этта почти не касалась своей личной жизни, и у Бенишии тревожно защемило сердце — не случилось ли чего-нибудь нехорошего с чистой, задумчивой, мечтательной девочкой, которая несколько недель назад так прямо смотрела матери в глаза, уверяя, что ей нечего скрывать. Последовавший затем разговор между Бенишией и двумя ее детьми был болезненно тягостным для всех троих. Орвил повторил все, что говорил Доротее, только в иных выражениях, менее оскорбительных, по его мнению, для слуха матери. Ошеломленная и подавленная услышанным, Бенишия прежде всего подумала о Солоне. Она теперь опасалась худшего, но не хотела подавать виду перед Орвилом и Доротеей, что ее вера в Этту поколебалась. Она продолжала твердить, что они, может быть, ошибаются; что во всяком случае им не пристало так дурно говорить о своей сестре; напротив, пусть приедет и оправдается. Она требовала, чтобы Солону ничего не говорили до тех пор, пока она не узнает правду от самой Этты. Она сейчас же напишет ей, и из ее ответа все будет ясно. Но этот долгожданный ответ оказался настолько уклончивым, что на душе у матери стало еще тяжелее и тревожнее. Мучительное волнение отразилось на ее здоровье; несколько раз, пока шли приготовления к свадьбе, ее одолевали приступы слабости, и она хорошо знала, что виной тому не усталость, а боль и страх за Этту, от которой больше не приходило ни строчки. Обеспокоенный Солон в конце концов заподозрил неладное, тем более что Бенишии плохо удавалось скрывать свое горе. Он стал настойчиво расспрашивать детей, в особенности Доротею, не знают ли они, что так тревожит их мать. — Она, наверно, огорчается из-за Этты, — не задумываясь, ответила ему Доротея. — Этта написала, что не может приехать к свадьбе, потому что будет очень занята, а мама все надеется. Услышав это, Солон сразу подумал, что за отказом младшей дочери приехать скрывается нечто большее, чем те общие соображения, которые она ему высказывала при их последней встрече. Он пошел к Бенишии и попросил ее рассказать все, что ей известно об Этте, так как ему кажется, что от него что-то скрывают. И Бенишия нехотя призналась ему: да, в жизни Этты появился мужчина, художник, пользующийся известностью, но каковы отношения между ними, она не знает и не хочет верить, будто это отношения предосудительные; сама Этта говорила ей, что их связывает только искусство, и родителям остается лишь молиться и верить, что бог не допустит ее до чего-либо дурного. Теперь они разделили это тяжкое бремя, и невесело было у обоих на сердце в день, который должен был бы стать самым большим праздником для Солона, — день свадьбы его дочери в прекрасном доме, где прошла его юность.Часть III
Глава 50
Осенью того самого года, когда Этта начала новую жизнь в Нью-Йорке, а Доротея вышла замуж, в судьбе Стюарта тоже произошли перемены. Отец отдал его в училище Франклин-холл, заведение, проникнутое религиозным или, во всяком случае, высоконравственным духом, где при наличии искренней тяги к знанию многому можно было научиться. Оно помещалось в тихом, живописном и довольно уединенном уголке, который когда-то был одним из предместий Филадельфии, а теперь представлял собой нечто среднее между дачным местом и городской окраиной. При училище был парк акров в двадцать, обнесенный высоким сплошным забором, с аккуратно подстриженными лужайками и нарядными цветочными клумбами. К услугам воспитанников были спортивные площадки, теннисные корты. Посреди парка стояли три дома: один был отведен под аудитории и административные помещения, в двух других жили воспитанники. Стюарту, который все шестнадцать с половиной лет своей жизни провел безвыездно под родительским кровом, здесь сразу понравилось: и обстановка и люди были совсем иные, чем дома. Впрочем, распорядок дня учащихся был строго регламентирован: в таком-то часу вставать, в таком-то ложиться, столько-то тратить на еду, занятия, отдых. Стюарт к этому времени выровнялся в складного красивого юношу без малого шести футов росту, весьма осведомленного во всем, что касалось радостей жизни, и весьма неглубокого в других отношениях. Он был веселого нрава, и здесь, в училище, его привлекала не столько возможность расширить свой кругозор, сколько перспектива знакомства и дружбы с более искушенными сверстниками, которые введут его в желанный мир спорта и развлечений. Надо сказать, что все его интересы сосредоточивались теперь вокруг девушек. Он испытывал то же томление пола, которое причиняло столько мук старшей из его сестер, только в нем оно было гораздо сильнее и не умерялось, как у Айсобел, привычкой обуздывать и сдерживать себя. Его постоянно терзал неутоленный голод плоти. Вид округлой шейки или щечки, грациозная походка, блеск глаз, прикосновение руки хорошенькой девушки — все это словно заряжало его электрическим током. От одной только мысли о чем-либо подобном ему становилось жарко, радостно, сладко-тревожно. Но, верный себе, он мечтал не об одной, а обо всех. Ему редко случалось пройти по улице, чтобы не встретить девушку, которая показалась бы ему неотразимо привлекательной. И он тотчас же воспламенялся, не думая о том, насколько мимолетны его восторги. Однако училище оставляло гораздо меньше времени и даже возможностей — так по крайней мере казалось на первых порах — для тех неуклюжих флиртов, которых он так жаждал. Чтобы провести у товарища субботний вечер или воскресенье, требовалось письменное разрешение родителей. Правда, некоторые мальчики — те, у кого родители были не слишком строги, — ухитрялись все же бывать в театрах или иным способом развлекаться вне стен училища. Но Солон и Бенишия требовали, чтобы он по субботам приезжал домой или же оставался в училище и готовил уроки. Немудрено, что Стюарта очень скоро начал злить этот бдительный родительский надзор, по его мнению, обидный и ненужный. Дело еще усугублялось тем, что у него никогда не бывало денег. Солон заранее подсчитал его бюджет и пришел к выводу, что если одежду и необходимые учебные пособия он будет получать от родителей, то пяти долларов в неделю вполне хватит на проезд и карманные расходы. В случае непредвиденных надобностей Стюарт должен был обращаться к отцу каждый раз особо, и предполагалось, что такие случаи будут редки. Солон хотел, чтобы сын знал деньгам цену и тратил их разумно и осмотрительно. Но Стюарту такая система вовсе не нравилась. Рядом, чуть ли не у самых ворот, был большой город со всеми его соблазнами — магазинами, ресторанами, театрами, которые ему никогда не разрешалось посещать. И некоторые из его сверстников, не нуждавшиеся в деньгах, как он, часто, в обход строгих школьных правил, отправлялись по субботам в Филадельфию и поочередно «ставили угощение» товарищам в каком-нибудь ресторане или павильоне с мороженым. У многих чемоданы были полны изысканных предметов туалета, о каких он и мечтать не мог, а больше всего его задевало, когда какой-нибудь юнец начинал хвастать, что у его отца есть автомобиль: Стюарту никак не удавалось уговорить Солона купить машину. Автомобиль в те годы являлся предметом особой роскоши, и были такие любители пустить пыль в глаза, которые залезали в долги, лишь бы его приобрести. Дорогие американские марки соперничали с заграничными, и сотни больших и маленьких, окрашенных в яркие цвета автомашин с оглушительным ревом мчались по улицам Филадельфии и других городов, заставляя простых смертных трепетать от зависти. Среди однокашников Стюарта был один мальчик, отец которого недавно завел первоклассный автомобиль. Лестер Дженнингс-младший даже научился сам править и в разговорах любил упомянуть об этом вскользь, как о предмете, не заслуживающем внимания, хотя на самом деле ему до смерти хотелось покрасоваться перед товарищами за рулем. Однажды, когда он с увлечением описывал автомобильную прогулку, совершенную семейством Дженнингс в прошлое воскресенье, другой мальчик из их кружка, Виктор Брудж, вдруг прервал его похвальбу. — Послушай, Дженнингс, а что бы тебе как-нибудь взять у отца автомобиль и покатать нас, — сказал он. — Вот была бы красота! Отсюда не больше часа езды до Атлантик-Сити, а то можно поехать и в Уилмингтон. В Уилмингтоне у меня есть знакомые девушки. И Лестер ответил, что непременно постарается устроить это, когда автомобиль не будет нужен отцу. Вполне естественно, что Стюарт, жизнерадостный, жадный до развлечений, сразу пришелся ко двору в этой компании. Особенно он сдружился с Дженнингсом и Бруджем и быстро подпал под их влияние. Оба отличались таким же легкомысленным нравом. Дженнингс был добрый малый, хоть, пожалуй, чересчур напористый. Коротенький, коренастый, с широким, почти квадратным лицом и выдающейся челюстью, он при разговоре словно сверлил собеседника своими маленькими глазками сквозь круглые очки в металлической оправе. Он питал пристрастие к хорошим вещам, носил дорогое белье и костюмы, ездил всегда с превосходными кожаными чемоданами всевозможных размеров; говорили, что он единственный наследник миллионного состояния. Виктор Брудж, высокий, фатоватый юнец лет восемнадцати, был другого склада — нервный, чувствительный, себялюбивый. Он тоже щеголял своими костюмами и у него в комнате было полно всяких занятных и необычных вещиц. Мать баловала его, считая, что ее муж слишком строг к сыну, и Виктору ничего не стоило получить от нее письменное разрешение на что угодно — поехать к Дженнингсу в гости, например, или просто провести воскресный день в Филадельфии. Она только сетовала при этом, что редко его видит. Вскоре у приятелей вошло в обыкновение собираться втроем в чьей-нибудь комнате среди дня или даже вечером, после того, как погасят свет, хотя это и запрещалось правилами. При всяком удобном случае они совершали вылазки в соседний поселок. Разговаривали преимущественно о девушках — обсуждали их сравнительные достоинства, спорили о том, проявила или не проявила такая-то ответный интерес к кому-нибудь из них. Не забывали и о таких вещах, как карты, сигареты, театр. И у Бруджа и у Дженнингса были щегольские портсигары, из которых, когда позволяли обстоятельства, они небрежным жестом вынимали «гвоздик», как на тогдашнем жаргоне именовались сигареты. Дженнингс, кроме того, играл в безик и покер, а Брудж считал себя первоклассным бильярдистом — он недавно выучился играть на бильярде и очень этим гордился. Как именно он изловчится воспользоваться отцовским автомобилем для задуманной экскурсии, Дженнингс еще не знал, но он не сомневался, что это ему удастся — хотя бы на несколько часов. Нужно будет только прихватить с собой каких-нибудь девушек. Об этом и шел у них разговор в одну из суббот, перед тем, как всем троим разъехаться по домам. — Ох, и здорово же будет! — вскричал Стюарт, вспоминая Маршу Уоррингтон, школьницу из Даклы. Она была такая хорошенькая, полненькая, с розовыми щечками. Бруджа тоже взволновала эта затея. У него была привычка садиться на стол, конторку, сундук — все равно что, лишь бы повыше, и, разговаривая, беспокойно болтать ногами и размахивать руками. — Можно поехать в Уилмингтон, — снова предложил он. Его семья была из Уилмингтона и только недавно переехала в Филадельфию. — Я там знаю таких девчонок — пальчики оближешь. — Или в Атлантик-Сити, — вставил Стюарт. — Поедем в Атлантик-Сити. Думаете, мы за один день не обернемся? Брудж и Дженнингс сомневались, удастся ли обернуться за один день. Но в конце концов главное было достать автомобиль и уехать, все равно куда, лишь бы уехать, и на это они теперь направили всю свою изобретательность.Глава 51
Для осуществления этого увлекательного плана Стюарт решил попросить у отца немного денег сверх положенной ему суммы, а также заручиться разрешением на поездку в гости к Дженнингсу или Бруджу, приурочив это к той субботе, когда выяснится, что Дженнингс может располагать автомобилем. Однако в следующий свой приезд домой он сразу увидел, что разумнее будет не обращаться сейчас к отцу с просьбами. Как оказалось, Солон получил из Франклин-холла письмо, в котором декан сообщал ему, что Стюарт сильно отстал по трем предметам и если не выправится до конца семестра, то будет исключен.«Я очень сожалею, что должен огорчить Вас, мистер Барнс, — писал декан. — Стюарт, безусловно, способный мальчик, но с наклонностью к легкомыслию и поэтому нуждается в особо бдительном надзоре. Кроме того, он здесь сдружился с несколькими юношами, которые склонны бесцельно проводить время и его приучают к тому же. Ввиду всего этого полагаю, что Ваше родительское внушение явится сейчас весьма своевременным и, быть может, предотвратит необходимость более крутых мер в дальнейшем».Это письмо ошеломило Солона. Он еще не успел оправиться после того удара, который нанесло ему вызывающее своеволие Этты — и вдруг новое потрясение. Столько молитв, столько размышлений, столько заботы со стороны его и Бенишии, и тем не менее вот уже второй из их детей ведет себя недостойным образом. Разумеется, он поговорит со Стюартом, но поможет ли это? Ему хорошо запомнилось то странное, испуганное выражение, которое было в больших голубых глазах Этты, когда он отчитывал ее по поводу найденных в ее комнате книг и ее желания ехать в Висконсин с Волидой Лапорт. И тем не менее несколько дней спустя она покинула родной дом, не побоявшись лишить себя родительской ласки и защиты. А теперь и Стюарта одолевает такая же, пожалуй еще более неуемная, жажда жизни. Если его исключат, то из страха перед суровым осуждением домашних он может броситься навстречу еще большим опасностям. Нет, нет! Что бы ни случилось, у этого мальчика никогда не должно возникнуть мысли, что ему тяжело в родном доме и что отец не понимает его и не сочувствует ему. Видно, в самом деле мир изменился. Нужно научиться понимать детей, не поступаясь своими представлениями о том, что хорошо и что плохо — поскольку поступиться ими для него невозможно. После длительного раздумья Солон решил, что попробует подойти к Стюарту по-новому. Когда тот в субботу приехал из Франклин-холла, отец встретил его ласково. Но письмо декана он положил в комнате сына на видном месте, где его нельзя было не заметить. И в самом деле, как это письмо, так и неожиданная снисходительность, проявленная отцом, произвели сильное впечатление на Стюарта. Он сам пришел к Солону, откровенно сознался в том, что запустил занятия, и пообещал исправиться. При этом он был вполне искренен: ему вовсе не хотелось, чтобы его исключили из Франклин-холла, не хотелось расставаться с товарищами, общество которых сулило столько интересного и неизведанного. После этого случая его отношения с отцом как будто наладились; но прошло немного времени, и Стюарт снова убедился, что настоящая близость и взаимопонимание между ними невозможны. Отец всегда оставался для него только серьезным, почтенным человеком, который постоянно разбирает какие-то бумаги, ведет душеспасительные беседы или восседает торжественно за обеденным столом, человеком, который ко всему подходит обстоятельно, осторожно, без улыбки, тогда как ему, Стюарту, столь многое в жизни казалось забавным — взять хотя бы даклинских квакеров в их старомодной одежде, часами просиживавших в молитвенном доме, храня благоговейное молчание. Даже старый Джозеф, кучер, вызывал у Стюарта смех: он так потешно семенил по двору, шамкая беззубым ртом, а брови у него были такие густые и лохматые, что из-под них почти не видно было глаз. При ходьбе он смешно выворачивал ноги пятками внутрь, и Стюарт не раз забавлял Доротею, очень ловко передразнивая старика. Однажды отец застал его за этим занятием и сурово отчитал. Привычка Стюарта употреблять жаргонные словечки тоже стоила ему строгого выговора. Как-то субботним вечером, сидя дома из-за дождя, он от скуки принялся подбрасывать и ловить трость, мячик и книги, подражая жонглеру, которого они с Бруджем видели в трентонском мюзик-холле. Доротея была у него за публику. — Смотри на меня, Додо! Смотри во все гляделки! — пыхтя, приговаривал он. — Вот я тебе сейчас покажу класс. Закачаешься! — Тут он уронил все три предмета на пол. — Здорово, а? Шик-блеск! Доротея, войдя во вкус забавы, уже хотела попробовать сама, но в это время в комнату вошел Солон. — Что за выражения ты употребляешь, Стюарт? — спросил он, глядя на сына поверх очков. — Я был в соседней комнате и случайно слышал. — Да это так, ходовые словечки, папа, — признался Стюарт. — Я тут Доротее фокусы показывал. — А разве при этом необходимы подобные выражения? Где ты им научился? — У нас все мальчики так говорят. — Стюарт закусил губу, чтобы сдержать непочтительную улыбку. — Но дома-то, пожалуй, правда не стоит, — добавил он нерешительно. — Вот что, Стюарт, — сердито сказал Солон, — и дома, и в училище, и где бы ты ни был, потрудись говорить нормальным человеческим языком. Ты с каждым днем становишься все более дерзким, все менее похожим на воспитанного юношу. Это товарищи на тебя так влияют? В таком случае придется взять тебя из Франклин-холла и определить в другое учебное заведение., Он вышел из комнаты, оставив детей одних. Им обоим было не по себе после этой сцены. Доротея сочувственно улыбнулась Стюарту, потом сослалась на какое-то дело и ушла, а Стюарт вышел на веранду и принялся расхаживать из угла в угол. Ну и семейка, нечего сказать! Уж какой теперь может быть разговор о деньгах, когда отец так настроен! Было от чего прийти в отчаяние: ведь, может быть, в ближайшую субботу Дженнингсу удастся заполучить отцовский автомобиль, и тогда — страшно даже подумать! — Стюарту не придется принять участие в этом долгожданном похождении!
Глава 52
Миссис Сигер Уоллин была в полном восторге от результатов кампании, которую она провела в интересах Доротеи. Блестящий успех, увенчавший ее усилия — помолвка племянницы с Сатро Кортом, — доказывал, что она была совершенно права в своем желании спасти молодых Барнсов от иссушающего пуританизма их домашней обстановки. Теперь она решила заняться Стюартом, и вот, вскоре после того воскресенья, которое оказалось для мальчика таким незадачливым, ее автомобиль остановился у ворот Франклин-холла. Наружный вид заведения показался Роде вполне «в духе Барнсов»: простота и строгость во всем. Кругом царила торжественная тишина; только на лужайке, где совсем не по-сентябрьски пригревало солнце, несколько мальчиков играли в крикет. Рода прошла в канцелярию и попросила вызвать Стюарта. Он тотчас же прибежал, раскрасневшийся, веселый, с крикетной битой под мышкой, и, стараясь пригладить торчавшие во все стороны вихры, стализвиняться за свой вид. На нем была рубашка с короткими рукавами, серые брюки и парусиновые туфли. — Можешь не извиняться, — сказала Рода. — Мне только приятно видеть одного из Барнсов без барнсовской чопорности. Я бы тебя охотно расцеловала за это. Да только, пожалуй, ты уже слишком взрослый, даже для родственницы. Она весело улыбнулась, забавляясь явным смущением мальчика, вызванным ее последними словами. В своем облегающем костюме, коричневом в клетку, и коричневой же фетровой шляпке, кокетливо сидящей на пышно взбитых светлых волосах, она казалась Стюарту удивительно молодой и привлекательной. — Какие у тебя красивые руки, Стюарт, сильные, смуглые, — заметила Рода и тут же, перебив сама себя, перешла на заговорщический тон. — Впрочем, не для того я приехала во Франклин-холл, чтобы говорить о твоих руках. На днях я видела Доротею. Мы с ней делали кое-какие покупки для ее приданого, и она рассказала мне, что у тебя вышло с отцом. Он, видно, совсем тебя не понимает. — Рода остановилась, заметив легкую тень, промелькнувшую в глазах Стюарта. — Я ведь его хорошо знаю, твоего отца. Мы выросли вместе, можно было за это время изучить человека. Стюарт усмехнулся. — Да, старик у меня серьезный. — Дома он никогда бы не посмел назвать отца «стариком». — Но я знаю, что он желает мне добра. Рода Уоллин любовалась его тонкой, стройной фигурой. «Красивый мальчик», — решила она. — Вот что, Стюарт, — заговорила она с присущим ей экспансивным пылом. — Мне хочется, чтобы мы с тобой стали друзьями, для этого я сюда и приехала. Ведь мы же близкая родня. Я горячо люблю твоего отца и твою мать. Мало того, я отношусь к ним с величайшим уважением. Солон Барнс — достойнейший из людей, а Бенишия — самая нежная и преданная мать на свете. Но вместе с тем — пойми меня правильно, мальчик, — оба они чуть-чуть старомодны. А главное, чересчур уж набожны. Барнсы и Уоллины всегда были непримиримы в вопросах религии и долга. Они так строго придерживались квакерских правил, что в конце концов в них не осталось почти ничего человеческого. Мы с доктором составляем исключение. Я ничего не хочу сказать дурного о квакерах. Напротив, они мне очень симпатичны. Если б можно было жить по квакерским заветам и в то же время занимать то положение в обществе, которое я занимаю, я бы непременно так и жила. Но это невозможно, Стюарт. И не только для меня. Это вообще невозможно. Если отказаться от музыки, танцев, не читать книг, не ходить в театры и кино — как же тогда существовать на свете? Просто немыслимо. Стюарт ничего не говорил, но по выражению его глаз было видно, что он вполне согласен с нею. — Есть тысячи людей, таких же добрых и хороших, которые вовсе не считают все это греховным. И мне кажется, в глубине души твой отец и сам так не думает. Не может он так думать. Он просто не хочет отступать от традиции. Нас с доктором осуждают в семье за чрезмерную светскость, но я всегда находила, что вас, детей, несправедливо лишают причитающейся вам доли радостей, которыми так богата жизнь. Зачем отнимать у молодых молодость? Вот мы с доктором живем одни, без детей, дом у нас большой, а из-за нелепых старомодных предрассудков вы у нас уже сколько лет не бываете. Разве это не глупо? — Но ведь Доротея часто ездила к вам и, кажется, неплохо проводила время, — улыбаясь, заметил Стюарт. — Ах да, Доротея. Как это чудесно, что она выходит за Сатро Корта, правда? Но ведь ты знаешь, мне пришлось чуть ли не похитить ее из пансиона. Мне бы так хотелось всем вам помочь. Мне бы хотелось, чтобы наш дом в Нью-Брансуике стал для вас вторым родным домом. Не знаю, как Айсобел, она ведь очень долго воспитывалась по старинке, и ей у нас может не понравиться. Но вы с Доротеей должны приезжать как можно чаще. — Этту она бессознательно пропустила. — Будете веселиться, встречаться с людьми, это вас развлечет. Обязательно приезжай на следующей же неделе, с Доротеей или один, как выйдет; с родителями я сговорюсь и со здешней администрацией тоже. — Ой, тетя Рода, это вы здорово придумали! Я ведь почти нигде не бываю и с большим удовольствием приеду к вам в гости. — Он вдруг замялся, потом, встретив ее вопросительный взгляд, вымолвил почти умоляюще: — Если бы вы согласились помочь мне в одном деле… Она ласково положила ему руку на плечо, словно ободряя его. Но он в замешательстве вертел в руках биту, не решаясь договорить. Потом взъерошил волосы и наконец, набравшись духу, выпалил: — Мне в будущую субботу хотелось бы поехать в гости к Дженнингсам — вы их, верно, знаете. Но я боюсь спрашивать у старика разрешения. Может, если я скажу, что еду к вам… — Ну, конечно, конечно! Я знакома с Дженнингсами и охотно помогу тебе. Знаешь что, Стюарт, — внезапно воодушевилась Рода, — едем сейчас со мной, мы вместе пообедаем где-нибудь в Филадельфии и все обсудим. Как ты думаешь, отпустят тебя? — Если вы попросите, тетя Рода, наверно, отпустят. Я уверен, что вы все можете. И она оправдала это лестное мнение — тут же добилась разрешения увезти Стюарта на прогулку с условием, что доставит его обратно не позднее девяти часов вечера. Десять минут спустя Стюарт, наспех переодевшись в свой лучший костюм, уже сидел рядом с нею в автомобиле, плавно мчавшемся к городу. Всю дорогу он внимательно прислушивался к каждому ее замечанию, чувствуя, что в лице этой оригинальной тетушки неожиданно приобрел сильную союзницу, которая может чрезвычайно пригодиться ему не только сейчас, но и в будущем. Отвечая на ее расспросы, он невольно коснулся своих денежных затруднений, и она выслушала его с сочувственным интересом. Они возвратились во Франклин-холл за несколько минут до девяти. Прощаясь, Рода сунула племяннику в руку тоненькую пачку бумажек. У себя в комнате он торопливо пересчитал их — к его изумлению, в пачке оказалось шесть пятидолларовых кредиток. Тридцать долларов! Он возликовал: теперь нечего беспокоиться насчет субботней эскапады — все уладилось как нельзя лучше.Глава 53
И вот долгожданная суббота наступила. Своих домашних Стюарт известил, что проведет конец недели у Роды, благо она заранее дала ему на это согласие. Сразу же после уроков он, Виктор Брудж и молодой Дженнингс отправились в Честер, где жили родители Дженнингса, с тем чтобы оттуда, уже на автомобиле, ехать в Уилмингтон. На Уилмингтоне настоял Брудж, уверявший, что у него там есть знакомые хорошенькие девушки, которых можно будет пригласить покататься. Стюарт был сам не свой от волнения. Даже денежная проблема благодаря щедрости тети Роды разрешилась для него благополучно. Наконец-то он может сказать: «Не беспокойтесь, я заплачу!» или: «Сегодня я угощаю!» Это сразу возвысило его в собственных глазах. Автомобиль Дженнингса — мощная открытая машина туристского типа — стремглав мчался к Уилмингтону, заставляя лошадей и кур шарахаться в стороны, пугая собак, отчаянно лаявших вслед, и вздымая облака пыли. Тогда еще правила движения были не столь строги, как в наше время, и Дженнингс развивал такую скорость, что Стюарт то и дело вскрикивал от восторга. Он наслаждался вовсю. Как бы это уговорить отца купить автомобиль! Он представил себя за рулем; уж, наверно, он сумел бы справляться не хуже Лестера Дженнингса, а может быть, и лучше. Они влетели в Уилмингтон и остановились у дома, который им указал Брудж. Он позвонил, был впущен и через несколько минут появился снова в сопровождении белокурой девицы в синем с белым вязаном джемпере и белой шапочке. — Рекомендую, друзья, — одна из моих приятельниц, о которых я вам говорил. Мисс Этель де Фреммери собственной персоной, — торжественно объявил Брудж, подсаживая девушку на заднее сиденье, рядом со Стюартом. — Здравствуйте, здравствуйте! — восклицала она, улыбаясь всем по очереди. — Это чья машина? Ваша? Вот счастливец! По дороге к дому ее подруги, тоже знакомой Бруджа, девушка повернулась к Стюарту и с любопытством принялась рассматривать его своими блестящими голубыми глазами. — Ах, и шевелюра же у вас! — сказала она. Стюарт дернул свисавшую на лоб белокурую прядь. — Вам нравятся мои золотые кудри? Хотите поделюсь? — Нет, спасибо, мне со своими возни хватает! Майра Темпл, подруга Этель, оказалась в противоположность ей миловидной брюнеткой. Она предложила прихватить еще третью приятельницу, Жоржетту Гилмен, тоже брюнетку и тоже хорошенькую, что было встречено общим одобрением. Все три девушки состояли членами школьного женского клуба, и в разговоре выяснилось, что как раз сегодня одна их подружка по клубу устраивает у себя вечеринку с танцами, и молодые люди могут получить туда приглашение, если хотят. — Очень даже хотим! — вскричал Дженнингс, заметно оживившийся от соседства черненькой Гилмен, сидевшей с ним рядом. — Да, вам-то хорошо, — сказал Стюарт, — а я что буду делать? Ведь я же не танцую. — Нет, вы слыхали? — воскликнула Этель, которой явно нравился Стюарт. — Он не танцует! — Ах, бедненький! — отозвалась с переднего сиденья Жоржетта. — Ну ничего, как-нибудь поможем. — Давно пора выучиться, балда этакая, — весело вставил Брудж. — Девушки, вы бы поучили его. — Ну что ж, — поспешила согласиться Этель и, теснее прижавшись к Стюарту, прибавила: — Тут ничего мудреного нет. Я вас в два счета научу. Перспектива столь приятным способом постигнуть это соблазнительное искусство привела Стюарта в восторг. Они уже выехали за город, и под колесами машины шуршала опавшая листва. Рука Этель очутилась в его руке, и девушка не делала попыток ее высвободить. Проезжая через какой-то маленький городок, они остановились выпить горячего шоколаду, а потом в мягких октябрьских сумерках покатили обратно, довольные и веселые. Девушек развезли по домам, чтобы они успели переодеться к вечеринке. Условились, что мальчики будут ждать их у Этель, взявшейся за это время научить Стюарта танцевать. В какой-нибудь час, под руководством Этель, а позднее — Майры и Жоржетты, Стюарт с грехом пополам одолел па вальса и тустепа, во всяком случае настолько, что каждая из трех девушек соглашалась пройтись с ним разок по залу. Стюарт был в восторге от собственных успехов, однако, услышав, что пора отправляться, он немного струсил. Когда они подъехали к дому мисс Дороти Прендергаст — «очень славной девушки», по отзыву Этель, — вечеринка была в полном разгаре. Десятка два девиц и юнцов с увлечением отплясывали под звуки граммофона. Девушки почти все были похожи друг на друга — бойкие, кокетливые, подзадориваемые чувственным любопытством, как раз во вкусе Дженнингса и Стюарта; Бруджа уже тянуло к особам более искушенным. Многие были одеты в длинные вечерние платья. Стюарт жадно рассматривал их, всем своим существом подчиняясь тому властному ритму жизни, который только в молодости ощущаешь по-настоящему. Брудж чувствовал себя здесь своим и живо перезнакомил гостей друг с другом. Все это были сынки и дочери зажиточных родителей, и родство Стюарта с уилмингтонской ветвью известной фамилии Уоллинов послужило ему хорошей рекомендацией. Девушки, плененные его красивой наружностью, расточали ему обворожительные улыбки; только одна, стройная, немного надменная блондинка, осталась, видимо, нечувствительной к его чарам. Позже, однако, он вдруг поймал на себе ее неотрывный пристальный взгляд; он удивился и, улучив удобную минуту, подошел к ней. — Можно вас пригласить на следующий танец? — храбро спросил он. — Я, правда, танцую довольно плохо, но… Олив Риттер была одной из тех избалованных вниманием девушек, которые говорят вслух все, что думают, и не терпят, когда их гладят против шерстки. — Вы в самом деле хотите со мной танцевать? — переспросила она довольно язвительным тоном. — До сих пор вы танцевали со всеми, кроме меня. Я решила, что я вам не нравлюсь. Стюарт покраснел от тщеславного удовольствия. Он едва поверил своим ушам. Такая соблазнительная девушка и так явно им интересуется. — Я ведь вас предупреждал, что танцую плохо, — извинился он, сбившись с такта и едва не наступив ей на ногу. — Я только сегодня выучился. — Кто же это вас учил? Этель де Фреммери? — И она, и мисс Темпл, и мисс Гилмен. — Не много ли учительниц на одного ученика! Вы что, давно с ними знакомы? — Только сегодня познакомился. — Но ведь вы приехали сюда с Этель де Фреммери? — Мы приехали целой компанией, — сухо возразил Стюарт. — И я вовсе не состою при мисс де Фреммери. Я ее до сегодняшнего вечера и в глаза не видал. Выходило, что иметь дело с девушками не так-то просто. Встает вопрос о верности, о постоянстве симпатий, а Стюарт вовсе не был склонен ни к тому, ни к другому. Олив Риттер, видимо, не любила Этель и хотела отбить у Стюарта интерес к ней. — Вы часто бываете в Уилмингтоне? — спросила она. — Теперь буду часто бывать. — Ради Этель? — Нет, ради кого-то другого, — не задумываясь, ответил он. — Вы, я вижу, привыкли флиртовать направо и налево! — воскликнула она. Стюарт состроил мину оскорбленной невинности. — Я? Вот уж нет. И потом с кем тут флиртовать? Все эти девушки вам в подметки не годятся. Олив Риттер презрительно рассмеялась. — Честное слово, — подтвердил Стюарт. — Уж не воображаете ли вы, что я вам поверю, мистер Барнс? — насмешливо сказала она, продолжая кружиться с ним в танце. — Но вы позволите мне иногда навещать вас? Она пытливо посмотрела на него, словно обдумывая его вопрос, потом сказала с язвительностью: — Не лучше ли вам сосредоточить свое внимание на Этель де Фреммери? — Ну что ж, — с напускной небрежностью сказал Стюарт. — Если вы на этом настаиваете… Его самолюбие было задето. — Ну, ладно, не дурите! — Она решила не упрямиться больше и заговорила другим тоном: — Вы мне напишите, я подумаю и отвечу вам. — Ничего подобного! Отвечайте сейчас же! Хотите, чтобы я приехал навестить вас, или не хотите? — Хочу, но… Я сама вам напишу когда. Какой ваш адрес? — Франклин-холл, — сказал он, чувствуя себя хозяином положения и наслаждаясь этим новым для него чувством. — А ваш какой? — Пейн-стрит, номер две тысячи двадцать, — ответила она почти покорно. После танца он отвел ее на место и удалился, высоко держа голову. Вот как нужно обращаться с девушками! Не давать им никаких поблажек! Все это время Этель ревниво следила за Стюартом. — Вам, кажется, очень понравилась мисс Риттер? — ехидно начала она, когда он подошел к ней. — Ничего девушка, — свысока уронил Стюарт. — А кто она такая, между прочим? Он еще не освоился в новой для него роли светского волокиты и потому не знал, что когда говорить. — По-моему, у ее отца кондитерская лавчонка, — сказала Этель, горя желанием принизить соперницу — на самом деле отец Олив Риттер был владельцем кондитерской фабрики. Пренебрежительный тон Этель не укрылся от Стюарта. Но он с детства был приучен считать, что все люди равны перед богом, и потому ее замечание, вместо того чтобы понизить шансы Олив Риттер, представило в невыгодном свете самое Этель де Фреммери. Тем не менее Стюарт решил «приручить» Этель. Ему нравилось, что две девушки готовы передраться из-за него. Да они у него все по ниточке ходить будут. Дайте только срок и денег побольше.Глава 54
Дружба между тремя мальчиками все крепла, и Брудж с Дженнингсом уже привыкли смотреть на Стюарта, как на непременного участника всех их похождений. В Уилмингтоне он оказался настоящим героем дня; в нем было что-то, что очень нравилось девушкам. Ободренные успехом уилмингтонской затеи, друзья решили повторить опыт, но уже в другом месте и с другими партнершами. Впрочем, Стюарт слушал разговоры об этом без воодушевления. Для таких авантюр нужны были прежде всего деньги, а денег неоткуда было взять. — Как ты думаешь, Лес, когда тебе удастся снова получить машину? — спросил как-то Брудж, недели через три после поездки в Уилмингтон. — Когда? — Дженнингс на минуту задумался. — В эту субботу едва ли, а вот в следующую, я думаю, можно будет. — А что, если нам прихватить тех двух девиц из Филадельфии, с которыми мы познакомились прошлым летом? Помнишь, Лес? — Еще бы не помнить! Стюарту, наверно, понравится Психея Тэнзер, как, по-твоему, Брудж? — Пожалуй, ему больше понравится Рэй Паттерсон, — сказал Брудж. — Помнишь, как она непременно хотела ночевать в парке? При одном воспоминании Брудж прыснул со смеху. Стюарт навострил уши. Разговор становился интересным. — Да, но ведь их только две, — сказал Дженнингс, заботясь о Стюарте. — Неужели у них не найдется какой-нибудь подруги? Надо будет сказать Психее, она все устроит, — возразил Брудж. Тут Стюарт решил, что нужно высказаться начистоту. — Вот что, ребята, — сказал он. — У меня нет денег. Мой старик проверяет каждый цент, который я трачу, а просить опять у тетки мне неохота. — Об этом можешь не беспокоиться; мы тебя выручим, — сказал Дженнингс с видом человека, у которого широкая натура. — Так, значит решено: в будущую субботу едем, и ты, Стюарт, с нами, — тоном, не допускающим возражений, заявил Брудж. — Вот увидишь, с какими мы тебя познакомим девицами. «Девиц», о которых шла речь, Психею Тэнзер и Рэй Паттерсон, Брудж и Дженнингс встретили как-то минувшим летом в одном из увеселительных парков Филадельфии. Психея была высокая тоненькая шатенка с мальчишескими ухватками, миловидная, привлекательная, но на редкость легкомысленная. У нее начисто отсутствовало чувство реальности и меры вещей. Отец ее был плотником; мать, опустившаяся, неряшливая женщина, очень мало интересовалась тем, что делают ее дети. Почти все свое свободное время она занималась чтением душещипательных романов; вероятно, и дочь получила свое мудреное имя в честь одной из книжных героинь — другое объяснение трудно было подобрать. Семья ютилась в плохонькой квартирке в Кенсингтонском районе Филадельфии и влачила довольно жалкое существование, усугублявшееся еще тем, что «сам» пил запоем. Обе дочери: Психея, которой едва исполнилось семнадцать, и ее тринадцатилетняя сестра в качестве основного развлечения проводили целые вечера на улице, наблюдая уличные нравы и переругиваясь с теми из соседских мальчишек, у кого хватало смелости задирать их. Летом они ходили гулять в увеселительные парки, которых в городе было несколько. О том, чтобы работать, Психея и слышать не хотела. «А что там заработаешь — грош!» — говорила она, и, поскольку она ничего не умела, это была правда. Рэй Паттерсон выросла примерно в такой же обстановке, но, будучи от природы более практического склада, предпочла поступить на службу. Она работала продавщицей в универсальном магазине. Смуглая, стройная, с кокетливым и в то же время мечтательным выражением лица, она не отличалась особым умом. Отец ее промышлял тем, что малевал вывески, до по большей части сидел без работы. Дженнингс и Брудж натолкнулись на них у каруселей в Фермаунт-парке. Они стояли и грызли поджаренные кукурузные зерна. Мальчики давно уже бродили по парку, томимые жаждой приключений. До сих пор у них не было таких знакомых, с которыми можно было позволить себе мало-мальски фамильярное обращение; но считалось, что девушки из бедных семей проще смотрят на вещи, и потому, увидя Психею и Рэй, приятели решили попытать счастья. — Не хотите ли прокатиться на каруселях, девушки? — предложил Брудж. — Конечно, хотим! — откликнулась Психея, более разбитная и решительная, чем ее подруга. Все четверо уселись и сделали несколько кругов. Потом катались на чертовом колесе и на русских горах. Видя, что их новые знакомые не стесняются в деньгах, девушки становились все благосклоннее. Психея сразу же выбрала Бруджа, а Рэй Паттерсон занялась Дженнингсом. Чтобы достойно завершить веселый вечер, отправились на танцевальную площадку и танцевали до самого закрытия. Уже после двенадцати, когда они шли к трамвайной остановке, Рэй вдруг предложила остаться в парке до утра. Это было именно то, о чем оба мальчика все время мечтали; но теперь, когда дошло до дела, у них не хватило смелости осуществить свои мечты. Однако они еще не раз в течение лета встречались с обеими подругами и проводили вечера, похожие на тот, первый вечер. Ни Рэй, ни Психея не были девушками — обеих давно уже испортили соседские юнцы; но все же отношения дальше не пошли, страхи и сомнения Бруджа и Дженнингса этому помешали. Сейчас, однако, вспомнив прошлогоднее знакомство, мальчики решили, что лучших спутниц для веселой субботней прогулки и желать нечего. Брудж, не откладывая, разыскал Психею Тэнзер, и когда он попросил ее прихватить еще девушку для ровного счета, она тут же предложила Аду Морер, дочку рабочего с ковровой фабрики. Ада, по ее словам, чудно подходила к их компании. Стюарт не видел этих девушек вплоть до той субботы, когда Дженнингсу представился случай взять отцовский автомобиль и все шестеро сошлись в условленный час у вокзала Брод-стрит, а увидев, сразу понял, что родители ни за что на свете не позволили бы ему водить с ними знакомство. Впрочем, от этого они не стали для него менее привлекательными. Ада Морер была аппетитная толстушка, веселая и приветливая, с целой шапкой вьющихся черных волос. Стюарт предпочел бы Психею, которая показалась ему самой хорошенькой; но Брудж первый подхватил ее под руку и уселся рядом с ней на заднем сиденье машины. Они на пароме переправились через реку и понеслись по направлению к Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Как только город остался позади, Дженнингс, увлекшись, дал полный газ. — Ты что, с ума сошел? — закричал Стюарт. — Хочешь, чтоб у меня ветром голову снесло! Ада, сидевшая рядом с ним, достала из сумочки зеркальце и несколько головных шпилек. — Ничего, — отозвался Дженнингс через плечо своей соседки, Рэй Паттерсон. — Если кто из вас очень уж замерзнет, подайте голос, мы тогда остановимся где-нибудь погреться. День был прохладный, и на горизонте собирались серые тучи, предвещавшие снег. — Ну вот еще, — сказала Психея, тесней прижимаясь к Бруджу. — Мне так никакой холод не страшен. Я бы, кажется, век не вылезала из этой машины! И она засмеялась от удовольствия. Стюарт, с интересом смотревший, как Ада подбирает и закалывает шпильками растрепавшиеся на ветру волосы, придвинулся к ней поближе. — Не найдется ли у вас и для меня штучек двух-трех? — спросил он. Она посмотрела на него взглядом, который говорил, что ей нравятся его глаза, волосы, голос — все в нем. — Может быть, и найдется. А больше вам ничего не нужно? Пудры, например? — Нет, но если у вас есть рожок для обуви, английская булавка или гребень, — сказал он, — давайте их сюда, я тоже буду приводить себя в порядок. Все дружно захохотали, как будто он сказал нечто в высшей степени остроумное. Машина неслась теперь по открытой, плоской равнине, кое-где поросшей по-осеннему голым дубняком и зелеными сосенками, среди которых стояли выбеленные или просто бревенчатые дома. Почва кругом была песчаная. Стюарт и Брудж предложили не делать остановки для обеда, чтобы засветло добраться до Атлантик-Сити. Стюарту не терпелось поскорей увидеть океан, которого он никогда не видал. — Рэй меня всегда ругает за то, что я долго собираюсь, — ни с того ни с сего пожаловалась вдруг Ада Стюарту. — Она говорит, что я вечно всюду опаздываю, а ведь вот не опоздала же я сегодня, правда? — Ну, это в виде исключения, — откликнулась Рэй, сидевшая впереди. — Помнишь, в позапрошлое воскресенье? — А что вы такое делали в позапрошлое воскресенье, девушки? — полюбопытствовал Брудж. — Не твое дело, что мы делали, сынок, — покровительственным тоном сказала Психея: — Маленьким мальчикам о таких вещах знать не полагается. — А я знаю! — понимающе хихикнул Брудж. — Ты ведь тоже знаешь, Дженнингс? — Могу себе представить, — подтвердил Дженнингс. — А ну-ка, скажите, чтó, если вы такие догадливые! Ада явно наслаждалась оборотом, который принял разговор. — Да уж знаем, не беспокойтесь, — посмеивался Брудж. Стюарт посмотрел на Аду; ее, видимо, ничуть не смущали эти намеки на что-то особенное и, может быть, даже недозволенное в их поведении. А Психея в ответ на последнее замечание Бруджа даже рассмеялась многозначительным, смущающим смехом. Как и в прошлый раз, они мчались с головокружительной быстротой, распугивая встречных кур, приводя в бесплодную ярость собак, возмущая фермеров и прохожих к полному своему удовольствию. — Как хорошо! — Ада раскинула руки в стороны и шумно вдыхала воздух. Психея льнула к плечу Бруджа. Десятка за полтора миль до Атлантик-Сити они въехали в густую сосновую рощу. Здесь не чувствовалось ветра, и деревья, расступаясь в обе стороны от дороги, устлали землю плотным покровом из хвойных игл. Дальше дорога шла берегом речки, поросшим осокой и камышом. И, наконец, проехав довольно ухабистый участок пути, они вырвались на опушку, и впереди засинела узкая, длинная полоса залива. Стюарт был вне себя от восторга. — Это океан? — спрашивал он, озираясь по сторонам. К тому времени среди них уже создалась та интимная атмосфера, которая естественно сближает молодых людей этих лет и склонностей. Брудж и Дженнингс по своему прошлогоднему опыту были вполне уверены, что им легко будет добиться от Рэй и Психеи согласия на большее. Именно это и было сейчас у обоих на уме. Как только они очутились снова в зарослях сосняка, тянувшихся по берегу этого уединенного залива, Дженнингс по уговору с Рэй Паттерсон остановил автомобиль, заявив, что спустил баллон. Брудж сразу понял намек и, выйдя из машины, вместе с Психеей направился к берегу. Стюарт, чувствуя благорасположение Ады, тоже мало-помалу осмелел. Еще в машине он обнял ее за талию, потом рука его, словно бы невзначай, скользнула выше, к ее груди, и не встретила сопротивления. Сейчас они оба тоже вышли из машины, и Ада побежала вперед. Вдруг она остановилась, поджидая его. — Дайте мне ножик, — попросила она. — Я хочу вырезать на дереве свои инициалы. — А что мне за это будет? — спросил он, не вынимая руки из кармана. — А чего бы вы хотели? — она подняла на него притворно наивный взгляд. — Я вам сейчас покажу, — сказал он. — Закройте глаза и не открывайте, пока я не сосчитаю до трех. Она зажмурилась, но как только его губы коснулись ее губ, она открыла глаза и оттолкнула его. В ответ на это он схватил ее в объятия. — Осторожнее, — сказала она вполголоса. — Нас могут увидеть. Не надо… — Почему не надо? Разве тебе неприятно? — Не балуйтесь, Стюарт, пустите меня. Она оторвала его руки, но неторопливо и без злости. — Не могу. Ты слишком мила. Он снова обнял ее, но на этот раз сзади, и через плечо заглянул ей в лицо. — Говорят вам, осторожнее! — сказала она, но вырываться не стала. В Стюарте все ходило ходуном. Хвастливые рассказы Бруджа и Дженнингса об одержанных победах распалили его воображение. Он был точно неоперившийся птенец, который видит, как летают другие, и ему тоже не терпится расправить крылья и полететь. Он мучительно хотел обладать этой девушкой, не из любви к ней — никакой любви не было, — но потому, что стремился утолить сжигавшую его чувственную жажду. Красота, извечная загадка женского начала на земле, ключ к которой скрыт в магии линий, форм, красок, отравила его своим ядом. У него закружилась голова: то, что другого, более робкого юношу смутило бы и отпугнуло, ему лишь придало действенную, магнетическую силу. И такая легкомысленная девушка, как Ада, неминуемо должна была подчиниться этой силе. Но сейчас Ада, казалось, думала только о том, как бы отвлечь его мысли в другую сторону. — Вы обратили внимание, какие красивые глаза у Рэй? — спросила она. — У тебя красивее. — Ой, Стюарт, перестаньте! Ну, право же! Лучше скажите, ведь, наверное, у вас там по соседству есть немало хорошеньких девушек? Почему вы их не приглашаете кататься? Она улыбнулась манящей улыбкой. — Потому что все они хуже тебя. Она коротко хихикнула. — Куда это запропастились остальные? Пойдемте посмотрим; они, наверно, гуляют за тем забором. — А на что они нам нужны? — Он нагнал ее и снова обнял за талию. — Гуляют и пусть гуляют. — Да, а вдруг они нас не дождутся и уедут? — Не уедут! Им, верно, сейчас вовсе не до нас. Эта догадка очень рассмешила Аду. — А если мы им понадобимся, они нас кликнут, — заключил Стюарт. Они подошли к деревянному забору, разделявшему два участка земли на самом берегу, и заглянули на ту сторону. Силуэты Бруджа и Психеи, удаляясь, мелькали вдалеке. Забор был невысокий, и Стюарт без труда перемахнул через него. — Иди сюда, — сказал он Аде. — Я тебе помогу перелезть. — А мы не заблудимся, Стюарт? Тише! Никого не слышно? — Ни души! — он приложил руку к уху. — Нат Пинкертон, знаменитый сыщик! — Потом он повернулся к ней и схватил ее за обе руки. — Ну, давай. Ставь ногу на перекладину, а дальше уж мое дело. Она повиновалась, и на мгновение перед ним мелькнул край чего-то розового, шелкового, с кружевной оторочкой. — Ну, раз, два, три! Он крепко обхватил ее обеими руками и приподнял. Его щека пришлась у самой ее щеки. Он усадил ее на верхнюю перекладину и не отпускал. Теперь его руки лежали у нее на бедрах. — Ну? — сказала она вопросительно. — Ну? — ответил он, глядя ей прямо в глаза, и, подняв одну руку, погладил ее по шее, потом по щеке. — Ну? — повторила она, и на этот раз в тоне ее прозвучало ожидание. Он притянул к себе ее лицо и прижался губами к ее губам. Она не отстранялась, и на мгновение они замерли. Потом она потихоньку высвободилась. — Осторожнее, — прошептала она. — Отпусти меня. Кто-нибудь может увидеть. Он снял ее с забора, но лишь для того, чтобы уложить на кучу опавших листьев, темневшую рядом. Первые редкие снежинки, медленно кружась в воздухе, падали на землю. — Нет, нет, Стюарт, не надо… нехорошо… — Ты прелесть, — прошептал он. Так совершилось его посвящение в тайну жизни.Глава 55
Если раньше интересы Стюарта вертелись вокруг любовных отношений, то теперь, после близости с Адой Морер, он больше ни о чем думать не мог. Но бесхитростного кокетства Ады было недостаточно, чтобы заполонить его целиком, и его распаленному воображению уже мерещились новые и новые победы. Наконец-то мир раскрывается перед ним во всем своем блеске. Возможности приятных встреч представлялись на каждом шагу — в поездах, в ресторанах, на станциях железной дороги и просто на улицах; всюду было полно соблазнительных девушек, ничего не имевших против того, чтобы молодой человек выказал им надлежащее внимание. И Стюарт быстро приучался действовать на собственный страх и риск, без помощи и поддержки Бруджа или Дженнингса. С той памятной поездки в Атлантик-Сити Рэй Паттерсон сделалась «девушкой Дженнингса»; теперь он почти каждую субботу ездил с ней кататься на машине. Брудж, не знавший тех денежных затруднений, которые мучили Стюарта, то и дело похвалялся новыми знакомствами. Но при этом ему по-прежнему не давали покоя золотистые локоны и длинные ноги Психеи Тэнзер, и он продолжал встречаться с ней, хотя по каким-то непонятным соображениям она отклоняла все его домогательства. И Брудж и Дженнингс пользовались дома полной свободой и могли проводить субботу и воскресенье как им вздумается. Как-то в одну из суббот Стюарту снова удалось примкнуть к их компании. В обществе все тех же трех девушек они неслись на машине Дженнингса среди полей, над которыми сгущался вечерний сумрак, пронизанный тревожным ощущением надвигающейся метели. В Филадельфию вернулись уже поздно вечером, с шиком пообедали в модном ресторанчике в деловой части города, затем развезли девушек но домам и расстались в самом лучшем настроении; юноши были довольны своими успехами у девиц, а девицы полны признательности за это кратковременное приобщение к миру, который так отличался от того мира, в котором они жили. На следующий день, в воскресенье, Стюарт и Ада условились снова встретиться в городе. Но Стюарт истратил накануне все свои деньги и потому не мог предложить ей ничего, кроме скромного чая в кондитерской, после чего они сели на трамвай и поехали в парк. Там, в укромном дальнем уголке, она снова отдалась ему, и восторг, который он при этом испытал, заставил его потом ломать голову над тем, как устроить, чтобы им встречаться чаще и в более подходящей обстановке. Ведь на автомобиль Дженнингса не всегда можно было рассчитывать, а кроме того, ему хотелось быть с Адой вдвоем. Но где достать деньги, которые для этого необходимы? И так уже он порядочно задолжал Дженнингсу, а просить у отца — значило подвергать себя бесконечным расспросам и нравоучениям, которых Стюарт боялся больше всего на свете. Попросить у матери? Но она сейчас же скажет отцу, а кроме того, такая необычная просьба встревожит ее. Оставалось только одно: обратиться к тетушке Роде. Но он уже не раз перехватывал у нее по нескольку долларов, и в общем это, вероятно, составляло около сотни. А своего обещания приехать как-нибудь на конец недели в Брансуик он так до сих пор и не сдержал. Получив разрешение на поездку к Роде, он предпочитал под этим предлогом улизнуть из школы для встречи с Адой. Не придумав никакого выхода, Стюарт решил в ближайшую субботу съездить домой. Может быть, все-таки удастся выпросить или занять такую сумму, которая позволит ему не отказываться от удовольствий. На билет до Даклы пришлось истратить последние гроши, но он все-таки поехал. Дома Стюарт застал Орвила, приехавшего навестить родителей, что он исправно выполнял через определенные промежутки времени. У Стюарта мелькнула было мысль попросить у брата взаймы, но, представив себе, как тот станет выматывать у него душу подробным допросом, он отказался от этой мысли. Вечером, ломая голову над своей задачей, Стюарт рассеянно бродил по дому. В гостиной ему на глаза попался кошелек матери, лежавший на ее рабочем столике, и он не мог устоять против искушения раскрыть его и заглянуть внутрь. Слово «воровство» не приходило ему в голову; его родители были богатые люди, и он считал, что они не по праву урезывают его в карманных деньгах. При виде раскрытого кошелька мысль о лишениях, на которые он обречен, сделалась невыносимой. Он подумал, что мать даже не хватится, если он возьмет несколько долларов: она равнодушна к деньгам и никогда их не пересчитывает. Он заколебался, но только на одно мгновение, потом решительно вытянул из кошелька две бумажки, в пять и в десять долларов, и бросился бежать. Теперь у него было чем заплатить Дженнингсу долг и еще оставалось пять долларов на расходы до следующей субботы. К сожалению, это не разрешало проблемы. Чтобы снова встретиться с Адой Морер, нужны были деньги на дорогу, на угощение, и пяти долларов хватить не могло. Наутро, проходя мимо комнаты старшего брата, Стюарт заметил его брюки, висевшие на спинке стула. В комнате никого не было, но из соседней ванной доносился плеск воды. Всего несколько секунд потребовалось Стюарту, чтобы войти в комнату, обшарить карманы брюк, достать бумажник и вынуть из него десятидолларовый кредитный билет. Потом, боясь, как бы у него случайно не обнаружили этих денег, он засунул их на полку стенного шкафа, под груду старых газет, рассчитывая достать их вечером, когда придет время возвращаться во Франклин-холл. Но даже эти предосторожности ни разу не заставили его подумать, что он совершает преступление. Напротив, он даже повеселел от того, что все так удачно складывалось. Правда, к этому примешивалось некоторое чувство досады на отца, который не умеет понять его желаний и потребностей и тем вынуждает его прибегать к таким крайним мерам. Ну что стоило бы положить ему приличные карманные. У Айсобел, Доротеи и Этты есть свои деньги, завещанные им тетушкой Эстер. У Орвила выгодная, необременительная служба и богатая жена. Все они устроены лучше его, а между тем вкус к жизненным удовольствиям у него гораздо сильнее. В одной только Этте есть что-то общее с ним. Надо будет как-нибудь съездить к ней в Нью-Йорк. Она, пожалуй, сумеет понять его, может быть даже лучше тети Роды. Спустя две недели, в следующий свой приезд домой, он снова стащил деньги у матери из кошелька. Ничего другого он не мог придумать. В утешение себе он рассуждал так: ведь это его родная мать, и потому взять у нее совсем не то, что взять у кого-нибудь другого. Кроме того, в письмах к отцу он то и дело просил прислать денег «на непредвиденные расходы». Но тут нужно было соблюдать большую осторожность, потому что каждую просьбу Солон изучал весьма тщательно. И страх, что отец потребует от него отчета, до того давил на его сознание, что ему легче было украсть, чем лишний раз обратиться к отцу. Как-то раз, войдя зачем-то в комнату Дженнингса, он заметил в выдвинутом ящике стола кучку долларовых бумажек и немного мелочи. И сразу же у него мелькнула мысль, что такой беспечный мот, как Дженнингс, едва ли заметит исчезновение нескольких долларов. В тот же день, улучив минуту, когда Дженнингса не было, он вошел к нему в комнату и взял из ящика три доллара. На следующее утро Дженнингс сказал: — Знаешь, Стюарт, у нас тут завелся воришка. У тебя ни разу не пропадали деньги? — Нет, — ответил Стюарт, сделав удивленное лицо. — Ну пусть только попадется мне, я с ним разделаюсь, кто бы он ни был! А пока что надо будет пожаловаться декану. Жалоба была принесена, но разумеется, ни к чему не привела — если не считать того, что Стюарт больше не отваживался воровать в школе. Но его жажда иной, более привольной жизни все обострялась, а между тем Солон, удрученный мыслями об Этте и встревоженный отставанием Стюарта в ученье и его постоянными просьбами о деньгах, все суровее и строже относился к членам своей семьи.Глава 56
Между тем возникли новые и весьма щекотливые обстоятельства, чрезвычайно осложнившие положение Солона в Торгово-строительном банке. По тогдашним законам, всякий банк имел право выдавать ссуды на сумму, не превышающую семидесяти пяти процентов имевшихся в его распоряжении средств, считая как основной капитал, так и деньги вкладчиков. Причем одному юридическому лицу могло быть предоставлено в виде ссуды не более десяти процентов дозволенной суммы. Однако банки ухитрялись обходить закон: создавались фиктивные компании, которые получали ссуду в установленном размере и затем передавали деньги предприятиям или отдельным лицам, уже исчерпавшим свой лимит. Это, разумеется, было нечестно, и банковские дельцы старого закала смотрели на такие вещи неодобрительно. Но тем не менее это практиковалось, хотя были случаи, когда мошенничество оказывалось раскрытым и виновные даже попадали за тюремную решетку. Многие банкиры считали себя вправе руководствоваться при определении размера ссуды собственными соображениями, особенно если дело касалось хорошо знакомых им людей или же компаний с установившейся финансовой репутацией. Солидному ссудополучателю достаточно было падать заявление за своей подписью. Любой из старших служащих банка мог оформить ссуду, то есть дать распоряжение о том, чтобы тому или иному постоянному клиенту была выписана требуемая сумма, а на очередном заседании правления это распоряжение утверждалось. Так, иногда правление Торгово-строительного банка за каких-нибудь три четверти часа успевало утвердить до сотни ссуд, выданных по распоряжению Сэйблуорса, Эверарда или Барнса. Там, где речь шла о небольших суммах, достаточно бывало одного слова или кивка любого из этих лиц, и дело считалось улаженным. В случае крупных ссуд, предоставляемых новым клиентам или же таким, чье финансовое положение было недостаточно ясно, вопрос подвергался всестороннему обсуждению. С появлением новых директоров, Уилкерсона, Бэйкера и Сэя, ничего не изменилось, разве что ходатайства о крупных ссудах стали поступать чаще. Из разговоров с этими тремя людьми Солон узнал о многих рискованных начинаниях, суливших большие прибыли тем, кто решится вложить в них свои средства. Дело касалось по большей части снабжения городов газом и электричеством, прокладки железнодорожных и трамвайных линий или расширения промышленных предприятий. Но Солон предпочитал отдавать деньги под залог недвижимости или земельных участков, что было надежнее, хотя и не столь выгодно. Он с тревогой прислушивался к звучавшему все чаще со страниц газет и журналов протесту против монополий, захватывавших в свои руки производство и распределение некоторых товаров. Цены на многие предметы первой необходимости начали расти, и кучка удачливых дельцов наживала огромные состояния. А между тем уже шли разговоры о том, что труд рабочих оплачивается не по справедливости. Один за другим возникали профессиональные союзы, выдвигались настойчивые требования восьмичасового рабочего дня. На большой ковроткацкой фабрике Уилкерсона вспыхнула забастовка, и во всем городе только об этом и говорили. Уилкерсона обвиняли в том, что из всех фабрикантов ковров он самый прижимистый и что он или его помощники беспрестанно снижают сдельные расценки, так что заработка его рабочих не хватает даже на то, чтобы кое-как прокормиться. Забастовщики вели борьбу, выставляли пикеты у фабричных ворот, не пропуская набранных Уилкерсоном штрейкбрехеров. И в конце концов Уилкерсон обратился к судебным властям, требуя постановления, запрещающего забастовщикам мешать работе его фабрики. В свете всех этих событий Солон впервые задумался о том, что за человек в сущности Уилкерсон. Глядя на темные громады бездействующих фабричных корпусов, он с болью душевной размышлял о рабочих, оставшихся без куска хлеба в холодные, суровые зимние месяцы. Больше всего Солона раздражала нахальная уверенность Уилкерсона в том, что все богатые и влиятельные люди округи непременно должны быть на его стороне. Он, как видно, не сомневался, что и Солон смотрит на дело его, Уилкерсона, глазами. Как-то, выходя вместе с Солоном после заседания правления, во время которого он внимательно изучал весьма умно и хлестко написанный газетный отчет о событиях на его фабрике (Солон сидел рядом и видел это), он сказал: — Читали, что написано сегодня в газетах? И ведь все враки! Но я скоро положу этому конец. На что тогда и деньги, если с их помощью нельзя оградить себя от неприятностей?Верно, а? Солон со своей обычной осмотрительностью ответил: — По-видимому, рабочий вопрос не так легко разрешить. И с каждым годом это становится труднее. — Вы совершенно правы, — поспешил согласиться Уилкерсон, несколько сбитый с толку таким уклончивым ответом. — И мы, деловые люди, должны бы отнестись к этому вопросу с бóльшим вниманием, чем относились до сих пор, если хотим, чтобы в Америке все было спокойно. Мы должны сплотиться и занять твердую позицию, не то через несколько лет ни один американский предприниматель не будет чувствовать себя хозяином своего предприятия. Солон, нужно сказать, никогда не был особенно рьяным поборником прав рядового человека. Многолетнее общение с заправилами делового мира приучило его к мысли, что инициатива и уменье руководить — это качества, которые не каждому даны. Но, воспитанный в вере, последователи которой больше чем кто бы то ни было, по его убеждению, стремились создать и поддерживать гармонию и равенство в любых человеческих делах, он естественно считал, что должен быть иной путь к разрешению вопросов труда и существования, нежели стачки, штрейкбрехерство, жестокость и вражда. С другой стороны, ему было совершенно ясно, что Уилкерсон желает урвать для себя больше, чем следует. Если б не опасение допустить тактический промах, Солон охотно привел бы ему сейчас одно место из квакерской «Книги поучений», как нельзя более, на его взгляд, подходящее к случаю: «Во всех своих действиях и отношениях с людьми надлежит соблюдать полнейшую справедливость и заботиться о том, чтобы корыстные соображения не побуждали одних членов нашего Общества обманывать других». Были еще и другие обстоятельства, касавшиеся Уилкерсона и двух других новых директоров, Бэйкера и Сэя, которые внушали Солону тревожные мысли. Все трое привыкли получать в Торгово-строительном банке крупные ссуды и, сделавшись директорами, продолжали так же широко пользоваться банковским кредитом. Ничего противозаконного в этом не было — директора банка имели такое же право на получение ссуд, как любые другие лица; но в Торгово-строительном это до сих пор не было принято. А между тем Солон замечал, что они теперь прибегают к помощи банка даже чаще, чем прежде, получая весьма крупные суммы под обеспечение акций и облигаций связанных с ними компаний, — обеспечение, которое он, Солон, не считал особенно солидным. Иногда ему казалось странным, что Сэйблуорс и Эверард неизменно одобряют любое их предложение, любую финансовую затею. Раз или два Солон попытался обратить внимание Эверарда на то, что акции и закладные, предлагаемые в качестве обеспечения, оценены чересчур высоко, но Эверард попросту отмахнулся от него. — Да нет, вы сшибаетесь, — сказал он. — И вообще в их кредитоспособности можно не сомневаться. И Солон до поры до времени перестал заводить об этом речь, но сомнения его не улеглись, хотя эксперт банка счел, по-видимому, представленное обеспечение удовлетворительным; во всяком случае он не высказал никаких возражений. Правда, это был человек в банке новый, его предшественник, бессменно занимавший этот пост при Скидморе, недавно ушел в отставку. Но когда компании, возглавляемые Уилкерсоном, Бэйкером и Сэем, стали фигурировать в числе клиентов банка, сначала как вкладчики, а там и как ссудополучатели — независимо от тех сумм, которые были взяты их руководителями лично, — Солон встревожился не на шутку. Выходило, что значительная часть банковских средств сосредоточивается в руках кучки дельцов, которые к тому же являются директорами банка. Как-то вечером, сидя у себя в кабинете, он бегло подсчитал все суммы, записанные в дебет этим трем людям и тем концернам, представителями или руководителями которых они являлись; итог получился свыше миллиона долларов — цифра чересчур внушительная при любом обеспечении. Тогда он решился снова заговорить с Эверардом, но тот лишь посмотрел на него довольно холодно и сказал: — Не знаю, право. Ведь обеспечение-то у них достаточное? — Вопрос не в этом, — сказал Солон сдержанно, но в то же время с твердостью человека, который знает, что он выполняет свой долг. — Меня смущает сумма. Не слишком ли рискованно для банка отдавать столько денег практически в одни руки? — Ах, боже мой, у всех, о ком идет речь, достаточно твердое финансовое положение, — возразил Эверард, довольно бесцеремонно давая понять, что он не расположен беседовать на эту тему. — Обеспечение представлено, значит, и беспокоиться не о чем. Люди они состоятельные, все имеют у нас счета. Нельзя же им отказать в кредите без всяких к тому оснований. Я лично не рискнул бы нанести им такую обиду. Они помогли расширить круг деятельности банка, и это расширение, несомненно, пошло нам на пользу. Чего же вы еще хотите? Не прошло и месяца после этого разговора, как Солону стало известно, что и у Эверарда и у Сэйблуорса имеется материальная заинтересованность в нескольких компаниях, возглавляемых Бэйкером. Узнал он об этом чисто случайно, через одного из своих помощников, Элфреда Гэджа, молодого квакера, во всем разделявшего взгляды и склонности Солона и очень ему преданного. Гэдж был послан навести какие-то справки у бухгалтера Газово-электрической компании Брайерли, объединения по видимости вполне самостоятельного и в последнее время пользовавшегося особым покровительством Эверарда и Сэйблуорса. Вернувшись, Гэдж спросил Солона, известно ли ему, что мистер Эверард является акционером компании Брайерли. — Как ты узнал об этом? — сдержанно спросил Солон. — Я беседовал с мистером Недроком, служащим Брайерли, — сказал Гэдж, — он говорит, что Эверард у них один из самых крупных акционеров. Это известие чрезвычайно встревожило Солона, так как обеспечение, под которое названная компания получала ссуды в Торгово-строительном, давно уже казалось Солону весьма скудным. А между тем только недавно ей была предоставлена отсрочка по ряду платежей. Возникал вопрос — может быть, Эверард и Сэйблуорс состояли акционерами и других компаний, интересы которых находят в них горячих защитников, иными словами, оба попросту устраивают за счет банка свои дела. Необходимо было разобраться в этом, потому что при размерах выданных ссуд банк мог оказаться под угрозой краха. Солон пошел к одному своему знакомому, управляющему местного «Бюро информации о кредитоспособности», и под предлогом наведения каких-то справок без труда установил, что Эверарду принадлежит четвертая часть акционерного капитала компании Брайерли, а Сэйблуорсу — не менее восьмой части; душой же всего предприятия является не кто иной, как Бэйкер. Таким образом, все трое получали крупные выгоды от предоставляемых компании ссуд. Выяснив это, Солон заинтересовался другим крупным ссудополучателем — Электрической компанией Пьедмонт. Казначей ее был большим приятелем Сэйблуорса. И здесь, точно так же как в первом случае, и Сэйблуорс и Эверард оказались акционерами, а Бэйкер, как выяснилось, контролировал все предприятие. Солон обратился к третьей, четвертой, пятой компании, каждая из которых считалась самостоятельным предприятием, и везде раскрывалась одна и та же картина: значительный пакет акций находился в руках Сэйблуорса и Эверарда. Таким образом, все три новых директора наживались с помощью Сэйблуорса и Эверарда, а те, в свою очередь, наживались с помощью новых директоров. Солон был совершенно ошеломлен этим открытием. Его совесть не могла примириться с тем, что директора и администраторы крупного, добропорядочного банка так бесцеремонно используют свое положение. Он думал о многочисленных случаях, когда мелким предпринимателям отказывали в ссудах даже под вполне надежное обеспечение и эти самые директора и администраторы первыми спешили отыскать в этом обеспечении наиболее уязвимые места. Но он так привык уважать силу и финансовое могущество тех, кто стоял выше его, что не решался выступить против них. Ведь то, что они делают, законом не запрещено, так по какому же праву он будет возмущаться и протестовать? Но, с другой стороны, будучи квакером и человеком по натуре глубоко нравственным, как мог он молчать? Если он просто оставит службу в банке, не поднимая никаких разговоров, все будет идти, как шло до сих пор. А этого совесть не позволяла ему допустить. Может быть, ему написать письмо с объяснением причин, побудивших его уйти? Тогда положение изменится и скомпрометированным директорам придется выйти из состава правления. К несчастью, тогда банк окажется под угрозой краха. У Солона у самого около двадцати пяти тысяч лежало в Торгово-строительном, и все его деньги могли пропасть тоже. Однако не это соображение его останавливало. Солон считал себя богатым человеком, и богатство даже тяготило его, потому что чрезмерное изобилие земных благ казалось несовместимым с квакерским учением. Но он думал о тысячах мелких вкладчиков, которые в случае катастрофы лишились бы своих сбережений, и потому боялся вызвать панику. С другой стороны, если ничего не предпринимать, какой-нибудь опасливый вкладчик или обиженный отказом в ссуде клиент мог в любую минуту докопаться до всего и поднять шум. День и ночь Солон ломал голову, стараясь найти выход из этого нетерпимого положения. И вот однажды его осенила неожиданная мысль — обратиться в Вашингтон в министерство финансов и потребовать ревизии банка или же устроить так, чтобы авторитетное лицо, предварительно осведомленное о некоторых фактах, поговорило с виновниками «по душам». Во всяком случае, ясно одно: нельзя допустить, чтобы эти люди довели дело до банкротства.Глава 57
Солон съездил в Вашингтон, переговорил с некоторыми лицами в государственном казначействе, в чьем ведении находились дела по ревизии банков, — и вот в одно прекрасное утро в Торгово-строительный банк явился незнакомый чиновник, который, попросив передать мистеру Сэйблуорсу свою карточку, первым делом принял по наличности кассу, а затем потребовал ключи от подвалов, корешки приходо-расходных ордеров и все вообще документы и книги. Весть о его прибытии мгновенно распространилась по всему банку. Эверард и Сэйблуорс встревожились не на шутку, хотя посторонний глаз мог бы этого и не заметить. Оба этих банковских деятеля всегда заботились о том, чтобы их счета и документы подкрепляли то солидное впечатление, которое они умели производить; но это не исключало опасности, что в банк может как снег на голову нагрянуть новый, более придирчивый ревизор и, несмотря на все их подходы и ухищрения, заинтересоваться кое-какими сделками и операциями, природу которых не так легко будет объяснить. Мистеру Эберлингу, ревизору, с которым они привыкли иметь дело, ни разу не случалось признать недостаточно солидной гарантию той или иной ссуды — об этом Сэйблуорс с Эверардом поспешили довести до сведения вашингтонского гостя. По их словам, Эберлинг обычно лишь просматривал бумаги, не вдаваясь в подробности, так как не сомневался в надежности представленного обеспечения. Однако мистер Прэнг, вашингтонский ревизор, оказался более дотошным и любознательным. Он довольно настойчиво выспрашивал у Эверарда и Сэйблуорса, что им известно о тех компаниях, которым они предоставляют столь щедрый кредит, об их руководителях и главных акционерах, о том, не являются ли некоторые из них попросту филиалами компаний, возглавляемых Бэйкером, Сэем и Уилкерсоном, о том, действительно ли полученные от банка деньги пошли на переоборудование и расширение предприятий, — если же нет, то на что они были израсходованы. Эверард подвергся допросу первым; смущенный настойчивостью Прэнга, он предложил ему поговорить с Сэйблуорсом, ссылаясь на то, что тот более осведомлен во всех делах. Однако, оставшись с глазу на глаз с Сэйблуорсом, мистер Прэнг очень скоро убедился по уклончивым и двусмысленным ответам этого джентльмена, что его пугает необходимость прямо говорить о некоторых вещах; тогда вашингтонский ревизор вдруг прекратил свои вопросы и, перелистывая лежавшие перед ним бумаги, сказал совсем другим тоном: — Должен вам откровенно заметить, мистер Сэйблуорс, меня чрезвычайно смущает характер многих из этих ссуд. Конечно, нужно сперва ознакомиться с делами компаний, которым они были выданы, но я сомневаюсь в том, что представленное ими обеспечение достаточно надежно. До нас то и дело доходят слухи об использовании банковских средств для поддержки тех компаний, в которых банковская администрация непосредственно заинтересована. Я не говорю, что именно так обстоит дело в вашем банке, но моя прямая задача выяснить это. Я тут составил себе полный список выданных ссуд и тех лиц и компаний, которым они выданы, пока я еще воздерживаюсь от определенных суждений, но думаю, что через некоторое время картина мне будет ясна. Одно, во всяком случае, могу сказать: все ссуды, вызывающие какое-либо сомнение, придется погасить и все расчеты по ним ликвидировать. А если кто-либо из директоров или администрации является акционером компаний, которым выдавались ссуды, то мой совет эти ссуды покрыть немедленно. Сегодня среда; я буду у вас опять в понедельник. Обещаю вам до тех пор ничего не предпринимать. Если к понедельнику все окажется в должном порядке, необходимость в дальнейших разговорах и действиях отпадет сама собой. Если же нет, придется, может быть, временно приостановить операции — впредь до урегулирования дел. — Прэнг говорил веско и решительно. Сэйблуорс судорожно глотнул воздух. — Вы хотите сказать… — отважился было он начать, но, заметив суровое выражение лица Прэнга, тут же осекся. Прэнг нашел шляпу, простился и вышел, оставив побледневшего Сэйблуорса в полном смятении. После ухода ревизора Эверард и Сэйблуорс сели вдвоем обсудить положение. Нервы у обоих были напряжены до крайности, потому что злополучные ссуды составляли в общей сумме около восьмисот тысяч долларов, а при подробном разборе дел неминуемо должны были обнаружиться их личные связи с получившими эти ссуды компаниями. — Кто-то донес, это совершенно ясно, — сказал Сэйблуорс. — Но так или иначе, нам дан срок до понедельника. Мне кажется, нужно вызвать Бэйкера, как вы думаете? — Да, да, вызовем его сейчас же! — вскричал Эверард. Времени терять не приходилось, а потому в контору Бэйкера на Третьей улице был снаряжен гонец, и не прошло и часу, как Бэйкер ввалился в кабинет Сэйблуорса, пыхтя и отдуваясь, но сохраняя полное хладнокровие. — Так он, значит, желает, чтобы банк потребовал возвращения всех этих ссуд! — начал Бэйкер, усаживаясь в глубокое удобное кресло и разглаживая брюки на коленях. — Ему, значит, не нравится представленное обеспечение! Какого же ему еще обеспечения надо? Ведь это же чистое золото, если не сейчас, так в будущем? Беда только, что его в этом не убедить, а поднимать скандал на весь город нам, конечно, ни к чему. Что ж, некоторые ссуды я могу покрыть, но не все сразу, нет, не все сразу. Может быть, Уилкерсон и Сэй нам помогут обернуться. Уж очень мало сроку он дал, что тут успеешь! Было совершенно ясно, что Бэйкер не собирается вновь брать на себя бремя обязательств, которое он так охотно переложил на чужие плечи; впрочем, услышав о том, что Прэнг грозил приостановить операции банка, он сделался сговорчивее. И все-таки в результате решений, принятых на этом тройственном совещании, Эверард и Сэйблуорс должны были — хотя бы временно — пострадать больше, чем следовало бы по их участию в деле, так как им предстояло взять из банка то сомнительное обеспечение, которое туда было внесено, и заменить его полноценными акциями и облигациями, составляющими их личную собственность. Затем послали за Сэем и Уилкерсоном и предложили им покрыть часть полученных ими ссуд. Они согласились на это довольно легко, испугавшись, что банк заставят приостановить операции. Разумеется, всем не давал покоя один вопрос — откуда государственное казначейство узнало об их делах? Кто докопался до существа махинаций со ссудами и установил, что они лично причастны к этим махинациям? Был ли это какой-нибудь недоброжелатель со стороны, или же кто-нибудь из их собственных служащих? Единственный человек в банке, достаточно осведомленный, чтобы при желании выдать их, был, разумеется, Солон Барнс. Он всегда уклонялся от предлагаемых ему повышений в должности, он был религиозен и крайне консервативен в своих взглядах, но им казалось невероятным, что из религиозных соображений человек может действовать вопреки собственной выгоде. Впрочем, у них не было ни малейшего желания расспрашивать его или затевать с ним ссору; он слишком много знал о закулисной стороне банковских дел и мог причинить им еще больший вред. Таких людей, как он, вообще не следовало допускать в сферу больших финансов. Но как казначей он был незаменим, настоящий оплот честности, и теперь, как никогда, они нуждались в возможности укрыться за его спиной. В понедельник утром они предстали перед недреманным оком закона чистыми и невинными, но, надо сказать, Эверарду и Сэйблуорсу это стоило почти всего их состояния. Однако и после отъезда Прэнга, даже когда уже стало ясно, что буря пронеслась, в отношениях между руководителями банка продолжала чувствоваться напряженность, а к Солону все они заметно охладели. Но сам Солон был доволен тем оборотом, который приняло дело, хотя он не привык радоваться чужой беде и, кроме того, опасался, что чувство досады, оставшееся у Сэйблуорса и Эверарда, и желание возместить понесенные убытки рано или поздно толкнут их на новые мошенничества. По своему врожденному прямодушию он предпочел бы сказать им о том, что это он вызвал ревизора в банк, и призвать их исправиться, но поскольку сейчас уже все было улажено, не стоило, пожалуй, вновь поднимать этот вопрос. Однако он знал, что рано или поздно ему придется открыто выступить против такого рода нечестности в делах — осудить ее вслух и, если потребуется, уйти из банка.Глава 58
В то время как Солон мучительно пытался разрешить те финансовые и психологические проблемы, которые возникли перед ним в связи с делами Торгово-строительного банка, у Стюарта, в его второй, тайной, жизни тоже назревал свой кризис. За последние месяцы через его руки прошло немало денег, добытых воровством или полученных от благосклонной тетушки, но финансы его от этого не поправились. Стюарт уже несколько раз ездил в гости к нью-брансуикским Уоллинам и погружался в тот пестрый водоворот веселья, без которого жизнерадостной, неугомонной Роде жизнь казалась пустой. Эти вечера у тетки оказались даже интереснее, чем мог ожидать Стюарт. Там всегда бывало много на редкость красивых девушек; правда, по сравнению с Адой Морер все они казались ему холодными и лишенными темперамента. Тетушка Рода даже выбрала из этих девиц одну, наследницу весьма значительного состояния, которую она сочла достойной такого юноши, как Стюарт, красивого, обаятельного и из прекрасной семьи. Но, хотя девушка была прехорошенькая, Стюарт, учуяв, что тетка незаметно пытается вывести его на дорожку, ведущую к законному браку, остался к ней равнодушен; не за этим он являлся на светские сборища, а главным образом затем, чтобы раздобыть у тетки денег, ведь без денег нельзя было вкушать радости жизни, воплощением которых была для него Ада и его друзья. Как-то в субботу под вечер Стюарт, по обыкновению сидевший на мели, сумрачно размышлял о том, что лучше — поехать домой и проскучать все воскресенье или остаться во Франклин-холле и попытаться наверстать пропущенное хотя бы по некоторым школьным предметам. Вдруг в комнату ворвался Брудж с сияющим лицом и блестящими глазами. — Стюарт! Живей одевайся! Дженнингс привел машину, и мы сейчас едем! Сперва в Филадельфию за девочками, а потом в Атлантик-Сити. Ну что же ты, пошевеливайся! И он хлопнул Стюарта по спине. — Отстань! — мрачно огрызнулся тот. — У меня нет ни цента, а занимать у тебя и у Дженнингса мне надоело. — Вот еще глупости! Сегодня я всех угощаю! Мне мать вчера прислала тридцать пять долларов. Собирайся! Я тут придумал одну такую штуку — с ума сойдешь! Ох и повеселимся же мы! По дороге все расскажу. Ну, одевайся же, не задерживай! Его радостное возбуждение было так заразительно, что Стюарт, которого вообще нетрудно было уговорить, очень быстро перестал разыгрывать непреклонность и через четверть часа уже сидел рядом с Бруджем в машине, которую Дженнингс полным ходом гнал к Филадельфии. — Ну, Брудж, выкладывай, что ты там такое придумал, — сказал Стюарт, как только стены Франклин-холла скрылись из виду. — У тебя такой вид, словно ты совершил преступление и собираешься скрыть его следы. — Ну, это бы еще пустяки! — отшутился Брудж. — Тут дело поинтересней! Вот, слушайте… И он стал подробно излагать им фантастический план, рассчитанный на то, чтобы сломить упорство белокурой Психеи, которая до сих пор только дразнила его, а от всех попыток сближения увертывалась. Его мать, объяснил он, жалуется на слабые нервы и часто принимает успокоительное лекарство, — всего несколько капель в стакане воды. И вот недавно он стал замечать, что если попросить у нее денег сразу после того, как она приняла эти капли, почти никогда не встретишь отказа. Она тогда «словно в тумане». Так уж, видно, действует это лекарство: человек размякает и готов согласиться на все, что ему ни скажут. Вот он и надумал с помощью этого лекарства победить затянувшееся сопротивление Психеи Тэнзер. Стоит только влить несколько капель в ее бокал с вином, а дальше все пойдет как по маслу. Вреда от этого никакого быть не может, ведь его мать постоянно пьет эти капли. Как раз в последний его приезд домой она послала его в аптеку получить по рецепту очередную порцию, и он по дороге отлил немножко в пустой пузырек, который нарочно приберег для этого. Пузырек и сейчас у него в кармане! Теперь только бы разыскать девушек… Психея была дома и очень охотно приняла приглашение. Но с Адой им не повезло: ее дома не оказалось. Не удалось найти и Рэй Патерсон. Но все уже настроились ехать в Атлантик-Сити, и потому решено было отправиться вчетвером. Для начала Дженнингс повез их в один известный ему тайный кабачок на окраине города, пропустить по рюмочке. Впрочем, Психея отказалась пить что-нибудь, кроме чашки кофе, и сказала, чтобы они заказывали, а она пока пойдет попудрить нос. Брудж едва скрыл свою радость при этих словах, поняв, какой ему представляется удобный случай, только бы она задержалась подольше и дала ему время сделать, что нужно. Официант принес заказанное, и Брудж, торопливо откупорив пузырек, едва успел влить несколько капель в чашку с кофе, как Психея вернулась к столу. Ночь была безлунная, но ясная, а когда машина выехала за городскую черту, подул свежий, бодрящий ветерок. Настроение у приятелей было приподнятое, все чувства обострены. Брудж вдруг заметил в стороне от дороги небольшую сосновую рощицу и крикнул Дженнингсу: — Давай остановимся здесь! Пусть Психея отдохнет немножко, она, видно, спать хочет. Девушка сидела рядом с Бруджем на заднем сиденье и время от времени сонно ласкалась к нему. Как только Дженнингс остановил машину, Брудж помог ей выйти и наполовину довел, наполовину донес ее до песчаного бугорка под соснами. На этот раз она не сопротивлялась его ласкам и в каком-то полусонном, полустрастном забытьи отдалась ему. Немного спустя, очнувшись от овладевшей им дремоты, Брудж взглянул на Психею, и в ее неподвижности ему почудилось что-то неестественное. Она лежала совершенно спокойно, но когда он заговорил с ней, она не ответила. Брудж встал и пошел к машине: по дороге ему навстречу попался Стюарт. — Знаешь что, Стюарт, поди разбуди Психею. Хватит ей спать. Стюарт поспешил в рощицу. Вызывающая красота этой девушки давно уже действовала на его воображение, и теперь, когда он увидел ее перед собой, раскинувшуюся на песке в чувственной позе, она показалась ему особенно красивой. Он наклонился и жарко поцеловал ее в губы. И вдруг страсть охватила его с такой силой, как никогда прежде, и, поддавшись неудержимому порыву, он всем телом приник к ее телу. Когда первые ослепляющие мгновения миновали, ему показалась странной какая-то неестественная податливость тела Психеи. Она по-прежнему лежала с закрытыми глазами и не отвечала на его ласки и поцелуи. — Психея! Проснись, Психея! — громко закричал он; потом, не получив ответа, просунул ей руку под спину и приподнял ее. Но она тяжело повисла на его руке. Стюарту стало страшно, он опустил ее на землю и бросился бежать к машине. — Брудж, послушай! — Голос у него дрожал. — Психея не просыпается! Я не могу разбудить ее. Честное слово, с ней что-то случилось! — Как это ты не можешь ее разбудить? Брудж выскочил из машины и торопливо направился к рощице. Дженнингс и Стюарт бежали за ним. Психея лежала все в той же позе, как ее оставил Стюарт. Брудж стал трясти ее, потом попытался поставить на ноги, но как только он отпустил ее, она мешком повалилась на землю. Дженнингс следил за ним со страхом и любопытством. — Что же это с ней такое, а? — проговорил он. И вдруг спросил: — Может, это от тех капель, что ты ей дал? Но Брудж был уже готов к самозащите. — Перестань молоть вздор. От этих капель только становится приятно. Они не усыпляют и не могут причинить никакого вреда. Надо воды достать, это мигом приведет ее в чувство. И он побежал к заливчику, находившемуся неподалеку, захватив свою шляпу, чтобы зачерпнуть воды. Стюарта начала бить нервная дрожь. Он не сводил с девушки испуганных глаз и бормотал: — Какой ужас, боже мой, какой ужас! Между тем Брудж, вернувшись, усиленно смачивал водой лицо и руки Психеи, но ничего не помогало. — Доктора бы надо! — Стюарта вдруг кольнула жалость. — Доктора? — прохрипел Брудж. — Умней ты ничего не мог выдумать? Только этого не хватало; тогда уж нам всем не миновать неприятностей. Она оправится, и ничего с ней не будет. Давайте снесем ее в машину. Ветер сразу приведет ее в чувство. — Боже мой, какой ужас! Стюарт метался взад и вперед, не находя себе места от волнения. — Да уймись ты, ради всего святого! — закричал Брудж. — Говорят тебе, с ней ничего не будет. Незачем поднимать такую панику. Я ей никакого вреда не причинил. — И, обращаясь к Дженнингсу, он прибавил: — Ну-ка, помоги мне. Вот увидите, как поедем — она очнется. Они снесли ее в машину и усадили на заднем сиденье. Брудж сел рядом, придерживая ее. — А ты садись и держи с той стороны, — скомандовал он Стюарту. В голове у него уже сложилось решение: они высадят ее где-нибудь неподалеку от дома и там оставят. Что делать дальше, он придумать не мог. От страшной мысли, что с девушкой случилось что-то серьезное, что, может быть, она умирает, в нем все цепенело. Ведь это он дал ей капли. Он пытался утешить себя мыслью, что автомобиль принадлежит не ему; а если вышла какая-нибудь ошибка с лекарством, так это тоже не его вина, а аптекаря. Пузырек от капель остался при нем и может послужить доказательством, что намерения у него были самые невинные. Что там, между прочим, написано на ярлыке? Он не мог припомнить в точности; кажется, что-то вроде «в привычку не переходит» и «употреблять только по назначению врача». Брудж свободной рукой достал пузырек из кармана, но в зыбкой темноте разобрать надпись было невозможно. Он положил пузырек рядом на сиденье, с тем чтобы взглянуть еще раз, когда будут проезжать мимо какого-нибудь освещенного селения. Час спустя, уже перед самой Филадельфией, мальчики заметили, что тело Психеи словно одеревенело, а кожа стала совсем холодная. Брудж велел Дженнингсу остановиться. — Пожалуй, не стоит ее везти дальше, — сказал он. — Лучше оставим ее здесь, за городом. — А может быть, все-таки отвезти ее к доктору? Посмотри, она стала какая-то странная, — сказал Стюарт, продолжая прижимать Психею к себе и стуча зубами от страха. — Брудж, а вдруг она умерла? — Глупости! — огрызнулся Брудж. — Но ни к каким докторам мы ее не повезем! Ни в коем случае! Если ты больше ничего не можешь придумать, сиди и молчи! Ты что, погубить нас всех хочешь? Мы ее положим тут, в сторонке у дороги. Кто-нибудь будет идти мимо и найдет, и тогда уж вызовут врача или санитарную карету, словом, сделают все, что нужно. — Да, пожалуй, ты прав, — дрожащим голосом подхватил Дженнингс. — Кто-нибудь, наверное, увидит ее и подберет, а мы поедем прямо в школу. Там нас ни за что не отыщут. Теперь все трое были одержимы таким страхом, что уже не могли действовать разумно. Одно желание владело ими — спастись, убежать от смертельной развязки. Зловещая тень смерти лишила их способности рассуждать. Каждый думал только о том, как он будет прятаться, лгать, отрицать всякую свою причастность к этой увеселительной прогулке, так страшно закончившейся. Хотя никто из них, а Брудж в особенности, еще не верил, что Психея действительно умерла, одна возможность этого наводила на них ужас. Стюарт молча смотрел, как Брудж и Дженнингс вынесли Психею и посадили у дороги, прислонив к откосу. Здесь, решили они, ее непременно заметят. Потом Дженнингс завел мотор, быстро домчал товарищей до школы и, пока они потихоньку пробирались в свои комнаты, снова сел за руль, дрожа всем телом от страха, и поехал домой, в Честер.Глава 59
Так паутину зла мы ткем, Хоть раз вступив на путь обмана!Под утро какой-то случайный прохожий нашел Психею там, где они ее оставили накануне. Она была мертва. И тут стали выясняться различные обстоятельства, которые не были известны невольным виновникам случившегося несчастья, а между тем в силу этих обстоятельств полиции не составило труда выследить их. Они, например, не знали, что у Психеи было больное сердце и потому она не могла перенести даже самого слабого наркотического средства. Дженнингс не знал, что в сумочке погибшей девушки лежала его визитная карточка с именем, фамилией и адресом. Точно так же и Брудж не знал, что пузырек, на дне которого еще сохранилось несколько капель снадобья, выкатился из машины на дорогу и был найден неподалеку от тела. Первым взяли на допрос Дженнингса, на которого прямо указывала карточка, обнаруженная в сумке Психеи; а в это время полиция уже выследила Бруджа по ярлыку на пузырьке, где была обозначена фамилия аптекаря и номер рецепта. Полицейские приехали к нему домой, узнали, что он во Франклин-холле, и еще до полудня явились туда. И Бруджа и Дженнингса привезли для допроса в полицейский участок. Перепуганные и потрясенные известием о смерти Психеи, оба твердили свое: они не знали, они думали, что она просто больна или в обмороке. Настойчивые расспросы о том, кто еще был в машине, очень скоро заставили их упомянуть имя Стюарта, за ним тут же поехали и привезли его к следователю, ведшему дознание. И очень скоро выяснилась вся печальная история, главным действующим лицом которой был Виктор Брудж. Вскрытие установило, что смерть произошла от наркотического средства, оказавшегося чересчур сильным для больного сердца Психеи, хотя само по себе оно не было смертельным. Последняя оговорка избавила Бруджа от прямого обвинения в убийстве, но сопутствующие обстоятельства, выявленные следствием, выставляли его и его сообщников в позорном и неприглядном виде. Стюарту предъявили обвинение в том, что он вместе с Бруджем соблазнил Психею, а также принимал участие в других подобных прогулках, когда их спутницами бывали более сговорчивые подруги покойной. Издерганный вопросами следователя, вконец измученный сожалением и раскаянием, он во всем признался; и хотя по этому признанию выходило, что он не был ни соблазнителем невинной девушки, ни тем более убийцей, картина его падения складывалась достаточно постыдная, и ему показалось лучше умереть, чем взглянуть в глаза родителям. Преследуемый этой мыслью, он вынул из кармана небольшой перочинный ножик и спрятал его за манжетой штанины. Впредь до перевода в Филадельфийскую окружную тюрьму им разрешено было оставаться в своем платье. Нечего и говорить, что, несмотря на все старания родных и близких, в выдаче их на поруки было отказано, и всех троих сразу же после первого допроса подвергли предварительному заключению. Крупнейшие газеты Филадельфии, Трентона и даже Нью-Йорка и Балтиморы не замедлили сообщить обо всем под кричащими заголовками и в доме Барнсов настали черные дни. Бенишия слегла и не вставала; ее слабый организм не мог вынести такого сильного душевного потрясения. Солону словно нанесли смертельный удар; то, что произошло, казалось ему частью какой-то трагедии, всего значения которой не вмещал его разум. Рушился, рассыпался прахом весь барнсовский мир. А между тем в совершившейся трагедии не было его вины. Относясь к себе со всей строгостью, он должен был все же признать, что по мере сил пытался воспитывать своих детей в духе «Книги поучений», призывая их обращаться всегда к Внутреннему свету, как обращался в своей набожности и сам. Не делал ли он все, что только мог, чтобы отвести опасность гибельных заблуждений от членов своей семьи? А между тем он хорошо помнил, как Этта, тихая, смиренная, любящая Этта, открыто взбунтовалась, когда он сказал ей, что книги, которые она читает, не только стыдно, но и вредно читать, потому что они развращают ее чистую, невинную душу. И что же? Разве ее собственная судьба не служила доказательством глубокой справедливости его возражений? Ведь Этту, в сущности говоря, можно считать погибшей. А теперь — Стюарт! С малых лет этот мальчик, не слушая советов отца, пренебрегая всем, к чему тот так любовно старался его приохотить, упорно обращал свои взоры и желания на то, что в конце концов сгубило его, — деньги, автомобили, театры, танцы, девушек, — и вот пришел к такому ужасному концу! Он размышлял, молился, даже плакал. Но ничем нельзя было облегчить горе, уменьшить позор, который лег на всю семью — на Айсобел, Доротею, Орвила, сумевших достигнуть хорошего положения в жизни. И прежде всего на ту, что была матерью Этты и Стюарта, его возлюбленную Бенишию, которую это горе приковало к постели. Что же делать? Где найти силы перенести все это и хоть что-нибудь спасти из-под развалин? Снова и снова он возвращался мыслью к Внутреннему свету, моля укрепить его дух и веру, поколебавшуюся в самых своих устоях. И в его тяжкой доле ему вспомнился стих из евангелия от Марка: «Верую, господи! Помоги моему неверию!» слова, которые говорит отец, пришедший молить Иисуса об исцелении сына. О, если б он мог спасти своих детей! Это казалось выше сил человеческих, но бог ведь всемогущ. Только бы поверить в это, и тогда в окружающем его мраке обозначился бы путь к свету.
Между тем Рода Уоллин, чувствуя себя виновной в том, что она своими поблажками поощряла стремления Стюарта вырваться из строгих рамок домашнего уклада, добивалась приема у губернатора и у окружного прокурора, намереваясь просить их о снисхождении. Она надеялась, что сумеет убедительно обрисовать им ту обстановку, которая породила в этом мальчике ненасытную жажду удовольствий. С губернатором она была знакома лично и, попав, наконец, к нему на прием, стала просить за Стюарта со всем свойственным ей пылом. И когда он сказал ей, что ничего или почти ничего не может сделать, потому что общественное мнение всегда особенно яро ополчается против преступников такого рода, она упала на колени и зарыдала. Что касается окружного прокурора, то он пообещал сделать все от него зависящее, но тут же прибавил, что едва ли можно будет помешать правосудию совершиться. Орвил и Стоддарды, а также Доротея с мужем и вся семья Кортов, старались использовать политические и общественные связи, желая приглушить шум, поднятый газетами вокруг преступления и его виновников. Орвил даже нанял адвоката для выработки плана действий. Все это время мальчики сидели в полицейской тюрьме, ожидая перевода в Филадельфийскую окружную тюрьму и сессии совета присяжных, которая должна была рассмотреть их дело. Окруженные со всех четырех сторон железной решеткой, они целыми днями раздумывали о своих заблуждениях, о том горе, которое они причинили родным. Стюарт страдал душевно больше всех. Как он решится взглянуть в глаза отцу и матери? Пусть даже он расскажет отцу всю правду, тот все равно не поймет и не поверит. И если даже он сумеет объяснить, что Психея вовсе не была невинной и что она отправилась на эту прогулку не ради него, а ради Бруджа, это ничуть не умалит его вину в глазах отца. А как объяснить отцу и всем вообще, почему он бросил девушку на дороге без помощи, вместо того чтобы поскорей отвезти ее к врачу? Может быть, тогда еще можно было спасти ее? Почему же он не последовал простым велениям своего сердца — он, которого с детства учили руководствоваться Внутренним светом? Все эти мысли угнетали его, и он не находил выхода. Выхода не было. Что бы ни решили судьи, ему не уйти от суда собственной совести и совести отца — от приговора, который ему вынесет Внутренний свет. Он думал о том, что его отвезут в окружную тюрьму и поместят, как преступника, среди преступников; что нужно будет давать объяснения адвокату, что рано или поздно наступит час встречи с отцом, — и на второй день своего заключения он почувствовал, что ему не вынести этих испытаний. Это было сверх его сил. Жизнь его не стоила того горя, которое он причинил своим родителям. Так не лучше ли положить ей конец? Он потихоньку нащупал за манжетой штанины перочинный ножик, оставшийся незамеченным при обыске. С любовью и болью думая о матери, он отвернулся к стене, открыл нож и со словами: «Прости меня, мама!» — вонзил лезвие себе прямо в сердце. И снова газетная шумиха: юный отпрыск почтенного семейства Барнс покончил жизнь самоубийством.
Глава 60
Не было человека в квакерской общине Даклы, который отнесся бы к Солону Барнсу и его семье иначе, как с глубоким сочувствием и участием. Вспоминали о том, как в течение многих лет каждый Первый день подкатывал к молитвенному дому просторный экипаж Барнсов, которым правил сам Солон, и оттуда выходили Бенишия и дети. Многие помнили Орвила и Стюарта маленькими мальчиками, когда они сидели рядом с отцом на мужской половине зала. Орвил — чинно, хотя и не слишком внимательно, а шаловливый Стюарт — беспрестанно вертясь по сторонам. Говорили о том, как серьезно и добросовестно занимался всегда Солон делами общины. Назавтра после того, как стало известно о печальном конце Стюарта, двое из старейшин общины явились в Торнбро выразить свое глубокое прискорбие Солону и Бенишии и узнать, нельзя ли чем-нибудь помочь им. Ни словом не упоминая о трагических обстоятельствах смерти юноши, они сообщили, что он будет похоронен с соблюдением всех почестей, какие обычно оказываются наиболее уважаемым членам общины, и что в погребальной церемонии дома и на кладбище примет участие положенное число Друзей. Это, разумеется, не облегчило горя Солона, но все же он был глубоко тронут таким вниманием. На прощанье один из посетителей вложил в руки Солону небольшой томик, заложенный в одном месте закладкой. Раскрыв его после их ухода, Солон прочел следующие слова, принадлежащие Джону Круку, одному из первых квакеров:«Не склоняйте голов, вы, что, совершив все внешние омовения, пришли омыть свои одежды в крови агнца господня, дабы они стали белыми, как снег, и, очистившись таким образом, вы могли бы войти в Царство и воссесть рядом с утомленным трудами Авраамом, и многострадальным Исааком, и хитроумным Иаковом. О, как коварен враг, на какие только уловки он не пускался… будто мы достаточно уже горели в пламени, и теперь в нас осталось лишь чистое золото; но то была ложь… мы увидели, что снова должны броситься в пламя и жечь себя, как повелел Отец, до той поры, пока не станем, подобно сынам Сиона, истинно чисты, как золото».Да, жизнь действительно ввергла его в пламя, сказал себе Солон. И, может быть, испытание закалит его душу, но оно не исправит уже совершившегося зла и не вернет ему возлюбленного сына. Горе его, глубокое само по себе, становилось почти непосильным оттого, что к нему примешивалась тревога за Бенишию, совершенно сраженную несчастьем. Он видел, что душа ее трепещет, как испуганная пташка, и мысль мечется от Солона к Стюарту и от Стюарта к заблудшей Этте. А тут еще Орвил и Доротея своим холодным, почти злобным спокойствием беспрестанно напоминали ей о том, что случившееся может повредить их положению в обществе; и несчастная мать тянулась к Айсобел, которая, казалось ей, лучше всех теперь способна ее понять. Услышав страшную новость, Айсобел тотчас же приехала из Льевеллина и всячески старалась внушить матери, что как ни ужасны все эти события, ни Этту, ни Стюарта, по крайней их молодости, нельзя безоговорочно винить во всем. Сама испытав немало разочарований, она говорила с большой убедительностью, и ей удалось отчасти утешить Бенишию предсказанием, что Этта непременно вернется, и даже раньше, чем можно думать. Желая оправдать это предсказание, она даже написала сестре письмо, в котором обрисовала тяжелое состояние родителей и настаивала на том, что Этта должна вернуться домой и быть им поддержкой в их горе. В эти дни, когда мрак навис над домом Барнсов, приехала из Нью-Брансуика Рода Уоллин. Она понимала всю глубину страданий Солона и Бенишии, и ей хотелось хоть немного утешить их. Что бы там ни говорили, утверждала она, Стюарт — хороший мальчик и, по существу, ни в чем не виноват. Неопытный и юный, он, никому не желая зла, сделался жертвой чудовищного стечения обстоятельств и своею смертью доказал глубину своего раскаяния. — Помни, — говорила она Солону, — многое изменилось со времен нашего детства. Нынешняя молодежь встречает на своем пути много таких соблазнов и искушений, о которых мы и понятия не имели. Еще неделю назад ее рассуждения показались бы ему никчемными, теперь же он находил в них крупицу утешения. Но еще предстояло пережить мучительную церемонию похорон. Днем тело Стюарта перевезли в Торнбро; Солон видел гроб и цветы, но не видел своего мертвого сына. И вот, дождавшись глубокой ночи, когда все в доме стихло, он взял свечу, бесшумно спустился вниз и подошел к гробу, в котором лежал его мальчик. Вот он и вернулся из адской бездны так называемых радостей жизни, вернулся оттуда, где глаза блестят, но не целомудренным блеском, где губы алы, но не от невиннойсвежести, где тела изгибаются в одуряющем ритме танца, где насмешки чередуются с руганью и хриплые голоса глумятся над чистотой и добродетелью, вернулся из мира театров, кабаков, дансингов и домов терпимости — даже и такая мысль была у Солона. Его сын! Его мальчик! Да, жизнь жестоко расправилась с его сыном, его любимцем, его Стюартом — тем самым Стюартом, светлоглазым и светлокудрым, который всего лишь несколько лет назад сидел у него на коленях и лепетал, повторяя за ним, слова молитвы. Этот гнусный мир, мир соблазнов и необузданных наслаждений, погубил его сына, совратил и его и Этту, отторг их от отца, и не помогли никакие родительские увещания и запреты. И вот теперь Стюарт лежит здесь, перед ним, холодный и недвижимый — не кто-то чужой, а его возлюбленное родное дитя. Словно отупев от отчаяния, он склонялся над гробом со свечою в руке и при слабом мерцании ее неверного огонька, едва разгонявшего ночную тьму, всматривался в точеные черты родного лица — высокий, круглый лоб, говорящий о силе желаний, глубоко посаженные глаза, в которых он еще недавно читал выражение обиды и страха, изогнутые губы, даже сейчас прекрасные: глядел на эти руки с тонкими, нервными пальцами, теперь уже навсегда неподвижно сложенные на груди. Какой он был неугомонный, живой, веселый — и вот смерть уничтожила его силу, исказила его красоту. Как примириться с этой страшной, жестокой истиной, как вынести это? Солон смотрел, не отрываясь, словно изучая каждую черточку, каждый изгиб, каждую скорбную морщинку на этом лице, смотрел и плакал про себя, без слез; и вдруг его пронзила мысль: что, если в своем упорном стремлении направить мальчика к добру он совершил ошибку, не исполнил как следовало свой родительский долг! Быть может (и эта мысль показалась ему нестерпимой), он проявил недостаточно чуткости, доброты, мягкой убедительности, к которой так настойчиво призывает родителей «Книга поучений». Разве не было его святой обязанностью испробовать все средства кротости и любви ради спасения сына? А он придирался, шпионил за ним, изводил его постоянными вопросами, заставлял поступать наперекор собственным желаниям, силой и принуждением стараясь добиться того, чего гораздо легче можно было достигнуть лаской — лаской и молитвой. Разве его, Солона, мать не доказала ему это своим примером? Так почему же он не сумел последовать этому примеру? Но — он это хорошо знал теперь — иногда так трудно бывает точно определить, какое решение правильно и как его выполнить. — Мальчик мой! Мальчик мой! — прошептал он наконец. И вдруг глубокое смятение охватило его, потрясенного трагической гибелью сына, тем, что тот сам себя лишил жизни, признав свои заблуждения и свой позор, сочтя себя недостойным своей семьи, отца, матери; он упал на колени, поставил свечу на пол, чтобы не выронить ее из дрожащих рук, и зашептал слова молитвы: — Отец наш небесный, сжалься, помоги! — Слезы брызнули у него из глаз. — Я старался, — шептал он, — но я не знал, что делать. Прости же меня, и его, моего мальчика, прости тоже, ибо я лишь хотел исполнить твою волю, но впал в ошибку. Да, поистине так. Должно быть, я поступал неправильно — я был слишком строг. Тут рыдания помешали ему продолжать. Но в эту самую минуту в комнату вошла Бенишия, которая услышала, как он выходил из спальни, и последовала за ним. Со слезами на глазах, с сердцем, обливающимся кровью и за него, и за Стюарта, и за себя, она подошла, обняла его и сказала: — Полно, Солон, успокойся! Полно, дорогой! Не надо плакать. Ты был верен своему родительскому долгу, — был верен ему всегда, и мы все это знаем. Успокойся, не плачь. Пойдем со мною, тебе надо отдохнуть! — И, повинуясь ее ласковым уговорам, он встал и вместе с нею вернулся в спальню, беззвучно рыдая над постигшей их тяжкою бедой. А там, внизу, в большой, холодной гостиной, лежал его мальчик, его любимый сын, погибший от собственной руки! Горе, горе! Позор! И ему хотелось воскликнуть словами распятого Христа: «Боже мой! Для чего ты меня оставил?»
Глава 61
Окончилась церемония похорон, разъехались родные, прекратились изъявления дружеского сочувствия, и Солон остался в Торнбро со своим тяжким грузом воспоминаний. Он жил словно в каком-то забытьи, из которого его выводили порой только разные мелочи домашнего быта: то старый Джозеф позовет его взглянуть на жеребенка, которого принесла гнедая кобыла Бесси, то Айсобел заглянет в кабинет спросить, не выпьет ли он чашку чаю. Изредка он шел побродить по саду или по берегу Левер-крика. Но красота природы лишь отчетливей заставляла его сознавать ту страшную истину, что Стюарт, жертва своего безумства, никогда больше не пройдет по этим дорожкам. Постепенно, однако, Солон понял, что рано или поздно придется ему вернуться к своим обязанностям в банке. Но он не мог об этом думать без отвращения; бездушная корысть, составляющая сущность всякого бизнеса, казалась ему теперь чем-то уродующим и разрушающим нормальное человеческое существование. А ведь и он был причастен к этому; разве не заседал он вместе с другими в правлении банка, разве не помогал осуществлять их планы, направленные к безмерному накоплению богатства ради той бесполезной роскоши, тех никчемных удовольствий, что ослепили своим блеском Стюарта и привели его к гибели. Ему вспоминалось прочитанное в «Книге поучений»:«Как часто бывало, что имение, собранное усердием родителей, оказывалось пагубным для детей, побуждая их преступать заветы добра, впадать в излишества, несовместимые с нашим религиозным учением, и пускаться в предприятия, наносившие непоправимый вред их земному существованию, не говоря уже о полном забвении великого дела спасения души».И еще:
«Кто будет богат, тот впадет в соблазны и искушения и, уклонившись от правой веры, навлечет на себя многие горести».Эти знакомые слова приобрели теперь новое значение и словно бы призывали к каким-то решительным действиям. Через неделю после похорон Стюарта Солон поехал в Филадельфию. Он шел по Маркет-стрит пешком, и когда впереди обрисовалось величественное здание Торгово-строительного банка, он вспомнил, как на первых порах его деятельности банк представлялся ему чуть ли не храмом. Сбережение и приумножение имущества было тогда в его глазах естественным и полезным занятием человека. Ему казалось, что наживать деньги и использовать их на добрые дела, на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, похвально и высоконравственно. Сберегать данное тебе, растить и воспитывать детей, помогать тем, кто менее удачлив или менее предусмотрителен, чем ты, — разве не значит это жить по заветам христианства? А поскольку заветы христианства — божьи заветы, значит, накопляя имение и распоряжаясь им разумно, бережливо, к пользе других людей, ты тем самым служишь богу. Отсюда следовал вывод, что для такого служения, для того, чтобы управлять денежным и иным имуществом, необходимы солидные организации вроде Торгово-строительного банка и те, кто руководит этими организациями, являются в некотором роде духовными пастырями народа. Но… Уилкерсон, Бэйкер, Сэй, Эверард, Сэйблуорс… эти люди — духовные пастыри народа? Быть может, так далеко он не заходил в своих мыслях; но от одной части этого рассуждения очень легко было перейти к другой. Так или иначе, когда Солон Барнс в этот день явился в банк, его решение было принято, и для колебаний не оставалось места. Первым делом он направился к себе в кабинет, намереваясь заняться составлением объяснительной записки ко всем делам, которая помогла бы его будущему преемнику быстрей в них разобраться; после этого он рассчитывал принять участие в очередном заседании правления, назначенном, как он знал, именно на этот день. По дороге он повстречал нескольких своих подчиненных; все они здоровались с ним как-то смущенно и нерешительно, а его ближайший помощник при виде его пришел в такое замешательство, что Солон сразу понял, какую широкую и печальную известность получила разыгравшаяся в его семье драма. Он отворил дверь в комнату правления и остановился на пороге. Все дружно поднялись приветствовать его, почтительно удивляясь твердости духа, которую он проявил, вернувшись к работе спустя такой короткий срок. Но в суровом выражении его бледного лица было что-то смутившее их. Они смотрели на этого рослого, статного человека с круглой, красиво посаженной головой и строгими иссиня-серыми глазами, и он, как всегда, казался им воплощением надежности и нравственной чистоты. Они привыкли видеть в нем оплот старого, лучшего порядка вещей — человека, оставшегося глубоко равнодушным к той неистовой погоне за наживой, которая увлекла и закружила их всех. Однако сейчас в нем появилось нечто новое. Он стоял перед ними осунувшийся и постаревший, но проникнутый какой-то железной решимостью, ранее ему несвойственной. Он поднял правую руку, словно желая остановить всякие изъявления вежливого сочувствия и требуя полного внимания к своим словам, и начал: — Джентльмены, я пришел сюда сегодня прежде всего для того, чтобы объявить вам о своем намерении покинуть пост казначея этого банка. На всех лицах появилось удивленное, недоумевающее выражение. — Я предвидел, что вы будете удивлены, — продолжал он, — и, вероятно, пожелаете получить некоторые разъяснения, и я готов дать их. Причины, побуждающие меня уйти в отставку, не имеют ничего общего с теми тяжелыми переживаниями, которые выпали на мою долю и на долю моих близких. Это причины совсем иного свойства. Уже очень давно я собирался поговорить с вами так, как говорю сейчас. С тех пор как умер Эзра Скидмор, наши банковские порядки, особенно в деле выдачи ссуд, настолько изменились к худшему, что я считаю своим долгом заявить против этого решительный протест, — имея в виду не свои личные интересы, а интересы всех вкладчиков и акционеров. Как тебе известно, мистер Эверард, — он кивнул в сторону главного бухгалтера, — да и все остальные директора это знают, — я не раз указывал на то, что наши кредитные операции ведутся в масштабах, которые угрожают благополучию банка, и что некоторым клиентам оказывается необоснованное предпочтение, и ссуды выдаются им без должной проверки их кредитоспособности и надежности представленного ими обеспечения. Но все вы также знаете, что к моему мнению не прислушивались, и в результате дело дошло до того, что месяц тому назад Торгово-строительный банк чуть было не приостановил платежи. Директора переглянулись, но никто не сказал ни слова. Солон повременил немного, затем продолжал: — Я хочу сказать вам, что это я сообщил о положении дел в государственное казначейство. И считаю, что поступил совершенно правильно. Торгово-строительный банк — старая и почтенная фирма, и не годится рисковать ее репутацией ради выгоды нескольких людей, которых не пугает перспектива довести дело до краха и заставить мелких вкладчиков расплачиваться за то, что, по существу, является не чем иным, как преступной спекуляцией. Совесть моя повелела мне оградить интересы этих мелких вкладчиков. — Помилуйте, мистер Барнс, — вмешался Уилкерсон, беспокойно ерзая в кресле всей своей тушей. — В книгах банка не числится ни одной непогашенной ссуды, которая не была бы обеспечена солидными ценностями, — вы легко можете это проверить. — Охотно верю, мистер Уилкерсон, потому что правительственная ревизия заставила банк потребовать дополнительных обеспечений. Но я не желаю еще раз столкнуться с таким положением, какое возникло месяц тому назад. Кроме того, я лично не стремлюсь нажить капитал и потому не вижу смысла в том, чтобы продолжать свою работу в области финансов. Директора, застигнутые врасплох этим неожиданным и резким выступлением, продолжали недоуменно переглядываться. Наконец Бэйкер, вытерев пот со лба, попробовал дать отпор: — Вы, как видно, не представляете себе, мистер Барнс, что такая система ведения дел, как у нас, принята во многих банках страны. Я состою в правлении еще нескольких крупных банков, и мне это хорошо известно. Могу вас заверить, что опасность краха угрожает Торгово-строительному банку не больше, чем государственному казначейству. — Но тем не менее, мистер Бэйкер, — возразил Солон, — именно государственному казначейству пришлось восстанавливать нашу платежеспособность. А если другие банки придерживаются той же финансовой политики, которой за последнее время придерживался наш, я убежден, что дело кончится финансовой катастрофой для всей страны. Это уже бывало раньше и легко может случиться опять. Прочие члены правления сидели молча; вероятно, многие из них были возмущены Солоном, но, помня о его недавнем несчастье, не решались обрушиться на него. Эверард, которого с ним связывали многие годы совместной работы, испытывал даже некоторые угрызения совести. Он усиленно подыскивал слова, которые помогли бы разрядить атмосферу, но Солон заговорил снова: — Я, как вы знаете, квакер, а наше религиозное учение не одобряет того бешенства наживы, которое сейчас овладело многими людьми. Да, многих, слишком многих развратила эта жажда наживы. Быть может, отдельному человеку трудно что-либо сделать против этого, но я по крайней мере могу сделать одно: отказаться от участия в том, что я считаю безнравственным. В комнате водворилось гробовое молчание. — Джентльмены, — заключил Солон свою речь. — На моем письменном столе вы найдете объяснительную записку к тем делам моего отдела, которые остались незаконченными. Если потребуются какие-нибудь дополнительные справки, пожалуйста, не стесняясь, обращайтесь ко мне в любое время. А теперь — прошу извинить меня… С этими словами он откланялся и, выйдя из комнаты, затворил за собою дверь. Тотчас же поднялся шум. — Он сошел с ума! — закричал Уилкерсон. — Это семейная драма на него так подействовала, — сказал Бэйкер. — И немудрено, — газеты раструбили об этом по всей стране, — заметил Сэй. — Мне лично его очень жаль. — У него попросту нервное переутомление; он правильно делает, что уходит, — сказал Бэйкер, и Уилкерсон тут же поспешил согласиться с ним. — Да, так, пожалуй, лучше, — подтвердил он, — хотя можно сказать наперед, что другого такого казначея нам не найти. — И собственно говоря, он во многом прав, — сказал Эверард, несколько взволнованный теми обвинениями, которые Солон бросил им всем. — Беда только в том, что его нравственные принципы чересчур строги для нашего времени…
Глава 62
Меж тем для Этты минувший год был годом осуществления всех ее надежд и желаний. В Уилларде Кейне она нашла то, о чем мечтала, — чуткого возлюбленного, в ком любое ее настроение, любая прихоть души находили отклик и понимание. Время шло, и, встречаясь с ним почти каждый день, она привыкла связывать с ним все свои мысли. Правда, она продолжала посещать университет — хотя отдавала занятиям все меньше и меньше времени — и удерживала за собой комнату, которую делила с Волидой: инстинкт подсказывал ей, что в отношениях с Кейном лучше сохранять известную независимость. С первых же дней она дала себе слово никогда не мешать его работе, потому что художник, страстно преданный искусству, не терпел никаких вторжений в свою творческую жизнь. Но в то же время его трогало и увлекало горячее стремление Этты поближе узнать тот мир, который был его миром; он охотно проводил с ней многие часы, объясняя значение цвета, композиции, рисунка или обсуждая достоинства той или иной живописной техники, и эти беседы придавали их отношениям особую утонченную прелесть. Этта была наделена от природы большой силой чувственного воображения; оно впервые пробудилось в ней под впечатлением тех книг, которые так потрясли и возмутили ее отца, но лишь теперь оно обрело простор. Кейн, красивый, физически привлекательный, был близок ей и по душевному складу, и ей казалось, что, наконец, она узнала совершенную любовь. Ни одну из героинь Дюма, Бальзака, Доде не любили так страстно, как ее! Вся обстановка мастерской поддерживала и усиливала в ней жажду любви: этюды обнаженного тела, развешанные по стенам, античный торс (копия в натуральную величину) той совершенной красоты, которая выше чувственных желаний. Однажды, когда любовник сказал ей, что ее тело прекраснее этой греческой статуи, ей вспомнились строчки из Доде, которые так взволновали ее прошлым летом в Торнбро:Я крови сердца не жалел, чтоб жизнь вдохнуть
В холодный мрамор тела твоего, Сафо…
Глава 63
В дни, когда Этту особенно томила тоска, овладевшая ею после отъезда Кейна, газеты вдруг принесли ошеломляющую весть о преступлении, которое якобы совершил Стюарт, и об его аресте. Этта была потрясена до глубины души. Как, ее любимый брат обвинен в изнасиловании, даже в убийстве, и жертва — молоденькая девушка, которой, видно, как и ей, Этте, хотелось скорее познать жизнь! Но ведь это означает, что Стюарту грозят тяжкие страдания и в конце концов гибель, а на всю семью ляжет несмываемое пятно позора. Мысли вихрем закружились у нее в голове. Что будет с отцом при его религиозных убеждениях? С матерью, так неизбывно любящей всех своих детей, с Орвилом, насквозь пропитанным условностями и предрассудками, с Доротеей, которая чуть не на завтра после замужества очутилась перед лицом такого скандала в родной семье! А бедная, одинокая Айсобел, и так уже достаточно обделенная жизнью, не знавшая ни любви, ни счастья, — что, если из-за огласки, которую получила эта страшная история, ей придется оставить свою скромную педагогическую работу! Мятущееся воображение Этты завело ее так далеко, что она уже готова была отчасти винить в случившемся себя: разве не она первая взбунтовалась против воли родителей и тем показала пример младшему брату? На следующее утро она прочла в газетах о самоубийстве Стюарта, и тогда, в первый раз в жизни, она упала на колени и зарыдала. В довершение всего пришла телеграмма от Айсобел, настаивавшей, чтобы она приехала на похороны. Но Этта не нашла в себе мужества вернуться к родителям в такой тяжелый для них час. Как она взглянет в глаза матери после того разговора в Нью-Йорке, когда она уверяла, что в ее отношениях с Уиллардом Кейном нет ничего дурного? Она во всем обманула их доверие и должна оставаться одна, отвергнутая и позабытая. Первое время после отъезда Кейна Волида не придавала особого значения переживаниям Этты. Втайне она даже считала, что все к лучшему. Ничто теперь не будет мешать Этте сосредоточиться на занятиях, которые та запустила за последнее время. Но когда она увидела, что дни идут, а Этта тоскует все больше и больше, она поняла, что разлука с возлюбленным едва ли поможет подруге вернуться к прерванному учению. Она попыталась развлечь ее: водила в театры, на концерты, в рестораны, где собиралась занятная публика, но Этта, казалось, утратила свой жадный интерес к жизни. Потом пришло известие о трагическом конце Стюарта, и, видя страдания Этты, Волида решила, что, пожалуй, лучше всего ей будет уехать домой. С такой, как она сейчас, растерявшейся, глубоко несчастной, бессмысленно было вести разговоры о работе. Да и не для работы, а для любви и семейной жизни была создана Этта. — Не знаю, что бы со мною стало, если б не ты, — сказала как-то Этта в ответ на ласковые старания Волиды утешить ее. Но Волида понимала, что ей уже не найти доступа к душе Этты; слишком та опередила ее в любви и в скорби. Эти месяцы жизни в Нью-Йорке породили невольное отчуждение между подругами; обе стали взрослыми, но по-разному. Волида шла избранной ею дорогой профессиональной карьеры, а Этта — сложными и извилистыми путями, делающими женщину женщиной. И хотя Волида знала, что будет скучать без Этты, она не боялась остаться одна. Ее будущее в Нью-Йорке казалось обеспеченным — на летние месяцы ей обещали работу в одной газете, тогда как перед Эттой не вырисовывалось пока никаких перспектив. Кроме того, Этта все время находилась в подавленном, тяжелом настроении, которое могло отразиться на ее здоровье. И потому Волида стала уговаривать подругу вернуться домой, доказывая, что она в любое время может снова приехать и поселиться в их общей комнате, и уверяя, что их былая дружба — самое прекрасное, что только знала она, Волида, в своей трезвой, деловой жизни. Письмо от Айсобел, в котором та пространно описывала похороны Стюарта и сообщала об уходе отца из банка, помогло Этте решиться.«Ты даже не представляешь себе, как сейчас тяжело дома, — писала Айсобел. — Мама почти не встает с постели. Она очень слаба, и доктор подозревает, что у нее был небольшой удар. На отца невозможно смотреть без слез. Если бы ты приехала, было бы не так тоскливо. Вдвоем нам, может быть, удалось бы хоть немного отвлечь его от тяжелых мыслей и внушить какой-то интерес к домашним заботам. Есть множество мелочей, которыми он мог бы заняться в саду или на ферме, только бы вывести его из оцепенения — ведь он целые дни сидит и молчит. Бояться тебе нечего, он теперь стал совсем другим человеком и ни на какую суровость не способен. Смерть Стюарта совершенно изменила его. Это уже не тот строгий отец, которого мы знали с детства. Мне самой очень нужно, чтоб ты приехала. Мне нужно с кем-то поговорить обо всем, посоветоваться. Я очень боюсь, что мама долго не проживет. Если ты не приедешь, мне придется совсем отказаться от преподавания в колледже, а ты знаешь, что это для меня значит. Работа — единственная моя радость в жизни, единственное, что позволяет мне чувствовать себя человеком».Спустя день или два после получения этого письма Этта собрала свои вещи, со слезами простилась с Волидой, смутно чувствуя, как ей будет недоставать поддержки этой деятельной натуры, и уехала в Даклу.
Когда экипаж, встретивший Этту на станции, въехал в ворота усадьбы, ее неожиданно охватило теплое, радостное чувство. До чего же хорош родной дом, несмотря ни на что, думала она, эта трава, эти цветы и деревья, эта широкая лужайка, тихие струи Левер-крика вдали. От волнения у нее так захватило дух, что, увидя Айсобел, улыбавшуюся ей с крыльца, она не могла вымолвить ни слова. Но в следующий миг она кинулась на шею сестре, и они крепко обнялись. — Как мама? — спросила Этта. Айсобел приложила палец к губам. — Мама сегодня особенно слаба. Постарайся не волновать ее. Она у себя, наверху. Вдвоем они поднялись по лестнице и вошли в тихую комнату с серыми стенами, где на кровати лежала Бенишия, бледная и осунувшаяся, словно надломленная обрушившимся на нее горем. Этта взглянула — и тотчас же все, что прежде так давило, теснило, угнетало ее в этом доме, перестало существовать. Она почувствовала себя обласканной, согретой. Все, все здесь было ей близко, понятно, бесконечно дорого — отец, мать, Айсобел, Стюарт, даже Орвил и Доротея. С криком: «Мама, мама!» — она бросилась к матери, обхватила ее руками. «Девочка моя!» — донесся до нее еле слышный шепот. И Этта поняла, что мать простила ей все. В ту же минуту ее неудержимо потянуло к отцу. Айсобел сказала, что он у себя в кабинете, один. Она сошла вниз, постучалась, услышала: «Войдите», — переступила порог и остановилась. Перед ней был совсем новый, другой Солон, не тот, что грозно отчитывал ее за чтение романов или за кражу материнских драгоценностей; не тот, что поехал за ней в Висконсин и с жаром пытался доказать ошибочность избранного ею пути, а потом замкнулся в суровом молчании, словно предвидя ее печальную судьбу. Он поднял голову и посмотрел на нее. Но как непохож был этот взгляд на те, которыми сопровождались когда-то его упреки и обличения! Эти глаза! Куда девалась отражавшаяся в них сила морального убеждения, с высоты которого он судил обо всех явлениях жизни, в том числе и об ошибках собственных детей? Французские книги Волиды! Разговор в Висконсине, когда он потребовал, чтобы она отдала ему квитанции на заложенные драгоценности матери! И вдруг в ее памяти ярко вспыхнула одна сказанная им при этом фраза: «Как ты могла ждать чего-нибудь хорошего от воровства?» Но где же тот ясный и строгий свет, что сиял тогда в его глазах? Теперь их как будто заволокло серой, туманящей зрение дымкой. Он не шевелился в своем кресле; но эти тусклые, словно слепые глаза были устремлены прямо на Этту. — Отец! — вскричала она. — Прости меня, отец, я знаю, сколько горя я тебе причинила, но мне так нужно твое прощение и твоя любовь. Можешь ли ты простить меня? Она по-прежнему стояла у двери, а он сидел в кресле все так же неподвижно и смотрел на нее. Минута прошла в молчании, потом он сказал: — Дочка, не мне и не тебе судить или прощать кого бы то ни было; теперь я это знаю. Бог, только он один, может простить тебя. Молись же ему каждый час, как я молюсь. Бесконечно растроганная его тоном и всем его видом, Этта подошла к нему, сдерживая подступавшие слезы. — Отец, я вернулась, чтобы хоть чем-нибудь исправить зло, которое я нанесла. Я люблю тебя всем сердцем, и мне так хочется быть полезной тебе и маме. Он повернулся к ней и взял ее руку. — Это твой дом, дочка, и если ты хочешь остаться здесь, пусть будет так. Она обняла его за шею и поцеловала, а он, словно в подкрепление своих слов, слегка сжал ее руку. И Этта почувствовала, что в эту минуту жизнь обрела для нее новый смысл. Ее родной дом! Ее отец и мать! Призрачные мечты, смущавшие их, детей! Да, она останется здесь и всеми силами постарается внести уют и радость в этот потерпевший крушение дом.
Глава 64
Но, несмотря на все заботы близких, спустя десять дней после возвращения Этты в Торнбро у Бенишии повторился удар, и она умерла. Слишком тяжело отразилась на ней гибель Стюарта; она беспрестанно думала о нем, о том, какой он был живой, веселый, порывистый, вспоминала его бурный юношеский расцвет, так жестоко оборванный смертью, и эти мучительные воспоминания окончательно надломили ее нервную систему. Изнеженная с детских лет сперва лаской и заботой родителей, а потом своим безмятежным супружеским счастьем, она оказалась не в силах справиться с тяжелым потрясением, выпавшим на ее долю. И Этта с Айсобел в конце концов даже решили, что это лучше, чем если бы она осталась жить, разбитая параличом. Что касается Солона, то он так много молился о Бенишии, так привык жить этими молитвами, постоянно обращаясь за руководством к Внутреннему свету, что в ее смерти он увидел лишь переход в лучший мир, где ее ждали радость и утешение, которых он уже не мог ей дать. Его горячо любимая жена! Вместе они изведали все глубины человеческого страдания, зато теперь она избавилась от земных тягот и находится перед престолом того, кто вечен и неизменен! Так думал Солон, но в ушах у него, точно глухие удары колокола или мерное тиканье старинных часов, все время отдавались эти два имени: Стюарт — Бенишия, Стюарт — Бенишия, и утомленное сознание искало выхода в молитве: «Да свершится воля твоя…» В первые дни после смерти Бенишии Айсобел и Этта всячески старались выказать Солону свою любовь и нежность и дать ему почувствовать, что жизнь в доме идет почти так же, как шла до сих пор. Вдвоем или поодиночке они гуляли с ним в саду, по дорожке, ведущей к каретному сараю, или по тропинкам, вьющимся вдоль берега Левер-крика. Цветы, деревья, зеленые лозы отражались в спокойной воде. Солон понимал, что вся эта красота, так радовавшая всегда Бенишию, должна радовать и его; но оттого, что ее не было рядом, прекрасное уже не казалось ему прекрасным. Она так любила и деревья, и цветы, и эти тропинки над Левер-криком, а теперь… — И часто он поворачивал и шел домой, если только одна из дочерей, заметив это, не окликала его и не заставляла вернуться. Мысли, мысли его! Они были не здесь, они уносили его к ней, к тем светлым дням, когда еще не сломили их обоих тяжкие несчастья. Этта и Айсобел надеялись, что движение, созерцание красот природы укрепит и подбодрит его, но, видя, как он отворачивается от прекрасных картин, к которым они старались привлечь его внимание, они теряли эту надежду. И обе страдали не меньше, чем он, — быть может, даже больше. Их изумляла та покорность судьбе, которая, казалось, постепенно овладевала им. То одна, то другая подмечала на его лице выражение, позволявшее думать, что он обрел какой-то глубокий покой, — такие лица можно увидеть в молитвенном собрании, когда верующие, в сосредоточенном безмолвии, ожидают вдохновения свыше. И как никогда ранее, они чувствовали, что Внутренний свет существует и что это он помогает их отцу преодолевать тяжкое горе. Как-то раз, гуляя по берегу Левер-крика, Солон стал приглядываться ко всевозможным растениям и насекомым, как видно созданным и пробужденным к жизни той самой животворящей силой, которая сотворила все сущее на земле в его бесконечном разнообразии красок и форм. И вот у одного растения с длинным, чуть не в четыре фута стеблем он заметил небольшой бутон, готовый вот-вот распуститься, а на бутоне сидела и объедала его зеленая муха необыкновенно изящного строения и раскраски, с прозрачными крылышками, делавшими ее похожей на изумруд, — только переливы оттенков в ней были более теплыми и нежными. Зеленый изумруд, думал Солон, разглядывая муху, — всего лишь твердый, неизменный в своей форме камень, а это насекомое беспрестанно меняет форму, стоит ему только пошевелить лапками, крылышками или головой. Оно усердно насыщается, но в то же время следит за тем, что происходит вокруг; такая сложность поведения поразила Солона, впервые наблюдавшего это, — ни разу до сих пор, ни на окрестных полях, ни на лугах своей усадьбы, не случалось ему видеть подобной зеленой мухи. И более того: следя за ней сейчас, он пришел в восхищение не только от ее красоты, но и от той мудрости и совершенного мастерства, которые были вложены творцом в создание этого живого самоцвета. Но почему же прелестное существо, пленившее его своим изяществом, должно питаться соками другого живого существа, прекрасного цветка? Ведь, объедая бутон, оно губит цветок, а растение даже не может защищаться. Кто же должен остаться в живых — муха, растение или оба? Все эти думы так захватили Солона, что внимательнейшим образом рассмотрев растение и муху, он стал искать вокруг себя другие подобные чудеса. Он всматривался в воду, где шныряли разные мелкие рыбешки; таких же точно много лет назад он вылавливал сачком для юной Бенишии, ушедшей теперь к тем таинственным силам, о которых он здесь размышлял. В ветвях деревьев щебетали птицы, а над кустом порхал мотылек, — еще недавно он был неподвижной куклой, но и ему суждено жить, и страдать, и даже летать по воздуху, подобно крылатому цветку, хотя бы одно короткое лето. Солон продолжал свои наблюдения. Его взгляд привлекала то былинка, то стебель ползучего растения, то цветочек, такой же непостижимый в своей прелести, как давешняя зеленая муха; и мало-помалу чувство глубокого благоговения охватило его. Да, существует некая божественная созидательная сила, и все в природе, прекрасное и трагическое, имеет свой смысл. Ведь вот, разыгралась же в его жизни трагедия, а он верил и будет верить и впредь. И, возвратившись мыслью к Бенишии, он стал молиться этому великому созидательному началу, испрашивая покой ее душе. Как-то в другой раз Солон гулял по саду один, а Этта и Айсобел следили за ним из окна столовой. Вдруг он остановился и круто свернул в сторону, привлеченный чем-то, чего они не могли увидеть. Сестры удивились: давно уже не случалось отцу двигаться так быстро и энергично. Он сделал три или четыре шага влево, остановился, сделал еще три или четыре шага вперед, снова остановился, и они заметили, что он шевелит губами, словно разговаривая с кем-то. Когда он вернулся домой, Айсобел спросила: — Что ты такое увидел в траве, отец, что так заинтересовало тебя? Нам даже показалось, будто ты с кем-то разговаривал. — Дочка, — ответил Солон, — я сейчас узнал о жизни и о боге то, чего никогда не знал. В траве полз уж, и хоть я знаю, что это существо безвредное, но при виде его я невольно ощутил страх, потому что ужи этой породы, если их испугать, вытягивают вверх голову и раздувают шею точь-в-точь как ядовитая индийская кобра. Но все же я решил заговорить с ним. Я знаю, что он безвреден, сказал я ему, и не стану его трогать, пусть себе ползет, куда хочет. И тотчас же его шея приняла свой обычный вид, голова опустилась, и он пополз дальше. Тут мне захотелось посмотреть, какой он длины; я пошел было за ним, но он сразу опять поднял голову и стал раздуваться, как кобра. Тогда я снова заговорил с ним, уверяя, что не хочу ему зла и не собираюсь за ним гнаться. Сказав это, я вернулся на прежнее место и остановился: мне хотелось посмотреть, как он уползет. И вдруг он повернул и двинулся прямо ко мне. Он прополз так близко, что задел носок моего башмака. — Удивительно! — воскликнула Этта. — Дочка, я теперь понял, как мало мы знаем о том великом и бесконечном, частицей чего является каждый из нас, — понял и то, что, кроме языков, известных людям, есть на свете другие языки. — Что ты хочешь сказать, отец? — спросила Айсобел. — Я хочу сказать, что язык добра понятен всем живым существам, и потому этот уж понял меня, как и я его. Он не хотел причинить мне вреда, он просто испугался. А я подошел к нему не только с добрыми намерениями, но и с любовью, и, поняв это, он перестал бояться и подполз ко мне так близко, что коснулся моего башмака. И я благодарен богу, явившему мне доказательства того, что он вездесущ и добр ко всему живому, к каждой твари своей. Ибо разве я и этот уж поняли бы друг друга, если бы мы оба не были частицами божьего мира? — Скажи мне, отец, ты всегда воспринимал природу так? — спросила Этта — Нет, дочка, до недавнего времени я о многом думал совсем иначе, чем думаю теперь. Многого я не понимал, хотя мне казалось, что понимаю. Господь научил меня смирению и в милосердии своем открыл мне глаза на то, чего я не видел раньше. Теперь я знаю, что ко всякому божьему творению нужно относиться с любовью. — Отец, дорогой… — начала было Этта, но, потрясенная глубокой человечностью этого признания, не могла продолжать. Поддерживая отца, она вместе с Айсобел помогла ему подняться в его комнату. Видя, что в Солоне проснулся интерес к парку и к усадьбе, Айсобел и Этта решили, что, может быть, он захочет вернуться и к своим религиозным обязанностям, и в ближайший День первый осторожно предложили ему поехать в молитвенный дом — конечно, вместе с ними. Он подумал, что дух искупления, царящий в молитвенном собрании, может благотворно подействовать на Этту, и, чувствуя себя уже достаточно окрепшим, чтобы не бояться неминуемых разговоров и расспросов, — тем более что присутствие обеих дочерей будет служить ему поддержкой, — согласился. Когда экипаж, которым правил старый Джозеф, остановился перед даклинским молитвенным домом, в группе, стоявшей у входа, произошло едва заметное движение, и оно тут же передалось другим членам общины, уже успевшим занять свои места. Осия Горм, увидя Солона на пороге, тотчас встал, пошел ему навстречу и, взяв его за руку, повел за собою к возвышению, где сидели старейшины; и Солон, немного смущенный таким почетом, в то же время почувствовал глубокую признательность к собратьям по общине, оказавшим ему этот почет. Наступило молчание, казавшееся сегодня особенно торжественным. Из всех квакеров, находившихся в зале, меньше всех был расположен взять слово для проповеди Солон Барнс. Но сердце его вдруг так переполнилось чувством благодарности за возвращение Этты, за любовь и заботу обеих дочерей, за все милости, ниспосланные ему творцом в эту страшную пору его жизни, что он, сам того не ожидая, встал и произнес: — Твердого духом ты хранишь в совершенном мире; ибо на тебя уповает он.Прошло еще несколько недель, и силы Солона, физические и душевные, казалось, восстановились настолько, что дочери почти перестали за него опасаться. Лето подходило к концу, и Этта, думая об Айсобел, обо всех испытаниях, через которые ей пришлось пройти прежде, чем она достигла своего нынешнего положения, решила уговорить ее вернуться к осеннему семестру в Льевеллин. Она считала своей обязанностью взять на себя бремя хозяйства и освободить сестру, чтобы та могла продолжать педагогическую работу, хоть немного скрашивавшую ее унылое существование. Накануне отъезда Айсобел, дождавшись, когда Солон ляжет спать, сестры вышли побродить в вечернем сумраке по дорожкам над Левер-криком. Они шли рука об руку; эти последние месяцы очень сблизили их. Разговор неожиданно начала Айсобел: — Я скажу тебе, Этта, отчего мне особенно хочется вернуться в Льевеллин. Во-первых, меня там ждут две студентки, с которыми я отдельно должна заниматься этой осенью, а во-вторых, — она немного замялась, — во-вторых, профессор, у которого я работаю ассистенткой, рассчитывает на мое возвращение, а для меня так много значит его дружба. — И, поймав удивленный взгляд Этты, она поспешно продолжала: — Ты не думай, это не любовь и даже не ухаживание, просто он ко мне очень хорошо относится, доверяет мне настолько, что иногда поручает читать за него лекции, если он слишком занят исследовательской работой. Ах, если б ты знала, какой это интересный человек и как он добр ко мне! Иногда вечером мы выходим погулять вдвоем; я очень дорожу этими прогулками — ведь у меня так мало настоящих друзей. Что-то в ее голосе взволновало Этту. Она невольно сравнила скудные желания и убогие радости сестры с той полнотой чувств, которую привелось испытать ей. Но тут же ей стало стыдно. Она вспомнила, с каким пренебрежением относились всегда к Айсобел не только чужие, но даже братья и сестры,более щедро одаренные судьбой. Орвил и Доротея никогда не любили ее и не интересовались ею; Доротея даже доставила ей немало страданий, потому что всякий раз, когда младшая сестра появлялась там, где училась старшая, — в Ред-Килне, в Окволде, в Льевеллине, — ее красота и успех среди сверстниц еще сильней подчеркивали непривлекательность и одиночество Айсобел, и сама Айсобел видела это лучше других. Что касается Этты и Стюарта, то они были настолько моложе, что попросту не замечали старшей сестры, считая ее чем-то вроде мебели в доме. Таким образом, Этта только теперь, в это тяжелое для семьи время, по-настоящему узнала Айсобел и, к немалому своему удивлению, обнаружила в ней чуткую, отзывчивую душу. Как сильно она отличалась от Волиды, например, — никогда не вылезала вперед, не стремилась командовать, напротив, всегда старалась стушеваться, отойти в тень, как будто ее природный ум и годы бескорыстного труда не имели никакой цены. А между тем, что принесла ей жизнь? Ничего, кроме труда и готовности отдавать себя целиком — сначала дому и учению, потом своим студенткам в колледже и, наконец, теперь отцу. И как это несправедливо, думала Этта, что Айсобел с ее нежной душой так мало видела счастья. Все потому, что она некрасива. Хоть бы ей встретить хорошего человека, который сумел бы оценить ее внутренние достоинства. — Расскажи мне еще об этом профессоре, — попросила Этта — Он не красавец, но в нем столько ума, тонкости, уменья разбираться в жизни! Со мной он всегда охотно советуется по разным вопросам, связанным с его работой, но что касается любви, брака — не думаю, чтобы я интересовала его с такой стороны. И Этта заметила, как при последних словах по лицу Айсобел прошла тень. За разговором сестры незаметно подошли к дому, где уже были погашены огни, и, поцеловавшись на прощанье, разошлись по своим комнатам, согретые взаимной любовью и пониманием. На следующий день Айсобел уехала в Льевеллин, и Этта, многое почерпнувшая из беседы с более счастливой теперь сестрой, осталась с отцом одна.
Глава 65
Чистое и непорочное благочестие перед богом и отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.Как любовно ни заботилась Этта об отце, здоровье его после отъезда Айсобел становилось все хуже и хуже. Он теперь всегда был вялый, сонный, время от времени жаловался на боли. Ежедневные прогулки пришлось прекратить, и в конце концов Этта решила посоветоваться с врачом. Ее беспокоила мысль, что не нравственные страдания подтачивают силы Солона, а какая-то болезнь, быть может, гораздо более опасная, чем можно предположить. И эти опасения подтвердились. Приглашенный ею врач, пользовавшийся известностью в округе, внимательно осмотрел больного, а потом отвел Этту в сторону и сказал, что, по его мнению, у Солона рак; и, возможно, тяжелые переживания, связанные со смертью Стюарта и Бенишии, ускорили процесс. Доктор посоветовал Этте не говорить Солону правды; все равно никакая операция тут не поможет, и болеть ему, вероятно, придется недолго. Лучше, напротив, по возможности скрасить остаток его жизни; пусть он не лежит, а ходит, пока силы позволяют, пусть у него бывают люди, тем более что собратья по общине с искренним участием относятся к его незаслуженным бедствиям, и многие просили разрешения навестить его. Весть о том, что Солон Барнс серьезно болен, быстро разнеслась среди местных квакеров, не говоря уже о родне Барнсов и Уоллинов, хотя никто не знал точно, что у него за болезнь. Один за другим перебывали в Торнбро все старейшины и духовные руководители даклинской общины. Все они выражали свое сочувствие и заботу, советовали искать помощи и утешения у Внутреннего света и ссылались на случаи чудесного исцеления, описанные в дневниках Джорджа Фокса и Джона Вулмэна, а также и у других квакеров первых поколений, причем выражали даже готовность процитировать наизусть соответствующие места. Однажды в День первый, поскольку Солон уже не мог посещать молитвенные собрания, несколько старейшин собрались в просторной гостиной Торнбро. И вот, воспользовавшись минутой молчания, наступившей, когда посетители уже собирались распрощаться, Осия Горм, один из самых старых друзей Солона, вдруг опустился на колени посреди комнаты. Молитве вслух всегда придавалось и придается у квакеров особое значение. К ней прибегают в исключительных случаях, когда внутреннее побуждение настолько сильно, что ему невозможно противиться. Если во время молитвенного собрания один из присутствующих опускается на колени, — что бывает не всегда, — остальные тотчас же обнажают головы (обычно до этого момента все сидят в шляпах), поднимаются со своих мест и стоят в торжественном молчании, пока их коленопреклоненный собрат взывает к богу, как бы от имени всей конгрегации. Вот и теперь, как только Горм опустился на колени, все, включая Солона, встали и, склонив головы, слушали его молитву. — Господи, поддержи слугу твоего, Солона Барнса, который в течение многих лет помогал неимущим и утешал страждущих из нашей среды. Снизойди к нему в его горе и немощи и укрепи его силы. Мы помним слова одного из детей твоих, Джона Крукса, сказавшего: «Отец небесный — пристанище мое, и в нем черпаю утешение, которое проникает мне в плоть и кровь»… Не будем же печалиться в сердцах наших и унывать, ибо ничто не бывает без соизволения божьего, а господь в неисповедимой своей мудрости ведает, что есть благо для того, кто и при самых тяжких испытаниях остается верен любви к всевышнему и в ней обретает силу. Аминь. Постояв еще с минуту молча на коленях, Горм поднялся и присоединился к другим старейшинам, которые были взволнованы не меньше, чем в молитвенном собрании, когда Внутренний свет озаряет их души. Не говоря ни слова, все обменялись рукопожатиями, распрощались с Солоном и один за другим вышли из комнаты. Приезжали в Торнбро также Орвил с женой и Доротея с мужем. Они давно уже отошли от квакерства и были равнодушны к тому, что отец остается верным его заветам. Но в конце концов это был их отец, и, не проявив к нему внимания, они могли вызвать осуждающие толки, а потому сочли себя обязанными приехать. С другой стороны, нельзя было сбросить со счетов то обстоятельство, что Стюарт умер обвиненным в отвратительном преступлении; это набрасывало тень на их родной дом и косвенным образом на них самих. А тут еще Этта — правда, с ее присутствием в доме они решили примириться, в конце концов так для них же было удобнее. Но они заранее уговорились как можно меньше замечать это присутствие. Поэтому, прибыв в Торнбро, они лишь холодно кивнули Этте, вышедшей им навстречу, и тотчас же спросили: «Где отец?» — Услышав, что он у себя наверху, но что к нему можно пройти, они проследовали мимо, всем своим видом показывая крайнее пренебрежение к ней. В спальне отца они невольно вели себя так, что было совершенно ясно, как мало трогает их и его болезнь и те тяжкие переживания, которые к ней привели. Им очень не понравилось то, что Солон так явно радовался присутствию Этты и ее заботам о нем. Он даже не пожелал, чтобы она вышла из комнаты на время их беседы, и то и дело обращался к ней с разными маленькими просьбами, тем самым удерживая ее около себя. И Солон не мог не почувствовать, как далеки и чужды ему теперь эти двое его детей. Занятые своей жизнью, своим положением в обществе, они никогда не проявляли ни малейшего интереса к религии, которая для него была священна. Зато они с живейшим интересом относились к автомобильным поездкам, к пикникам в загородных клубах, ко всему круговороту балов, вечеров и других светских развлечений, составлявших основу той жизни, которую они избрали. О чем, кроме житейских пустяков, могли они говорить с ним? Почти ни о чем. И потому, после довольно натянутых сожалений по поводу его болезни и заверений в своей несуществующей любви, они поторопились покинуть Торнбро. Совсем иначе выглядел приезд Роды Уоллин, явившейся узнать, не может ли она быть чем-нибудь полезной. Рода успела горячо привязаться к младшим Барнсам и разделяла теперь их горе искреннее, чем кто-либо другой. Она очень близко приняла к сердцу трагедию Стюарта, в которой считала себя отчасти виновной, и это сроднило ее с Айсобел и с Эттой, а к Солону заставило отнестись с неподдельным восхищением. И вот теперь Солон медленно умирал, почти у нее на глазах, сохраняя мужество и душевный покой. Она стала часто бывать в Торнбро, внося в дом некоторое оживление, помогавшее приободриться Этте и даже самому больному. Однажды — то было одно из ее последних посещений — она приехала особенно оживленная; даже глубокое горе не могло угасить ее природной жизнерадостности. — Этта, милочка! — воскликнула она, целуя племянницу. — Я просто потрясена тем, что ты оказалась такой замечательной дочерью. Ты даже не знаешь, как я люблю твоего отца, и тебя, и всех вас. К нему можно? Мгновение спустя она уже входила в комнату Солона, сияя улыбкой. — Друг Солон, — сказала она, первый раз за много лет употребив традиционное квакерское обращение. — У тебя сегодня совсем хороший вид! Ах, мне так хотелось бы чем-нибудь помочь тебе! Как хорошо, что Этта теперь с тобой — она такая прелесть! Солон в ответ только ласково улыбнулся и кивнул головой. — Послушай, Солон, может быть, у тебя есть какие-нибудь желания, касающиеся детей? Я от души готова им помочь всем, что только в моих силах, — право же, я люблю их так, словно это мои родные дети. — Рода, ты знаешь, что я всегда рад тебя видеть. Ты мне была хорошим, верным другом. Если можешь, позаботься об Айсобел. Мне кажется, она очень одинока. Что до Этты, то в ней столько мужества и доброты, что я верю: она еще будет счастлива. Мое единственное желание — чтобы она научилась обращаться к Внутреннему свету за поддержкой и руководством. Вот если бы ты в этом помогла ей… Тут голова его склонилась к плечу, и он как будто задремал.
Глава 66
Дни становились короче, а силы Солона все таяли и таяли; ему уже трудно было передвигаться, и он почти не покидал своей комнаты, большую часть времени проводя в постели. Этта не отходила от него, стараясь предупреждать малейшее его желание. Но порой она замечала, что разговор утомляет больного, и тогда она брала книгу или утреннюю газету и читала ему вслух. Нелегко было выбрать что-либо для чтения — он был так безучастен ко всему. Однажды, перебирая в гостиной немногие имевшиеся там книги, она увидела «Дневник» Джона Вулмэна и поспешила отнести его Солону. — Смотри, отец, — сказала она, входя в комнату. — Вот эту книгу ты, по-моему, часто читал, когда мы были маленькие. Хочешь, я тебе почитаю из нее? Он взглянул, и слабая улыбка осветила его изможденное лицо. — Да, дочка, — сказал он, взяв томик из ее рук. — Это поистине замечательная книга. Почитай, я послушаю с удовольствием. Этта начала читать, и с каждой страницей все отчетливей вырисовывался перед ней облик этого американского святого, который, начав жизнь портновским подмастерьем в нью-джерсийской деревушке, приобрел потом славу одного из ревностнейших поборников квакерского учения. Еще в 1746 году он предпринял в одиночку крестовый поход против рабства — объезжал квакерские общины Новой Англии, Нью-Джерси, Пенсильвании и даже Юга и повсюду бесстрашно вступал в споры с квакерами-рабовладельцами, доказывая, что рабство несовместимо с принципами их религиозного учения. И если в 1758 году Общество друзей в Филадельфии приняло официальное решение, возбраняющее членам Общества иметь рабов, — это в значительной мере была его заслуга. Он был человек скромной и непритязательной внешности, стремившийся к простоте в личном обиходе и тщательно избегавший всякой суетности; из страха, как бы чрезмерным украшением своей особы не обидеть тех, кто бедней его, он ходил всегда в одежде из небеленой домотканой холстины и носил простую белую войлочную шляпу — кстати сказать, привлекавшую к нему внимание гораздо больше, чем мог бы привлечь самый дорогой шелковый цилиндр! И он был настолько чужд всякого честолюбия, что даже в своем «Дневнике» почти не упоминал о собственных заслугах в деле борьбы против рабства, предпочитая подробно описывать чужие деяния и чужие жертвы. Видно было, что строки, которые читала Этта, оказывают на Солона такое действие, как звуки давно знакомой и любимой мелодии. Но для нее самой в этих строках как будто впервые открывалась вся сущность веры отца. То был не отвлеченный нравственный кодекс и не религиозная догма общества или секты; то было, говоря словами Вулмэна, «начало, заложенное в человеческом сознании, которое в разных местах и в разное время называлось по-разному; но оно едино в основе своей и исходит от бога. Это — глубокое внутреннее убеждение, рожденное в чистоте души, не ограниченное рамками какой-нибудь религии и ни одной религией не отвергаемое. И все, в ком оно зародилось и зреет, становятся братьями». Дальше оказывалось, что всю жизнь Джоном Вулмэном руководил тот самый Внутренний свет, о котором Этта так часто слышала от своего отца, но не понимала хорошенько, что это значит. Сокровища духа были для Джона Вулмэна столь же реальны, как и явления материального мира, и не раз Истина являлась ему в материальных формах, доступных слуху или зрению. Вот как об этом писал сам Джон Вулмэн:«Однажды, будучи в добром здравии и приехав в Берлингтон, я заночевал в доме одного из местных Друзей. Я лег спать в свой обычный час, но среди ночи проснулся и некоторое время лежал без сна, предаваясь утешительным размышлениям о благости и милосердии божьем. После этого я заснул, но немного спустя проснулся снова. До рассвета было еще далеко, а ночь была темная и безлунная, однако, открыв глаза, я увидел посреди комнаты, примерно в пяти футах от постели, пятно света дюймов девяти в поперечнике; свет был ровный, приятный для глаз, но довольно яркий, особенно в центре. Я лежал и смотрел на этот свет, не испытывая никакого удивления, и тут в ушах у меня зазвучали слова, заполнившие меня всего. То не была мысль, сложившаяся в моем мозгу при виде столь необычайного явления. То был голос всевышнего, говоривший со мною во мне. Он сказал: «Непреложное доказательство божественной истины». Это было повторено дважды, слово в слово, после чего свет исчез».В другом месте Этта прочла:
«Года два с половиной назад я тяжко заболел и был настолько близок к смерти, что позабыл свое имя. Томимый желанием узнать, кто же я такой, я вдруг увидел к юго-востоку от себя какую-то бесформенную массу неопределенного тусклого цвета, и мне было сказано, что эта масса есть не что иное, как живые, человеческие существа, испытывающие величайшие страдания, и что я сам — часть ее, и не должен поэтому думать о себе, как об отдельном, обособленном существе. Так продолжалось несколько часов. Затем раздался нежный, мелодичный голос, прекрасней которого мне никогда не доводилось слышать, и я решил, что то голос ангела, беседующего с другими ангелами. Он произнес такие слова: «Джон Вулмэн умер». Тут я вспомнил, что Джоном Вулмэном некогда звали меня, и так как я продолжал ощущать свое тело живым, мне показалось непонятным — что же должны были означать эти слова? Я не сомневался в том, что слышал голос ангела небесного, но смысл сказанного им оставался от меня сокрытым. После этого дух мой перенесся в подземный рудник, где несчастные, угнетенные люди тяжким трудом добывали неисчислимые богатства для других, именовавших себя христианами; при этом они кощунственно поминали имя Христово, чем я был немало удручен, ибо для меня это имя священно. Но мне было сказано, что эти язычники, слыша, будто те, кто притесняет их, последователи Христа, рассуждают между собою так: «Если Христос повелел им обращаться с нами, как они обращаются, значит, Христос — жестокий тиран!» Но смысл слов ангела по-прежнему оставался для меня тайной, и поутру, когда моя дорогая жена и прочие родичи сошлись у моего изголовья, я обратился к ним с вопросом, знают ли они, кто я. Они ответили, что я — Джон Вулмэн, но при этом сочли меня повредившимся в уме, ибо я ничего не сказал им о словах ангела, не будучи расположен беседовать с кем бы то ни было и желая лишь одного: проникнуть в смутившую меня тайну. Язык мой беспрестанно пересыхал настолько, что я не мог вымолвить ни слова, не пошевелив им прежде во рту, чтобы смочить его слюною, а потому я лежал молча. Но вот спустя некоторое время рот мой чудодейственным образом увлажнился, и я почувствовал, что свободно могу говорить. Тогда я сказал: «Я был распят с Христом, однако живу, ибо это не я, а Христос живет во мне. И дух, ныне животворящий мою плоть, есть дух веры в сына божия, который возлюбил меня и за меня отдал жизнь свою». И тогда тайна раскрылась, и я понял, что в небесах было ликование, ибо еще один грешник раскаялся, и что слова «Джон Вулмэн умер» означали лишь то, что умерла моя единоличная воля. И тотчас же я стал понимать все, как понимал прежде».Чтение этих страниц настолько взволновало Солона, что он как бы почувствовал прилив новых сил; он пожелал встать и пройтись, и действительно ему удалось сделать несколько шагов, опираясь на Этту и старого Джозефа. С того дня он как будто стал крепнуть духом и телом; в нем появилось желание приободриться, быть ласковей с другими. Когда Айсобел в субботу приехала из Льевеллина, он так нежно, так ласково ее встретил, что она даже заметила потом Этте: — Как странно, что отец теперь с нами гораздо ласковее, чем когда-либо! Посмотреть на него, так кажется, будто ему лучше, а между тем мы знаем, что ему хуже. При этих словах у Этты болезненно сжалось сердце: она теперь еще больше любила отца и, казалось, лучше его понимала. Чтение вслух «Дневника» Джона Вулмэна оставило в ней глубокий след. Впервые в жизни она ощутила всю силу той духовной красоты, которою была отмечена жизнь таких людей, как Джон Вулмэн, как ее отец, — и она задала себе вопрос: откуда берется эта красота? В чем ее сила? Не может ли и она, Этта, хоть немного набраться этой силы, чтобы спастись от своей душевной пустоты? Чего ей ждать от будущего? Она не забыла Кейна, и любовь к нему все еще жила в ее сердце. Но отец и Джон Вулмэн мало-помалу научили ее понимать то, что превыше человеческих страстей и связанных с ними эгоистических желаний и стремлений, — мир и радость, заключенные в любви к другим, прежде всего к больному отцу. Отдав себя служению отцу, она узнала, что это значит — служить другим, и не только во имя родственной близости или велений сердца, но и просто ради облегчения человеческих страданий. Что может быть прекраснее такого служения? Во «Введении» к «Дневнику» Вулмэна она прочла: «Религией его была любовь. Любовь заполняла все его существование, заменяла ему все другие страсти», и любовь, о которой здесь шла речь, была обращена прежде всего на бога, а затем на всех людей, на все живое в мире — на бедных, на слабых, на рабов, на рудокопов, тогда как ее любовь была обращена только на одного человека, Кейна. Именно эта великая любовь одухотворяла ее отца, именно она помогла ему развеять сгустившуюся над ним черную тень горя, которая едва не погасила в нем пламя жизни; под ее благотворными лучами вновь расцвели в нем интерес и сочувствие к другим — к ней и к Айсобел, к цветам, к насекомым, к рыбкам в Левер-крике и даже к змее, чудом понявшей ласку, которая звучала в его голосе. А теперь и в Этте затеплилась такая любовь, и она была готова раствориться в ней всем своим существом. В этой любви и единении со всей природой не было ничего случайного, изменчивого или разочаровывающего, — ничего такого, что вспыхивает в одно мгновение и может отгореть в следующее. Эта любовь была постоянной, как сама природа, которая повсюду одна и та же, в солнечном сиянии и во мраке, в трепетной прелести рассвета и в звездном великолепии ночи. И любить так значило постигнуть самую суть бытия.
Глава 67
Солон доживал последние дни. Всего три месяца прошло с тех пор, как врач определил его болезнь, и вот уже стали появляться отдельные и вначале еще редкие признаки надвигающегося конца. Ему теперь особенно трудно давались переходы от сна к бодрствованию и наоборот. Колени подкашивались при ходьбе, слабела память, иногда желая попросить о чем-нибудь или высказать пришедшую в голову мысль, он путался в словах. Как-то утром, когда Этта подошла к его изголовью, он поднял на нее глаза и спросил слабым голосом: — Дочка, что сталось с тем бедным стариком, который умирал от рака? Сердце Этты сжалось от боли, когда она услыхала этот странный вопрос; слезы подступили к горлу, и она не могла выговорить ни слова. Наконец, овладев собой, она переспросила: — Что ты говоришь, отец, какой старик? — Ну… ну… — забормотал он, — ну, тот, у которого сын покончил с собой. Этта, потрясенная, не нашлась, что ответить. У нее заволокло глаза, и она с трудом подавила рыдание. Ей захотелось убежать без оглядки, хотя бежать, в сущности, было не от чего, разве только от страшной мысли, что у отца помутился рассудок. Вызванный тут же доктор долго уговаривал ее успокоиться и примириться с сознанием неизбежности происходящего; все равно — ей остается лишь тщательным уходом облегчать страдания отца и в случае каких-либо заметных перемен немедленно дать знать ему, врачу. Но никаких перемен в ближайшие дни не произошло, если не считать того, что Солон время от времени спрашивал, как чувствует себя Бенишия, видимо забывая о том, что она умерла, и несколько раз справлялся о каких-то документах, которые будто бы должны были прислать из банка. Однажды Этта принесла ему несколько поздних желтых хризантем, уцелевших во время заморозков. Он с минуту глядел на них, потом пробормотал: — Золотые слова… — О чем ты говоришь, отец? — спросила Этта. — Дочка, — медленно, но внятно произнес он, — помнишь тот священный текст, который мы с твоей матерью повесили на стене в столовой? — Золотистый оттенок хризантем, видно, напомнил ему желтый цвет шерсти, которой были вышиты слова на коврике, подаренном им когда-то Бенишии: «В почтительности предупреждайте друг друга». — Попроси старого Джозефа, пусть он принесет его сюда и повесит так, чтобы он был у меня перед глазами. Она поспешила выполнить его просьбу, радуясь, что может сделать ему приятное, и когда коврик с текстом был повешен на указанном месте, он, с улыбкой любуясь на него, сказал: — Таков был дух нашего дома. — Был и есть, отец, — сказала Этта, целуя его в лоб. Потом они долго говорили о Бенишии, вспоминали разные маленькие происшествия тех светлых, счастливых лет, когда вся семья еще жила вместе. И это была последняя задушевная беседа отца с дочерью. В тот же вечер Солону внезапно сделалось хуже. Он стал заговариваться, произносил без всякой связи отдельные фразы, то вовсе бессмысленные, то, напротив, исполненные глубокого значения. Так, например, он вдруг совершенно отчетливо проговорил: «Надо всегда быть честным и с богом и с самим собой». В другой раз он ни с того ни с сего стал настойчиво повторять: «Банки! Банки! Банки! Банки!», а немного спустя вдруг сказал: «Беднота — и банки!» Слушая эти бессвязные речи, в которых отражались обрывки мыслей о религии и об общественном устройстве, бродивших, видно, в его слабеющем мозгу, Этта решила вызвать Айсобел. Та приехала и, взглянув на отца, тоже поняла, что жить ему осталось немного. Но было видно, что в эти последние часы своей жизни Солон думает о религии, о ее животворящей силе; в день приезда Айсобел, когда обе дочери сидели у его постели, он вдруг совершенно явственно произнес: — Вот видите… если кто нуждается в помощи божьей и взывает о ней, бог слышит его голос… Никогда не оставит человека в нужде… И это замечание утешило Этту и Айсобел и придало им силы для предстоящего испытания, ибо Солону не становилось лучше и больше он уже почти не говорил. Убедившись из слов врача, что положение Солона безнадежно, Этта сочла нужным предупредить Осию Горма, самого старинного и самого преданного из его друзей и почитателей. Горм тотчас же приехал в Торнбро, и Этта, оставив его в гостиной с Айсобел, пошла наверх, взглянуть, не спит ли отец, и прибрать в его комнате, чтобы Горм мог войти. Когда она подошла к постели, Солон взял ее за руку и посмотрел на нее с таким выражением, словно она задала ему вопрос, требовавший ответа, — хотя на самом деле она ничего не говорила. Потом лицо его отразило напряженную работу мысли, и он спросил: — К кому же прибегнуть тебе, если не к Внутреннему свету? Этта вздрогнула и невольно оглянулась, словно этот вопрос мог быть обращен не только к ней, но и к кому-то третьему, только что вошедшему в комнату. Но никого не было, и, видя, что глаза Солона снова закрылись и он как будто задремал, Этта потихоньку опустилась на колени и прошептала: — Я тебя недостойна, отец, теперь мне это ясно. Но он не шевелился и не открывал глаз, и тогда она поняла, что он умер, и, поднявшись с колен, зарыдала. В это мгновение в комнату вошли Айсобел и Осия Горм. Айсобел замерла на пороге, Горм же, взглянув на Солона и слыша рыдания Этты, подошел и сказал: — Дочь моя, мне понятна твоя скорбь, ибо отец твой был поистине оплотом нашей веры, и память о нем будет служить поддержкой всем, кто знал его хотя бы только по имени.Эпилог
И вот настал день погребения Солона Барнса — в том самом Торнбро, который некогда был родным и любимым домом его отца и матери, а после смерти отца — его и Бенишии; где, по крайней мере в первые десять лет своей семейной жизни, он знал одни лишь радости и душевный покой, сочетавшийся, хоть он и не стремился к тому, с житейским благополучием. Сюда, для отдания последнего долга этому поистине выдающемуся и много испытавшему другу и отцу, съехались не только его дети — Орвил с женой, Доротея со своим светским мужем, Айсобел, как всегда задумчивая и молчаливая, и Этта, но, кроме них, Рода Уоллин, до сих пор мучимая укорами совести из-за той роли, которую она сыграла в гибели Стюарта, а также Стоддарды из Трентона, Бенигрейсы из Метучена и многочисленные Уоллины из Филадельфии, не говоря уже о Сэйблуорсе и Эверарде из Торгово-строительного банка. Собрались и глубоко опечаленные старейшины и рядовые члены даклинской общины, которые всегда находили в Солоне мудрого и отзывчивого собрата, готового выслушать любого из них и в меру своих сил помочь тому, кто попал в беду. Двое из них, одетые в традиционное квакерское платье, специально следили за тем, чтобы, согласно «Книге поучений», проводы покойного не длились чересчур долго, чтобы не было ничего показного и лишнего, никаких ненужных и бесплодных речей. Вся церемония прощания должна была занять не более часа; затем, после нескольких минут торжественного молчания, тело должны были с почетом отвезти на кладбище даклинской общины, где уже лежал Стюарт, а рядом с ним Бенишия, ожидавшая своего возлюбленного супруга. Окончились минуты молчания, и все уже готовились тронуться в путь: Орвил взял под руку Алтею, Доротея — своего мужа, и только Айсобел стояла одна, потому что Этта, не будучи в силах справиться со своим волнением, вдруг куда-то исчезла. Но тут из глубины полуосвещенной гостиной появилась высокая подтянутая мужская фигура; неизвестный подошел к Айсобел и подал ей руку. То был Дэвид Арнольд, ее профессор, и, судя по тому, как просветлело лицо Айсобел, его неожиданное появление здесь, подле нее, сказало ей, что ее мечта о друге в конце концов не осталась безответной. Наступила последняя минута. Одетые в черное люди молча встали по обе стороны гроба, а друзья и родные покойного подошли бросить на него прощальный взгляд. Но Этта, подойдя к гробу и взглянув еще раз в мертвое лицо отца, не выдержала — кинулась в соседнюю комнату и там разрыдалась; рыдания ее становились все громче, все сильнее, по мере того как вся скорбная история семьи мелькала перед ее мысленным взором. Ибо несмотря на те неусыпные заботы, то нежное внимание, которым она окружила отца, возвратясь из Нью-Йорка после крушения своей любви, Этта не переставала остро ощущать свою долю вины в этой общей трагедии. Ее отец! Ее мать! Чего стоили все ее заблуждения и то своеволие, которое она проявила! Теперь только она поняла, в какой неимоверной тревоге они жили с того дня, когда она покинула родной дом! Ее безрассудная жажда любви! Ее полное неумение понять духовные идеалы отца! И все это — задолго до того, как ненасытное стремление Стюарта к показной роскоши и чувственным удовольствиям привело его к гибели — гибели от своей же руки! Ей вспоминались ее собственные чувственные мечтания: молодой человек на велосипеде у стен Чэддс-Форда, французские романы, Волида, Кейн — как много все это значило раньше и как мало значит теперь! В это время в комнату вошел Орвил, которому понадобилось поправить развязавшийся галстук; увидя плачущую Этту и вспомнив сразу все, что он называл ее себялюбивым, безнравственным поведением и считал одной из причин дурной славы, которая теперь пошла про семью, он остановился и заметил: — Что ты плачешь? Ведь это ты положила начало всем несчастьям в нашей семье! Она с трудом подавила одолевавшие ее рыдания и ответила, без тени злобы или упрека: — Ах, я не о себе плачу и даже не об отце — я плачу о жизни. Тут Айсобел, повсюду искавшая Этту, вошла и, положив руку ей на плечо, сказала: — Полно, Этта, дорогая, не плачь, пора ехать. И, пройдя мимо Орвила, они спустились вниз, где Друзья уже рассаживались по каретам.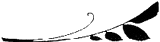
РАССКАЗЫ (цикл)

Первый сборник рассказов — «Освобождение» вышел в свет в августе 1918 года с предисловием известного писателя Шервуда Андерсона и вскоре был переиздан в серии «Современная библиотека). Вошедшие в него произведения были написаны в разное время, а некоторые из них уже публиковались в журналах. Сразу за первым сборником рассказов, в марте 1919 года появился второй сборник «Двенадцать». Прототипами героев сборника являлись люди, хорошо знакомые писателю, — доктор из небольшого городка, в котором Драйзер жил в детстве; нью-йоркский финансист; родной брат писателя Поль; мастер-строитель, под началом которого пришлось работать Драйзеру; владелец санатория, в котором лечился писатель, и другие. Сборник «Краски большого города», изданный в октябре 1923 года, представляет собой зарисовки Нью-Йорка и его обитателей, написанные между 1898 и 1919 годами. Собранные вместе, они дают яркую картину огромного капиталистического города, подчеркивают глубину пропасти, лежащей между бедностью и богатством. Сборник «Цепи», был опубликован в 1927 году. Некоторые из входящих в него рассказов неоднократно отвергались различными журналами. Например, рассказ «Золотой мираж» был отвергнут девятью журналами. «Цепи» редактор журнала «Сэнчери» считал лучшим рассказом писателя и тем не менее отказался печатать его. Последний сборник — «Галерея женщин» был составлен из житейских историй представительниц различных слоев американского общества. Рассказанные большим мастером, истории эти не только с интересом читаются — они показывают непредубежденному читателю, что ожидает женщину в обществе, в котором властвует чистоган.
ИЗ СБОРНИКА «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Западня
Был душный июльский полдень. Поразмыслив несколько месяцев над предостережением, которое сделал ему приятель и политический единомышленник и которое за это время никак не подтвердилось, Грегори решился поехать в приморский отель; он мог позволить себе отдохнуть там, так как уже достиг известного благополучия. Отель был роскошный, «Тритон», всего в часе езды от его конторы, расположенной у моря, среди сосен и песков Айленда. Несмотря на то, что против Грегори, видимо, готовился заговор, жена его, «девочка», как обычно он называл ее, собиралась из-за болезни ребенка поехать в горы к своей матери, чтобы посоветоваться с ней и отдохнуть. Приближалась осенняя предвыборная кампания, и Грегори нельзя было совсем оставить город. И в будние дни и в воскресенье до поздней ночи он занимался поисками и обоснованием фактов, вскрывавших преступность городского управления, — их надлежало пустить в ход в недалеком будущем. Мэра и его клику надо было свалить любой ценой. Грегори знал, что, если это произойдет, он не останется внакладе. В то же время он искренне верил в необходимость того, что делал. Городом управляли преступники. Разыскать упрятанные в воду концы и выставить их на обозрение оскорбленным и возмущенным гражданам — что может быть важнее и благороднее! Но и враг не был беспомощен. Джентльмен, подвизавшийся в издательском деле, — Грегори о нем даже никогда и не слыхал, — позвонил ему и предложил работу на Среднем Западе; она давала бы шесть или даже семь тысяч годовых и держала вдали от родного города по крайней мере четыре-пять лет. Поскольку он не оценил этого предложения, часть его почты начала пропадать, и ему стало казаться, что какие-то странные субъекты проявляют особый интерес с каждому его шагу. Наконец один из местных политических деятелей, состоявший в той же партии, что и Грегори, зашел к нему в контору. — Видите ли, Грегори, дело вот в чем, — сказал он после краткого вступления. — У вас в руках нить, и ведет она к махинациям с земельными участками в Южном Пеньянке. В них замешан мэр, и он и его партнер Тилни твердо решили, что никто ничего не должен об этом знать, по крайней мере пока не кончатся выборы. Они готовы на все, так что глядите в оба. Вы ведь любите свою жену? Мой совет — не отпускайте от себя ни ее, ни ребенка. Не позволяйте разлучить вас даже на секунду, где бы вы ни были. Вы же знаете, что случилось с Крозерсом несколько лет тому назад? Он уже готов был разоблачить махинацию в Йеллоу-Пойнт-Ферри и, разумеется, рта не успел раскрыть, как был арестован по старому обвинению в том, что он покинул семью; одновременно извлекли на свет давний долг, все его имущество конфисковали, а жену заставили порвать с ним. Не давайте им повода поймать вас тем же способом. Если у вас есть долги, скажите нам, и мы посмотрим, что тут можно сделать. А если вы увлекаетесь какой-нибудь другой женщиной, порвите с ней, отошлите ее подальше, отделайтесь от нее. Грегори посмотрел на собеседника с сердитой и в то же время сострадательной улыбкой. — Никакой другой женщины у меня нет, — просто сказал он. Надо же вообразить, что он может быть неверен «девочке» и малышу — голубоглазому, с розовыми ножками. — Не подумайте, что я хочу совать нос в ваши дела, — продолжал политический деятель. — Я просто разъясняю положение. Если вам понадобится совет или помощь, обратитесь ко мне. Но что бы вы ни делали — глядите в оба. — С этими словами он надел свой черный блестящий цилиндр и удалился. Грегори стоял посреди комнаты и внимательно разглядывал пол. Учитывая то, что он уже знал, он мог легко представить: мэр поступит именно так, как сказал его друг. Что же касается приятеля мэра, хищного спекулянта недвижимостью, то, судя по тому, что шепотом рассказывали о нем, было ясно — нет такой подлой хитрости и жестокости, которые он погнушался бы сделать. Один политический деятель, характеризуя его, однажды сказал, что он не остановится перед убийством, но на месте преступления его никто не захватит, и, без сомнения, это было похоже на правду. Он разбогател и обладал теперь большей властью, чем когда-либо, гораздо большей, чем мэр. С тех пор как Грегори вместе с женой прибыл в приморский отель, произошло несколько событий, заставивших его опасаться неприятностей, хотя пока ничто не подтверждало его подозрений. В отеле появилась медоточивая, разодетая, вся в драгоценностях, игривая сорокалетняя вдовушка, — она называла себя деловой женщиной, говорила, что заправляет весьма доходным театральным агентством в городе, и потому, как обычно в таких случаях выражался один из друзей Грегори, «купалась в деньгах». Она одевалась в шелка коричневых и винных тонов, у нее были коричневые домашние туфли и коричневые чулки и подозрительно блестевшая, каштанового цвета копна волос. Ее машина — она имела собственную машину — была лучшей марки, а ее умение играть в вист и готовность рисковать восхищали всех. По выражению прислуги отеля и завсегдатаев веранды «Тритона», она была веселой и щедрой мотовкой. Миссис Скелтон приехала, когда миссис Грегори еще жила в «Тритоне», уютно устроилась в двух комнатах с ванной, выходящих окнами на море, и быстро сдружилась с хозяином отеля и с двумя завсегдатаями, по виду маклерами и торговцами недвижимостью, которые интересовались больше всего гольфом, теннисом и ресторацией. Вдовушка была обходительна, энергична, весела, и Грегори и его жена невольно почувствовали к ней некоторую симпатию. Но перед отъездом жена Грегори иногда спрашивала себя, не входит ли миссис Скелтон в число заговорщиков. Ее дружелюбие можно было толковать по-разному, но все же оно казалось не настолько назойливым, чтобы вызвать подозрение. И тем не менее, возможно, она выжидает, когда Грегори останется один. — Будь осторожен, дорогой, — предостерегала его жена. — Если у тебя возникнут серьезные подозрения, немедленно уезжай отсюда куда-нибудь в другое место. Тогда по крайней мере им придется сменить партнеров для игры. И она уехала, твердо веря, что муж сумеет уладить это неприятное дело. Таким образом, сперва даже против своего желания, Грегори очутился в одиночестве. Он стал размышлять, как ему поступить — уехать или выждать, пока «прояснится погода», как он выражался. Собственно, чего ради он должен оставить комфортабельный, ближайший к городу приморский отель, где ему так удобно? Здесь он постоянно, в особенности по субботам и воскресеньям, встречает большинство своих политических друзей. Так близко от города и так много преимуществ: прекрасная площадка для гольфа, несколько теннисных кортов, стол и жилье, на которые никак нельзя пожаловаться, и бодрящий, восхитительный вид на море, открывающийся сразу за широкой лужайкой. Притом ежедневно бóльшую часть рабочего дня ему совершенно необходимо проводить в городе. Этого требовало необычное и не терпящее отлагательства расследование, которым он был занят; в то же время он испытывал потребность в тихом уголке, где можно было бы передохнуть и за ночь набраться сил. «Здесь хорошо, — сказал он себе наконец, — и здесь я останусь. У меня нет машины, а где еще я найду такое удобное место? К тому же, если они решили меня преследовать, они будут преследовать меня повсюду». Итак, он продолжал ездить из отеля в город и обратно, сосредоточенно размышляя о том, что может случиться. Когда у него возникли некоторые сомнения, он решил навестить Фрэнка Блаунта и переговорить с ним. Блаунт долгое время был журналистом, потом стал адвокатом и, наконец, маклером. Его как будто не слишком осаждали клиенты, и все же он явно преуспевал. Старый холостяк, он был завсегдатаем трех клубов, нескольких отелей и десятка загородных вилл, не говоря уже о том, что у него был превосходный автомобиль. Как раз теперь он был необычайно занят делами и часто посещал побережье. Он любил гольф, теннис и, между прочим, Грегори, которому искренне желал преуспеяния, хотя никак не мог направить его на верный путь. Приехав однажды утром в город, Грегори зашел в контору Блаунта и там изложил ему все как есть. — Таково положение, — заключил он, созерцая розовые щеки и лысеющую голову друга. — И мне хотелось бы знать, как ты поступил бы на моем месте. Блаунт задумчиво смотрел поверх высоких зданий города на виднеющееся за ними голубое небо и постукивал пальцами по стеклу, покрывавшему стол. — Что ж, — ответил он спустя некоторое время, все так же задумчиво поскребывая подбородок, — на твоем месте я бы не сдавал позиций. А если тут замешана женщина, да еще хорошенькая, ты можешь немного развлечься, не рискуя попасть в беду. Я смотрю на это как на своего рода летний спорт. Разумеется, надо быть настороже. На твоем месте я получил бы разрешение носить револьвер. Они узнают, что ты вооружен, если действительно следят за тобой, и это не придаст им бодрости. А затем тебе необходимо ежедневно записывать каждый свой шаг — где ты был и что делал — и заверять записи у нотариуса. Если они узнают об этом, то опять же не обрадуются и, пожалуй, им придется придумать что-нибудь пооригинальнее. Кроме того, — продолжал он, — по вечерам и по воскресеньям я не очень занят, так что, если хочешь, почти всегда могу быть у тебя под рукой на случай беды. Если мы будем вместе, им вряд ли удастся что-нибудь подстроить так, чтобы один из нас не узнал об этом, и к тому же у тебя будет свидетель. — Блаунт подумал также, не может ли упомянутая в разговоре дама представлять интерес и для него самого. — Я живу в Сансет-Пойнте, по соседству с тобой, и, если хочешь, буду приезжать каждый вечер и любоваться твоими успехами. Если же какой-нибудь трюк им удастся, я хочу посмотреть, как это будет сделано. И он весело и ободряюще улыбнулся. — В том-то все и дело, — в раздумье произнес Грегори, — я вовсе не хочу, чтобы их трюк удался. Я не могу себе этого позволить. Если теперь со мной что-нибудь случится, то в политическом отношении мне уже никогда не встать на ноги, а у меня жена, ребенок, и мне осточертела газетная пачкотня. И он уставился в окно. — А, брось ты об этом тревожиться, — успокоительно сказал Блаунт. — Будь только начеку и, если тебе придется позже обычного задержаться в городе, дай мне знать, — я подъеду и захвачу тебя с собой. Если же мне это не удастся, переночуй в городе. Остановись в каком-нибудь большом отеле. Там ты будешь в полной безопасности. Несколько дней подряд Грегори, чтобы не быть для приятеля обузой, возвращался в отель рано. Он достал разрешение, и теперь задний карман его брюк оттягивало громоздкое оружие, которое он терпеть не мог, но тем не менее держал по ночам под подушкой. Неуверенность в такой степени действовала на его воображение, что в поступках чуть ли не каждого человека он стал усматривать подозрительный умысел. Каждый новый постоялец отеля вызывал в нем беспокойство. Он был убежден, что за ним следят какие-то люди,связанные с миссис Скелтон, хотя не мог доказать этого даже самому себе. «Глупости, — в конце концов решил он. — Я веду себя, как пятилетний ребенок в темноте. Кому я нужен?» Он писал жене шутливые письма и старался обрести прежнюю беззаботность. Однако это было не так легко: вскоре произошло нечто такое, что сильно его встревожило. Во всяком случае, он сам взвинтил себя, ибо характерная особенность подобных происшествий состоит в том, что их можно толковать и так и этак. Однажды около девяти вечера, несмотря на совет Блаунта, он решил вернуться в отель «Тритон», не прибегая к помощи друга. «Стоит ли? — спрашивал он себя. — Блаунт еще подумает, что я трус, каких мало; в конце концов до сих пор ведь ничего не случилось, и я сомневаюсь, что они зайдут так далеко». Он утешал себя мыслью, что, может быть, человечество не так плохо, как он думает. И однако, едва он сошел с поезда и увидел за лугами, на востоке, мерцающие в отдалении огни «Тритона», как усомнился в разумности своего поступка. Станция «Тритон» бывала безлюдной почти все время, за исключением утра и семи вечера, а теперь здесь вообще не было ни души. Только он и сошел с поезда. Почти все ездили в отель и обратно на своих машинах по шоссе. «И чего ради я не послушался Блаунта, — спрашивал себя Грегори, оглядывая лежащую вокруг равнину, — почему не обратился к нему за содействием или не остался в городе?» Взяв таксомотор, он в конце концов тоже едва спас бы положение, — Блаунт это подчеркивал, — возможно, только дал бы притаившемуся врагу удобный случай для нападения. «Нет, следовало остаться в городе или поехать с Блаунтом в его машине», — говоря себе это, Грегори зашагал по пустынной и короткой дороге, которая вела к отелю и была освещена лишь несколькими небольшими фонарями, висевшими на изрядном расстоянии друг от друга. Он шел и думал: «Какое счастье, что до отеля всего несколько сот шагов и что сам я человек крепкий и на случай столкновения хорошо вооружен», — как вдруг из-за поворота вынырнула машина и остановилась в нескольких шагах впереди него. Из нее вышли двое мужчин и, держась в стороне от фар, которые горели слабее обычного, стали осматривать колесо. Грегори сразу показалось странным, что фары светят так тускло. Отчего бы это, да еще в столь поздний час, и почему незнакомая машина остановилась как раз у пустынного поворота как раз в ту минуту, когда он подходил сюда? И почему у него такое странное состояние: по всему телу поползли мурашки и волосы на голове зашевелились? Он перешел на другую сторону, чтобы его отделяла от машины ширина дороги. Но в это время один из мужчин вставил колесо и направился к Грегори. Тотчас, почти непроизвольным движением, Грегори вытащил револьвер из заднего кармана брюк и сунул его в карман пальто. При этом он остановился и крикнул: — Ни с места, слышите! Я вооружен, не подходите, или я буду стрелять. Я не знаю, кто вы, друг или враг, но все равно, ни шагу больше. Если вам нужно что-нибудь, спрашивайте, не сходя с места. Незнакомец остановился, видимо, удивленный. — Хотел попросить у вас спичек и узнать, как проехать в Трейджер-Пойнт, — проговорил он. — У меня нет спичек, а в Трейджер-Пойнт надо ехать в обратную сторону, — отрезал Грегори. — Вот же отель… Если вы едете оттуда, почему вы не узнали там, как проехать, а заодно не попросили спичек? — Он замолчал, а мужчина, стоя в тени, кажется, с любопытством рассматривал его. — Что ж, ладно, — равнодушно ответил он. — На нет и суда нет. Но вместо того чтобы вернуться к машине, он продолжал стоять на прежнем месте, не спуская глаз с Грегори. Грегори взъерошился, как испуганная кошка. Весь дрожа, он вытащил из кармана револьвер и угрожающе помахал им. — Стоять на месте, пока я не пройду мимо! — крикнул он. — Вы оба у меня на мушке, и при первом движении я буду стрелять. Я вас не трону, если вы сами не напроситесь, только ни с места. — И он двинулся прочь, держа их под прицелом. — Ни с места! — все кричал он, пока не отошел на значительное расстояние; затем — те двое, возможно, от изумления, все еще стояли и смотрели на него — он вдруг повернулся и припустил со всех ног; к дверям отеля он прибежал весь взмокший, еле переводя дух. «Нет, больше не поеду один», — пообещал он себе. Когда он рассказал об этой встрече Блаунту, тот высмеял его страхи. Ну кому придет в голову убивать или устраивать засаду на таком открытом месте? С поезда могли сойти и другие пассажиры. Заблудившаяся машина могла очутиться там в любое время. Людям действительно могли понадобиться спички, и они, возможно, ехали вовсе не из отеля. Там есть и другая, окольная, дорога. И все же Грегори был склонен думать, что ему угрожала опасность, — он и самому себе не мог бы объяснить, почему он так думал, — просто чутье, утверждал он. А день или два спустя — в свете происшедшего это казалось ему отнюдь не случайным — миссис Скелтон стала проявлять все большую заботу об его удобствах и благополучии. В ресторане отеля она занимала один из столиков у окна с видом на море, и почти всегда с нею обедал кто-нибудь из ее приятелей-маклеров, а то и оба вместе или кто-нибудь из случайных знакомых. Но четвертый стул обычно оставался свободным, и вскоре Грегори стали приглашать к столу, а когда присутствовал Блаунт, придвигали пятый стул. Вначале Грегори колебался, но, понукаемый Блаунтом, которого миссис Скелтон забавляла, стал принимать приглашения. Блаунт уверял, что с ней очень весело. Она так хорошо одевается, такая бойкая, обходительная, добродушная — словом, для времяпрепровождения на побережье лучшего и желать нельзя. — Брось, старина, она прелюбопытная особа, — рассуждал он однажды вечером во время послеобеденной прогулки. — Недурна, сомнения нет, хоть красотке сорок лет. Она мне нравится. Честное слово. Кто ее знает, может быть, она и обманщица, но хорошо играет в бридж и недурно в гольф. Она пробовала что-нибудь из тебя вытянуть? — Ничего как будто, — отвечал Грегори. — Особой хитрости в ней не заметно. Впрочем, она тут всего недели три. — К ней надо приглядеться. Я подозреваю, что она здесь неспроста, но утверждать с уверенностью не могу. Похоже, что ее послал Тилни. Но сыграем партию и поглядим, чья возьмет. Я буду любезен с ней ради тебя, а ты делай то же самое ради меня. Под благотворным воздействием завязавшейся дружбы события развивались довольно быстро. Не прошло и двух дней, как миссис Скелтон с необычайно таинственным видом, словно о чем-то весьма важном и тщательно скрываемом, сообщила, что в отель ненадолго приезжает ее приятельница, очень милая девушка из почтенной, состоятельной семьи, уроженка Запада, некая Имоджин Кэрл, ни много ни мало — дочь известного в Цинциннати богача Брэйтона Кэрла. По словам миссис Скелтон, она познакомилась с родителями этой девушки там же, в Цинциннати, пятнадцать лет тому назад. Имоджин — ее любимица. Сейчас девушка гостит в имении Флетчеров в Грей Ков, на Зунде, но миссис Скелтон уговорила родителей Имоджин, и они разрешили дочери приехать к ней в «Тритон». Имоджин всего двадцать лет, и отныне миссис Скелтон будет ее неизменной и верной покровительницей. Разумеется, все присутствующие одобрят ее намерения? А если бы они были так милы, — при этих словах миссис Скелтон окинула всех быстрым взглядом, — то помогли бы ей развлекать гостью. Вот было бы замечательно! А какая чудная девушка: умница, красавица, и хорошо танцует, и играет на рояле, и то и се, — словом, чудеса да и только. Самое главное все же — ее красота: пышные каштановые волосы, карие глаза, прекрасная кожа… Блаунт и Грегори выслушали все это глазом не моргнув, но позже, когда они встретились на большой веранде, выходящей к морю, Блаунт сказал: — Ну как? — По-моему, дело ясное. А эта здорово расписывает! Все-таки, знаешь, интересно, а вдруг она и в самом деле такое совершенство? — И Грегори засмеялся. Несколько дней спустя прекрасная незнакомка появилась и полностью оправдала все посулы миссис Скелтон, даже превзошла их. Она была очень хороша. Грегори впервые увидел ее, когда в семь часов вошел в просторный ресторан. Как и говорила миссис Скелтон, она была молода — двадцать один, не больше. Глаза у нее были светлые, серо-карие, а волосы, лицо и руки словно светились. Она казалась простой и скромной, приветливой и веселой, к тому же довольно неглупой; нельзя было назвать ее совершенной красавицей, но на нее было приятно смотреть… очень приятно. Она сидела за столом миссис Скелтон, маклеры явно за ней ухаживали, и Блаунту она тоже понравилась с первого же взгляда. — Ну, какова красотка? — спросил он. — Предчувствую, что мне придется спасать тебя от тебя самого. Знаешь, как мы сделаем? Ты спасай меня, а я буду спасать тебя. Старушка, видно, соображает, каких надо подбирать, да и Тилни тоже. Так вот, мой друг, гляди в оба! И он приблизился к столу с видом человека, который жаждет стать жертвой прекрасных глаз. Грегори невольно рассмеялся. Как ни был он настороже, он был заинтересован, а девушка, словно чтобы подогреть его интерес, уделяла миссис Скелтон и ее двум друзьям куда больше внимания, чем Грегори и Блаунту. Она вела себя совсем непринужденно или разыгрывала непринужденность и, казалось, не подозревала, что ей предназначена роль сирены, а они, в свою очередь, делали вид, будто принимают все за чистую монету; и после обеда Блаунт весело объявил, что она может очаровывать его, сколько ее душеньке угодно. Он к ее услугам. Но в тот же вечер и на другой день Грегори почувствовал, что очаровать стараются именно его. Он ловил на себе ее взгляд, то лукавый, то робкий, а то одновременно и лукавый и робкий, и настойчиво, даже не без тщеславия, уговаривал себя, что именно его она избрала своей жертвой. Когда он высказал свои предположения Блаунту, тот только рассмеялся. — Не будь таким тщеславным, — сказал он. — Ты можешь и ошибаться. Впрочем, хотел бы я быть на твоем месте. Посмотрим, не могу ли я отвлечь от тебя ее внимание. И Блаунт стал, как и все, ухаживать за ней. Однако Грегори не так-то легко было ввести в заблуждение. Он пристально следил за девушкой, когда она весело болтала об обещанном ей путешествии на яхте, о теннисе, гольфе, о том, как проводила прошлую зиму в Цинциннати и купалась недавно в Бичамптоне. Она отлично играла в теннис, в чем Грегори позднее сам убедился: всякий раз, играя с ним, она заставляла его изрядно попрыгать, и пот с него катился градом. Он пытался понять, не делает ли она ему авансов, но ничего определенного не замечал. Она равномерно распределяла свою благосклонность и, когда в Восточной гостиной начинались танцы, выбирала сначала одного из маклеров, а затем Блаунта. У Блаунта, как и у миссис Скелтон и маклеров, была своя машина, но, несмотря на почти постоянное присутствие Блаунта, кто-нибудь из них, собираясь днем или вечером на прогулку, приглашал Грегори составить компанию и поехать с ним. Однако он не доверял им и не принимал их приглашений, за исключением тех случаев, когда Блаунт был тут же и тоже получал приглашение, — тогда он охотно соглашался. Время от времени в отеле играли в вист, безик или покер, и Грегори, как и Блаунт, когда тот оказывался налицо, после настойчивых приглашений обычно присоединялся к игрокам. Грегори не умел танцевать, и Имоджин поддразнивала его. Почему он не учится? Ведь это такое удовольствие! Она научила бы его! Порой, когда она проносилась мимо, скользя среди других пар, он невольно смотрел на нее с восхищением и думал, что она удивительно грациозна и жизнерадостна. Блаунт замечал это и подтрунивал над ним, хотя и ему она казалась очень милой и интересной. Грегори не раз задумывался над тем, как поразительно (если только это правда), что такая темная личность — вроде этого Тилни — могла для исполнения своего подлого замысла найти столь привлекательную девушку. Подумать только, ей всего двадцать один год, она красива и, несомненно, могла бы иными способами добиваться лучшего положения в жизни, а вот он вынужден ее подозревать, и вполне возможно, что она авантюристка. Что же толкает ее, ради чего она это делает? — Друг мой, ты не знаешь этих хитрецов, — твердил ему Блаунт. — Они пойдут на любую подлость. В политике людей можно заставить делать все, буквально все. Это не то, что обычная жизнь или бизнес. Это политика, и все тут. Звучит цинично, но так оно и есть. Суди сам по своим расследованиям. Что они показывают? — Я понимаю, но такая девушка, и вдруг… — с жаром произнес Грегори. Ведь в конце концов, настаивал он, неизвестно, кроется ли тут что-нибудь, или это только кажется. Может быть, она сирена, а может быть, и нет. Возможно, оба они просто превратно судят о ней, как и о других ни в чем не повинных людях. Относительно миссис Скелтон им пока удалось узнать только, что она, как и сама говорила, — преуспевающая владелица и управительница театрального агентства. Возможно, она знавала лучшие времена и могла похвастать лучшими знакомствами. Иногда Грегори чувствовал, что совсем теряется, как человек, неожиданно столкнувшийся в темноте с врагом; он испытывал неуверенность и нерешительность, но они с Блаунтом пришли к выводу, что лучше всего остаться и подождать конца, — будь что будет. Игра была забавной даже и в таком виде, увлекательной и необычной. Она, как говорил Блаунт, вскрывала глубину той политической мерзости, которую Грегори пытался разоблачить и о которой раньше даже и не подозревал. — Не отступай, — с азартом игрока твердил Блаунт. — Кто знает, что из этого выйдет. Может быть, это даст тебе как раз тот козырь, который нужен. Попытайся привлечь ее на свою сторону. А почему бы и нет? Она в самом деле может влюбиться в тебя. Тогда посмотришь, как повернется дело. С открытыми глазами ни в какую западню не попадешь. Со временем Грегори согласился с этими доводами. К тому же эта прелестная девушка каким-то неуловимым образом начала притягивать его к себе. Он не только никогда не был знаком с такой прелестницей, ему даже видеть ничего подобного не приходилось. Игра была своеобразна, необычайна и увлекательна. Он стал следить за своей внешностью и сам делал робкие попытки ухаживать. Тем не менее запись его времяпрепровождения составлялась каждое утро. Каждый вечер он возвращался из города либо с Блаунтом в его машине, либо ранним поездом. Возможность риска была почти исключена, и все же — как знать? В последующие вечера, согласно обычаям приморского отеля, Грегори и Имоджин познакомились друг с другом поближе. Слушая, как она играет и поет, Грегори понял, что это пылкая и даже чувственная натура. Как он теперь видел, она была более искушенной, чем казалось вначале; иногда она как-то странно и призывно надувала губки и маняще поглядывала то на одного, то на другого, не исключая и его самого. Поскольку предположение о тайных злоумышленных кознях утратило свою новизну, Блаунт и Грегори начали шутить с Имоджин по этому поводу, вернее, туманно намекали на исполняемую ею роль. — Ну, как сегодня идет ваша игра? — спросил однажды Блаунт на второй или третьей неделе ее пребывания в отеле, подходя к ней и Грегори, которые сидели на большой многолюдной веранде, и глядя на нее понимающим, насмешливо-циническим взглядом. — Какая игра? Она посмотрела на него с самым невинным видом. — Такая, когда расставляют западню и ловят намеченную жертву. Разве не этим занимаются все хорошенькие молодые женщины? — Вы намекаете на меня? — спросила она высокомерно, с видом оскорбленной невинности. — Да будет вам известно, что мне незачем ловить кого-либо в западню, а женатого мужчину тем более. Ее зубы сверкнули в недоброй усмешке. Грегори и Блаунт пристально следили за ней. — Ну, разумеется. Уж кого-кого, только не женатого. Собственно говоря, я имел в виду не вас лично: вообще… жизнь, знаете ли, — игра. — Ха, конечно, — премило ответила она. — Я ведь тоже шучу. Грегори и Блаунт рассмеялись. — Смотри-ка, вывернулась и бровью не повела, — заметил после Блаунт, и Грегори вынужден был согласиться с ним. В другой раз с подобным намеком попытался выступить Грегори. Имоджин подошла к ним, исполнив несколько пассажей на пианино, за которым она сидела, как ему показалось, с кокетливой и горделивой грацией… на кого только рассчитанной? Со своего места он мог ее видеть и чувствовал, что она знала об этом. — Столько трудов, и все понапрасну, — как бы между прочим ввернул он. — Что такое? Не совсем понимаю. И она вопросительно посмотрела на него. — Не понимаете? — усмехнулся он. — У меня привычка выражаться фигурально. Я всегда так разговариваю. Это всего-навсего веселый намек на мрачные обстоятельства. Не обращайте внимания. Вы все равно не поймете, если не знаете того, что знаю я. — В таком случае, что же вы знаете такое, что я не знаю? — спросила она. — Пока ничего определенного. Так, некоторые соображения. Не обращайте внимания. — Право, вы очень странные оба — и вы, и мистер Блаунт. Вы постоянно говорите какие-то непонятные вещи, а потом заявляете, что они ничего не значат. А что значит фигурально? Грегори, все еще посмеиваясь над ней, сказал: — А знаете, вы человек совсем особого типа. Я все время с большим интересом наблюдаю за вами. — Серьезно? — Она приподняла брови и сделала круглые глаза. — Это любопытно. И к какому типу я, по-вашему, принадлежу? — Еще точно не знаю. Но если вы принадлежите именно к тому типу, который я имею в виду, то вы очень искусны. В таком случае мне пришлось бы отдать вам пальму первенства. — Право, вы меня изумляете, — серьезно сказала она. — Нет, в самом деле. Я совершенно не понимаю вас. О чем вы говорите? Если вы что-то под этим подразумеваете, то я хотела бы, чтобы вы высказались прямо, а если нет, лучше бы совсем не говорили. Грегори изумился. В ее голосе послышались вызывающие нотки. — Вы только не сердитесь, хорошо? — сказал он, несколько смущенный. — Я просто шучу, вот и все. Она поднялась и ушла, а он стал шагать взад и вперед по веранде, высматривая Блаунта. Найдя его, Грегори поделился с ним своими впечатлениями. — Что ж, может быть, мы и ошибаемся. Кто знает? Дай ей развернуться. Скоро что-нибудь да выплывет наружу. А затем Грегори стало казаться, что миссис Скелтон и еще кое-кто незаметно помогают Имоджин, но чего все они добиваются и зачем, ему было не совсем ясно. Он вовсе не был расположен льстить себе и все же порой невольно думал, что стал предметом каких-то тайных интриг. Несмотря на то, что произошло между ними, Имоджин по-прежнему держала себя с ним по-дружески и, по-видимому, не только не избегала его, но старалась постоянно быть в поле его зрения. В отель приехал и где-то в нем поселился самодовольный расфранченный еврей, маленький и юркий; он сновал туда и сюда и, казалось, не имел никакого отношения ни к миссис Скелтон, ни к ее друзьям. Но вот однажды, гуляя среди песчаных дюн, окаймляющих залив, Грегори увидел Имоджин и юркого, как муравей, еврея, — они вдвоем шли по берегу. Он был так поражен, что в изумлении остановился. Первой его мыслью было подойти поближе и окончательно удостовериться, но они медленно двигались в его сторону; он увидел, что ошибки быть не могло, и поспешно удалился. Блаунт был немедленно посвящен в эту тайну, и за обедом, увидев, как юркий человек вошел и уселся за дальним столиком, он как ни в чем не бывало спросил: — Кажется, приезжий? Миссис Скелтон, Имоджин и один из маклеров, которые были при этом, окинули незнакомца пытливым взглядом, а затем равнодушно отвернулись. — Не имею ни малейшего представления, — отозвался маклер. — Первый раз вижу. Держу пари на тысячу долларов, что он по галантерейной части. — Кто бы он ни был, похоже, что он богат, — простодушно заметила Имоджин. — Он приехал, кажется, в четверг. По-моему, он ничего особенного собой не представляет, — сухо сказала миссис Скелтон; и к этой теме больше не возвращались. Грегори так и подмывало тут же обличить Имоджин и ее друзей во лжи, но он решил подождать и внимательно приглядеться к девушке. Все это, бесспорно, становилось занятным. Если они пошли на такую ложь, значит, тут что-то есть. Выходит все-таки, что она обманщица, хотя и на редкость очаровательна. Его интерес к ней, миссис Скелтон и их друзьям сразу возрос. А затем появился таинственный голубой гоночный автомобиль, «гончая», как впоследствии стал называть его Грегори, громадная, неповоротливая, устрашающая машина, богато и даже роскошно отделанная, у которой был совсем особенный звук мотора. В его реве слышалась металлическая нота, и он далеко разносился в чистом воздухе над прибрежными дюнами. Как Грегори позже узнал от миссис Скелтон, машина принадлежала одному из четырех юных счастливчиков, проводивших летнее время в соседнем отеле, расположенном в миле к западу от «Тритона». Владелец машины, некто Каслмен, сын и наследник очень богатых родителей, был приятелем миссис Скелтон, — у них были какие-то общие дела в городе. Молодые люди, пояснила она, приехали ради Имоджин, чтобы помочь развлекать ее, и они всегда приезжают на этой машине. Каслмен и его друзья, лощеные, одетые по последней моде, играли в теннис и бридж и были осведомлены относительно эстрадных, танцевальных и спиртных новинок. Все они, во всяком случае, трое из них, очень бойкие и разбитные, были не прочь поухаживать за Имоджин, но миссис Скелтон вскоре доверительно сообщила Грегори, что не намерена поощрять их. Родителям Имоджин это может не понравиться. Другое дело Грегори и Блаунт — такие солидные и образцово скромные люди! С тех пор миссис Скелтон стала совершать почти ежедневные прогулки то в машине Каслмена, то в своей собственной, причем брала с собой Грегори, когда он выражал согласие, и Имоджин. Однако Блаунт с самого начала решительно заявил, что он против таких прогулок. — Говорю тебе, не оставайся с нею наедине или вместе с ее приятелями нигде, кроме этой веранды. Они хотят поймать тебя в ловушку, но дело не клеится, вот они и пустились во все тяжкие. Но скоро они так или иначе проявят себя, — это ясно как день. Они хотят меня устранить, а ты не сдавайся или найди кого-нибудь вместо меня. А то и не заметишь, как попадешься. Так-то и ловят людей. Бери меня с собой или пусть они пользуются моей машиной, а ты прихватывай кого-нибудь еще. Тогда хотя бы в некоторой степени ты будешь хозяином положения. Грегори заверил Блаунта, что не желает, чтобы вместо него был кто-нибудь другой; в дальнейшем он принимал приглашение лишь в том случае, если среди приглашенных оказывался Блаунт, хотя и видел, что остальным это не нравилось. Нельзя сказать, чтобы Имоджин была против, но миссис Скелтон постоянно выражала недовольство: «Чего мы ждем?» — или: «Неужели без него никак нельзя обойтись?» Тогда Грегори пояснял, что Блаунт — его старый и близкий друг. В сущности говоря, они отдыхают вместе. Блаунт сейчас не очень занят… Они, казалось, принимали все это за чистую монету, а Блаунт только и ждал удобного случая, чтобы предложить им поехать всем вместе в его машине. Но чем чаще бывали подобные «случайности», тем чаще и миссис Скелтон прибегала к невинным ухищрениям, затевая неожиданные прогулки. Приятно пройтись по сосновому лесу и песчаным холмам к соседнему отелю, где есть восхитительная беседка, и эту прогулку ей хотелось совершить именно с Грегори. Но стоило ему согласиться, как тут же появлялась Имоджин, и, разумеется, ее нельзя было не пригласить. Тогда миссис Скелтон вдруг вспоминала, что она забыла зонтик, сумку или носовой платок, и немедленно удалялась, оставляя Имоджин и Грегори прогуливаться вдвоем. Но Грегори никогда не пускался в путь, не дождавшись возвращения миссис Скелтон. Так просто его не заманишь в западню. К этому времени, несмотря на атмосферу неопределенности и подозрений, Грегори и Имоджин подружились. Он видел, что нравится ей. Она смотрела на него томным взглядом, и порой ноздри ее чуть вздрагивали, — что бы это могло значить? Сидя с ним рядом, в машине или еще где-нибудь, она кокетливо и ласково придвигалась к нему поближе. В последнее время она пыталась учить его танцевать и бранила, употребляя милые выражения вроде: «Вот непослушный мальчишка», или: «Ах вы, растяпа — глиняные руки!» (когда он однажды что-то уронил), или: «Какой вы большой и неловкий — и какой сильный. Вас не повернешь». А он смотрел на нее и думал: интриганка, но такая красивая и такая изящная! Какой чудесный цвет лица! Какие пышные, шелковистые волосы! И взгляд ее серо-карих глаз, такой строгий и вместе с тем ласковый, когда она смотрит на него. Нос такой маленький и прямой, рот резко очерчен, как у англичанки, губы полные, и верхняя в середине чуть нависает над нижней. А как она взглянула на него, когда они остались одни! Он даже смутился. Но что же делала в эти смутные дни «голубая гончая»? Однажды вечером миссис Скелтон пригласила Грегори проехаться в Бейсайд, миль за двадцать пять; Блаунт их сопровождал. Не проехали они и десяти миль, — так показалось Грегори, — как до его слуха донеслось гудение необыкновенно мощного мотора. Оно напоминало назойливое жужжание пчелы или шершня, бьющегося о стекло. Что-то в нем было яростное, дикое. Грегори мгновенно вспомнил этот звук и узнал огромную голубую машину молодого Каслмена. «Что это значит, — спрашивал он себя, — стоит нам куда-нибудь поехать, как этот звук начинает нас преследовать». И без всякой задней мысли он обратился к Имоджин: — А ведь это машина Каслмена, слышите? — В самом деле похоже! Интересно, он ли это, — как ни в чем не бывало проговорила она. В тот день больше не было повода задуматься над этим, но в другой раз, когда они далеко отъехали от отеля, тот же звук мотора раздался совсем рядом на соседней дороге и миновал их. Однажды неизменные пассажиры голубой машины появились в той же самой гостинице, в которой остановились он, Блаунт, Имоджин и миссис Скелтон. Потом как-то внезапно ему открылся истинный смысл всего этого. Грегори припомнил, что каждый раз, когда он слышал звук мотора, этот звук сопровождался появлением машины Каслмена у придорожной гостиницы или ресторана, где он был в обществе Имоджин и Блаунта. И непременно вслед за тем появлялась все та же компания молодых людей («веселые ездоки», как они себя называли), которые объясняли подобные встречи счастливой случайностью. Он вспомнил (и это обстоятельство подтвердил бдительный Блаунт), что если мотора не было слышно и обычная компания не появлялась, то как только они прибывали к месту назначения, миссис Скелтон или Имоджин сразу удалялись в дамскую комнату, и вскоре издали доносился бешеный рев машины и появлялись «веселые ездоки». Но с какой целью? Может быть, они искали повод скомпрометировать его? Однажды вечером, в одной из гостиниц, после того как миссис Скелтон, по своему обыкновению, ненадолго покинула их, Грегори сидел у перил балкона и смотрел вниз на безмолвную сосновую рощу, и вдруг ему показалось, что он слышит приближающуюся издалека машину, громадное злое животное, захлебывающееся лаем, словно гончая, напавшая на след. В звуке мотора или в вечерней тишине было что-то необъяснимо странное, жуткое. А спустя несколько минут появилась машина, и четыре приятеля ввалились в помещение нагло и бесцеремонно; увидев Грегори, они выразили изумление. Грегори почувствовал холодок и дрожь во всем теле. Какое коварство, как ужасно, когда вот так преследуют человека! Как погрязли в трясине политических махинаций, как судорожно цепляются за власть над взбудораженными миллионами городских жителей эти люди, Тилни и его друзья, если они сочли необходимым опутывать такой сетью интриг одного-единственного человека, который пытается разоблачить их! Их преступления! Грабеж и мошенничество! Как хорошо известны ему некоторые их преступные дела и как близок он к тому, чтобы доказать это и прогнать их с высоких постов, подальше от государственной казны, от благ и почестей! Вот почему он представляет для них такой интерес, он — независимый журналист, на свой страх и риск ведущий расследование. Да, сколько тут подлости, черных тайн и коварства! Что они замышляют, эти две улыбающиеся женщины и эти четверо лощеных головорезов, розовощеких, с учтивыми манерами? Что им от него нужно? Чем все это кончится? Когда миссис Скелтон, Имоджин, Блаунт и Грегори собирались ехать обратно, а Каслмен и его друзья усаживались в свою машину, появилась третья компания, прежде того неизвестная ни Блаунту, ни Грегори; приезжие завязали разговор с обеими женщинами и в конце концов уговорили их пересесть к ним в автомобиль. Миссис Скелтон извинилась, стала объяснять, что это ее старые друзья, с которыми она давно не виделась, и что позднее все они встретятся в отеле за бриджем. Блаунт и Грегори, предоставленные самим себе, решили до ближайшего перекрестка ехать проселком, чтобы первыми попасть домой. Новый ход заинтриговал их, однако в ту минуту они не могли его разгадать. Когда они проезжали участок, где по обе стороны стояли тенистые деревья, их вдруг ослепили фары машины, мчавшейся навстречу на полной скорости; и хотя Блаунту удалось поразительно быстро и ловко свернуть в сторону, к обочине, все же встречная машина проскочила на чудовищной скорости так близко, что задела их левое заднее колесо. — Машина Каслмена! — тихо проговорил Блаунт, когда она миновала их. — Я его видел. Проскочили в дюйме от нас! — Подумать только! — возмущенно воскликнул Грегори. — Интересно знать, вернутся они поглядеть на плоды своих трудов? И тут же они услышали, что огромная машина возвращается. — А дело-то серьезное. Не нравится оно мне, — прошептал Блаунт. — Эта машина разнесла бы нас в куски, а на ней даже царапины не осталось бы. Вот они. Смотри не зевай. Хорошо еще, что мы вооружены. Револьвер при тебе? Молодчики приближались как ни в чем не бывало. — Привет! Ничего не случилось? — еще издали окликнули они. — Приносим извинения. — И затем, как будто они только что узнали, кто перед ними: — Смотри-ка, да это же Грегори с Блаунтом! Ну, уж вы извините, друзья! Несчастный случай, уверяем вас. Руль отказал. Грегори и Блаунт заранее решили не отступать и в случае нового вероломства ответить пулями. Напряжение несколько разрядилось с прибытием третьей машины, в которой сидели четверо мужчин средних лет; увидев в лесу группу людей и стоящую поблизости большую машину, они остановились узнать, в чем дело. У Грегори хватило присутствия духа задержать вновь прибывших. — Не можете ли вы обождать, пока не уедут эти молодчики? — шепнул он тому из них, кто помогал Блаунту вытащить на дорогу его автомобиль. — Мне кажется, они намеренно пытались раздавить нас, но с уверенностью сказать не могу; во всяком случае, нам не хотелось бы остаться с ними наедине. Сообразив, что положение изменилось и что вновь прибывшие не собираются уезжать, Каслмен и его приятели рассыпались в извинениях и проявили готовность оказать помощь. Они, видите ли, забыли кое-что в гостинице и решили вернуться. Подъезжая сюда, они заметили огни автомобиля Блаунта и попытались остановиться, но что-то случилось с рулевым управлением. Хотели свернуть в сторону, но не могли и чуть не разбили свою машину. Есть повреждения? Они охотно за все заплатят. Блаунт заверил, что повреждений нет; он и Грегори принимали извинения со всей учтивостью; но от помощи решительно отказывались. Когда «веселые ездоки» отбыли, Блаунт и Грегори, охраняемые незнакомцами, добрались до отеля, который был уже погружен в темноту и молчание. Удивительное дело, снова и снова говорил себе Грегори, огромный город весь опутан сетью подобных преступных интриг. Его пытались хладнокровно убить, и кто же — молодая девушка и молодые люди, которым едва перевалило за двадцать, и невозможно уличить их. Он-то совершенно убежден, что уже дважды едва не стал жертвой убийства, и все же он бессилен что-либо доказать, ни к чему не придерешься, он даже не осмелился бросить им обвинение! А Имоджин, эта веселая и красивая девушка, делает вид, будто влюблена в него… и он почти верит ей… и в то же время убежден, что она так или иначе замешана в заговоре. Уж не сходит ли он с ума? Он был за то, чтобы уехать немедленно, так как чувствовал, что имеет дело с бандой убийц, замышляющих уничтожить его под предлогом «несчастного случая», коль скоро им не удается опозорить его с помощью хитрости и интриг; но Блаунт придерживался иного мнения. Он считал, что время для отъезда неподходящее. В конце концов все преимущества пока что на их стороне. К тому же Блаунт был убежден, что эта девушка — слишком слабое орудие в руках ее сообщников, она неопытна и едва ли сумеет хорошо выполнить свою роль в заговоре. Он сказал, что пришел к этому заключению на основании некоторых сведений, которые пока что удалось о ней получить. Одно время она была личной секретаршей хорошо известного банкира, который был связан с Тилни общими интересами в Пеньянке; дело кончилось тем, что банкира привлекли к суду, но он успел скрыться. Не исключено, что сохранились какие-то бумаги, подписанные ею в качестве доверенного секретаря или казначея, из-за чего она и стала жертвой Тилни или кого-нибудь из его политических друзей. Блаунт теперь готов был, если потребуется, помочь Грегори достать денег для его расследований. Надо уберечь город от таких людей, как Тилни; при этом Блаунт считал, что Имоджин мягка и податлива и Грегори мог бы перетянуть ее на свою сторону. — Не отступай, — твердил он, — иди до конца. Положение довольно серьезное, я понимаю, но не забывай, что, где бы ты ни был, оно не улучшится, а здесь по крайней мере мы знаем, с кем имеем дело. Теперь они уже поняли, что мы берем над ними верх. Должны понять. Они нервничают, вот и все, а время уходит. Можно было бы вызвать сюда твою жену, но что толку. Кроме того, если ты сумеешь воспользоваться обстоятельствами, ты найдешь способ привлечь эту девушку на свою сторону. Что бы она там ни делала, мне кажется, ты ей нравишься. — Грегори фыркнул. — Или при желании понравишься, а тогда у тебя будет возможность через нее узнать их планы. Разве ты не замечаешь, как она все время поглядывает на тебя! И не забывай, что каждый день приближает тебя к выборам, а тем временем ты держишь инициативу в своих руках, не давая им довести их замысел до гибельного конца. Если в ближайшее время им не удастся ничего добиться, то не успеет Тилни изобрести что-нибудь новенькое, как на него свалятся выборы, а тогда уж будет поздно. Понимаешь? Грегори согласился несколько повременить с решением, но чувствовал, что нервы его начинают пошаливать. Он становился раздражительным и злым, и чем больше думал об этом, тем хуже себя чувствовал. Попробуй-ка быть любезным с людьми, если в душе они убийцы и пытаются тебя погубить! Но когда на следующее утро за завтраком он увидел Имоджин — хорошенькую, приветливую, с выражением того дружеского внимания, которое в последнее время все чаще светилось в ее взгляде, его невольно потянуло к ней, хотя он всячески старался не обнаружить этого. — Что же вы вчера вечером не пришли к нам играть в карты? — спросила она. — Мы так ждали вас. — Разве вы не слышали о самом новом «несчастном случае»? — спросил он, делая ударение на последних словах и глядя насмешливо и вызывающе. — Нет. А что это за несчастный случай? Казалось, она ничего не знала о происшедшем. — Разумеется, вы понятия не имеете, что, после того как вы вчера уехали, машина Каслмена чуть не врезалась в нашу. — Не может быть! — вскрикнула она с неподдельным изумлением. — Где? — В лесу за Белпойнтом, как только вы покинули нас. Вам обеим очень повезло, вы уехали как раз вовремя. — Он усмехнулся и рассказал Имоджин всю историю, сделав несколько иронических замечаний относительно руля, который оказался неисправным. Рассказывая, он пристально следил за ней, а она смотрела на него с выражением не то страдания, не то страха. Нет, взгляд ее не обнаруживал интереса и сочувствия к замыслам ее друзей или хозяев, если они действительно были над ней хозяевами. Она удивлялась так искренне, трогательно, убедительно, что обезоружила его. Он не мог заставить себя поверить, что она причастна и к этому. Как говорил Блаунт, она скорей всего именно орудие в чужих руках. Вероятно, она сама беспомощна или не знает, до каких пределов могут дойти ее мнимые «друзья». Глаза ее смотрели тревожно, печально. Она казалась какой-то особенно слабой, растерянной, и это, не увеличив его уважения к ней, смягчило в нем враждебность. Он почувствовал, что теперь мог бы даже увлечься ею. Вместе с тем он подумал, что ее можно увлечь настолько, чтобы она стала ему помогать. Он имеет на нее влияние, а это уже кое-что значит. Он описал происшествие подробно, со всей живостью, на какую был способен, давая ей почувствовать, что он и Блаунт были на волосок от смерти. Ей, по-видимому, стало не по себе, и она вскоре вышла из-за стола. Грегори позаботился о том, чтобы было совершенно ясно, что незнакомцы, встретившие их в лесу, знают все подробности происшествия и предложили свои услуги в качестве свидетелей на случай, если это понадобится. — Но мы не собираемся что-либо предпринимать, — весело сказал он, — по крайней мере, сейчас. Именно при этих словах она сильно побледнела, изменилась в лице и вышла из комнаты. То ли благодаря этому разговору, то ли из-за самого происшествия или обстоятельств, с ним связанных, о которых Грегори ничего не было известно, но только в деятельности его противников как будто наступило временное затишье. «Голубая гончая» больше не врывалась ежедневно в их жизнь. Миссис Скелтон вызвали на несколько дней в город по делам, а вслед за ней и мистера Даймондберга, того самого, «который по галантерейной части», как называл его Блаунт. За все время своего пребывания в отеле мистер Даймондберг ни разу открыто не подошел к ним. Миссис Скелтон вскоре вернулась, как всегда веселая и жизнерадостная, а тем временем Имоджин постаралась еще больше сдружиться с Грегори, что сулило некоторые перемены. Она держала себя гораздо свободнее, непосредственнее и приветливее, чем прежде. Она проводила с ним больше времени, улыбалась, шутила и все же, как казалось ему, была чем-то озабочена. Помня их разговор, состоявшийся на другое утро после столкновения с «голубой гончей», Грегори чувствовал себя теперь более непринужденно, больше доверял Имоджин и думал, что, пожалуй, в недалеком будущем сможет поговорить с ней начистоту и заручиться ее поддержкой. После отъезда миссис Скелтон, на второй день, Грегори с Имоджин провели вместе два часа кряду, что позволило им лучше понять друг друга. После завтрака Грегори задержался, чтобы просмотреть кое-какие отчеты. Она подошла и встала около него. — Что вы делаете? — спросила она. — Сверяю кое-какие данные, — загадочно ответил он, с улыбкой взглянув на нее. — Садитесь. Они разговорились сначала о местном теннисном матче, а затем о его работе, про которую он рассказал вкратце, заметив, что Имоджин, по-видимому, все это знает, во всяком случае, должна знать. — Почему обо всем, что имеет к вам отношение, вы говорите со мной в таком тоне? — спросила она его после короткого молчания. — Вы изъясняетесь так странно, словно о ваших делах я знаю нечто такое, чего мне не следует знать. — А разве это не так? — спросил он, мрачно глядя на нее. — Вот опять! Что вы хотите этим сказать? — Вы в самом деле нуждаетесь в моих пояснениях? — начал он резко и насмешливо. — Как будто вы сами не знаете! Надо думать, что вы даже и не слышали, например, про «Объединенный банк»? Или о мистере Суэйне, его президенте? Или о мистере Тилни, или о мистере Мирсе, кассире? При упоминании этих имен, так же как и при упоминании происшествия с автомобилем, в ее глазах что-то мелькнуло, как в объективе фотоаппарата в тот миг, когда щелкает затвор, только на этот раз она не обнаружила никаких признаков страдания или хотя бы смущения. Она казалась совершенно спокойной, только на щеках появился едва заметный румянец. Она слегка приоткрыла рот и изобразила подобие снисходительной улыбки. — «Объединенный банк»? Мистер Суэйн? Мистер Тилни? О чем вы говорите? — упрямо сказала она. — Кто такой Суэйн и что это за «Объединенный банк»? — Послушайте, мисс Кэрл, — сказал он наставительно и сердито, — если вы хотите, чтобы в дальнейшем я сохранил к вам некоторое уважение, перестаньте лгать. Вы отлично знаете, что я имею в виду. Вы прекрасно знаете, кто такой мистер Суэйн и почему он уехал из Истриджа. Вы также знаете мистера Даймондберга, хотя вы и говорили обратное — и как раз после того, как гуляли с ним по дюнам три недели тому назад, я тогда видел вас. Вы, верно, уже забыли об этом? При этих словах она слегка вздрогнула. Все ее хладнокровие исчезло, она широко раскрыла глаза, а ее щеки и даже шея густо покраснели. На мгновение что-то жестокое появилось в ее лице, но тут же сменилось выражением бессилия и смятения. Казалось, она была очень расстроена и почти готова признать свою вину. — Ах, мистер Грегори, — взмолилась она, — ну что вы говорите! Поверьте, я не имею ни малейшего представления о том, на что вы намекаете, и прошу вас, не разговаривайте со мной таким грубым тоном. По-моему, вы сами не знаете, что говорите, и, во всяком случае, ничего не знаете обо мне. Очевидно, вы меня с кем-то спутали, к чему-то припутываете, чего я вовсе не знаю. — Она сделала движение, как будто собираясь уйти. — Одну минуту, — резко проговорил он, — не торопитесь уходить и выслушайте меня. Вы знаете, кто я такой и чем именно я занимаюсь. На свой страх и риск я организовал агентство и веду расследование с тем, чтобы свалить господствующую в городе политическую клику. У меня собрана масса улик, которые нынешней осенью могут доставить мистеру Тилни, мэру и кое-кому еще много неприятностей; они знают об этом, и этим объясняется ваше присутствие здесь. Мистер Тилни связан с мэром и был закадычным другом вашего друга Джека Суэйна. Даймондберг и миссис Скелтон в настоящее время работают на него, так же, как и вы. Думаете, я не знаю, что Каслмен и его приятели орудуют заодно с вами и миссис Скелтон с Даймондбергом и вашими «маклерами», и что на днях Каслмен пытался врезаться в нашу машину и убить меня, и что все время, пока я здесь, за мной следят и шпионят; да, это так, и я знаю это и ничуть не заблуждаюсь ни в каком отношении, в том числе насчет вас. И он злобно посмотрел на нее. — Нет, погодите, — снова поспешно заговорил он, когда она открыла рот и попыталась что-то вымолвить. — Я не считаю вас такой коварной и страшной, како вас можно подумать, а то я не стал бы с вами разговаривать: все ваше поведение свидетельствовало о другом. Вы проявляли столько сочувствия и дружеского внимания, что иногда мне казалось, может быть, вы не знаете толком, что происходит. Но теперь я вижу — вы все знаете. Ваше поведение за завтраком в то утро заставило меня подумать, может, вы не так плохи, как кажетесь. Теперь я убедился, что вы все время обманывали меня, как я и полагал, только, должен вам сказать, до настоящей минуты мне не хотелось этому верить. Впрочем, это не первый случай, когда таким образом пытаются опутать человека. Это старый политический трюк, и вы можете проделать его еще раз, но только не со мной, во всяком случае, я постараюсь, чтобы вам это не удалось. Дело ясное, вы, господа любезные, готовы убить меня так же хладнокровно, как Тилни три года тому назад погубил Крозерса, как он готов погубить меня и всякого, кто стоит на его пути, все равно — мужчину или женщину; но я еще не попался к нему в лапы и не попадусь, можете передать ему это от моего имени. Он мошенник. Он главарь банды мошенников — помыкает мэром и всеми, кто с ним заодно, — и если вы тоже с ними заодно, а я знаю, что это так, и знаю, чем вы занимаетесь, стало быть, и вы мошенница. — Ах, замолчите! — воскликнула она. — Прошу вас! Это так ужасно! Подумать только, как вы со мной разговариваете! Однако она не пыталась уйти. — Но это не все, мисс Кэрл, если таково ваше настоящее имя, — продолжал Грегори; она сжала виски ладонями, а при последних его словах снова вздрогнула. — Я уже сказал вам, что не считаю вас столь скверной, как можно подумать, поэтому я с вами сейчас и разговариваю. Но посмотрите, что получается: вот я молодой человек, моя жизнь, в сущности, только начинается, а вы стараетесь меня погубить. Я жил здесь тихо и спокойно с женой и двухлетним сынишкой, но потом малыш заболел, и жене пришлось уехать с ним в горы, и тогда вы и миссис Скелтон, Даймондберг и Каслмен, «маклеры» и все прочие, кто тут выслеживает меня и шпионит за мной, появились в отеле и стали меня преследовать. Но я не беспомощен. И не думайте, что я не был осведомлен о вашем появлении, меня предупредили. Сейчас на моей стороне не меньше влиятельных людей, чем на стороне Тилни, или будет не меньше, — и ему не удастся выйти сухим из воды так легко, как он рассчитывает. Но подумайте, какую роль играете вы во всем этом деле! Почему вы хотите помочь им и погубить меня? Что я вам сделал? Я могу понять, почему этого хочет Тилни. Он думает, что я располагаю фактами, которые могут повредить ему, — а это так и есть, и поскольку я не сделал никакого публичного заявления, улики все еще в моих руках; значит, если меня убрать с дороги или опорочить мое доброе имя, все пойдет прахом и он будет вне опасности, — но он сильно ошибается! Теперь так не выйдет. Не может выйти. Со мной или без меня, все пойдет своим чередом. Но дело сейчас не в этом. Два месяца тому назад мне сообщили, что здесь появитесь вы, — сообщила не миссис Скелтон, а мои друзья, — и что будет совершено покушение на мою жизнь. (При этих словах Имоджин широко раскрыла глаза, явно изумленная.) И вот вы здесь, точно по расписанию, и делаете все, что вам велено, и, по-видимому, ни капельки не смущаетесь этим. А вы не задумывались над тем, что участвуете в очень гнусной игре? Он устало посмотрел на нее, а она на него, но ничего не сказала и сидела не шевелясь. — Голубая машина в тот достопамятный вечер должна была убить меня, — продолжал он, несколько выходя за пределы того, что ему было известно, — все это было условлено задолго до вашего приезда. Не имею ни малейшего понятия, почему вы работаете на Тилни, но теперь я знаю, что именно этим вы занимаетесь, и вы осточертели мне, как и вся эта история. Вы всего-навсего жалкая мошенница, вот вы кто; и вы, как и вся эта история, надоели мне; знать я вас больше не хочу. Между прочим, к вашему сведению, я не собираюсь уезжать отсюда, и вы, если угодно, можете сообщить об этом Тилни, или миссис Скелтон, или кто там еще занимается его делами. Я вел повседневную запись всех событий, происшедших за это время, и у меня есть свидетели; если со мной здесь еще что-нибудь случится, я обращусь к печати и расскажу все от начала до конца. Если бы в вас оставалась хоть крупица порядочности, вы не занимались бы таким делом, но вы просто-напросто жалкая мелкая обманщица, это вас и выдало, — вот и все, что я хотел вам сказать. Он поднялся и сделал вид, будто уходит; мисс Кэрл продолжала сидеть, по-видимому, совсем ошеломленная, потом вскочила и закричала ему вслед: — Мистер Грегори! Прошу вас, подождите! Мистер Грегори, я хочу кое-что сказать вам! Он остановился и обернулся. Она поспешно подошла к нему. — Не уходите, — взмолилась она. — Подождите. Подождите минуту. Вернитесь. Я хочу поговорить с вами. Он посмотрел на нее холодно и сердито, но все-таки остался. — Ну? — спросил он. — Вы ничего не знаете, — оправдывалась она, глядя на него с искренним огорчением. — Я не могу вам ничего сказать, сейчас не могу, когда-нибудь скажу, если позволите. Но вы мне нравитесь, и, поверьте, я не желаю вам зла. Поверьте! Я ничего не знаю об этой истории с автомобилем, про которую вы говорите, — уверяю вас, не знаю. Все эти люди мерзкие, отвратительные, и если они пытаются делать нечто подобное, то мне это неизвестно, и я больше не хочу иметь с ними ничего общего, — поверьте! Ах, как это ужасно! — И она заломила руки. — Да, я знаю мистера Даймондберга, это правда, но я не знала его до того, как приехала сюда, и я знаю мистера Суэйна и мистера Тилни. Я появилась здесь с намерением обратить на себя ваше внимание, это так, но мне не сказали, зачем это нужно. Миссис Скелтон сказала мне, что вы или какие-то люди, которые за вами стоят, стараются собрать компрометирующие сведения против кого-то из их друзей — против друзей мистера Тилни, мне кажется, — а они ни в чем не повинны; и что вы несчастливы со своей женой, и если какая-нибудь девушка, все равно какая, сумеет заставить вас полюбить ее или просто подружиться с вами, то она смогла бы убедить вас не делать этого, понимаете? Насколько я знаю, никто не собирался ни убивать вас, ни ранить. Мне не говорили, что на вас хотят напасть, правда, не говорили. Это ужасно, и я об этом в первый раз слышу. Мне сказали только, что им нужен кто-нибудь, кто мог бы удержать вас… предложить вам денег, если удастся. Я не думала, что это так нехорошо, потому что они много сделали для меня в прошлом — мистер Тилни, миссис Скелтон и некоторые другие. Но когда я увидела вас, я… — она замолчала и посмотрела на него, потом отвела глаза, — я убедилась, что вы не такой человек, понимаете, и… ну, словом, теперь все по-другому. Я не хочу делать ничего, что могло бы вам повредить. Правда, не хочу. Я теперь просто не могу… — Так вы признаете, что знакомы с мистером Тилни? — мрачно, но втайне торжествуя, заметил Грегори. — Я ведь уже сказала вам, — ответила Имоджин. Она замолчала, и Грегори подозрительно уставился на нее. Ясно было, что он ей нравится, и нравится не так, как это бывает при мимолетном флирте; а он… он испытывал к ней некоторое влечение. Он откровенно признался себе в этом. Невзирая на ее хитрость, она очаровательна и, насколько он может судить, пока не сделала ему ничего плохого. Даже теперь она казалась ему такой юной, несмотря на свою испорченность и жизненный опыт, и что-то в ее лице — нежность, мягкая линия волос надо лбом, припухлая верхняя губа — привлекло его и заставило задуматься. — Ну что же? — спросил он, помолчав. — Ах, только не сердитесь и не оставляйте меня. Ведь я вам ничего плохого не сделала, правда? Пока, во всяком случае. — Вот именно: пока! В этом вся суть. — Да, но я клянусь всем святым, что я и не сделаю ничего такого и не собираюсь делать. Я не лгу. Вы не верите мне, но это правда. Даю вам слово… Почему бы нам не остаться друзьями? Сейчас я больше ничего не могу вам сказать о себе… нет… но когда-нибудь скажу, и я хочу, чтобы вы остались моим другом. Я обещаю не делать ничего, что могло бы доставить вам неприятность. Ведь я ничего такого не сделала? Правда? Не сделала? — Откуда мне знать? — резко сказал он, испытующе глядя на нее и в то же время думая, что с ее стороны это просто коварная попытка завлечь его наперекор его воле и удержать подле себя. — Мне кажется, вы уже немало сделали хотя бы тем, что связались с этой публикой. Начать с того, что из-за вас я таскаюсь с ними повсюду. Если бы не вы, разве стал бы я ездить на всякие дурацкие прогулки? Или этого мало? Чего же вам еще? А почему вы не можете сказать мне сейчас, кто такие эти люди и что вы о них знаете? — потребовал он, чувствуя себя в какой-то мере победителем. — Мне хотелось бы знать. Это могло бы сослужить мне службу, если бы вы действительно хотели помочь мне. Какие у них планы, чего они добиваются? — Не знаю. Я не могу сказать вам больше того, что уже сказала, уверяю вас. Если узнаю, может быть, когда-нибудь скажу. Даю слово. Но только не сейчас. Сейчас не могу. Неужели вы не можете мне поверить хоть немножко? Разве вы не понимаете, что, если я так много вам говорю, значит, вы нравитесь мне? Я вовсе не намерена вредить вам, право же. Я многим обязана этим людям, но не настолько, чтобы зайти так далеко. Вы мне не верите? Словно от горькой обиды она широко раскрыла глаза. В выражении ее лица было что-то новое, завлекающее, ласковое. — У меня не осталось ни одного близкого человека, — продолжала она, — никого, кто бы мне нравился. Наверно, я сама виновата, но… Голос ее стал слаще меда. Грегори был глубоко убежден, что его жена — наилучшая и самая подходящая для него спутница жизни, он очень любил своего ребенка и его заботливую мать и неизменно сохранял ей верность, но, несмотря на это, несмотря на всю осторожность, его все же волновало своеобразное обаяние этой девушки. Откуда у Тилни такая власть над нею, что он может заставить ее заниматься подобным делом? Подумать только… а какая красивая девушка!.. — Что вы знаете о миссис Скелтон? — спросил он. — Кто она, по крайней мере? И здешние садовники? Что им нужно? (В отеле было три садовника, и всякий раз, как Грегори и Имоджин оказывались вдвоем, они как-то ухитрялись находить себе работу поблизости — обстоятельство, вынуждавшее его немедленно удаляться.) И Даймондберг? Что касается садовников, уверяла она, то ей о них ничего не известно. Если они выполняют поручения миссис Скелтон или кого-нибудь еще, они делают это без ее ведома. С Даймондбергом она познакомилась только в отеле и терпеть его не может. По каким-то соображениям миссис Скелтон просила ее сделать вид, будто она с ним незнакома. Имоджин уверяла, что миссис Скелтон с давних пор знает ее по Цинциннати, как та и говорила, а последнее время они встречались здесь, в городе. Миссис Скелтон помогала ей найти службу, дважды устраивала ее на сцену. Да, одно время, около года, она действительно служила у мистера Суэйна, но только как простая конторщица. Ей никогда ничего не было известно ни о нем самом, ни о его планах и замыслах, никогда. Грегори спросил, как же так вышло, что именно она должна была заманить его в западню, если есть такой замысел, но она стала уверять, будто и понятия не имеет о том, что его собираются поймать в западню. Она знает только то, что она ему рассказала. Грегори так и не мог разобраться до конца, говорит ли она правду, но все это было довольно правдоподобно, и он думал, что не может же она все время только лгать. Она казалась слишком откровенной и доброжелательной. В ее тоне и поведении сквозило нежное, пылкое чувство. В будущем, уверяла она, он узнает все, если пожелает, но не сейчас, только не сейчас. Затем она спросила его про жену, где она и когда вернется. — Вы очень ее любите? — наивно осведомилась она в заключение. — Конечно, люблю. Почему вы спрашиваете? У меня есть сынишка, ему два года, я его просто обожаю. Она поглядела на него задумчиво, с некоторым замешательством или недоверием, как ему показалось. Они порешили на том, что останутся такими же друзьями, какими были до размолвки. Он признался, что она ему нравится, но все же он не доверяет ей — во всяком случае, пока. Все должно идти по-прежнему, но при одном условии: отныне что бы с ним ни случилось, она будет за это в ответе. Она откровенно сказала ему, что над остальными никакой власти не имеет. Они сами себе господа, и до некоторой степени она должна им подчиняться, но по мере сил будет его оберегать. Нет, она не думает, что они намерены еще долго преследовать его. Пусть он с нею не считается и уезжает, если находит нужным. Она может видеться с ним и в другом месте, если он захочет. Она не уверена, что его отъезд повлияет на замыслы его противников. Так или иначе, если он уедет, она не последует за ним, — разве что он сам этого пожелает, и тогда она будет очень рада. Но возможно, что и здесь больше ничего не случится. Если она что-нибудь услышит, она его предупредит или попытается предупредить в свое время. Но теперь она ничего больше не может сказать. Возможно, что немного позже, как только ей удастся выбраться отсюда… есть вещи, которые от нее не зависят… Она выражалась весьма загадочно и таинственно, и он понял это в том смысле, что она попала в трудное положение, из которого не так-то легко выпутаться. — В конце концов я не стал бы очень на нее рассчитывать, — рассудил Блаунт, когда Грегори ему обо всем рассказал. — Гляди в оба, вот мой совет. Ни в коем случае не рискуй из-за нее своей репутацией. Кто знает, может быть, она опять врет. Кто раз смошенничал, тот мошенником и останется. Такова была его философия. Миссис Скелтон вернулась на третий день после этого разговора с Имоджин, и, несмотря на то, что они, казалось бы, сблизились, как никогда раньше, заключив дружественный полуоборонительный пакт, он все же чуял предательство. Он сам не понимал почему. Имоджин вела себя с ним по-дружески, держалась просто, непосредственно, была мила и даже предупредительна… и все же… в чем тут дело? То он думал, что она, может быть, невольная жертва, попавшая под влияние миссис Скелтон, то, что она совершенно беспринципная политическая авантюристка. Хотя она, по-видимому, и старалась, как он говорил, «быть на высоте», но он сталкивался с нею при таких странных обстоятельствах, что, несмотря на все сказанное ею в прошлом и теперь, сомневался: может быть, она по-прежнему пытается его скомпрометировать? Как ни был он далек от того, чтобы стать на скользкий путь, все же его отношения с ней начинали обретать очарование игры, в основе которой лежит непобедимое влечение полов. Так, однажды, после того, как они до поздней ночи просидели за картами, он вышел на маленькую веранду, с которой открывался великолепный вид на море, — верандой этой заканчивался коридор, где находилась его комната, — и здесь увидел Имоджин, — она была одна, в прозрачном платье, веселая, приветливая. Теперь, когда они стали друзьями и между ними состоялся тот памятный разговор, она вела себя так, словно приглашала его установить с ней отношения более близкие и притом ничуть для него не опасные. Она готова оградить его от всего, все взять на себя. В то же время он был далек, очень далек от того, чтобы сдаться. Не раз он уверял ее, что не желает вступать с ней ни в какие романтические отношения, и, однако, вот она у его двери. После он говорил себе, что, возможно, тревожиться тут нет особых оснований, ведь он предупреждал ее, и похоже было, что она пыталась рассеять подозрения, переубедить его. Конечно, здесь мог оказаться любой человек, живущий в отеле (притом и ее собственная комната была где-то поблизости), но главное правило, установленное Блаунтом и до сих пор выполнявшееся Грегори, гласило: никогда, ни при каких обстоятельствах, которые могут быть неправильно истолкованы, не оставаться с нею наедине. К тому же, уходя, — а Грегори тотчас ушел, непринужденно и шутливо извинившись, — он заметил двух мужчин, которые появились из-за угла длинного коридора, и один из них, увидев его, сказал другому: «Должно быть, нам в другую сторону, Джим». Вполне возможно, что и в этом не было ничего особенного. Кто угодно мог случайно зайти туда, где на угловой веранде сидела девушка в весьма прозрачном облачении, но все же… То же самое случалось всякий раз, когда он вечерами прогуливался за оградой или вдоль дамбы, слушая, как с грохотом бьет в нее морская волна, и размышляя о прелести ночи, красоте отеля и мерзости политики. Он замечал, что, когда вблизи бывали посторонние, Имоджин всегда оказывалась подле него, когда же, как думалось, они на самом деле могли бы спокойно остаться наедине, ее не было. Как-то вечером Буллен, один из маклеров и, по-видимому, не из худших среди своей братии, выйдя с миссис Скелтон и Имоджин на прогулку и увидев Грегори, затеял с ним разговор, а затем ушел вместе с миссис Скелтон, оставив Имоджин на его попечении. Не желая показаться до глупости подозрительным, Грегори в то же время был серьезно озабочен и не знал, как же вести себя в подобных случаях. Его теперь постоянно, мучительно тянуло к Имоджин, и все же… Он не раз говорил ей, что не желает оставаться с ней наедине при подобных обстоятельствах, но вот поди ж ты: сама постоянно твердит, что не станет навязываться ему против его желания, а вот полюбуйтесь! Все ее объяснения сводились к тому, что она тут ни при чем, что все это чистая случайность или подстроено без ее ведома. Она бессильна предусмотреть все случайности. Когда же он настаивал, желая выяснить, почему она не уезжает, почему решительно не порвет со всем этим, она объясняла, что не может так поступить, не причинив серьезного вреда себе и миссис Скелтон, а кроме того, для него безопаснее, если она здесь. — Что это значит? — спросил он ее теперь. — Новая уловка? — Заметив, что она умолкла и отшатнулась, он устыдился. — Ну, вы же знаете, о чем речь, — сердито добавил он. — Прошу вас, Эд, не будьте таким подозрительным. Ну, почему вы так себя ведете? Что же, по-вашему, мне даже и гулять здесь нельзя? Сегодня вечером я не могла избежать этого, уверяю вас, не могла. Разве вы не понимаете, что и мне приходится играть роль — во всяком случае, временно. Вы хотите, чтобы я собралась и уехала? Я объясняю вам, что не могу. Вы не верите? Неужели вы совсем не доверяете мне? — Ну, хорошо, хорошо, — проворчал он, очень недовольный собой. — А теперь пойдемте. Сами знаете, я должен опасаться злых языков. — И, взяв ее под руку, он учтиво, но решительно повел ее на главную веранду, стараясь в то же время быть любезным. — Поймите, Имоджин, я не могу допустить этого и не допущу. Вы должны избегать подобных вещей. Иначе я прекращу всякое знакомство с вами. Вы говорите, что хотели бы по меньшей мере сохранить мою дружбу. Очень хорошо. Но как это сделать? Поспорив в таком духе еще некоторое время, они расстались не совсем врагами, хотя и очень недовольные друг другом. К своему великому неудовольствию, Грегори в конце концов убедился, что ограничен в выборе мест для прогулок и отдыха почти в такой же степени, как если бы находился в тюрьме. Когда он впервые приехал в отель, ему приглянулась небольшая аллея со скамьями и цветущими виноградными лозами, расположенная позади лужайки; она стала для него излюбленным местом, где можно было отлично прогуляться и покурить, но теперь ему пришлось от нее отказаться. Он был уверен, что там Имоджин застанет его одного или туда явится с нею миссис Скелтон, чтобы потом оставить его с девушкой наедине, а три садовника или маклеры, вероятно, будут поблизости, готовые выполнить роль свидетелей. Он не мог не думать, что попал в глупое и смешное положение. Порою Грегори разъезжал с Имоджин и Блаунтом в машине Блаунта, иногда они приглашали и миссис Скелтон, а иногда и нет — как придется, поскольку Блаунт был рядом, это не имело значения; они никогда не ездили далеко, и притом Грегори и Блаунт всегда брали с собой оружие, готовые к любой неожиданности, к любой схватке. Дело это было, по-видимому, рискованное, но приятели несколько приободрились, так как до сих пор им везло и к тому же Имоджин очень нравилась обоим. Теперь, признавшись в своей любви к Грегори, она была с ним необычайно мила, а с Блаунтом весела и любезна, ласково поддразнивала его и называла сторожевым псом. Блаунт был очень горд тем, как ловко они с Грегори справляются со всей этой историей. Не раз, даже в присутствии девушки, он говорил, что в этом есть спортивный интерес, прелесть азартной игры и что Имоджин их не перехитрит, а все это помогает весело проводить время, хотя, может быть, его собственная жизнь и жизнь Грегори или, по крайней мере, их репутация поставлены на карту. — Действуй, вот мой совет, — твердил Блаунт, увлеченный событиями. — Пусть она как следует в тебя влюбится. Добейся, чтоб она свидетельствовала в твою пользу. Попытайся получить от нее настоящие свидетельские показания, написанные черным по белому. Какой это был бы козырь в избирательной кампании, если бы уж тебя вынудили с него пойти. При всем своем благодушии Блаунт был практичным и дальновидным политиком. Но Грегори чувствовал, что не способен так поступить. Очень уж она ему нравилась. Никогда не была она так отзывчива, так близка к нему, как теперь. На прогулках они с Блаунтом стали подшучивать над Имоджин, над ее ролью во всей этой истории, спрашивали, нет ли поблизости голубой машины, расставлены ли по местам садовники и кто спрятан вон за этим деревом или за тем домом. — Зачем вам зря с нами время тратить, если у вас не все готово? — говорили они. Она относилась ко всему снисходительно, даже смеялась и, в свою очередь, подшучивала над ними. — Берегитесь! Вон, видите, идет шпион! — вскрикивала она, увидев торговца с тележкой или батрака с тачкой. Все это начинало походить на фарс, но Грегори с Блаунтом решили, что в этом фарсе есть своя прелесть. Пожалуй, они так замучили ее партнеров, что скоро те выйдут из игры. Во всяком случае, оба на это надеялись. Но едва они пришли к выводу, что заговор не так уж страшен и, видно, дело идет к концу, а миссис Грегори сообщила, что вскоре она сможет вернуться, как вдруг случилось нечто неожиданное. Однажды вечером Блаунт, Грегори и Имоджин возвращались с одной из прогулок, которые теперь не были такими продолжительными, как прежде; верный своему правилу ни в коем случае не действовать по какой-то твердо установленной системе, которая позволила бы врагу подметить и использовать их привычки, Блаунт миновал главные ворота и выехал на боковую дорогу, которая вела к уединенному подъезду, прикрытому с обеих сторон высокой живой изгородью и купой густых сосен. Верные также решению никогда не разлучаться при подобных обстоятельствах, они направились вслед за Имоджин к двери, после того как Блаунт запер машину, чтобы ее не угнали в его отсутствие. На ступенях подъезда они немного задержались, стали подшучивать над Имоджин, что вот, мол, и еще один вечер прошел спокойно, только садовники, бедные, верно, умаялись, гоняясь за ними до поздней ночи и рыская в темноте, но она заявила, что устала и ей пора лечь. Она посмеялась над их самодовольством. — Вы оба думаете, что умнее вас никого на свете нет? — устало усмехнулась она. — Вам пошло бы на пользу, если бы с вами обоими что-нибудь случилось, — слишком уж вы умные. — Серьезно? — едва сдерживая смех, сказал Блаунт. — Ну, не стоит по этому поводу устраивать полуночных конференций. Зачем вам терять дорогие часы сна? А Грегори прибавил: — Правда, Имоджин, у вас столько работы, вы должны поберечь себя. — Да замолчите вы и ступайте домой, — сказала она со смехом, направляясь к двери. Но не прошли они и ста пятидесяти футов по боковой тенистой дорожке, как она, запыхавшись, нагнала их. Услышав ее шаги, они обернулись. — Послушайте! — приблизившись, кокетливо сказала она. — Мне так неловко вас беспокоить, но кто-то запер дверь, и я не могла ни открыть ее, ни достучаться. Может быть, кто-нибудь из вас пойдет со мной и поможет? — И, видя, что оба повернули, она прибавила: — Ах да. Я и забыла. Вы ведь никогда не расстаетесь! Блаунт фыркнул. Усмехнулся и Грегори. Нельзя было удержаться. Иногда все это выходило просто нелепо — вот как сейчас, к примеру. — Но представьте себе, — пошутил Грегори, — вдруг дверь так плотно закрылась, что мы сумеем открыть ее только соединенными усилиями. Видя, что Блаунт действительно готов пойти, он передумал. — Пожалуй, я и один сумею открыть дверь. Не беспокойся на этот раз. Все равно я иду к себе, — добавил он. У него мелькнула мысль, что неплохо бы побыть с Имоджин наедине хоть несколько минут… Блаунт оставил их, предостерегающе подмигнув и весело пожелав им доброй ночи. За все время совместного пребывания в отеле они ни разу не решались так поступать, но сейчас, по-видимому, не было оснований беспокоиться. Грегори никогда еще не чувствовал такой близости к Имоджин. Она казалась особенно сердечной, радостной, веселой. Вечер был душный, но приятный. Они болтали о пустяках, шутили, и ему захотелось побыть с ней еще немного. Она как-то вошла в его жизнь и была таким милым другом, или ему просто так казалось. Он взял ее под руку. — А хорошо было в Беркли, — сказал он, думая о гостинице, откуда они только что приехали. — Красивый парк… и эта музыка! Замечательно, не правда ли? (Они там танцевали.) — Лето скоро пройдет, — со вздохом сказала она, — и мне придется вернуться домой. Как было бы хорошо, если бы оно никогда не кончалось. Мне хотелось бы жить тут всегда, вот так, как сейчас, вместе с вами. — Она остановилась, посмотрела на вершины деревьев, глубоко вздохнула и протянула руки. — Посмотрите на этих светлячков, — промолвила она, — правда, они чудесные? — Она отступила на шаг, следя за мелькающими среди деревьев светляками. — Может быть, посидим немного? — предложил он, когда они подошли к подъезду. — Еще не поздно. — Вы серьезно? — радостно спросила она. — Понимаете ли, я становлюсь таким дураком, что хочу верить вам. Разве это не глупо? Но я даже рискну побыть с вами минут пятнадцать. — Мне хотелось бы, чтобы вы оба хоть когда-нибудь перестали дразнить меня, — просительно сказала она. — Мне хотелось бы, что бы вы научились доверять мне и иногда расставались с Блаунтом: ведь сколько раз я говорила, что не собираюсь делать ничего, что может вам повредить, не предупредив вас об этом. Грегори, польщенный, смотрел на нее. Он был растроган, жалея ее и еще больше самого себя. Он понимал, что невольно, несмотря на жену и ребенка, вступил на путь, на который не должен был вступать, и вместе с той, кого он, по совести, не мог уважать. Он прекрасно сознавал, что ни теперь, ни когда-либо в будущем им не быть вместе. И все же он медлил. — Ну вот наконец мы и одни, — проговорил он. — Теперь вы можете делать ваше черное дело, меня некому защитить. — Это было бы вам уроком, господин хитрец. Предложи я вам посидеть со мной минутку, так вы вообразите, что за каждым деревом прячется шпион. Смешно смотреть, как вы себя ведете. Но как бы то ни было, а вам придется подождать, пока я поднимусь наверх переменить туфли. Жмут ужасно, терпения нет. Если хотите, пройдите к веранде, или я вернусь сюда. Я сию минуту. Не возражаете? — Ну, конечно, нет, — согласился он, подумав, что веранда — слишком уединенное место, здесь, у подъезда, безопаснее. — Пожалуйста, идите. Но лучше возвращайтесь сюда. Я тут пока покурю. Он достал сигару и собирался расположиться с удобством, но она вернулась. — Вам придется открыть мне дверь, — сказала она. — Я совсем о ней забыла. — Ах да, разумеется. Он подошел к двери, поискал сначала большой ключ, который в это позднее время всегда висел сбоку, и, не найдя его, взглянул на замочную скважину. Ключ был там. — Это я пробовала открыть, — объяснила Имоджин. Он взялся за ключ, и, к его изумлению, замок поддался без малейшего усилия с его стороны, что заставило его обернуться и посмотреть на нее. — Кажется, вы говорили, что дверь не открывается, — сказал он. — Раньше не открывалась. Не знаю, почему замок сейчас поддался, а тогда я не могла открыть. Возможно, кто-нибудь прошел здесь с тех пор. Ну, я побегу и сию минуту вернусь. — Она побежала вверх по широким ступеням. Грегори вернулся на прежнее место: ему было немного смешно и даже в голову не приходило, что в этом есть нечто странное или неладное. Все могло быть именно так, как она говорила. Бывает, что замки иногда шалят, а может быть, кто-нибудь уже проходил и открывал дверь. Зачем постоянно сомневаться? Возможно, что она действительно любит его, как уже давала это понять, сильно влюблена и никому не позволит воспользоваться ею как оружием против него. Вполне возможно. Нет, в самом деле, продолжал он размышлять, она теперь совсем не такая, какой он вначале ее считал и какой она тогда была, она попалась в сети собственных чувств и, подчиняясь ему, ведет себя совсем не так, как рассчитывала. Не будь он женат счастливо, может быть, из этого что-нибудь и вышло бы, думал он. Темно-зеленая стена деревьев, встававшая неподалеку, желтый свет, льющийся из стеклянного шара, вделанного в потолок, светляки и звенящие цикады — все успокаивало и развлекало его. Он начинал думать, что в конце концов политика — по крайней мере, та, к которой он причастен, — не такое уж плохое занятие, даже когда тебя преследуют. До сих пор он недурно зарабатывал, снабжая превосходной информацией некоторые газеты и политические организации — самая замечательная была припасена напоследок, — а это дело открывало перед ним гораздо более выгодные перспективы, чем те, что были у него во времена работы в газете; новое поприще, если не считать того, что произошло за последние несколько недель, представлялось ему достаточно заманчивым. Скоро он нанесет местным заправилам убийственный удар. Тогда он сможет занять видное положение в городе. Его не так-то легко провести, как они полагали; к тому же эта очаровательная девушка влюбилась в него. Некоторое время он смотрел вдоль темно-зеленой аллеи, по которой они пришли, затем стал беззаботно созерцать какое-то созвездие, видневшееся над макушками деревьев. Вдруг… а может быть, и не вдруг… шепот или только намек на шепот… словно что-то коснулось его слуха и, когда он прислушался повнимательнее, как будто легкие шаги зазвучали по ту сторону живой изгороди. Звук был так слаб, что его можно было принять за шелест травы или колебание веток. Грегори мгновенно насторожился, все его мускулы напряглись, и он весь внутренне подтянулся — не потому, что ожидал чего-нибудь ужасного, но… неужели они опять взялись за старые трюки? Опять эти таинственные садовники? Когда же это кончится? Вынув изо рта сигару и остановив качалку, на которой он медленно покачивался, он решил не двигаться, даже не шевелить руками, так удачна была его позиция; справа и слева столбы, находившиеся между ним и кустами, служили ему прикрытием, и он мог видеть, сам оставаясь невидимым. Знают ли они, что он здесь? Как они могли узнать? По-прежнему непрерывно следят за ним? Имеет ли она к этому отношение? Он решил было встать и уйти, но тут же подумал, что лучше немного повременить, выждать и посмотреть, что будет. Он уйдет, а она вернется и не найдет его на месте… Но неужели готовится какой-то новый подвох? Быстро обдумывая все это, он в то же время до последней степени напрягал слух. Сомнений быть не могло — кто-то тихо шел слева по ту сторону ограды, и не один, а двое: как только одни шаги затихли где-то совсем рядом, оттуда же послышались другие, такие легкие и осторожные, будто кто-то крался на кошачьих лапах… Шпионы, провокаторы, даже убийцы — мог появиться кто угодно, он это понимал. Кто-то прятался и подкрадывался, и это так действовало на нервы, было так страшно и так тяжко, что ему стало не по себе. Да, видно, не следовало отпускать Блаунта и задерживаться здесь. Он готов был уйти, его пробирала дрожь, но тут ему показалось, что он слышит шаги Имоджин, спускающейся по лестнице. Значит, она все-таки возвращается. Она здесь ни при чем, напрасно он этого боялся… или, может быть… Кто скажет? Но уйти теперь было бы глупо. Она увидела бы, что он снова ей ни в чем не доверяет, а такие отношения между ними, казалось, уже кончались. Она не раз обещала не только не вредить ему, но и оберегать его от всей этой компании. Нет, сначала он скажет ей о людях, которые прячутся за изгородью, а потом уйдет. Он скажет ей, что они по-прежнему следят за ним, готовые в любую минуту злоупотребить его доверчивостью. Но вот ее шаги раздались у конца лестницы и затихли, а она не появлялась. Вспыхнула лампочка по ту сторону двери, обычно не горевшая в этот поздний час, и, оглянувшись, Грегори увидел — или ему почудилось, что увидел, — тень Имоджин на стене справа. Она что-то делала… но что? Под лампочкой было зеркало. Может быть, она поправляла волосы. Пожалуй, чтобы показаться ему в новом виде, она принарядилась. Он ждал. Она не появлялась. Тогда предчувствие какого-то предательства мгновенно охватило его, леденящее ощущение, что он обманут и на краю гибели. Он почувствовал, как все в нем затрепетало от страха, и что-то шепнуло ему: «Вперед! Живей! Беги!» Больше он не мог усидеть на месте ни секунды и, словно от мощного толчка, вскочил на ноги и кинулся к двери: тут ему опять показалось, что он слышит в темноте за оградой движение и даже шепот. Что такое? Кто это? Сейчас он все выяснит! Вбежав в дверь, он осмотрелся и увидел Имоджин — но что с ней сталось! Когда она пошла наверх, на ней было легкое летнее платье, очень модное и нарядное, а сейчас она была в мягкой, плотно облегающей домашней одежде, в какой никто бы не стал выходить из отеля. И она не оделась с привычной для нее аккуратностью, а, напротив, явилась в полном беспорядке, словно ей пришлось выдержать ожесточенную и неравную борьбу. Ворот был надорван и распахнут, рукав лопнул у кисти и на плече, юбка съехала набок и тоже была порвана выше колен. Лицо было мертвенно-бледно не то от пудры, не то от испуга и отчаяния, а прическа в таком беспорядке, будто кто-то трепал ее и сбил на сторону. Словом, у Имоджин был вид человека, на которого было совершено злодейское покушение и который вышел из схватки в растерзанном виде и дрожа от страха. Хотя Грегори бросил на нее лишь беглый взгляд, эта перемена в ее внешности поразила его. Он до такой степени был застигнут врасплох, что не мог выговорить ни слова, но его как будто осенило, и он мгновенно понял смысл всего происходящего. Его единственной мыслью было — убежать, убраться подальше, чтобы его не увидели, не застали тут. Он отскочил к лестнице и помчался наверх, прыгая через три ступени: на бегу он оглянулся, бросил на нее изумленный, злобный и испуганный взгляд и встретил растерянный и испуганный взгляд ее широко раскрытых глаз, но и это не удержало его. Он перевел дух, только когда достиг своей комнаты, вбежал в нее и запер за собой дверь. Очутившись у себя, он остановился, трясущийся и бледный как полотно, прислушиваясь, не раздастся ли какой-нибудь звук, нет ли погони, но, не услышав ничего, подошел к зеркалу и стал издеваться над собой, над тем, что он такой дурак, так легко дал себя перехитрить, полез в ловушку после всех принятых предосторожностей и умных речей. «О господи!» — вздыхал он. А ведь клялась и обещала, даже сегодня вечером. Вот она, коварная и непостоянная человеческая природа! Значит, все это время она лгала ему, водила за нос, несмотря на всю его самонадеянность, принятые предосторожности и подозрения, а сейчас, в конце сезона, едва не залучила в западню. Значит, Тилни нелегко провести. Он добился от своих подчиненных такой ловкости и покорности, о каких Грегори и не подозревал. Но что же он ей скажет теперь, когда узнал, что она собой представляет, если только когда-нибудь снова ее увидит? Она просто посмеется над ним, она считает его дураком, хотя ему и удалось удрать. Захочет ли он снова видеть ее? Никогда, решил он. Но подумать только, что такая юная, такая нежная и, казалось, влюбленная девушка может быть так безжалостна, дьявольски хитра и жестока! Она гораздо изобретательней, чем думали они с Блаунтом. Придвинув к двери стол и стулья, он позвонил Блаунту, сел и стал его поджидать. Теперь ему было совершенно ясно, что она замышляла разыграть жертву мнимого нападения, а он оказался бы в роли преступника, и если бы его противники собрали достаточно свидетелей, ему нелегко было бы доказать свою невиновность. Ведь и его и Блаунта часто могли видеть с ней, хоть он и дал себе слово остерегаться этого. Ее свидетели скрывались совсем рядом, в темноте, и ждали только подходящей минуты. Даже если бы ему удалось доказать свое пристойное поведение в прошлом, все равно, принимая во внимание то подозрительное обстоятельство, что он заигрывал с ней, и эту коварную ситуацию, — разве присяжные и публика поверили бы ему? Еще секунда-другая, и она закричала бы, что он на нее набросился, подняла бы на ноги весь отель. Ее тайные сообщники ринулись бы к нему и избили его. А может быть, и убили. Кто знает? Потом сказали бы, что защищались от нападения. Бесспорно, она и ее приятели нашли бы пропасть свидетелей. Но она не закричала… вот это странно, хотя времени у нее было вполне достаточно (это несомненно), и от нее этого ожидали, и она должна была закричать! Почему же она не крикнула? Что удержало ее? Странная, беспокойная, оправдывающая ее мысль казалась все более вероятной, но тут же он сделал все, что мог, чтобы ее заглушить. «Нет, нет! С меня довольно, — сказал он себе. — Она хотела скомпрометировать меня — вот и вся разгадка. И каким образом! Ужасно! Нет, все кончено. Завтра же уезжаю, это решено, поеду в горы к жене или увезу ее домой». Между тем он сидел весь дрожа, вытирая со лба пот, с револьвером в руке: как знать, может быть, они еще явятся за ним и попытаются обвинить его в покушении. Попытаются ли… смогут ли? Тут кто-то постучал в дверь, и Грегори, выяснив, что это Блаунт, открыл ему. Он торопливо рассказал Блаунту о своих мытарствах. — Да, — мрачно и в то же время не без удовольствия проговорил Блаунт. — Эта на все пойдет. Хитрая уловка, что ни говори, подстроено на диво. А какая у нее выдержка! Ведь шутила с нами на эту тему! Я считал, что ты рискуешь, но не думал, что так сильно. Я уже начал было думать, что за нею ничего такого нет, и вот не угодно ли! Согласен, пора уезжать. Едва ли тебе удастся перетянуть ее на свою сторону. Она слишком хитра. На следующее утро Грегори поднялся рано, вышел на веранду и стал курить, обдумывая создавшееся положение. Да, теперь он уедет и, возможно, никогда больше не увидит эту девчонку с дьявольским сердцем. Какое откровение! Подумать только, что в мире рядом с такими женщинами, как его жена, существуют такие коварные, безжалостные, красивые сирены. Сравните их: его жена — верная, самоотверженная, терпеливая, ее единственная забота — благополучие тех, кого она преданно любит; и положите на другую чашу весов эту девчонку — лживую, наглую актрису, лишенную стыда и совести, для которой, по-видимому, единственная цель в жизни — пробиться любыми средствами за счет всех и вся! Он хотел уехать, не повидав ее, но невольно продолжал сидеть и рассуждать, что ничего плохого не случится, если он в последний раз поговорит с ней, чтобы выяснить, действительно ли она собиралась кричать… действительно ли она такая порочная, как он думает. Он скажет ей в лицо об ее чудовищном предательстве и уличит в злодействе. Интересно, какая новая ложь готова у нее на языке? Сможет ли она смотреть ему в глаза? Попытается ли все объяснить? Сумеет ли? Ему хотелось еще раз взглянуть на нее, но не предпочтет ли она избежать этой встречи? Сейчас, наверно, она думает о том, какая неудача постигла ее, как она промахнулась, а ведь только вчера она держала его руку, гладила ее и шептала ему, что она не такая уж плохая, мерзкая, как он думает, и что когда-нибудь он сам в этом убедится. И вдруг, на тебе! Он ждал довольно долго, а затем послал сказать ей, что желает ее видеть. Ему не хотелось, чтобы все так и кончилось, — он хотя бы попрекнет ее и посмотрит, как она будет изворачиваться. Спустя некоторое время она появилась, бледная и, видимо, измученная, в глазах была такая усталость, будто она не спала всю ночь. К его изумлению, она непринужденно подошла к нему, и когда он поднялся, готовый дать ей отпор, она остановилась с выражением такой слабости и беспомощности, какого у нее еще не бывало. «Как играет!» — подумал Грегори. Он никогда еще не видел ее такой подавленной, совсем обессиленной и поникшей. — Итак, — начал он, когда она остановилась перед ним, — какую новую ложь вы приготовили для меня? — Никакой, — мягко ответила она. — Что такое?! Совсем не собираетесь лгать? Но, по крайней мере, вы начнете с притворного раскаяния? Собственно говоря, вы уже с этого начали. Разумеется, вас заставили ваши друзья! Да? Там был Тилни… и миссис Скелтон. Они поджидали вас и, когда вы поднялись наверх, точно указали вам, что и как делать, не так ли? И вам пришлось послушаться, не правда ли? — Он язвительно усмехнулся. — Я уже сказала вам, что мне нет нужды говорить что-либо, — ответила она. — Я ничего не сделала… ничего не собиралась делать… Только подать вам знак, чтобы вы убежали, но вы так на меня налетели… Он нетерпеливо махнул рукой. — Ну, хорошо, — печально продолжала она. — Как я могу убедить вас, когда вы мне не верите? А все-таки я говорю правду. Все ваши подозрения напрасны, вот только насчет случая с автомобилем вы правы, но я больше не прошу вас верить мне. Я ничего не могу поделать, раз вы не верите. Слишком поздно. Но мне придется испить чашу до дна. Прошу вас, Эд, не смотрите на меня так… так сурово. Вы не знаете, как я слаба и измучена и что вынуждает меня к подобным поступкам. Но вчера, когда я ушла от вас, я не хотела делать ничего такого, что могло бы вам повредить. И не сделала. У меня не было ни малейшего намерения, уверяю вас. Ну, что ж, смейтесь, если хотите! А что я могла поделать, все равно ничего… хотите верьте, хотите нет. У меня и в мыслях этого не было, когда я переступила порог комнаты, только… ох, до чего я дошла! — неожиданно воскликнула она. — Вы не знаете, как у меня все перепуталось в жизни. Разве ваша жизнь такая, как моя! Вы не попадали в унизительное положение, когда другие могут заставить вас делать то, что им надо. В том-то вся и беда… мужчины не понимают женщин. — Что верно, то верно, — вставил он. — А мне приходилось многое делать против воли… но я вовсе не хочу разжалобить вас, Эд. Я знаю, что бесполезно, и между нами все кончено, только поверьте, как я ни плоха по отношению к вам, я никогда не хотела быть такой плохой, как казалось. Уверяю вас, не хотела. Вот, честное… — Дабросьте вы! — злобно проговорил он. — Противно! Я не для того посылал за вами, чтобы выслушивать весь этот вздор. Я просил вас спуститься только затем, чтобы посмотреть, решитесь ли вы, хватит ли у вас наглости прийти сюда, — поверьте, только за этим… просто хотел посмотреть, можете ли вы изобрести новую ложь, и я вижу, что можете. Вы редкая мошенница, вот вы кто! И я хотел бы просить вас об одном одолжении: не будете ли вы так любезны отныне оставить меня в покое. Я устал и не могу этого больше выносить. Я уезжаю. Этот Тилни, на которого вы работаете, очень хитер, но теперь кончено. Хватит. Ручаюсь, что больше вы меня не проведете. Он направился к выходу. — Эд! Эд! — позвала она. — Прошу вас… одну минуту… не уходите, Эд, — молила она. — Я хочу сначала кое-что сказать вам. Я знаю, все, что вы говорите, — правда. Вы не можете добавить ничего такого, что я уже не говорила себе тысячу раз. Но вы не знаете, какая у меня была жизнь, что я пережила, как меня бросало из стороны в сторону, и все равно я не могу вам рассказать… нет, только не теперь. Наша семья никогда не занимала положения, о котором говорила миссис Скелтон… Впрочем, вы, конечно, и сами это знаете… я была хуже невольницы, я переживала тяжкие, ужасные времена. — Она приложила к глазам платок. — Я знаю, я ни на что не гожусь. Да, да, вчерашний вечер убедил меня в этом. Но я не хотела причинить вам вред, даже когда появилась одна и в таком виде… уверяю вас, не хотела. Я притворялась, будто собираюсь это сделать, вот и все. Выслушайте меня, Эд. Прошу вас, не уходите. Я думала, что сумею тайно подать вам знак, чтобы вы убежали… уверяю вас. Когда я в первый раз ушла от вас, дверь была заперта, и только поэтому я вернулась. Думаю, они нарочно сделали так, чтобы я не могла ее открыть. Наверху были люди; они заставили меня вернуться… не могу вам сказать как, и почему, и кто… Но они были тут как тут… как всегда. Они решили поймать вас, Эд, любым путем, даже если я не помогу им, — прямо говорю, будьте осторожны. Прошу вас. Уезжайте отсюда! Порвите со мной всякие отношения. Порвите всякие отношения со всеми этими людьми. Я не могу ничего поделать, честно говорю, не могу. Я не хочу, но… ах… — Она заломила руки и в изнеможении опустилась на стул. — Вы не знаете, в каком я положении, как они… — Да? Вот что, я устал от этого вздора, — мрачно и недоверчиво сказал Грегори. — Думаю, что они велели вам прийти сюда и наговорить все это, чтобы снова завоевать мою благосклонность. Ах вы, лгунья! Вы мне опротивели! Какая же вы в самом деле подлая обманщица! — Эд! Эд! — Она уже рыдала. — Умоляю вас! Эд! Неужели вы не хотите понять? С тех пор, что я здесь, они караулили у всех дверей всякий раз, как мы куда-нибудь ездили. Не имеет значения, в какую дверь вы войдете. Их люди стерегут повсюду. Я не знала об этом, пока не поднялась наверх. Уверяю вас, не знала. Ах, если бы мне вырваться! Мне так все омерзительно. Я говорила вам, что люблю вас, и это правда. Ах, я просто с ума схожу! Иногда мне хочется умереть, так мне все опостылело. Моя жизнь так ужасна и отвратительна, а вы, вы теперь будете ненавидеть меня. Она тихо плакала, со страдальческим видом раскачиваясь из стороны в сторону. Грегори смотрел на нее изумленно, но недоверчиво. — Да, — упорствовал он, — все это мне известно. Все тот же вздор. Не верю. Вы лжете теперь, как и всегда. Вы плачете и притворяетесь печальной, чтобы опять обмануть меня, но не выйдет. Хватит с меня, раз и навсегда, я вас знать больше не желаю. Я обратился бы к полиции, но при теперешних городских властях это бесполезно. И вот что я вам скажу. Если вы или кто другой из этой шайки будете продолжать меня преследовать, я обращусь к печати. Найдется какая-нибудь возможность передать это дело в суд, и я ею воспользуюсь. А если бы вы действительно были «на высоте» и хотели что-то сделать для меня, что ж, это вы могли бы вполне, но где там… вы ничего не сделаете, если бы и представился случай, ни сейчас, ни через миллион лет. Не сделаете, я уверен. — Ах, Эд! Вы меня не знаете, не знаете, что я чувствую и на что способна, — захныкала она. — Вы даже не хотите испытать меня. Если не верите, так скажите, что нужно сделать, и убедитесь сами! — Что ж, пожалуйста, — решительно сказал он. — Сейчас я выведу вас на чистую воду. Сделайте признание, опишите все, что здесь творилось. При мне продиктуйте это стенографистке, потом пойдите со мной к нотариусу или к прокурору и все подтвердите под присягой. Вот теперь увидим, насколько ваши речи о любви ко мне соответствуют истине. — Он пристально следил за ней, а она смотрела на него — и слезы высыхали на ее глазах, рыдания замирали. Казалось, она несколько овладела собой и в раздумье уставилась в пол. — Ну что? Это дело другое, а? Теперь мне все ясно. Вы полагали, что я не сумею вывести вас на чистую воду, не так ли? Вот все и выходит по-моему, вы не решаетесь. Теперь я вас раскусил, желаю здравствовать! Наконец-то я узнал вам цену. Прощайте! И он пошел прочь. — Эд! — крикнула она, вскочила и бросилась за ним. — Эд! Подождите… не уходите! Я сделаю то, что вы просите. Сделаю все, что хотите. Вы не верите мне, но я это сделаю. Мне опротивело так жить, уверяю вас. Пусть они потом поступают со мной, как хотят, мне все равно. Прошу вас, Эд, не будьте так жестоки. Разве вы не видите… Неужели не видите… Эд… как вы мне дороги? Я с ума по вас схожу, это правда. Я не такая уж плохая, Эд, серьезно… Неужели вы не видите? Только… только… — Тут он вернулся и недоверчиво посмотрел на нее. — Неужели вы не можете хоть немножко полюбить меня, Эд? Ну хоть совсем немножко! Если я все сделаю, как вы хотите… Он смотрел на нее со смешанным чувством изумления, недоверия, отвращения, жалости и даже своего рода нежности. Сделает ли она, как говорит? А если сделает, сможет ли он ответить ей чувством, которого она жаждет? Нет, он знал это. Ей никогда не удастся отвязаться от этой ужасной банды, от своего прошлого, от воспоминаний о том, как она пыталась обмануть его, а он… у него жена. Он по-настоящему счастлив со своей женой, и ему нет иного пути. И притом — его карьера, его будущее, уже достигнутое им положение. Но ее прошлое… в чем там дело? Возможно ли, чтобы люди, в особенности такие негодяи, могли так распоряжаться человеком, как она говорит, и почему она не расскажет ему все? Что же она сделала столь ужасное, что они имеют над нею подобную власть? Даже если бы он и любил ее и мог ей, безусловно, верить, есть ли у него надежда одолеть шайку тайных врагов, которая осаждает сейчас их обоих, или ускользнуть от преследований? Их опорочат: все, как есть, в подробностях, в наихудшем освещении, выставят напоказ. И тогда он не сможет сам выступить и бросить этой банде обвинение, не сможет предстать как защитник народа. Нет, нет и нет! Но почему она, столько раз пытавшаяся повредить ему, теперь приходит ему на помощь? Или, может, она надеется, что он в благодарность что-нибудь сделает для нее? Он хмуро, чуть печально улыбнулся. — Да. Так вот, Имоджин, я не могу говорить с вами на эту тему — во всяком случае, сейчас. Вы либо величайшая актриса и обманщица, какую только видел свет, либо наивны до последней степени. Как бы то ни было, нетрудно понять, что при создавшихся условиях, да еще после вчерашнего, вы едва ли можете рассчитывать на мою благосклонность, не говоря уже о любви. Очень возможно, что вы и сейчас лжете, — играете, как обычно. Пусть так… Но прежде посмотрим, исполните ли вы то, что я сказал, тогда и поговорим. Он посмотрел на нее, затем на море, где виднелись плывущие к берегу лодки. — О, Эд, — печально сказала она, заметив его рассеянность, — вы никогда не узнаете, как я люблю вас, хотя нельзя не понять, что я должна очень любить, если решаюсь пойти на такой риск. Для меня не может быть ничего хуже… Возможно, я погублю себя. Но мне бы хотелось, чтобы вы попробовали хоть немного полюбить меня, пусть ненадолго. — Давайте не будем сейчас говорить об этом, Имоджин, — недоверчиво отозвался он, — во всяком случае, пока не порешим насчет письменных показаний. Уж столько-то вы обязаны для меня сделать. Вы ведь тоже не знаете, какая у меня была жизнь, какую непрерывную борьбу я вел, чтобы выдвинуться. Но если вы согласны, едемте сейчас же, в том виде, как вы есть. Не стоит подниматься наверх, чтобы надеть шляпку… или сменить туфли. Я достану машину, и вы поедете со мной вот так, какая есть. Она посмотрела на него просто, прямо, устало. — Отлично, Эд, но мне хотелось бы знать, чем все это кончится. После того как им все станет известно, вы понимаете, я не смогу вернуться сюда. Я сознаю, что обязана сделать это для вас. Но ведь я такая глупая… С женщинами всегда так, когда они любят, потому-то я и дала себе зарок никогда не влюбляться, а видите, что получилось! Они вместе поехали в город, в его контору, к нотариусу, к прокурору — успех невероятный. Она рассказала все или почти все: как она попала на службу к Суэйну, как встретила там Тилни, как, когда Суэйн сбежал, Тилни давал ей разные поручения: она была секретарем, писала под диктовку; как она стала считать его своим покровителем; где и как познакомилась с миссис Скелтон и как последняя, по требованию Тилни (она не уверена, но, по ее мнению, это был приказ), обязала ее или, точнее, приказала ей взяться за это дело; однако Имоджин отказалась сообщить, каким образом ее принудили, заявив, что расскажет об этом позже. Она сказала, что сейчас боится говорить все до конца.Завладев этим документом, Грегори был вне себя от радости, и все же сомнения не покидали его. Она спросила, что же теперь, что нужно еще, и он предложил ей немедленно оставить его и не встречаться с ним, пока он все не продумает и не решит, как поступить дальше. Между ними не должно быть ничего, кроме дружбы, уверял он, до тех пор пока он рано или поздно не убедится окончательно, что ничего не угрожает ему, его жене, его делу. Время все покажет. И однако, две недели спустя, когда она позвонила ему в контору и объяснила, что должна увидеть его хоть на минуту, сказать ему два слова, где угодно, по его усмотрению, — они снова встретились, лишь ненадолго, как внушил он себе и ей. Это было глупо, ему не следовало этого делать, и все же… При этом свидании Имоджин как-то сумела предъявить такие права на его чувства, что их нелегко было отвергнуть. Встреча состоялась в одном из маленьких боковых помещений довольно старомодного ресторана «Грил Парзан», в деловой части города. Она торжественно поклялась, что просила о встрече только потому, что хотела еще раз увидеть его; по ее словам, она пришла сюда, раз и навсегда покинув «Тритон», и, как понял Грегори, не вернется туда даже за своим гардеробом и будет скрываться в скромном квартале города, пока не решит, как ей быть дальше. Она казалась очень сиротливой, усталой и сама говорила об этом. Она не знала, что с ней теперь будет, что может обрушиться на нее. Но если бы он перестал думать о ней дурно, она не чувствовала бы себя такой несчастной. Он невольно улыбнулся: по-видимому, она страстно верит в магическую силу любви. Подумать только, как любовь изменила женщину! Это было трогательно, но и печально. Он питал к ней чисто платонические чувства, как он говорил себе, искренне в это веря. Ее отношение к нему было приятно, даже волновало его. — Но чего же вы ждете от меня? — спрашивал он снова и снова. — Вы ведь знаете, что это не может так продолжаться. У меня — жена и маленький сынишка. Я не сделаю ничего, что может причинить им зло, а к тому же — начинается избирательная кампания. Даже эта встреча непростительная глупость с моей стороны. Я рискую своей карьерой. Этот завтрак должен быть последним, вот мое слово. — Итак, Эд, вы пришли к твердому решению, — сказала она в самом конце завтрака, грустно глядя на него. — Значит, вы больше не хотите меня видеть? Вы так отдалились от меня с тех пор, как мы вернулись в город. Я неприятна вам, Эд? Неужели я действительно такая скверная? — Но, Имоджин, вы же сами видите, как все получается, правда? — продолжал он. — Это невозможно. В той или иной степени вы связаны с этой бандой, пусть помимо вашего желания. Вы сами говорите, что они многое знают о вас и, разумеется, не замедлят этим воспользоваться, если им будет выгодно. Конечно, они еще ничего не знают о вашем признании, если вы им сами не сказали; думаю, что они и не узнают, если только меня не вынудят воспользоваться этим документом. А мне приходится думать о жене и ребенке, и я не хочу делать ничего такого, что может повредить им. Если бы Эмили узнала, это просто убило бы ее, а я этого не хочу. Она всегда была мне другом, и мы многое пережили вместе. Я все обдумал и убежден, что так будет лучше. Мы должны расстаться, и я пришел сказать вам, что не могу больше видеться с вами. Это невозможно, Имоджин, разве вы не понимаете? — Даже иногда? — Никогда. Это просто невозможно. Вы мне нравитесь, и очень хорошо, что вы помогли мне выпутаться из скверной истории, но поймите, это невозможно. Неужели не понимаете? Она посмотрела на него, на мгновение опустила глаза, затем стала глядеть в окно, поверх городских крыш. — Ах, Эд, как я была глупа, — печально промолвила она. — Я говорю не о признании… я рада, что сделала его… а обо всех своих поступках в целом. Но вы правы, Эд. Я всегда чувствовала, что все кончится именно так, даже в то утро, когда согласилась сделать признание. Но я старалась верить и надеяться — просто потому, что с самого первого дня, как увидела вас, поняла, что не смогу справиться со своим чувством, и, вы видите, так и вышло. Ну что ж, Эд. Давайте простимся. Любовь грустная штука, правда? — И она стала надевать шляпу, затем пальто. Он помогал ей и все думал о том странном вихре обстоятельств, который сначала столкнул их, а теперь отбрасывает в разные стороны. — Мне бы хотелось что-нибудь сделать для вас, Имоджин, поверьте, — сказал он. — Мне хотелось бы сказать вам что-нибудь, отчего бы вам… нам обоим… стало немного легче… но что толку? Все равно это бесполезно, правда? — Да, — с горечью сказала она. Он провел ее к лифту, вышел с ней на тротуар, и там они на минуту остановились. — Да, Имоджин… — Он умолк, потом продолжал: — Не так хотелось бы мне расстаться с вами, но… что поделаешь… — Он протянул руку. — Желаю счастья и прощайте. Он уже хотел уйти. Она умоляюще взглянула на него. — Эд, — сказала она. — Эд, подождите! Разве… неужели вы не хотите?.. Она протянула ему губы, глаза ее затуманились. Он шагнул к ней, обнял ее и поцеловал. В тот же миг она прильнула к нему, словно хотела излить все свое чувство в этом их первом и последнем поцелуе; потом отвернулась, пошла, не оглядываясь, и тотчас затерялась в бурлившей вокруг толпе. Когда же Грегори опомнился и собрался идти, он заметил двух кинооператоров, с разных сторон снимавших эту сцену. Он едва мог поверить своим глазам. Пока он растерянно смотрел на них, они сделали свое дело, сложили треножники и направились к поджидавшему их автомобилю. Прежде чем он успел собраться с мыслями, они уехали… и тогда… — Разрази меня гром! — воскликнул он. — Неужели это она подстроила? После всего, что я к ней чувствовал, после всех ее уверений! Мошенница! И они сняли нас, когда я целовал ее! Попался, черт побери! Эта девчонка или вся их шайка все-таки провели меня, и после того как мне удалось избежать стольких опасностей! Подстроено с таким расчетом, чтобы сделать бесполезным ее признание. Значит, она изменила свое отношение ко мне. Или никогда меня не любила. (Мрачная, удручающая мысль!) Неужели она… могла ли она… знать… сделать такую вещь? — гадал он. — Кто же преследовал меня все время? Она и Тилни или один Тилни? Мрачный и беспомощный, он повернулся и пошел прочь. Что же теперь будет? Вся его карьера в опасности. С тех пор как жена вернулась, все как будто шло хорошо, но если он выступит со своими разоблачениями, что тогда? На свет появится его фотография! Он будет обесчещен! Или окажется на грани этого. А что дальше? Он мог бы выступить с опровержением, заявить, что это мошенничество, что фотография — фальшивка, предъявить признание Имоджин. Но сможет ли он это доказать? Ее руки обвивались вокруг его шеи. Он обнял ее. Два кинооператора с разных точек запечатлели эту картину! Сможет ли он объяснить? Сможет ли он снова найти Имоджин? И разумно ли это? Даст ли она показания в его пользу? А если и даст, какой в том прок? Разве хоть кто-нибудь поверит человеку с подмоченной репутацией, разве дадут ему теперь выдвинуться на политическом поприще? Едва ли. Его ждут насмешки, издевательства. Никто не поверит, кроме жены, а она ничем не сможет ему помочь. С ноющим сердцем понуро брел он по улице, ясно сознавая, что из-за его глупой доброты и снисходительности труды многих месяцев в несколько минут пошли прахом и что никогда больше, — его политические друзья так осторожны, — никогда больше, во всяком случае в этом городе, у него не будет надежды вступить в обетованную землю своего лучшего будущего — того будущего, на которое он так уповал… не будет надежды ни для него, ни для жены, ни для малыша. «Дурак! Ну и дурак! — в сердцах обозвал он себя и снова: — Дурак! Дурак!» Зачем он был так нелепо чувствителен и легковерен? Зачем увлекся ею? Но, не найдя ответа и прямого выхода из создавшегося положения, кроме единственной возможности все отрицать и выдвинуть контробвинения, он медленно направился к своей конторе, которая показалась ему теперь такой мрачной, — конторе, где он столько времени трудился, но где после случившегося он, пожалуй, больше не сможет работать, а если и сможет, то без особой выгоды для себя. «Тилни! Имоджин! — думал он. — Какие же они оба ловкие пройдохи… Тилни, по крайней мере…» Даже сейчас он не был уверен в вине Имоджин… И, размышляя таким образом, он прошел к себе в контору, оставив за дверью уличную толпу, огромную обманутую толпу, которую Тилни, и мэр, и все политиканы ежедневно и ежечасно используют в своих интересах, ту самую толпу, которой он хотел помочь и против которой, как и против него, был подготовлен и так легко и под конец так успешно осуществлен этот маленький заговор.
Негр Джеф
Редактор отдела происшествий поджидал одного из своих лучших репортеров, Элмера Дэвиса. Этот тщеславный и не лишенный самомнения молодой человек обладал тем складом ума, при котором жизнь воспринимается как некий предустановленный порядок, где все расписано и рассчитано заранее и за каждым поступком следует либо награда, либо наказание. Если делаешь то, что надо, тебе хорошо. А не делаешь, тебе плохо. Так называемые злые люди несут справедливое возмездие, так называемые добрые получают достойную награду. Возможно, впрочем, что дело тут было не в складе ума, а просто мистер Дэвис так часто слышал это в юности, что в конце концов сам в это поверил. Репортер вскоре явился. Он был в новеньком весеннем костюме, в новой шляпе и новых ботинках. В петлице у него красовался букетик фиалок. Стрелка часов показывала час пополудни, был ясный солнечный день, и молодой человек чувствовал себя как нельзя лучше. Он был в самом благодушном настроении — весел и свеж как огурчик. Он находил, что мир прекрасен и вполне достоин того, чтобы воспевать ему хвалу. — Вот, прочтите-ка это, Дэвис, — сказал редактор, подавая ему вырезку. — Потом я скажу, что мне от вас нужно. Стоя возле редакторского кресла, репортер прочитал:«Счастливая Долина, Коннектикут, 16 апреля. Только что получено известие о совершенном здесь зверском преступлении. Негр Джеф Инголс изнасиловал Аду Уитекер, девушку девятнадцати лет, дочь зажиточного фермера Моргана Уитекера, усадьба которого находится в четырех милях отсюда. Снаряжена погоня под предводительством шерифа Мэтьюса. Если негра поймают, возможно линчевание».Дочитав до конца, репортер поднял глаза. Какое ужасное преступление! Бывают же мерзавцы! Конечно, такую тварь нужно линчевать — и без всяких разговоров! — Поезжайте туда, Дэвис, — сказал редактор. — Пожалуй, будет интересный материал. Суд Линча в здешних местах — это сенсация. У нас в штате такого еще не бывало. Дэвис улыбнулся. Он всегда радовался, когда его посылали за город. Это значит, что его ценят. Другим редко дают такие ответственные поручения. И как приятно будет проехаться! Однако немного погодя, когда он вышел из редакции, его стали одолевать невеселые мысли. Ведь, того и гляди — это явствовало из слов редактора, — ему самому придется быть свидетелем линчевания! А это уж далеко не так приятно. В его кодексе наград и наказаний не было специального параграфа, предусматривающего суд Линча даже за самые тяжкие преступления, а тут еще надо будет все это видеть своими глазами. Нет, как хотите, а это слишком жестокая кара. Как-то раз ему пришлось, тоже по обязанности репортера, присутствовать при повешении, и тогда ему стало дурно, по-настоящему дурно, а ведь то был легальный акт, исполнение закона, одобренного его страной и согласного с воззрениями того времени. Теперь, глядя на яркое солнце и на свой элегантный костюм, он уже не находил столь лестным данное ему поручение. С какой стати ему всегда подсовывают такие дела? Потому что он умеет писать? Как будто больше некому! Слава богу, в редакции довольно народу. Впрочем, есть еще надежда — так утешал он себя, идя по улице, — что все обойдется: негра арестуют и посадят в тюрьму, и дело с концом. Ну, а не обойдется — как ни грустно об этом думать, — так, может быть, к тому времени, когда он приедет, все уже будет кончено. Посмотрим: телеграмма была подана в девять, сейчас половина второго; пока он доедет, будет три. Времени у них достаточно, а затем, если все сойдет благополучно — или неблагополучно, — он расспросит очевидцев о преступлении и о… дальнейшем и уедет. Но даже одна мысль о линчевании повергала его в тревогу, и чем дальше, тем меньше все это ему нравилось. Счастливая Долина оказалась крохотной деревушкой: полсотни домов, приклеившихся к невысоким зеленым склонам; лавка и трактир — так сказать, торговая часть — и несколько разбегающихся в беспорядке улочек. Здесь жили два или три купца из К. — города, откуда сейчас приехал Дэвис, — но в остальном это было настоящее захолустье. Дэвис залюбовался белизной домиков, сияющей прелестью речки, через которую надо было переехать по пути со станции. На углу, возле типичного деревенского трактира, околачивалось несколько мужчин. Дэвис направился к ним, в расчете, что тут можно будет узнать все новости. Присоединившись к этой компании, он не сказал сразу, что он репортер, — боялся, что это помешает им разговаривать и держаться непринужденно. Все они, видимо, были возмущены преступлением и тем, что оно до сих пор остается безнаказанным; все жаждали сильных ощущений — всем хотелось что-то сделать. Такого случая взвинтить себя и дать выход своим животным инстинктам им, наверное, не представлялось уже много лет. Дэвис выспросил у них подробности покушения: где оно совершилось, где живут Уитекеры. Потом, убедившись, что, кроме пустой болтовни, ничего тут не услышишь, Дэвис ушел. Не повидаться ли самому с пострадавшей? О ней ему пока что ничего толком не рассказали, а что-то знать о ней нужно. Дэвис отыскал старика, который держал конюшню, и взял у него под верх лошадь — экипажа никакого достать не удалось. Дэвис был не бог весть какой наездник, но кое-как справился со своим конем. Уитекеры жили недалеко от деревни — всего в четырех милях; и немного спустя Дэвис уже стоял на крыльце небольшого дома, расположенного чуть-чуть в стороне — футах в ста от ухабистой проселочной дороги, и стучал в дверь. Ему открыла высокая костлявая женщина. — Я из «Таймса», — заявил он, стараясь говорить самым внушительным тоном. Кто их знает, как они встретят репортера, — может быть, любезно, а может быть, и нет. Потом он спросил, с кем имеет честь говорить — с миссис Уитекер? А как себя чувствует мисс Уитекер? — Ничего, — ответила женщина. Она держалась очень сурово, хотя в ней и сквозила подавленная тревога. Спартанский характер! — Заходите. У нее небольшой жар, но доктор говорит, что это пройдет. — Она умолкла. Дэвис последовал приглашению и вошел. Ему хотелось повидать девушку, но, по словам матери, доктор дал ей снотворного, и сейчас она спала, — и Дэвис не решился настаивать. — Когда это случилось? — спросил он. — Сегодня утром, около восьми, — ответила женщина. — Она пошла тут к соседям, к Эдмондсам, а этот негр встретился ей на дороге. Мы и не знали ничего… Вдруг, вижу, вбегает, перепуганная, вся в слезах… И упала без чувств вот тут, в комнате. — Вы первая ее увидали? — Да, только я одна и была дома. Мужчины все уехали в поле. Дэвис еще расспросил ее о подробностях — что за человек этот негр, откуда он взялся. Наконец он встал, собираясь уходить. Перед уходом ему позволили взглянуть на девушку, которая все еще спала. Она была совсем молоденькая и недурна собой. Во дворе Дэвис встретил какого-то мужчину — это был местный житель, пришедший узнать, как дела у Уитекеров. Он еще кое-что рассказал Дэвису. — Теперь к югу отсюда ищут, — сказал он. Он имел в виду одну из групп, выехавших в погоню. — Попадись он им только, с ним живо расправятся. А далеко ему не уйти, пешком-то. Шериф тоже поехал, с понятыми. Думает перехватить негра да отвезти его в целости и сохранности в Клейтон, ну, навряд ли ему удастся, разве только сам его поймает. «Так, — подумал Дэвис, — значит, присутствовать при линчевании, пожалуй, все-таки придется. Какая неприятность!» — Где жил этот негр? Неизвестно? — хмуро спросил он; возложенное на него поручение все больше его тяготило. — Да тут, близехонько, — ответил фермер. — Его зовут Джеф Инголс. Мы все его отлично знаем. Он тут на фермах работал, то на одной, то на другой, и ни в чем плохом не замечен, только что выпить любил. Мисс Ада его узнала. Езжайте прямо до первого перекрестка, потом направо. Увидите бревенчатую хибарку, немного в стороне от дороги, вроде той, что вон там стоит на проселке, только у Инголсов кругом стружки накиданы. Дэвис решил было сразу отправиться туда, потом передумал. Становится поздно. Пожалуй, лучше все-таки вернуться в деревню. Там, может быть, уже что-нибудь известно о шерифе и о результатах погони. Снова он сел в седло и поехал обратно в деревню; там он вернул лошадь владельцу, втайне надеясь, что все уже кончено и что он сейчас об этом услышит. Но на том же углу околачивалась та же самая компания, все так же споря, жестикулируя, негодуя. Тут, по-видимому, были участники поисков, происходивших раньше, в первую половину дня. «Что же они делали с тех пор?» — подумал Дэвис и решил рассказать им о своей поездке к Уитекерам и обо всем, что он узнал о здоровье девушки и о намерениях шерифа; это поможет ему разговориться с ними. В эту минуту к стоявшим на углу подскакал верхом молодой фермер. Он был без куртки и без шапки. — Поймали! — еле переводя дух, крикнул он. — Поймали! — Где? Кто? Когда? — закричали все хором, окружая всадника. — Мэтьюс поймал! У него дома! — ответил тот, вынимая платок и отирая лицо. — Что-то ему, видно, дома понадобилось. Мэтьюс, наверно, его в Клейтон повезет, только кто же ему позволит! Наши уже поскакали за ним вдогонку, а он заявил, что пристрелит первого, кто попробует отбить негра. — Куда он поехал? По какой дороге? — раздались крики из толпы. Все засуетились, словно уже готовясь к нападению. — Через Селлерс Лейн, — ответил всадник. — Наши думают, что он поедет по дороге на Болдуин. — Ату его! — заревел один из слушателей. — Отобьем, отобьем. Ты поедешь, Сэм? — А как же, — откликнулся другой. — Дай только за лошадью сбегаю. «Боже мой! — мелькнуло в голове у Дэвиса. — Это выходит — я буду участвовать в линчевании? Зритель поневоле!» Однако он не стал мешкать и тоже побежал за лошадью. Ясно было, что толпа вот-вот пустится в погоню. Тут можно будет кое-что узнать, а пожалуй, и увидеть. — Что там творится? — спросил хозяин конюшни, когда перед ним предстал взволнованный Дэвис. — Погоня, — возбужденно ответил тот. — Шериф его поймал. А здешние хотят отбить. Шериф повезет его в Клейтон по Болдуинской дороге. Я тоже хочу попасть туда, если удастся. Дайте мне опять лошадь, а я вам приплачу два доллара или сколько там нужно. Хозяин вывел лошадь и напутствовал Дэвиса пространной речью о том, как бережно с ней надо обращаться и какие кары ему грозят, если он этого не сделает. Лошадь ему дается только до полуночи. Если нужна будет и после, пускай достает где хочет или вернется сюда и возьмет другую. Дэвис поспешил согласиться на все условия. Затем вскочил в седло и уехал. Когда он вернулся на угол, многие из тех, что побежали за лошадьми, были уже готовы к отъезду. Молодой фермер, привезший новости, давно ускакал оповещать других. Дэвис выждал, пока они тронутся. А затем по самой живописной местности, какую только можно представить, через горы и долы, по вьющейся дороге, где на каждом повороте открывались прелестные виды, началась бешеная скачка. Репортер был так расстроен трагическим оборотом событий, что не обращал внимания на окружающие его красоты, — он только заметил, что места, кажется, действительно живописные. Смерть! Смерть! Близость чужой смерти, насильственной и неотвратимой, — вот что заполняло его мысли. Примерно через час участники погони завидели на дороге шерифа. Он ехал в повозке, которую успел достать где-то в поселке. Кроме него, в повозке были еще двое. Сам он сидел на задке, лицом к преследователям, с револьвером в каждой руке; увидев его, всадники придержали лошадей и теперь ехали следом, на почтительном расстоянии. Несмотря на общее возбуждение, пока еще ни у кого не было охоты ввязываться в открытую стычку с представителем закона. — Негр там, в повозке, — проговорил кто-то. — Видишь, лежит связанный? Дэвис поглядел. — Ага! — отозвался другой. — Теперь вижу. — Забрать его у них, — сказал третий, ехавший впереди, — да и повесить! Вот что мы должны сделать. Что заслужил, то и получит! Без этого не вернемся. — Как бы не так! — крикнул шериф, который, очевидно, расслышал эти слова. — Никого вы не повесите. Ступайте-ка лучше по домам. — Появление всадников его как будто ничуть не испугало. — Где старик Уитекер? — спросил один из преследователей, должно быть, чувствуя, что им нужен предводитель. — Он бы его живо вытащил! — Он с теми, что поехали на Олни. — Надо его известить. — Кларк уже поскакал, — успокоил другой, видимо, не терявший надежды на худшее. Дэвис ехал вместе с остальными, его терзали странные и противоречивые чувства. Он был очень взволнован и вместе с тем подавлен, его угнетала мысль об этой толпе, об этих людях, которые явились сюда, побуждаемые главным образом любопытством, однако если их раззадорить — а это мог сделать всякий, — то они окажутся способны и на убийство. Не столько в каждом было отваги, сколько желания позаимствовать отвагу у других, слить разрозненные силы и воли в одну общую силу и волю, достаточную для того, чтобы одолеть шерифа и предать смерти человека, которого он защищал. Все это было очень странно, почти непостижимо, и все же это было так. Преследователи явно побаивались шерифа. Все считали, что надо что-то предпринять, но никому не хотелось лезть на рожон. Мэтьюс, рослый, степенный человек со строгим смуглым лицом, одетый в потертый костюм, с полинялой коричневой шляпой на голове, равнодушно смотрел, как растет толпа преследователей. Судя по всему, он решил до конца выполнить свою обязанность — отстоять арестанта и предотвратить самосуд. Если понадобится стрелять, ну что же, он станет стрелять, а уж выстрелит, так уложит на месте. Под конец, видя, что никто из вновь прибывших не бросается на него, а все плетутся сзади, как телята, он вздумал припугнуть их. — Останови-ка на минутку! — сказал он своему вознице. Тот натянул вожжи. Всадники тоже придержали коней. Тогда шериф поднялся на ноги и, стоя над простертым на дне повозки негром, закричал: — Эй вы! Убирайтесь-ка отсюда! Ну, живо! Нечего за мной таскаться! — Без негра не уйдем! — крикнул кто-то с вызовом, но еще довольно миролюбиво. — Даю вам две минуты, чтобы очистить дорогу, — грозно скомандовал шериф, вынул часы и посмотрел на циферблат. Преследователи были шагах в ста от повозки. — А не очистите сами, так я вам помогу! — Отдай нам негра! — А, это ты, Скотт, — откликнулся Мэтьюс, узнав кричавшего по голосу. — Вот я вас завтра всех переарестую. Помяните мое слово! Все молчали; слышно было только, как лошади переминаются и грызут удила. — Мы в своем праве, — отозвался один из толпы. — Я вас предупредил, — сказал шериф, спрыгивая с повозки. Он сделал шаг вперед и поднял револьверы. — Считаю до пяти. Потом стреляю! Он сделал еще шаг; вид у него был очень решительный — и толпа подалась назад. — Ну! Поворачивайте! — закричал он. — Раз, два… Все разом повернули и поскакали прочь, Дэвис вместе с остальными. — Мы вернемся, когда он опять поедет, — сказал кто-то, словно оправдываясь. — Конечно, не будет же он век стоять, — сказал другой. — Пусть только немножко отъедет. Шериф опять сел в повозку, и она тронулась. Однако он, видимо, понимал, что его не послушают и что времени терять нельзя. Повозка неслась во весь опор. Удрать от них или хоть опередить — тогда, быть может, удастся к утру добраться до Клейтона, за крепкие тюремные стены. Но преследователи не отставали, пришпоривая лошадей. — На Болдуин поехали, — сказал кто-то из той компании, с которой приехал Дэвис. — А это где? — спросил он. — К западу, мили четыре отсюда. — Зачем он туда поехал? — А он там живет. Думает, ему дома легче обороняться будет, пока не приспеет подмога из Клейтона. Небось, еще ночью попробует негра туда сбагрить. А уж утром-то как пить дать. Дэвис усмехнулся его произношению. Да и эти простецкие словечки всегда его забавляли. И все же преследователи медлили, не зная, что делать. Они старались не терять Мэтьюса из виду, но их сковывала трусость. Никому не хотелось открыто восставать против закона. Все понимали, что не их дело вешать преступника, но каждый думал про себя, что хорошо бы его все-таки повесить и очень интересно было бы на это поглядеть. Поэтому они старались не отставать и быть под рукой на тот случай, если появятся старик Уитекер и его сын Джейк, которые сейчас разыскивали негра где-то в другом месте. Всем хотелось посмотреть, что сделают отец и брат девушки. Затруднение разрешил один из преследователей, который сказал: почему бы не проехать в Болдуин другим путем, сперва назад в Счастливую Долину, а потом проселком через Сэнд-ривер? Кстати, может быть, попадется по дороге старик Уитекер с сыном, а не то можно оставить ему весточку на ферме. Эта дорога короче, чем та, по которой поехал шериф; в Болдуин он, конечно, доберется раньше них, но, если он вздумает ехать дальше, в Клейтон, они его нагонят. Дорога на Клейтон проходит через Счастливую Долину, и где-то там или поблизости его легко будет перехватить. Оставив двоих следить за шерифом, чтобы поднять тревогу в том случае, если он прямо отправится в Клейтон, остальные, в том числе Дэвис, помчались по направлению к Счастливой Долине. Уже темнело, когда они прискакали туда и остановили коней на углу возле трактира. Близилось время ужина, во всех домах над трубами вился дымок, и рьяность преследователей внезапно ослабела. Видно, шериф перехитрил их, по крайней мере на эту ночь. Моргана Уитекера, отца девушки, так и не нашли, Джейка тоже. Не поужинать ли пока что? Двое или трое уже под шумок ускользнули. Приехавшие толклись на углу, рассказывая новости одному из двух хозяев, содержавших трактир, как вдруг галопом прискакал Джейк Уитекер, брат девушки, в сопровождении еще нескольких всадников. Они были все в поту, усталые и разгоряченные, — они обыскивали окрестность к северу от города и о том, что произошло без них, ничего не знали. — Шериф его поймал! — закричал кто-то из той компании, с которой ездил Дэвис; он выкрикнул это на самых пронзительных нотах: так в деревне всегда возвещают важные новости. — В Болдуин его повез, в повозке, час либо два назад. — По какой дороге? — спросил Джейк. Его статная фигура в поношенном, но ловко сидевшем на нем костюме и шляпе набекрень живописно освещалась то с одного, то с другого бока, пока он вертелся в толпе верхом на лошади. — Через Селлерс Лейн. Но ты его не догонишь, Джейк. Он уже, наверно, далеко. Поезжай наперерез. Теперь сцена оживилась. Все кричали наперебой. Один сообщал о поимке негра, другой — об угрозах шерифа, третий — о том, что за шерифом и сейчас двое едут следом, а другие караулят его на перекрестке, пока, наконец, все не было рассказано, хотя, быть может, и не все услышано. Об ужине все тотчас позабыли. Еще раз опрокинулся обычный порядок вечера. Снова началась скачка через горы и долы по живописным местам между Болдуином и Счастливой Долиной. Но Дэвису уже надоело трястись в седле, да и все, вместе взятое, ему порядком наскучило. Когда же наконец, думал он, наступит развязка, если она вообще наступит? А ведь надо еще написать! Драматический материал? Возможно! Но нельзя же тратить бог весть сколько времени, гоняясь за одной только возможностью. И все же напряжение этой минуты было таково, что он не решался отстать. По контрасту с тем ужасом, который ждал их впереди, красота ночи — теперь Дэвис ее воспринимал — казалась такой пленительной, что щемило сердце. В небе зажигались звезды. Словно желтые глаза, мигали далекие лампы в окнах домишек в лощинах и на склонах холмов. Воздух был мягкий и теплый. Где-то вдали кричали павлины, и на востоке уже поднималась золотая луна. Все ехали молча — Джейк впереди, за ним еще человек двадцать. Ни разговоров, ни шуток; в сумерках с этим предводителем все выглядело весьма зловеще. Чувствовалось, что Джейк, молча скакавший в голове отряда, не помирится на меньшем, чем смерть негра. Друзья Джейка ехали сзади на некотором расстоянии — из уважения к его чувствам. Через час в котловине, среди невысоких холмов, показался Болдуин. Там уже ласково мерцали огни, словно говоря об уюте домашних очагов, о веселом ужине, соблазняя проголодавшегося Дэвиса. Но он сейчас ни о чем не думал, кроме этой погони. В деревне всадников встретили окликами и приветствиями. Все уже знали, зачем они приехали. В десять голосов им объяснили, что и шериф, и арестованный еще здесь. Кучка зевак, с местными лавочниками во главе, поплелась за всадниками к дому шерифа; вся процессия двигалась теперь медленным, торжественным шагом. — Навряд ли вы его добудете, — сказал им молодой человек лет двадцати пяти или тридцати, стоявший на пороге одного из домов, мимо которых они проходили. Это был, как позже узнал Дэвис, местный почтмейстер, он же телеграфист, по фамилии Сиви. — Шериф-то ведь не один, с ним двое понятых, во всяком случае, недавно они там были. Говорят, он собирается отвезти негра в Клейтон. На ближнем углу к ним примкнуло еще несколько человек — те, что остались следить за шерифом. — Хотел было от нас улизнуть, — с жаром принялись они рассказывать, — да не вышло! Сейчас негр у него в доме, в погребе запрятан. Понятых с ним нет. Поехали куда-то за подмогой, верно, в Клейтон. — Откуда вы знаете? — А мы видели, как они пробирались задами. Наверно, это они были, кому же еще! Шагов за сто от белого домика, прильнувшего к распаханному косогору, все остановились и начали совещаться. Джейк объявил, что прямо подойдет к двери и потребует, чтоб шериф выдал им негра. — А не выдаст, так я выломаю дверь и сам возьму! — сказал он. — Правильно! Мы за тебя постоим, Уитекер, — поддержали остальные. К этому времени толпа уже сильно возросла. Вся деревня была на ногах, на единственной ее улице кишел народ. Из окон и дверей высовывались головы. Всадники с воинственными криками гарцевали по улице. Раздалось несколько револьверных выстрелов. Еще мгновение — и толпа сгрудилась у ворот шерифа, а Джейк выступил вперед. Однако, вместо того чтобы идти прямо к крыльцу, он остановился в воротах и окликнул шерифа: — Эй, Мэтьюс! Толпа загомонила. Джейк снова крикнул. Но шериф не отзывался. По-видимому, он считал, что проволочка времени для него самый верный, да, пожалуй, и единственный способ обороны. Однако их прибытие не застало его врасплох. Можно было разглядеть, что он стоит, притаившись за одним из окон. В руках он что-то держал, как будто двустволку. Негр, как потом выяснилось, в это время сидел в погребе, забившись в угол, стуча зубами, и, должно быть, прислушивался к выстрелам и крикам на улице. Внезапно, в ту самую минуту, когда Джейк хотел шагнуть вперед, дверь распахнулась, и в ее пролет, озаренный изнутри светом лампы, выдвинулось сперва двойное дуло, а затем фигура шерифа, державшего ружье наготове, так, чтобы его можно было мигом вскинуть к плечу. Все, кроме Джейка, попятились. — Мистер Мэтьюс, — решительно сказал Джейк, — мы требуем негра! — Откуда я его вам возьму? — ответил шериф. — Его здесь нет. — А зачем же вы с ружьем? — выкрикнул кто-то. Мэтьюс ничего не ответил. — Отдай его нам, Мэтьюс! — крикнул кто-то другой, чувствуя себя в безопасности среди толпы. — А не то сами возьмем. — Ничего вы не возьмете, — с вызовом ответил шериф. — Сказано вам, что его тут нет. А хоть бы и был, все равно. В дом я вас не пущу. Ступайте лучше подобру-поздорову, если не хотите нажить неприятности. — Он в погребе! — закричал кто-то. — Пустите нас поглядеть, — поддержал другой. — Почему вы не пускаете? Мэтьюс поднял ружье чуть повыше. — Расходитесь-ка по домам, — сказал он тоном предостережения. — А то плохо будет. Предупреждаю: все сядете в тюрьму. Толпа кипела и волновалась, а Джейк все стоял на месте. Он был очень бледен и весь натянут, как струна, но у него не хватало решимости. — Да ни за что он не выстрелит! — крикнул кто-то сзади. — Не посмеет! Иди, Джейк! Иди и забери негра! — Конечно! Бегом! Раз — и готово! — подбодрил другой. — Не посмею? — переспросил шериф. Потом ровным голосом прибавил: — Кто первый войдет в ворота, за все ответит. Но входить никто и не подумал, наоборот — многие отступили еще дальше. Казалось, задуманное нападение так и не состоится. — А если задами пройти? — спросил кто-то. — Попробуйте! — ответил шериф. — Увидите, что там для вас припасено! Я сказал, что не пущу вас в дом. Так лучше уходите сейчас, не то быть худу. В дом вы все равно не войдете, —повторил он, — а пулю кто-нибудь получит. В толпе стали переговариваться и отпускать шуточки, а шериф молча стоял на страже. Все это зубоскальство, угрозы и жажда убийства, казалось, его нимало не трогали. Он только не спускал глаз с Джейка, от действий которого зависело поведение толпы. Время шло, а нападающие все топтались в воротах. У Джейка, несмотря на его заносчивость, в нужную минуту не хватило мужества; он чувствовал, что толпа за его спиной — плохая для него поддержка. Он был все равно что один, ибо как предводитель не внушал людям доверия. В конце концов он отступил, проговорив: — Ладно, ладно, до утра мы его все равно выцарапаем. И толпа тотчас стала расходиться: кто побрел домой, кто в лавку, а кто задержался возле почты и единственной в деревне аптеки. Дэвис усмехнулся и тоже пошел прочь. Теперь он знал, что ему писать: это будет рассказ об укрощении толпы. Героем будет шериф. Надо потом взять у него интервью. А сейчас необходимо найти этого Сиви, телеграфиста, и послать телеграмму, а после где-нибудь раздобыть еды. Телеграфиста он скоро нашел и объяснил, что от него требуется: он, Дэвис, напишет корреспонденцию, и нужно будет передать ее по телеграфу — передавать без задержки, по мере того, как он будет писать. Сиви указал ему стол в своей маленькой почтовой конторе, она же телеграфное отделение: тут он может сесть и писать, никто ему не помешает. Узнав, что Дэвис из «Таймса», он преисполнился почтения к нему и, когда тот спросил, нельзя ли достать чего-нибудь поесть, сказал, что сам сбегает через улицу в единственный в деревне трактир и велит хозяину прислать ужин, так чтобы Дэвис мог подкрепиться, не отрываясь от работы. Его, видимо, разбирало любопытство поглядеть, как это репортер будет тут же сочинять и передавать по телеграфу свое сочинение. — Начинайте, — сказал он, — а я сейчас вернусь и посмотрю, не удастся ли соединиться с «Таймсом». Дэвис уселся и принялся за дело. Ему хотелось все изобразить в ярких красках: суматоху и колебание толпы и очевидную победу шерифа. Мужество шерифа явно взяло верх, и все это было так живописно. «Предотвращенный суд Линча», — начал он, а когда кончил страницу, почтмейстер, который уже успел вернуться, взял ее и стал разбирать. — Хорошо, — сказал он, прочитав до конца. — Теперь попробую соединиться с «Таймсом». «Очень любезный почтмейстер», — мысленно отметил Дэвис, продолжая писать. Но он так привык встречать любезных и предупредительных людей во время своих поездок, что скоро перестал об этом думать. Принесли еду, и Дэвис, не выпуская пера из рук, стал ужинать. Он писал и жевал одновременно. Наконец «Таймс» ответил на повторные вызовы. «Дэвис из Болдуина, — отстучал почтмейстер. — Готовьтесь принять целый роман». «Валяйте», — ответили из «Таймса»; там ждали этого сообщения. По мере того как события дня оформлялись в уме Дэвиса, он писал, откладывая на стол страницу за страницей. Время от времени он поглядывал в окошко перед собой — там вдали, на склоне холма, мерцал одинокий огонек. Порой Дэвис вставал и выходил узнать, нет ли чего нового, не изменилось ли в каком-нибудь смысле положение. Но как будто ничего нового не происходило. Дэвис решил не ложиться до тех пор, пока не уверится, что по крайней мере на эту ночь всякая опасность трагического конца миновала. Телеграфист бродил кругом, поджидая, пока накопятся новые страницы для передачи, и следя за тем, чтобы не отставать от репортера. За это время они успели подружиться. Наконец репортаж был закончен. Дэвис попросил Сиви предупредить ночного редактора, что, если до часу ночи что-нибудь случится, ему немедленно протелеграфируют; но выпуска пусть из-за этого не задерживают, потому что, может быть, ничего и не будет. Тотчас пришел ответ: Дэвису предлагали оставаться в Болдуине и ждать дальнейшего развития событий. После этого они с почтмейстером уселись и стали болтать о том о сем. Часов в одиннадцать, когда оба уже решили, что никаких событий больше не будет — по крайней мере в эту ночь, — когда почти все огни в деревне погасли и на землю спустилась самая чистая, самая летняя, самая сельская тишина, внезапно с северо-запада, с той стороны, где, как теперь уже знал Дэвис, была дорога на Сэнд-ривер, донесся чуть слышный топот копыт, как будто оттуда приближался значительный верховой отряд. Почтмейстер сразу вскочил, Дэвис тоже, оба вышли на улицу и стали прислушиваться. Звук все близился, все нарастал. — Может быть, это подмога шерифу, — сказал почтмейстер, — но только навряд ли. Я сегодня уже шесть раз телеграфировал в Клейтон. Да и не с этой стороны им ехать. Не та дорога. «Вот так так, — в тревоге подумал Дэвис, — пожалуй, все-таки будет что прибавить к посланному отчету». А он-то уже надеялся, что все кончено! Какая мерзость — эти линчевания! С какой стати люди так поступают, кто дал им право брать закон в свои руки, — сейчас Дэвис больше, чем когда-либо, чувствовал уважение к закону. Все это так грубо, так жестоко. Этот негр, который сейчас, наверно, притаился где-нибудь в темноте и дрожит от страха, шериф, который стоит настороже, пытаясь уберечь арестованного и выполнить свой долг, — обо всем этом очень невесело думать, если вспомнить, какая, может быть, надвигается развязка. Ну, хорошо, было совершено преступление, преступление, конечно, ужасное, но почему надо вмешиваться в действия правосудия? Судебная власть достаточно сильна и может сама управиться. — Сюда едут, — зловеще произнес почтмейстер, и оба они поглядели в ту сторону, откуда все громче доносился топот. — И это не подмога из Клейтона! — Боюсь, вы правы, — ответил Дэвис; что-то подсказывало ему, что теперь беды не миновать. — Вот они! В ту же минуту с топотом копыт, со скрипом седел по дороге промчался большой отряд всадников и свернул в узкую улицу; впереди всех скакали бок о бок Джейк Уитекер и бородатый старик в широкополой черной шляпе. — Это Джейк, — сказал почтмейстер, — а рядом его отец. Ну, теперь будет потеха! Старик-то крутого нрава, настоящий кипяток! Дэвис понял, что, пока он писал свою корреспонденцию, события приняли другой оборот. Должно быть, молодой Уитекер вернулся в Счастливую Долину и собрал новую партию или разыскал ту, с которой был его отец. Тотчас деревня снова оживилась. Всюду зажигались огни, распахивались двери и окна. Люди высовывались из окон и выбегали на улицу, все хотели знать, что происходит. Дэвис отметил, что у вновь прибывших совсем не было того легковесного задора, который отличал первый отряд преследователей. Эти, наоборот, были мрачны и молчаливы, и Дэвис впервые почувствовал, что это начало конца. Когда кавалькада промчалась по улице к дому шерифа, где теперь во всех окнах было темно, Дэвис пустился следом и прибежал на место всего двумя-тремя минутами позже. Часть всадников уже спешилась. Со всех сторон сбегался народ. Но шериф, видно, был начеку; он не спал, и как только перед воротами собралась толпа, тотчас в доме вновь загорелась лампа. При свете луны, стоявшей теперь почти прямо над головой, Дэвис ясно видел лица вновь прибывших. Нескольких человек он узнал — это были его спутники из той компании, с которой он сам ездил. Но много было и таких, которых он раньше не видел, — и среди них выделялся старик, отец Джейка. Он был крепкого сложения, с проседью в густых волосах, с окладистой бородой. По виду он смахивал на кузнеца. — Следите за стариком, — посоветовал почтмейстер, который тоже прибежал и стоял теперь рядом с Дэвисом. Как раз в это время старик выступил вперед, смело подошел к крыльцу и постучал в дверь. — Эй! Кто там есть! — крикнул он и снова постучал. — Что вам нужно? — ответил голос. — Нам нужен негр! — Негра вы не получите. Я уже вам сказал. — Давай его сюда, не то я дверь выломаю! — крикнул старик. — Попробуй! Я знаю тебя, Уитекер, и ты меня знаешь. Сойди сейчас же с крыльца. Даю тебе две минуты. — Подавай негра, слышишь? — Если ты не сойдешь с крыльца, я выстрелю сквозь дверь, — угрожающе произнес голос. — Раз, два… Старик попятился и отошел в сторону. — Выходи, Мэтьюс! — заревела толпа. — Негра ведь все равно отдашь. Без этого не уйдем. Дверь медленно растворилась. Тот, кто ее отворял, видимо, был уверен в своей власти над толпой. Один раз он уже справился с ней, почему бы ему не справиться и теперь? Показалась высокая фигура шерифа с двустволкой. Он спокойно огляделся и заговорил со стариком почти дружеским тоном. — Я не могу отдать его, Морган, — сказал он. — Это против закона. Ты это знаешь не хуже меня. — Против или не против, — ответил старик, — а мы требуем негра! — Я тебе говорю, что не могу его отдать. Это против закона. И совсем тебе не пристало шататься здесь по ночам и устраивать беспорядки. — Хорошо. Тогда я его сам возьму, — сказал старик и сделал шаг вперед. — Стой! — крикнул шериф, мгновенно вскидывая ружье. — Пристрелю, как собаку! Толпа вдруг притихла. Шериф опустил ружье в уверенности, что опасность миновала. — И не стыдно вам, — сказал он, распекая их совсем уж по-приятельски, — не стыдно вам, порядочным людям, нарушать закон? — А он не нарушил закона? — насмешливо крикнул кто-то. — Вот закон его и покарает, — ответил Мэтьюс. — Отдай нам этого мерзавца, Мэтьюс, — сказал старик. — Отдай добром. Не доводи до беды. — Я не намерен вступать с тобой в споры, Морган. Сказано, не дам, значит, не дам. Хотите, чтоб пролилась кровь? Хорошо. Но уж на меня не пеняйте. Первого, кто подойдет, уложу на месте. Он взял ружье на прицел и застыл в ожидании. Толпа глухо роптала по ту сторону изгороди. Старик медленно повернулся, отошел к остальным и начал с ними переговариваться. Ропот толпы стал громче. Старик опять вышел вперед и остановился у заветной черты. — Мы не хотим устраивать беспорядки, Мэтьюс, — примирительно начал он, сопровождая свою речь ораторскими жестами. — Мы только хотим тебе объяснить, что упрямиться тебе нет никакого смысла. Мы считаем… Дэвис и почтмейстер уже с минуту следили за Джейком: что-то в его манере привлекло их внимание. Он стоял в толпе, держась с краю и, видимо, стараясь оставаться незамеченным. Весь подавшись вперед, он не сводил глаз с шерифа, который слушал, что говорит старик. В тот миг, когда шериф, казалось, смягчился и бдительность его притупилась, Джейк вдруг рывком бросился к крыльцу. По толпе словно прошла волна — ясно было, что этот ход может решить все. Шериф быстро вскинул ружье. Он разом спустил оба курка, но Джейк уже был тут, он поддал стволы кверху и схватился с шерифом. Две красные вспышки — оба заряда, не причинив никому вреда, с визгом пронеслись над головами, — и тут все ринулись в атаку. Люди перепрыгивали через изгородь и устремлялись к дому, они окружили его со всех сторон, а гуще всего столпились у крыльца, где четверо врукопашную боролись с шерифом. Он скоро сдался, осыпая своих противников бранью и суля им всяческие кары. Принесли факелы и веревку. Подъехал фургон, и его задом завели во двор. Потом принялись искать негра. Глядя на все это, Дэвис ни на миг не забывал о негре. Вот он сидит в погребе, в углу, скорчившись, дрожа за свою жизнь. Он, разумеется, уже понял, что конец близок. Вряд ли он забылся сном или потерял сознание за все предшествовавшие часы тишины и относительного спокойствия, нет, он, наверно, все время прислушивался, ждал, молился. И все время дрожал, что шериф не успеет его увезти. А сейчас, когда он опять услышал конский топот, голоса, крики, как он, наверно, дрожит всем телом, как у него стучат зубы!.. — Не хотел бы я быть на месте этого негра, — мрачно заметил почтмейстер. — Но с ними ничего не поделаешь. И почему из Клейтона не прислали подмогу! — Это ужасно, ужасно!.. — только и мог вымолвить Дэвис. Он тоже вслед за толпой подошел к дому, боясь упустить какую-нибудь подробность. В это время кучка людей, разгоряченных, как гончие на охоте, подбежала, неся веревку, к низкому входу в погреб, видневшемуся сбоку от дома. За ними побежали другие с факелами. Во главе с Уитекерами, отцом и сыном, они стали спускаться в черное зияющее отверстие. Набравшись смелости, Дэвис последовал за ними. Он твердо решил досмотреть все до конца, хотя и не был уверен, что ему позволят. И вдруг в дальнем углу он увидел Инголса. Тот сидел на корточках, сжавшись в комок, в такой позе, как будто готовился прыгнуть. Ногтями он впился в землю. Глаза у него выпучились, на губах выступила пена. — Господи, господи, — стонал он, уставившись на пламя факелов немигающими, как у слепого, глазами. — Господи, господи, не убивайте меня!.. Я больше никогда!.. Я не хотел! Я даже и не думал! Я тогда пьяный был! О, господи, господи!.. — Зубы у него громко стучали, хотя рот был разинут. Он не помнил себя и только твердил, как помешанный: — Господи, господи!.. — Он тут, ребята! Тащите его наверх! — закричал старый Уитекер. Негр издал вопль ужаса и упал ничком. Он как-то подпрыгнул при этом, и тело его глухо ударилось о земляной пол. Рассудок его покинул. На земле корчилось и исходило пеной обезумевшее животное. Сознания в нем оставалось ровно настолько, чтобы чувствовать на себе неумолимый взгляд своих преследователей. Дэвис, которого это зрелище прогнало обратно на заросший травой двор, стал шагах в десяти от входа в погреб, и вскоре оттуда начали появляться люди, после того как они схватили и связали негра. Потрясенный до глубины души, Дэвис все же сохранял способность холодного наблюдения, которая вырабатывается у настоящего, опытного репортера. Даже сейчас он отмечал про себя краски и живописные детали этой сцены: багровое дымное пламя факелов, беспорядок в одежде у выходивших, их странные жесты — они что-то дергали и тащили… Вдруг он зажал рот ладонью, едва ли сознавая, что делает. — Боже мой! — вскрикнул он, и голос его оборвался. Негр с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, с конвульсивно дергающимися руками. Его обвязали поперек тела веревкой и волокли ногами вперед, а голова билась о ступеньки. Черное лицо почти уже не походило на человеческое. — Боже мой! — прошептал опять Дэвис, кусая пальцы и сам того не чувствуя. Толпа сгрудилась еще плотней, созерцая дело своих рук и, кажется, испытывая скорее ужас, чем торжество. Но ни у кого не хватило мужества или милосердия сказать хоть слово против. С какой-то машинальной расторопностью негра подняли и, словно мешок с зерном, швырнули в фургон. Отец и сын забрались на козлы, остальные отвязывали лошадей и садились в седла, потом в молчании потянулись следом за фургоном. Все это не были привычные участники судов Линча — такое заключение впоследствии вывел Дэвис, — скорее, просто любопытные зрители, которые рады были всякому случаю встряхнуться и развеять скуку своего однообразного существования. Для многих, а пожалуй что и для всех, линчевание было в новинку. И Дэвис, как ни был он потрясен и напуган всем виденным, тоже побежал за своей лошадью, сел верхом и поплелся в хвосте отряда. От волнения он сам плохо понимал, что делает. Молчаливая кавалькада медленно двинулась по проселочной дороге на Сэнд-ривер, туда же, откуда прибыла. Луна стояла еще высоко, заливая землю серебристым светом. Дэвис задумался было над тем, какое добавление протелеграфировать в газету, но потом решил, что все равно ничего не выйдет. Когда все кончится, будет уже слишком поздно. Сколько нужно времени, чтобы повесить человека? Да неужто его на самом деле повесят? Все это казалось таким нереальным, таким чудовищным, — он не мог поверить, что это происходит на самом деле и что он сам принимает в этом участие. Однако процессия неуклонно подвигалась вперед. — Неужели его повесят? — спросил Дэвис того, кто ехал с ним рядом. Этот человек был Дэвису совершенно незнаком, но, по-видимому, не находил его присутствие неуместным. — А для чего же все затевали? — ответил тот. И подумать, мелькнуло в голове у репортера, что он-то, Дэвис, завтра вечером будет лежать в мягкой постели у себя дома в К.! Дэвис опять немного отстал и примолк, стараясь успокоиться. Он все еще не мог привыкнуть к мысли, что он, знавший до сих пор только городскую жизнь с ее однообразием и банальностью, с ее, по крайней мере, внешней общественной упорядоченностью, участвует в таком деле. Ночь была так мягка, воздух так чист! Свежий ночной ветер колыхал темную листву деревьев. Как можно допустить, чтобы человека постигла такая смерть? Почему жители Болдуина или других соседних деревень не встали на защиту закона, хотя нужно было только одно — не мешать его исполнению! Сейчас отец и брат девушки казались Дэвису просто дикими зверями, а обида, нанесенная дочери и сестре, совсем уж не такой ужасной. С другой стороны, обычай, по-видимому, требует именно такой кары. Это как аксиома, математический закон. Жестоко, да; но таков обычай. Молчаливая процессия, в которой было что-то бездушное, механическое и поэтому страшное, двигалась все дальше. В ней тоже было что-то от аксиомы, от математики. Немного погодя Дэвис подъехал поближе к фургону и еще раз взглянул на негра. Тот, как Дэвис с облегчением заметил, казалось, все еще не приходил в чувство. Он тяжело дышал и стонал, но едва ли от осознанной боли. Глаза у него были стеклянные и неподвижные, лицо и руки в крови, как будто их исцарапали или истоптали каблуками. Он лежал, безжизненно распластавшись на дне фургона. Но тут выносливости Дэвиса пришел конец. Он придержал лошадь, стараясь побороть тошноту, подступавшую к горлу. Нет, довольно уж наблюдать. Это омерзительно, это бесчеловечно! Но процессия все двигалась, а он все ехал следом — мимо полей, белых от лунного света, под темными деревьями, сквозь кроны которых лунные блики узором ложились на дорогу, все ехал и ехал, то поднимаясь на невысокие холмы, то спускаясь в долины, и наконец впереди заблестела речка — та самая, которую он уже видел днем, — а в отдалении показался мост, к которому все они, видимо, и направлялись. Речка бежала по лощине, вспыхивая искрами в ночном сумраке. Немного подальше дорога спускалась к самой воде и, перекинувшись по мосту через реку, продолжалась уже по тому берегу. Процессия приблизилась к мосту и здесь остановилась. Фургон въехал на мост, отец и сын слезли с козел. Всадники почти все, в том числе и Дэвис, спешились, и человек двадцать обступили фургон; негра сбросили наземь, словно куль с мукой. «Какое счастье, — повторял про себя Дэвис, — какое счастье, что он все еще без сознания, хоть это подарила ему судьба!» Но сам Дэвис чувствовал теперь, что смотреть до конца он не в силах. Он отошел дальше по берегу, в сторону от моста. Нет, он, видно, все-таки не настоящий репортер. Но и оттуда, где он стоял, ему ясно видны были концы длинных стальных балок, выступавшие над водой; к одной из этих балок несколько человек привязывали веревку; и затем Дэвис увидел, что другой конец веревки они накинули на шею негру. Наконец все отступили, и Дэвис отвернулся. — Не хочешь ли что-нибудь сказать перед смертью? — спросил чей-то голос. Ответа не было. Негр, должно быть, лежал и только стонал, так и не приходя в сознание. Опять несколько человек зашевелились; они подняли что-то черное; обмякшее тело вдруг нырнуло вниз и, дернувшись, повисло; слышен был скрип натянувшейся веревки. В бледном лунном свете казалось, что тело корчится, но, может быть, это только казалось. Дэвис все смотрел, онемелый, с полураскрывшимся ртом; и вот наконец тело перестало содрогаться. Немного погодя на мосту снова началось движение; судя по звукам, там готовились к отъезду; и минуту спустя все уехали, даже не вспомнив о Дэвисе, покинув его на опустевшем берегу, наедине с его мыслями. Только черное тело, что покачивалось в бледном свете над мерцающей водой, только оно казалось живым и разделяло с ним одиночество. Он присел на берегу и молча продолжал смотреть. Слава богу, весь этот ужас кончился. Этот несчастный больше не испытывает боли. Он больше не мучится страхом. А кругом какая красота, какое лето! Последний всадник исчез из виду, луна склонилась к краю неба. Лошадь Дэвиса, привязанная к дереву возле моста, терпеливо ждала. А он все сидел. Он мог бы поспешить обратно в Болдуин, в тесную почтовую контору, и передать по телеграфу дополнительные подробности, при условии, конечно, что ему удалось бы найти Сиви. Но это ни к чему. К номеру все равно не поспеет, да и вообще нет никакого смысла торопиться. Других репортеров, кроме него, не было, а завтра он напишет гораздо лучше, подробней, красочней, острей. Он вспомнил о Сиви и вяло удивился: почему тот не поехал с ними? Какая странная штука жизнь, как она печальна, загадочна, непостижима. Он все сидел, пока не заметил, что уже начинается утро. Небо на востоке стало серым, потом бледно-сиреневым. Потом в нем проступили алые заревые тона, и над затихшей землей в вышине заиграли все великолепные краски небесных чертогов, повторяясь внизу в водах речки. Белая галька, устилавшая дно, теплилась розовым светом, трава и камыш, раньше черные, теперь стали прозрачно-зелеными. Только тело повешенного оставалось темным, резко выделяясь на фоне неба; оно заметно покачивалось под легким утренним ветром. Наконец Дэвис встал, забрался в седло и поехал по дороге в Счастливую Долину, так поглощенный происшедшим, что ничто другое уже не привлекало его внимания. Он разбудил хозяина конюшни, умиротворил его тем, что подробно рассказал о ночных событиях, поклялся, что берег лошадь как зеницу ока, уплатил пять долларов и ушел. Ему хотелось пройтись и еще подумать. Дневных поездов не было, а свободное время следовало как-нибудь использовать. Поразмыслив, Дэвис решил, что лучше ему остаться до вечера, побродить по окрестности и разузнать еще кое-какие подробности. Интересно, например, кто снимет тело? Арестуют ли участников линчевания — хотя бы Уитекеров, отца с сыном? Что станет делать шериф? Приведет ли он в исполнение свои угрозы? Дэвис знал, что, если он сейчас в общих чертах сообщит в газету о развязке, редактор не станет пенять ему за опоздание. А день был так хорош, что не хотелось уезжать. Дэвис провел его в разговорах с местными жителями, съездил еще раз на ферму к Уитекерам, затем поехал в Болдуин повидать шерифа. Там все было до странности тихо и мирно. Шериф заверил его, что знает наперечет всех участников и непременно добьется ордера на их арест, но Дэвису показалось, что свое поражение он принимает так же равнодушно, как в свое время принимал опасность. Особенно усердствовать он, видимо, не был склонен. Должно быть, не хотел восстанавливать против себя местное население. Солнце уже садилось, когда Дэвис вспомнил, что так и не узнал, снято ли тело. И еще одно он позабыл узнать: зачем негр возвращался домой и как, собственно, его поймали. Поезд отходил в девять, время еще оставалось, и Дэвис решил этим воспользоваться. До места, где жил негр, было около двух миль, но в такой хороший вечер Дэвису захотелось пройтись пешком, сосновой просекой. В последних лучах заходящего солнца длинные тени от распускающихся деревьев ложились поперек дороги. Дэвис довольно скоро добрался до одноэтажного домика, стоявшего поодаль от дороги и окруженного редкими деревьями. К этому времени уже совсем стемнело. Между дорогой и домом деревья были вырублены и сложены в штабель, а земля вся усеяна щепками. Крыша дома осела, в окнах кое-где виднелись бумажные заплатки; и все же тут ощущался домашний уют. Через распахнутую дверь виден был желтый огонь, пылавший в очаге: он наполнял всю комнату золотыми отсветами. Дэвис в нерешительности постоял перед растворенной дверью, потом постучал. Не получив ответа, он ступил на порог и с любопытством оглядел поломанные плетеные стулья и остальную ветхую мебель. Перед ним было типичное негритянское жилье — картина неописуемой нищеты. Через несколько минут дверь в глубине комнаты растворилась и вошла девочка-негритянка, неся в руках помятую жестяную лампу без стекла. Она не слыхала стука и вздрогнула от испуга, увидев в дверях темный силуэт. Подняв над головой коптящую лампу, чтобы лучше видеть, она подошла ближе. Ее плоская, худенькая фигурка в клетчатом балахончике производила комическое впечатление, что не преминул отметить Дэвис. Руки и ноги ее были несуразно велики, на голове во все стороны торчали крохотные черные косички, перевязанные белыми тесемками. Черное личико казалось еще черней по контрасту с белыми зубами и белками глаз. Дэвис с минуту смотрел на нее, но то, что при других обстоятельствах рассмешило бы его, на этот раз оставило равнодушным. — Это здесь жил Инголс? — спросил он. Девочка кивнула. Она была как-то очень тиха, и по лицу видно было, что она только что плакала. — Тело уже здесь? — Да, сэр, — промолвила она с мягким негритянским выговором. — Когда его привезли? — Сегодня утром. — Ты его сестра? — Да, сэр. — Скажи, девочка, как это вышло, что его поймали? Когда он вернулся домой и зачем? — Ему было немного стыдно донимать ее расспросами. — Вчера днем, в два часа. — А зачем? — повторил свой вопрос Дэвис. — Повидаться с нами, — ответила девочка. — Маму повидать. — Да нет, что ему было нужно? Ведь не за этим же одним он пришел. — За этим, сэр, — сказала девочка. — Чтобы проститься. А как его поймали, мы не знаем. — Голос ее задрожал. — Но ведь он же понимал, что его могут поймать? — участливо спросил Дэвис, видя ее волнение. — Да, сэр, понимал. Она все время стояла очень тихо, держа обеими руками свою жалкую помятую лампу и глядя в землю. — Он что-нибудь важное хотел вам сказать? — спросил Дэвис. — Нет, сэр. Сказал только, что маму хотел повидать. И что ему придется уехать куда-то далеко. Девочка, по-видимому, принимала Дэвиса за какое-то официальное лицо, и он не стал ее разуверять. — Можно взглянуть на тело? — спросил он. Девочка ничего не ответила, но повернулась к двери, как будто хотела показать ему дорогу. — Когда похороны? — спросил он. — Завтра. Она провела его через пустую каморку, больше похожую на сарай, чем на жилую комнату, затем еще через одну или две такие же клетушки. Последняя, очевидно, служила складом для всякого хлама. В ней было несколько окошек, но все без стекол, кое-как заколоченных снаружи досками; сквозь щели лунный свет свободно проникал в комнату. Идя вслед за девочкой, Дэвис с удивлением задавал себе вопрос: куда же они в конце концов положили тело и почему в доме так тихо и пусто? Можно было подумать, что тут и нет никого, кроме девочки с косичками. Соседи-негры, если они имелись, наверно, напуганы и не смеют сюда показаться. Но всего пустынней была эта последняя комната, холодная, темная, с заколоченными окнами. Вид у нее был уж совсем не жилой: чулан или прачечная. Посредине, одним концом на стул, другим на ящик, была положена гладильная доска, а на ней лежало тело, прикрытое белой простыней. Углы комнаты тонули во мраке. Только на середину ложились пятна серебряного света. Дэвис направился туда, а девочка вышла, унося с собой лампу. Должно быть, она решила, что луна достаточно освещает комнату, а самой здесь оставаться ей было жутко. Свет и правда был довольно ярок, и Дэвис смело откинул простыню и вгляделся в застывшее черное лицо. Даже сейчас, даже мертвое, оно было страшно искажено, а на шее ясно виден след от веревки. Полоса холодного лунного света ложилась на лицо и грудь. Дэвис уже хотел опустить простыню, как вдруг не то вздох, не то стон донесся до его слуха. Дэвис вздрогнул — таким неожиданным был этот вздох, так странно и призрачно прозвучал он в темной комнате. Все мышцы его напряглись, сердце бешено заколотилось. В первую минуту ему почудилось, что звук этот исходил от мертвеца. — О-о-ох! — снова прошелестело в темноте, и на этот раз со всхлипыванием, словно кто-то плакал. Дэвис быстро повернулся, — теперь ему показалось, что звук шел сзади, из дальнего правого угла. Чувствуя, что холодок бежит у него по спине, он шагнул туда и, вглядевшись, различил в углу какую-то тень, как будто на полу у самой стены, скорчившись, сжавшись в комок, сидела женщина. — Ох! Ох! Ох! — прозвучало снова, еще жалобней, чем раньше. Дэвиса осенила наконец догадка. Он медленно подошел и тотчас раскаялся в этом, — перед ним, согнувшись и уронив голову на колени, сидела и плакала старая негритянка. Она забилась в самый уголок и словно замерла так. — Ох! Ох! Ох! — снова простонала она, когда он уже стоял рядом. Дэвис бесшумно отступил. Перед лицом такого горя те побуждения, которые заставили его проникнуть в дом, казались черствым и пустым любопытством. Безвинное страдание матери, ее любовь — как подсчитать цену этой скорби? Слезы навернулись у него на глазах. Он торопливо оправил простыню и вышел. Он быстро зашагал по облитой лунным светом дороге, но вскоре остановился и оглянулся назад. Темная хибарка с единственным своим золотым глазом — распахнутой дверью, — какой жалкой она казалась! Плачущая старуха негритянка, одна-одинешенька в своем углу, и сын, который только затем вернулся домой, чтобы попрощаться с нею! Волненье переполняло Дэвиса. Ночь, ужас смерти, скорбь — теперь все это раскрылось перед ним. И однако, с бессердечием пробуждающегося художника он уже и сейчас обдумывал, какой рассказ из всего этого можно сделать: колорит, пафос… Одному, во всяком случае, его научило тяжкое горе этой матери, чья вина была ничтожна, — да и была ли на ней какая-нибудь вина! — что не всем воздаяние мерится точной мерой и что дело писателя не судить, а понимать жизнь И рассказывать о ней. — Я обо всем этом напишу! — воскликнул он наконец с глубоким чувством и вместе с торжеством. — Я обо всем этом напишу!
Освобождение
В большой уютной квартире архитектора Руфуса Хеймекера в Сентрал-Парк Уэст тишина. Едва светает. Из высоких зеркальных окон, которые так облагораживают фасад дома, виден парк напротив; ряды величавых тополей еще окутаны утренней дымкой. Из окна спальни тоже виден краешек парка, но мистер Хеймекер, поднявшись в этот ранний час, прошел через холл в гостиную, чтобы, сидя здесь, у широкого окна, любоваться деревьями и маленьким озером за ними. Он так любит природу во всем ее многообразии, в душе он — поэт. Хеймекеру под шестьдесят; он худощав и слегка сутул, но не лишен изящества; густые волосы, нависшие брови, коротко подстриженные седеющие усы и борода придают некоторую суровость его тонкому лицу. На нем широкий и длинный светло-синий халат, отделанный серебряным шнуром. Тонкие, бледные, морщинистые руки, длинные пальцы, слегка узловатые в суставах, выдают художника если не по профессии, то по натуре; глаза смотрят устало и в то же время беспокойно. Уже три недели его жена больна — разладилось все сразу: сердце, почки, нервная система; и вот вчера доктор Сторм, их домашний врач, отвел его в сторону и мягко, дружески, явно стараясь щадить его чувства, сказал: — Если до завтра вашей супруге не станет лучше, мистер Хеймекер, я приглашу для консультации моего коллегу, доктора Грейнгера, — вы его знаете. Он больше понимает в этих сердечных недугах, чем я. («Сердечные недуги», — иронически повторил про себя Хеймекер.) Мы ее тщательно осмотрим и тогда, надеюсь, сможем с большей уверенностью сказать, в какой мере можно рассчитывать на ее выздоровление. Это тяжелый случай, я бы сказал, весьма трудно поддающийся лечению. Но организм очень стойкий и в общем сопротивляется болезни лучше, чем можно было ожидать. И все же… я не хочу понапрасну пугать вас, да пока и нет поводов для чрезмерной тревоги… все же мой долг предупредить вас, что ее состояние очень серьезно. Я не хочу сказать, что нет надежды. Я этого не думаю. Совсем не думаю. Как раз напротив. Она может выздороветь, это вполне вероятно, и, пожалуй, проживет еще лет двадцать. (Тут Хеймекер подавил тяжелый вздох.) Судя по всему, силы у нее могут восстановиться, но сердце скверное и обострение болезни почек, конечно, не улучшает дела. Именно сейчас, когда сердцу вредна всякая лишняя нагрузка, ему приходится работать сверх меры. Можно сказать, что сейчас она — накануне кризиса. День, два, самое большее четыре — и будет ясно, какой это примет оборот. Но, как я уже сказал, я не хочу понапрасну пугать вас. Мы далеко не исчерпали всех наших возможностей. Мы еще не прибегли к переливанию крови, а ведь в пользу переливания можно многое сказать. Кроме того, в любую минуту ее организм — особенно почки — может начать энергичнее реагировать на лечение, и тогда положение сразу изменится к лучшему. Однако, повторяю, мой долг обязывал меня поговорить с вами, чтобы вы были готовы к худшему, ведь при таком сложном заболевании трудно предвидеть, каков будет исход. Тут заранее ничего не скажешь. Я старый друг вашей семьи, я знаю, как много вы значите для нее и она для вас… — Хеймекер посмотрел на него отсутствующим взглядом. — И я считаю своим долгом подготовить вас. Всем нам приходится переживать такое. Вы ведь знаете, только в прошлом году я потерял мою Матильду, мою младшую дочку. Но все же, повторяю, я вовсе не думаю, что миссис Хеймекер при смерти, — я надеюсь, нам с доктором Грейнгером еще удастся поставить ее на ноги. Очень надеюсь. Доктор Сторм посмотрел на Хеймекера с искренним сожалением — ведь он уже старик, прожил с женой столько лет, привык к ней, — конечно, для него будет большим несчастьем ее потерять. А Хеймекер, застыв словно статуя, думал о том, какой все это нелепый фарс, как заблуждаются все вокруг. Вот ему уже почти шестьдесят, он устал от всего, устал от жизни, и никогда он не был по-настоящему счастлив с тех пор как женился; а между тем жена, которая обо всем судит по внешности, убеждена, что он должен быть счастлив с ней, и поэтому сама едва ли не безмятежно счастлива. Вот и доктор смотрит на него, как на дряхлого старика, который нуждается в заботе, сочувствии и понимании своей любящей жены! Невольно Хеймекер поднял руку, словно что-то отстраняя. И дети тоже думают, что он нуждается в ней и счастлив с нею, и слуги так думают, и друзья, — и все-таки это неправда. Все это ложь. Он несчастлив. Он всегда был несчастлив, кажется, с тех самых пор как женился — уже тридцать один год. За все это время не было дня, чтобы он не тосковал, не терзался бессильным, затаенным желанием: едва осмеливаясь думать об этом, он хотел одного — не быть женатым, быть свободным, каким он был когда-то, раньше чем встретился с Эрнестиной. Но, верный своему характеру и воспитанию, он не решался отступить от общепринятой морали; притом тут действовали силы, над которыми он, казалось, был не властен, — сама его натура, обычай, общественное мнение и прочее и прочее, — они подавляли его, и он плыл по течению, неспособный с ними бороться. Да, он просто плыл по течению, втайне надеясь, что, быть может, время, случай или еще что-то вмешается и изменит его жизнь к лучшему. Но этого так и не произошло. И вот теперь, усталый, старый, или по крайней мере быстро стареющий, он осуждал себя за свою слабость. Почему он даже не попытался ничего сделать? Почему не разорвал эти цепи, когда было еще не поздно, когда он еще мог сохранить свою душу, свою страстную любовь к жизни, к ее краскам? Но нет, он не сделал этого. Что ж теперь так горько жаловаться? И накануне, слушая доктора, он все время сдерживал холодную, циничную усмешку: ведь на самом деле он вовсе не хотел, чтобы жена осталась жива, — по крайней мере так ему казалось в ту минуту. Он слишком устал. Почти сутки думал он свою невеселую думу — и вот он сидит у окна, смотрит на слабо освещенный, окутанный утренней дымкой дом неподалеку, проводит изредка рукой по волосам и тяжело вздыхает. Сколько раз в эти томительные месяцы и даже годы, с тех пор как он с женой поселился здесь (да и прежде так бывало), он подходил к окну в час, когда она еще спала, и думал, думал. В последние годы они стали так далеки друг от друга, что даже комната у каждого своя; впрочем, жена как будто не придает этому значения. Жизнь стала для нее более или менее практической задачей: ее заботит их доброе имя, положение в обществе, их репутация. А он… как часто, оглядываясь назад, он жалел, что жизнь так непохожа на все, о чем он мечтал… Если бы, если бы мечты его сбылись! Было еще совсем рано, серое небо на востоке едва заметно розовело; Хеймекер задумчиво и печально покачал головой, поднялся и, пройдя через холл к спальне жены, заглянул туда; в кресле у кровати крепко спала сиделка; врач велел ей не спускать глаз с больной, но, как видно, ее сморила усталость. Жена тоже спала — такая бледная, исхудалая, ослабевшая. Он очень жалел ее порою, хоть и сам был сильно измучен; вот и сейчас ему жаль ее. Зачем тогда, много лет назад, он совершил такую страшную ошибку? Наверно, он сам виноват: почему не был умнее в юности. И он медленно пошел в свою комнату, снова лег и опять погрузился в раздумье. Все эти дни, когда она была так серьезно больна и самая жизнь ее висела на волоске, он просыпался на рассвете и думал. Казалось, он уже просто не в силах уснуть здоровым, крепким сном, — так одолевали его тревожные, беспорядочные мысли. Он даже не столько физически устал и измучился, сколько душевно измотан и растерян. Что и говорить, жизнь сыграла с ним злую шутку. Никогда он по-настоящему не любил, а ведь уже столько лет женат, и все эти годы был верен, внимателен и любим… Да, она, как умела, любила его. «Как умела», — с горечью прошептал он. Скоро уже надо вставать, одеваться и, как всегда, идти в контору, если только жене не станет хуже. Но… но… выживет ли она? Она все-таки некрепкая, хоть и держалась до сих пор… И ведь ей почти столько же лет, сколько ему… быть может, она не справится с такой тяжелой болезнью? Тогда он снова станет свободен, и никто не сможет его осудить, в чем-либо упрекнуть. И тогда снова можно будет поехать, куда захочется, и делать, что хочешь, и никто не помешает. Ведь она больна, тяжело больна, впервые с тех пор как они женаты. Вот уже почти месяц она между жизнью и смертью: сегодня ей лучше, завтра хуже, но все же она жива, и нет уверенности, что смерть неизбежна, однако и лучше ей не становится. Доктор Сторм утверждает, что у нее неожиданно обострился порок сердца — это как раз самое опасное, и неизвестно, как с этим справиться. Все это время Хеймекер был по своему обыкновению чрезвычайно внимателен к жене. Он неизменно был мягок, уступчив, даже нежен. Он никогда ни в чем не отказывал ей, делал все, что было в его силах. Он всегда радовался, когда она и дети были довольны и счастливы… А ведь он и в детях разочаровался, и виновата в этом прежде всего она… Он всегда сочувствовал ей, помня, что в юности ей жилось скучно и скудно; но сам он никогда не был счастлив, никогда, за все время, что они женаты. Да, ей пришлось многое вынести, твердил он себе в самые горькие минуты, но ведь и ему тоже… правда, может быть, женщинам это дается труднее — возможно… зато у нее есть его любовь, по крайней мере так ей кажется, и на душе у нее мир, которого он лишен. У нее есть верный муж. У него нет и не было настоящей жены, которую он любил бы, как любят жен. А как он мечтал об этом! В тот день по дороге в контору (она помещалась в одном из тех высоких зданий, что выходят на Мэдисон-сквер), проезжая мимо Сентрал-Парк Уэст, он смотрел на стройные ряды деревьев, на ярко освещенные солнцем дома, и снова им завладели горькие мысли. На тротуарах толпились няньки с младенцами, играли детишки, редкие пешеходы неторопливо прогуливались, другие спешили по своим делам. А день был такой чудесный, такой солнечный, какие выдаются лишь весной, да и то изредка. И, глядя вокруг, особенно на детей и на спешащих на службу молодых людей в новеньких с иголочки весенних костюмах, он со вздохом подумал: если бы снова стать молодым! Сколько в них огня, сколько надежд! У них все впереди. Они могут еще искать и выбирать… ни годы, ни обстоятельства — ничто еще не стоит у них на пути. Кто из них связал себя так же нелепо, как он в их годы? — в сотый раз спрашивал он себя. Быть может, у каждого из них есть очаровательная молодая жена, горячо и страстно любимая, такая, какой никогда не было у него? Может быть… Поглощенный этими мыслями, он поднялся в свою контору, на верхний этаж одного из самых высоких зданий, и, подойдя к окну, устало посмотрел на раскинувшийся внизу город. Отсюда были видны обе пересекающие город большие реки, башня, шпили, стены далеких зданий. Это иногда и по сей день помогало ему терпеть, жить и надеяться. Как все это вдохновляло его в юности… Впрочем, тогда он жил в другом городе. Даже теперь, здесь, в конторе, он чувствовал себя куда лучше и спокойнее, чем в собственном уютном доме. Отсюда можно смотреть на раскинувшийся внизу город и мечтать… или с головой уйти в работу и забыть, что личная жизнь не удалась. Огромный город, здания, которые он задумывал или строил, способные и преданные помощники, которых он сам подобрал, не спрашивая жену, — среди всего этого он забывал о себе, о постоянной внутренней боли, о том, что жизнь безнадежно загублена. На время болезни его жены заботы о доме поручены миссис Элфрид, строгой немолодой женщине, которая служила у них и прежде; ей помогает служанка Эстер — она прислуживает за столом, открывает двери, вообще делает все, что понадобится; кроме того, за больной ухаживают две сиделки — одна дежурит ночью, другая днем. Обе веселые, здоровые, голубоглазые. Да, очень милые девушки — воплощение дерзкой, жизнерадостной юности, какой он сам никогда не знал. А все же они не нарушают его душевного равновесия. Этого с ним, пожалуй, уже никогда не случится. Кроме того, о матери думают и заботятся дети — Уэсли и Этельберта (жена так назвала дочь против его воли)… Они давно обзавелись семьями, у обоих уже свои дети, и живут они в разных концах города. Теперь они ежедневно заходят, справляются о здоровье матери, а иногда проводят в доме родителей весь день или вечер. Этельберта предложила на время болезни матери совсем переселиться к ним и взять все заботы о доме на себя, но миссис Хеймекер и слышать об этом не хочет: она любит командовать сама и пока не желает от этого отказываться. Она ведь не настолько больна, не утратила еще дара речи, а стало быть, может обо всем спросить и распорядиться. Кроме того, миссис Элфрид не хуже ее самой может позаботиться об удобствах и комфорте мистера Хеймекера. Если уж говорить правду, — а правда часто выходит наружу в критические минуты, — не заботы об удобствах не хватает ему, а понимания и любви. Ведь он никогда не любил жену, во всяком случае не любил с тех давних пор, когда они жили в Маскигоне, штатеМичиган, где оба они родились, где познакомились, когда ей было пятнадцать лет, а ему — семнадцать. Теперь это кажется странным, но они полюбили друг друга с первого взгляда. Она была дочерью местного аптекаря — юная девушка, чуть моложе его и такая милая. Потом нужда заставила его уехать, чтобы как-то выбиться в люди, но он часто писал ей и все время представлял ее такой, какой она показалась ему с самого начала, даже лучше, — в его мечтах она была прекрасней всех на свете. Но судьба не торопилась помочь ему, не торопилась осуществить его мечты: много лет провел он вдали от Эрнестины, у него не было средств, чтоб жениться, а тем временем, сам того не сознавая, он стал по-иному смотреть на жизнь. Трудно сказать, как это случилось, но… Он жил в большом городе, многое увидел и узнал, а для нее все оставалось по-прежнему; он видел новых людей, смелее мечтал — и все это словно вступило в заговор против нее и против их любви, только он тогда не совсем это понимал. Как видно, думалось ему, он всегда слишком медленно осознавал все значение происходящих в нем перемен. Сколько раз впоследствии он говорил себе, что именно тогда надо было спохватиться и порвать с Эрнестиной. Чем дальше, тем это казалось невозможней. Конечно, он причинил бы ей боль, и самому ему было бы нелегко, зато теперь не пришлось бы мучиться. Но нет, тогда он был слишком неопытен, слишком мало знал жизнь, слишком связан был условностями и предрассудками провинциального Запада. Он считал, что помолвка, даже если она потом окажется неудачной, все-таки помолвка, и это обязывает. Порядочный человек не откажется от своего слова, — так по крайней мере считают блюстители нравственности у него на родине. Да, тогда он еще мог бы написать ей, поговорить с ней. Но, слишком деликатный и мягкосердечный, он не решился заговорить о своей ошибке. А потом было уже слишком поздно. Он боялся обидеть ее, разбить ее сердце, ее жизнь. А теперь… теперь… что стало с его жизнью! Несколько раз в те годы он приезжал в родной город и мог понять, что ошибся, и покончить с этим, и стать свободным, если б только у него хватило ума и мужества… Но нет, чувство долга, взгляды и верования, господствующие в провинциальном уголке, где он вырос, да и вообще в Соединенных Штатах, мысль о том, чего от него ждут, чего ждет и вправе ждать она, — все это связало его по рукам и по ногам, и он так ничего и не сказал Эрнестине. Не сказал, что изменился, ни словом не обмолвился, что чувство его перегорело и обратилось в пепел, — вместо этого он женился на ней. Господи, до чего он был глуп! Что ж, если верить ходячей морали, раз уж он сделал ошибку, его долг не отступаться от сделанного и не падать духом; уговор есть уговор, по крайней мере в браке, если не в чем другом. А все-таки он не может не чувствовать себя несчастным. Просто не может. И вот все эти долгие-долгие годы, связанный теми же условностями и опасениями — что подумают, что скажут люди, — он вынужден был жить с ней под одной крышей, всячески ублажать ее, делать вид, будто счастлив с нею, будто они — «идеальная пара». А на самом деле он был несчастлив, бесконечно несчастлив. Подчас его раздражал ее вид, ее чопорность, уже одно ее присутствие. Досадно было слушать, как доктор Сторм разговаривал с ним вчера утром: Сторм явно жалеет его, воображает, что он чувствует себя очень одиноким, что, если жена умрет, он останется совсем один — заброшенный и неутешный вдовец. «Кто позаботится о вас?» — словно говорили глаза Сторма… А зачем ему ее заботы, ему нужно только остаться одному, хоть на время, думать, что хочешь, поступать, как хочешь, забыть эти долгие, беспросветные годы, годы притворства, когда он не был самим собой. Неужели так никогда и не вырваться из этого постылого заколдованного круга, никогда, до самой смерти? А немного погодя станешь упрекать себя за эти мысли… такие несправедливые, жестокие, бессердечные… Общественное мнение, от которого зависит доброе имя человека и его положение, беспощадно осудило бы его за эти мысли. И за все эти годы он ни разу, ни единого разу не дал ей понять, что принес такую страшную жертву, что погубил себя. Как легендарный юный спартанец, он спрятал от всех взглядов лисицу, пожиравшую его внутренности. Он не жаловался. Что и говорить, с точки зрения общепринятой морали он был примерным мужем. Да, конечно, стоит только вспомнить о его положении в обществе, о положении его детей. А жена? Вот и сейчас, во время тяжелой болезни, она не знает ни материальных, ни душевных забот и твердо верит, что он поистине примерный муж! За все эти годы она, видимо, ни разу не усомнилась в его любви, не почувствовала, что он так непоправимо несчастлив… Быть может, она не воображала, будто он любит ее так же пылко, как когда-то, в дни их юности, но все же не сомневалась, что ему хорошо с нею, что его радует и домашний очаг, который они вместе создали, и дети, которых они воспитали, и спокойная уверенность, что все так и будет до самого конца. До конца! Все эти годы она кроила свою жизнь, и жизнь детей, и, насколько могла, его жизнь по своей мерке и по своему вкусу и при этом всегда думала, что делает все, как он хочет или уж во всяком случае так, как лучше для него и для семьи. Она свято соблюдала общепринятые правила поведения. И воображала, что в точности знает, как следует жить, а, в сущности, знала только то, чему ее когда-то научили дома: у нее были типично американские представления обо всем на свете. Ее мнение о выборе знакомых, о воспитании детей и прочем почти всегда брало верх, даже когда он и не совсем соглашался с нею; в выборе удовольствий, развлечений, друзей она неизменно придерживалась рамок общепринятого и тоже умела поставить на своем. Бывали, разумеется, небольшие ссоры, всегда бывали, — какая счастливая семья обходится без этого? — но он всегда уступал, почти всегда, и притом делал вид, что уступает охотно. На что ж тогда жаловаться? Разве ей хоть когда-нибудь могло прийти в голову, что он несчастлив? Нет, конечно, нет. Как все их родственники и знакомые и в родном городе и здесь (а на знакомства она была в высшей степени разборчива, искала расположения избранных и не обращала никакого внимания на всех прочих), она и поныне убеждена, теперь больше, чем когда-либо, будто только она знает, что для него хорошо, что плохо, знает его подлинные мысли и желания. И ему оставалось только грустно и насмешливо улыбаться. В ее глазах брак, во всяком случае их брак, — величайшее таинство, эти священные узы ничто не должно разорвать. Любить можно только раз в жизни. Раз уж ты взвалил на себя это бремя или даже только просил руки девушки — твой долг сдержать слово. Разорвать помолвку, изменить жене или хотя бы только быть невнимательным к ней — да это же преступление, святотатство. Такие подлые негодяи недостойны называться людьми, им не должно быть места на земле! Ну, а он? А его судьба? Судьба человека, который ошибся? Что ему остается, где он найдет покой и счастье? Здесь, на земле, или только где-то там, на небесах, среди ангелов? Эрнестина все еще верит в эти небеса. Какая комедия! Все их друзья не сомневаются, что ее смерть будет для него большим несчастьем, а как же иначе? Вот до чего доводит тупая, бессмысленная вера в прописную мораль. Подумать только! Но и это еще не самое страшное. Нет. Страшней всего было с каждым годом все яснее сознавать, что он женился на ничтожной, ограниченной женщине, неспособной понять его взгляды, вернее, его мечты, чувства, — и, однако, он должен жить с нею до конца дней, потому что в юности совершил ошибку. Да, конечно, у нее немало достоинств: она внимательна, заботлива, энергична, прекрасная хозяйка, в этом ей не откажешь, — и все же они чужие, тут уж ничего не поделаешь. Главное, он давно уже понял, что она женщина ограниченная, до мозга костей пропитана всяческими условностями, а он художник по натуре, он о многом грезит и мечтает, задумывается об отвлеченных материях, о вещах, которых она не понимает, не может понять, которым не сочувствует, о которых имеет лишь самое общее и смутное представление. Все особенности его искусства, красота и изящество форм, линий — разве это значит для нее хоть что-нибудь? И разве она когда-нибудь понимала, как много все это значит для него? Нет, конечно, нет. Она никогда не знала всему этому настоящей цены. Архитектура? Искусство? Что они для нее? Даже если бы она и захотела, она неспособна в этом разобраться. И теперь он уже не может искать понимания и сочувствия ни у кого другого. Да, в сущности, он никогда и не стремился к этому, ведь и жена и все окружающие осудили бы его, да и сам он в какой-то мере считал, что это было бы дурно. Но как же природа допускает, чтобы человек, чьи чувства и стремления нельзя втиснуть в рамки прописной морали, выбрал себе в жены такую женщину, как Эрнестина, неспособную понять его, заинтересоваться его душевным миром? Любовь ли слепа, как говорится, или это коварная природа намеренно терзает душу художника, не из вражды к нему, а ради красоты, которую порождает страдание, как песчинка, раня моллюска, рождает жемчужину… Пожалуй, так. Быть может, построенные им значительные и прекрасные здания — по крайней мере такими их считают все — потому и прекрасны и значительны, что он отдал им свое сердце, ведь в его жизни не было другой любви и другой красоты. Жестокая природа! Как мало она заботится о том, чтобы сбылись мечты человека — каждого человека в отдельности! Когда он женился на Эрнестине, он был слишком молод, чтобы ясно представлять себе, чего он хочет от жизни и как с годами могут измениться его чувства; и рядом не было никого, кто помог бы ему советом, вовремя остановил. Дух времени был таков, что все вело к этой катастрофе. Казалось, это воля самой природы. Семья, дети — только в этом видели тогда начало и конец всего, цель и смысл бытия. Что за нелепая теория! Потом он понял, какую ошибку совершил, и хоть привычные представления и обстоятельства, казалось бы, уже непоправимо связывали его, он утратил покой, душевное равновесие, но ни разу по-настоящему не возмутился — ни разу. Наоборот, он все это скрывал от жены, старательно скрывал, потому что очень жалел ее; но он жаждал красоты, той душевной и телесной красоты, которой она совсем не обладала, и эта жажда была мучительна, а под конец стала просто невыносима. Он все мечтал, мечтал, как одержимый, о чем-то ином, неиспытанном. Неужели мечты никогда не сбудутся, неужели так никогда ничто и не изменится? Как страшно! Ведь жизнь коротка, а потом уже ничего не будет, ничего! Спору нет, Эрнестина была когда-то очень хороша, хотя время показало, что ни физически, ни духовно она не привлекала его по-настоящему. Но разве теперь легче от того, что когда-то она была хороша? Ничуть не легче. В сущности, вот уже больше двадцати семи лет, как жизнь с Эрнестиной для него тяжкое бремя, а мечта о чем-то ином с годами становилась все более властной, все более неотступной… И вот он уже стар, а она, быть может, умирает, и не все ли равно теперь, что случится с ним или с нею; впрочем, может быть, и не все равно… Если бы только стать свободным, хоть ненадолго, совсем ненадолго, прежде чем умереть. Быть свободным! Свободным! Как мучительно влекла его красота других женщин, их лица, взгляды, а все же он отнюдь не намерен был преступать законы морали: ни по своему душевному складу, ни по чисто практическим соображениям он просто не мог на это пойти; и, однако, к его досаде и возмущению, жена, по какой-то странной логике опасаясь, как бы он не изменил ей, всегда старательно внушала ему, что он не из тех мужчин, которые нравятся женщинам, — ему не хватает физической привлекательности, какого-то особого мужского обаяния, и поэтому ни одна молодая и интересная женщина не могла бы его полюбить. Подумать только, она внушала это ему! Ему, к которому обращались пытливые, зовущие взгляды стольких женщин! Она уверяла, будто вышла за него замуж прежде всего потому, что жалела его. Он не спорил — пусть она думает так, ведь он сам жалел ее. То одна, то другая женщина искала его общества, улыбалась ему призывно и вкрадчиво, — а жена все повторяла, что он никак не Дон Жуан: такой неловкий, медлительный, неинтересный, женщинам попросту скучно с ним, — всем женщинам, кроме нее! И хоть в этом не было никакой нужды, она упорно твердила одно и то же, борясь с химерами, с опасностью, которая чудилась ей в будущем, — а ведь он не давал ей к этому никакого повода и никогда не собирался ей изменять, никогда. Так она пыталась отравить его душу сомнением: пусть он поменьше верит в себя, в свои силы, в свое искусство… И все же, все же… как преследовала его красота женщин, их глаза, — они обещали безграничное, невыразимое счастье. Почему, почему его жизнь сложилась так неудачно? Да, он хорошо понял горькую истину: природа совершенно равнодушна к судьбе человека; ты живешь, действуешь, стремишься к чему-то, движимый властным инстинктом, но только этот инстинкт она и дала тебе, а счастлив ты, нет ли — до этого ей нет дела. Отвечай сам за себя, раз и навсегда определи свой путь и уж не сворачивай с него, а не можешь — пропадай, обратись в ничто, тебя ждет духовная смерть. Природе нет до тебя дела. «Блаженны кроткие», — да, конечно. А вернее: блаженны сильные, ибо они сами творцы своего счастья. Все годы он знал это, надеялся на что-то, но не действовал, и все шло своим чередом, и только он один страдал. Он всегда понимал, что жизнь его сложилась неудачно, и, однако, связанный привычными условностями, не пытался действовать, на это у него не хватало решимости. У него не хватало силы воли — вот в чем суть, и всегда он был таким. Словно пойманная птица, словно зверь в клетке, смотрел он из своей неволи на людей, которые думают и делают, что хотят. Сколько раз в гостиных, на улице, даже у себя дома встречал он женский взгляд, улыбку, которые, казалось, обещали понимание, сочувствие — все то, чего ему так не хватало. И все-таки страшно было нарушить свой долг, запреты религии, прописи морали, страшно, — что скажут, что подумают о нем, и еще он помнил об Эрнестине, о ее спокойствии, о том, как она верит в него, о собственной карьере и о будущем детей, — а потому, словно отшельник, гнал от себя все соблазны и старался забыть, не думать о них. Порою это было тяжело и грустно, но так было. Взгляните на него теперь — он еще не так стар, нет, он еще не старик, но он устал от жизни и уже почти ко всему равнодушен. Все эти годы он мечтал, так мечтал о подруге с чутким и нежным сердцем, о женщине, которая могла бы понять его, которой было бы близко и дорого все в нем — каждое его чувство и каждая мысль, его талант, его взгляды на жизнь и искусство… Ведь есть же где-то такая женщина! Но все эти годы с ним всегда, неотступно была Эрнестина — и вот что с ним стало… Не то чтобы она была неприятна, противна ему, нет, этого не скажешь… просто она не та женщина, о которой он мечтал… Для него так много значит красота во всех ее проявлениях, формы, краски, и так много значит женская красота, прекрасное, совершенное тело и прекрасный ум, которому доступны были бы мысли и оттенки столь же утонченные, как те, что подчас знавал и он… но нет, не привелось ему близко узнать такую женщину. Нет, не привелось, хотя он мечтал об этом так долго. Он никому не смел признаться в этом, разве что самому себе. Это было бы безрассудно, поставило бы его вне общества: в его кругу (вернее, в ее кругу, ведь их знакомства — дело ее рук) подобные мысли недопустимы. Но в том-то и беда, что и сейчас он не может решить, не преступны ли даже самые его мысли, вот эти затаенные жалобы, недовольство судьбой. Разве муж и жена не должны быть верны друг другу независимо от того, счастливы они или нет? Разве нет такого внутреннего закона, на котором строится союз мужчины и женщины: любить только один раз в жизни? И перед этим ничтожны все мысли и стремления, все страдания человека, каковы бы они ни были. Так говорит церковь. С нею согласны и закон и общественное мнение. Преступить через это — значит стать лицом к лицу со множеством неодолимых препятствий, неразрешимых задач, принести близким страдания, испортить будущее детей. И разве в глазах окружающих, да и в собственных, не лучше, порядочнее во всех отношениях — исполнить свой долг, лишь бы не разрушать семью, не причинять столько горя, сдержать раз данное слово, хотя бы при этом разбилось сердце. Так он думал или по крайней мере поступал так, словно именно эта мысль руководила им… И все же… как часто его мучили сомнения! И еще. Конечно, с общепринятой точки зрения миссис Хеймекер хорошая, верная жена; притом на первых порах она была достаточно мила и привлекательна, чтобы его жизнь не казалась невыносимой, и все же он мучился и тосковал. А потом пошли дети. Первенец, которого назвали Элуэл в честь какого-то родственника — ее, а не его, — прожил всего два года; потом родился Уэсли, потом Этельберта, — он терпеть не мог это имя! Он хотел назвать дочь Отилией, своим любимым именем, или, может, быть, Дженет, в память своей матери. Странно, хоть его и мучила неотступная тайная тревога и неудовлетворенность, рождение детей и смерть бедного маленького Элуэла крепче привязали его к семье; он чувствовал, что должен заботиться о малышах, и даже радовался им… хотя, как ни грустно, это не сблизило его с женой; а если бы не дети, он, пожалуй, не вытерпел бы и ушел от нее. С малышами было много хлопот, но в первые годы они были такие милые, забавные. Особенно Элуэл. Стоило губами пощекотать его шею — и он от удовольствия так потешно морщил свой крошечный нос, заливался таким громким, счастливым смехом, что нельзя было не радоваться, глядя на него. В ту пору Хеймекер все больше чуждался жены, хоть и гнал от себя эти мысли, дурные, безнравственные, сурово осуждал себя за них, чувствуя, что есть в нем что-то враждебное общепринятым законам, порядкам, обычной благопристойной жизни, какою живут все вокруг! И, однако, неприязнь к жене не помешала ему горячо полюбить сынишку. Инстинктивно, сам того не сознавая, он искал в ребенке утешения; кто знает, кем или чем было послано ему это целительное средство для незаживающей сердечной раны? Элуэл завладел его мыслями, его сердцем, — казалось, он нашел в малыше понимание, сочувствие, любовь, нежность — все то, что дала бы ему любимая женщина и чего ему так не хватало. Больше всего Элуэл любил взобраться на колени к отцу или прижаться головой к его плечу, — никогда он так не льнул к матери. И если отец собирался выйти из дому, Элуэл был уже тут как тут и протягивал ручонки, чтобы он взял его с собой. Удивительно, как этот малыш любил его, — гораздо сильней, чем свою мать, просто не мог жить без него. Да и отец отвечал ему тем же. Ему казалось, сынишка не так уж и похож на Эрнестину, скорее на него и на его покойную мать. Хотя, конечно, он был бы не против, если бы ребенок походил на свою мать. Нет, нет. Он вовсе не так мелочен. Когда Элуэлу еще не было двух лет и он только начинал говорить, отец научил его забавной старой песенке: «Жили-были три котенка, три пушистые зверька»… Доходя до слов «им хотелось», он останавливался и спрашивал: «Чего?» — «Пилоська!» — в восторге кричал малыш, и это, конечно, должно было означать: пирожка. Какие это были счастливые дни, когда он гулял с Элуэлом, взяв его на руки или посадив на плечо, и вечера, когда малыш засыпал у него на коленях… И Эрнестина была тут же и радовалась, что он так любит сына и ее, главное — ее. Но как раз в этом она ошибалась: даже тогда он ее не любил. Всю свою нежность он отдал Элуэлу, а жена видела в этом свидетельство его растущей, непреходящей любви к ней — странная логика! Как видно, таковы женщины, во всяком случае некоторые. А потом мальчик вдруг тяжко заболел; это была какая-то загадочная болезнь, возбудитель которой еще неизвестен, быть может, детский паралич… и Элуэла не стало. И то, что прежде было им, отвезли на заброшенное, неприветливое кладбище близ Вудлона. Как это было страшно! И с каким отчаянием предался он тогда горьким, безнадежным мыслям о бренности всего земного. Казалось, вся красота, вся радость ушли из жизни навсегда. «Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения, — читал в день похорон священник, приглашенный в дом по настоянию миссис Хеймекер. — Ибо жизнь наша проходит, как тень, и нет нам возврата от смерти». Да… маленький Элуэл прошел, словно тень. И как ни велико было его собственное горе, Хеймекер в первый и единственный раз за все время, что они были женаты, от души посочувствовал Эрнестине — ведь она была в таком отчаянии и после похорон так горько рыдала, припав головой к его плечу. Страшно было смотреть, как она убивалась. Потерять первенца — что может быть горше для матери? Почему, почему он не попытался сделать так, чтобы Эрнестина стала по-настоящему близка ему? И ведь в то время она казалась лучше, мягче, добрее, умнее, чем когда-либо, он и не думал, что она может быть так достойна уважения и любви. Во время болезни сына она не знала ни минуты отдыха, ночами не смыкала глаз, ухаживала за ним так преданно, так нежно, делала все, что только может сделать мать, которая борется за жизнь своего ребенка. Но и тогда он не мог по-настоящему ее полюбить. Пусть это и горько, и бессердечно, но он не мог ее любить. Он только думал о ней лучше, чем прежде, и очень жалел ее. Что за проклятье, под какой несчастливой звездой рождается человек, что так запутаны его мысли и чувства? Почему достоинства человека, его добродетели не помогают полюбить его, привязаться к нему, преодолеть неприязнь? Почему? Он и хотел бы относиться к Эрнестине по-иному, но так и не смог ничего изменить. И, однако, казалось, никогда еще он так не понимал и не ценил ее, как в то время: она прекрасная хозяйка, аккуратная, бережливая, даже до известной степени понимает и любит красоту, ей свойственно похвальное стремление что-то делать и что-то значить… но не по душе ему были эти ее честолюбивые стремления, и не мог он не видеть, что она существо безнадежно заурядное и ограниченное. Эрнестина никогда не знала душевных порывов, сильных чувств, ей не хватало внутреннего благородства. Что бы он ни говорил, что бы ни делал, она неизменно сводила все к денежным расчетам, к тому, что скажут, что подумают соседи, как это отразится на репутации ее и мужа; он знал, что ум и талант можно встретить и у человека без денег, без доброго имени, без положения в обществе, а она никак не могла этого понять, и сколько он ни пытался, никакими силами не мог переубедить ее, — она просто не желала ничего слушать. Вот, например, большие художники. Иные из виднейших архитекторов, и сейчас живущих здесь, в городе, — это люди со странным, даже неприглядным прошлым, а мало ли таких случаев знает история… Но нет, Эрнестине не понять этого, да и что ей история? Ей непонятны и неинтересны темные, безрадостные страницы прошлого, и едва ли она им верит. А что касается искусства и людей искусства… нет, никогда она не поверит, что мудрость и талант художника, благородство души могут зародиться в условиях, которые иначе как дурными и пагубными не назовешь. Взять хотя бы историю с молодым Зингарой. Они познакомились больше тридцати лет назад, когда Зингара впервые приехал сюда, в Нью-Йорк; молодой, талантливый, он стремился стать выдающимся архитектором, — но был очень беден, плохо и небрежно одет и производил не слишком благоприятное впечатление. Хеймекер встретился с ним за несколько лет до своей женитьбы в мрачной, неуютной конторе архитекторов Пайна и Стабода и сразу почувствовал к нему симпатию; но Зингара не выпускал изо рта сигарету, вид у него был запущенный и неопрятный, в кармане ни гроша — и хотя к тому времени, как Хеймекер женился на Эрнестине, он был знаком с Зингарой уже около четырех лет, она не пожелала, чтобы он бывал у них. В ее глазах он был ничтожеством, неудачником, которому никогда не добиться успеха. Однажды, проходя мимо какого-то дешевого ресторанчика, она заметила Зингару в обществе сомнительного вида девицы, — после этого она и слышать о нем не хотела. «Пожалуйста, дорогой, никогда больше не приводи его к нам», — потребовала она, и, чтобы сохранить мир в доме, он уступил. А что получилось? Зингара с тех пор стал известным архитектором, но по милости Эрнестины они теперь, разумеется, совершенно чужие друг другу. Это он, Зингара, выстроил «Клуб Эскулапа», и удивительно изящный концертный зал, и Уэлс Билдинг с чудесной башней, такой стройной, устремленной ввысь, точно мысль поэта. Но при этом Зингара давно уже замкнулся в себе, живет отшельником, мечтателем, как и он, Хеймекер, и совершенно равнодушен к тому, что подумают, что скажут люди. Быть может, не просто душевная глухота, невосприимчивость к каким-то более утонченным сторонам и явлениям жизни, а требовательное упрямство, идущее от ограниченности, заставляло Эрнестину непременно бывать всюду, где можно встретиться с преуспевающими людьми, а это для нее означало с людьми богатыми, — и, как правило, это были личности заурядные или даже совсем ничтожные. И эта ее черта возмущала его больше всего. Сколько раз он пытался объяснить ей, что человеческие достоинства бывают подлинные, а бывают и мнимые и что по-настоящему достойный человек редко обладает большим богатством. Но нет, сколько раз она приписывала необыкновенные достоинства людям, у которых, в сущности, кроме туго набитого кошелька, ничего за душой не было. А как росли, воспитывались, начинали свою семейную жизнь их младшие дети — Уэсли и Этельберта, сколько тревог и огорчений принесло ему все это! Маленькими оба были очень милы и близки ему, хотя никто из них не завладел его сердцем так, как Элуэл. Но дети подрастали, и как-то случилось, что между ними и отцом встала Эрнестина. Прежде всего она приучала их держаться очень чопорно и церемонно, они не смели ни двинуться, ни заговорить просто, естественно: так воспитывали детей разбогатевшие выскочки, с которыми он ее познакомил; в этих семьях все казалось ей превосходным, хотя ему многое там было не по душе. Архитектура — профессия, которая подчас ставит человека в двусмысленное положение: сталкиваешься с самыми разными людьми, и из чисто практических соображений приходится быть с ними любезным, особенно если твоя карьера только начинается. Потом пришла пора отправить детей в школу, но в какую? Он думал определить их в обычную городскую школу, в какую ходили когда-то и он и Эрнестина, — ведь их родители были люди простые, небогатые. Но она решила иначе: теперь у них есть известный достаток, и поэтому надо отдать детей в частную школу, причем не в ту, которую выбрал бы он и даже она сама, а именно в ту, где учились дети Барлоу и Уэстеруэлтов — она была в дружбе с этими состоятельными семьями, и все, что они делали, казалось ей превосходным. Семейство Барлоу! Люди богатые, но грубые и ничем не примечательные, они нажились на изготовлении патентованных лекарств где-то на Западе, а потом приехали в Нью-Йорк пускать пыль в глаза; они охотно завязали более тесное знакомство с Хеймекерами, — он построил для них особняк, и у него было уже имя; хотя, пожалуй, они симпатизировали не столько ему, сколько Эрнестине. Они были такие нудные, такие несуразные, невыносимо тупые, и, однако, они нравились Эрнестине, она считала их людьми порядочными, достойными, говорила, что они очень хорошие и напоминают ей ее родных, оставшихся на Западе. Но Барлоу отнюдь не обладали всеми этими качествами, просто ей так казалось. Они и правда были на свой лад неплохие люди, только не отличались вкусом. Юного Фреда Барлоу определили в дорогую Гейлардскую школу близ Морристауна; мальчиков там обучали приличным манерам, правилам хорошего тона, — этим, пожалуй, все и ограничивалось, хотя Эрнестина уверяла, что их воспитывают добрыми христианами. Итак, пришлось и Уэсли отправить туда, — ведь это была самая лучшая школа. Так же точно и Этельберту пришлось определить в Брайарклифскую школу близ Уайт-Плейнс, потому что там училась Мерседес Уэстеруэлт, пустая, тщеславная девчонка. Подумать только! Все это было так глупо, нелепо. Он хорошо помнит, как долго и искусно Эрнестина подготовляла почву, уверяла, что это важно для будущего Этельберты, пускала в ход и самые хитроумные доводы и слезы, старалась всячески подольститься к нему. Когда она хотела чего-нибудь добиться от него, ей ничего не стоило расплакаться или сделать вид, что она вот-вот расплачется; и хотя он уже привык к этим притворным слезам и понимал, что им не велика цена, он не мог устоять перед ними, и жена прекрасно это знала. Слезы все равно и трогали и обезоруживали. Тут он ничего уже не мог поделать, хотя его и возмущало, что жена старается разжалобить его, чтобы взять над ним верх. Поистине миссис Хеймекер порой бывала хитра и безжалостна, как сам Макиавелли, и при этом воображала, будто она воплощение нежности, любви, самопожертвования, великодушия и тысячи других добродетелей, — все они служили для достижения ее собственных целей. Быть может, с чьей-нибудь точки зрения такой настойчивостью следует восхищаться, однако его это всегда возмущало. Но как быть, если человек неспособен понять и увидеть самые серьезные свои недостатки и противоречия? А с другой стороны, к тому времени они уже столько лет были женаты, что, казалось, бросить ее просто невозможно. Притом они уже занимали определенное положение в обществе, хотя, в сущности, это было только его заслугой, да и то он мог бы достичь большего. При всей своей снисходительности он понимал, что Эрнестине никогда не привлечь в дом людей действительно выдающихся. Но как бы там ни было, даже намек на разрыв между ними, на раздельную жизнь или неверность (хотя он, в сущности, никогда не собирался ей изменять) повлек бы за собой бесконечные пересуды, пожалуй, повредил бы ему в глазах общества, отразился бы на его делах. От него отвернулись бы все их влиятельные друзья, бывшие его клиенты. Их жены, да и сами они побоялись бы продолжать знакомство с человеком, подрывающим моральные устои, и изгнали бы его из своей среды. Какой разыгрался бы скандал: известный архитектор грубо порвал с такой доброй, преданной и любящей женой! И, пожалуй, это и правда было бы грубо и жестоко. Трудно сказать, слишком все смешалось и перепуталось. А женитьба Уэсли на Ирме де Го? Глава семейства Джордж де Го, в прошлом всего-навсего спекулянт недвижимостью и маклер, был примечателен только тем, что у него водились деньги. Его дочь Ирма — вульгарная, грубая, чувственная — была, несомненно, хороша собой и считалась богатой невестой. Ну, а еще что? Ничего, буквально ничего. А ведь у Уэсли на первых порах как будто были какие-то духовные запросы. Надо думать, что Эрнестина сблизилась с миссис де Го — женщиной ничтожной и недалекой — главным образом ради Уэсли. Так или иначе, обе они всячески поощряли Уэсли и старались, чтобы Ирма благосклонно принимала его ухаживания. А что из этого вышло? Джордж де Го обанкротился и оставил дочь без гроша. Ирма с самого начала интересовалась чем угодно, только не карьерой Уэсли. Она подражала людям, которые казались ей самыми блестящими и преуспевающими среди богатых выскочек, — даже Эрнестина не мечтала о знакомстве с такой шикарной, ни в чем не знающей удержу золотой молодежью. Ирма и по сей день только и способна думать что о приемах, загородных клубах, театрах. Уэсли давно уже это понимает. Он теперь инженер, служит в одной из крупнейших строительных компаний, положение его довольно скромное. Но даже у Эрнестины, которая сама сосватала их, воображая, что они будут идеальной парой, теперь зуб против Ирмы. Она разобралась в невестке лишь через несколько лет, когда та совершенно перестала с ней считаться, а вначале только и разговору было, что о достоинствах семьи де Го. Господи, кто же не хотел бы породниться с де Го, где сыскать лучшую невестку, чем Ирма? А потом между Ирмой и Уэсли начались нелады, и теперь Эрнестина утверждает, что это Ирма мешала и мешает Уэсли выдвинуться. Не такая жена нужна ему. Несмотря на все свои предрассудки, Эрнестина едва ли не желала, чтобы Уэсли разошелся с Ирмой. Но попробовал бы ее собственный муж заговорить о разводе! А ведь с самого начала Эрнестина хотела, чтобы сын женился на Ирме именно из-за положения де Го. Теперь Уэсли, не думая об отдыхе, хватается за любую работу, и все для того, чтобы Ирма могла вращаться в обществе светских кутил, и отнюдь не первосортных. И притом она еще, как видно, неверная жена. Есть слишком много оснований так думать. Да, но стоит ли ему теперь вмешиваться в их дела? Чем тут поможешь? Уэсли просто надоел Ирме, вот и все. Она, несомненно, уже смотрит в сторону. Ну, а как было с Этельбертой? Одно имя чего стоит! Эрнестина очень хотела сделать дочь счастливой и при случае поставить это себе в заслугу, а что вышло? Правда, в материальном отношении замужество Этельберты несколько удачнее, чем женитьба Уэсли, но разве она счастлива? Этот Джон Килсо — Джек, как называет его Этельберта, — что он такое? Легкомысленный бездельник, ничтожество, только и умеет швырять деньгами. Конечно, родители поддерживают его, но вряд ли это ему на пользу. Вначале он тоже казался Эрнестине прекрасным, очаровательным мальчиком, самой подходящей партией для Этельберты, а все потому, что его родители состоятельные люди. Старик Килсо разбогател на биржевых спекуляциях в Чикаго, а потом перебрался в Нью-Йорк, чтобы пожить в свое удовольствие; Этельберте тогда было лет пятнадцать, и в школе она познакомилась с Грейс Килсо. И вот полюбуйтесь, Этельберта довольно мила, умеет держать себя, хотя и чересчур жеманна; она богата, у нее великолепная квартира на Парк-авеню, ну, а дальше что? Джон Килсо совершенно ни на что не способен. С детства родители безотказно давали ему деньги, потакали всем его прихотям, готовили его для высокого положения в обществе; будь он и не окончательно глуп, такое воспитание неминуемо должно было его погубить. Пустой, легкомысленный, вечно в погоне за развлечениями, он очень похож на Ирму де Го. Вот была бы подходящая пара, только они друг друга терпеть не могут. А как усердно и как тонко Эрнестина ухаживала за семейством Килсо, сколько устраивала вечеров, приемов, выездов в театр! Но ни с родителями, ни с детьми совершенно не о чем говорить. И как-то так вышло, что, хотя вначале он и любил дочь и сейчас все еще привязан к ней, Этельберта постепенно отошла от него и выросла ограниченной, недалекой, вся в мать, и всегда охотнее прислушивалась к материнским, чем к отцовским советам; но его это, в сущности, мало трогает. Ведь так было и с Уэсли. Впрочем, дети имеют право на свои симпатии и антипатии, насильно мил не будешь… Но зачем он все это терпел? Ради чего? Чего он достиг, чего добился? Разве у них такие уж хорошие, такие необыкновенные дети? И разве сами они счастливы? Разве не лучше жилось бы ему без Эрнестины? Возможно, и дети у него были бы лучше от другой женщины, а у нее — от другого мужа? И разве не правильней было бы тогда, в молодости, разорвать эту несчастную помолвку? Конечно, пришлось бы пережить немало горьких минут, и все ополчились бы на него, зато он был бы свободен, мог бы ездить куда хотел, делать что хотел, мог совсем иначе построить свою жизнь. Вот Зингара разумный человек — он вовсе не женился. А он? Ох уж этот вечный страх перед общепринятой моралью, длинный перечень запретов, которыми он сам себя запугивал… Он дал себя провести бог весть почему, вот и все. Быть может, виной тому малодушие, боязнь нарушить приличия, страх перед тем, что о нем подумают, что скажут. Да, дорого обошлось ему почтительное отношение к прописным истинам и нравственным устоям, желание жить в мире и согласии с обществом, чтобы никто не мог осудить его самого, его жену и детей — ради этого он загубил свою жизнь. Он старался соблюсти приличия, а кончил духовным крахом. Но теперь с этим покончено. Эрнестина больна, при смерти, и все вокруг воображают, будто он хочет, чтобы она поправилась, хочет счастливо прожить с ней еще долгие годы. Счастливо! Нет, он не хочет этого, просто не может хотеть. Он даже не хочет, чтобы она выздоровела. Это ему просто не под силу. Мысль, что она не сегодня-завтра может умереть, приносит ему странное облегчение. Это не так уж много, но все же это кое-что — несколько лет свободы. Да, это кое-что. Он еще не так стар, и у него впереди несколько лет мирной, спокойной жизни… и… и… мечта, та былая мечта… Наверно, она уже никогда не сбудется. Это невозможно, а все же… все же… хорошо бы снова стать свободным, жить, как хочешь, делать, что хочешь, гулять, размышлять, грустить обо всем, чего у него не было в жизни… обо всем, чего у него не было. Да, но стоит ему взглянуть на бледное, изможденное лицо жены, дотронуться до бессильной, влажной руки — и это желание слабеет и уже не так хочется свободы. Слишком это жестоко, слишком бесчеловечно… Но только… только… Так он мучился, сам не зная, чего хочет. Да, несмотря на то, что она всегда так упорно гналась за успехами, которые казались ему ненужными, бессмысленными, несмотря на все, что ему пришлось вынести, он не желал ей смерти, но и не мог от души желать выздоровления. Что ж, пусть живет, если ей суждено поправиться. Не все ли равно теперь — выздоровеет она или умрет? Глядя на нее, он невольно представлял себе, как беспомощна она оказалась бы без него, какое это было бы несчастье в ее годы. Всю жизнь она отдала ему и детям, всегда считала себя идеальной женой и матерью, — ведь у нее и цент не пропадет даром, она делает все для блага и счастья семьи. Да, все это так, и это очень трогательно, конечно. Но что толку! На другое утро — это был уже второй день после разговора с доктором Стормом — Хеймекер на рассвете снова сидел у окна, и снова его одолевали невеселые думы. В тысячный, в десятитысячный раз он приходил все к одному и тому же — жизнь не удалась. Если б только стать свободным, хоть ненадолго, просто чтобы побыть одному, подумать, постараться понять, чего еще можно ждать от жизни. Правда, сегодня в его мыслях появилось нечто новое. Дело в том, что накануне Эрнестине стало хуже, доктор Сторм пригласил для консультации доктора Грейнгера, и решили сделать ей сегодня переливание крови — к этому крайнему средству врачи прибегают лишь в самых тяжелых случаях. Кровь возьмут у крепкого малого, отставного кавалериста, и останется лишь ждать и надеяться. А думы по-прежнему не дают покоя. Что если ей уже нельзя помочь и она умрет? Каков-то он будет в собственных глазах? Немного погодя он заглянул к Эрнестине; она еще спала. Видимо, она очень ослабела, сиделка сказала, что и пульс теперь хуже. И опять ему стало жаль ее, но ненадолго, — когда она проснулась, ей как будто полегчало. Потом он поднялся в столовую, где по утрам завтракала сиделка, сел рядом с ней, — это вошло уже у него в привычку за время болезни Эрнестины, — и спросил: — Ну, как она сегодня? Все эти дни они завтракали вместе — ночная сиделка и он. Сиделка, мисс Филсон, такая милая, спокойная, изящная; у нее светлые волосы, розовые щеки, голубые глаза, такие глаза всегда наводили его на мысли о любви, о молодости, которой он, в сущности, так и не видал. Сегодня мисс Филсон была необычно серьезна, словно она опасалась худшего, но старалась этого не показать. — По-моему, не хуже, пожалуй, даже чуть лучше, — ответила она, сочувственно глядя на него. Он видел, что и она жалеет его — старика, который вот-вот останется один. — Пульс немного ровнее, почти нормальный, и спала она хорошо. Вот в девять часов приедут доктор Грейнгер и доктор Сторм, они решат, что делать дальше. Если они найдут, что ей хуже, они, наверно, попробуют переливание крови. Донора уже нашли. Доктор Сторм велел дать ей крепкого бульону, когда она проснется. Миссис Элфридж уже готовит его. Во всяком случае, если вашей жене и хуже, то ненамного, а это, по-моему, уже само по себе хороший признак. Хеймекер пристально глядел на нее из-под нависших седых бровей. Он так устал, был так угнетен, и не столько из-за того, что ему почти не удавалось спать последние ночи, сколько из-за противоречивых мыслей, то и дело бросавших его из одной крайности в другую. Неужели ему так никогда и не понять, чего же он на самом деле хочет? Неужели это неразрешимая задача для его ума и сердца? Почему он не может думать и чувствовать, как все, и жить спокойно, в согласии с самим собой? Мисс Филсон рассказывала что-то о других сердечных больных, которые считались безнадежными, но выздоровели и жили потом долгие годы; а он слушал и думал о том, как мрачно и странно все сложилось, как бессмысленно прошла жизнь, как смутно у него на душе. Почему он такой? Как это странно: порой он чувствует себя почти злодеем, порой — чересчур мягкосердечным. Прошлой ночью, глядя на Эрнестину, лежащую в постели, и сегодня утром, пока он не увидел ее, он думал: если бы только она умерла, если б только снова стать свободным, даже сейчас это еще не поздно. Но когда он увидел ее сегодня и когда мисс Филсон заговорила о переливании крови, ему опять стало жаль ее. Что даст ему ее смерть? Почему он хочет убить ее? Разве такие преступные мысли не повлекут за собою кары в этом мире или в том? А вдруг дети догадаются? Если она и правда умрет — а ведь он так жаждал этого еще только сегодня утром, — каково ему тогда будет? В конце концов Эрнестина не такая уж плохая. Разве она не старалась быть ему хорошей женой? Просто у нее ничего не получилось, а он не смог полюбить ее, вот и все. И он снова упрекал себя за свои злые, жестокие мысли. Оба врача сочли, что больной не стало лучше и пора прибегнуть к первому способу переливания крови — перекачиванию непосредственно от донора; это должно хорошо подействовать на нее, если только организм усвоит кровь. Прежде чем приступить к переливанию, врачи еще раз обратились к Хеймекеру, и он, чувствуя себя бесконечно виноватым, просил их не останавливаться ни перед какими расходами. Если ее жизнь в опасности, пусть ее спасут любыми способами, чего бы это ни стоило. Ее жизнь так дорога и ему и детям, говорил он. Ну, вот, он сделал все, что мог, все, что от него требовалось, кроме одного: даже теперь, помимо собственной воли, он не мог от души пожелать ей выздоровления. Наглухо замкнутый в кругу приличий и обязанностей, он был слишком измучен. Но если она оправится — врачи считают, что переливание крови поможет, — даже если она окончательно победит болезнь, придется увезти ее на лето куда-нибудь в горы и долгие, долгие дни быть с ней с глазу на глаз, пока она не поправится. Что ж, он не станет жаловаться. Ну, разумеется. Он это сделает. Конечно, ему будет тошно, как всегда, но было бы уж слишком бесчеловечно — дать ей умереть, когда есть возможность спасти ее. Да, это так. Но только… Он отправился в контору, а тем временем ей сделали переливание крови, и, по-видимому, удачно. Дневная сиделка позвонила ему в три и сказала, что миссис Хеймекер лучше, гораздолучше. Больше ему не звонили, а в половине шестого он вернулся домой и зашел взглянуть на Эрнестину — она полулежала на подушках и казалась совсем бодрой, давно уже она не была такой. И сразу его настроение снова изменилось. Удивительно, как непостоянны его желания, смена их происходит без участия его воли, так же как любой жизненный процесс в организме, и это очень странно для человека, который, казалось бы, знает себя; а впрочем, может ли вообще человек знать, чего ему надо? Теперь она не умрет и все опять пойдет по-старому. Да, конечно. Что ж, остается только покориться, снова свыкнуться все с той же мыслью, что жизнь загублена. Теперь ему никогда уже не стать свободным. Все снова пойдет по-старому, и завтра и послезавтра одно и то же… Ужасно! Конечно, очень хорошо и отрадно, что она бодра, что есть надежда поставить ее на ноги, — и все-таки… все пошло прахом, он связан, связан навсегда. Ночью, лежа в постели, он говорил себе: «Теперь она поправится. Все пойдет по-старому. И я никогда уже не буду свободен. У меня не будет ни одного дня, ни одного! Никогда!» А на другое утро с удивлением и испугом, а может быть, и с тайной радостью он узнал, что ей опять хуже, и опять упрекнул себя за черные мысли. Может быть, он убивает ее этими мыслями? Этими бесконечными колебаниями? Может быть, его недобрые желания имеют какую-то силу? Чем он лучше убийцы? Подумать только, а вдруг отныне он всегда будет сознавать, что убил ее своими мыслями? Ведь это будет просто невыносимо, как тогда жить? Почему он такой? Неужели ему чужды обычные человеческие чувства? В половине десятого приехал доктор Сторм, вызванный по телефону сиделкой; он был особенно серьезен и сказал, что теперь надо попробовать лошадиную кровь: она гуще человеческой и, введенная в виде сыворотки, лучше воспринимается организмом. Хеймекер был вне себя, его мучили угрызения совести, тоска, страх. Конечно, всему виной то темное, злое, что он передумал прошлой ночью и вообще в последние дни. Неужели он в глубине души убийца, тайный преступник, задумавший убить ее, — и за что? Почему еще минувшей ночью он желал ей смерти? Теперь, как видно, ее положение безнадежно. — Сделайте все, что только в ваших силах, — сказал он доктору Сторму. — Если еще можно спасти ее, спасите, не останавливаясь ни перед чем. — Конечно, мистер Хеймекер, — сочувственно ответил врач. — Будет сделано все, что возможно. Будьте спокойны. Я думаю, мы просто вчера ввели слишком маленькую дозу; кроме того, человеческая кровь недостаточно густа для данного случая. Вливание, конечно, поддержало больную, но этого еще мало. Посмотрим, что можно сделать сегодня. Дела не ждали, и Хеймекер, угнетенный и подавленный, отправился в контору. Он снова решил больше никогда не давать волю черным мыслям и желаниям, избавиться от них, чего бы это ему ни стоило. Они бесчеловечны. И в конце концов какими-нибудь тайными, неведомыми путями они обратятся против него самого. Эти мысли, наверно, губят Эрнестину. Пусть она выздоровеет, если это возможно, он не должен ей мешать. Да, как ни тяжело, придется снова принести себя в жертву. Иначе и нельзя поступить. Что уж теперь жаловаться, когда чуть ли не вся жизнь позади! И что значат еще несколько лет? Он вернулся домой успокоенный — теперь он полон добрых намерений, и сиделка в три часа сообщила по телефону, что жене гораздо лучше. Второе вливание прекрасно подействовало. Оно, несомненно, помогло ей. У нее прибавилось сил, и она даже некоторое время сидела в постели. Когда в пять часов он зашел к ней, она лежала бледная, слабая, но глаза стали живее, щеки как будто чуть порозовели, и она едва заметно улыбнулась ему, — сразу чувствовалось, что ей лучше. Как внимателен доктор Сторм, какой он прекрасный врач! И как находчив! Только бы она теперь выздоровела. Только бы миновала эта страшная опасность! В восемь доктор Сторм снова придет. — Ну, как ты, дорогой? — спросила Эрнестина, взяв его руки в свои и с любовью и нежностью глядя на него. Он наклонился и поцеловал ее в лоб, и на сей раз это уже не показалось ему поцелуем Иуды. Сегодня он добр и великодушен, ему искренне хочется, чтобы она осталась жить. — Я-то хорошо, дорогая, а вот как ты? На улице уже настоящая весна. Скорей выздоравливай, в такие дни грешно хворать. — Я скоро поправлюсь, — тихо ответила она. — Мне гораздо лучше. А как твои дела? Как подвигается твоя работа? Он кивнул, улыбнулся и стал рассказывать ей кое-какие новости. Звонила Этельберта, сказала, что придет и принесет фиалок. В шесть часов приедут Уэсли с Ирмой. Знакомые справлялись о ее здоровье. Как мог он быть таким бессердечным? — спрашивал он себя. — Как мог желать ей смерти? Она не такая уж плохая, она даже по-своему милая, кому-нибудь другому она была бы идеальной женой. У нее такое же право жить и наслаждаться жизнью, как и у него, и в конце концов она — мать его детей, и они столько лет прожили вместе. Да и день выдался такой хороший, вот и сейчас за окном чудесный майский вечер. А какой воздух, какое небо!.. И все подернуто нежно-лиловой дымкой. Звонит телефон, опять кто-то справляется о состоянии Эрнестины. Горничная говорит, что звонят без конца, особенно сегодня, и подает ему длинный список. Интересно, у Эрнестины, оказывается, больше друзей, чем у него, — такая она добрая, порядочная, достойная женщина. Зачем желать ей зла? Он обедал с Этельбертой и Уэсли и весело болтал с ними; давно он не чувствовал себя так легко. Бесконечные за и против больше не мучили его, и на душе было спокойно. Он расспрашивал детей, как они живут, как внуки. В половине девятого опять приехал доктор Сторм и заявил, что, судя по всему, дела миссис Хеймекер пошли на поправку. — Я полагаю, теперь есть надежда на полное выздоровление, — сказал Сторм. — Если одна-две ночи пройдут благополучно, без ухудшения, я думаю, что все уладится. У нее как будто прибавилось сил. Однако успокаиваться еще рано. Это очень коварная болезнь. Посмотрим, как больная будет чувствовать себя завтра, может быть, понадобится еще одно переливание крови. Сторм ушел, а в девять часов уехали и Этельберта с Уэсли, попросив звонить им, если матери станет хуже, и он снова остался один. Он сел и задумался. Потом на несколько минут заглянул к жене — сегодня, как и все эти дни, врач предписал ей полный покой — и пошел спать. Было одиннадцать часов. Он очень устал. Противоречивые мысли истерзали его, нечистая совесть мучила, и он все время чувствовал себя усталым, но сегодня он непременно уснет. И сам он не совсем уж плох, да и жизнь не так уж плоха. Сегодня он думал и поступал, как надо. Нельзя было поддаваться тем черным мыслям. И все же… все же… Он лежал на кровати и смотрел в окно, ему виден был уголок парка: покрытые нежной весенней листвой, серебрились под луной деревья, блестел край озера. Здесь, в городе, каждый кустик, каждый зеленый уголок такая редкость, только богатый человек может себе это позволить. В юности Хеймекер был прямо влюблен в воду, его радовало каждое озерко, пруд, ручеек. В юности он любил гулять по ночам при луне. Это всегда навевало мысли о любви, о счастье, а он так страстно мечтал о любви и о счастье, но мечты его не сбылись. Однажды он сделал проект яхт-клуба, фундамент был облицован искусно отесанным камнем — точно застывший прибой лизал стены. В другой раз, много лет назад, он задумал построить дачу или загородный дом для себя и для той — удивительной, чудесной, которая, быть может, полюбит его, если он будет когда-нибудь свободен. Как это было бы необыкновенно хорошо! Но теперь, в этот час, самая мысль об этом казалась кощунственной, жестокой, злой, эгоистичной, безнравственной… и ведь все равно уже слишком поздно. Он отвернулся от окна, за которым все залито было лунным светом, и вздохнул, — надо спать, надо отогнать от себя эти старые, темные и вместе с тем такие сладкие мысли… и он отогнал их. Хеймекер задремал, и ему почудилось, что какая-то необыкновенно прекрасная женщина, сама красота, воплощение всего, к чему он так стремился, подошла, взяла его за руку и повела куда-то вдаль, мимо покрытых рябью ручьев, мимо прозрачных озер, по прямой широкой дороге, вдоль которой стояли величественные храмы, башни, статуи из белого мрамора. Он шел, и казалось — что-то обещано ему… его ждет нечто прекрасное, чего он так жаждал… только тот таинственный край, куда он шел, был еще окутан тенью, и на душе было грустно и тревожно оттого, что впереди простиралась темная даль. Он был уже на пути к красоте и все еще искал, искал, но было темно, и тогда… — Мистер Хеймекер! Мистер Хеймекер! — донеслось до него сначала едва слышно, почти таинственно, потом яснее, тревожнее, и кто-то дотронулся до него. — Скорей вставайте! Миссис Хеймекер… Он вскочил, накинул синий шелковый халат, висевший у изголовья, и кинулся к двери, на ходу завязывая пояс. Миссис Элфрид и сиделка, бледные, растерянные, в отчаянии ломали руки, и он понял: настало самое страшное. Но вот и ее спальня. Она лежит, как живая, — тихая, спокойная, вся какая-то поникшая; похоже, она просто спит, ее тонкие и, как ему иногда раньше казалось, недобрые губы слегка улыбаются снисходительной улыбкой… или это лишь след улыбки. Случалось, он видел у нее такое выражение: такая снисходительная и такая умная улыбка, умнее, чем она сама. Ее длинные, тонкие, изящные руки легли ладонями вверх, пальцы слегка разжались, словно она устала, очень устала. И веки тяжело опустились, навсегда закрыв усталые глаза. Одеяло не скрывало очертаний худого тела. Мисс Филсон, ночная сиделка, растерянно говорила что-то о том, как она на несколько минут задремала, а когда очнулась, все уже было кончено. Она была страшно подавлена и расстроена, может быть, боялась доктора Сторма. Хеймекер стоял и смотрел, глубоко потрясенный, — ничто ни разу так не потрясло его с тех пор, как умер маленький Элуэл. В конце концов ведь она старалась, как умела, быть ему хорошей женой… Сколько лет они прожили вместе — и вот ее нет. Слезы застлали ему глаза, он шагнул к постели и осторожно, стараясь не задеть ее руку, опустился на колени. — Эрни, родная… Эрни, неужели тебя не стало? — скорбно сказал он, но собственный голос показался ему фальшивым, лицемерным. Он взял ее руку и печально поднес к губам; потом прижался лбом к ее виску, вспоминая неотвязные, противоречивые раздумья всех этих дней, а миссис Элфрид и сиделка смотрели на него, утирая слезы: им было так жаль его, одинокого старика! Немного погодя они уговорили его встать; он поднялся безмерно подавленный, с отсутствующим видом и попросил миссис Элфрид и сиделку не беспокоить пока детей. Ведь все равно они уже ничем не помогут матери. Пусть спокойно спят до утра. Потом он вернулся к себе в комнату, присел на постель и с минуту остановившимся взглядом смотрел на залитый серебряным светом парк, который был все так же прекрасен. Ужасно. Так, значит, его недобрые желания, наконец, осуществились. Неужели это его злая воля убила ее? Возможно ли? Неужели это грозный ответ на его безгласные мольбы? И знает ли она теперь, о чем были его тайные помыслы? Страшно подумать. Где она теперь? Что думает о нем, если знает? Возненавидит ли его, станет ли преследовать? Еще не рассвело, всего два или три часа, и по-прежнему ярко светит луна. А она лежит в соседней комнате, бледная, холодная, навсегда ушедшая отныне из его жизни. Немного погодя он поднялся и прошел в гостиную, где так любил сидеть у окна; потом вернулся в спальню жены. Быть может, здесь, где еще совсем недавно была она, а теперь лежит это мертвое тело, он скорее сумеет собраться с мыслями. Видит она или не видит… знает или нет… теперь уже все кончено. Но только он невольно чувствует себя виноватым. Она была такая преданная, так заботилась о нем и о детях, уж в этом-то ей не откажешь. И в эти последние дни надо было пощадить ее, не давать волю тем черным мыслям. В его чувствах царил хаос, он никак не мог привести их в порядок. Однако надо как-то разобраться, в чем же он виновен, откуда взялось его озлобление, досада его, неприязнь к жене, иначе не будет покоя. Необходимо разобраться… но как, как? Он условился с миссис Элфрид не беспокоить ночью доктора Сторма. И они решили хоть немного отдохнуть до утра. Потом он снова пошел в свою любимую комнату — посидеть у окна и поглядеть на парк. Может быть, здесь удастся разгадать эти загадки, продумать все до конца, понять наконец, каковы же его истинные чувства. Да, конечно, очень дурно было желать того, чего он желал. Ну, а как же он сам, его жизнь?.. Занимался рассвет, небо на востоке чуть побледнело, и тьма в комнате стала не такой густой. Из высокого зеркала в простенке на него смотрел усталыми глазами худощавый, сутулый человек с всклокоченной бородой и растрепанными волосами. Как страшно не вяжется все это с мечтами о свободе, о счастье… Какая злая насмешка! Какое крушение! Где уж ему, такому, мечтать о счастье, любви, даже если он свободен! Стоит лишь посмотреть на себя в зеркало. Вот он — старый, седой, сразу видно — конченый человек. Как мог он давным-давно не понять этого? Что за нелепость! Как мог он поддаться таким пустым мечтам? На что теперь надеяться? Ни одна красивая женщина теперь и не посмотрит на него, конечно нет. Сияющей мечте его юности никогда не сбыться. Это был мираж, призрак. Ничто уже не может измениться для него — все равно, жива его жена или умерла. А все же он свободен, наперекор всем своим сомнениям и колебаниям. Но притом он стар, измучен — нелюдимый чудак, конченый человек. Как безмерно жестока жизнь, как беспощадно насмехается она над ним, как она неизменно равнодушна к человеческой судьбе… Что видел он на своем веку? Как мало хорошего выпало ему на долю. Угрюмо смотрел он на свое смуглое, изборожденное морщинами лицо — морщины вокруг глаз, на лбу; глубокая складка меж бровей; смуглые, в морщинах руки, а ведь когда-то они были красивы; худое, угловатое, утратившее гибкость тело. Когда-то он был не из тех, мимо кого можно пройти, не заметив, — красивый, сильный, энергичный, а теперь!.. Он отвернулся к окну и посмотрел на одетые молодой листвой деревья, на озеро, на розовую полоску зари… да, сейчас оно исполнено особого значения, это рождение нового дня, так волшебно нового для тех, кто молод… Потом снова взглянул на свое отражение в зеркале. Чего ему теперь ждать? На что надеяться? И тут ему снова вспомнился этот сон — странный сон, когда он чего-то искал и его куда-то вели, и ему было обещано что-то прекрасное впереди, но тот край, куда его вели, отступал все дальше в туманную мглу. Что значил этот сон? Быть может, он был полон глубокого смысла? Быть может, все теперь станет еще более смутным и темным? Может быть, это символ всей его жизни? Может быть… может быть… — Свободен! — наконец вымолвил он. — Свободен! Теперь я знаю, что это значит. Наконец я свободен! Да, свободен… Свободен — умереть! Так он и стоял у окна, погруженный в раздумье, машинально проводя рукой по бороде, по волосам…Репортаж о репортаже
Представьте себе прокопченный город на Западе. Назовите его Омаха, или Канзас-Сити, или Денвер, лишь бы рядом протекала река Миссисипи. Вообразите в нем две соперничающие утренние газеты, две, и только две: «Звезду» и «Новости», сотрудники которых всеми силами стараются перехитрить друг друга. Среди сотрудников «Новостей» — из этих двух газет она чуть более высокого пошиба — вообразите себе мистера Дэвида Колинского, иначе (да, иначе!) Дэвида, или Рыжего Коллинза (это легкое номенклатурное изменение основано на следующих обстоятельствах: во-первых, он был южнорусский еврей, с виду точь-в-точь похожий на рыжеволосого ирландца, что, мне кажется, является особенностью южнорусских евреев; во-вторых, в Омахе, или Денвере, или Канзас-Сити быть ирландцем считалось как бы более distinguè[37], чем быть южнорусским евреем). Наделите его развязными самоуверенными манерами «жучка» или маклера. Снабдите его шикарным кричащим костюмом, брильянтовым кольцом, рубиновой булавкой в галстуке, желтовато-зеленой фетровой шляпой, желтыми ботинками, веснушками, насмешливо-презрительной улыбкой, и вот перед вами Рыжий Коллинз, как вылитый… Но это еще не все. В «Звезде» — а из этих двух больших ежедневных газет, каждое утро доводивших город до кипения страстей, она была чуть более низкого пошиба — поместите не кого иного, как мистера Огастуса Бинса, молодого (не старше двадцати двух лет), высокого, подтянутого, даже изящного, какими бывают молодые люди, окончившие колледж, конечно, литературно одаренного, благородно-честолюбивого, в золотых очках, с ручными часами и тросточкой, — словом, этакого многообещающего молодого джентльмена из разношерстной и нередко незадачливой пишущей братии, который имеет вполне определенные представления, не говоря уж про мечты о том, что именно газета и литературная профессия, вместе взятые, должны принести ему, и который вдобавок испытывает глубочайшее презрение ко всем существам, принадлежащим к породе Рыжего Коллинза, — ипподромным «жучкам», картежникам, сыщикам-любителям по уголовным и политическим делам. Вы, может быть, спросите, что же мистер Коллинз, каким мы его охарактеризовали, делал в такой солидной и уважаемой газете, как «Новости». Это длинная история, дорогие мои. Газета — учреждение своеобразное. Дело в том, что эта самая газета не так давно служила приютом блистательной особе самого мистера Бинса, и он был такой талантливый репортер, что ему не раз поручалось править или писать заново заметки, доставляемые Коллинзом, который в то время был связан с газетой лишь как взятый на испытание соглядатай. Это само по себе, по мнению мистера Бинса, уже было преступлением против искусства и литературы, ибо, строго говоря, мистер Коллинз литератором не был, писать не умел, а мог, в сущности, только доставлять материал, который, кстати сказать, как правило, оказывался преинтересным, особенно если принять во внимание, что в газете всегда были люди, умеющие писать, — например, мистер Бинс. То, что «Новости» пользуются услугами подобных субъектов и позволяют им щеголять званием «репортера» или «корреспондента», коробило, даже оскорбляло мистера Бинса, потому что он весьма высоко ценил «Новости» и гордился тем, что сотрудничает в этой газете. Но Коллинз! Рыжий Коллинз! Коллинз этот был из тех потрепанных, но отнюдь не обиженных жизнью евреев, которые благодаря несокрушимому упорству и силе воли выбиваются из поистине ужасающих условий существования. До пятнадцати или шестнадцати лет он никогда даже не видел ванны. Он был поочередно чистильщиком сапог, продавцом газет, ипподромным жучком, конюхом, трактирным слугой — кем только он не был! За последние годы — ибо он уже успел набраться житейской мудрости (ему шел двадцать шестой год) — в нем появилась склонность к азартным играм, равно как и к грязным политическим махинациям; кроме всего прочего, он был еще и полицейским осведомителем. Он был словно пария среди газетчиков, но редакторы спортивного и политического отделов считали его полезным. Они терпели его и хорошо платили за информацию, потому что информация эта всегда представляла несомненный интерес. Бэтсфорд, опытный редактор отдела происшествий «Новостей», плотный, грубоватый мужчина, по душевному складу более близкий к Коллинзу, нежели к Бинсу, хотя и не походивший ни на того, ни на другого, был первым начальником Бинса в газетном мире. Он не любил Бинса прежде всего за ручные часы, затем за массивные золотые очки, гораздо большего размера, чем нужно, и, наконец, за тросточку, которой тот помахивал с важным видом. Дело в том, что Бинс был уроженцем Востока, а редактор отдела происшествий — уроженцем Запада, и, кроме того, Бинса до некоторой степени навязал ему заведующий редакцией, желавший кому-то услужить. Но Бинс безусловно умел писать и доказал это. Он был энергичный репортер, тонко чувствовал слово и, главное, имел дар живо и драматично описывать все, что бы ни видел, — достоинство первейшего значения в повышенно эмоциональной атмосфере Запада. Он легко и уверенно управлялся с любым попадавшимся ему материалом и, по-видимому, всегда умел собрать все или почти все факты. С другой стороны, Коллинз, несмотря на всю грубость и, можно даже сказать, душевную бесчувственность, был тем, что Бэтсфорд называл практическим человеком. Коллинз знал жизнь. Он ни в малой мере не обладал художественным чутьем, присущим Бинсу, и все же… Бэтсфорда интересовало все, что делается в политических кругах и уголовном мире, и Коллинз всегда мог ему сообщить об этом, а Бинс — никогда. К тому же Бэтсфорд знал, что он жестоко оскорбляет Бинса, заставляя его переписывать заметки Коллинза. Они были противоположны друг другу, как огонь и вода, как мусульманин и христианин. Когда Бэтсфорд впервые велел Коллинзу изложить Бинсу все подробности одного происшествия, с тем чтобы Бинс обработал этот материал, Коллинз подошел к своему коллеге и, вызывающе глядя ему в лицо, сказал с кривой улыбкой: — Начальник велел отдать вам этот материальчик, чтоб вы его обстряпали. Материальчик! Обстряпали! Эх, был бы под рукой острый нож! Но Бинс, неизменный поборник долга и порядка, только вперил в Коллинза не менее вызывающий и в то же время загадочный взгляд, слегка подтянул брюки, поправил часы на руке и очки на носу и принялся записывать подробности происшествия, вытягивая их из своего соперника с ловкостью и мастерством, достойными лучшего применения. Однако не прошло и недели, как, к великому ужасу и негодованию мистера Бинса, до его ушей дошло, что мистер Коллинз назвал его чурбаном, грошовым писакой и надутым прыщом — ни больше, ни меньше — и выразился в том смысле, что писатели, все вместе и каждый в отдельности, с образованием или без оного, не больно-то много стоят, все они подыхают с голоду, и их — «что собак нерезаных», — это выражение в особенности взбесило мистера Бинса, ибо оно явно значило, что пишущей братии так же много, как песку морского или как грязи на улице. Аллах всемогущий! Чтобы этакому псу дозволялось издеваться над великими мастерами слова! Тем не менее и несмотря на все это, мистер Коллинз успешно продвигался вперед и главным образом — как частенько горько сетовал мистер Бинс — именно за его счет. Коллинз явится, нагородит бесконечных «он грит мне» и «а я грю ему», и мистер Бинс (по приказу мистера Бэтсфорда) переводит все это на чистейший литературный язык, отложив на время какую-нибудь собственную превосходную статейку, а назавтра материал Коллинза уже снова в печати, и он волен, ткнув пальцем в заметку, размером в один, полтора или полстолбца, гордо заявить: «Это мое!» Подумать только! Этакая свинья! Но всему приходит конец, даже жизни и несправедливости. В надлежащее время, по причине ряда придирок и необоснованного недоброжелательства со стороны мистера Бэтсфорда, мистеру Бинсу волей-неволей, из чувства собственного достоинства, пришлось перенести свою деятельность в «Звезду» — газету, которую он раньше презирал за ее невысокий уровень, но ныне благодаря своим дарованиям был принят там с распростертыми объятиями. И вдруг, к изумлению своему и досаде, раздобывая однажды информацию в полицейском участке, известном под названием «9-й южный», где всегда можно было поживиться свежей сенсацией, — с кем же он столкнулся, как не с Рыжим Коллинзом собственной персоной, теперь — не угодно ли — вполне оперившимся репортером «Новостей», ведущим полицейскую хронику. Он держал себя величественно и даже высокомерно: Бинса он едва удостоил взглядом. Бинс бесновался. Однако он сразу увидел, что Коллинз был с полицейскими и даже с самим начальником запанибрата куда больше, чем он, — так, как ему никогда и не снилось, — и знал все, что делается в участке. Только и слышалось: «Здорово, Рыжий!», «Привет, дружище!» — на что Коллинз отвечал: «Добрый день, хозяин!» и «Как жизнь, ребята?» Он держал себя со всей развязностью заправского репортера, вразвалку расхаживал по участку, как у себя дома, хвастаясь своими статьями, а ведь добрая их половина написана Бинсом. Более того, Коллинз вскоре уединился с начальником в его кабинете, входил и выходил из этого святилища, точно это было его личное владение, и как бы давал Бинсу понять, что имеет доступ к таким сферам и ему известны такие тайны, о которых тот никогда не слыхал и не услышит. Это заставило Бинса вдвойне опасаться, как бы сенсации, почерпнутые во время этих тайных бесед, не увидели впервые свет на страницах «Новостей», а он, таким образом, не оказался предметом насмешек, как репортер-неудачник. Поэтому он стал особенно пристально следить за «Новостями», выискивая доказательства измены со стороны полиции, и в то же время удвоил внимание ко всему, что могло украсить отдел происшествий «Звезды». И так как мистер Бинс несравненно лучше владел пером, обладая богатым воображением, то он не раз сажал мистера Коллинза в лужу, умудряясь писать отличные статьи на материале, явно отброшенном Коллинзом, как нестоящий хлам. С другой стороны, на столбцах «Новостей» нет-нет да приводились такие сведения, которых он никак не мог добыть легальным путем, причем полиция утверждала, будто ей ровно ничего не известно. Вот так-то мистер Коллинз и брал реванш — и, скажем прямо, временами весьма серьезный реванш. Но все же мистер Бинс нередко выходил победителем, как, например, в случае убийства негритянской девушки ранним августовским вечером в одной из трущоб, составлявших характерную черту и даже достопримечательность города О. Девушка эта была буквально искромсана своим бывшим любовником, который следовал за ней из одного прибрежного селения в другое, из города в город, пока, наконец, не настиг ее и не отомстил за измену. Ничего не скажешь — репортаж получился блестящий. Выяснилось (но лишь после усердных розысков со стороны мистера Бинса), что семь или восемь месяцев назад (газеты города О. всегда отводили много места подобным историям) эта самая девушка и зарезавший ее негр жили вместе как муж и жена в Кейро, штат Иллинойс, и потом ее возлюбленный (не то грузчик, не то кочегар на пароходах, курсирующих по Миссисипи между Новым Орлеаном и городом О.), очевидно, страстно ее любивший, — а она по-своему была настоящая красавица, — стал ее подозревать и, убедившись наконец, что подруга действительно ему неверна, подстроил ловушку, чтобы поймать ее на месте преступления. В один прекрасный день он сказал, что уезжает недели на две, но неожиданно вернулся и, ворвавшись в дом, застал свою возлюбленную с соперником. Если бы не вмешательство соседей, которые помогли парочке ускользнуть, не миновать бы им смерти. Доведенный до исступления тем, что подруга не только изменила, но и бросила его, он пустился по ее следам. Он вернулся к работе грузчика, переезжая из одного речного порта в другой, побывал в Мемфисе, Виксберге, Нэтчезе и Новом Орлеане; в каждом из городов он под видом разносчика, торгующего амулетами и бусами, обходил скученные негритянские кварталы, выкликая свой товар. Наконец, в О., проходя по душным, вонючим улочкам, примыкавшим к тому самому полицейскому участку, который именовался «9-й южный», и густо населенным неграми, он под вечер августовского дня наткнулся на изменницу. В ответ на его крики: «Кольца! Булавки! Пряжки! Бусы!» — вероломная красотка, видимо, не узнав его голоса, высунула голову из дверей. В тот же миг злодеяние совершилось. Бросив свой лоток, он кинулся на изменницу с бритвой и исполосовал ее до неузнаваемости. С дьявольской жестокостью он изрезал ей щеки, губы, руки, ноги, спину и бока; когда Бинс приехал в городскую больницу, куда она была доставлена, он нашел ее при смерти, в бессознательном состоянии. Убийце, а также новому любовнику удалось скрыться. Любопытно, что этот случай полностью завладел воображением мистера Бинса, а впоследствии и воображением редактора отдела происшествий. Это было как раз то, что мистер Бинс умел делать и делал хорошо. С подлинным литературным мастерством он сотворил из этого убийства легендарную «черную» трагедию. Убедив своего слишком осторожного начальника, что немного экзотики не помешает, он ввел в свой репортаж удушливый зной набережных Кейро, Мемфиса, Нэтчеза и Нового Орлеана, дремотные песни портовых грузчиков под стать их однообразному размеренному труду, бесшумное движение медлительных барж и тесноту кривого переулка, полудикарские лачуги с пестрыми занавесками вместо дверей и толпу их чернокожих обитателей, беспечных, ленивых и суетливых, напевающих свои бесконечные песни. Был описан даже старый негритянский напев, подходящий для продавца амулетов, смелыми красками была изображена откровенно чувственная негритянская любовь героя и героини трагедии. Старая негритянка, в желтом тюрбане в крапинку, которая все твердила: «Ой, Джордж», «Ой, Сэм» и «Ой, Маркатта» (так звали красавицу), — привела автора в поэтический восторг. Ничего удивительного, что очерк получился чрезвычайно красочным, и редактор от души поздравил мистера Бинса с успехом. А в «Новостях», может быть, вследствие неспособности Коллинза почувствовать романтику подобного убийства, это происшествие, как обыкновенная поножовщина, было отмечено лишь скупой заметкой. Не тот был у Коллинза склад ума, чтобы самому подметить колоритность материала, но, прочтя произведение своего соперника, он сразу понял, в чем именно потерпел неудачу, и пришел в ярость. — Думаешь, тебе уж и сам черт не брат? — едва завидя Бинса, фыркнул он, скривив рот от злобы и бешенства, на другой день. — Как же! Экого шику напустил! Да только я таких речистых мальчишек и до тебя видал, и мне на всех на вас наплевать! Одно только, соломенные головы, и умеете, что подцепить два-три фактика и размазать их на полосу. А настоящего-то материала у вас и не бывает никогда! — И он даже щелкнул пальцами перед носом ошеломленного мистера Бинса. — Вот погоди, дорвемся с тобой до настоящего дела, ты да я, так я тебе такое покажу! Погоди, тогда увидишь! — Дорогой мой, — начал было мистер Бинс, но у него даже дух захватило от холодного, мстительного взгляда сверкающих глаз мистера Коллинза. Тут-то и закрался в душу мистера Бинса тот непонятный страх перед мистером Коллинзом, от которого он долго потом не мог избавиться. Что-то было в нем такое свирепое, так сильно напоминающее разъяренного шершня или змею, что Бинс даже онемел. — Ой ли? — удалось ему наконец вымолвить. — Думаешь — покажешь? Что же тебе еще говорить, когда только что сел в калошу, а вот посмотришь: в следующий раз я опять свое возьму. — А ну тебя к дьяволу! — злобно буркнул мистер Коллинз и отошел прочь; мистер Бинс удовлетворенно, хотя и несколько растерянно, улыбнулся, в то же время спрашивая себя, что же такое и когда именно собирается сделать ему мистер Коллинз. Дальнейшие события развивались более увлекательно. Однажды утром, когда мистер Бинс, приняв ванну и позавтракав, явился в редакцию, глава отдела происшествий позвал его в свой кабинет. Мистер Уоксби, в противоположность мистеру Бэтсфорду, был небольшого роста, раздражительный, однако не злой и способный человек; нельзя сказать, чтобы Бинс видел в нем идеал джентльмена, но, по его мнению, Уоксби был куда более дельный редактор, чем Бэтсфорд, и его, Бинса, ценил по достоинству, чего никогда не делал Бэтсфорд. Бэтсфорд изводил его, используя этого негодяя Коллинза, тогда как Уоксби почти ухаживал за ним. А какой нюх был у него на сенсации! На этот раз мистер Уоксби оглядел его несколько торжественно и загадочно и затем сказал: — Помните, Бинс, ограбление поезда Тихоокеанской железнодорожной компании где-то около Долсвилла с полгода назад? — Да, сэр. — И помните — в поезде находился тогда губернатор штата со своей военной свитой, все в форме, и еще с десяток разных важных шишек, и все они утверждали, будто было семеро здоровенных бандитов, вооруженных до зубов, и одни из них проходили по поезду и грабили пассажиров, а другие тем временем заставили машиниста и кочегара отцепить паровоз, а потом подорвать дверь почтового вагона, открыть сейф и вынести им деньги, всего что-то около двадцати или тридцати тысяч долларов. Бинс хорошо все помнил. В то время он работал в «Новостях», и газетная страница, целиком посвященная этому делу, привлекла его живейшее внимание. Он нашел случай характерным для местных нравов — все еще диких и необузданных. Тут так и отдавало беззаконием сороковых годов, когда ограбления караванов с товарами и почтовых карет были правилом, а не исключением. У него даже волосы зашевелились на голове — так живо он себе тогда все это представил. Вот уж поистине драматическое происшествие! — Да, сэр, я очень хорошо помню, — ответил он. — А помните, как издевались тогда газеты над губернатором и его чиновниками, которые попрятались по своим полкам и не вылезли до тех пор, пока поезд не тронулся? — Да, сэр. — Так вот, Бинс, прочтите-ка это. — Тут мистер Уоксби, поблескивая острыми, насмешливыми глазками, протянул ему телеграмму, и мистер Бинс прочел:«Медисин-Флэтс, М. К.
Лем Роллинс, арестованный здесь сегодня, признался единоличном ограблении Тихоокеанского экспресса западу Долсвилла 2 февраля сего года. Деньги найдены. Роллинса сегодня отправляют в О. через «Ц. Т. и А.». Прибудет шесть тридцать».— Так-то, Бинс, — фыркнул мистер Уоксби, — выходит, эта история с семью бандитами — сплошной вздор. Никаких семи бандитов не было, а был только один, его поймали, и он сознался. Тут мистер Уоксби разразился хохотом. — Нет, Бинс, — продолжал он, — если это действительно правда, то вот вам блестящий материал. Не так-то часто встретишь человека, который один задерживает целый поезд и скрывается с двадцатью или тридцатью тысячами долларов. Это изумительно. Я решил, что мы не будем ждать его прибытия, а вы поедете ему навстречу. Судя по расписанию, вы можете попасть на местный поезд, уходящий отсюда в два часа пятнадцать минут, и доберетесь до Тихоокеанской линии на пятнадцать минут раньше экспресса, в котором его везут. Вы поспеете как раз вовремя. Для интервью у вас будет полтора часа. Очень возможно, что «Новости» и другие газеты еще ничего не пронюхали и опоздают. Подумайте, какой вам представляется случай все у него выведать! Не семеро грабителей, — помните! — только один! И губернатор со всей своей свитой в поезде! Заставьте этого молодчика сказать, что он думает о губернаторе и его свите. Заставьте его говорить! Ха! Ха! Он будет целиком в вашем распоряжении. Каково! А они-то попрятались по своим полкам! Ха! Ха! Ну и везет же вам: ведь такой случай раз в жизни выпадает! Мистер Бинс глядел на телеграмму. Он припоминал подробности ограбления: одни бандиты крались снаружи поезда, в то время как другие проходили внутри, обыскивая пассажиров, а еще несколько сообщников, впереди, насмерть запугали машиниста и кочегара, взломали сейф почтового вагона в присутствии не только вооруженного охранника, но и почтальона и всей поездной прислуги, а потом скрылись в темноте. Каким образом один человек мог все это сделать? Уму непостижимо! Тем не менее он встал, поняв всю важность порученного ему дела. Интервью предстояло нелегкое, но он надеялся, что справится. Только бы поезд не кишел репортерами! Он сунул в карман блокнот и понесся на вокзал — если только про мистера Бинса можно так выразиться. Здесь он наткнулся на первое препятствие. На его просьбу о билете до Тихоокеанской последовал неожиданный вопрос: — По какой линии? — А разве их две? — спросил мистер Бинс. — Да: «М. П.» и «Ц. Т. и А.». — И обе до Тихоокеанской? — Да. — Какой поезд уходит раньше? — «Ц. Т. и А.». Он уже подан. Мистер Бинс колебался, но времени терять было нельзя. Разницы это, в сущности, не составляло, поскольку поезд явно успевал застать экспресс, но время отхода не совпадало с указанным. Он уплатил за билет, занял место и тут же начал тревожиться: а вдруг в поезде едут другие репортеры — из «Новостей» или одной из трех вечерних газет, в особенности же из «Новостей». Если их нет, все это великолепное дело достанется ему одному, и какая же будет сенсация! Но что, если есть другие? Он прошел вперед, в курительный вагон, второй от паровоза, и здесь, к величайшей своей досаде и огорчению, увидел того человека, с которым менее всего хотел бы встретиться в таком деле, человека, которого он вообще меньше всего хотел бы видеть: мистер Коллинз, рыжеволосый, невозмутимый, решительный, с сигарой в зубах, сидел, развалившись в широком кресле, и читал газету так спокойно, как будто вовсе не спешил по делу первейшей важности. — Тьфу ты черт! — сердито и даже с праведным негодованием воскликнул мистер Бинс. Он вернулся на свое место расстроенный и злой, тем более что вдруг вспомнил ядовитую угрозу мистера Коллинза: «Вот погоди, дорвемся с тобой до настоящего дела, ты да я…» Экая подлая тварь! Ведь двух слов связать не умеет! Чего же его бояться? И все-таки он его боялся, а почему — и сам не знал. Коллинз был такой свирепый, с необузданным нравом, его поступки были так дики и неожиданны. И зачем это, черт возьми, спрашивал он себя, обдумывая данное ему поручение, понадобилось Бэтсфорду послать такого человека, как Коллинз, который и пера-то держать не умеет? Разве может он оценить этот случай, понять душу преступника? Как ему докопаться до психологической подоплеки столь необъяснимого и странного дела? Ведь он явно слишком примитивен, неразвит духовно, чтобы осмыслить такое. Однако же он здесь, и, конечно, ему, Бинсу, теперь придется вступить в состязание с этой мерзкой тварью. Коллинз и так на него злится. Он не остановится ни перед какой подлостью, лишь бы одержать верх. Эти провинциальные сыщики, и шерифы, и железнодорожники, кто бы и откуда бы они ни были, уж конечно, как всегда, тотчас снюхаются с Коллинзом и изо всех сил будут стараться ему услужить. Как на грех, им, видимо, по вкусу люди такого сорта. Они даже могут, по наущению Коллинза, вовсе отказать ему в интервью с бандитом. Что же тогда? А Коллинз, можно не сомневаться, уж как-нибудь да что-нибудь из них выжмет, причем разузнает такие закулисные подробности, которых ему, Бинсу, ни за что не сообщат. Бинс совсем разволновался. Даже если все пойдет гладко, ему придется интервьюировать необыкновенного бандита в присутствии этой мерзкой твари, в присутствии человека, которого он глубоко презирает и который, несомненно, присвоит себе все его заслуги, представив дело так, будто это он придумал самые удачные вопросы. Нет, каково! Унылый пригородный поезд подвигался вперед, и по мере того как он ближе и ближе подходил к Тихоокеанской, Бинс все больше и больше нервничал. Очарование прелестного сентябрьского пейзажа, открывавшегося за окном, было для него испорчено. Когда поезд наконец остановился, он соскочил на платформу, горя решимостью ни в чем не уступать Коллинзу, но, однако, раздраженный и встревоженный до крайности. Пусть Коллинз делает, что хочет, думал он. Он ему покажет. И в эту самую минуту Бинс увидел, как тот соскочил на платформу. Коллинз сразу же заметил его, и лицо его вмиг стало мрачнее тучи. Он как бы весь ощетинился в злобном, слепом бешенстве и так свирепо впился глазами в Бинса, точно готов был его растерзать; в то же время он беспокойно оглядывался по сторонам, высматривая, не сошел ли с поезда еще кто-нибудь. «Враг!» — вот что выражал он всем своим видом. Убедившись, что никого нет, он подбежал к начальнику станции и, по-видимому, спросил, когда должен прийти поезд с Запада. Бинс сразу же решил действовать самостоятельно и вместо этого справился у своего кондуктора, который заверил его, что экспресс, следующий на Восток, должен прийти минут через пять и здесь непременно остановится. — Мы сейчас отойдем на запасный путь, — сказал он. — Через несколько минут вы услышите свисток экспресса. — Он всегда здесь останавливается? — тревожно спросил Бинс. — Всегда. В это время Коллинз вернулся, отошел к концу платформы и стал вглядываться в даль. Пригородный поезд убрали, и через несколько минут послышался свист экспресса. Вот когда начинается настоящая борьба, подумал Бинс. Где-то в одном из этих вагонов сидит поразительный грабитель, окруженный сыщиками, и его, Бинса, долг, несмотря на всю унизительность подобного положения, вскочить в поезд, первому прибежать на место, объяснить, кто он такой, втереться в милость конвоиров и арестанта и начать расспросы, подавляя Коллинза всеми средствами, хотя бы той уверенностью, с какой он возьмется за дело. Через несколько мгновений экспресс подкатил к платформе, и Бинс увидел, как его враг вскочил на подножку первого вагона и со свойственной ему наглостью и диким упорством, которые всегда так раздражали Бинса, бросился разыскивать преступника. Бинс уже готов был попытать счастья с другого конца поезда, но как раз в эту секунду на платформу возле него сошел представительный и добродушный на вид кондуктор. — Лем Роллинс, грабитель, которого везут из Болд-Ноба, здесь? — спросил Бинс. — Я из «Звезды», меня послали его проинтервьюировать. — Ошиблись, браток, — улыбнулся кондуктор. — Его здесь нет. Сыщики, видно, надули вас, репортеров. По-моему, он едет по линии «М. П.». Из Болд-Ноба его доставили в Вахабу и там посадили в экспресс. Знаете, что? — Он вынул большие серебряные часы и поглядел на них. — Вы еще можете захватить его, если поторопитесь. Это тут же, за полем. Видите маленькое желтое здание? Там и есть станция. Поезд уже должен прибыть, но иной раз он немного запаздывает. Однако же, если хотите поспеть, вам придется бежать. Не теряйте ни минуты. Бинс весь задрожал. Только вообразите себе, что, несмотря на все усердие и напористость Коллинза, он может перехитрить его и догнать тот поезд, пока он обыскивает этот! Весь пыл молодости и азарт репортера проснулись в нем. Даже не поблагодарив доброго советчика, он, как заяц, пустился по тропинке, наискосок перерезавшей пустынное поле и, видимо, крепко утоптанной пешеходами. На бегу он раздумывал о том, не солгал ли ему добродушный кондуктор, чтобы сбить со следа, а также о том, не понял ли враг своей ошибки и не гонится ли за ним по пятам, — если допустить, что кондуктор сказал правду. Чтобы легче было бежать, Бинс, не останавливаясь, скинул пальто, снял очки и даже бросил тросточку. Оглянувшись через плечо, он убедился, что Коллинз все еще, видимо, обыскивает тот поезд. И в это самое время Бинс, жадно всматриваясь в видневшуюся впереди станцию, заметил, что стоявшее под прямым углом крыло семафора вдругподнялось, открывая путь приближающемуся составу. Но он заметил также и то, что с перекладины столба свесилась сумка для приема почты — верный знак, что, какой бы это поезд ни был и куда бы он ни следовал, — тут он не остановится. Бинс посмотрел назад, все еще сомневаясь, правильно ли он поступил, не обыскав того поезда. Что, если кондуктор намеренно одурачил его? Что, если Коллинз успел обо всем сговориться заранее? Что, если так? А вдруг громила действительно там, и в эту самую минуту Коллинз уже приступил к интервью, а он, Бинс, остался здесь, позади?! О, боже, какая незадача! И он не сможет дать никакого разумного объяснения, кроме того, что его перехитрили. Что будет с ним? Бинс замедлил шаг, и капли холодного пота выступили на его лице, но тут, оглянувшись, он увидел, что поезд тронулся, причем оттуда пулей вылетел Коллинз и помчался по этой самой дорожке. Ура! Грабителя, значит, там все-таки нет! Кондуктор сказал правду! Теперь Коллинз попытается попасть на этот поезд. Ему сказали, что бандит прибывает на нем. Бинс видел, как Коллинз во весь дух несся по тропинке, без шляпы, отчаянно размахивая руками. Но Бинс уже достиг станции — на добрых три минуты раньше своего соперника. Как сумасшедший, вбежал он в зал ожидания, просунул искаженное, потное лицо в открытое окошко дежурного и крикнул толстому низенькому сердитому железнодорожнику: — Когда прибудет экспресс на Восток? — Сейчас, — угрюмо ответил дежурный. — Он здесь останавливается? — Нет, не останавливается. — Можно его остановить? — Нет, нельзя. — Вы хотите сказать, что не имеете права остановить? — Я хочу сказать, что не желаю останавливать. Раздался резкий свист стремительно приближающегося экспресса. Сейчас Бинс охотно согласился бы ехать вместе с Коллинзом, лишь бы только попасть на этот поезд и взять интервью. Он должен взять интервью, Уоксби ждет этого от него. Только представить себе, какая будет сенсация, если он победит, но что же подумает Уоксби, если он потерпит неудачу? — Пять долларов остановят его? — в отчаянии крикнул он, засовывая руку в карман. — Нет. — Десять? — Может быть, — мрачно ответил дежурный и встал со стула. — Остановите! — взмолился Бинс, протягивая кредитку. Дежурный взял деньги, схватил лежавшую перед ним пачку желтых бланков, нацарапал что-то на одном из них и выбежал на платформу, высоко держа его в поднятой руке. — Бегите вперед по путям! — крикнул он Бинсу. — Бегите за ним! Здесь он не остановится, не может остановиться. Он может замедлить ход только через триста метров. Бегите, я отправлю его, когда вы сядете. Он отчаянно замахал желтым листком, а Бинс, не помня себя от волнения, во всю прыть пустился бежать впереди поезда. Теперь, если ему посчастливится, он попадет в этот поезд, а Коллинз останется в дураках, подумать только! Может быть, выйдет так, что поезд тронется прежде, чем Коллинз успеет вскочить. Вот бы хорошо! Тут он услышал грохот колес нагонявшего его экспресса. В мгновение ока состав поравнялся с Бинсом и пронесся мимо, рассыпая искры из-под визжащих колес. Правда, он, кажется, останавливается! Можно будет вскочить! О, счастье! А Коллинз, пожалуй, не поспеет! Как это было бы чудесно! Теперь поезд был далеко впереди, но уже почти совсем затормозил. Бинс бежал как сумасшедший. Он услышал последний пронзительный скрежет колес о тормозные колодки — и поезд замер на месте. Бинс, собрав последние силы, вскочил на площадку и, тяжело отдуваясь, оглянулся: его соперник бежал прямиком через поле и уже был не далее чем в сотне футов. Было ясно, что он попадет на поезд, если не сбавит ходу. Ведь состав не может так быстро набрать скорость, даже если Бинс заплатит за это. И вместо того чтобы проникнуться решимостью во что бы то ни стало воспрепятствовать мистеру Коллинзу уехать, как это, несомненно, сделал бы мистер Коллинз — кулаками, ногами, если нужно, деньгами, — мистер Бинс колебался, не зная, что ему делать. На задней площадке вместе с ним стоял тормозной; из двери вагона вышел кондуктор. — Отправляйте поезд! — крикнул Бинс кондуктору. — Отправляйте! Все в порядке! Скорей! — А разве тот пассажир не собирается сесть? — удивленно спросил кондуктор. — Нет, нет, нет! — воскликнул Бинс сердито и вместе умоляюще. — Не давайте ему сесть! Он не имеет никакого права. Я распорядился остановить поезд. Я из «Звезды». Я вам заплачу, если вы не дадите ему сесть! Мне нужен грабитель! Отправляйте! Но не успел он договорить, как мистер Коллинз уже подбежал, пыхтя и обливаясь потом, и вскочил на подножку; на лице его было написано злорадство и торжество по поводу неудачи соперника. — Думал, не попаду, а? — насмешливо фыркнул он, протискиваясь на площадку. — А в дураках-то сам остался. Этот миг был бы поворотным в карьере мистера Бинса, если б он обладал достаточным мужеством, но он не обладал им. Он еще мог сделать то единственное, что обратило бы поражение в победу, — попросту столкнуть Коллинза с площадки и не дать ему влезть снова. Поезд уже трогался. Но, вместо того чтобы применить грубую силу, что, несомненно, сделал бы мистер Коллинз, он колебался и раздумывал, неспособный по слабости характера принять нужное решение, а тем временем Коллинз, нимало не смущаясь, без лишних разговоров ринулся в вагон на поиски грабителя. Ошеломленный внезапным крушением всех своих надежд, почти потеряв способность мыслить, мистер Бинс последовал за Коллинзом и в третьем от хвоста вагоне увидел бандита; в наручниках, под надзором шерифа и нескольких сыщиков, он лениво оглядывал пассажиров. Бинс еще только усаживался, а Коллинз, фамильярно похлопывая грабителя по коленке и пожирая его зачаровывающим взглядом, рассчитанным на то, чтобы успокоить и обольстить жертву, уже говорил: — Молодчага парень! Славную ты выкинул штуку! Газетчики из кожи вылезут, лишь бы дознаться, как ты это сделал. Моя газета «Новости» отведет тебе целую полосу. И чтоб фотография твоя была. Скажи по правде, неужели ты все это один сделал? Вот это, можно сказать, чисто сработано, верно, начальник? — Тут он обратил заискивающе-хитрый взгляд на шерифа и сыщиков. Минуту спустя он уже рассказал им, какой он близкий друг «Билли» Десмонда, главы сыскного отделения в О., и мистера такого-то, начальника полиции, а также разных других высших полицейских чинов. «Ясно, — признался самому себе Бинс, — теперь я пропал, пропал, как этот грабитель. Замечательный случай выдвинуться упущен. Какое могло бы быть торжество, а что вышло!» Угрюмо сидел он рядом со своим врагом, прикидывая, с чего начать расспросы, а тот тем временем, самодовольно приосанившись, продолжал восхвалять преступника за его славный подвиг. «Какой вздор он несет! — думал мистер Бинс. — Подумать только, что мне приходится соперничать с подобной скотиной! И вот люди, перед которыми Коллинз заискивает! Ему требуется целая полоса «Новостей»! Скажите пожалуйста! Хорошо, если хоть полстолбца напишет самостоятельно!» Однако, к глубокому своему огорчению, он не мог не видеть, что мистер Коллинз сумел преловко втереться в доверие не только шерифа, здоровенного простоватого малого, но и сыщиков, и даже самого грабителя. Последний был на редкость заурядный для такого поразительного злодеяния субъект — приземистый, широкоплечий, коротконогий, с плоским, невыразительным, даже глупым лицом, серо-голубыми глазами, темно-каштановыми волосами, большими узловатыми, грубыми руками и загорелой, морщинистой кожей. На нем была дешевая одежда, какую носят рабочие, — синяя блуза, темно-серые штаны, куртка темно-коричневого или бурого цвета и красный бумажный платок вместо галстука, а на голове небольшая круглая коричневая шляпа, надвинутая почти до бровей, на манер кепки. Выражение лица было спокойное и равнодушное, как у пойманной птицы; когда Бинс добрался наконец до места и сел против грабителя, тот как будто даже не заметил ни его, ни Коллинза, а если и заметил, то глаза его ничего при этом не выразили. Бинс впоследствии не раз задавал себе вопрос, о чем думал тогда этот человек. Сам же Бинс был так взбешен присутствием Коллинза, что едва мог говорить. По обычаю всех игроков, сыщиков и политиканов средней руки Коллинз усиленно выражал живейший интерес и восхищение, которых на самом деле не чувствовал: лицо его расплывалось в приветливой улыбке, а глаза по-ястребиному впивались в собеседника, проверяя, принимают ли его напускной восторг и дружелюбие за чистую монету или нет. Один только раз и удалось Бинсу хоть немного показать себя и произвести впечатление на сыщиков и преступника, а именно, когда он приступил к вопросам более тонкого порядка, касавшимся побудительных причин, по которым грабитель отважился на такое дело в одиночку. Но и тут Бинс видел, что его коллега ловит каждое слово и делает пространные заметки в блокноте. К удивлению и досаде Бинса, и преступник и сыщики главным лицом считали все же не его, а Коллинза. На того они смотрели, как на некое светило, и, казалось, он и правда внушал им куда большее почтение, чем Бинс, хотя все важнейшие вопросы задавал он, а не Коллинз. В конце концов Бинс пришел в такую ярость, что уже ни о чем не мог думать; единственное, что могло бы утолить его гнев, — это наброситься на Коллинза и хорошенько его поколотить. Тем не менее они общими силами понемногу выпытали все обстоятельства дела, и история вышла презанимательная. Оказалось, что не только за год, но даже за семь или восемь месяцев до ограбления Роллинс и не помышлял о том, чтоб напасть на поезд; он был всего-навсего не то тормозным на товарном составе, не то рабочим вагонного депо на одном из участков этой самой линии. Не так давно он даже продвинулся по службе, получив должность сцепщика и стрелочника на довольно крупной товарной станции. До службы на железной дороге он был конюхом платной конюшни в том самом городе, где его в конце концов задержали, а еще раньше — батраком на ферме где-то в тех же краях. Приблизительно за год до того, как он совершил грабеж, на этой дороге из-за наступления тяжелых времен было уволено много служащих, в том числе и Роллинс, и на десять процентов снижена плата остальным. Естественно, среди железнодорожников росло недовольство, дело доходило до открытых возмущений, забастовок и прочего. Кроме того, последовали ограбления поездов, виновниками которых, как установило следствие, оказались уволенные или недовольные платой железнодорожные служащие. Способы успешного ограбления поездов так обстоятельно излагались в большинстве газет, что любому громиле при желании достаточно было лишь следовать их указаниям. Когда Роллинс работал сцепщиком, он не раз слышал о том, что железнодорожные компании часто перевозят крупные суммы денег в сейфах, которыми оборудованы почтовые вагоны, о том, как эти сейфы охраняются, и так далее. Линия «М. П.», где он в эту пору работал, регулярно использовалась, как он тогда же узнал, для перевозки денег и на Восток и на Запад. И хотя вследствие участившихся за последнее время на Западе ограблений поездов так называемые «нарочные», которым поручалась охрана почтового вагона и сейфа, всегда были хорошо вооружены, эти нападения все же нередко увенчивались полным успехом. И действительно, безнаказанные убийства кочегаров, машинистов, кондукторов и даже пассажиров и то обстоятельство, что значительная часть украденных за последнее время сумм так и не была обнаружена, не только поощряли грабежи, но и внушали железнодорожным служащим такой панический страх, что даже из тщательно подобранной охраны только немногие отваживались вступать в бой с грабителями. И тем не менее психологическая подоплека этого удивительного, совершенного в одиночку нападения, которая более всего способствовала его успеху, заключалась не только в том, что Роллинс был бедствующий уволенный железнодорожник, который не мог найти другую работу; и не в том, что он будто бы был на редкость холоден, жесток и хитер, что отнюдь не соответствовало истине, а в том, что он действительно не сознавал, на какое рискованное дело идет. Он был попросту туповат, до него мало что доходило. Бинсу именно это нужно было выведать, и Коллинз прилежно записывал вопросы и ответы. Как выяснилось, грабитель никогда и не понимал, какому риску подвергается, — ибо отличался не большей восприимчивостью, чем ракообразные, — а твердо рассчитывал на успех. Оставшись без работы, он вернулся в родной город, где когда-то служил конюхом; там он влюбился в молоденькую девушку и, быть может, впервые понял, что он очень беден и ему не по карману делать ей такие подарки, какие ему бы хотелось. Тут-то он и задумался над тем, как же раздобыть денег. Но и это ни к чему бы не привело, если бы другой безработный железнодорожник не предложил ему вместе с третьим сообщником ограбить поезд. Тогда Роллинс отверг их план главным образом потому, что не желал ни с кем связываться в таком деле. Однако чем больше он нуждался в деньгах, тем чаще подумывал об ограблении поезда, что дало бы ему возможность поправить свои дела; но только, как он рассудил, сделать это он должен один. — Почему один? — спрашивал Бинс. Это был вопрос, который занимал всех: почему один, когда он знал, что всё будет против него? Но этого он толком объяснить не мог. Ему, как он выразился, «просто подумалось», что он сумеет до того всех запугать, что никто ему и мешать не станет! Задерживали же другие бандиты большие составы (в одном случае, о котором он читал, их было всего трое). Почему же не сделать это в одиночку? Как ему говорили другие грабители, револьверные выстрелы, раздающиеся в поезде, мигом наводят ужас и на пассажиров и на поездную прислугу, а дело это так или иначе означает либо жизнь, либо смерть, и для него будет гораздо лучше — так он рассудил, — если он все проделает сам. Сообщники, сказал он, могут струсить и расколоться, или их девушки донесут на них. Это он знал. Бинс смотрел на него с огромным интересом, чуть ли не восхищенный его полнейшим бесстрашием и где-то глубоко запрятанной под нескладной внешностью любовью к «девчонке» или «зазнобе». Но как мог он рассчитывать, что справится с машинистом, кочегаром, носильщиком, нарочным, почтальонами, проводником, тормозным и пассажирами, не говоря уж о губернаторе и его свите? Как? Кстати, знал ли он тогда, что губернатор со свитой находится в поезде? Нет, он узнал об этом только впоследствии, что же касается до прочих, то он думал, что возьмет их на испуг. При этих словах глаза Коллинза загорелись, лицо просияло. Он, видимо, лучше Бинса понимал грабителя и даже сочувствовал примитивной грубости его плана. Роллинс объяснил также, по каким соображениям он решил ограбить именно этот поезд. Когда он еще служил подручным сцепщика, ему рассказали, что специальный экспресс, идущий на Запад и в полночь проходящий мимо Долсвилла по четвергам и пятницам, перевозит более крупные суммы денег, нежели в другие дни. Это объяснялось тем, что к концу недели производились расчеты между Восточными и Западными банками, чего Роллинс, однако, не знал. Выбрав поезд, но еще не выбрав дня, он с целью избежать всяких случайных улик начал постепенно в разных отдаленных городах и в разное время приобретать нужные вещи: во-первых, небольшой чемоданчик, с которого он тщательно соскоблил название фирмы; затем шесть-семь трубок динамита с бикфордовым шнуром, какие употребляют фермеры для выкорчевывания пней; два шестизарядных револьвера и запас патронов; веревку и кусок материи, чтобы увязать в нее деньги, если потребуется. Все это он сложил в чемодан, который всегда держал при себе, и затем отправился в Долсвилл, небольшой поселок, ближайший к намеченному им месту нападения; обследовав его и учтя все преимущества, он до тонкости разработал окончательный план. На окраине той деревушки, которую он выбрал из-за ее близости к лесу и заболоченной низине, стояла, рассказывал он Бинсу и Коллинзу, большая водокачка, у которой этот экспресс, как и почти все другие поезда, останавливался, чтобы набрать воды. Дальше, миль через пять, начинался лес, где он и решил остановить поезд. Экспресс, как он узнал, проходил здесь ровно в час ночи. До ближайшего селения по ту сторону леса, такой же деревушки, как и Долсвилл, было тоже миль пять. В день ограбления, между восемью и девятью вечера, он отнес чемодан на то место против леса, где предполагал остановить поезд, и положил его подле рельсов; чемодан был почти пустой, потому что револьверы и трубки с динамитом он спрятал на себе. Потом он прошел обратно пять миль до водокачки, притаился там и стал ждать поезда. Поезд остановился, и за минуту до того, как ему предстояло тронуться снова, Роллинс проскользнул между тендером и багажным вагоном, который оказался без дверей с обоих концов. Поезд двинулся дальше, но когда он дошел до места, где, по расчету Роллинса, должен был лежать чемодан, Роллинс при свете паровозных фар чемодана не увидел. Боясь упустить случай и уверенный, что чемодан где-то поблизости, он перебрался через тендер и, наведя револьвер на машиниста и кочегара, заставил их остановить поезд, слезть и отцепить паровоз. Потом с револьвером в руке он погнал их впереди себя до дверей почтового вагона, где передал одному из них динамитную трубку и принудил его взорвать дверь, потому что нарочный, охранявший сейф, хотя и не стрелял, опасаясь убить машиниста или кочегара, но упорно отказывался ее открыть. Подчиняясь приказу, машинист и кочегар оба вошли в вагон, взорвали сейф с деньгами и выбросили из вагона пачки банкнот и коробки с монетами; Роллинс же, боясь, как бы ему не помешал кто-нибудь из поездной прислуги или пассажиров, для острастки дал несколько выстрелов вдоль поезда, громким голосом окликая воображаемых сообщников. Эти-то выстрелы и крики, вероятно, и заставили губернатора и чиновников забиться на полки и насмерть перепугали машиниста, кочегара и нарочного, поверивших, что грабителей целая шайка, но Роллинс, как несомненный глава ее, по каким-то соображениям желает действовать один. «Никого без нужды не убивайте, ребята!» — кричал Роллинс. Или же: «Правильно, Фрэнк, стой там да гляди в оба. С этими я сам справлюсь». Потом он дал еще несколько выстрелов, и таким образом все были введены в заблуждение. Как только дверь вагона и сейф были взорваны, а деньги сброшены, он заставил машиниста и кочегара сойти, прицепить паровоз и уехать. Лишь после того как поезд скрылся из глаз, Роллинс стал подбирать пачки денег, но так как чемодана не было и посветить было нечем, ему пришлось действовать на ощупь, а вместо мешка он использовал свой пиджак. Взвалив его на плечи, он кое-как дотащился до леса, спрятал награбленное там в грязи под камнями и только после этого подумал о бегстве. Но вышло так, что два мелких промаха в конечном счете лишили его всех плодов успеха. Дело в том, что он не только не сумел найти чемодан, но забыл, что в этом чемодане лежал меченый носовой платок его возлюбленной. Он, правда, вернулся на место ограбления в поисках чемодана, хотя и не вспомнил тогда про платок; но, боясь как бы его не схватили, если он слишком долго замешкается здесь, Роллинс скоро ушел, так и не найдя ничего. Позднее прибывшие на место сыщики и окрестные жители нашли чемодан и в нем меченый платок и таким образом напали на след преступника. Следственные власти, естественно, предположили, что ввиду участившихся увольнений в грабеже могут быть замешаны безработные железнодорожники. За каждым из них была установлена слежка, и в конце концов обнаружилось, что бывший подручный сцепщика по фамилии Роллинс недавно возвратился в свой родной город, что у него есть возлюбленная, на которой он собирается жениться. Выяснилось также, что он располагает подозрительно большими средствами. Далее открылось, что ее инициалы соответствуют метке, обнаруженной на носовом платке. Роллинс был тотчас арестован, в его комнате произвели обыск, и почти все деньги нашлись. Пойманный с поличным сознался, и вот теперь его во весь дух мчали в О., чтобы посадить в тюрьму и вынести приговор, а мистер Бинс и мистер Коллинз, словно коршуны, кружили над ним, торопясь на его промахе сколотить себе литературный капитал. Теперь, когда материал был собран, мистер Бинс утешал себя тем, что хотя ему и не удалось устранить со своего пути Коллинза, зато, когда дело дойдет до сочинения заметки, он, уж конечно, сумеет перещеголять своего соперника и опишет этот случай более связно и ярко. Однако и в этом он не был уверен. Во время интервью Коллинз непрерывно писал, занося в блокнот дословно все вопросы Бинса, и с помощью одного или нескольких лучших сотрудников «Новостей» он, вероятно, сумеет обработать материал. Что же теперь остается? Они уже приближались к О., но тут нежданно-негаданно возникло новое обстоятельство, прямо угрожавшее лишить Бинса последнего преимущества. Речь шла о портрете преступника. Необходимо было сфотографировать его — тут же в поезде или в городе, но ни Бинс, ни Уоксби, ни даже, по-видимому, редактор отдела происшествий «Новостей» не подумали послать вместе с репортером фотографа. Необходимость запастись портретом становилась все более очевидной, и Коллинз, обладавший даром извлекать наибольший эффект из, казалось бы, незначительных подробностей, решил действовать: заметив сперва, что фотографа, видимо, придется послать в полицейское управление, он затем обратился к Бинсу с таким предложением: — Вот что, дорогой, не завезти ли этого малого, как приедем, в редакцию «Новостей»? Ваши приятели Хилл и Уивер живо его щелкнут. (Коллинз знал, что Бинс дружит со своими бывшими сослуживцами из отдела иллюстраций.) Тогда каждый из нас сразу получит по снимку. Конечно, можно бы отвезти его и в «Звезду», только ведь «Новости» много ближе (что было верно), и у нас, знаете, можно снимать при магниевой вспышке (что тоже было верно: «Звезда» в этом отношении была плохо оборудована). Тут он прибавил несколько заискивающих слов о том, что само собой все зависит от желания арестанта и сопровождающих его полицейских. — Нет, нет, нет! — сердито и решительно ответил Бинс. — Так не пойдет. Вам хочется раньше залучить его в редакцию «Новостей»? Ни в коем случае. Никогда я не соглашусь. Хилл и Уивер мои друзья, но этому не бывать. Если угодно, повезем его в «Звезду», тогда другое дело. На это я согласен. Наши фотографы справятся ничуть не хуже ваших и один снимок вам, конечно, дадут. На мгновение лицо Коллинза вытянулось, но он тут же возобновил наступление. По его тону можно было подумать, что он и в самом деле хочет оказать Бинсу любезность. — Но почему же не в «Новости»? — дружески настаивал он. — Ведь эти фотографы ваши друзья. Во вред вам они ничего не сделают. Подумайте, насколько это ближе, мы выгадаем уйму времени. Ведь нам нужно торопиться, верно? Сейчас почти половина седьмого, а то и восемь. Вам-то это безразлично, — вы пишете быстрее, но подумайте обо мне. Я бы охотно туда поехал, но какая вам разница? Кроме того, вы же знаете, что оборудование в «Новостях» лучше, Хилл или Уивер прекрасно все сделают и один снимок дадут вам. Ну как, согласны? Бинс сразу понял, чего именно хотелось Коллинзу. Ему было совершенно ясно, что если Коллинзу удастся залучить этого знаменитого грабителя сначала в редакцию «Новостей», то отпадет необходимость полностью пересказывать все, что он слышал и видел в дороге. Ибо окажись преступник в редакции, остальные сотрудники сразу возьмут его в оборот и с помощью записей Коллинза состряпают такую заметку, что и самому Бинсу лучше не написать. А главное, это был бы настоящий шедевр репортажа — живьем доставить материал в редакцию! — Нет, не согласен! — сердито ответил Бинс. — И я этого не допущу. Хилл и Уивер — все это прекрасно. Они, конечно, дадут мне снимок, если газета им позволит, но газета, разумеется, не позволит, и, кроме того, вы этого добиваетесь совсем по другой причине. Я знаю, что вам нужно. Вам нужно право заявить утром, что преступник был сначала доставлен в «Новости». Знаю я вас! Тут уж Коллинз, казалось, притих и как будто даже отступился от своего плана. Но немного погодя он снова заговорил с Бинсом, и, по всей видимости, в самом примирительном духе; только теперь он так и сверлил его взглядом, чего раньше никогда не делал. — Ну, ну, — повторял он добродушно, глядя Бинсу прямо в глаза. — Откуда у вас такая мелочность? Ведь вы и так уж самые пенки-то сняли. И фотографию получите такую же, как и мы. Если вы не согласны, нам придется ехать в вашу редакцию или посылать человека в тюрьму. Подумайте, сколько уйдет времени. Кому от этого польза? И какая разница, чей будет снимок? Ведь у вас вечером хорошего снимка все равно не сделать, вы это знаете. Говоря так, он пристально смотрел Бинсу в глаза, и тот вдруг почувствовал, как на него наплывает какая-то странная волна теплоты, покоя, расслабленности или отупения. Что же, в сущности, дурного в этом предложении, спрашивал он себя, и в то же время внутренний голос говорил ему, что оно очень дурно и что он совершает большую ошибку. В первый раз в жизни, и особенно в таком трудном положении, он испытывал какое-то необычайное чувство покоя и умиротворения, словно его окутал мягкий, убаюкивающий туман. В конце концов план Коллинза вовсе не так плох, подумал он. Что тут дурного? Хилл и Уивер его друзья. Они сделают хороший снимок и дадут его копию. Все, что говорит Коллинз, как будто бы справедливо, только, только… Впервые за все знакомство с ним и вопреки той лютой ненависти, которую он издавна, а в особенности сегодня, питал к Коллинзу, Бинс вдруг с удивлением заметил, что начинает относиться к своему сопернику более терпимо и даже чувствует, что тот, пожалуй, вовсе не так плох. Но странное дело, он все же не верил ни единому его слову, и тем не менее… — Конечно, едем в «Новости», — вдруг, словно сквозь сон, услышал он собственный голос; казалось, будто говорит человек, охваченный сладкой истомой. — Выйдет очень недурно. Туда гораздо ближе. Что тут плохого? Хилл и Уивер сделают хороший снимок величиною в семь или восемь дюймов, и я его заберу. Но в это же самое время он думал: «Право, я не должен этого делать. Ни в коем случае! Он припишет себе всю честь появления преступника в редакции «Новостей». Он наглый обманщик, и я его ненавижу. Я делаю непоправимую ошибку. В «Звезду» или никуда — вот что я должен сказать. Пусть едет в «Звезду». Поезд подходил к О., впереди уже был виден вокзал. К этому времени Коллинз каким-то образом успел убедить не только полицейских, но и самого преступника. Бинс видел, что у всей этой деревенщины даже глаза разгорелись: так их разбирала охота покрасоваться и показать себя; было ясно, что они прониклись глубоким уважением к «Новостям», газете более крупной, чем «Звезда». «Звезда», может быть, и хорошая газета, но, конечно, именно «Новости» — единственно подходящее место для такого зрелища. Какая жалость, думал Бинс, что он вообще ушел из «Новостей»! Собираясь вместе с другими выйти из поезда, он сказал вялым, каким-то неживым голосом: — Нет, я на это не согласен. Желаете везти его в «Звезду» — пожалуйста, или же везите в полицейское управление. А везти в «Новости» я не позволю. Слышите? Но когда они вышли на платформу и Коллинз самым дружеским образом подхватил его под руку, Бинс почувствовал к нему такое теплое расположение, о каком раньше и помыслить бы не мог. — Сейчас мы вместе заедем в «Новости», — твердил между тем Коллинз, — а потом я отправлюсь с вами в «Звезду». Пусть только Хилл и Уивер сделают снимок, и мы прямиком двинем в вашу редакцию, понятно? И хотя мистеру Бинсу ничего не было понятно, но он поехал. Ведь ничего ужасного еще, кажется, не произошло. Раз Коллинз при нем, он, пожалуй, может вообще помешать ему написать что-либо. Но пока Бинс предавался мечтам, Коллинз уже подозвал такси, все шестеро втиснулись туда и как вихрь понеслись в «Новости»; и тут-то, как только они подъехали к редакции и Коллинз, сыщики и бандит торопливо пересекли тротуар, направляясь к подъезду, который когда-то был так ему привычен, Бинс внезапно очнулся. Оттого ли, что он увидел подъезд, или, может быть, Коллинз на миг отвлекся? Как бы то ни было, но Бинс очнулся и сделал отчаянную попытку спасти положение. — Стойте! — крикнул он. — Стойте, говорят вам! Я не хочу! Я не согласен! Но было поздно. В одно мгновение преступник, полицейские, Коллинз и вслед за ними он сам поднялись по трем низким ступенькам главного подъезда и очутились в холле; поняв, что все пропало, Бинс остановился; остальные вошли в лифт, а он остался размышлять о необъяснимости происшествия. Что это? Как удалось этой подлой твари проделать над ним такую штуку? Ей-богу, Коллинз его загипнотизировал или что-то в этом роде! Чего же стоит его просвещенный ум, его талант по сравнению с грубой, неистовой жаждой Коллинза одержать победу? Просто невероятно. Коллинз одолел его, и одолел на том поприще, на котором он считал себя неизмеримо выше. «Боже правый! — вдруг мысленно воскликнул Бинс. — Он побил меня моей же картой, вот что он сделал! Он увез преступника, который почти уже был в моих руках, увез в редакцию нашего самого опасного соперника, и утром все будет в их газете! И я допустил это! А ведь я опередил его. Почему я не столкнул его с площадки? Почему не подкупил кондуктора, чтоб он мне помог? Ведь можно было его столкнуть. Я просто испугался, вот что. И завтра в «Новостях» будет целая полоса о том, как грабителя в первую очередь привезли в «Новости» и там сфотографировали, и в доказательство у них будет снимок. О боже, что мне делать? Как выпутаться из этой истории?» Измученный, удрученный, он поплелся в редакцию «Звезды», испуская стоны и скрежеща зубами от злости. Как объявить об этом Уоксби? Как объяснить свой промах? Сказать всю правду — значит впасть в немилость, может быть, даже остаться без работы. Хоть ему и очень хотелось, но он не мог рассказать, как чуть было не помешал Коллинзу вообще получить интервью. Уоксби только обозлила бы его слабость в такой решительный миг, и он окончательно разочаровался бы в своем сотруднике. Придя в редакцию, Бинс сочинил другую версию, которая соответствовала истине лишь наполовину. Он имел право сказать и сказал, что полиция снюхалась с Коллинзом и действовала в его пользу, против «Звезды»; что, несмотря на все его старания, деревенские полицейские предпочли следовать за Коллинзом, а не за ним, что более громкая слава «Новостей» соблазнила их и, несмотря на его решительный и негодующий протест, они все-таки в конце концов отправились туда, поскольку «Новости» находятся на пути в тюрьму, а «Звезда» нет. Теперь настал черед Уоксби прийти в бешенство, что он и сделал, но гневался он не на Бинса, а на этих подлых собак-полицейских, которые вечно покровительствуют «Новостям» в ущерб «Звезде». Они всегда так делали, как ему хорошо известно: ведь он когда-то сам был редактором отдела происшествий в «Новостях». Только тогда это было ему на руку, а теперь… — Я им покажу! — вопил он. — Они у меня попотеют! Никаких им больше поблажек от меня не будет, черт бы их драл! Спешно послав в тюрьму фотографа, он получил несколько снимков, и сами по себе они были превосходны, но что толку? Тот факт, что «Новостям» выпала честь сделать снимок с этой знаменитости в своих собственных стенах, так сказать, по-семейному, трудно было переварить. И теперь Уоксби, конечно, горько раскаивался, что не послал с Бинсом фотографа. Но для Бинса ужасно было то, что Коллинз его одолел, и это при его гордой уверенности в своем превосходстве! И как он ни старался, как ни корпел над работой, с горя и досады пустив в ход все свое мастерство, — все же на другое утро на первой полосе «Новостей» появилась большая фотография бандита, восседавшего в святая святых редакции и окруженного тесным кольцом репортеров и редакторов, причем на заднем плане виднелась даже часть туловища самого издателя, хотя и без головы. А над снимком самым крупным шрифтом был заголовок:
БАНДИТ, ОГРАБИВШИЙ ПОЕЗД, ПОСЕТИЛ РЕДАКЦИЮ «НОВОСТЕЙ», ДАБЫ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ СВОЕ ПОЧТЕНИЕВнизу курсивом был напечатан подробный отчет о том, как охотно он посетил «Новости» ввиду огромной популярности, а также коммерческих, моральных и прочих преимуществ этой газеты. Потерпел ли Бинс поражение? Еще какое! Чувствовал ли он это? Он испытывал муки ада, и не день и не два, но недели и месяцы, — воистину адские муки. При одной мысли о Коллинзе он вскакивал с места, готовый укокошить его. — Только подумать, — снова и снова говорил он себе, — что этакому подлому псу, Коллинзу, который мне и в подметки не годится, удалось сыграть со мной такую шутку! Черт возьми, он меня загипнотизировал! Именно, именно! Он на это способен! Возможно, он еще раз попробует! Хотел бы я знать, понимает ли он, что сделал? Неужто я и правда меньшего стою, чем он? И таких писак, как я, и в самом деле что песку на морском дне? Грустные мысли. Несколько недель спустя, встретив своего давнего врага на улице, Бинс, к величайшей своей досаде, увидел в его глазах торжество победителя и глубокое презрение. Коллинз теперь так обнаглел, он так процветал в роли газетчика, что у него хватило дерзости, метнув на Бинса злобный взгляд, фыркнуть и сказать: — Уж эти надутые репортеришки! Эти бесценные борзописцы! Хотел бы я знать, кто кого переплюнул в случае с тем грабителем, а? И Бинс ответил… Впрочем, не важно, что именно он ответил. Читать такое не подобает, да и ни один издатель все равно бы этого не напечатал.
ИЗ СБОРНИКА "ДВЕНАДЦАТЬ"
«Суета сует», сказал Экклезиаст
Иной раз жизнь одного человека может послужить яркой и выразительной иллюстрацией к целой эпохе. Вот почему эта история кажется мне такой значительной. Я встретил X. впервые в то время, когда финансовая мощь Америки и американские способы наживать деньги достигли предельной дерзости и великолепия и когда мир более или менее терпимо относился к американским непомерным претензиям и достижениям. Это были золотые дни мистера Моргана-старшего, Бельмонта, Гарримана, Сейджа, Гейтса, Брэди и многих, многих других, здравствующих и поныне, правящих твердой и решительной рукой, как это показала финансовая паника 1907 года. Им противостояли и в то же время подражали их методам, известным теперь каждому, кто читал «Бешеные доходы», «Беззаконное богатство» и другие разоблачения того, как нажиты крупнейшие состояния Америки, финансовые тузы помоложе — такие, как Чарлз У. Морзе (жертва паники 1907 года), Ф. Огастус Хайнце (еще одна, правда, менее заметная жертва этой же паники), Э. Р. Томас, честолюбивый молодой миллионер, словно рожденный для денег, Дэвид А. Салливэн и X. Я не хочу называть его имя, так как он еще жив, хотя и не заметен более и, возможно, стремится избежать яркого света гласности после того, как исчезли все почести и удовольствия, которые когда-то делали ее терпимой. Задолго до моей встречи с X. я уже заинтересовался им благодаря некоему Люсьену де Шэю, неудачливому пианисту, занимавшемуся постановкой голоса и притом знатоку по части ковров, драпировок, картин и мебели, — всеми этими вещами в то время очень увлекался X. Он строил тогда великолепный дом на Лонг-Айленде и только начинал приобщаться к миру искусства, модных идей, утонченной культуры и показной роскоши — этих различных областей, в которых американские архимиллионеры всегда хотят цвести или процветать, что, кстати говоря, не всегда им удается. Де Шэй был одной из тех странных натур, столь часто встречающихся в Нью-Йорке, — наполовину художник и наполовину светский человек, — которые так охотно привязываются к сильным и богатым людям, нередко играя при них роль советчиков по всем вопросам вкуса, этикета и продвижения в свете. Для меня так и осталось неясным, получал ли этот человек вознаграждение деньгами или в какой-либо другой форме. Он был также наполовину и моим наперсником и снабжал меня полученными частным образом сведениями и всевозможными материалами для различных изданий, которыми я тогда занимался. Как выяснилось впоследствии, X. не был еще тогда архимиллионером в полном смысле этого слова; он был только что оперившимся птенцом, хотя и имевшим большие возможности; его намерения и стремления быстро приближали его к триумфу, достигнуть которого для него, как и почти для всех новоиспеченных американских архимиллионеров, значило погрузиться в богемные или экзотические развлечения, притом прежде всего чувственные; удовольствия культурного и эстетического порядка оставались на втором плане. Пусть так. Все же он был типичный архимиллионер того времени, фигура яркая и даже кричащая. Степенные, солидные, занимающие прочное положение в обществе богачи владеют большими домами и окружены спокойным комфортом и роскошью, — зато богачи такого склада, как X., близкие богеме, блестящи, безрассудны и обладают живым воображением; поэтому их расточительные похождения поражают ослепительным великолепием, и тут никто с ними не сравнится. Однажды мой приятель Люсьен де Шэй сказал мне: — Послушайте, я хочу, чтобы вы познакомились с X. Он понравится вам. Он превосходен. Вы даже не представляете себе, какая это обаятельная личность. Он похож на русского великого князя. У него манеры и вкусы Медичи или Борджиа. Он строит великолепный дом на Лонг-Айленде, это обойдется ему в пятьсот или шестьсот тысяч долларов. Уже сейчас на это стоит посмотреть. А его студия в городе — это мечта. Она битком набита восхитительнейшими вещами. Я сам помогал их покупать. И он не глуп. Когда ему было двадцать лет, он написал роман «Икар», — это в общем не плохая книга, и он говорит, что это отчасти про него самого. Он читал вашу «Сестру Керри» и очень симпатизирует Герствуду. Он говорит, что кое-что в вашей книге напоминает ему его собственные испытания. Вот почему ему хочется встретиться с вами. Когда-то он тоже работал в газетах. Бог знает как он делает свои деньги, но я знаю, как он их тратит. Он решил жить и живет с блеском. Это замечательно! Я заинтересовался, хотя ранее никогда даже не слышал об этом человеке. В Америке тогда было очень много богатых людей. Потом тот же де Шэй рассказал мне о нем подробнее. Было время, когда он дошел до того, что был вынужден чистить обувь, чтобы заработать себе на пропитание. Было время, когда зимой он бродил по улицам Нью-Йорка в потрескавшихся и дырявых башмаках, без пальто, в одном летнем костюме. Он приехал сюда эмигрантом из России без гроша в кармане. Теперь он контролирует четыре банка, кредитное товарищество, страховое общество, общество страхования от огня, а также в больших масштабах спекулирует недвижимостью и так далее. Естественно, я очень заинтересовался. Разве можем мы остаться равнодушны к рассказам о том, как человек из ничтожества превращается в заметную фигуру? Как-то в среду, в четыре часа дня, меня вызвал по телефону де Шэй и предложил приехать в студию X. — Если можете, приезжайте немедленно, — сказал он. — У X. полно народу, общество исключительно интересное, — и он назвал целый ряд знаменитостей. Уже приехали две или три оперные звезды, и среди них итальянская певица, красавица необычайная, королева прирожденных авантюристок, — из-за ее очаровательной внешности и голоса перессорился весь город. Она была так необыкновенно хороша, что воскресные газеты отводили целые страницы ее портретам. Кроме того, должны были присутствовать несколько опереточных и театральных примадонн, один известный бас, собиравшийся петь, писатели, художники и поэты. Я пошел. Обстановка и публика очаровали меня. Все было веселым, красочным, волнующим. Хозяин и гости — люди в самом деле для меня интересные. Нельзя сказать, чтобы студия была так уж изумительна, а ее обстановка и убранство так уж поражали великолепием — хотя и в этом отношении она производила достаточно сильное впечатление, — но это был очень изящный и интересный образчик комфорта, скрытого под внешней элегантностью. У этого человека было все или почти все: друзья, советчики, слуги, поклонники. Я сразу увидел, что здесь, в бархате и шелках, развлекалась дикая и в то же время изнеженная натура. Железная рука власти, если только это можно было назвать властью, изящнейшим образом маскировалась царившей здесь более или менее мягкой атмосферой удовольствий и дружеских отношений. Хозяина дома вначале не было видно, но я встретил несколько десятков людей, имена которых были мне хорошо знакомы, и услышал гул голосов и болтовню самого изощренного столично-богемного характера. Волшебница-итальянка была уже здесь, и подвески ее великолепных серег мелодично позвякивали в такт каждому ее движению. Де Шэй сразу же шепнул мне на ухо, что она — последняя страсть X., которая стоит ему очень дорого. — Боже мой! Вы бы только посмотрели, какие вещи он ей покупает! — воскликнул он вполголоса. Актрисы и светские женщины скользили мимо меня в обворожительных, как мечта, туалетах. Снаружи от подъезда доносился неумолкающий гул автомобилей. Как зачарованный, слушал я похвалы, которые расточали поэты и писатели вкусу хозяина и его щедрости. С первого же взгляда мне стало ясно, что он умудрился окружить себя именно такими людьми, которые составляют самое подходящее окружение для того, кто желает жить праздно, беззаботно и весело, пользуясь всеми радостями умственной и светской жизни. Я не видел в Америке более модной гостиной, чем эта. Мой друг де Шэй, верный друг и наперсник хозяина, имел возможность открыть передо мной внутренние чудеса дома и, улучив минуту, когда поблизости оказалось не так много народу, а остальные развлекались болтовней в разных комнатах — музыкальном салоне, столовой, танцевальном зале, библиотеке и т. д., — показал мне кухню, буфетную, винный погреб, а также различные потайные двери и ходы; хозяину дома стоило тронуть цветок на обоях или пружину, спрятанную за картиной, и перед ним распахивались и закрывались двери в комнату или коридор, ничем не соединяющийся с остальными помещениями, кроме другой потайной двери, и всегда ведущий к отдельному выходу. Это сразу меня удивило: странный человек, зачем ему все это, почему ему нравятся такие вещи? Например, потайная спальня или комната отдыха! В одном из этих секретных помещений стоял строгий, но красивый письменный стол, стальной сейф, два стула — и больше ничего: совершенно пустая комната. Меня поразило это тихое коммерческое «святая святых», расположенное в самом центре шумного веселья; казалось, сюда не проникал нималейший отзвук окружающей его веселой суеты. И опять я почувствовал, что это — экзотическая, изнеженная и чисто языческая натура, человек, который мало знает об условностях света и еще меньше старается их соблюдать. Когда я уже собирался уезжать, меня представили хозяину дома в его картинной галерее, увешанной произведениями голландских и испанских мастеров. Он был такой, каким его описывали: живописен и красив, хотя и несколько грузноват; среднего роста, хорошо сложен; флегматичный, как будто вялый, и в то же время достаточно энергичный. У него был свежий цвет лица, большая красивая голова, вьющиеся черные волосы, проницательные черные глаза, тяжелые нависающие брови, полные красные губы и резко очерченный подбородок, украшенный небольшой эспаньолкой. На любом костюмированном балу он был бы отличным Бахусом или Паном. Он держался свободно, непринужденно и изящно, как человек, который многое испытал в жизни и добился, по крайней мере частично, осуществления своих желаний. Он улыбнулся мне, спросил, со всеми ли гостями я уже знаком, выразил надежду, что закуска не ускользнула от моего внимания и что пение доставило мне удовольствие. Может быть, я навещу его как-нибудь вечером, когда не будет такого многолюдного сборища, или, еще лучше, пообедаю с ним и с нашим другом де Шэем (де Шэй явно был его вторым «я»). Он очень сожалеет, что не может уделить мне сейчас больше внимания. Но вот что очень любопытно: с первой же встречи этот человек произвел на меня сильное впечатление — не из-за его богатства, я знавал и более богатых людей, — но было в нем что-то такое, что говорило о мечтах, о романтике, какое-то особое чутье и любовь к блеску, великолепию — черта, которая не так-то часто встречается среди действительно богатых людей. Должно быть, эти его рваные башмаки, о которых мне рассказывал де Шэй, не выходили тогда у меня из головы. Он жил среди восхитительных вещей, но, видимо, не был ни скупым, ни бережливым. Ему были свойственны легкость, щедрость, даже расточительность, и это шло не от хвастовства, а как будто говорило: «Что значат мелкие расходы на жизнь и наслаждения по сравнению с доходами, которые можно извлечь из окружающего мира?» Этот человек наводил на мысль о необычайных, фантастических авантюрах, с которыми в наше время связано так много крупных финансистов, этих тигров Уолл-стрита. Спустя некоторое время я снова получил от него приглашение, на этот раз на гораздо более богатый прием, прошедший в атмосфере еще более утонченных наслаждений, хотя, когда я отправился к нему, я и не подозревал, на что это будет похоже. Это началось в полночь — и поныне в моей памяти жив неизгладимый сверкающий след, оставленный этой ночью: ничего более варварски-великолепного и экзотического я в жизни не видал. Не то чтобы убранство, драпировки, вся обстановка были уж очень необычайны и изумительны, но в самой атмосфере происходившего было столько непринужденности, кипучего веселья, языческой жажды наслаждений. Там было много дерзких и неугомонных людей. Это событие воспевалось и обсуждалось шепотом много месяцев спустя. Какое там было веселье! Какая свобода! Полнейшее опьянение, физическое и духовное! Я никогда и нигде не видел таких рискованных туалетов, такого множества блестящих красавиц — таких чудесных образцов экзотической женственности, чувственной и сладострастной. Помню, там был среди прочих вещей никелированный столик на колесах, сплошь уставленный бутылками с шампанским во льду; стоило только поднять руку или моргнуть глазом, как для тебя откупоривали бутылку — одну, другую… И столик все время был полон. Вдоль одной из стен столовой были выставлены всяческие деликатесы и последние новинки в области гастрономии. В музыкальном салоне играл струнный квартет для танцующих. В различных комнатах было устроено множество уютных уголков с диванами, скрытыми за жардиньерками с цветами. Танцы и пение были прекрасны и нередко поражали нескромностью, как и разговоры. Пир начался только после полуночи, и под утро гости — опьяневшие, возбужденные — начали, уже не стесняясь, высказывать свои намерения, надежды и мечты, иногда самого тайного и интимного характера. Казалось, с человеческой натуры были сорваны дневные покровы сдержанности, скрытности и лицемерия. Около четырех часов утра появился главный номер программы — специально приглашенные танцовщицы, которые начали разбрасывать розовые лепестки или сувениры; на голове у каждой был венок, и единственным нарядом служили им гирлянды цветов, обвивающие их стройные тела. В конце концов общество присоединилось к этим танцовщицам, сначала отдельной группой, а затем все вперемежку: длинная вереница танцующих — художники, писатели, поэты, в том числе и женщины, — проносилась по всему дому из комнаты в комнату, подражая ведущим их вакханкам; все пели, кружились, танцевали, носились по комнатам. Сказалось, должно быть, и воздействие спиртных напитков и закусок — под конец многие свалились на диваны и по разным углам и не могли двинуться, пока друзья не помогли им добраться до такси. Но хозяин дома, помню, был все время среди гостей — спокойный, трезвый, улыбающийся, невозмутимый, любезный и снисходительный и неутомимо внимательный ко всем. Он появлялся и поддерживал порядок там, где без него это было бы невозможно. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы дать представление о длинном ряде таких оргий, происходивших в 19…—19… годах. За это время, благодаря тому что, как я уже говорил, X. почему-то находил странное удовольствие в моем обществе, я был обязательным и непременным участником десятка таких более или менее ярких сборищ и развлечений. В моей памяти запечатлелись не только X., но и сама жизнь тех лет; я понял, что нет границ и пределов ненасытному стремлению к роскоши, свойственному иным натурам; мечты о величии и счастье у таких людей столь дики и необузданны, что безнаказанно предаваться им мог бы только тиран послушной империи, пользуясь всем, что может дать порабощенный и покорный народ. Помню как-то в пятницу мы — с десяток писателей и художников — собрались в нью-йоркской студии X., чтобы побездельничать и выпить; казалось, в этот вечер у него не было других планов, как вдруг, с таким видом, словно это только сейчас пришло ему в голову, он предложил всем нам поехать в его загородный дом на Лонг-Айленде; дом был еще не совсем закончен (вернее, не совсем обставлен), однако там уже можно было устроить соответствующий прием, если только захватить с собой все необходимое. Позднее, думая об этом, я решил, что, пожалуй, это не было столь внезапным решением, как показалось сначала, и что мы, сами того не сознавая, сослужили ему немалую службу. В доме надо было еще многое доделать, требовались советы и предложения понимающих людей, управляющий, декоратор и садовник-художник крайне нуждались в консультации, а X. и шагу не делал без расчета, без какой-то выгоды для себя. Почему бы не превратить довольно скучную будничную работу в своего рода праздник? А потому… Во всяком случае почти все мы сразу же согласились, так как это означало великолепный и очень приятный пикник. Немедленно были вызваны четыре автомобиля, три — из его собственного гаража и один — где-то нанятый специально для этого случая. Состоялся телефонный разговор по поводу съестных припасов с управляющим находящегося внизу известного ресторана, с которым наш хозяин поддерживал связь, и вскоре было доставлено несколько корзин с провизией, после чего к подъезду были поданы четыре машины. В сумерках серого, холодного и туманного дня все мы — поэты, драматурги, новеллисты и редакторы (он питал величайшее презрение к актерам) — быстро расселись по машинам и сразу же тронулись в путь; нам надо было проехать сорок пять миль, и, выехав в половине шестого, в семь часов вечера мы уже были на месте. Я часто думаю об этой поездке, о том, как во время ее проявились взгляды и характер X. Он был так серьезен, спокоен, все время начеку и притом непринужденно любезен и очень мил, даже весел. В нем самом и в окружающей его атмосфере было нечто изумительно теплое и романтическое — и в то же время что-то такое холодное и расчетливое, словно в глубине души он говорил себе: «Хозяин всего этого я и устраиваю этот спектакль для собственного удовольствия». Я чувствовал, что все мы для него не друзья или приятели, а скорее какие-то редкие птицы, образчики разных пород, созданные для того, чтобы помогать ему разбираться в вопросах искусства и хорошего тона, — только поэтому он нами и интересовался. И, конечно, он полагал, что наше общество придает определенный колорит его собственному существованию, бросает на него какой-то отблеск, а этого ему очень хотелось. Кроме того, мы что-то умели делать, что-то создавали. И, однако, в собственных глазах, хозяином и властелином оставался он. Стоило ему пожелать — и он мог либо приблизить нас к себе, либо вычеркнуть нас из своей жизни, — так он думал. Мы были для него только игрушками, нарядным оперением, своего рода скоморохами. Ему приятно было окружать себя такими людьми, иметь нас при себе. Укутанный в великолепную меховую шубу, в меховой шапке, он удивительно походил на русского великого князя. И, однако, он мне нравился. Что за восхитительный вечер и праздник он устроил для нас в тот памятный день! Оставляя за собой перепуганных лошадей и пешеходов, проносясь в сумерках по улицам так, словно это был гоночный трек, пугая своим ревом и бешеной скоростью, которая грозила катастрофой, автомобили примчали нас к месту в семь часов, и к восьми часам мы уже сидели за столом; тотчас был сервирован прекрасный обед из нескольких блюд. Дом еще не отапливался, но откуда-то принесли громадные поленья, и теперь они пылали ярким пламенем в больших каминах. При доме сооружалась собственная электростанция; электрического освещения пока еще не было, но всюду сияли свечи и лампы; расставленные в больших комнатах живописными группами, они бросали на все мягкий свет. В одной из комнат отсутствовала дверь, но ее заменяла великолепная портьера. Бесчисленные ковры, драпировки и картины частью еще не были развешаны. Многие наиболее интересные, привезенные из-за границы скульптуры и предметы обстановки оставались нераспакованными и лежали в ящиках, на которых сохранились штемпели таможен и названия иностранных городов. В больших комнатах — гостиной, столовой, музыкальном салоне и библиотеке — были разбросаны ковры, расставлены диваны, стулья, музыкальные инструменты, в том числе рояль, — создавалось впечатление законченности и роскоши. Стены и потолки уже были отделаны — и, надо сознаться, в самом кричащем стиле. С больших балконов и веранды, как выяснилось наутро, открывался великолепный вид на море. Песчаные дюны! Далекий простор моря! Корабли! Наверху было девять помещений для гостей, каждое состояло из одной или двух комнат и ванной. Подвальный этаж представлял собой сложный мир кухни, кладовой, машинного отделения, котельной, винных погребов и прочего. Вокруг дома расстилались бурые пески, кое-где возвышались пригорки и даже пологие холмы, поросшие травой, которая скрепляла этот сыпучий песок. Вечер был ветреный, пасмурный и холодный, поэтому все общество оставалось в комнатах; я один вышел пройтись и то ненадолго — лишь успел обнаружить, что дом окружен широкими удобными верандами, годными для больших приемов и увеселений; сразу же за верандами начинались песчаные холмики. В доме было тепло и ослепительно светло. В винном погребе, кажется, можно было найти все, что душе угодно. Очутившись в своем новом жилище, наш хозяин пришел в самое веселое расположение духа. Он живо интересовался ходом работ, хотя нельзя сказать, чтобы уж очень увлекался этим. Казалось, он много видел и испытал, а теперь рассуждал просто: раз уж надо жить, постараемся взять от жизни все, что можно. За общим оживленным разговором вечер прошел довольно быстро. Некоторые из присутствовавших пели и играли. Один поэт декламировал очаровательные стихи. Специально для нас были вынуты из ящиков и расставлены в комнатах некоторые предметы обстановки, а также скульптура, в частности — бронзовый фавн около трех футов вышиной. И все время у меня было такое чувство, что передо мною человек, который связан с жизнью множеством нитей и отношений — и финансовых и многих других. Создавалось впечатление, что он думает сразу о самых разнообразных предметах. В Париже, сказал он, живут два сирийца, обладающие крупной коллекцией редких ковров. Один его агент пытается заполучить лучшие из этих ковров для его нового дома. Де Шэй недавно познакомил его с одним итальянским графом, — у графа в Италии большой дом, содержать который ему не по средствам. Он — X. — собирается приобрести часть его обстановки, после соответствующей проверки, конечно. Знаком ли я с картинами Монтичелли и Манчини? Он как раз достал превосходные работы этих мастеров. Как-нибудь, когда дом будет закончен, я должен снова побывать здесь. Картины будут развешаны, мебель и скульптуры расставлены по местам. Он пригласит тогда избранную компанию на субботний вечер и воскресенье. Разговор незаметно перешел на музыку и театр. Мне сразу стало ясно, что благодаря его вкусам, богатству и возможности женщины занимают немалое место в его жизни, но при этом они для него только забава и имеют не больше отношения к его внутреннему миру, чем обитательницы гарема к внутреннему миру азиатского султана. Как я узнал от де Шэя, огромные деньги X. тратил на итальянку с серьгами; и, однако, она была неуловима и ее нелегко было прибрать к рукам. Сцена и Бродвей были полны красавиц, занимающих самое разное положение в обществе, со многими из них он был знаком или без труда мог свести знакомство. Знаю ли я ту или эту, или такую-то и такую-то? — Вот что, — сказал X. спустя некоторое время после того, как наши стаканы не раз уже наполнялись вином, — как-нибудь мы должны устроить здесь действительно необыкновенную вечеринку, что-нибудь по-настоящему интересное. Мы с де Шэем и Беловым (он назвал еще одного художника) обдумаем это. Я знаю трех балерин… — и он начал перечислять их достоинства. Я ясно видел, что даже если женщины играют второстепенную роль в его жизни, они все же служат блестящей отделкой и украшением его успехов и власти. В час ночи, поговорив обо всем, что обычно занимает прожигателей жизни и любителей искусства, мы разошлись по своим комнатам. Утро настало чудесное — сверкающее, хотя и ветреное. За полосою песка искрилось море. Меня снова поразило богатство обстановки и грандиозные размеры дома. Возвышающийся над бесконечными песками и обращенный фасадом к открытому морю, он был изумителен. Приглашения к завтраку не было, и мы сошли в столовую, когда кто захотел. Самовар и спиртовой кофейник кипели на столе. По заказу подавались булочки, отбивные котлеты, все, что угодно. Возможно потому, что к завтраку я появился одним из первых, хозяин дома пригласил меня — он был уже совершенно одет, когда я спустился вниз, — и мы пошли прогуляться по его владениям и посмотреть все, на что стоило посмотреть. Странно, я видел много загородных домов с претензиями на роскошь и даже по-настоящему роскошных, но ни один не пришелся мне по душе так, как этот, — даже недоконченный, он был очень хорош и обещал стать еще лучше. Он был так скромно претенциозен, так величественен, в ограниченном и тем не менее поэтическом смысле этого слова. Так красиво он стоял на возвышении, откуда открывались песчаный берег и необозримый морской простор, так хороши были его веранды, широкие, гладкие площадки из красного цемента, окаймленные каменными ящиками для цветов и каменными скамьями изящного рисунка, и длинные, только что проложенные пешеходные дорожки и подъездные аллеи, и пляж, расположенный примерно в полумиле от дома и простиравшийся в длину мили на полторы; X. заметил, что пляж останется «в первобытном состоянии»: тут будет и лес, прибитый течением к берегу, и камни, и все прочее. На берегу будет построена только одна длинная пристань для яхт, да небольшой участок, не более трехсот футов в длину, расчистят под купальни и сделают гладкий песчаный пляж. В одном месте на высоком песчаном мысу, выступающем в море, была уже сооружена маленькая наблюдательная башня, открытая внизу, — здесь, на цементном полу, по кругу стояли скамьи и можно было отдохнуть в тени, а верхушка башни очень напоминала своеобразный маленький маяк. В этой верхней части находилась комната, в которую можно было попасть, поднявшись по узкой, витой лестнице. Я не мог не оценить сдержанности и такта, с которыми X. показывал мне свои владения. Он был такой здоровый, уверенный в себе, так живо интересовался всем и, что очень приятно, не производил впечатления самодовольного человека (это было бы хуже всего), во всяком случае, он мне не показался таким. Дом он построил действительно великолепный — настоящее произведение искусства. Жизненный путь этого человека приближался к вершине. Нужны были не только миллионы, но и художественное чутье, чтобы затеять такую постройку, а тем более — довести дело до конца. Указывая на унылый песчаный пустырь, простиравшийся между морем и домом, который казался огромной красно-желтой птицей, усевшейся на голом песке, он заметил: — Когда вы опять приедете сюда весной, здесь будет высажено сорок тысяч кустов роз. Ветер здесь почти всегда дует с моря. Я хочу, чтобы аромат цветов доносился на веранды. Розы можно чередовать так, что большинство их всегда будет в цвету. Мы осмотрели конюшни, гараж, только что вырытый артезианский колодец, дорогу, которая должна была идти вдоль моря, английский сад, разбитый на некотором расстоянии от дома, вдали от моря. Следующей весной я действительно приезжал туда несколько раз. Розы были в цвету, дороги закончены, картины развешаны. Представители высшего света не удостаивали эти места своим присутствием, но в будущем этого вполне можно было ожидать; а пока здесь собиралось общество, достаточно элегантное и в основном более приятное, чем чопорные представители так называемых высших кругов. Здесь были художники, писатели, драматурги, певцы, актрисы и несколько личностей из ультрасветского общества — преимущественно молодые люди неопределенного вида, которых привлекали сюда, должно быть, красивые молодые женщины, натурщицы и просто девицы, чья красота была их единственной рекомендацией. Общая картина была достаточно блестящей. По дому сновали дворецкий и многочисленные ливрейные лакеи. Гостей встречал в дверях швейцар. Экономка и множество подтянутых, вышколенных горничных заботились о чистоте и порядке. Здесь можно было играть в гольф, в теннис, в бридж, можно было кататься на автомобиле или на моторной лодке, удить рыбу, плавать, можно было в меру и даже без меры пить вино или спокойно читать в каком-нибудь тихом уголке. Здесь творились всякие дела, много флиртовали и смеялись, а по ночам начинались подозрительные блуждания по коридорам; и не принято было спрашивать друг друга, кто вы и состоите ли в законном браке, лишь бы соблюдались какие-то внешние приличия. Ту же картину заставал я и в следующие приезды, только дом и сад были уже переполнены до отказа гостями и мимолетными друзьями, машины которых рявкали на подъездных аллеях. Нигде я не видел таких ярких и очаровательных туалетов, как здесь, и не слышал таких интересных, поучительных разговоров. Этой осенью и зимой я очень много работал и почти нигде не бывал. За это время я много читал о X., о банках, которые он объединял, о новых затеваемых им рискованных предприятиях. И вот зимой вдруг, словно гром среди ясного неба, во всех газетах появились сообщения об ужасающем финансовом крахе, в центре которого был он. По сообщениям газет, катастрофа постигла наиболее крупный из возглавляемой им группы банков, не говоря уже об обществе по закладу и приобретению недвижимого имущества и каком-то проекте по постройке трамвайных линий на Лонг-Айленде. И странное дело: прежде его имя в прессе никогда не связывалось с чем-либо предосудительным, а теперь статьи и передовицы были сплошь ругательными. Их ядовитый тон бросался в глаза. X. называли негодяем, выскочкой самой низкой пробы. Он — мошенник, ловкач, он жонглировал банком, кредитным обществом, страховой компанией и проектами строительства железной дороги и трамвая, точно это были стеклянные шарики. Он спекулировал деньгами, которые ему не принадлежали. Он ограбил обманутых им бедняков. Но среди всей этой шумихи и огромных статей, появившихся в первый же день, я заметил одно сообщение, которое запомнилось мне, так как я, естественно, интересовался этой историей и самим X. Оно гласило:«По слухам, распространившимся вчера на Уолл-стрите, инспектор Г. получил первую информацию о положении дел X. из кругов, имеющих основания быть недовольными деятельностью X. в области городского транспорта в районе Лонг-Айленда. Это — один из лакомых кусочков Уолл-стрита, и успехи, которых там, очевидно, достигает новое лицо, не вызывают большого удовольствия».В другом сообщении говорилось:
«Осложнения начались с того, что сорвалась сделка, по которой Южный Берег должен был быть передан системе Нью-Йорка и округа Куинз, принадлежащей Лонг-Айлендской железной дороге, с прибылью для X. почти в два миллиона долларов. Как сообщают, крайнее недовольство определенных кругов Уолл-стрита задержало заключение этой сделки. Они не хотели вторжения X. в эту область и были достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать этому. В то же время на него было оказано давление по другим линиям. Расчетная Палата отказалась производить безналичные расчеты с его банками. Ему необходимы были наличные, но он непременно хотел продать построенную им дорогу по самой высокой цене. Происки его противников возымели свое действие и препятствовали сделке до тех пор, пока для него стало невозможным выдерживать далее эту борьбу».Одновременно с этими двумя заметками целые газетные полосы были заполнены фактами и сведениями, показывающими, как, где и когда X. совершил ту или иную операцию, как производились фиктивные расчеты между банками, которые он контролировал и большинство которых принадлежало ему, как изымались крупные денежные суммы и заменялись попросту закладными или бумагами новых, им же организованных компаний. Все эти трюки давным-давно в ходу на Уолл-стрите, и просто нелепо было по этому поводу подымать такой шум. Я был озадачен и даже взволнован столь внезапным трагическим концом карьеры этого человека, так как немного разбирался в том, какими путями и средствами ведутся дела в финансовом мире; понимал я и то, как много значат для X. его положение и власть. Лишиться всего этого будет для него ужасно. И, однако, спрашивал я себя, как мог он оказаться таким уж отъявленным жуликом, если ему действительно принадлежит пятьдесят один процент или более всех акций стольких компаний? В конце концов собственность есть собственность и контроль есть контроль. Даже в свете опубликованных сообщений его действия выглядят не такими уж злодейскими. Я внимательно читал все, что о нем писали. Проходили дни, и события развертывались своим чередом. Сначала X. пытался выброситься из окна своей нью-йоркской студии, потом пытался отравиться. Внезапно к делу приплели его незамужнюю сестру, о которой я ни разу и не слыхал за все время моего знакомства с ним. Она вдруг появилась на первом плане как его ближайшая родственница. У этой женщины даже и фамилия была не та, что у него, — какой-то вариант с окончанием на «ович». Она поместила его в клинику, откуда через некоторое время его выгнали, как преступника, затем — в больницу, пока, наконец, он сам не отдался в руки полиции. В деле начали фигурировать имена знаменитых адвокатов, а также и других банкиров. Были привлечены известные психиатры, эти хамелеоны юридического мира, которые сначала присягали в том, что он невменяем, а затем в том, что он здоров. Его сестра, которая оказалась врачом и ученой с именем, просила передать ей все его имущество на том основании, что он неправоспособен, а она — его ближайшая родственница. В этом она присягала, доказывая, что он ненормален, так как страдает манией величия и манией преследования, а именно: он считает, что его преследуют крупные финансисты; на мой взгляд, в этом его заявлении с несомненностью проявился вполне здравый рассудок. Как выяснилось позднее, брат с сестрой отчасти разыгрывали комедию, надеясь хоть что-нибудь спасти в разразившейся катастрофе. Были и другие любопытные детали: некоторые выдающиеся политические и финансовые деятели, по данным бухгалтерских книг различных банков, связанные с X. если не личными, то денежными отношениями, теперь полностью отрицали это. Любопытно: именно эти люди больше всех кричали о том, что X. невменяем и что во всех своих авантюрах он действовал совершенно самостоятельно. Судили и рядили обо всех подробностях его приемов на Бродвее, на Лонг-Айленде и в нью-йоркской студии. Чего только не говорилось о его веселом, скандальном и расточительном образе жизни! Еще бы, ведь до него никто никогда не вел веселой беспутной жизни — уж во всяком случае финансовые тузы, травившие его, были выше этого! Затем неожиданно возникло новое обстоятельство. В одном из самых жалких и убогих кварталов Бруклина каким-то образом были обнаружены старик и старуха — совсем неподходящая родня для таких видных людей; однако они заявили, что они — родители X., что много лет тому назад он и его сестра, снедаемые честолюбием и жаждой сделать карьеру, ушли из дому и появлялись лишь изредка, чтобы занять денег, а потом и вовсе перестали навещать отца с матерью. В доказательство были представлены письма, свидетели и старые фотографии. X. и его сестра долго и энергично отрицали это, но, видимо, эти старики, оказавшиеся мелкими булочниками в Бруклине и имевшие кое-какие сбережения, и в самом деле были их родителями. Я так и не узнал, кто откопал их, но мотивы этого были совершенно ясны. Сестра X. заявила права на его имущество в качестве ближайшей наследницы. Если ей будет отказано, то, хотя бы X. и признали невменяемым, его имущество сразу же попадет в руки различных кредиторов и будет продано с молотка или, другими словами — за бесценок в пользу этих последних. Тем, кто был заинтересован в ликвидации его дел, разумеется, было выгодно извлечь на свет стариков родителей. Но великий финансист всегда упорно распространял слух о том, что он родом из России, что его родители, или люди, выдающие себя за таковых, все еще находятся там, а в действительности он — побочный сын русского царя, отданный с детства на воспитание в бедную семью. Тем не менее теперь этих стариков притащили из Бруклина и устроили очную ставку между ними и X. В сущности не было доказано, что он и его сестра совершенно пренебрегали родителями или нанесли им какую-нибудь серьезную обиду; но ясно было, что, постепенно поднимаясь по общественной лестнице, они все дальше отходили от стариков и, наконец, попросту забыли о них, изменили свои фамилии и вознеслись в такие сферы, о которых родители и не мечтали. Сестре X. было предъявлено обвинение в лжесвидетельстве, это помешало ей взять в свои руки контроль над его имуществом и затянуло дело — противники X. выиграли время для своих происков. Естественно, вокруг обвинения сестры X. поднялась невероятная шумиха. Какой стыд! Какой позор! Как могли они публично отказываться от своих родителей и даже не признать их на очной ставке! Отвратительно! В воскресных выпусках газет появлялись душераздирающие статьи со множеством иллюстраций и фотографий: его дом и студия, его банки, автомобили, яхта, собиравшиеся у него гости; но о том, каковы побуждения людей, разыскавших родителей X., не говорилось ни слова. Фотографии, сделанные во время очной ставки, изображали очень дряхлых и слабых стариков и были довольно трогательны. Старики утверждали, что они его родители, и судорожно рыдали, закрываясь руками. И что же? Он отрицал! Его сестра, которая очень возмущалась всем этим и которая стойко держалась около X., конечно, только ради него отрекалась от так называемых родителей и друзей. Никогда за всю свою жизнь я не видел такого стремительного бегства «друзей». Из всех, кого я встречал в доме X. или в его обществе, — людей, хорошо известных в мире искусства, сцены, музыки или в финансовых кругах, — из всех, кто катался на его автомобилях, обедал за его столом и пил его вино, вряд ли теперь хоть один сознавался, что знаком с ним немного больше, чем «случайно» или «слегка», — о, совсем чуть-чуть! Когда пошли слухи о полуночных сборищах в его доме, о происходивших там вакханалиях, об автомобильных поездках в его большой загородный дом и о случавшихся там смелых проказах, оказалось, что ни один среди известных мне людей никогда там не был и ничего об этом не знает! Так, например, де Шэй был его ближайшим другом, его наперсником и буквально его иждивенцем, казалось бы, уж от него-то следовало ожидать глубокого сочувствия и дружеского участия, — и, однако, именно де Шэй едва ли не громче всех обличал или по крайней мере осуждал привычки и образ жизни X. Не кто иной, как де Шэй первый рассказал мне о мадам… и об ее отношениях с X., столько раз он настойчиво звал меня на приемы, которые устраивал у себя X., неизменно уверяя, что там будет замечательно интересно и что X. поистине большой человек, такой благородный, заслуживающий всяческого уважения, — и, однако, именно де Шэй теперь возмущался громче всех, держался высокомернее других, всячески показывая, что он никогда не был особенно близок с X., и удивленно поднимал брови с таким видом, словно он даже и не подозревал, к чему все это приведет. Его бесконечные: «Вы слышали?», «А знали ли вы?» и «Я никогда не думал…» — сделали бы честь любой гостиной. Он был шокирован; подумать только, этот X. грабил бедных детей и сирот! Но, хотя я внимательно читал газеты, я не нашел никаких доказательств того, что X. намеревался кого-нибудь ограбить в прямом смысле этого слова. По установившемуся в высших финансовых кругах Уолл-стрита обычаю, он грабил Петра, чтобы заплатить Павлу, иначе говоря, пользовался деньгами одного контролируемого им акционерного общества, чтобы поддержать другое, дутое, также контролируемое им предприятие, то есть действовал по принципу «рука руку моет». Все это настолько общепринято в финансовых кругах, что решительно и честно воспротивиться этой практике или совсем покончить с нею означало бы привести весь финансовый механизм к полнейшему, грандиозному краху. Тем не менее все шло своим чередом. В срочном порядке последовали так называемый «законный» захват и конфискация всего его имущества. Прежде всего психиатры — представители окружного прокурора и министерства финансов — объявили X. вменяемым, и он был отдан под суд за растрату. Затем суд отказался удовлетворить просьбу его сестры о передаче ей, на правах опекунства, всего его имущества, а сама она была арестована и заключена в тюрьму за лжесвидетельство: ее обвиняли в клятвопреступлении, так как она присягнула в том, что она единственная ближайшая родственница X., а на самом деле его настоящие родители (по крайней мере они присягали в этом) были живы и находились в Америке. Вслед за этим его банки, кредитные товарищества и различные концерны были ликвидированы, а великолепное имение срочно передано в руки судебных исполнителей и пошло с молотка «в пользу кредиторов». Все это время X., находясь в тюрьме, снова и снова заявлял, что он невиновен, что он платежеспособен или по крайней мере был платежеспособен, пока его не начали преследовать ревизор государственного банка и стоящее за его спиной министерство финансов; он уверял, что стал жертвой хладнокровно обдуманного заговора, инициаторы которого воспользовались министерством финансов и другими средствами, чтобы погубить его как финансиста, а все потому, что он стремился достигнуть большего и имел несчастье случайно вторгнуться в одну из самых выгодных и заповедных областей, в каких подвизаются архимиллионеры Уолл-стрита, — в область городского транспорта Нью-Йорка и Бруклина. Перед присяжными, решавшими вопрос о предании его суду, он заявил под присягой, что однажды, когда он сидел в своей конторе, занимавшей целый этаж в одном из громадных небоскребов Нью-Йорка, так что из окон открывался необъятный вид на все четыре стороны (надо думать, это послужило лишним доказательством того, что X. страдал «манией величия»), он был вызван к телефону. Как доложил его помощник, его вызывал некий мистер N. один из самых влиятельных финансистов Уолл-стрита. Без всяких предисловий, спросив только, кто у телефона, этот мистер N назвал себя и сразу же приступил к делу: «Слушайте внимательно, что я вам скажу. Откажитесь от предприятий трамвайного транспорта в Нью-Йорке, иначе вас ждут неприятности. Предупреждаю вас. Послушайтесь разумного совета». После этих слов в телефоне щелкнуло самым свирепым, зловещим и повелительным образом: мистер N положил трубку. — Я знал тогда, — продолжал X., обращаясь к присяжным, — что со мною говорил человек, обладающий огромным могуществом в этой области и не в одном только Нью-Йорке. И я знал, что его слова не пустая угроза. Однако я не имел возможности выйти из дела, не закончив одной сделки, которая должна была принести мне два миллиона долларов чистого дохода. К тому же мне хотелось начать действовать в этой сфере, и я не видел оснований отступать. Откажись я от этого предприятия, я ни в коем случае не разорился бы, но потерпел бы значительные убытки — даже очень большие убытки и притом не только в этом деле. Довольно странно, что как раз в это время мои партнеры по сделке пытались заставить меня ликвидировать именно это рискованное предприятие и заняться чем-нибудь другим. Наблюдая, как они вели себя в дальнейшем, я часто спрашивал себя, почему они так нажимали на меня именно тогда. Может быть, я слишком понадеялся на себя, переоценил свои силы. Однажды мне уже удалось взять верх над агентами другого видного финансиста в одной крупной и выгодной сделке — и я чувствовал, что смогу осилить и это дело. Вот почему я не обратил внимания на предостережение мистера N. Однако я заметил, что все те, кто раньше интересовался покупкой или хотя бы расширением предприятия, вдруг охладели к нему, а вскоре, когда я занялся некоторыми другими делами и мне понадобилась значительная сумма наличными, министерство финансов обрушилось на меня и, объявив меня мошенником и банкротом, закрыло все мои банки. Вы знаете, что получается, когда с вами так поступают. Крикните только в театре: «Пожар!» — и самое прочное здание не уцелеет. Вкладчики забирают свои вклады, ценные бумаги падают, начинаются расследования и оплата векселей, ваши финансовые партнеры начинают опасаться или стыдиться вас и изменяют вам. На свете нет ничего щепетильнее, пугливее и капризнее денег. Время покажет, что я тогда не был банкротом. Конечно, в бухгалтерских книгах будут обнаружены некоторые с чисто формальной точки зрения незаконные операции, но то же самое можно обнаружить в книгах и документациях любого другого крупного банка, особенно в наше время, если их проверить без всякого предупреждения. Я делал не более того, что делали все, но они захотели изгнать меня — и добились своего. Судебное расследование, техническая экспертиза и иные процедуры ничего не дали — и все же X. в конце концов был заключен в каторжную тюрьму и просидел там некоторое время. Однако в результате его признания потерпели крах еще девять выдающихся финансистов. Восемь лет спустя, подвергнув беспристрастному анализу все факты и свидетельские показания, я пришел к твердому убеждению, что этот человек стал жертвой хладнокровно обдуманного заговора, цель которого заключалась в том, чтобы вытеснить его из сферы крупных финансовых возможностей и прервать его карьеру, которая, безусловно, привела бы его к огромному богатству. Очевидно, X. обладал такими возможностями и такой сметкой, что был способен на многие дела и комбинации, которыми занимались самые ловкие и хладнокровные финансисты того времени, а они не желали, чтобы он им мешал, и не дали ему стать действительно опасным конкурентом. Подобно коронованным узурпаторам древних времен, они предпочли убить возможного претендента на королевский престол еще в младенческом возрасте. Но какую юность он провел! Какой он шел длинной и извилистой тропой! Среди документов дела было его письмо к матери, очевидно, написанное в августе 1892 года, когда X. было не больше восемнадцати лет и он только начинал свою карьеру в качестве агента книжной фирмы. Он писал:
«Дорогие родители, прошу вас, ответьте сразу же, можете ли вы прислать мне хоть что-нибудь, или мне не на что рассчитывать. Запомните, это первый и последний раз в моей жизни, когда я прошу вас о чем-либо. Другому из ваших детей вы давали не какие-нибудь пятнадцать долларов, а сотни, так неужели теперь, когда я — самый младший — прошу у вас, моих родителей, пятнадцать долларов, вы окажетесь такими жестокими, что откажете мне? Без этих пятнадцати долларов мне две, а то и три недели не на что будет жить. Ради бога, не забудьте, о чем я вас прошу, и сразу же вышлите мне деньги, чтобы я мог больше не думать об этом. Как я вам говорил, Леон даст мне десять долларов (пятнадцать он уже уплатил за контракт), и вместе с вашими пятнадцатью долларами у меня будет двадцать пять. Из них десять долларов я должен отдать за билет, а пятнадцать уплатить за квартиру и стол за две или три недели. Прошу вас, отвечайте сразу. Не ждите ни одной минуты и вышлите мне деньги либо напишите одно слово «нет». Запомните только одно, что, если вы мне откажете, между нами все будет кончено»Были еще свидетельские показания некоего Генри Дома, пекаря; он по каким-то странным соображениям вдруг предложил свои услуги и опознал X. как человека, с которым он был знаком много лет тому назад в Уильямсберге. В его показаниях говорится:Ваш сын...
«Я сразу узнал их. (X. и его сестру) по фотографиям в газетах. Я работал у их отца, бывшего тогда булочником в Уильямсберге, и я часто отправлял письма, которые X. старший и его жена писали Луизе X., — она в то время училась в Филадельфии на доктора. X. был тогда еще мальчиком, ходил в школу, а утром и вечером работал в отцовской булочной. Он не хотел этим заниматься, вечно жаловался, и родители потакали ему. Он был очень тщеславен, старался походить на образованного человека. Родители всегда твердили друзьям и знакомым, что у их сына большое будущее. Спустя пять лет, когда я уже ушел от них, я как-то встретил мать, и она сказала мне, что X. изучает банковское дело и прекрасно устроился».Лет через семь после банкротства и судебного процесса, при помощи которого так быстро разделались с X., уже после того как его выпустили из тюрьмы, я стоял на углу какой-то улицы в Нью-Йорке в ожидании трамвая и вдруг увидел X. Он шел мне навстречу, не очень быстро и, видимо, был погружен в свои мысли. Одет он был неплохо, но не так, как раньше: его костюму недоставало той неуловимой изысканности, которой отличался X. в прежние годы. На нем была шляпа — да, шляпа, а не высокая боярская шапка и не красивая панама, в каких он щеголял в былые времена. Он выглядел усталым, немного постарел и словно полинял. Моим первым побуждением было, конечно, окликнуть его, вторым — не делать этого, так как он меня не заметил. Я мог смутить его, а возможно, он меня и не узнал бы. Но, глядя на него, я подумал о большом доме на берегу моря, о великолепной студии, об автомобилях, о сорока тысячах розовых кустов, о толпах гостей, наводнявших его летнюю резиденцию, о приемах в Нью-Йорке и на даче, о красавице-итальянке с серьгами (она впоследствии вышла за французского аристократа); а потом я подумал о письме, которое он совсем еще юношей написал матери, о том, как он ходил зимой в дырявых башмаках, как отказался от родителей, и, наконец, о телефонном звонке одного из тигров Уолл-стрита. «Суета сует и всяческая суета!» — сказал Экклезиаст… Берега наших социальных морей усыпаны жалкими обломками крушений, белеющими остовами полупогребенных в песке кораблей. На следующем углу он остановился, помедлил немного, словно не зная, какой дорогой пойти, затем повернул налево и затерялся в толпе. Больше я его никогда не видел и ничего не слышал о нем.
Калхейн, человек основательный
Обратиться к нему меня заставила нервная депрессия. На моем физическом состоянии она отразилась мало; я, можно сказать, был болен духовно. Честно говоря, я относился и к Калхейну и к его методам с предубеждением. Я и раньше немало слышал о нем. Начать с того, что он был известным борцом, или, вернее, бывшим борцом, который ушел с ковра в расцвете славы — непобежденным чемпионом мира. Еще мальчиком я знал, что он вместе с Маджеской объехал Америку, играя Чарльза в «Как вам это понравится». До или после этого он тренировал Джона Л. Салливэна — тогдашнего чемпиона мира по боксу, и подготовил его к одному из самых блестящих выступлений, — и это в такое время, когда Салливэн, казалось, не имел никаких шансов на успех. За свою жизнь Калхейн переменил много профессий: работал на отцовской ферме в Ирландии, отрабатывал проезд в Америку камбузным юнгой, был рабочим на фабрике мясных консервов, поваренком, потом официантом в третьеразрядном ресторанчике Нью-Йорка, вышибалой в кабаке, массажистом на состязаниях по боксу, полисменом, рядовым в Гражданскую войну, билетером, ярмарочным борцом, барабанщиком в бродячем цирке, и, наконец, достигнув наивысшей славы как чемпион мира по борьбе и тренер Джона Л. Салливэна, он открыл в одном из отдаленных округов штата Нью-Йорк спортивный санаторий, на смену которому позднее пришел в высшей степени фешенебельный пансион в Уэстчестере, возле Нью-Йорка. Меня всегда удивляло, что люди такого типа внушают чуть ли не благоговейный трепет именно тем, кто занимается умственным трудом; более понятным казалось мне преклонение перед ними тех, кто превыше всего ценит силу, проворство, так называемую физическую храбрость, даже если этим качествам сопутствует грубость. В низших слоях общества — особенно мужчины и подростки — относятся к таким силачам с почтительным уважением, что, наверное, им очень льстит. Однако в случае с Калхейном дело обстояло несколько иначе. Каким бы неотесанным он ни был в молодости, жизнь его со временем пообтесала. Он приобрел довольно разносторонние знания, привык к учтивому обращению, пригляделся к нравам и обычаям состоятельных людей и научилсяесли не подражать, то хотя бы приноравливаться в известной мере к их манерам. Ему принадлежали сотни акров превосходной земли в одном из наиболее фешенебельных уголков Восточных штатов. Он уже подарил общине сестер милосердия солидное поместье в северной части штата Нью-Йорк. Его конюшня располагала всеми видами самых модных экипажей и шестьюдесятью лошадьми; лошади были отвратительные, нарочно подобранные для «гостей». Сюда приезжали люди всех профессий, вносили с превеликой радостью вперед шестьсот долларов — плату за шестинедельный курс лечения; слуг и собственные автомобили пристраивали где-нибудь поблизости, так как пользоваться ими не разрешалось. Меня рекомендовал, или, скорее, навязал Калхейну, мой заботливый брат, который был его другом, — я сказал бы, закадычным другом, если бы таковой вообще мог появиться у Калхейна. Меня привезли в весьма подавленном и мрачном настроении и оставили одного: Калхейн редко встречал своих гостей лично, а если и встречал, то всегда заставлял ждать. По дороге в санаторий брат счел нужным предупредить меня относительно своеобразных методов и приемов лечения, которые, по слухам, оказывали благотворное воздействие на большинство пациентов. Методы эти были чрезвычайно свирепы, нарочито свирепы. По приезде, еще до встречи с хозяином, я поразился благородной простоте здания, в котором помещалась гостиница, или санаторий, или «ремонтная мастерская» (как я узнал позднее, он именно так называл свое заведение); дом стоял на холме, и с крыльца открывался поистине чудесный вид. День выдался ясный и по-весеннему теплый. Живая изгородь из высокого, ровно подстриженного кустарника окружала широкую лужайку, радовавшую глаз ярко-зеленой травой. Дом был серый, большой, вытянутый в длину, со строгими окнами, доходившими до самого пола, и просторными балконами, опоясывавшими весь второй этаж; на балконах стояли кресла-качалки, защищенные от солнца навесом. Возвышенность, на которой находился санаторий, полого спускалась к морю; до побережья было несколько миль. Какое очарование придавали пейзажу шпили деревенских церквей, островерхие крыши и множество парусников, казавшихся отсюда игрушечными! К западу на многие мили вздымались и опадали, как волны, зеленые холмы, а в ясную погоду среди деревьев виднелись шпили и крыши ближайших деревень. На юге слабо поблескивала водная гладь и смутно вырисовывались прихотливые очертания, казавшиеся днем всего-навсего неясным контуром отдаленного пейзажа. Но зато ночью мягкое сияние, излучаемое мириадами огней, указывало местонахождение огромного города — нарядного и разгульного Нью-Йорка. На севере поросшие травой холмы тянулись бесконечной чередой, пока не исчезали в зеленовато-голубой дымке. Как я вскоре убедился, санаторий был очень разумно и правильно оборудован, и все внутреннее устройство отвечало той цели, для которой он предназначался: повсюду много воздуха, света; на первом этаже — большой гимнастический зал, где в углублении стены висело несколько боксерских «груш» и мячи для лечебной физкультуры. В другой части здания находилась контора или приемная, кладовая для хранения багажа, гардеробная и столовая. В восточном крыле были устроены душевые, комната отдыха и солярий. На втором этаже по обе стороны широченного коридора, в одном конце которого находились большая библиотека, бильярдная и курительная, а в другом — личные апартаменты Калхейна, шел ряд спален, всего около ста; из каждой спальни была дверь на балкон. Это устройство очень напоминало пассажирский пароход с каютами, выходящими на палубу, и проходом между ними. В другом крыле первого этажа помещались кухни, комнаты для прислуги и еще много, много всего. На краю огромной лужайки под прямым углом к санаторию стояла большая конюшня, почти столь же внушительная. В усадьбе было людно: повсюду мелькали слуги, конюхи, официанты, не говоря уже о множестве пациентов — людей почти всех званий, возрастов и даже, можно сказать, почти всех национальностей, представленных в Америке первым и вторым поколением иммигрантов. Своего будущего хозяина — или доктора, или тренера — я увидел только часа через два после приезда; мне пришлось сидеть и дожидаться, пока он не соизволит снизойти до знакомства со мной. Наконец он появился, и должен сказать, что я еще не видывал зверя более свирепого и вместе с тем более цивилизованного. Выглядел он весьма живописно и был поистине великолепен: хорошо сложенный, с величественной фигурой и осанкой, словно оживший портрет кардинала Ришелье или герцога Гиза: светло-коричневые рейтузы, ярко-красный жилет, пиджак в черно-белую клетку, желтые сапоги с отворотами и шпорами, а в руке арапник. И все же даже в этом прекрасно сшитом костюме для верховой езды он сильно смахивал на тигра или на очень злого кота, умеющего, однако, очень ласково мурлыкать, этакого кота из детских сказок — в бархатном камзоле и сапогах. И походка у него была кошачья, легкая и бесшумная. Холодные, серые глаза его время от времени вспыхивали тем злым, беспокойным и недоверчивым огоньком, который иногда пугает нас в глазах дикого зверя. Трудно было поверить, что этому человеку уже за шестьдесят. Ему от силы можно было дать пятьдесят лет, а то и меньше. Коротко подстриженные седые усы и бородка делали его еще более величественным. Гладко зачесанные волосы и косматые брови, кончики которых загибались кверху, усугубляли это впечатление. Словом, вид у него был очень мужественный, очень неглупый, очень хладнокровный, очень сердитый и даже грозный. — Ну, — сказал он, — вы хотели меня видеть? Я назвал себя. — Да, да. Ваш брат уже рассказывал мне про вас. Хорошо, садитесь. Вами займутся. Он снова исчез; а я еще около часа сидел и ждал, сам не зная толком чего, — комнату ли, обеда или ласкового слова. Но никто не появлялся. За время ожидания в унылом вестибюле, увешанном шляпами, картузами, хлыстами и перчатками, я успел присмотреться к кое-кому из тех людей, с которыми мне предстояло провести несколько недель. Было около двух часов; одни парами или по трое разгуливали по комнате и беседовали, другие читали, все были в обычных спортивных костюмах — мягких шерстяных рубашках, брюках-гольф, чулках и спортивных туфлях. В большинстве своем это, по-видимому, были так называемые люди умственного труда — врачи, адвокаты, священники, актеры, писатели; немало здесь было коммерсантов, промышленников, политических деятелей и просто светских бездельников — молодых и среднего возраста, утомленных непрерывной погоней за удовольствиями. Я сразу же узнал известного нью-йоркского судью и актера, прославленного во всех странах, где говорят по-английски. И другие, как мне сообщили потом, тоже занимали видное положение в обществе, кто в силу своего происхождения, а кто благодаря собственным стараниям. Все эти умные и образованные люди, как я понял впоследствии, приезжали сюда потому, что они сами или их родственники всерьез верили или по крайней мере находили удовлетворение в диковинном методе лечения, благодаря которому Калхейн прославился. Как я уже говорил, я был настроен скептически. Всякие медицинские теории со всевозможными «измами» никогда не внушали мне доверия. Однако, пока я дожидался, произошел случай, который произвел на меня известное впечатление. К подъезду подкатил легковой автомобиль, в котором сидел какой-то тощий субъект с надменным выражением лица. Он явно ждал, что его выйдут встречать. Никого не дождавшись, он осторожно выбрался из машины и, удостоверившись, что его многочисленные чемоданы и саквояжи сгружены на усыпанную гравием площадку перед санаторием, отпустил шофера и вошел в дом. — Где же мистер Калхейн? — спросил он. Так как, кроме меня, в вестибюле никого не было, я ответил: — Не знаю, он был здесь, но ушел. Наверное, сейчас кто-нибудь придет. Новоприбывший стал расхаживать взад и вперед. — Необычный способ принимать гостей. Я телеграфировал о своем прибытии. Он продолжал беспокойно и сердито шагать по комнате, время от времени поглядывая в окно, потом сказал, что все это очень странно. Я с ним согласился. Прошло минут пятнадцать, а к нам все еще никто не выходил. Те из служителей или пациентов, которые случайно проходили через вестибюль, не удостаивали нас даже взглядом. — Это ни на что не похоже, — злился новоприбывший, продолжая ходить по комнате. — Три часа тому назад я отправил телеграмму. Здесь я сижу уже сорок пять минут. Так дела не делают, если хотите знать. Наконец наш грозный хозяин явился. Он, видимо, направлялся по своим делам и совсем не собирался разговаривать с нами. Однако, заметив нас, или, вернее, нового пациента, он с тем же холодным и равнодушным видом посмотрел на него, но не выказал никакого намерения извиниться за свое опоздание. — Вы хотели меня видеть? — отрывисто буркнул он. Новоприбывший прямо весь трясся от злости, как оса. Он чувствовал себя оскорбленным тем, что к его особе не отнеслись с должным уважением. — Вы мистер Калхейн? — спросил он резко. — Я. — Мое имя — Сквайрс, — объявил он. — Я дал вам телеграмму из Буффало и заказал комнату, — продолжал он, сердито размахивая рукой. — Ошибаетесь, вы ничего не заказывали, — мрачно ответил хозяин, не скрывая своего желания выказать полное безразличие и даже презрение к мистеру Сквайрсу. — Вы просто запрашивали, можно ли получить здесь комнату. Больше он ничего не прибавил, но в вестибюле вдруг повеяло холодом. Мистер Сквайрс понял, что его неправильно информировали о порядках в этом санатории и что он допустил какую-то ошибку. — А-а, конечно… Ну так как же, есть у вас комната? — Не знаю. Вряд ли. Мы принимаем далеко не всех. Взгляд его при этом, казалось, насквозь просверлил будущего пациента. — Да, но мне говорили… мой друг, мистер X… — не то сердясь, не то извиняясь, мистер Сквайрс пустился сбивчиво объяснять, как он сюда попал. — Я знать не знаю ни вашего друга, ни того, что он вам говорил. Если он сказал вам, что у нас можно заказать комнату по телеграфу, он ошибся. К тому же вы сейчас разговариваете не с вашим другом, а со мной. Но раз вы уже здесь, я готов посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать, если, конечно, вы согласны присесть и отдохнуть. Сейчас я ничего не могу решить. Придется подождать. — Он повернулся и вышел. Мистер Сквайрс застыл в изумлении. — Ну и ну! — сказал он мне немного погодя и нервно зашагал из угла в угол. — Если хочешь попасть сюда, нужно мириться с этим, но встречают здесь по меньшей мере странно. — Он понуро уселся и стал ждать. Потом, когда конторщик заносил наши имена в регистрационную книгу, мистер Сквайрс пожаловался, что у него не в порядке легкие. Приехал он издалека, кажется, из Денвера. Ему сказали, что достаточно послать телеграмму, особенно для такого человека, как он. — Да, так многие думают, — флегматично заметил конторщик, — но они не знают мистера Калхейна. Он поступает так, как ему нравится. Мне кажется, он держит санаторий для собственного удовольствия, а не ради денег. Желающих попасть к нам всегда больше, чем мы принимаем. Я начал кое-что понимать. Кто знает, может быть, санаторий и в самом деле заслужил свою славу. И, однако, я не представлял себе по-настоящему, куда я попал, до тех пор, пока после скудного ужина не направился в отведенную мне скромно обставленную комнату, сильно смахивающую на тюремную камеру. Ровно в девять часов погас свет. Я зажег тоненькую свечку и хотел было разобрать саквояж, как вдруг из коридора послышался голос: «Гасите свечи! Скорее! Все в постель!» Тут я понял всю строгость режима в этом санатории. В половине шестого утра, когда я еще крепко спал, раздался громкий стук в дверь. Еще вечером я заметил над моей постелью объявление: «Все гости должны ровно к шести часам являться в гимнастический зал, одетыми в трусы, туфли, свитер». «В гимнастический зал! В гимнастический зал!» — раздавалось по всему дому. Я вскочил с постели. Я уже понял по царившей здесь атмосфере, что лучше и не пытаться нарушать заведенный порядок. Тигриные глаза хозяина смотрели на меня отнюдь не ласковее, чем на всех остальных. Свои шестьсот долларов я выложил. Надо оправдать их. Не прошло и пяти минут, как я уже входил в гимнастический зал, успев надеть трусы, свитер, халат и спортивные туфли. Ну и зрелище! Такой странной публики, какая собралась здесь, я никогда еще не видел ни в одном спортивном зале. Тощие, костлявые фигуры, великолепные бакенбарды, усы, козлиные бородки, толстые животы, острые коленки, тонкие руки, лысеющие и совсем лысые головы; очки в оправе, без оправы, пенсне, которые пришлось снять, когда начались упражнения. Даже цветущие юноши в спортивных штанишках, свитерах и тапочках не слишком радуют взор. Что же сказать о людях немолодых? А ведь они, не без горечи подумал я, обычно носят самое лучшее платье, имеют собственные автомашины, слуг, дома и загородные виллы, владеют предприятиями и фабриками, распоряжаются сотнями людей. И смех и грех! И все, не исключая меня самого, дряблые и беспомощные, словно устрицы, вытащенные из своих раковин. Поистине жалкое зрелище! Пока я предавался этим размышлениям, некоторые из присутствующих, видя, что я новичок, посоветовали мне поскорей подыскать себе партнера для игры в мяч, а не то меня может взять в пару «сам». Я поспешил последовать их совету. Не успели мы приступить к упражнениям — каждая пара тренировалась двумя-тремя мячами, — как вошел наш хозяин — железный человек, гора мускулов. Халат с капюшоном делал его похожим на странствующего аббата или средневекового капуцина, но никак не на тренера. Пройдя на середину зала, он скинул халат и остался в таком же костюме, как и все мы, ловкий и гибкий, словно хищный зверь. И насколько же он был привлекательнее нас: богатырская грудь, сухощавые, крепкие ноги, мускулистые, стройные руки. Быстрым движением он подхватил с пола большой, обтянутый кожей мяч, такой же, какие были у всех нас, и выкрикнул имя одного из гостей — тощего человечка с бакенбардами и лысиной, тоненькими ножками и ручками, выглядевшего весьма комично в трусах и свитере. Тот встал напротив хозяина, и на него тут же обрушился град грубых окриков. — Шевелитесь! Живее! Еще! Кидайте мне мяч! Ну кидайте же! Целый день вы его держать будете? Господи! Ну чего вы стоите? Чего вы стоите? Вы что — чай пьете, что ли? Давайте, давайте! Я не могу возиться все утро только с вами! Живее! Живее, размазня вы эдакая! А еще называется редактор! Вам не отредактировать и объявления! Вы даже мяч бросить прямо не умеете! Да прямо же! Прямо, говорят вам! Черт возьми, где я, по-вашему, стою, на улице, что ли? Прямо надо кидать! А, черт! Во время этой тирады хозяин справа и слева подбирал мячи, которыми был усеян пол зала, и кидал их в своего партнера; прежде чем несчастная жертва успевала понять, в чем дело, кожаные надувные мячи ударяли ее в плечо, в грудь, в подбородок (полагалось, чтобы партнеры перебрасывались не меньше, чем двумя мячами). Наконец мяч угодил редактору в живот, он слабо охнул и, схватившись за ушибленное место, совсем перестал ловить мяч. Увидев это, наш хозяин презрительно улыбнулся и, замахнувшись мячом, который собирался бросить, сказал: — Что с вами такое? Да пошевеливайтесь же! Ну зачем вы остановились? И для чего вы здесь стоите? Не ранены же вы! Ну как вы собираетесь чего-то добиться в жизни, если не можете управиться с двумя несчастными мячиками (на самом деле мячей было не меньше восьми)? Мне шестьдесят лет, вам сорок, а вы мне в подметки не годитесь. И после этого вы хотите учить своих читателей уму-разуму. Ну, ладно, продолжайте. Мне жаль ваших читателей, больше мне нечего сказать. — С этими словами Калхейн отвернулся и вызвал другого пациента. Второй жертвой оказался тучный лысый мужчина с отвислым двойным подбородком и солидным брюшком, как я узнал впоследствии — владелец фабрики готового платья, насчитывавшей до шестисот рабочих; он страдал расстройством нервной системы и был, что называется, совершенной развалиной. Услышав свое имя, он вздрогнул, тяжело пыхтя встал в позицию и в панике стал метаться во все стороны, пытаясь поймать мячи, которые хозяин нарочно бросал в самых неожиданных направлениях. — Живей! Живей! — подгонял его хозяин, еще более сердито, чем первого партнера. — Господи, ну что вы копошитесь, точно краб! Как вы двигаетесь! Будь у вас побольше мозгов и поменьше жиру, вы были бы попроворней! Ну на кого вы похожи! Вот что получается, если целыми днями разъезжать в такси и ужинать в полночь, вместо того чтобы заниматься спортом. Да проснитесь же наконец! Вам давным-давно пора носить бандаж. Чуть поменьше есть и поменьше спать, тогда у вас не было бы таких жирных щек. Да и волосы не вылезли бы. Проснитесь же! Вы что, умирать собрались, что ли? — При этом Калхейн так стремительно швырял мячи, что его партнер, казалось, вот-вот расплачется. Его физические недостатки стали видны особенно ясно. Он был невероятно толст, и казалось, вот-вот упадет. Он еле стоял на ногах, лицо его побагровело, руки дрожали, он не мог поймать ни одного мяча. Наконец хозяин сказал: — Ладно, продолжайте, — и вызвал третью жертву. На этот раз отозвался известный актер, любимец публики, довольно подвижной и хорошо сложенный, но все же явно смущенный предстоящим ему испытанием. Этот актер прожил здесь уже несколько недель и очень окреп физически, но и он отнюдь не чувствовал себя уверенно. Проворно выбежав на середину зала, он стал ловить и бросать мячи со всей быстротой, на которую только был способен, но тем не менее его, как и остальных, осыпали такой злой и презрительной бранью, какую только немногим из нас доводится слышать в этом мире, и уж, конечно, не избранникам, привыкшим блистать на театральных подмостках. — Какой вы к черту артист, вы — баба! Луковица вы тушеная! Шевелитесь же! Ну живо, живо! Давайте! Вы только поглядите, как он возится! А руки, руки-то зачем подняли? Где, по-вашему, мяч? На потолке, что ли? Это вам не лампа! Живо! Живо! Непонятно, как это вы встаете на ноги после того, как вас убивают в «Гамлете». Вы уже умерли. Вы уже давно умерли, если хотите знать. Да шевелитесь же! Так продолжалось до тех пор, пока несчастный трагик, слабый и беспомощный по сравнению с хозяином, под градом мячей, которые били его по груди, голове, животу, наконец не сдался и не закричал: — Быстрее я не могу! Нельзя требовать того, чего я не могу! — Ступайте на место, — сказал хозяин и отвернулся от него. — Позовите какого-нибудь приготовишку, пусть он поиграет с вами в шарики, — после чего занялся следующим. Я, как легко можно себе представить, был полон самых тревожных предчувствий. Ведь в любую минуту он мог вызвать меня! Я играл с маленьким, болезненным человечком, который выбрал меня, вероятно, потому, что угадал во мне неуклюжего и безобидного новичка; он, видимо, понимал, что я опасаюсь того же, что и он сам. Перебрасываясь со мной мячами, он всячески старался сделать вид, что тренировка идет у нас отлично. — Давайте кидать побыстрей, может, нас тогда и не вызовут, — с трогательным доверием сказал он мне. В пору было подумать, что мы знакомы всю жизнь. Но нас и на самом деле не вызвали, по крайней мере в то утро. Благодаря ли нашим стараниям, или потому, что я был для Калхейна слишком незаметной, безвестной личностью, но мы избежали опасности. Однако на четвертый или на пятый день он добрался до меня, и трудно вообразить себе что-нибудь более постыдное, чем мое выступление. Мячи били меня, валили с ног и барабанили по мне до тех пор, пока я не распростерся на полу, уверенный, что пришла моя смерть. Но я остался жив, и меня, измученного и спотыкающегося, просто отослали назад к моему партнеру, а хозяин в это время уже терзал очередную жертву. Но как он обзывал меня! Какие замечания отпускал по адресу моей не блещущей красотой фигуры и скудных умственных способностей. Я снова, как бывало, чувствовал себя провинившимся школьником, над которым злорадно посмеиваются товарищи, и опозоренный, побитый поспешил отойти в сторону. Но только в соседней комнате — в душевой, где хозяин ежедневно собственной персоной надзирал за омовением своих гостей, во всей полноте проявилось своеобразие его метода лечения. Немалую роль в этом методе играло необыкновенное умение Калхейна лишать своих пациентов уверенности в себе: он показывал, что рядом с ним, сильным и энергичным, все они — молокососы, замухрышки, неудачники и олухи, какую бы роль они ни играли в обществе. Ибо они совершенно не умели распоряжаться самым ценным своим достоянием — телом. Здесь, в душевой, еще больше, чем за игрой в мяч, гости чувствовали себя выставленными на посмешище, потому что здесь они были голые. Какими бы представительными ни казались высокие костлявые адвокаты или судьи, врачи, политические деятели, светские щеголи, когда они, облаченные в безукоризненные костюмы, выступали перед присяжными, обращались с речью к избирателям, входили в модный ресторан, здесь — усатые, с тощими ногами, руками и шеей, с залысинами, лишенные всяких прикрас и всякого одеяния… судите сами, как они выглядели! После ряда новых упражнений — сто раз подняться на носки, сто раз (если сможете) присесть, сто раз выбросить руки вперед, вверх или в стороны, каждый раз ставя их обратно на бедра, пока не взмокнешь от пота, наступала очередь прослушать лекцию о том, как быстро мыться. — Эй, вы, готовы? — это относилось к видному адвокату, который, помнится, как и я, прибыл только накануне. — Подойдите сюда. Вам дается десять секунд, чтобы встать под душ, двадцать секунд, чтобы выйти и намылиться с ног до головы, еще десять секунд — снова встать под душ и смыть мыло, и еще двадцать секунд, чтобы вытереться насухо. Приготовились? Начинайте! Известный юрист встал под душ, но вместо того чтобы последовать данным ему указаниям, стоял неподвижно, дрожал от холода и ежился, позабыв все наставления хозяина, который предупреждал, что единственный способ избежать расслабляющего воздействия холодной воды — быстро и энергично двигаться. Юрист был представительный худощавый мужчина, но здесь ему пришлось обходиться без очков в золотой оправе, без костюма из тонкой шерсти и накрахмаленного белья. Когда он, наконец, робко и неуверенно вышел из-под душа, грубо понукаемый Калхейном, я с надеждой подумал, что этот зверь, которому, видимо, доставляло бесконечное наслаждение пренебрегать нашим положением в обществе и нашим умственным превосходством, и дальше будет мучить юриста, а не возьмется за меня. — Намыльтесь! — грубо крикнул хозяин, как только юрист выбрался из-под душа. — Намыльте грудь! Живот! Руки! Руки намыльте, черт побери! Да не трите их по часу! А теперь намыльте ноги! Ноги, черт побери! Что? Не умеете? Не стойте, как тумба! Намыльте ноги! Теперь спину! Спину, говорят вам! Спину, черт побери! Быстрее, быстрее трите! Теперь идите под душ и смойте мыло. Да не копайтесь, размазня вы этакая! Быстрее! Господи, вы что — весь день будете здесь торчать? Как будто вы никогда не принимали душ! В жизни такой размазни не видел! Явились сюда и хотите, чтобы я вылечил вас, а сами стоите, как чурбан! Ну, живей, живей! Известный юрист делал все, что ему приказывали, со всей доступной ему быстротой, но мучительнее и обиднее всего было для него, конечно, то, как выставлялись напоказ его умственные и физические недостатки. И очень часто, когда почтенного и серьезного человека обзывали размазней, а известному врачу или преуспевающему коммерсанту заявляли, что он чурбан, это больнее било по чувству собственного достоинства, чем все остальное. Встав под душ, злополучный юрист начал судорожно тереть лицо и руки, чтобы сполоснуть мыло, и, когда его выругали и отчитали за это, усердно занялся своим левым локтем. Тут уже хозяин окончательно вышел из себя. — Так, так, — гневно приговаривал он, следя за несчастным, словно ястреб за своей добычей. — Вы так и будете весь день тереть одно место? Вы что ж, черт возьми, не можете сообразить, как вымыть все тело и выйти из-под душа? Живей, живей! Трите грудь! Трите живот! Трите спину! Трите ноги и выходите! Юрист, с уморительным усердием растиравший все одно и то же место, тут же стал тереть другое, как будто его тело было огромным и сложным механизмом, устройство которого до сих пор оставалось для него загадкой. Он совсем растерялся и просто не знал, что ему делать и как угодить суровому хозяину. — Выходите! — сказал, наконец, Калхейн устало. — Выходите! Мыться вы не умеете. Для человека, который пятнадцать лет занимается юриспруденцией, вы поразительно тупы. Я еще не встречал таких. Дома вы, наверное, так и ходите немытый! Вытирайтесь! Почтенный юрист стал мрачно вытираться очень грубым полотенцем. Вид у него был обиженный и оскорбленный. — Что за язык! — обратился он к своему соседу, как мне рассказывали потом. — Он не привык иметь дело с порядочными людьми, это совершенно ясно. Разговаривает, как бандит. Подумать только — и за это мы платим деньги! Я, кажется, не останусь здесь ни одного дня. С меня довольно. Это прямо возмутительно! Возмутительно! Но тем не менее он остался — передумал ли, вспомнил ли о своих болезнях, а может быть, обильный завтрак успокоил его. Он пробыл здесь несколько недель, и за это время его здоровье — если не настроение — заметно улучшилось. На второй или третий день я был свидетелем другой сцены, над которой очень потешался, хотя, конечно, не в присутствии хозяина — еще бы! На этот раз в той же кабинке оказалось другое значительное лицо — не то судья, не то светский щеголь, точно не знаю, который мылся небрежно и вяло, то есть совсем не так, как было предписано; вдруг наш хозяин, посвящавший очередного гостя в искусство одноминутного купания, заметил это. Несколько секунд он внимательно наблюдал, как тот моется, потом подошел к нему и крикнул: — Пальцы на ногах вымойте! Пальцы, пальцы вы можете помыть? Упомянутый джентльмен, зная, что теперь он живет в условиях, весьма отличных от тех, к которым привык, нагнулся и начал тереть кончики пальцев, одни лишь кончики. — Эй! — крикнул хозяин на этот раз куда более резко. — Я же велел вам мыть пальцы, а не тереть их снаружи. Намыльте их! Вы что же, не знаете, как надо мыть пальцы? Пора бы знать в вашем возрасте! Мойте между пальцами! Мойте под ними! — Я, разумеется, знаю, как надо мыть пальцы, — сердито ответил гость и выпрямился, — но прошу не забывать, что я джентльмен. — А раз вы джентльмен, — отрезал хозяин, — вы обязаны знать, как моют пальцы. Так вот, мойте их и молчите! — Я бы попросил! — ответил купальщик с достоинством, что выглядело совсем уж нелепо. — Я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном. — Ничего не поделаешь, — отозвался Калхейн, — если бы вы знали, как надо мыть пальцы, мне, может, и не пришлось бы говорить с вами таким тоном. — О черт! — вскипел гость. — Это просто ни на что не похоже! Тут же уеду отсюда, ей-богу. — Пожалуйста, — был ответ, — но все же перед отъездом вам придется вымыть пальцы! И он действительно вымыл их под наблюдением хозяина, который стоял рядом и не спускал с него глаз до самого конца процедуры. Именно такое обращение с гостями и делало санаторий Калхейна самым удивительным из всех, какие я видывал. Как магнит он притягивал к себе всех прославленных и преуспевающих, несмотря на то, что здешние условия, казалось бы, должны были отталкивать их. Какую бы роль каждый из них ни играл во внешнем мире, здесь он не значил ровно ничего. Зато хозяин был всем. Его яркая индивидуальность всех подавляла, и он не упускал случая лишний раз продемонстрировать свое превосходство. На завтрак подавали какую-нибудь кашу, отбивные котлеты и кофе — всего в изобилии, но, на мой вкус, пресновато. После завтрака, с половины девятого до одиннадцати, мы могли заниматься чем угодно: писать письма, укладывать вещи, если думали уезжать, собирать белье в стирку, читать или просто сидеть без всякого дела. В одиннадцать, а иногда в половине одиннадцатого, в зависимости от предписанного вида спорта, мы собирались группами и совершали прогулку на длинную или короткую дистанцию либо ездили верхом; все было рассчитано так, что, если не терять времени, можно было перед вторым завтраком успеть принять душ, одеться и минут десять отдохнуть. Эти упражнения были сами по себе очень несложны: мы проходили длинную или короткую дистанцию (длинная — семь, короткая — четыре мили) то шагом, то бегом, согласно установленному маршруту, поднимались в гору, спускались под гору, месили грязь на немощеных дорогах, пробирались по пересохшим или заболоченным руслам ручьев и рек, по каменистым или заросшим травой полям, еще мокрым от росы или весенних дождей. Однако для нетренированных людей такая прогулка зачастую оказывалась далеко не легкой. В первый день я думал, что мне ни за что не пройти всю дистанцию, а я совсем не плохой ходок. Другие, главным образом новички, и вовсе частенько выдыхались на полдороге, и за ними приходилось посылать, или они являлись на целый час позже, и сердитый хозяин встречал их насмешками. Он явно презирал всякие проявления слабости и располагал тысячью способов, один другого неприятнее, чтобы показать свое презрение. — Если вы хотите видеть, какой размазней может стать человек, — заявил он однажды по адресу злополучного гостя, который никак не мог одолеть короткую дистанцию, — вот полюбуйтесь! Этот господин должен был за пятьдесят минут пройти каких-нибудь четыре мили — и что же? Взгляните на него. Можно подумать, что он при последнем издыхании. Он, наверно, и сам думает, что вот-вот умрет. В Нью-Йорке он проделывал по семнадцать миль за ночь, бегая из одного бара в другой или из одной устричной обжорки — это, кстати сказать, подходящее название для них — в другую, и ничего. А здесь, в деревне, на свежем воздухе, хорошо отдохнув за ночь, а утром плотно позавтракав, он не может пройти четыре мили за пятьдесят минут. Подумать только! А еще, наверно, воображает, что он настоящий мужчина, хвастает перед приятелями, перед женой. Боже, боже! Через день или два в санаторий приехал какой-то напыщенный майор американской армии, человек лет сорока восьми — сорока девяти, рослый и плечистый. Майор этот, с легкостью поднимаясь по служебной лестнице от одной синекуры к другой, наконец достиг высокой должности; но ему предстоял ряд испытаний, которые проводились с целью увольнения офицеров, чрезмерно разжиревших на службе. Майор не мог (или думал, что не сможет) выдержать эти испытания. Как он объяснил Калхейну — а Калхейн всегда весьма резко и непочтительно высказывался о тех, кто любил вдаваться в объяснения, — план его состоял в том, чтобы, пройдя здесь курс лечения, подготовиться к сдаче трудного испытания. Калхейну это, очевидно, не понравилось. Он терпеть не мог людей, пользовавшихся им и его методом лечения ради своей корысти, людей, желавших добиться в жизни большего, чем достиг он, и все же он никому из них не отказывал. Он полагал, и, на мой взгляд, не без оснований, что они смотрят на него сверху вниз из-за его низкого происхождения, из-за чисто материального успеха, которым он был обязан только грубой физической силе; поэтому, завоевав определенное положение в обществе, Калхейн уже не мог отказаться от своего дела, ибо оно давало ему известную власть над этими людьми. Одного вида этого майора, человека, обязанного уже по роду своей службы являть пример военной выправки и тем не менее приехавшего сюда поднабраться сил, было достаточно, чтобы Калхейн так и впился в него с въедливостью осы и кровожадностью волка. Не думаю, чтобы он делал это нарочно, ибо в конечном счете он был слишком умен и слишком хорошо знал жизнь, чтобы поддаваться таким мелочным побуждениям (хотя прошлое независимо от нашей воли сказывается на всех наших поступках); но судите сами: с одной стороны, бывший полисмен, бывший официант, бывший борец, бывший боксер, бывший рядовой, развозчик мяса, вышибала, тренер, с другой — этот окончивший военное училище майор, который совсем не знает жизни, не умеет заботиться о своем теле, приехал сюда с подорванным здоровьем в сорок восемь лет, тогда как он, Калхейн, благодаря спартанской выносливости и энергии в свои шестьдесят лет сохраняет железное здоровье, может помочь всем этим жалким людишкам и управляет великолепным лечебным заведением. В известной степени он был прав, хотя, по-видимому, забывал или просто не отдавал себе отчета в том, что не он творец своей неисчерпаемой мощи, — она была создана обстоятельствами и силами, ему неподвластными. Как бы то ни было, майор нуждался в его, Калхейна, помощи, и хотя он хорошо заплатил за предоставленную ему комнатку и еду, вероятно, куда более скудную, чем раньше, все же хозяин не мог удержаться от соблазна поиздеваться над новым гостем, выставить его на посмешище перед всеми, может быть, не без тайной мысли еще больше оттенить свои собственные достоинства. В первый же день он послал майора вместе с другими на короткую дистанцию, но ни в двенадцать часов, когда «гуляющим» полагалось вернуться, ни в половине первого, когда им полагалось занять места за обеденным столом, толстый майор еще не появлялся. Многие его видели в начале прогулки, потом обогнали. Он, вероятно, после первой же мили выдохся и теперь тащился из последних сил в гору и под гору к санаторию, а может быть, просто сбежал, как это уже случалось, и на попутном грузовике, а то и на телеге какого-нибудь фермера направлялся к ближайшей железнодорожной станции. И вот когда Калхейн уселся за свой маленький отдельный столик, стоявший посредине столовой, далеко в стороне от всех остальных (кстати, отличный наблюдательный пункт), и, поглядев вокруг, не нашел нового пациента, он осведомился: — Никто не видел этого, с позволения сказать, офицера, который приехал утром? Все подтвердили, что видели его на дистанции и обогнали мили на две, на три (больше никто ничего не мог сказать). — Я так и знал, — буркнул Калхейн. — Вот вам превосходный образчик этих кабинетных вояк; у нас в армии такие тоже были, сидят себе целыми днями в креслах, носят мундиры с шитьем и командуют другими людьми. Кажется, у человека, который окончил Вэст-Пойнт и воевал на Филиппинах, должно бы хватить ума не распускаться. Ничуть не бывало. Стоит им только выслужиться, как они тут же начинают шляться по ресторанам и приемам, хвастать своими подвигами. Вот вам офицер, майор, а он так раскис, что, пошли я сейчас за ним лошадь, ему даже не сесть на нее. Придется посылать грузовик. Он умолк. Майор явился час спустя в крайне плачевном состоянии. За ним ездил конюх с лошадью и рассказал, что майор не мог без посторонней помощи влезть в седло. С этого дня Калхейн избрал его мишенью для своих насмешек, и во время пеших и верховых прогулок — последние бывали у нас каждый второй или третий день — он постоянно придирался к нему, говорил, что майор «состоит из одних кишок» (меня при этом буквально передергивало); спрашивал, какой из него прок для армии и кто станет держать его там, если он не умеет того-то и того-то, как могут солдаты уважать такого субъекта, и так до бесконечности; сперва я жалел майора, потом начал восхищаться его долготерпением. Калхейн подсовывал ему самых костлявых и ободранных кляч из всей конюшни, но майор никогда не жаловался; нарочно выбирал для него те блюда, которые майор заведомо не любил, но тот все равно не жаловался; Калхейн посылал его гулять в то время, когда все отдыхали, не разрешал ему ни капли спиртного, хотя майор привык к нему. Как я узнал потом, майор прожил в санатории целых двенадцать недель вместо шести и выдержал испытания, что позволило ему остаться в армии. Но вернемся к Калхейну. Эти постоянные издевательства и придирки еще больше усиливали в нас чувство неполноценности, которое мы и без того испытывали из-за разительного контраста между ним — уверенным и сильным, несмотря на возраст, — и нами, казавшимися рядом с ним просто тщедушными заморышами. Пусть его гости были люди умные и способные, но они приехали с больными нервами и расстроенным здоровьем в санаторий, где властвовал он, холодный, надменный, глубоко равнодушный к тому, приехали они или нет, останутся у него или уедут, и всегда насмешливый, даже когда они выходили из себя от злости. Я слышал, что иногда он выказывал расположение к кому-нибудь из гостей, но это случалось очень редко. Вообще Калхейн, на мой взгляд, презирал всех своих пациентов, считая их жалкими и слабыми существами; презирал их образ жизни, развлечения, распущенность и лень, свойственную, по его мнению, большинству людей. Помню, как однажды он рассказывал нам про свою службу в армии. Его часть стояла на зимних квартирах, и солдаты целыми днями жались к печкам, курили «вонючие» (как он выразился) трубки, жевали табак, плевались, вшивели, неделями не меняли белье, тогда как он старался почаще бывать на воздухе даже в самую холодную погоду, и, имея одну-единственную смену белья и единственный мундир, через день стирал их с мылом или без мыла в ближнем ручье, частенько разбивая лед, чтобы добраться до воды, а потом, голый, приплясывал от холода, пока мокрая одежда сохла на кустах или деревьях. — Эти идиоты, — добавлял он презрительно, — вечно сидели взаперти, не понимали меня, поднимали на смех, торчали у печки, зато почти все они умерли в ту же зиму, а я вот живехонек по сей день. Этого он мог бы и не прибавлять. Мы и сами это отлично видели. Я разглядывал одутловатые, дряблые лица людей, которые чуть ли не всю жизнь просидели в своих уютных кабинетах, в ресторанах или просто у себя дома, а теперь, проездив верхом час или два, совершенно выбивались из сил, и невольно задавал себе вопрос, что они думают о Калхейне. Мне кажется, они либо считали его сумасшедшим, либо видели в нем исполинскую, а посему недоступную для подражания силу. Но Калхейн по отношению к ним отнюдь не проявлял такой терпимости. Однажды в санаторий приехал толстый и рыхлый еврей, плешивый, с брюшком, и попросил принять его. Калхейн согласился, радуясь, должно быть, случаю досадить всем остальным и одновременно приобрести такую удобную мишень для насмешек и исцеления. И с первой же минуты его пребывания здесь до самого конца (а уехали мы с ним почти одновременно) Калхейн преследовал свою новую жертву со злобной, поистине дьявольской изобретательностью. Он выделил ему самую мерзкую и строптивую лошадь, которая отчаянно кусалась и лягалась, а во время прогулки помещал мистера Ицки (если я верно запомнил имя) во главе кавалькады, чтобы удобнее было наблюдать за ним. Каждый раз перед прогулкой верхом в конюшне происходила проверка снаряжения, так как нам полагалось собственноручно оседлать лошадь, взнуздать ее и вывести из конюшни. Мистер Ицки не умел ни седлать, ни взнуздывать. Лошадь Ицки при его приближении шарахалась в сторону и становилась на дыбы, потом косилась на него злым глазом и норовила укусить. Такие испытания Калхейн ценил превыше всего. Он был просто счастлив, когда ему удавалось выдумать какую-нибудь новую трудность для своих гостей. При этом он не скупился на самые язвительные и обидные замечания; с мистером Ицки Калхейн был особенно груб. Скептически оглядев нас и проверив, как пригнаны седла, он неизменно обращался к мистеру Ицки: — Я вижу, вы все еще не научились затягивать подпругу? — Или же: — Вы зачем ей зад оседлали? Вы что, совсем ничего не умеете? Конечно, лошадь беспокоится, раз ее неверно оседлали. Лошадь все отлично понимает и знает, когда на ней сидит осел. Я бы тоже лягался и кусался, будь я на ее месте. Несчастные лошади — изволь таскать на своей спине таких дураков и лентяев. Отпустите-ка подпругу и затяните ее правильно и подвиньте седло (иногда в этом не было ни малейшей надобности). Не собираетесь же вы сидеть на хвосте у лошади? Потом наступал роковой момент посадки. Существовал, конечно, установленный и наилучший способ посадки — калхейновский способ: левую ногу в стремя, быстрое, упругое движение, и вы легко опускаетесь в седло. Полагалось при этом сразу же попасть в стремя правой ногой. И вот представьте себе в момент посадки пятьдесят, шестьдесят, а то и семьдесят мужчин разного роста, разного веса, с разным здоровьем и разным настроением. Некоторые из них до этого времени никогда не ездили верхом и теперь волновались и дрожали, словно маленькие дети. Как они садились на лошадь! Как они дрыгали правой ногой в поисках стремени! А Калхейн в это время, точно командир перед войском, восседал на единственной хорошей лошади и смотрел на нас с безграничным брезгливым презрением; этот взгляд в тысячу раз усугублял наши муки. — Ну, все сели? Вы с таким изяществом проделали это, что на вас просто приятно смотреть. Халберт так артистически перебросил ногу через седло, что чуть не выбил себе зубы. А Эффингэм хотел перепрыгнуть через лошадь. А где же Ицки? Я его даже и не вижу. А, вот он где. — И уже к Ицки, судорожно пытавшемуся засунуть ногу в стремя и вскарабкаться на лошадь: — Что с вами? Вы не можете так высоко поднять ногу? Вот вам человек, который уже двадцать пять лет управляет фабрикой готового платья, держит пятьсот рабочих, а сам не умеет даже сесть в седло. Полюбуйтесь! И от него зависит существование пятисот человек. (В этот момент Ицки удалось вскарабкаться на лошадь.) Подумайте-ка, сел! Теперь посмотрим, долго ли вы удержитесь в седле. А правое стремя, Ицки, вы обнаружите с правой стороны, неподалеку от брюха вашей лошади. Нечего сказать, приятно прокатиться в такой компании. Не диво, если обо мне здесь ходит дурная слава. Ну, вперед, да смотрите не падайте. Мы выезжали из конюшни, миновали двор и пускались крупной рысью по дороге, но очень скоро переходили на галоп. Для опытных наездников все это было не так уж сложно, но что сказать про новичков, которые не надеялись ни на себя, ни на своих лошадей. Я не ездил верхом уже много лет и в первый день был далеко не уверен в себе и не знал, смогу ли удержаться в седле. Но спустя несколько дней я стал ездить довольно сносно, и тогда объектом для насмешек стал мистер Ицки, а потом и другие. Как-то раз мистер Ицки упал или просто сполз с лошади и не мог влезть обратно. Мы уже были очень далеко от санатория. Калхейн заметил, что Ицки отстал, мы повернули обратно и подъехали к тому месту, где он сидел на обочине дороги, переводя печальный взор с кавалькады на окрестность. Но вид его ничуть не тронул Калхейна. — Ну, что с вами опять приключилось? — спросил он, сурово глядя на Ицки. — Я повредил ногу. Не могу ехать дальше. — Вы предпочитаете идти пешком и вести лошадь на поводу? — Да, верхом я не могу. — Превосходно,тогда отведите лошадь в конюшню, да не опоздайте к завтраку, а потом будете ходить с новичками на короткую дистанцию, раз уж вы не можете усидеть в седле. Чего ради, спрашивается, я держу конюшню первоклассных лошадей для таких идиотов, которые даже пользоваться ими как следует не умеют? Да они только портят лошадей. Не успеет лошадь попасть ко мне в конюшню, как порядочному человеку на нее и сесть не захочется. Они дергают ее, толкают, бьют, а ведь лошадь во сто раз разумнее их. Мы поскакали вперед, оставив Ицки в одиночестве. Мои соседи — мы ехали по трое в ряд — вполголоса возмущались заявлением Калхейна, будто у него хорошие лошади. — Какая наглость! Такие клячи! Мешок с костями! Подумать только, и это он называет хорошими лошадьми! Но ни громкого ропота, ни сочувствия мистеру Ицки я не услышал. Пусть этот жирный фабрикант пройдется пешком и попотеет, — можно себе представить, как он заставляет потеть своих рабочих. В этом странном заведении люди не очень-то сострадали друг другу, и каждый думал только о том, чтобы самому поправить свое драгоценное здоровье, а остальное неважно. И все такие несхожие по внешности, занятиям и немощам, что наблюдать их было одно удовольствие. Помню, например, тощего владельца сталелитейного завода, миллионера, президента могущественной компании, прибывшего из Канзас-Сити и страдавшего анемией, неврастенией, неврозом сердца и еще бесчисленным множеством недугов. Ему было уже за пятьдесят, и больше всего на свете он интересовался своей особой, своей семьей, своим делом, своими друзьями и старался извлечь как можно больше пользы из прославленного калхейновского курса лечения, о котором столько слышал. В первый день он оказался на прогулке рядом со мной и начал расспрашивать меня о Калхейне, о жизни в санатории, а потом пожаловался на свое здоровье. Особенно беспокоило его сердце; у него бывали какие-то странные приступы, он жил в вечном страхе, что вот-вот упадет мертвым; но когда приступ проходил, он не знал толком — действительно он болен или нет. Сразу же по приезде миллионер поделился с Калхейном своими спасениями, но тот осмотрел его и заявил (в чрезвычайно грубых выражениях), что он отлично может проделывать все глупости, которыми положено заниматься в санатории. Несмотря на это, как только мы отправились на короткую дистанцию, у фабриканта заболело сердце. Однако ему ясно дано было понять, что если он хочет остаться здесь, то должен выполнять все предписания. Через две-три мили быстрой ходьбы он сказал мне: — Боюсь, что не выдержу. Это много труднее, чем я ожидал. Мне очень нехорошо. Сердце колотится. — Раз он сказал, что это вам не вредно, значит, не вредно, — ответил ему я. — Не похоже, чтобы он заставил вас ходить, если это было бы слишком трудно. Он ведь осматривал вас, верно? Значит, вам это под силу. Он не стал бы никого нарочно утомлять. — Возможно, возможно, — неуверенно отозвался мой собеседник. Но тем не менее он всю дорогу не переставал жаловаться, ныл, все больше мрачнел и наконец замедлил шаг и совсем отстал от нас. В положенное время я добрался до гимнастического зала, быстро вымылся, оделся и вышел на балкон, находившийся над душевой, чтобы посмотреть, что будет дальше. Калхейн обычно к этому времени успевал вернуться с поездки верхом или пешей прогулки и стоял где-нибудь возле дверей, наблюдая, как идут дела у остальных. И сейчас он, по обыкновению, стоял в дверях, поджидая своих гостей; на дороге показался тощий фабрикант, он уже опаздывал на пятнадцать минут и еле плелся, прихрамывая и прижимая одну руку к сердцу, а другую к губам. Подойдя поближе, он сказал: — Боюсь, мистер Калхейн, что мне это не под силу. Мне очень скверно — сильное сердцебиение. — Да идите вы с вашим сердцем! Я же сказал вам, что ничего у вас нет! Ступайте мыться! Бедный фабрикант, то ли еще больше напуганный, то ли, наоборот, успокоившись, побрел в душевую, десять минут спустя он появился в столовой, причем выглядел ничуть не хуже других. После этого на очередной прогулке он признался мне, что в личности Калхейна есть что-то внушающее доверие, и с сердцем у него, надо полагать, совсем не так уж плохо; в последнем я, кстати, никогда и не сомневался. Но интереснее всего в Калхейне были его очень оригинальные, своеобразные, прямолинейные, хотя, быть может, и несколько грубоватые взгляды на жизнь. Он был центром узкого, насквозь материального мира, и тем не менее я всегда ощущал подле него биение большой жизни. У него, казалось, не было ни знаний, ни интереса к наукам, к искусству, к философии, но все же он производил впечатление человека, не чуждого духовным запросам. В своем роде Калхейн являл собою пример древнегреческого восприятия жизни и древнегреческой мудрости, которая спасла десять тысяч греков под Кунаксой. При всей его примитивности в нем словно жило ощущение исторической перспективы и гармонической личности. Он знал людей и понимал, как надо жить на вершине жизни или на ее дне, не впадая в крайности, не бросаясь из стороны в сторону. И все же, ежедневно и постоянно общаясь в этом маленьком, обособленном мирке со священниками, адвокатами, врачами, актерами, фабрикантами, «многообещающими» маменькиными сынками и избалованными наследниками, молодыми повесами и так называемыми светскими людьми, «сливками общества», у которых очень много денег, но зато очень мало знаний и энергии, необходимой в жизни, я недоумевал, чем Калхейн, грубо и пренебрежительно относившийся к ним, мог привлекать их к себе. Они съезжались к нему со всех концов Америки: с берегов Тихого и Атлантического океанов, из Мексики и Канады, и хотя ни сам он, ни его обращение с ними никак не могло им нравиться, они все же оставались здесь весь срок. Гуляя, катаясь верхом или отдыхая вместе с ними, я не раз слышал то от одного, то от другого, что Калхейн слишком резок, что он «грубиян», «выскочка» или в лучшем случае «боксеришка» (я и сам по временам, когда злился, мысленно называл его так), но никто, в том числе и я, не думал уезжать раньше срока. И невоспитанный он был, и вульгарный, а мы все равно не уезжали. И чем больше я думал о нем, тем больше убеждался, что Калхейн — человек в своем роде замечательный, хотя бы потому, что он умел справляться со своими клиентами, а это было очень и очень не просто. В большинстве это были либо те, кому слишком легко досталось богатство, либо те, кто добился успехов в жизни благодаря безграничному эгоизму. Трудно было найти людей более черствых, придирчивых. Они были пресыщены удовольствиями жизни, и мало что могло развлечь их. Они смотрели сверху вниз на все и на вся, не исключая и Калхейна, и однако их явно тянуло к нему. Я пытался объяснить это тем, что в людях, подобных Калхейну, есть какая-то железная сила, которая подавляет и подчиняет всех окружающих, хотят они того или нет; а может быть, их влекло к нему потому, что они в большинстве своем были так пресыщены и так беспредельно эгоистичны, что только сильно действующие средства и зверский режим, то есть нечто совершенно необычное могло вывести их из состояния равнодушия. Надо думать, Калхейн был единственным существом, с которым им стоило потягаться. Как я уже говорил, один из пунктов калхейновской системы заключался в следующем: он распределял время для прогулок на большую и малую дистанции так, что если пациент шел достаточно быстро, он успевал вернуться назад в двенадцать тридцать и у него оставалось еще немного времени для того, чтобы вымыться, переодеться и отдохнуть перед обедом. Калхейн же стоял у дверей душевой или сидел в столовой за своим маленьким столиком и следил за тем, чтобы все явились в срок и в надлежащем виде. Однажды наша группа прошла длинную дистанцию быстрее, чем полагалось; мы вернулись запыхавшиеся, но довольные, так как улучшили рекорд на целых семь минут. Хозяин нас видел, но мы этого не знали, и, как только вошли в столовую, он начал издеваться над нашим подвигом. — Вы очень довольны собой, да? — сердито спросил Калхейн без всяких предисловий, не объясняя, откуда ему известно о нашем рекорде. — Вы являетесь ко мне и платите мне по сто долларов в неделю, а потом начинаете мудрить и за свои же деньги вредите своему здоровью. Прошу вас не забывать, что моя репутация мне дороже ваших денег. Мне не деньги ваши нужны, мне нужно только, чтобы мои приказы выполнялись. У всех имеются часы. Вы должны рассчитывать время и проходить эту дистанцию в указанный срок. Другое дело, если вы не в силах это сделать; я могу простить человеку, который слишком слаб или болен. Но такие ловкачи мне не нужны, и чтоб этого у меня больше не было. Завтрак прошел весьма уныло. Вспоминая об этих завтраках и обедах, которые подавались минута в минуту, хочу еще добавить, что обличительные речи Калхейна по адресу тех или иных нарушителей распорядка и их проступков или просто его саркастические замечания о жизни вообще и о врожденной человеческой испорченности одних раздражали, а других забавляли. Кому не приятно слушать, как перемывают косточки его ближнего? Вместе со мной проходил курс лечения светский молодой человек, житель Нью-Йорка, по имени Блейк, который страдал жестокими запоями, что в конце концов вызвало у него нервное расстройство. Это и привело его сюда. При всем том это был милейший человек — обходительный, вежливый и деликатный. В нем была какая-то чуткость, сердечная доброта, широта взглядов, благодаря чему он снисходительно, с мягкой усмешкой относился к жизни и к людям, хотя многое подмечал. Его пристрастие к вину или, вернее, робкие попытки как-нибудь утолить свою жажду в этом безалкогольном царстве вызывали у Калхейна не столько гнев, сколько снисходительное презрение. Мне кажется, что Блейк даже полюбился нашему хозяину, — он был так пунктуален, так искренне старался соблюдать все правила и только раз в неделю просил отпустить его в Уайт-Плейнс или в Райи, а то и в Нью-Йорк по какому-нибудь делу, однако Калхейн решительно отказывал ему, да еще при всех. У Калхейна был собственный кабинет в этом же здании, и казалось, что проще зайти туда с какой-нибудь просьбой, однако его там никогда нельзя было застать. Он отказывался выслушивать там жалобы или просьбы, да и вообще принимать нас. Поэтому тем, кто хотел говорить с ним, приходилось делать это при всех — довольно здравая политика, надо признать. Но если у кого-нибудь были разумные просьбы или жалобы — а Калхейн каким-то особым чутьем всегда мог угадать, кто из нас на что способен и чего можно от каждого ожидать, — тогда он выслушивал просителя очень терпеливо, незаметно отводя его в сторону или даже приглашая к себе в кабинет. Однако в большинстве случаев эти просьбы ничем не отличались от просьб Блейка. Пациенты, пробыв в санатории две-три недели и несколько поокрепнув, начинали тосковать по радостям и развлечениям городской жизни и просили отпустить их на денек-другой. По отношению к таким просителям Калхейн был неумолим. Всякими правдами и неправдами благодаря друзьям и доверенным в соседних городах и излюбленных злачных местах Нью-Йорка он мог узнавать, где они были и чем занимались, когда покидали санаторий с его разрешения или без оного, и в случае, если отпускники нарушали какое-либо из его правил или не выполняли условий своего договора с ним, он лишал их на будущее всяких привилегий, а то и выгонял из санатория. Вещи их выносили на дорогу перед домом и предоставляли подыскивать себе кров, где им вздумается и как им вздумается. Все же Блейку однажды разрешили поехать в Нью-Йорк на субботу и воскресенье, чтобы уладить какие-то, по его словам, неотложные дела; при этом Блейк дал честное слово избегать огней Бродвея. Но слова своего не сдержал: его видели в одном из наиболее фешенебельных увеселительных заведений, где он напился так, чтобы хватило до другого раза, когда снова удастся вырваться в город. В понедельник утром или, может быть, в воскресенье вечером Блейк вернулся в «ремонтную мастерскую», но Калхейн сделал вид, что до второго завтрака не заметил его присутствия; пройдя длинную дистанцию и приняв душ, Блейк щеголем явился в столовую, стараясь придать себе по возможности невинный и бравый вид. Но Калхейн уже сидел за своим маленьким столиком в середине комнаты, поглаживая собаку, лежавшую у его ног (две чистокровные овчарки повсюду сопровождали его). — Собака, — начал он внятно, без всякого видимого повода и самым резким тоном, что всегда предвещало очередную грозу, — собака настолько лучше человека, что сравнивать их даже оскорбительно для собаки. Собака — порядочное животное. У нее нет отвратительных пороков. Если поставить миску с едой перед породистой собакой, она и не подумает обожраться до одури. Она съест ровно столько, сколько ей надо, и все. То же самое и кошка (последнее утверждение, конечно, никоим образом не соответствовало действительности, но…). У собак не бывает красных от пьянства носов. — Тут все взоры обратились к Блейку, нос которого действительно имел красноватый оттенок. — Собаки не болеют ни гонореей, ни сифилисом. — Все посмотрели на трех-четырех богатых повес, которые, как предполагалось, страдали этими болезнями. — Они не шляются по барам, не пьют, не хвастают в пьяном виде, какие они богатые, из какой они старинной семьи. (Подразумевалось, что Блейк именно так и делает, и хотя никто в этом не был уверен, тем не менее все снова взглянули на Блейка.) Собака умеет держать слово. Она предана вам, насколько ей позволяет ее маленький убогий мозг. Она делает все то, что, по ее мнению, обязана делать… Но возьмем человека, более того — джентльмена, одного из тех субъектов, которые не устают подчеркивать, что они джентльмены. (Чего, кстати, Блейк никогда не делал.) Оставьте ему в наследство восемь — десять миллионов, дайте университетское образование, блестящие связи в обществе — и что же он будет делать? Ни черта не будет делать, только безобразничать — бегать из ресторана в ресторан, из одного игорного дома в другой, от одной женщины к другой, от одной пирушки к другой. Ему ничего не нужно знать: он может быть паршивее самой паршивой собаки и умственно и физически, и все же он джентльмен, раз у него есть деньги и раз он носит гетры и цилиндр. Да что там, я в свое время видел немало бедных простых боксеров, которым так называемые джентльмены и в подметки не годились. Они умели держать слово. Они заботились о своем здоровье. Они старались пробиться в жизни, ни от кого не зависеть и показать, на что они способны. (Должно быть, он имел в виду самого себя.) Но так называемый джентльмен бахвалится своим прошлым и своей семьей, он будет уверять вас, что ему надо непременно съездить по делам в город, поскольку его вызывает адвокат или управляющий, а отпросившись, таскается по барам, развлекается со шлюхами, потом возвращается ко мне и просит привести его в норму, сделать нос не таким красным. Он воображает, что когда он совсем расклеится, то сможет в любое время вернуться ко мне, а я изволь ставить его на ноги, чтобы он снова мог безобразничать сколько душе угодно. Так вот я просил бы всех так называемых джентльменов и одного джентльмена в частности (эти слова он произнес с особым сарказмом) намотать себе на ус, что они жестоко ошибаются. Здесь вам не больница при публичном доме или при кабаке. И мне не нужны ваши несчастные шестьсот долларов. Мне не раз и не два случалось выгонять людей, которые приезжали сюда только за тем, чтобы набраться сил для новых кутежей. Благоразумные люди это знают. Они и не пытаются использовать меня. Только самые никудышные людишки да папаши с мамашами, которые в слезах привозят сюда своих сынков, — только они меня используют, и я принимаю их раз, другой, но не больше. Когда человек уходит от меня вылеченным, я знаю — он вылечился. Я вовсе не жажду снова увидеть его. Я желаю ему вернуться к нормальной жизни и встать на ноги. Я не хочу, чтобы он через полгода вернулся ко мне и слезно умолял снова привести его в норму. Это просто отвратительно. Противно. Хочется прогнать его, и я прогоняю, и дело с концом. Пусть себе идет и морочит кого-нибудь другого. Я показал ему все, что знаю сам. Чудес тут никаких нет. Побывав у меня, он может сделать для себя ровно столько, сколько делаю для него я. Не хочет — не надо. Добавлю только одно: среди вас есть человек, к которому в особенности относятся эти слова. Он здесь в последний раз. Он уже был здесь дважды. На этот раз он уедет отсюда и больше не вернется. А теперь постарайтесь запомнить, что я вам сказал. Калхейн умолк и откупорил бутылку вина. А однажды он разразился такой речью: — Есть в нашей стране порода людей, которым не мешало бы стать получше, — это адвокаты. Не знаю почему, но в самом их ремесле есть что-то такое, что делает их циниками и всезнайками. Большинство адвокатов ничуть не лучше тех жуликов и пройдох, которых им приходится защищать. Они охотнее всего берутся за такие дела, где нужно обойти закон, избавить кого-нибудь от заслуженного наказания, и при этом они хотят еще считаться честными и благородными людьми. Как вам это нравится! Если судить по тем типам, которые живут здесь у меня (при этих словах находящиеся в столовой адвокаты либо вопросительно взглянули на него, либо уставились в свою тарелку, либо с рассеянным видом посмотрели в окно, в то время как остальные смотрели на них), можно подумать, что они соль земли, что они избрали самую благородную профессию в мире и что они на голову выше всех остальных людей. Конечно, если покрывать жуликов и самим жульничать считается похвальным, — возможно, это и так, но я лично так не считаю. А уж физически адвокат — это самая жалкая рыбешка из всей, что когда-либо мне попадалась. Они вялые, нерешительные, какие-то малокровные, вероятно, от сидячего образа жизни. Они никогда не говорят с вами откровенно и прямо. Они всегда ищут, как бы укрыться за своими «если» и «но» и обойти вас. И никогда не ответят вам быстро и честно. Я наблюдаю за ними уже скоро пятнадцать лет, и все они похожи друг на друга. Они-то думают, что каждый из них единственный в своем роде. Ничего подобного, и большинство из них знает о жизни меньше, чем опытный делец или даже светский бездельник. (Видимо, на этот раз Калхейну не хотелось более подробно останавливаться на двух последних разновидностях.) Хоть убей, не пойму, как может красивая женщина выйти за адвоката. Он долго продолжал в том же духе, обличая один за другим все пороки этого племени и издеваясь над их недостатками. Если не знать, как он громит людей других профессий, можно было прийти к выводу, что Калхейн никогда не встречал людей более гадких, низких, более отсталых умственно и физически, чем адвокаты. При этом Калхейн так негодовал, у него был такой царственно-разъяренный вид, что не нашлось никого, кто дерзнул бы возразить ему; невольно думалось: вместо ответа он, как тигр, разорвет вас на мелкие части. На другой день, а иногда через два, три или четыре дня — в зависимости от настроения Калхейна — наступала очередь врачей, коммерсантов, политических деятелей или светских щеголей — и, господи помилуй, как им доставалось! Он всегда старался (а может быть, это получалось само собой) отыскать самое уязвимое место своей жертвы и показать, какое это жалкое, бестолковое, подлое, ничтожное и нелепое создание. О коммерсантах, например, он говорил так: — Люди, у которых есть свое маленькое дело — небольшая фабрика, оптовая торговля, маклерская контора, ресторан или гостиница, — отличаются чисто мещанским складом ума. — При этих словах все присутствующие в зале торговцы и фабриканты настораживались. — Все они знают только свое дело и больше ничего. Одному все доподлинно известно про пальто и костюмы (это был камень в огород бедного Ицки), другому о кожаных изделиях или обуви, о лампах, о мебели, — но больше он ни черта не знает. Если это американец, он корпит над своим маленьким делом, работает день и ночь до седьмого пота и заставляет всех, кто от него зависит, работать так же, он платит гроши рабочим, обманывает друзей, сам недоедает и заставляет голодать семью, лишь бы сколотить несколько тысяч долларов и не отстать от тех, у кого уже есть эти несколько тысяч. И притом он вовсе не желает выделиться чем-нибудь. Напротив, он всеми силами стремится походить на всех остальных. Если другой коммерсант в той же отрасли имеет дом на набережной Гудзона или на Риверсайд, ему тоже приспичит поселиться там, как только заведутся деньги. Если кто-нибудь из его знакомых или даже из тех, о ком он знает только понаслышке, состоит членом такого-то клуба, — ему тоже необходимо вступить в этот клуб, даже если его не хотят принимать и ему там вовсе не место. Ему хочется одеваться у того же портного, покупать провизию у того же бакалейщика, курить те же сигары и отдыхать летом на тех же курортах, что и другие. Он даже внешне хочет походить на других! О господи! И вот когда он уподобится всем остальным, то начинает думать, что теперь он что-то собой представляет. Он ничего не понимает, кроме своей торговли, и тем не менее хочет поучать других людей, как надо жить и мыслить. И все только потому, что у него есть деньги. Вообразите себе, что какой-нибудь богатый мясник или владелец швейной мастерской вздумает учить меня, как надо жить и мыслить! Тут он окинул нас всех таким взглядом, словно перед ним было множество живых примеров, подтверждающих эти слова. И забавно было наблюдать, что те, кто больше всего подходил под это описание, делали вид, будто все это никоим образам не относится к ним, речь вовсе и не о них. Но из всех людей, приезжавших в санаторий, Калхейн больше всего ненавидел врачей. Объясняется это, конечно, тем, что их профессия тесно соприкасалась с его собственной, и он не без основания предполагал, что они пренебрежительно относятся к его методам лечения и придирчиво изучают их, стараясь отыскать в них слабые места. Кроме того, он, вероятно, подозревал, будто они только затем и приезжают, чтобы позаимствовать его приемы, а затем без зазрения совести выдавать их за свои. С теми из них, кто осмеливался перечить ему, расправа была коротка. При мне в санатории жил круглолицый, крепко сбитый и весьма самоуверенный врач; мы обедали за одним столиком, и он не уставал делиться со мной своими медицинскими и всякими другими познаниями. Он несколько свысока говорил, что в методе Калхейна, бесспорно, есть некоторые рациональные зерна, но уж слишком их здесь переоценивают. Что касается его, то он решил насколько возможно придерживаться золотой середины и по этой причине, помимо всего прочего, надумал приехать сюда и посмотреть, что собой представляет метод Калхейна. Несмотря на всю снисходительность и даже благожелательность молодого врача, а может быть, именно из-за этого, Калхейн возненавидел его всей душой, едва терпел его присутствие и не уставал прохаживаться по адресу салонных докторишек с их коробочками пилюль и дешево доставшейся книжной премудростью, докторишек, хвастающих своей ученостью, «за которую заплатили другие», — так он однажды выразился, имея в виду родителей последних. А стоит им прихворнуть, как они тут же обращаются к нему за помощью или просто приезжают, чтобы изучить его методы и самим основать какой-нибудь дрянной, шарлатанский санаторий. Он-то их хорошо знает. Однажды в полдень собрались ко второму завтраку. Перед тем, как усесться за свой маленький столик в середине зала, Калхейн прохаживался по столовой, оглядывая все вокруг зорким взглядом, чтобы выявить имеющиеся неполадки и незначительные упущения и тут же устранить их. Одно из правил «ремонтной мастерской» гласило: каждый обязан есть то, что ему подают, не обращая внимания на тарелку соседа, которому подавали что-нибудь другое. Так, например, толстяк, сидевший за одним столом с каким-нибудь заморышем, получал крохотную порцию постного мяса без картофеля, без хлеба или с маленькой булочкой, в то время как перед его тощим соседом ставили огромную порцию жирного мяса с жареным или вареным картофелем, давали вдоволь хлеба и масла, а иногда еще какое-нибудь дополнительное блюдо. Нередко случалось, что и тот и другой были недовольны и пытались обменяться своими порциями. Но Калхейн самым решительным образом запрещал это. И вот однажды, проходя мимо стола, за которым сидел я и вышеупомянутый врач, Калхейн заметил, что врач не съел морковь. Кстати сказать, я думаю, морковь была нарочно подана ему, потому что, если кто-нибудь в первый или второй день своего пребывания здесь, ничего не подозревая, оставлял на тарелке какое-нибудь кушанье, его потом все шесть недель пичкали именно этим кушаньем. Старожилы иногда предупреждали новичков об этом обычае. Как бы там ни было, в данном случае Калхейн увидел несъеденную морковь, остановился и, помолчав, спросил: — В чем дело? Почему вы не едите морковь? — Мы уже кончали завтракать. — Кто, я? — ответил врач, подняв на него глаза. — Я, знаете, никогда не ем моркови. Я ее не люблю. — Ах, не любите, — елейным голосом повторил Калхейн. — Вы не любите морковь и не едите ее. Но здесь вы все же ее будете есть. Для разнообразия вам это не повредит. — Нет, я не ем моркови, — сухо ответил врач несколько обиженным тоном в надежде, что ему заменят гарнир. — У себя дома — нет, а здесь — да. Здесь вы ее будете есть, понятно? — Почему я должен есть морковь, раз я ее не люблю? Пользы мне это никакой не принесет, она мне даже вредна. Неужели я должен есть блюдо, которое мне вредно, только из-за того, что здесь так заведено или ради вашего удовольствия? — Ради моего удовольствия, ради самой моркови или ради всех чертей, но есть вы ее будете! И доктор повиновался. День или два он всем твердил, как это нелепо и как глупо заставлять человека есть то, что ему не нравится, но тем не менее во время своего пребывания в санатории он исправно ел морковь. Что касается меня, то, будучи большим любителем крупного вареного картофеля и больших порций мяса, все равно жирного или постного, я имел глупость сказать это; поэтому мне стали давать несколько крохотных, жалких картофелин и не менее жалкие порции мяса, после чего, правда, я мог получать сколько угодно дополнительных блюд, а вот мой новый сосед по столу, светский молодой человек, нервный и издерганный, получал — вскоре я узнал, что он терпеть их не мог, — картофелины величиной с кулак. — Вы только посмотрите! Вы только посмотрите, — то и дело брюзгливо говорил он буквально со слезами в голосе, глядя на поданную ему тарелку. — Ведь он знает, что я не люблю картофель, но полюбуйтесь, что мне дают. А вот вам дают его мало! Просто нахальство так издеваться над людьми, особенно в отношении еды. Не думаю, чтобы в этом был какой-нибудь смысл. Не думаю, чтобы крупный картофель принес мне какую-нибудь пользу, а вам — мелкий, и все же приходится есть всю эту гадость или убираться отсюда, а мне необходимо поправиться. — Не унывайте, — сочувственно отозвался я, косясь на крупные картофелины в его тарелке. — Не всегда же он смотрит в нашу сторону, сейчас мы это устроим. Разомните свою картошку, положите туда масла, посолите ее, а я сделаю то же с моей порцией. Как только он отвернется, мы поменяемся. — Вот хорошо! — обрадовался он. — Только ради бога поосторожнее. Если он увидит это, то рассвирепеет, как черт. Наша система действовала безотказно в течение некоторого времени; я каждый день всласть наедался картофелем и радовался своей удачной выдумке; но в один прекрасный день, когда я осторожно переправлял растертый картофель из пододвинутой ко мне тарелки в свою, я заметил приближающегося Калхейна и понял, что наша хитрость раскрыта. Возможно, на нас донесла какая-нибудь коварная служанка, а может быть, он и сам все разглядел из-за своего столика. — Ну, теперь я вижу, что творится за этим столом! — загремел он. — Немедленно прекратить. У этого великовозрастного дурня (он явно адресовался ко мне) не хватает силы воли и характера самому следить за своим здоровьем, и брату пришлось везти его сюда. Он не может сообразить своей дурацкой головой, что если я предписал что-то ему на пользу, то это нужно ему, а не мне. Он думает, как и другие набитые дураки, которые приезжают сюда и тратят зря свои деньги и мое время, что я играю с ним в какую-то хитрую игру, и хочет доказать, что хитрее меня. А еще считает себя писателем и умным человеком! Его брат, во всяком случае, так думает. А вот вам второй остолоп! — Он кивнул в сторону моего соседа и повернулся лицом к обедающим. — Не прошло и трех недель с тех пор, как он слезно умолял меня чем-нибудь помочь ему. А теперь взгляните, как он очаровательно развлекается со своей картошечкой. Ей-богу, — гневно продолжал Калхейн, — просто ума не приложу, что мне делать с такими кретинами. Самое милое дело взять этих двух да еще полсотни других, выставить их на дорогу вместе с пожитками — и пусть убираются ко всем чертям. Они не заслуживают, чтобы честный человек возился с ними. Я запретил играть в карты. И что же? Кучка оболтусов, умственных недоносков, у которых больше денег, чем мозгов, в один прекрасный день под видом прогулки удирает в поле; там они усаживаются и начинают резаться в карты только для того, чтобы показать, какие они ловкачи. Я запрещаю курить. Я не думаю, конечно, будто от курения умирают, но считаю, что здесь это неуместно и служит плохим примером для приезжающих сюда молодых бездельников, которым следует отвыкнуть от этой дурной привычки, а кроме того, я не люблю, когда курят, и не позволяю этого. И что же? Шайка избалованных маменькиных сынков и изнеженных наследничков, которых безмозглые отцы не могут приохотить к работе, приезжают сюда, привозят тайком или достают через слуг папиросы, а потом прячутся за деревьями или сараями и курят тайком, как сопливые школяры. Глаза б мои не глядели! Человек положил жизнь на то, чтобы приобрести знания и приносить пользу другим людям, и не ради корысти, а потому, что люди нуждаются в его помощи, но какой от этого толк, если ему все время приходится возиться с такими баранами? Ни один из двадцати, тридцати или сорока человек, которые приезжают сюда, не хочет, чтобы я на самом деле помог ему (а еще меньше они сами хотят себе помочь). Им, видите ли, надо, чтобы кто-нибудь подтолкнул их в нужном направлении, так как сами они не в силах этого сделать. Ну, какая радость возиться с такими идиотами? Выгнать бы всю эту свору хорошей плеткой. — Он махнул рукой. — Надоело! Сил моих нет. Что же до вас обоих, — начал было он, но внезапно остановился. — А ну вас! Чего ради мне возиться с вами? Делайте, что вам угодно, болейте и подыхайте! Он повернулся на каблуках и вышел из столовой. Я был так потрясен этой речью по поводу нашей выдумки, которая прежде казалась мне такой ловкой, что не мог произнести ни слова. Аппетит у меня сразу пропал, и я чувствовал себя отвратительно. Подумать только, из-за меня всем была задана такая взбучка! Я чувствовал, что мы — и вполне заслуженно — стали мишенью для негодующих взглядов. — Господи! — простонал мой сосед. — Со мной вечно так случается. За что бы я ни взялся, ничего не выходит. Мне всю жизнь не везло. Мать умерла, когда мне было семь лет, а отец не обращал на меня внимания. За пять последних лет я трижды заводил новое дело, но у меня ничего не выходило. Прошлым летом у меня сгорела яхта. Сам я уже два года страдаю неврастенией. — Он развернул передо мной такой свиток несчастий, который сделал бы честь самому Иову. А, по слухам, у него было девять миллионов! В заключение хочется вспомнить еще два-три не менее забавных случая. Наши прогулки верхом всегда сопровождались замечаниями Калхейна самого экстравагантного свойства о жизни вообще, о местных жителях и случайных прохожих. Так, в один прекрасный день мы ехали по тенистой лесной дороге, над которой густо переплелись ветви деревьев. Нас было много, ехали мы по четыре в ряд. Вдруг Калхейн скомандовал: — Сто-ой! Направо равняйсь! Повинуясь его команде, мы все выстроились в один ряд лицом к лужайке, которая неожиданно открылась слева от нас: у открытых дверей конюшни стоял маленький горн, а возле него лежал водопроводчик со своим подручным. Оба они — мужчина лет тридцати пяти и подросток лет четырнадцати-пятнадцати, — грязные, измазанные сажей, отдыхали на утреннем солнышке и, вероятно, ждали, пока расплавится свинец в маленьком котелке, стоявшем на горне. Калхейн покинул свое место во главе колонны, выехал на середину, поближе к водопроводчику и его подручному, и, указывая на них, громко и отчетливо сказал: — Вот полюбуйтесь. Это труд по-американски в самом лучшем виде; полюбуйтесь на этих изнуренных тружеников! Взгляните-ка на них. Мы послушно взглянули. — Перед вами бедный, изнывающий от непосильного труда водопроводчик… — При этик словах мужчина сел и с недоумением посмотрел на нас, явно удивляясь, откуда мы взялись и что тут происходит. — Этот водопроводчик получает, или, вернее, требует, шестьдесят центов в час, а обливающийся потом бедный маленький помощник получает сорок. Вот смотрите: они работают. Дожидаются, пока расплавится капля свинца, и получают за это по доллару в час. Пока свинец не расплавится, они ничего не могут сделать, а свинец, как вы сами знаете, должен хорошенько расплавиться. — И вот эти двое, — продолжал он, неожиданно переходя от легкой иронии к злобному презрению, — воображают, будто чего-нибудь добьются, если будут валяться без дела и выманивать деньги у того, на кого работают. Сам он не умеет чинить трубы. Он не может все уметь. Если бы умел, то нашел бы повреждение и управился один в три минуты. Но пронюхай об этом профсоюз, ему объявили бы бойкот, пришли бы шантажировать его, сожгли бы его сарай или заставили бы платить за работу, которую он сам сделал. Я их знаю. Мне с ними приходится иметь дело. Они чинят мне трубы точно так же, как эти двое, — валяются на травке за доллар в час. И потом требуют уплатить им за каждую каплю свинца, которую израсходуют. Из расчета пять долларов за фунт. Если они забудут принести какие-нибудь инструменты и им приходится возвращаться в город, все равно вы платите за это доллар в час. В сельской местности они начинают работу в девять и кончают в четыре. Если вы скажете им хоть слово, они могут совсем бросить работу, — ведь они организованные рабочие. Они не допустят также, чтобы работу сделал кто-то другой. А если уж возьмутся, то будут отдыхать каждые пять минут, вроде этих двоих. Или что-то должно закипеть, или надо подождать чего-нибудь. Ну разве не прелестно! И все мы, без сомнения, сотворены равными и свободными! И эти люди ничуть не хуже нас! Если вы работаете и зарабатываете деньги и вам надо что-нибудь запаять, вы вынуждены терпеть их. По четыре в ряд! Направо! Вперед! — Мы припустили рысью, а немного дальше перешли на галоп, словно быстрая езда могла помочь Калхейну стряхнуть овладевшее им настроение. Только тогда водопроводчик и его подручный сообразили, в чем, собственно, дело, и посмотрели нам вслед. Водопроводчик — невысокий, плотный человек — обрел наконец дар речи и крикнул: — Пошли вы к… — Но в это время мы были уже далеко, так что Калхейн вряд ли слышал его брань. В другой раз, когда мы ехали по дороге, ведущей в соседний городишко, навстречу нам попался большой пивной фургон; на козлах восседал немец, такой огромный, краснощекий и толстый, какого не каждый день увидишь. Было очень жарко. Немец клевал носом, лошади еле плелись. Когда мы подъехали ближе, Калхейн вдруг приказал нам остановиться, выстроил нас в обычном порядке и остановил лошадей, тащивших фургон, которые, как и мы, повиновались его громкому «тпру». Погонщик глядел на нас, сидя на своих козлах, со смешанным выражением удивления и любопытства. — Вот вам наглядный пример, — вдруг совершенно неожиданно начал Калхейн. — Я всегда говорю: слово «человек» надо как-то изменить или вообще заменить другим, чтобы придать ему более точный смысл. Разве можно назвать человеком вон то существо, что торчит на козлах! А потом так же называть меня или таких людей, как Чарльз Дана или генерал Грант! Вы только полюбуйтесь на него. На его рожу! На его брюхо! Вы думаете, что у этого существа — называйте его человеком, если вам нравится, — есть мозги и что он хоть чем-нибудь лучше, чем свинья в хлеву? Если лошадь предоставить самой себе, она будет есть ровно столько, сколько ей нужно, точно так же и собака, и кошка, и птица. Но дайте волю одному из тех существ, которых почему-то называют людьми, дайте ему работу и вдоволь денег или возможность жрать сколько душе угодно, и вы увидите, что из этого выйдет. Это существо подведет к себе шланг от пивной бочки и будет счастливо. Оно отрастит себе такие кишки, что хватит на целую колбасную фабрику, и в конце концов лопнет или просто сгниет заживо. Подумать только! И мы еще называем его человеком — некоторые, во всяком случае, называют. Во время этой странной и неожиданной тирады (я никогда еще не видел, чтобы Калхейн останавливал посреди дороги незнакомых людей) толстый возница, не очень хорошо понимавший по-английски, хмурился и в полном изумлении смотрел на нас. По хихиканью одних и громкому смеху других он стал смутно догадываться, что над ним издеваются и что он служит мишенью какой-то злой шутки. Его толстое лицо побагровело, а глаза злобно засверкали. — Доннерветтер! — заревел он по-немецки. — Свиньи собачьи! Полицию надо позвать. Я успел предусмотрительно посторониться, когда он щелкнул огромным кнутом и в бешенстве погнал лошадей прямо на нас. Калхейн, закончив свои грозные обличения, велел нам снова построиться и преспокойно поехал впереди. Но ничто не могло сравниться с гневом и презрением, которые вызывало в Калхейне любое проявление беспомощности и нерасторопности. Если он поручал вам что-нибудь — неважно что — и вы не бросались сломя голову выполнять поручение или просто не могли его выполнить, он не находил слов, чтобы выразить свое негодование. Особенно запомнился мне такой случай: однажды он повез нас кататься в карете (у него их было три); карета была огромная, лакированная, с желтыми колесами, и запрягали в нее не то семь, не то восемь, не то девять лошадей, не помню уж, сколько. Эта прогулка совершалась каждое воскресенье утром или днем, если только не было дождя. В одиннадцать или в два часа по всему санаторию раздавалось: «На прогулку в одиннадцать тридцать (или соответственно в два тридцать). Все в карету!» Калхейн восседал в таких случаях на высоком сиденье и держал в руках вожжи, рядом пристраивался один из гостей, и все остальные, хочешь не хочешь, размещались на сиденьях внутри и на крыше. Экипаж трогался, Калхейн погонял лошадей, и мы, как одержимые, носились по всей округе. Несколько конюхов выступали в роли ливрейных лакеев, другие заменяли форейторов, а один, примостившись на запятках — уж и не помню, как он именовался, — размахивал длинным серебряным рогом и трубил в него; трубить надо было в строгом соответствии с правилами парадных выездов. Частенько, когда заблаговременно не предупреждали о часе прогулки, после команды поднималась дикая суматоха: все лихорадочно облачались в воскресные костюмы, ибо Калхейн не терпел ни малейших изъянов в нашем туалете, а если мы не успевали одеться и не дожидались у входа, когда к крыльцу подавали карету, он приходил в совершенное бешенство. В тот раз, о котором я хочу рассказать, мы вовремя заняли свои места, все разодетые в лучшие костюмы, выбритые, напудренные, в перчатках, как подобает джентльменам, с расчесанными и подвитыми усами и бакенбардами, в начищенных до блеска башмаках и лоснящихся цилиндрах; впереди восседал Калхейн — и трудно было представить себе фигуру, более подходящую для данного случая: его длинный бич вился именно так, как полагается, готовый в любой момент опуститься на голову самой дальней лошади; а позади сидел трубач в цилиндре, в сапогах с желтыми отворотами и в ливрее какого-то умопомрачительного цвета. И вдруг в последнюю минуту выяснилось трагическое обстоятельство: конюх, обычно выполнявший обязанности чрезвычайного и полномочного трубача, единственный человек, умевший как следует обращаться с этим волшебным рогом, не то внезапно заболел, не то у него умер кто-то из родных. Так или иначе, но он не явился. Чтобы не разгневать Калхейна, под трубача одели другого слугу, он уселся на запятки и держал в руках рог, однако трубить он не умел. Пока мы усаживались, он несколько раз спрашивал: — Джентльмены, кто-нибудь из вас умеет трубить? Знает ли кто-нибудь положенный сигнал? Никто не отозвался, хотя все вполголоса обсуждали создавшееся положение. Некоторые из нас умели трубить или по крайней мере думали, что умеют, но никто не хотел брать на себя такую страшную ответственность. Тем временем Калхейн, который заметил наше волнение и, может быть, уже узнал, что подставной трубач трубить не умеет, обернулся и сердито спросил: — Неужели среди вас не найдется никого, кто умеет дуть в трубу? Ну, Касвел? — обратился он к одному и, услышав в ответ что-то невразумительное, повернулся к другому: — А вы, Дрюберри? Вы, Крэшоу? Все трое решительно отказались. Им и подумать об этом было страшно. Казалось, никто так и не решится взвалить на себя подобную ответственность, пока Калхейн окончательно не рассвирепел и весьма красноречиво не заверил нас, что если кто-нибудь сию же секунду не возьмется трубить, он, Калхейн, никогда в жизни больше не станет тратить время на возню с такими болванами, остолопами и прочее и прочее. Наконец один молодой и неосторожный джентльмен из Рочестера сказал дрожащим голосом, что, может быть, он сумеет справиться. Доброволец занял место в ногах у разряженного трубача, и мы тронулись в путь. — Но-о, поехали! За ворота и дальше по дороге, вниз и вверх, вверх и вниз, все весело глядят по сторонам, все довольны, потому что местность кругом красивая и погода отличная! И вот трубач, как и положено, подносит рог к губам и хочет протрубить торжественное «тра-та-та-та», но, к нашему великому стыду и огорчению, благополучно справившись с первыми тактами, он запнулся и «пустил петуха», как ехидно заметил кто-то. Вожжи дернулись в руках Калхейна, он резко выпрямился, но сказать ничего не сказал. В конце концов с плохим трубачом лучше, чем совсем без оного. Немного спустя, так как трубач медлил начать снова, Калхейн, не оборачиваясь, крикнул: — Ну, что там с вашим рогом? В чем дело? Не можете оправиться? Да вы что, так и будете теперь молчать? Последовала очередная попытка, прозвучало бравурное, веселое «тра-та-та-та», но в критический момент, когда все мы дрожали от волнения и молили бога о благополучном исходе, надеясь, что на этот раз трубач минует опасное место и придет к победному концу, раздалсяотвратительный и жалкий писк. Это было ужасно, чудовищно. Все уныло понурились. Что-то скажет Калхейн? Ждать пришлось недолго. — Господи Иисусе! — загрохотал он свирепо, обернувшись к нам. Лицо его буквально почернело от гнева и было ужасно. — Кто это сделал? Вышвырните его вон! Вы хотите, чтобы вся округа узнала, что я катаю стадо психопатов? Пусть кто-нибудь, кто умеет трубить, возьмет рог и трубит, черт вас подери! Без трубача я не двинусь с места. Несколько минут слышалось смущенное бормотание, шепот, умоляющие голоса: «Попробуйте вы»; мы красноречиво уговаривали то одного, то другого принести себя в жертву; злосчастный трубач заверял, будто он отлично умел трубить в свое время, ничуть не хуже других, и сам не понимает, что с ним случилось сегодня, — должно быть, рог не такой. — Довольно! — гаркнул Калхейн, кладя конец нашим переговорам. — Значит, никто не хочет трубить? Неужели среди всех вас ни один не в состоянии подуть в этот несчастный рожок? Чего ради я держу столько прекрасных экипажей, если у меня бывают только торгаши да разносчики! О черт! Любой ребенок сумел бы трубить в рот. Это так же легко, как играть на волынке. Если бы мне не надо было править, я бы сам трубил. Ну, живей, живей! Керриган, вы что скажете? — По правде говоря, мистер Калхейн, — ответил мистер Керриган, щегольски одетый и чрезвычайно учтивый наследник крахмало-паточного миллионера из Филадельфии, — я не занимался этим уже несколько лет. Я могу попробовать, если вы хотите, но не ручаюсь… — Попробуйте, — нетерпеливо перебил его Калхейн. — Хуже, чем у этого осла, у вас все равно не получится, хоть тысячу лет трубите! Давайте! Давайте! Мистер Керриган обернулся, взял рог, который с нескрываемой радостью вручил ему его незадачливый предшественник, облизнул и выпятил губы, поднял рог, запрокинул голову и… Это было потрясающе, неописуемо! Какие пронзительные и скрежещущие звуки! — Боже милостивый, — взревел Калхейн, рывком осадив лошадей. — Прекратить! Тпру! Так лучше вы не умеете? Ну, вы меня доконали! Тпру! Что за стадо я вожу с собой? И главное, здесь, где все меня знают и понимают толк в приличиях! Господи! Тпру! Я ухлопал тысячи долларов на экипажи, которые настоящим джентльменам могли бы доставить удовольствие, а вместо того вожу бездарных обалдуев. Несчастные пьянчужки, не знающие, что такое воскресный выезд. Ну, с меня хватит! Я сыт по горло! Лучше пущу эту проклятую колымагу на дрова, чем еще раз сяду в нее! Слезайте! Убирайтесь все! Обратно я вас не повезу. Идите обратно или куда вам вздумается, хоть к чертям, мне наплевать! Хватит с меня! Вылезайте! Я поворачиваю обратно! Я поеду домой какими-нибудь закоулками, если сумею. С такими ослами я больше не желаю возиться. Мы грустно и смиренно вылезли из кареты и, пока разъяренный Калхейн отыскивал место для разворота, стояли неподвижно, а потом по двое, по трое нерешительно отправились в обратный путь по извилистой дороге, неловко вышагивая в своих воскресных костюмах. Но как мы ругались! Как богохульствовали! Сколько раз мы желали его грубой ирландской душе провалиться в тартарары, и притом как можно глубже. Мы проклинали его со всех точек зрения, в выражениях столь изысканных, отборных и многогранных, какие на моем веку не выпадали на долю ни одного человека, от которых буквально пахло гарью — столько в них было ярости. А вы толкуете о филигранной резьбе красноречия! О мозаике из драгоценных слов! Вы бы только послушали, что мы говорили на обратном пути! И все же ни один из нас не уехал!Года два спустя мне довелось снова побывать в этих краях. Проезжая мимо санатория вместе со своими друзьями, я попросил приятеля, у которого гостил и который тоже знавал Калхейна, заехать туда. В те времена, когда я там лечился, людям, хорошо знакомым с заведением Калхейна, разрешалось проезжать по его территории мимо самых дверей «ремонтной мастерской» и даже останавливаться, чтобы повидать Калхейна, поговорить с ним или на худой конец просто раскланяться. В летнее время Калхейн разбивал на лужайке перед домом большую, красивую палатку в зеленую и белую полоску, там стоял походный стол, складные стулья, на столе лежали книги и бумаги. В жаркие дни, в свободное от возни с пациентами время, он сидел в этой палатке и читал. И когда он находился здесь или где-нибудь поблизости, над палаткой поднимали флажок, который, вероятно, должен был служить сигналом для гостей и посетителей. На этот раз флажок указывал, что он здесь, и мне захотелось еще раз взглянуть на этого царственного льва. Пациентам не разрешалось подходить к палатке ближе чем на десять шагов, а уж входить туда — и подавно. Но посетителям это дозволялось, и многие заезжали, чтобы вспомнить времена, когда они были его покорными рабами, и порадоваться вместе с ним его железному, несмотря на преклонный возраст, здоровью. И если посетители были люди интересные или Калхейн хорошо помнил их, он снисходил до того, что появлялся у входа в палатку и принимал их в позе Наполеона после битвы под Лоди или генерала Гранта в Уайлдернессе и впервые за все время выказывал по отношению к ним известную любезность. Итак, побуждаемый желанием еще раз увидеть своего сюзерена, проверить, узнает ли он меня, я попросил моего приятеля подъехать к палатке, где Калхейн сидел и читал. Я понимал, что затеял весьма рискованное предприятие. Собравшись с духом, я храбро вышел из автомобиля и, подойдя к Калхейну, назвал себя. На губах его появилась полуприветливая, полупрезрительная улыбка, и мы обменялись рукопожатием. Затем, вероятно решив, что если не сам я, то уж, во всяком случае, мои друзья — люди интересные, Калхейн поднялся и подошел к выходу. Я представил своих спутников: один был бывалый моряк, важный флотский офицер, другой — владелец большого имения за несколько миль отсюда. И тут я впервые увидел, каким величественным и обаятельным может быть Калхейн. Он встретил похвалы моих друзей по поводу окрестных красот царственным кивком и сказал, что в ясную погоду вид отсюда еще живописнее. К сожалению, он сейчас занят, а то показал бы моим друзьям свое заведение. Но если им случится как-нибудь в субботу проезжать мимо или они предупредят его по телефону заранее, он будет к их услугам. Мне бросилось в глаза, что Калхейн за это время ничуть не постарел. Ему теперь было уже за шестьдесят, а выглядел он все таким же крепким и подтянутым. И со мной он обращался столь учтиво и церемонно, словно никогда раньше не кричал на меня. «Боже правый! — подумал я. — Насколько лучше быть посетителем, чем пациентом». Спустя минуту-другую, сердечно поблагодарив его, мы уехали, но я еще несколько раз оглянулся. Санаторий Калхейна просто очаровывал меня. Какая благородная простота убранства! И какой суровый режим! А сам Калхейн в своей палатке — спартанец и стоик наших дней! Но больше всего удивила меня — как мало я знал его! — та книга, которую он читал и при нашем появлении положил на столик; она лежала переплетом кверху, и я невольно прочел заглавие. Это была «История европейской морали» Лекки. Вот! Так-то!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Два года спустя после моего последнего посещения Калхейна, я решил разобраться в моем истинном отношении к нему и набросал нижеследующие мысли, которые я и прилагаю сейчас к рассказу, независимо от того, какова их реальная ценность: тогда они выражали мое искреннее мнение о нем. Томас Калхейн принадлежит к той части общества, которую, как явствует из современной религиозной и философской литературы, всякого рода почтенные граждане (священники, дельцы, судьи, адвокаты и прочие) пытаются наставить на путь истинный. Именно представители этих кругов и приезжают в его санаторий, люди так называемого «хорошего общества». И тут оказывается, что физически и духовно их подчиняет своей воле человек, который, по их мнению — во всяком случае, в теории, — не более чем головешка, которую надо выкинуть из печи. Церковь и общество смотрят на Калхейна так же, как они смотрят на всех, кто находится за пределами их мира. Среди этих «полунеприкасаемых» Калхейн, безусловно, необычная фигура. На него неоднократно указывали и указывают с ораторских трибун, с церковных кафедр, с газетных страниц как на одного из тех людей, чье влияние пагубно для общества. И вот благочестивый проповедник приезжает к нему в санаторий, здоровье его подорвано, и тот же Калхейн видит его недуги, понимает, что причина болезни в том, что проповедник ведет неправильный образ жизни, закоснел в своих догмах, и Калхейн не боится встряхнуть его с нарочитой грубостью, насильно выбить из привычной колеи. Он знает своего пациента лучше, чем тот знает самого себя, — и исцеляет его. Над этим поразительным явлением стоит призадуматься тому, кто хочет влиять на своих сограждан. Удачливые игроки, боксеры, жулики, кабатчики, букмекеры, жокеи и им подобные добиваются успеха благодаря своему уму, сметливости и проницательности. Нет сомнения, что среди профессиональных спортсменов и вообще среди людей, не принадлежащих к хорошему обществу, можно найти мудрых и прозорливых судей человеческой природы. Знакомство с суровой, неприкрашенной действительностью многому научило их. Они видят жизнь с изнанки и не обольщаются ею: всю ее жестокость они узнали на своей шкуре. Зачастую люди, которые собираются в низкопробных кабаках и которых наши проповедники и моралисты готовы огульно предать анафеме, имеют более верное представление о самих проповедниках, о церковных организациях, о реформаторах и об их значении в многообразной жизни общества, чем проповедники, религиозные организации и реформаторы — о завсегдатаях этих кабаков и о том мире, к которому они принадлежат. Вот отчего, по моему скромному мнению, церковь и все те, кто поддерживает ее начинания, не могут добиться больших успехов. Они всячески стараются исправить мир, но сами так погружены в себя и свои догмы, так скованы своим произвольным и узким пониманием добра и зла, что большая часть общества остается вне поля их зрения, в лучшем случае удостаивается лишь беглого внимания. А влиять на людей на расстоянии нельзя. Хотел бы я знать, сумеет ли проповедник или судья, возмущенный языческим варварством мистера Калхейна, обратить этого гладиатора в свою веру так же быстро, как этот гладиатор вылечивает его. Справедливости ради мне теперь хотелось бы добавить, что проповедники и моралисты воюют, надо думать, не с тем хорошим, что есть в таком человеке, как Калхейн, а ополчаются на пороки, присущие людям, не имеющим ничего общего ни с Калхейном, ни с его отношением к жизни. С другой стороны, спортсмены могли бы возразить, что они нападают вовсе не на истинные добродетели, имеющиеся у церковников, а на их слишком узкое толкование добра и зла, на их беспочвенные и необоснованные суждения о людях и классах. Пусть так. Тут еще можно спорить и спорить.Могучий Рурк
Увидел я его впервые в городе Спайке, в ремонтных мастерских, где в машинном отделении подготавливали площадку для небольшого динамо, и он распоряжался работами: то громко кого-то распекал, то что-то властно приказывал. Под его началом работало с десяток итальянцев, все, как один, невысокого роста смуглые крепыши, причем старшему было лет пятьдесят, младшему — не больше двадцати пяти. Они перетаскивали материалы из вагона, стоявшего неподалеку от мастерских на запасных путях. В вагоне находился цемент, щебень, старые доски, тачки, разные инструменты и все, что могло понадобиться в ходе работы. Сам он, без пиджака, с засученными рукавами, стоял в дверях машинного отделения и кричал с истинно ирландской напористостью: — Эй, Мэтт! Эй, Джимми! Бери лопаты! Бери кирки! Тащи песок! Камни тащи! А цемент где? Цемент-то где! Черт побери! Цемент мне нужен! Какого дьявола вы здесь валандаетесь? Вас зачем подрядили? Ворон считать? Живей пошевеливайтесь! Тащите цемент! — И, закончив эту бурную тираду, он стал не спеша поглядывать по сторонам, как будто он один во всем мире имел право никуда не торопиться. К этому времени я уже немало претерпел в жизни и стал неодобрительно относиться ко всякого рода хозяевам, особенно к таким ретивым, как этот. «Вот уж подлинно рабовладелец! Этакая скотина!» — думал я. Однако внешне он не производил неприятного впечатления, скорее наоборот. Это был человек среднего роста, плотный, с толстой шеей; седеющие волосы и усы были коротко подстрижены, глаза, светло-серые, живые и выразительные, настоящие ирландские глаза, блестели и искрились. Держался он властно, не допуская, как видно, даже мысли, что его могут не послушаться, всей своей манерой он словно говорил: «Я здесь хозяин!» — и верно, он был здесь хозяином. Не эта ли черта причиной тому, что из ирландцев во всех уголках земли получаются отличные начальники. Работа, которой он здесь руководил, была не бог весть какая важная и сложная, но интересная. Нужно было выкопать яму размерами десять на двенадцать футов и, выложив ее досками, сделать «форму», затем замешать бетон, залить его в эту форму и сюда же вделать железные полосы для крепления целого генератора на станине. Работа не была такой уж срочной, и проводить ее можно было бы гораздо спокойнее, но что поделаешь, если у человека энергия бьет через край, если ему нравится, когда вокруг него шум и грохот, если он любит сознавать, что дело идет вперед, даже когда в действительности оно, может быть, стоит на месте. Он, видимо, просто находил удовлетворение в этом шуме и суете. Ему так хотелось поскорее закончить начатое, что он без устали носился по мастерским и кричал: — Эй, Мэтт! Эй, Джимми! Живо! Тащи лопаты! Тащи кирки! Да ну, живее! А по временам извергал целые водопады команд: — Вверх давай! Вниз! Вправо! Влево! Вперед! Назад! — И каждое слово он подкреплял своим неизменным «черт побери», которое, как я впоследствии убедился, в его устах звучало так же безобидно, как любое дружеское обращение. Короче, это был пленительный в своей непосредственности ирландец, характерный тип, вроде киплинговского Нэмгей Дула. Как я уже сказал, вначале он произвел на меня ужасное, прямо-таки отвратительное впечатление. «Ирландская скотина! — говорил я про себя. — И подумать только, что люди должны работать на него! Должны сносить все его измывательства!» Вскоре, однако, я обнаружил, что он не так уж дурен, как мне сперва показалось, а затем он даже начал мне нравиться. Причиной столь быстрой перемены было отношение к нему его подчиненных. Как рьяно он их ни подгонял, они, казалось, пропускали все мимо ушей и, уж во всяком случае, не надрывались на работе. Он мог стоять над ними и орать: «Вверх! Вверх! Вверх! Вверх!» — или: «Вниз! Вниз! Вниз!» — так что, казалось, не то что нервы, канаты бы не выдержали, а они обращали на его крики не больше внимания, чем на тиканье часов, видимо, воспринимая их, как нечто неизбежное, само собой разумеющееся, к чему они уже давно привыкли. Двигались они лениво, словно фланеры с Пятой авеню или с Бродвея. Доски и камни они переносили с такой бережностью, словно то были хрупкие предметы огромной ценности. У всякого, кто это видел, на губах невольно появлялась улыбка. Почувствовав в конце концов весь комизм происходящего, я не выдержал и засмеялся. Рурк обернулся ко мне и резко, но беззлобно передразнил: — Ха-ха-ха! Поработал бы, как они, так не стал бы смеяться! Я хотел было ответить: «Ну уж и работнички!», но вместо этого произнес: — Да ну? Я что-то не вижу, чтоб они особенно надрывались! Да и вы тоже! А вы не так уж свирепы, как кажетесь. Затем я объяснил, что смеялся не над итальянцами, а над ним; и он отнесся к этому с полным добродушием. Постепенно мы разговорились о железнодорожных делах. (Я, по существу, только числился здесь рабочим, мне разрешалось трудиться столько, сколько было нужно для моего здоровья; получал же я двенадцать центов в час.) Так началась наша дружба. В это утро я узнал, что Рурк берет подряды на строительные работы. Он обычно выполнял подобные работы на участке от Нью-Йорка до пятьдесят третьего километра — строил бетонные платформы, угольные бункеры, переходы, опоры для мостов, фундаменты зданий и вообще все, что можно было построить из бетона, кирпича и камня. У него было с десяток рабочих; в его распоряжении находился вагон, который передвигался вслед за ними с места на место. А посылали его то туда, то сюда, в зависимости от того, где требовались его услуги. Он рассказал мне, что иной раз для того, чтобы поспеть на работу к семи часам, ему приходится вставать в четыре утра. Большая железнодорожная компания, в которой он служил, соблюдала только свои интересы; ей было совершенно безразлично, получат ли Рурк и его рабочие передышку или нет. Да Рурк, как он сам признавался, и не избегал трудностей, они ему были даже по душе. Он уже целых двадцать два года работал на эту компанию. «И дождиком меня мочило и солнышком сушило — всякое бывало». Буря, гроза, непроглядная темень — ничто не могло его остановить. — В конце концов должен же я вовремя быть на месте! — сказал он однажды со своей лукавой ирландской усмешкой. — Не за то ведь мне платят, чтоб я валялся в постели! Вот и ты, — добавил он, глядя на мою худую, жидковатую фигуру, — поработал бы так с годик, вставал бы каждый божий день с петухами, так, может, и из тебя вышел бы настоящий мужчина. — Вы думаете? — смиренно ответил я. — А сколько вы получаете? — Два с половиной в день. — Да что вы говорите! — воскликнул я с притворным изумлением. Вот уж подлинно расщедрилась эта железнодорожная корпорация, подумал я про себя; два с половиной доллара за десятичасовой рабочий день, за подготовку и надзор над постройкой столь важных сооружений! Рурк, без сомнения, «имел право на счастье», согласно нашему американскому лозунгу, только вряд ли оно давалось ему в руки. Сам я, однако, был в это время в еще худшем положении. Я долго хворал и теперь получал двенадцать центов в час при десятичасовом рабочем дне. Главная же неприятность заключалась в том, что десятник, под чьим началом я работал, был мне донельзя противен. Нахальный, горластый невежда с огненно-рыжей шевелюрой! Я жаждал уйти от него. Это нетрудно было бы устроить: в управлении железной дороги у меня имелись кое-какие связи, надо было только найти кого-нибудь, кто мог бы дать мне подходящую работу. Подыскать такого человека — вот в чем была вся трудность; и чем больше я присматривался к этому Рурку, тем больше он мне нравился. Видно, добрый, по-настоящему сердечный человек, удивительно простой в обращении, искренний. Я решил попроситься к нему. — А вы не взяли б меня к себе, мистер Рурк? Мне очень хотелось бы работать у вас, — робко спросил я после того, как рассказал ему, как я оказался на этой работе. — Ладно, отчего не взять. Пригодишься, — ответил он. — Мне вместе с итальянцами работать? — спросил я, далеко не уверенный в том, что совладаю с лопатой и киркой. Этот вопрос, видимо, развеселил его — столь не соответствовала моя хилая внешность его представлениям о людях физического труда. — Хватит тебе дела и так. Без лопаты и без кирки, — успокоил он меня. — Эта работа не для белого. Пускай негры ворочают. Посмотри, какие у них спины, какие плечи! А у тебя что? Я почувствовал, что краснею от стыда. Эти бедняги итальянцы, на которых я склонен был смотреть свысока, физически были развиты несравненно лучше меня. — Рурк, почему вы их зовете неграми? — спросил я, помолчав. — Они же не черные. — А черт! Да и не белые же! — И с глубоким убеждением он добавил: — Это же всякому ясно с одного взгляда! Я даже улыбнулся, так уверенно он изрек эту бессмыслицу. — Ладно, — согласился я, — пусть будут черные. И мы прекратили этот разговор. Вскоре я подал заявление, в котором, ссылаясь на согласие Рурка, просил перевести меня под его начало. Мою просьбу удовлетворили. В тот день, когда я присоединился к его бригаде, или «команде», как он называл своих подчиненных, они работали возле Уильямсбриджа, небольшой станции к северу от Нью-Йорка, на берегу реки Харлем, — строили бетонный бункер для угля. Это было живописное местечко: кругом лужайки, деревья. Не сравнить с темной и душной мастерской. Мне оно показалось раем. Ласковое утреннее солнце, зеленая листва на деревьях, нежный прохладный ветерок! Я нашел Рурка в только что вырытой яме под платформой, где он с помощью отвеса и уровня что-то прикидывал и намечал. Он посмотрел на меня и улыбнулся. — Ага! Пожаловал наконец, — проговорил он, ухмыляясь. — Да, — ответил я и тоже улыбнулся. — Как раз вовремя. Для тебя есть дело! Поезжай-ка в контору. И не успел я ответить «хорошо», как он, обдав меня запахом свежевскопанной земли, выскочил из ямы, нагнулся к своему старенькому серому пиджаку, который валялся подле ямы, и, порывшись в карманах, вытащил скомканное, перепачканное письмо. Неуклюже развернув листок толстыми, заскорузлыми пальцами, он с отвращением поглядел на него и сунул мне. — Поезжай-ка в Вудлон, — продолжал он, — и достань болтов — их там цельный бочонок, оформи требование да отправь их сюда. После сходи в контору и отдай им вот эту штуку. — Тут он снова порылся в карманах и выудил еще одну смятую бумажку, на этот раз желтого цвета (как она мне въелась в память!). Это был печатный бланк — скоро я с ними хорошо познакомился! — специальная форма, которую нужно было заполнять и подписывать при получении любых материалов, пусть даже одной-единственной доски, гвоздя или болта. Компания требовала такого оформления от всех десятников для того, чтобы точнее вести учет. Бухгалтерия без этих ведомостей была как без рук. А Рурк между тем твердил, что все это вздор и бессмыслица, что нельзя на каждом шагу требовать с человека бумажки. — Видать, они думают, обжулить я их, что ли, хочу, — говорил он, сердясь и негодуя. Я сразу же понял, что Рурк провинился, нарушив установленные компанией правила, и ему за это уже влетело, или, как здесь выражались, ему накрутили хвост. Он гневался и возмущался во всю силу своего воинственного ирландского темперамента. Вместе с тем его, видимо, утешала мысль, что теперь я сниму с его плеч бремя и освобожу от всей этой «распроклятой чепухи». Человек он был опытный и с первого взгляда понял, что найдет во мне помощника. Впоследствии я убедился, что только поэтому он меня и взял. Когда я уже собрался уходить, он отпустил на прощание еще одну дерзость по адресу начальства: — Скажи им там, что когда получу материал, тогда напишу, а раньше — черта лысого! Я ушел, хорошо понимая, что этого передавать не следует и что сам Рурк вовсе не хотел, чтобы я это передал, — просто в нем говорил ирландский задор. Я приехал в Вудлон, достал болты, затем отправился в контору и отыскал там главного клерка. Это был человек, похожий на танцмейстера, на нем ладно сидел форменный сюртук с высоким воротником. Он, как оказалось, тоже негодовал. Рурк не желает присылать отчетности на материалы! И на то не прислал и на другое не прислал — он, по-видимому, даже не понимает, что ведомости нужны ему, главному клерку, для составления сводок! Рурк по целому месяцу задерживает сведения, — по месяцу, а то и больше! — и материал все это время где-то валяется, дожидаясь, пока его не используют! Главный клерк желает знать, какие объяснения Рурк намерен представить по этому поводу, и когда я сказал, что Рурк, по-видимому, считает наиболее удобным сложить все материалы на какой-нибудь станции и по мере надобности брать их оттуда, а ведомости оформлять потом, главного клерка чуть не разорвало от злости. — Еще чего! — завопил он, хватаясь за голову. — Да за кого он меня принимает?! Как, он думает, я буду составлять отчеты? Ах, он, значит, сложит где-нибудь все материалы и будет брать по мере надобности! Ваш Рурк круглый идиот! Так ему от меня и передайте! Сколько лет служит на железной дороге, пора бы самому знать! Сейчас же отправляйтесь назад и скажите, что как только ему сообщат, что такой-то материал передан в его распоряжение, он должен тотчас, немедленно, заполнить ведомость и переслать мне. Все равно, что бы он ни получал, хоть одну гайку, хоть целый вагон песку! Мне необходимы эти сведения! И пусть сейчас же заполнит все, что пропустил, а то будет плохо. Я больше этого не потерплю. Как, он думает, я буду вести отчетность? Пусть хоть вам это поручит, благо вы сейчас здесь. Нас это избавит от многих неприятностей, а ему поможет сохранить место. Но запомните: впредь никаких опозданий! Представлять ведомости вовремя! А не то или ему или мне придется уйти. Вот эти ведомости да штук двадцать длиннейших сводок и отчетов, к которым подкалывались еще всякие бумажки, так или иначе связанные с работой, от расписки в получении материала до сведений об израсходовании бланка стоимостью в одну десятую цента, делали жизнь нашего Рурка невыносимой. Позже я узнал, что все его семейство, во всяком случае, старший сын и обе дочери просиживали, случалось, целые вечера над этими документами. Все это не имело прямого отношения к строительной работе — а только такая работа интересовала Рурка, — но являлось необходимой частью той административной системы, в которой он подвизался. Этого он никак не мог себе уяснить. Вся эта канцелярщина имела, без сомнения, и отрицательную сторону, а именно: если человек был достаточно усидчив и умел составлять отчеты, обильно уснащая их цифрами, то даже при низком качестве работы он был на хорошем счету у начальства; и наоборот, если его сводки были путаными или неполными, то как бы хорошо он ни работал, успехов его обычно не замечали. Рурк это понимал и бесился. Свою работу он всегда старался сделать как можно лучше, на совесть, и гордился этим, а от него, как назло, требовали писанины и отрывали от дела. Ему казалось — в этом была его ошибка, — что для строительных работ все эти ведомости и отчеты — чистая помеха. И получалось, что Рурк, работавший лучше многих, только из-за своего неумения составлять отчеты пользовался неважной репутацией, в особенности в глазах главного клерка. Клерку этому я, разумеется, пообещал, что передам Рурку все, как он велел. Затем я удалился. По возвращении, однако, я решил действовать как можно дипломатичнее. Ведь если я не улажу это дело, мне останется только лопата и кирка, а на такую работу я вряд ли способен. Поэтому я в самых жалостных тонах изобразил тяжелое положение главного клерка, которому грозит увольнение, если он не получит должным образом оформленных ведомостей на все взятые Рурком материалы. — Понимаете, Рурк, как обстоит дело, — закончил я. Он, казалось, понял, но гнев его еще не остыл. — Ведомости! Ведомости! — ворчал он, все еще сердито, но уже постепенно смягчаясь. — Ведомости ему нужны! Ну пошли ему, что ли, эти ведомости! Вот ведь привязался! Ест он их, что ли, заместо хлеба? Я, выходит, и десятником должен быть и счетоводом — все сразу! Ведомости ему заполняй! Дела у меня другого нету! Он сплюнул и замолчал. Немного погодя он с добродушной усмешкой признался: — А я ведь совсем и позабыл про эти ведомости. В следующем месяце нас завалили работой. Надо было построить платформу в Морисании, сложить дымоход в Тарритауне, заасфальтировать тротуар в Уайт-Плейнс, а в Такахо выкопать и обложить камнем большой бункер. Кроме того, мы должны были еще построить в Ван-Кортленде и Маунт-Киско платформы, в Хай-Бридже и Эрдсли — водонапорные башни, в Кэриле — переход и дренажную канаву, в Бронкс-Парке — сток и мусорную яму, а в Мелрозе установить штук сорок бетонных межоконных столбов для здания. Нечего говорить, что, помимо собственно строительных работ и надзора над ними, осуществлять который мог только сам Рурк, требовалось еще многое множество подсчетов и всяческих отписок. «Что за нелепость, — думал я, — человек по уши занят тяжелой строительной работой, а ему не дают конторщика или счетовода, чтобы хоть частично освободить его от этой писанины». Конечно, будь он чуточку посмекалистее, он давно мог бы завести себе такого помощника — перевести одного из своих рабочих в конторщики, а числить по-прежнему рабочим. Но Рурку это, видимо, в голову не приходило. Он привык рассчитывать только на свою семью. Для одной лишь подготовки к работе, оформления заказов на материалы и надзора за тем, чтобы они были своевременно доставлены и выгружены, требовался специальный человек; однако Рурк вынужден был все делать сам. И тем не менее управлялся он превосходно. Я не встречал равных ему в работе. Правда, он предпочитал командовать — забраться на стену или в котлован и там что-то вымерять, рассчитывать, распоряжаться. Но когда требовалось быстро выполнить какое-нибудь сложное дело, он сам брался за мастерок или за шнур, за уровень или отвес и трудился целыми часами. Он никогда не жаловался на усталость. Наоборот, всегда что-то напевал и насвистывал, но только до тех пор, пока не выходила какая-нибудь заминка. Тогда вдруг раздавался неистовый крик: — Стой! Стой! Обожди! Ты хоть малость соображаешь или нет? Что ты делаешь? Что я тебе сказал? Положи! Положи сейчас же! Что, у тебя башка совсем уже не варит? Дурак! Болван! Идиот безмозглый! «Господи, — думал я, — что еще там стряслось?» Можно было подумать, что произошла какая-нибудь катастрофа. Но обычно оказывалось, что до беды еще далеко, — просто вышла небольшая ошибка, хотя и чреватая последствиями, но легко устранимая. Несколько минут итальянцы бегали и суетились, потом все успокаивались, и опять слышно было, как Рурк мелодично насвистывает или напевает себе под нос старинную ирландскую песенку. Но самое приятное в Рурке было его трезвое отношение к жизни, его непоколебимая уверенность в том, что главное — это работа, не разговоры, не отчеты и не проекты, а непосредственное производство чего-либо вещественного, сама вещь. Правда, пока я у него служил, никакая писанина его вообще не касалась, но если бы даже небеса разверзлись и восемь тысяч главных клерков в сомкнутом строю двинулись на него, требуя заполненных ведомостей и отчетов, он и тогда заставил бы их всех обождать, пока не закончит работу. Однажды мне, в связи все с той же докучной канцелярщиной, понадобилась справка, дать которую мог только Рурк, и я ради этого оторвал его от работы. Он набросился на меня с криком: — Отчеты! Отчеты! Ну, какой от них толк, скажи, пожалуйста? Работу мне бросать из-за твоих отчетов? Да кабы не эта работа, на кой черт они были бы нужны, твои отчеты! И я всей душой согласился с ним. Действительно, на кой черт? Другой обаятельной чертой Рурка было его отношение к подчиненным. Он обращался с ними как друг, почти как отец и хотя бушевал по временам, но потом опять становился приветлив и ласков. Он умел подбодрить людей добродушной шуткой, и это глубоко их трогало. Появляясь утром, он весело кричал: — Здорово, ребята! Эх, и поработаем сегодня — на славу! Тащи лопаты, Джимми! Давай сюда шнур, Мэтт! И сам лез в котлован, если проводились земляные работы. И пока не случалось какой-нибудь заминки, на стройке царили мир и веселье. Скажу попутно несколько слов о Мэтте и Джимми, верных оруженосцах Рурка. Обоим перевалило уже за сорок. Гонимые жизнью бродяги, худые, грязные, огрубелые, бог весть каким ветром занесенные в Америку, претерпевшие бог весть какие злоключения, они имели теперь верный кусок хлеба, пригревшись под крылышком Рурка, который стал для них могущественным покровителем. Мэтт, смешной маленький итальянец, отличался мягким голосом и деликатными манерами. Рурк его очень любил, но придирался нещадно. Стоило ему спуститься в яму, где работал Мэтт, и тотчас раздавался оглушительный рев: — Сюда клади! Сюда, говорят тебе! Опускай! Сюда! Сюда! Черт тебя побери! Тупая твоя башка! — Вперемежку с яростными выкриками Рурка слышалось гортанное ворчанье Мэтта, который, видимо, не испытывал никакого страха перед своим начальником и не боялся получить от него затрещину; он уже так давно работал с Рурком, что эти взрывы на него больше не действовали, и он даже отваживался возражать. Иногда, но не каждый раз, Рурк вылезал после этого из ямы красный, как рак, — даже шея у него наливалась кровью, — и кричал: — Я тебя выгоню! Довольно я терпел! Ленивая скотина! Дурак! На что ты годен? Что ты можешь делать? Ни черта! Ни черта! Нет, теперь-то уж я тебя беспременно выгоню! Авось мне поспокойней станет! Он приплясывал вокруг ямы, рычал и угрожал, пока что-нибудь другое не отвлекало его внимания; тут он сразу успокаивался и опять становился добродушным. Мне кажется, что такие стычки, несмотря на все связанные с этим треволнения, доставляли Рурку удовольствие: он был из тех, кто счастлив, только когда воюет. Бывали случаи, что он уходил домой, не обмолвясь ни единым словом с Мэттом, и мне поначалу казалось, что Мэтту пришел конец. Но вскоре я увидел, что это не так. На следующее утро Мэтт как ни в чем не бывало являлся на работу, а Рурк больше не поминал о прошлом. Однажды после такой ссоры я спросил у Рурка, сколько раз за последние три года он грозился выгнать Мэтта. — Ну-у, — ответил он со своей пленительной улыбкой, — не все же в счет идет, что иной раз с языка сорвется. Однако самым потешным из всей его «команды» был вышеупомянутый Джимми — смуглый уроженец Калабрии, с маслеными глазами и сладким голосом. Он сочетал в себе хитрость Макиавелли с дерзостью стервятника. Жил он по соседству с Рурком в одном из тех отдаленных городков на Харлеме, где ютится множество итальянцев, — Рурк, как наседка, собирал весь свой выводок к себе под крылышко. Джимми считался чем-то вроде слуги, был у Рурка на посылках: за какие качества ему оказали такое предпочтение — неизвестно, во всяком случае, не за расторопность. Как бы то ни было, он вечно бегал с каким-нибудь поручением, в своих полуистлевших, пыльных, болтавшихся на плечах обносках, напоминая какого-то отпетого бродягу, только что вылезшего из сточной канавы. Заставить же его делать тяжелую работу еще никому не удавалось. Такой труд он считал для себя низким и всегда ухитрялся найти иное занятие. Но так как он был специалистом по приготовлению цемента и ловко доставлял инструмент, все сходило ему с рук. Если же кто-нибудь отваживался призвать его к порядку, например, я (к слову сказать, он относился ко мне, как к чужеродному элементу), то он обычно отвечал: — Ну, ну, я, небось, свое дело знаю. Я, слава богу, с Рурком уже пятнадцать лет работаю. Сам, небось, знаю, чего мне делать. А если жаловались Рурку, тот усмехался и говорил: — Ха! Ишь, хитрюга! Или: — Вот я ему задам! Однако никогда этого не делал. Но однажды Джимми проштрафился: он не выполнил особого поручения, которое возложил на него Рурк, и, хотя его оплошность не причинила никакого существенного вреда, по этому поводу разыгралась очень смешная и характерная для Рурка сценка. В нашей железнодорожной компании существовало строгое правило, гласившее: «Во время установленного расписанием прибытия, стоянки и отправления поезда ни одна яма на станциях или другие углубления, которые могут стать причиной несчастного случая, не должны оставаться открытыми». Рурк это хорошо знал. Соответствующий приказ был давно прислан, и один экземпляр хранился у него в подшивке. Рурк поручил Джимми следить за соблюдением этого правила, — задание пришлось итальянцу по душе, теперь у него было сколько угодно свободного времени, и он мог невозбранно бездельничать, притворяясь, будто следит за поездами. Поэтому он и провинился вдвойне. Вот как это произошло. Мы работали под платформой в Уильямсбридже, рыли котлован для угольного бункера. В это время с прибывшего на станцию поезда сошел старший мастер — он хотел проверить, много ли уже сделано. Поезд стоял, а рядом зияла открытая яма, на дне которой возился Рурк. Он что-то кричал, размахивая руками, — ему и в голову не приходило, что его приказание могло быть не выполнено. Старший мастер, который, как мне казалось, высоко ценил Рурка, подошел, заглянул в яму и спокойно сказал: — Так нельзя, Рурк, вы должны прикрывать ямы перед прибытием поезда. Я об этом уже вам говорил. Рурк взглянул вверх и лишился дара речи — так он был поражен, так сконфужен тем, что попал в столь неловкое положение перед начальством. Начальство он, надо сказать, уважал до благоговения. Секунду он молчал, задыхаясь от гнева, затем громовым голосом стал звать Джимми. Тот прибежал, восклицая, по своему обыкновению: — Чего? Чего? Чего надо? — Чего! Чего! — возопил ирландец, весь клокоча от ярости. — А ты, чертова кукла, сам не знаешь? Где тебя носит нелегкая? Почему яма открыта? Ведь говорил я тебе не оставлять ее открытой, когда поезд… И чтоб ничего кроме не делал! А ты! У, разиня! Почему оставил яму? Какого черта!.. Ведь надо ж, мистер Уилсон подходит сюда, а яма открыта! Он весь взмок, покраснел, как свекла, казалось — его вот-вот хватит удар. Мистер Уилсон, темноволосый, бледный, худой человек унылого вида — бедняга, должно быть, страдал несварением желудка, — все это время стоял рядом, с нарочито суровым выражением лица, но с тенью усмешки на губах. Кажется, все это его забавляло, и он, я уверен, не собирался проявлять строгость. Оторопевший Джимми не знал, что сказать. Перед лицом такого гнева со стороны Рурка, да еще в присутствии старшего мастера, даже он растерялся: пытаясь загладить свою вину, он бросился прикрывать яму, одновременно что-то лепеча о лопате, за которой он будто бы отошел на минутку. — Лопата! — взревел Рурк, сверкая глазами. — Лопата! Осел проклятый! Лопату искал! А поезда не видел! Как еще тебя, дурака, не задавило? А яма открыта! А мистер Уилсон тут! Я тебе что говорил? За что я тебе деньги плачу? Слюнтяй! Лопата, а? Вот я тебя пролопачу! Башку тебе проломлю, итальяшка вонючий! Клади доски! Попробуй только еще раз оставить яму открытой, в два счета отсюда вылетишь, чертов идиот! Когда поезд наконец отошел от станции, увозя старшего мастера, Рурк успокоился, но и после этого еще несколько раз вскипал, — и бедный итальянец все время чувствовал себя как на раскаленных угольях. Спустя час снова подошел поезд, и была ли тут особая причина или виною всему лень и полная беспечность Джимми, но яма и на этот раз осталась открытой. Джимми околачивался где-то за вокзалом — наверное, курил, а Рурк, как обычно, работал в яме. На сей раз судьба его не пощадила, ибо наслала на него уже не старшего мастера, а самого инспектора — степенного и мрачного мужчину, перед которым Рурк испытывал воистину священный трепет. Инспектор всегда был необычайно солиден, внушителен и строг. Мне ни разу не случалось видеть улыбку на его лице. Он подошел к яме и, укоризненно взглянув вниз, сказал: — Так-то вы закрываете ямы перед прибытием поезда. Пора бы изучить железнодорожные правила. — Джимми! — гаркнул Рурк, выныривая на поверхность. — Джимми! Дьявол! Куда девался этот паскудный итальяшка? Ведь я же велел ему закрывать яму! И он сам с лихорадочной поспешностью принялся укладывать доски. Джимми, которого в этот миг осенила догадка, что случилась какая-то новая беда, обезумев от страха, бросился к яме со всех ног. Даже сквозь грязь, покрывавшую его щеки, даже сквозь его природную смуглость видно было, как он побледнел; выражение лица у него ежесекундно менялось. Рурк, наверное, убил бы его на месте; от стыда и волнения он не мог выговорить ни слова. Но перед ним стоял сам инспектор, — правила! необходимость соблюдать порядок! — и Рурк не посмел изничтожить итальянца в присутствии начальника. Он мог только беситься и выжидать. Подумать, что из него сделали посмешище, и перед кем — перед самим инспектором! Лицо и шея его побагровели, глаза метали искры; огненный взгляд, устремленный на ослушника, казалось, говорил: «Ну, обожди же ты у меня!» Наконец, когда поезд отошел и происходящее на станции уже не могло оскорбить слух величественного начальника, Рурк обрушился на Джимми со всем неистовством своей властной и вспыльчивой натуры. — Так ты, значит, не прикрыл яму? После того как я всего пятнадцать минут назад нарочно тебе говорил об этом? Ну-ка, чем ты теперь будешь оправдываться? — Я таскал воду, чтоб бетон замешать, — жалобно откликнулся Джимми. — Воду, чтоб бетон замешать! — простонал Рурк — говорить он уже не мог — и приблизил свое искаженное гневом лицо вплотную к лицу итальянца. — Воду! Чтоб тебе самому свалиться и утонуть в этой воде! А я сижу тут как дурак! А мистер Милз подходит и смотрит. Ах ты, скотина! Ах ты, выродок несчастный! У-у! Я из тебя самого воду сделаю! Расшибу твою безмозглую итальянскую башку! Вот суну тебя головой в эту воду и буду держать, покуда не захлебнешься, шут ты гороховый, мякинные твои мозги! Я тебе покажу, как оставлять яму незакрытой! Да еще когда я сам в ней! А ну, скидавай куртку и катись к чертовой матери! Скидавай, тебе говорят! Убирайся вон! Ты мне не нужен! На кой черт ты мне сдался! Довольно, проваливай! Чтоб я больше тебя не видел! Руки его дергались так, словно он хотел разорвать итальянца на части. Но Джимми сознавал опасность своего положения и заранее принял меры, чтобы не попасться Рурку в лапы. Все время, пока Рурк орал на него, он тихонько, шаг за шагом, пятился назад — все дальше и дальше — и теперь с удивительным для него проворством бросился бежать; очевидно, ему не раз уже приходилось бывать в таких переделках. В один миг он скрылся где-то за станцией, а немного погодя, когда Рурк утихомирился и снова принялся за работу, Джимми осторожно подошел и стал на страже над злополучной ямой, которой он до сих пор уделял так мало внимания. Едва заслышав гудок паровоза, он стремглав бросился к ней, и поезд не успел еще остановиться, как доски уже лежали на месте. Рурк на сей раз словно ничего и не видел. Весь остаток дня он решительно не замечал Джимми, как будто того вовсе не существовало. А на другое утро Джимми в урочное время явился на работу, и вскоре уже обычным порядком раздавались возгласы Рурка: «Эй, Мэтт! Эй, Джимми!» — как будто ничего и не произошло. Удивлению моему не было границ. Другой случай, еще более комический, к тому же ярко характеризующий обстановку, окружавшую Рурка, произошел в одно морозное октябрьское воскресенье. В Хай-Бридже на откосе прорвались подпочвенные воды, которые грозили подмыть железнодорожное полотно, и Рурку поручили спешно прорыть отводную дренажную канаву. Приказ пришел в субботу вечером, и, чтобы его выполнить, нужно было работать все воскресенье — для Рурка вещь совершенно необычная. Приказ приказом, а Рурк, как подобает доброму католику, в воскресное утро почувствовал потребность помолиться и решил отстоять хотя быраннюю мессу, прежде чем приняться за работу; по этому случаю он облачился в длиннополый сюртук — свою обычную воскресную одежду, — которого мне еще не доводилось на нем видеть. Это парадное одеяние придавало его коренастой фигуре крайне забавный вид. Сюртук, по правде сказать, был ему тесен, к тому же изрядно потрепан — я полагаю, что Рурк заказал его еще к своей свадьбе и с тех пор неизменно надевал каждое воскресенье. На голову он водрузил коричневый котелок и стал совершенно неузнаваем. Движимый любопытством — самой сильной из моих страстей, — а также стремлением как можно больше времени проводить на воздухе, я в девять утра уже был на месте. Рурка пришлось ждать до десяти. С протекавшей невдалеке реки Харлем дул свежий ветер, и я разложил под насыпью костер. Затем прямо из церкви явился Рурк, веселый и сияющий, в самом праздничном расположении духа, но, видимо, несколько стесняясь своего торжественного одеяния. — Рурк, — сказал я, оглядев его со всех сторон, — какой вы сегодня нарядный. Я вас таким еще никогда не видел. — Хватит болты болтать, — ответил он. — Сам знаю, что нарядный. Затем он с обычной энергией принялся за работу: стал проверять, что уже сделано. Однако, несмотря на крайне деловое выражение лица, видно было, что он не может забыть о своем костюме и наше мнение ему не совсем безразлично. Что и говорить, в своей повседневной одежде он чувствовал себя куда свободнее. Вначале все шло хорошо, ни единая тень не омрачала безоблачного утра. Около полудня, однако, я приметил на железнодорожных путях какого-то человека, неверной походкой приближавшегося к нам; он, очевидно, хотел видеть Рурка. Это был коренастый ирландец с гладко выбритым кирпичного цвета лицом, такой же здоровяк, как и Рурк, но помоложе и погрубее. Выцветший коричневый костюм тесно облегал его плотно сбитое тело, черный котелок был надвинут до самых глаз. С первого взгляда было ясно, что он уже изрядно навеселе. Заметив его, Рурк буквально вскипел от негодования, и как всегда в такие минуты, весь начал как-то раздуваться, словно его что-то распирало изнутри. — Мерзавец! — пробурчал он. — Какого черта ему еще надо? — А когда незнакомец подошел ближе, он добавил: — Откуда он узнал, что я здесь? В конторе, что ли, ему сказали? Меж тем объект этих размышлений пересек пути и направился прямо к Рурку. По лицу его и по всем ухваткам видно было, что настроен он далеко не дружелюбно. — Ну! Может, вы отдадите мне наконец денежки? — начал он с места в карьер. Рурк вперил в него мрачный взор, но ничего не ответил; тогда тот продолжал: — Я хочу знать, когда вы мне заплатите остальное за работу в Скарборо. Мне надоело ждать. Рурка передернуло. Ему, видимо, было очень досадно и неловко перед нами, что этот тип явился прямо сюда — да еще в такое мирное, праздничное утро. — Я тебе уже сказал, — сердито ответил он после небольшой паузы. — Ты получил все, что заработал. И даже больше. Ты ушел, а дела не кончил. От меня не получишь больше ни цента. Хочешь еще, иди в контору. Посмотрим, что тебе там скажут. У меня твоих денег нет. И, заложив руки за спину, он подошел поближе к костру. — Вы мне еще семь долларов должны, — возразил незнакомец, словно не слыша объяснений Рурка. — Подавайте-ка их сюда. — Как бы не так! — отозвался мой повелитель. — Сказано, не дам! Ну, и все. Ничего я тебе не должен! — Во-от ка-ак? — протянул тот. — Ну, посмотрим! Не отдашь добром, так я их из тебя вытяну. Думаешь, на дурачка напал? Не позволю себя обманывать. — Ничего я тебе не должен, — повторил Рурк. — Убирайся-ка лучше, покуда цел. Ничего не дам. А недоволен, так иди в контору. — Он решительно отвернулся, всем своим видом показывая, что не станет больше ничего слушать, и, буркнув на ходу, что этот малый, видать, пьян, отошел к итальянцам. Незнакомец, однако, последовал за ним и продолжал спор. Рурк крепился как мог, но в конце концов не выдержал и воскликнул: — Отвяжись! Ты пьян! — Я не пьян, — огрызнулся незнакомец. — В последний раз спрашиваю — отдашь деньги? — Нет, не отдам, — ответил Рурк. — Ну, так я же их из тебя все одно вытяну, — пригрозил незнакомец. Он, однако, ничем не подкрепил свою угрозу и продолжал нерешительно топтаться на месте. У него, видимо, не было определенного плана действий, а если и был, то теперь он от этого плана отказался. Не обращая больше внимания на незнакомца, Рурк вернулся к костру. Он был еще сильно взволнован, хотя и старался казаться спокойным. Незнакомец, или, лучше сказать, бывший каменщик, — мне, впрочем, думается, что он не был членом рабочего союза, — поплелся за ним следом и, остановившись перед костром, с пьяным упорством уставился на Рурка. Он, видимо, никак не мог сообразить, что же ему делать дальше. Наконец Рурк, видимо для того чтобы разрядить тягостную атмосферу (ибо незнакомец снова принялся отпускать оскорбительные замечания по его адресу), отвернулся и стал разгребать угли, затем нагнулся и подбросил в костер несколько сучьев. В ту же минуту, повинуясь внезапному порыву — должно быть, его соблазнили оттопырившиеся фалды сюртука, — незнакомец прыгнул вперед, цепко ухватился за фалды, дернул что есть мочи и разодрал сюртук снизу до самого верха, мстительно приговаривая: — Ах, так ты не заплатишь! Не заплатишь! Нет? В мгновение ока все переменилось, словно на сцене. Рурк выпрямился, рывком обернулся и закричал: — Ишь ты! Сюртук мне рвать! Ну я же тебе покажу! Я тебя проучу! Обожди! Теперь берегись! Все кости переломаю! Бездельник! Пьяница! И какими-то странными, сужающимися кругами он начал приближаться к своему противнику. Глаза у него стали как щелки, кулаки то судорожно сжимались, то разжимались. Незнакомец, почувствовав опасность, начал отступать, описывая такие же круги вокруг Рурка и вокруг костра. Казалось, они исполняли какой-то воинственный танец. Лица их выражали неукротимую злобу и жажду убийства. Они кружились и кружились, точь-в-точь два индейца или воина из племени зулу, только вместо убора из перьев и бус на обоих были не первой свежести парадные сюртуки. Рурк выкрикивал без умолку: — Ну-ка подходи! Подходи! Приготовился? Я тебе покажу! Пришибу! Костюм мне порвал, ишь ты! Иди сюда! Готовься! Сейчас я тебя разделаю под орех! Век будешь помнить! А ну! Иди сюда! Иди! Можно было подумать, что они невидимы и должны отыскивать один другого при помощи этих таинственных кругов. Неизбежная драка не располагает к веселью, но я едва удержался от смеха, увидев спину Рурка. Вот так зрелище! Сюртук разодран до самого ворота, лохмотья веером развеваются по воздуху, а из-под них вылез жилет и накрахмаленная воскресная рубашка. Лицо незнакомца выражало какую-то торжественную, пьяную непоколебимость, словно говорило: «Умру, а не сдамся!» «Ох, и посмеюсь же я после», — подумал я. Не знаю, во что бы вылился этот скандал, если бы ему не был положен конец извне. Вокруг уже собиралась толпа. Кроме меня и взволнованных, готовых защищать своего отца и благодетеля итальянцев, у костра появилось несколько прохожих и пассажиров с соседней станции. Прибежал и начальник другой бригады, работавшей вместе с нами, — огромный детина, которому, конечно, ничего не стоило справиться разом и с Рурком и с его противником. Сперва он пытался выяснить, в чем дело, потом начал уговаривать драчунов. — Обождите! В чем дело? Что за шум? Перестаньте сейчас же! Рурк, да ты позови полицию, пускай его заарестуют. Либо ступай к нему на дом, ты же знаешь, где он живет, там и деритесь! А здесь драться нельзя! Ну как придет кто-нибудь из начальства! И он встал между противниками, своим грузным телом заслоняя их друг от друга. Рурк, отчасти приведенный в себя этим вмешательством, но все еще кипящий от ярости и обиды, захлебываясь, кричал: — Посмотри на мой костюм! Что с ним сделали! Смотри, что он сделал с моим костюмом! Люди добрые! Могу я это стерпеть? Всякий пьянчуга будет меня оскорблять! Чтоб я платил больше, чем он заработал! Он бросил работу, а я плати! Я ему покажу! Ребра переломаю! Будет знать, как шляться и отрывать людей от дела! Я ему задам! И он снова лез в драку, но с огромным детиной не так легко было совладать. — Ну, так давай позовем полицию, — говорил тот примирительным тоном, — а здесь никак нельзя вам драться. Ты не должен драться, Рурк! Что подумает начальство! Ведь после сам жалеть будешь. Он повернулся к пришельцу, чтобы потребовать у него объяснений, но того и след простыл. При виде растущей толпы он понял, что ему грозят серьезные неприятности, и пустился наутек по рельсовым путям, ведущим к Мотт-Хейвн. Завидев, как он улепетывает, Рурк снова разразился криками: — Я тебя проучу! Поплатишься за это! Насидишься в тюрьме! Подожди! Не отвертишься! Из-под земли достану! Но это уже были последние раскаты грома: обидчик бежал, и буря улеглась. Немного погодя и Рурк отправился домой в Маунт-Вернон сменить свою разорванную одежду. Я никогда не видел его столь удрученным: он был мрачен, как туча, и полон решимости найти законную управу на своего обидчика. Но когда, спустя неделю, я осторожно осведомился, как дела с этим пьяницей, он ответил: — Ну что с ним сделаешь? Денег у него нет. Посадить? Так ведь у него жена и детишки… На том и закончилась эта сугубо ирландская сценка. Вскоре после моего приезда в Уильямсбридж Рурк стал поговаривать, что компания собирается возводить здание в Мотт-Хейвне, на одной из своих крупнейших сортировочных станций. Стройка, по его словам, предстояла очень большая. Надо из кирпича и камня возвести корпус в двести футов длиной и шестьдесят футов шириной. Был отпущен срок — три месяца. Компания специально дала такой срок, чтобы выяснить, может ли она своими силами, не прибегая к контрактам со стороны, справиться с подобным предприятием. По выражению лица Рурка, по его разговорам я понял, что ему очень хотелось бы заполучить этот подряд; в свое время, еще до того, как он связался с этой компанией, ему случалось брать крупные подряды, и он, наверно, не раз огорчался, что сейчас лишен такой возможности. Он чувствовал себя выше той мелкой работы, которую ему теперь приходилось выполнять. Ему хотелось вновь стать настоящим строителем крупного масштаба, показать компании, на что он способен, и тем завоевать наконец ее расположение; хотя для чего ему понадобилось это расположение — неизвестно, хорошего распорядителя, способного на истинный размах, из него, по-моему, все равно не вышло бы никогда. С другой стороны, как ни манило его строительство в Мотт-Хейвне, он побаивался связанной с ним канцелярщины — всех этих отчетов и ведомостей, которые были для него истинной пыткой. — Как себя чувствуешь, Тедди? — частенько стал он спрашивать, проявляя теперь к моему здоровью гораздо более интереса, чем раньше. (Я уже не раз говорил ему, что мне, должно быть, скоро придется уйти, — к этому принуждают меня материальные обстоятельства.) — Хорошо, Рурк. Прямо-таки великолепно, — обычно отвечал я. — Поправляюсь с каждым днем. — Во! Видишь? Это значит, что тут и есть твое место! Останься еще на годик, а то и на два, совсем силачом будешь. А то уж больно ты худ. Надо, чтобы грудь окрепла. — И он дружески постукивал по моей костлявой груди. — Я вот, к примеру, ни разу в жизни не хворал. — Да-а, — дружелюбно отвечал я Рурку, чувствуя непреодолимое желание подольше оставаться рядом с этим удивительным кладезем здоровья. — Постараюсь пробыть тут как можно дольше. — Постарайся, постарайся, тебе это пойдет на пользу. А ежели меня подрядят строить новое здание, так это тебе будет еще полезнее. Работы прорва! Это тебя развлечет. «Да, уж хорошенькое развлечение, нечего сказать!» — подумал я, но не высказал своих мыслей вслух. Мне так приятен был этот здоровяк ирландец, так понятны его вполне законные честолюбивые мечты. Как же ему не помочь? Я дал понять, что не оставлю его, пока он не добьется подряда и не построит здание. Это его глубоко тронуло. Он был не чужд благодарности, но до того самонадеян и вспыльчив, что помогать ему надо было как-нибудь незаметно, в завуалированной форме. Он хотел все делать сам, только сам, хотя бы это и привело к неудаче. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он мог действительно потерпеть неудачу, — слишком много у него было энергии и сил. Тремя неделями позже ему действительно поручили эту работу. Тут-то и проявилась вовсю его ирландская самоуверенность и властность. Мы перебрались в Мотт-Хейвн, представлявший собой громадное скопление всяких пристанционных построек: там, в самом центре густой сети железнодорожных путей, нам предстояло воздвигнуть новое здание. Рурку придали большую партию рабочих. Сорок итальянцев трудились теперь под его началом, не говоря уж о множестве так называемых плотников и каменщиков (это не были, конечно, умельцы и мастера своего дела, члены рабочих союзов, а разные неудачники, которым не повезло). Они выполняли подготовительные работы — производили выемку грунта для фундамента и тому подобное. Рурк рьяно командовал ими и чувствовал себя как рыба в воде. Особенно радовал его быстрый темп работы. Он носился по стройке с какой-то самозабвенной улыбкой на лице и так громко выкрикивал приказания, что их слышно было по всей округе. Я с истинным наслаждением наблюдал за ним. Иногда он останавливался у котлована, на дне которого копошились землекопы, вынимая грунт, обозревал длинный ряд спин, согнутых над лопатами, и, удовлетворенно потирая руки, говорил: — Дело идет, Тедди! Идет! Я уже вижу, что дом подведен под крышу. — И тут же принимался подгонять и всячески тормошить рабочих не потому, что в том была нужда, — просто кипевшая в нем энергия не давала ему покоя. — Разве так копают! Эх вы! Дружней, дружней берись! Или: — Неправильно держишь кирку, не видишь, что ли! Держи вот так! — кричал он, а то и сам спрыгивал в траншею и показывал, как именно нужно держать кирку, до крайности потешая этим некоторых рабочих. Иногда он демонстрировал передо мной различные фокусы и приемы своего ремесла, например, мастерок бросал так, что он на расстоянии десяти футов вонзался в доску, или, поддев ком земли, переворачивал лопату в воздухе, — и земля с нее не падала; при этом он неизменно добавлял: «Покуда этому не научишься, каменщиком не будешь». Когда ему надоедало пререкаться с рабочими, он приходил ко мне в маленький деревянный домик, где я выписывал требования на материалы и корпел над отчетами и сметами. Просмотрев бумаги — надо было видеть важность, написанную на его лице! — и убедившись, что все идет гладко, он обычно говорил: — Самое тут твое место, Тедди! Отличный счетовод из тебя выйдет. Кабы меня в президенты выбрали, я б тебя сделал государственным секретарем. Но больше всего его интересовал и заранее приводил в волнение предстоящий приход каменщиков. Как-то они с ним поладят, эти своевольные корсары рабочего мира, которые приходят и уходят, когда им нравится, ни у кого не просят милости и никому не разрешают вмешиваться в свою работу. Он, мне кажется, завидовал их дерзкой независимости и в то же время надеялся забрать их в руки и управлять ими по-своему — задача, надо сказать, достойная искуснейшего дипломата. Каменщики из рабочего союза! Любопытный народ! Такого веселого, беззаботного и бесцеремонного отношения к жизни я больше ни у кого не встречал. Это были — думаю, что могу так выразиться, — современные корсары, капитаны Кидды наших дней; они требовали, вынь да положь, свои шесть долларов в день, принимались за работу и прекращали ее, когда им вздумается, старались утруждать себя как можно меньше и способны были бросить дело в самый ответственный, критический момент; и вообще они находили особое удовольствие в том, чтобы доводить до отчаяния представителей тех корпораций, которые вынуждены были пользоваться их услугами. Не подумайте, что я против рабочих союзов. Мне нравятся организованные рабочие. Это крепкий народ, веселый, жизнь в них кипит ключом. Но иметь с ними дело не так-то просто. Рурк, думая о них, очевидно, уже предвкушал будущие стычки. Приход каменщиков сулил ему как раз то, чего больше всего жаждала его душа, — возможность поспорить и поругаться с настоящими людьми, сильными, решительными, задиристыми, как он сам. Эти молодцы не станут смиренно сносить его нападки, они дадут ему отпор, — как и должны поступать, по его мнению, настоящие мужчины. Он не уставал говорить о них. — Погоди, вот когда их у нас будет человек тридцать, а то и сорок, — сказал он мне однажды, — и каждый станет кричать: «Кладу шестьсот кирпичей — и баста», — вот тогда увидишь. Будет на что посмотреть! Будет! — Что же я увижу? — спросил я с любопытством. — Чего тогда будет? — Драчка будет, вот чего. Это ведь не дохлые итальяшки. Эти не дадут себя в обиду! Попробуй покричи на них. Тут уж надо сразу рукава засучивать! — Да, неприятное положение, — заметил я, затем добавил: — Рурк, а как вы думаете, удастся вам взять их в руки? — Удастся ли? Мне? — воскликнул он, преисполняясь воинственного пыла при одной мысли о будущих столкновениях. — Да будь их хоть тысяча, я им всем покажу. Знаю я ихние штучки! Меня не проведешь. А тебе, дружище, — наставительно добавил он, — тоже будет занятие: станешь бегать в контору брать им расчет. Здорово придется побегать, уж это точно. — Вы что же, их увольнять собираетесь? — изумился я. — А как ты думаешь? — властно заявил он. — Почему бы и нет? Что они, не такие люди, как все? Почему их не увольнять? — Помолчав, он добавил: — Да нет, не буду я их выгонять, не бойся. Сами расчета запросят. Они ведь долго разговаривать не любят. Ах, мол, не нравится вам, как мы работаем, ну так пожалуйте расчет! Вот погоди, придет этакий молодец на работу, когда у него башка трещит с похмелья, либо вовсе не протрезвившись, — вот тогда увидишь, на что они способны! Признаюсь, мне эта перспектива не показалась такой уж заманчивой, хоть я и оценил юмористическую сторону дела. Я спросил Рурка, стоит ли нанимать этих каменщиков, если они такие своевольные. — А где еще найдешь рабочих? — ответил он. — Хорошие все в союзе состоят. А прочие гроша ломаного не стоят. Лентяи и пьяницы. Не будь наша компания против союзов, я бы ни одного из неорганизованных не взял. Да и то сказать, — раздумчиво продолжал он, и в голосе его прозвучала нотка сочувствия, — каменщики, которые в союзе состоят, имеют право так себя вести. Это ведь не простые рабочие. Они захотят, так и восемьсот кирпичей в день уложат, и указывать им ничего не надо. На их месте и ты бы такой же был. Зачем позволять, чтоб тебя притесняли, когда можно найти другую работу. Я их не виню. Я сам когда-то был каменщиком. — Но вы, наверно, не так себя вели, как эти? — Почему не так? Как раз так и вел. — Вы как будто гордитесь этим. — Ну и что? — вспылил он. — Я стоял за свои права. Разве это человек, ежели он терпит, когда ему садятся на голову. Это глупо. Не должно такого быть. Я поспешил согласиться, чтобы не раздражать его еще больше, и на том наш разговор окончился. Каменщики наконец прибыли, и уж действительно боевые это оказались ребята! Какая независимость! Какой вызывающий тон! Какая щепетильность насчет всяких прав и привилегий, которые полагались им по условию! Я взирал на них с изумлением. В большинстве это были крепкие, здоровые молодцы и, судя по всему, работники хоть куда, но они столько кричали о своих правах и так чванились своим искусством, что иметь с ними дело было отнюдь не сладко. Тут и святой потерял бы терпение, не то что крутой и вспыльчивый подрядчик-ирландец. «В первый черед», как выражались у нас на железной дороге, они пожелали узнать, работают ли здесь не члены рабочего союза, и если да, то не угодно ли будет администрации немедленно их уволить? В случае отказа они сейчас же бросают работу. Это дало Рурку повод для нескончаемых пререканий, в которые он вложил редкостный пыл и красноречие, но неорганизованных рабочих все-таки уволили. Далее наши каменщики заинтересовались вопросом, когда, где и как будут получать деньги. Им было желательно, чтобы выплата заработков производилась в любое время по первому их требованию, — и это повело к новым спорам, ибо железнодорожная компания платила раз в месяц. Но и это уладилось. По особой договоренности со строительным отделом решено было по первому же требованию каменщиков выплачивать все ими заработанное. И я каждый раз, как они требовали денег, должен был бегать в контору и получать для них плату. Затем начался спор о том, по сколько кирпичей они должны укладывать в час, сколько человек необходимо поставить на каждую стену, в какой срок они должны, или смогут, или пожелают закончить кладку, и так далее, и тому подобное. Этого только и нужно было Рурку. Наконец-то он почувствовал себя в родной стихии: кричал, размахивал руками, требовал, чтоб они перестали валять дурака или убирались ко всем чертям. Когда и это все утряслось, каменщики соблаговолили наконец взяться за свои мастерки, и работа закипела. Зрелище было величественное, поистине вдохновляющее — сорок, а то и пятьдесят каменщиков выстроились в ряд, вокруг них хлопочет человек двадцать помощников: снуют итальянцы, поднося все новые и новые партии кирпича; плотники под руководством другого десятника уже готовятся настилать балки и перекрытия на быстро растущие стены. Рурк совсем уже не отлучался со строительной площадки. Он, казалось, сразу был в десяти местах: спорил с одним рабочим, распекал другого и уж обязательно гнал кого-нибудь за расчетом. «Слазь! Слазь, тебе говорят!» — слышался яростный крик, затем появлялся Рурк, за ним, изрыгая угрозы, поспешал разгневанный каменщик. Рурк требовал, чтобы я сейчас же подсчитал ему отработанные часы и бежал в контору за деньгами. Пока я это делал, каменщик слонялся по стройке и подбивал остальных тоже бросить работу. Иногда, но не часто, ссора кончалась примирением. В большинстве же случаев каменщик сам рад был получить расчет и поскорее истратить свои денежки. Рурк до странности равнодушно относился к тому, уйдет такой смутьян или останется. — Выпить человеку захотелось, — говорил он с иронией. А мне казалось, что передо мной разыгрываются бесконечные сценки из водевиля. Постепенно все вошло в колею. Каменщики и Рурк пресытились скандалами. И работа стала еще быстрее подвигаться вперед. Рурк, заложив руки за спину, прохаживался по лесам вдоль растущих стен или внизу по площадке вокруг фундамента; он весь как-то топорщился от удовольствия и поглядывал на рабочих с задорной ухмылкой. Дело шло так хорошо, что придираться было не к чему, но он считал своим долгом сохранять воинственный вид. Он и теперь ухитрялся иной раз повздорить с каким-нибудь зубастым каменщиком и даже, случалось, отправлял его в контору за расчетом, но такие случаи бывали редки. Тремя неделями позже, когда я совсем уже собрался объявить Рурку, что не могу больше откладывать свой уход, ибо мое здоровье достаточно окрепло, а кошелек изрядно отощал и пора мне позаботиться о своих финансах, в холодный декабрьский день разразилась катастрофа. Рурк и несколько итальянцев (в том числе Мэтт и Джимми) работали в центральном зале, уже почти законченном, как вдруг взорвался паровой котел подъемника, помещавшийся внутри здания, как раз на стыке трех стен; взрывом разнесло одну стену, выбило из пазов балки и перекрытия, и весь второй и третий этаж — пятнадцать тысяч кирпичей — рухнули вниз. Несколько секунд низвергалась настоящая лавина из кирпичей и бревен; когда все стихло, оказалось, что Рурк и пятеро итальянцев погребены под развалинами. Все, кроме Джимми, получили серьезные ранения. Два итальянца были убиты на месте, третий умер через несколько дней. Рурк перед взрывом находился в самом опасном месте и пострадал очень сильно. Его по пояс завалило грудой кирпичей, огромная балка придавила ему плечо, расшибла голову, рассекла ухо. На него было страшно смотреть — весь в крови, с перекошенным от боли лицом. Но он не утратил ни мужества, ни присутствия духа, как и следовало ожидать. — Эк меня зажало! — были его первые слова. — Хорошо, хоть только ноги, а не всего. Бросьте, бросьте, не надо меня откапывать. Других ищите. Итальянцы где-нибудь здесь. Мы не послушались и начали его высвобождать. Кирпичи так и летели во все стороны. Но он нас остановил. — Итальянцам помогите! — с прежней властностью в голосе закричал он. — Итальянцев засыпало. Тут Джимми и Мэтт. Мне ничего, я обожду! Узнайте, что с ними! Пришлось послушаться. Мы оставили Рурка и принялись откапывать итальянцев. К этому времени со станции и из мастерских сбежалось много народу, все бросились нам помогать. Рурк, изувеченный, терпя жестокую боль, все еще порывался начальствовать и командовать. Но теперь в нем было какое-то несвойственное ему прежде благородство, даже величие. Казалось, это был сказочный великан, получеловек, полубог, сотворенный частью из плоти и крови, частью из кирпича и камня, с горних высот взиравший на наши земные усилия. — Поднимай балку! Берись за конец! Вон там! Теперь снимай кирпичи! Вон, вон его голова! Не видишь? Э! Дурачье! Вон же, вон она! Можно было подумать, что мы не его спасители, а беспомощные создания, нуждающиеся в опеке, слуги и рабы, обязанные слепо исполнять его повеления. Вскоре нам удалось освободить Рурка и его пятерых помощников; двое оказались мертвыми. Мэтт был тяжело ранен в голову, Джимми, неуязвимый, отделался пустяками — синяком и ссадиной на плече. От испуга он немножко ошалел и даже в этот трагический миг невольно вызывал смех. — Вот это грохнуло, — произнес он, придя в себя. — Я думал, свету конец! Мистур Рук! Мистур Рук! Где мистур Рук? — Я здесь, итальяшка ты разнесчастный! — весело откликнулся неукротимый Рурк из-под обломков. Мы к этому времени успели откопать его только наполовину. И затем уже более слабым голосом он сокрушенно добавил: — Что, небось, здорово тебя покорежило? — Нет, нет, мистур Рук! Ничего, мистур Рук! Помогайте мистуру Руку! — кричал Джимми, подбегая к тем, кто откапывал «мистура Рука», и принимаясь расшвыривать кирпичи. Наконец мы высвободили Рурка из-под обломков. Все время, пока мы хлопотали вокруг него, он гнал нас от себя, словно стесняясь, что столько людей из-за него волнуются и суетятся, а один раз, когда мы, надрываясь, оттаскивали балку, воскликнул: — Тише, не спеши! Не надрывайся! Зачем? Мне не так уж плохо, не спеши! Джимми, убери-ка вон ту доску с дороги. Но когда мы его откопали, сразу стало ясно, что, вопреки его уверениям, ему очень плохо и «покорежило» его очень сильно, может быть, даже насмерть. Как потом объяснили врачи, у него было раздроблено бедро, перебиты обе ноги и повреждены внутренние органы. Только когда убрали давившие на него обломки, он сам, кажется, понял, как плохи его дела. На полу, поверх подстилки из стружек, разостлали брезент, принесенный начальником депо, на брезент положили Рурка, и врачи — к этому времени успели прибыть две кареты скорой помощи — приступили к осмотру. Пока они этим занимались, Рурк критически и не без иронии наблюдал за их действиями и даже раз или два отпускал какие-то шуточки. Когда же его собрались увозить и на его вопрос, что с ним, врач бодро ответил: «Ничего страшного!» — Рурк начал беспокойно озираться по сторонам. Наши взгляды встретились, и я увидел по его глазам, что он отлично понимает всю опасность своего положения. — Мне бы священника, Тедди, — прошептал он. — И еще, если тебе не трудно, съезди в Маунт-Вернон, расскажи жене. Не то ей пошлют телеграмму и перепугают насмерть. А ты ей осторожненько… Пускай не думает, что со мной что-нибудь серьезное. Не надо… Ведь не так уж сильно меня придавило. Я обещал исполнить его просьбу. Тут же один из докторов, зная, что раненый терпит невыносимую боль, впрыснул ему в бедро кокаин. Через несколько минут Рурк впал в забытье. Я оставил его на попечение медиков и, послав за священником, поспешил в Маунт-Вернон. Рурк прожил еще неделю в жестоких страданиях и умер от заражения крови. За день или за два до его смерти я был у него в больнице. Я старался, как мог, выразить ему сочувствие, говорил о том, как ужасно, что в жизни ничего нельзя предугадать заранее, и порицал управлявшего подъемником машиниста, чья небрежность, вероятно, была причиной взрыва. Но Рурк ни на что не жаловался. — Это завсегда может случиться, — только и сказал он. — Не убережешься. У меня до сих пор никого еще не калечило и не убивало. А теперь вон что вышло. Значит, такая уж судьба. Могучий Рурк! Можно было подумать, что все итальянцы, населявшие Маунт-Вернон, знали и любили его, так много их собралось на похороны. Казалось, для них это было событие государственной важности. Они приходили целыми толпами, переполняя маленькую кирпичную церковь, где не раз видели Рурка за молитвой. Явился и Мэтт, еще не оправившийся, с перевязанной головой и необычайно печальный. Джимми, этот недавний ловкач и интриган, выглядел совсем потерянным: он горько плакал, закрывая лицо руками, всхлипывал, захлебывался, слезы текли по его темным, загрубелым пальцам. — Мистур Рук! Мистур Рук! — повторял он, глядя на тело. Потом гроб понесли на кладбище, и он побрел следом, низко склонив голову; когда же гроб стали опускать в землю. Джимми опять безутешно разрыдался: — Мистур Рук! Мистур Рук! Я с ним пятнадцать лет работал!Мопассан-младший
Я помню его с весны 1906 года — коренастый, крепкий парень лет двадцати пяти, не больше, с твердым взглядом, внешне невозмутимый, но проницательный и колючий, такому палец в рот не клади. Был он немногословен, а то, что я ему говорил, принимал с усмешкой, но я сразу заинтересовался им. Сказать по правде, он понравился мне, хотя — это я тотчас почувствовал — посматривал он на меня не очень дружелюбно. Я был лет на десять старше его и только что начал редактировать захудалый журнальчик, в который (о чем он не знал) меня пригласили для того, чтобы превратить это издание в нечто более солидное. Ради нескольких долларов молодой человек договорился с моим предшественником написать нелепейшую статью: какой-то вздор о женщинах, которые решили посвятить себя журналистике. Статья эта была ему заказана или идея ее подсказана, и я понимал, что ничего не остается, как выплатить ему гонорар. — Зачем вы тратите время на такую дребедень? — с улыбкой спросил я, желая пожурить и в то же время ободрить его, — мне уже надоело возиться со статьями, которые заказал старый редактор и которые я не собирался печатать. — По-моему, у вас достаточно сил и способностей, чтобы написать что-нибудь более дельное. Почему вы не попытаетесь сделать что-то действительно путное? — Путное! — проворчал он со злобой и весь ощетинился, напомнив мне драчливую упряжную собаку. — Черт побери, назовите мне хоть один журнал в этом городе, который возьмет то, что я считаю путным. Вы такой же, как и все, — только говорите красиво, а на самом деле ничего серьезного вам вовсе не надо. Вам, наверно, требуются статейки на отвлеченные темы либо насчет «нашей политики». Знаю я вас! Верните мне рукопись. Можете не печатать! Это написано по заказу, но так и быть — я ее выкину в корзину. — Потише, потише, — сказал я, восхищаясь его смелостью и пылом, с каким он выражал свое презрение к нравам американских издателей. Он был такой молодой, непосредственный и какой-то дикий — совсем звереныш. Но по-своему очень интересный! Было в нем что-то свежее, яркое, напоминающее девственные прерии или поле, по которому только что прошелся плуг. В моих глазах он олицетворял все молодое, неиспорченное, что только есть в Америке, но притом был удивительно напорист, — это не часто встретишь у нас, по крайней мере среди людей умственного труда. — Успокойтесь и перестаньте рычать, — сказал я мягко. — Вы совершенно правы, я знаю, им вовсе не нужно то, что вы предлагаете. И мне это не нужно. Ведь почти все мы работаем не на себя, а на дражайшую публику, — все зависит от того, как расходятся наши издания: против вкусов и требований потребителя не пойдешь. Я был точно в таком же положении, как и вы. Я и сейчас в таком положении. Откуда вы родом? Оказалось, из Миссури, — он там совсем недавно окончил университет. — Чем вы намерены заниматься? — А вам какое дело? — раздраженно ответил он: ясно было, что человек этот остро сознает собственное превосходство, а мой вопрос кажется ему обидным снисхождением и возмутительной навязчивостью. — Вы, наверно, даже и не поймете, если я вам скажу. Сейчас мне важно одно — написать достаточно журнальных статей, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Вот и все. — Ну и ну! Какие же мы храбрые! — расхохотался я, не обижаясь на эту отповедь. — Нет, право, вы занятный парень. Но давайте-ка перейдем к презренной прозе. Вы хотите писать что-нибудь толковое и получать за это деньги. Мне вы нравитесь, и, по-моему, способны делать то, что мне нужно. Вам не хочется писать всякую ерунду, вы стремитесь к чему-то получше. А я тоже хочу печатать в нашем журнале как можно меньше ерунды, мне нужно что-то настоящее, выхваченное из подлинной жизни Нью-Йорка, если только такую вещь можно напечатать в обычном журнале. Вот, грубо говоря, что мне нужно. — И я обрисовал ему, какое направление я намерен придать журналу. Я принял на себя руководство анемичным, рассчитанным на дешевую сенсационность ежемесячником под названием «Бродвей» и пытался превратить его в зеркало как столичной, так и международной жизни. Юноша немного оттаял. — Ну, если таковы ваши намерения, то из этого может что-нибудь и выйти. Не знаю. Не исключено, что вам это удастся. — Он с особым ударением сказал «не исключено». — Во всяком случае, попытаться стоит. Судя по тому, какие здесь, в Нью-Йорке, дрянные редакторы и издатели, в Америке никто не хочет ничего порядочного. — Губы его искривила ироническая усмешка. — Я тоже хочу кое-чего добиться, но у меня мало надежды осуществить свои планы в здешних журналах. Может быть, это следует делать даже и не в Америке. Я не знал, что в вашем журнале такие перемены. — Да, но все-таки не слишком рассчитывайте на это, — сказал я. — Ведь, как-никак, журнал должен хорошо раскупаться. Посмотрим, далеко ли можно пойти с действительно интересным материалом. И если вы знаете еще кого-нибудь вроде вас, ведите их ко мне. Мне нужны такие люди. И я оплачу вам эту статью, только вы получите деньги вместе с гонораром за что-нибудь другое, что вы напишете потом. Понимаете? Я улыбнулся, улыбнулся и он. Когда он позволял себе проявить симпатию к собеседнику, он улыбался открытой, сердечной улыбкой, но обычно не давал волю чувствам, был грубоват, даже суров — словно берег для чего-то свой душевный пыл, подумалось мне. Он ушел, и мы встретились вновь лишь неделю спустя: молодой человек принес мне свою первую работу, написанную в том духе, как я просил. Тем временем я спешно подбирал штат работников, куда решил включить и своего нового знакомого. Я рассчитывал использовать его в качестве сотрудника на половинном окладе, полагая, что его можно будет научить писать хорошие очерки. Он казался таким способным и честолюбивым, что от него можно было ожидать многого. Кроме того, небольшая статья, которую он принес мне во второе свое посещение, поразила меня выразительностью языка, хотя главные мысли и наиболее выигрышные места были скомпонованы в ней не столь удачно. Следующий его опыт понравился мне еще больше. Это было, насколько я помню, волнующее описание Ист-Сайда, сделанное с расчетом привлечь внимание не только нью-йоркских читателей, но и всей Америки. Так же, как и в первой своей работе, в этом очерке он проявил исключительное мастерство в выборе красок и слов, в четкости описаний, но ему по-прежнему недоставало умения выгодно оттенять главное. Я сказал ему об этом, намекнув, что мог бы, если он не возражает, показать, как это делается. Молодой человек согласился, и даже с охотой, но вид у него был все такой же сдержанный, будто он оказывал мне услугу. Он живо постиг, в чем секрет композиции, и, посидев немного за столом в соседней комнате, положил передо мной переделанный очерк, который меня уже почти удовлетворил. За последующие недели и месяцы, работая то над одним очерком, то над другим, он в конце концов уловил суть моей теории, или, вернее, создал свой собственный метод, — его работы меня вполне удовлетворяли и даже радовали. Немного погодя я взял его в журнал на постоянное жалованье. Теперь я понимаю, сколько наивной самоотверженности было в том, что мы старались тогда делать — и в каких условиях! Ничем не прикрытый дух торгашества руководил владельцем журнала, приходилось объяснять и отстаивать многое такое, о чем, как мне казалось, и спорить-то нечего. Мы переехали в новое помещение, где еще не были закончены отделочные работы и где еще только достраивались перегородки, которые, как заметил кто-то, должны были «разделить и нас». Издатель и владелец нашего журнала был маленький, энергичный, раздражительный, преисполненный самомнения человечек, американец до мозга костей; взгляды у него были самые обывательские, и он требовал, чтобы журнал наш был «забористый», «увлекательный», «злободневный» и прочее. Он частенько налетал на нас, или, вернее, на меня, и все допытывался, в чем суть и смысл великих планов, которые я и небольшая группа людей, — мне довольно быстро удалось сколотить ее, — всеми силами старались осуществить. Для меня поэтому было важно по-новому построить работу журнала, свежо и необычно освещать столичную жизнь, отрешиться от прежнего медлительного и несколько высокопарного стиля в очерках и репортаже, — и этот юноша, казалось, мог помочь мне. В нем была такая сила, такая жажда жизни, он так страстно стремился живописать окружающее, а именно это и нужно было нашему журналу. Имея под рукой подобного сотрудника, я чувствовал себя увереннее и спокойнее. Его чрезвычайно интересовал и рост города, и атмосфера столичной жизни, и подробности возвышения богатейших семейств, и происходящие события, и условия существования различных слоев общества, и совершаемые преступления; с другой стороны, он так легко учился нашему мастерству, так быстро схватывал, что от него требуется и как это надо подать. Стоило мне объяснить ему некоторые технические мелочи — и он овладел искусством сочинения очерков, а дальше все пошло легко и просто. Но еще больше, чем эта легкость, с какою он усвоил мою теорию журнального очерка, заинтересовал меня его характер; работая бок о бок с ним изо дня в день, я все лучше узнавал его. Скоро я понял — и это меня очень обрадовало, — что молодой человек отнюдь не принадлежит к типу писак никчемной сентиментальной школы с ее пресловутым принципом «счастливого конца». Напротив, впервые за время работы с начинающими литераторами я почувствовал в очерках этого юноши то спокойствие, уверенность, проникновенность и отсутствие сентиментальности, которые присущи лучшим писателям Америки, — здесь не было места пустопорожней велеречивости, браваде и ханжеству. Его стиль был прост и прозрачен, как дождевая капля, он писал романтично, ярко, с искрой юмора, и если иногда между строк сквозило излишнее тщеславие и самомнение, я охотно прощал ему это, ибо ему было чем гордиться. Принимая участие в различных изданиях, я встречался с начинающими литераторами и художниками самого разного толка, но этот молодой человек нравился мне больше всех, в нем было что-то свежее, необычное. Прошло две-три недели после начала нашего знакомства, и однажды, видя, что я ищу рассказы, стихи, короткие очерки и зарисовки, отражающие дух Нью-Йорка, он принес мне небольшое стихотворение «Neuvain», которое меня поразило. Это были всего шесть строк — двойной триолет в старофранцузской манере, но удивительно сильный и тонкий и насквозь пропитанный духом современности; от него веяло дыханием города, в нем слышались звонки трамваев, смех детей, танцующих под шарманку. Название стихотворения было надуманное, английское слово «Весна» подошло бы ничуть не хуже, но такое название характерно было для тогдашних вкусов автора, для его литературных увлечений. Тогда я еще не знал, что он был ярым приверженцем французской литературной школы, крупнейшим светилом которой являлся Мопассан. — Замечательно! — с жаром воскликнул я. — Мне очень нравится. Покажите, что еще у вас написано. А рассказы вы пишете? Вместо ответа он уставился на меня таким испытующим, высокомерным и презрительным взглядом, который ясно говорил: «Еще вопрос, стоит ли с тобой об этом толковать» или: «Этот умник только еще начинает догадываться, что я способен написать рассказ». Но, видя, что я лишь добродушно улыбаюсь, он, наконец, соблаговолил ответить: — Конечно, я пишу новеллы. А для чего же я ввязался в это дело и стал писать, по-вашему? — Ну, мало ли — может быть, вы хотите стать романистом, или драматургом, или поэтом. — Нет, — помолчав, возразил он все тем же непередаваемо снисходительным тоном, — я хочу специализироваться только в новелле. «Прекрасно, — подумал я, — у этого юнца определенно есть талант, и не маленький, но, судя по тому, как он начинает, жизнь обрушит на него немало ударов, — надо защитить его, пока он молод, ободрить и поддержать. Не так давно я сам был в его положении. И, кроме всего прочего, если я не поддержу его материально, чтобы он мог продолжать в том же духе (а материальная помощь — самая верная), так кто этим станет заниматься?» Примерно через неделю я был снова приятно поражен — и даже больше, чем до сих пор. Со своим обычным снисходительным видом он принес мне две небольшие рукописи — две повести — и бережно положил на мой стол, сказав только, помнится, что я могу прочитать это, если придет охота. Я прочитал — и был потрясен: мне казалось, что я открыл гения, гения в расцвете творческих сил. В этих повестях («Вторая причина», «Верный человек») чувствовался новый, своеобразный взгляд на жизнь, они были написаны ясно, глубоко, лаконично, оригинально по мысли. Надо сказать, что к тому времени я уже поработал во многих журналах, немало испортил себе крови, стараясь поднять на высоту жанр новеллы, и теперь довольно мрачно смотрел на будущее американской прозы — новеллы в частности, — ведь если бы и можно было напечатать хорошую вещь, ее не так просто найти. Мой собственный опыт с романом «Сестра Керри», та ожесточенная враждебность или холодное безразличие, с которыми сталкивались все, кто пытался сделать в американской литературе что-то хоть сколько-нибудь серьезное, убедили меня, что мир считаетвеличайшим оскорблением и преступлением любую книгу, где есть хотя бы крупица правды. Писатель не смеет «говорить во всеуслышание», не смеет описывать жизнь такою, как она есть, какой он ее знает. На этот счет меня весьма внушительно предостерег наш издатель; он был ярчайшим и прискорбнейшим олицетворением американской лжеморали: в нем уживались чисто пиратское стяжательство и глубокая, непоколебимая уверенность в своей правоте. Так вот, он заявил, что хотел бы видеть в журнале нечто новое в области художественной прозы, нечто более реалистическое и жизненное, а не вздор, какой печатают повсюду; но при этом материал должен отвечать двум требованиям: 1) он должен быть рассчитан на среднего читателя(!) и 2) должен строго соответствовать фактам и быть нравственным в том смысле слова, как это понимает уважаемый средний читатель… Эти два жернова, разумеется, перемололи бы все живое в любом произведении. И, однако, я не впадал в отчаяние и рассчитывал кое-чего добиться. Тяжко вздыхая, я все же надеялся убедить моего патрона выйти за рамки общепринятого или думал, попросту говоря, «обставить» его, но из этого, как вы понимаете, могло что-то получиться, а могло и не получиться. По правде говоря, я мечтал найти вот такого юношу, а то и нескольких молодых людей — приверженцев острой, реалистической манеры письма, которые не изменяли бы жизненной правде, но и не переступали бы известных границ, иначе я не мог бы их печатать. Вообразите же, как я обрадовался, получив эти две повести: ведь я мог не только искренне восхищаться ими, но и напечатать их, — ясно было, что они заинтересуют всякого, кто хоть немного знает жизнь. Несомненно, в них было много иронии, много жестокой правды, но написаны они были ярко, с юмором и таким безупречным мастерством, что не могли не вызвать улыбку одобрения. Я пригласил юношу к себе и сказал ему все это, или, вернее, почти все. Теперь я иногда думаю, что это было ошибкой, ибо путь к искусству должен быть долог. Я тут же приобрел обе рукописи, надеясь — это была смелая надежда! — найти для журнала еще такие же превосходные повести. Забыл сказать, что в то время мой штат расширился. Появился новый сотрудник — заведующий отделом художественного оформления, человек чрезвычайно пылкого и неустойчивого нрава, своего рода гений, увлекающийся, беспокойный, нетерпеливый, поклонник Верлена, Бодлера и Ропса. Мало того, что он оформлял и украшал каждый номер нашего журнала, он еще и писал новеллы, пробовал силы в живописи, сочинял стихи, музыку, пьесы и к тому же успевал бывать в высшем свете — такую возможность он имел благодаря своему происхождению. Был у нас тогда технический редактор — выходец из Ирландии, католик; он окончил какое-то весьма известное духовное училище, и его куда больше интересовал святой Иероним со своим «Vulgate» — этим непревзойденным образцом классической латыни, чем выпуск в свет нашего журнала. И все же у него было бесспорное достоинство: он был занятен, и «я от него Горация узнал». В наш штат входила еще более занятная, юная, милая, хотя и несколько суровая, представительница литературно-критической школы Уэлсли-Холиоки-Брайан Моур — чрезвычайно привлекательная и образованная девушка, занимавшая должность рецензента и помощника редактора. Она сидела в соседней комнате вместе с заведующим отделом оформления, техническим редактором и рассыльным. Боюсь, эта неоценимая и во многих отношениях достойная особа справедливо презирала меня за мои довольно свободные и отнюдь не приличествующие литератору манеры, зато, как я догадался еще прежде, чем принять ее на работу, она обладала замечательным чутьем ко всему новому и живому в беллетристике и во всех прочих областях литературного ремесла. Она с необыкновенной энергией вечно все критиковала, вычеркивала и отвергала. На первых порах Л. от души возненавидел ее и называл не иначе, как «дурой», «макакой», «пигалицей». А кроме постоянных сотрудников, в нашей редакции гудел все возрастающий рой писателей, художников, поэтов, критиков, фантазеров, мечтавших о переустройстве общества, — кого тут только не было; все они рассчитывали осуществить свои планы с помощью какого-нибудь влиятельного журнала и постепенно превратили нашу редакцию в свою штаб-квартиру. Одно время здесь толпилось такое множество охотников за славой, что яблоку негде было упасть, — все занятный, живой, шумный народ. Попав в этот новый для него круг, Л., естественно, живо заинтересовался и даже увлекся им. Порою он с юношеской непосредственностью откликался на все и, должно быть, думал, что все эти люди сумеют создать что-то удивительное, долговечное, о чем заговорит весь мир. Но очень скоро выяснилось, что Л. на редкость упрямый, просто несносный мальчишка. У него был особый дар говорить и делать то, что неприятно окружающим, и он порой очень раздражал не только меня, а и других. До нашего знакомства в редакции он никогда не слыхал обо мне, но, очевидно, был убежден, что я просто ничтожество — пожалуй, гожусь на что-нибудь как редактор, но уж, конечно, я не писатель и никогда не смогу дать писателю дельный совет. Правда, я помогал ему, но он принимал это как должное. Заведующего отделом оформления он считал на первых порах идиотом, а потом гением. Столь же резко изменилось его мнение и о техническом редакторе. Что же до мисс Э. (нашего помощника редактора и последовательницы литературной школы Уэлсли-Холиоки-Брайан Моур), которая сразу согласилась со мной, признав в Л. человека одаренного и даже гениального, то он, как я уже говорил, сначала презирал ее. Спустя некоторое время она — очевидно, благодаря своему хорошенькому личику и врожденной грации — ухитрилась войти к нему в доверие и, всячески превознося его экспрессию, искренность, его глубокую интуицию и неуемную силу, тем самым доказала ему, что она не только чистосердечно восхищается его дарованием, но и обладает выдающимся вкусом. С тех пор Л. стал безопасен и даже мил, — он чем-то напоминал наполовину прирученного дикого зверя. Больше всего Л. возмущался владельцем нашего журнала М., просто не находил слов, чтобы выразить свое презрение к нему. Он уверял меня, что М. грязная крыса, хищник, хорек, шпион, агент, работающий на какой-нибудь трест, хитрый и корыстолюбивый лавочник. Все эти эпитеты М. заслужил тем, что он имел обыкновение появляться то здесь, то там и завязывать разговор, явно стараясь разобраться в порывах и идеях всех этих представителей журнального мира, воспользоваться ими с выгодой для себя. Но что едва ли не больше всего раздражало Л. в издателе — это его самоуверенная осанка процветающего дельца, его нескрываемое убеждение в том, что такое преуспевание доступно лишь ему одному: его отлично сшитый костюм, его автомобиль, многочисленные помощники и секретари, сопровождавшие его во время разъездов по учреждениям, с которыми он был связан. М. всегда говорил, что его принцип: «Живи в свое удовольствие и не жалей для этого ничего». Поступал он отнюдь не так, как говорил, зато других всячески поощрял руководствоваться этим правилом. Он завел обычай (и это, должно быть, производило на Л., неопытного новичка, большое впечатление), переходя с одного «важного» совещания на другое, оповещать об этом всех и вся через своих приспешников; где бы он ни находился — у себя ли в кабинете, или где-то в другом месте, — его неизменно связывали со всеми, кто ни обращался к нему по телефону, даже когда предполагалось, что он занят конфиденциальной литературной беседой с кем-либо из своих служащих или с целой группой их — к такого рода беседам у издателя появилась настоящая страсть. Была у него и другая причуда, продиктованная тщеславием: всякий раз, как к подъезду подкатывал автомобиль, секретари громко возглашали об этом и чуть не силой усаживали своего патрона, — им заранее было приказано напоминать ему о предстоящих весьма важных совещаниях и встречах. А бывало и так, что М. посылал за кем-либо из своих подчиненных даже в полночь и вызывал его для разговора по важному делу в клуб, в ресторан или на дом; вызванный должен был нанимать такси и мчаться во весь опор, чтобы патрону не пришлось ждать его. — Господи, — сказал однажды в моем присутствии Л., — подумать только, на какое унижение идет разумный человек за недельное жалованье! Эх, отхлестать бы этого М. шваброй, а потом придушить! Но посмотрели бы вы, как Л. развивался и рос в такой атмосфере! Это было любопытно. Сначала — до того, как наш журнал стал крупным изданием с солидной репутацией, — мне доставляло огромное удовольствие встречаться с молодым человеком вне редакции: он был на редкость занимательный и живой собеседник! У него была такая жажда жизни, такая нетерпимость ко всему устаревшему или не соответствовавшему его желаниям и взглядам, что иной раз страшно было заговорить с ним, — непременно нарвешься на колкость или резкий отпор. Меня радовало его страстное желание все знать, все видеть — желание, которое появляется у каждого юноши, впервые попадающего в большой город. Гигантские мосты, недавно прорытые туннели, гавань и бухта, Кони-Айленд, два новых больших вокзала, в то время еще только отстраивающиеся, — все интересовало его. Впрочем, куда больше его привлекали совсем другие, даже мрачные места — Восьмая авеню, например, о которой он впоследствии написал рассказ — и притом очень хороший («Тихий дуэт»); Чертова кухня — район, что находится (или находился) в западной части Манхэттена, между Восьмой и Десятой авеню, Тридцать шестой и Сорок первой улицами; Малая Италия — район, расположенный ниже Деланси, к северу от Уорс-стрит в Ист-Сайде; Китайский городок; Вашингтон-стрит (Сирия в Америке); греческие кварталы на Двадцать седьмой и Двадцать восьмой улицах Вэст-Сайда. Все эти и многие другие черты многоликого города властно и неудержимо притягивали к себе юношу. Однажды, когда мы в два часа ночи шли по Восьмой авеню (я показывал ему, как выглядят летом глухие трущобы), он взволнованно сказал: — До чего я не люблю ложиться спать в Нью-Йорке! Мне все кажется, что, пока я сплю, непременно что-нибудь случится интересное и я этого не увижу. Я уверен, что он говорил тогда совершенно искренне. В те времена он был простым парнем и вел поистине спартанский образ жизни. Он был глубоко равнодушен к спиртному, где-то, кажется на Восьмой авеню, снимал крохотную комнатку и обедал в дрянных маленьких харчевнях, причем посетители интересовали его куда больше пищи (и за это я почтительно снимаю перед ним шляпу). Он был таким напористым и непреклонным в стремлении развить свое дарование, что я смотрел на него чуть ли не с благоговением. Вот человек, который своего добьется, говорил я себе. Пусть он дик, неотесан. В Америке, очевидно, таким и надо быть. Чего я только не узнал о его прошлом за наше короткое знакомство! Мало-помалу, по кусочкам, я воссоздал картину пережитых им лишений и трудностей. Он пробовал стать газетным репортером в Канзас-Сити; чтобы прокормиться и заплатить за учение в университете на Среднем Западе, который он окончил, ему пришлось работать в университетском ресторане и прачечной. Позднее он служил привратником в одном небоскребе, тоже, кажется, в Канзас-Сити. И больше всего мне нравилось, что он никогда не бахвалился этим и не жаловался на то, как ему трудно приходилось. Он не впадал и в другую крайность — не старался преуменьшить и представить свои мытарства пустяками, что тоже было бы кривляньем. Он рассказал мне, что в юные годы немало скитался вместе со своей матерью — женщиной железной воли. Казалось, он очень любил ее по-своему — все с той же угрюмой придирчивостью, — но рассказывал о ней скупо и неохотно, и все же мне стало ясно, что это была женщина грубая и вульгарная, но настоящая, любящая мать, которая шла ради него на большие жертвы. Одно время, когда сын был совсем еще маленький, она содержала ресторанчик в каком-то горняцком поселке на Западе, а несколько позже перебралась через пустыню Мохаве: часть пути она шла пешком, неся на руках хнычущего сына, закутанного шалью. Л., по-видимому, не знал, кто его отец, и не задавался вопросом, знает ли это мать. Он сказал только, что отец его умер, когда он был еще ребенком. Потом мать работала поварихой в гостинице при вокзале где-то в Техасе, и там-то мальчик начал ходить в школу. Она нанималась к ростовщику «кликушей», если вы только знаете, что это такое: являлась к какому-нибудь бедному и жалкому должнику своего хозяина и требовала тотчас заплатить долг, иначе она будет вопить во всю глотку и осрамит его перед товарищами по работе. Позднее она была и частным сыщиком и страховым агентом — бог знает чем только не занималась эта суровая, мужеподобная женщина, всей душой, однако, любившая своего сына, который, несомненно, казался ей совершенством. Она послала его учиться в начальную, потом в среднюю школу, а затем и в колледж и давала ему столько денег, сколько могла. Еще позже (как раз в то время, когда я познакомился с Л.) она непременно хотела переехать в Нью-Йорк, чтобы вести хозяйство сына, но юноша, стремясь к полной свободе, не согласился на это. Тем не менее он аккуратно писал ей, а впоследствии, кажется, посылал ей часть своего заработка; деньги эти она бережно хранила для него же, на черный день. После смерти Л. я нашел в его бумагах трогательный рассказ («Его мать»), в котором он и беспощадно и любовно описывал свою мать и себя — в его душе уживались нежность и жестокость. Одно обстоятельство очень обнадеживало меня: его нимало не увлекали те пошлые моральные и экономические формулы и теорийки, которые в том или ином виде наводняли Америку. В самом деле, его ничуть не увлекали эти идеи, он был даже чужд им. Все, что он слышал о прирожденных и вечных совершенствах человеческой души, можно сказать, в одно его ухо входило, а в другое выходило. Он уважал добродетель, но он видел и отвратительные пороки, считался с их существованием и знал, что из-за них-то и нужна добродетель. Вор в его глазах значил ничуть не меньше, чем святой, ибо святой потому и нужен, что рядом существует вор. Л. не интересовался американской политикой и «высшим светом» — совсем редкое качество! Ему было чуждо типично американское стремление «преуспеть», то есть нажить капитал и занять более высокое положение в обществе, — еще одна неоценимая черта! Жизнь во всех ее формах и проявлениях казалась ему увлекательной; он принимал ее такой, как она есть, и считал, что такой ее и надо изображать, лишь бы хватило мастерства; это мастерство дается только избранным, и, стараясь овладеть им, не надо жалеть никаких усилий. Можно вообразить себе, каких трудов стоило бы в то время убедить среднего американца, напичканного, как он напичкан и теперь, вздорными представлениями о художниках и искусстве, что Л. — это нечто большее, чем просто грубый, неотесанный мужлан, у которого хватило наглости топтать своими грязными сапогами ступени храма муз! Этот дерзкий, колючий, раздражительный парень, похожий скорей на тормозного кондуктора или железнодорожного рабочего, чем на писателя, порою такой несдержанный на язык и неистово резкий в суждениях, — что может быть у него общего с литературой, с великими идеалами художника, с искусством вообще? Как, черт возьми, он лезет на Олимп, этот дюжий молодец, с копной каштановых волос, разделенных сбоку пробором, как у модного парикмахера, и свисающих на одно ухо, в довольно нескладных коричневых башмаках на толстой подошве, в неуклюжем костюме, купленном в магазине готового платья, в маленькой круглой коричневой шляпе, а чаще в кепке, небрежно и даже вызывающе сдвинутой набекрень, в грубошерстном тяжелом пальто, которое он носит в холодные весенние дни и полы и лацканы которого помяты и сморщены от сырости и небрежного обращения! Этот парень, способный в самую неподходящую минуту вытащить кисет с дрянным табаком и закурить дешевую, сделанную из початка кукурузы трубку, парень с воинственными, раздражающими замашками, чуть ли не головорез, всегда готовый броситься в драку, кажется, всем своим видом говорил, что он далеко не такой, каким ему следует быть! Положительно, в нем было что-то звериное, — но и что-то космическое (не комическое), если учесть, на какое место в мире интеллекта и искусства он претендовал. Нередко его язвительность и вызывающий тон действовали на нервы даже мне. Он был, как я уже сказал, чересчур задирист, чересчур напорист, чересчур нетерпим. Ему недоставало мягкости. Вместе с тем я чувствовал, что все эти качества необходимы ему, чтобы, как он говорил, «пробиться». Я пытался — безуспешно — чуть смягчить его нрав, я был очень привязан к нему, хотя он злил меня и подчас доводил до бешенства своими выходками; казалось, он бесит меня нарочно, с хитростью дикаря, пытаясь сбить с меня спесь: он воображал, что я смотрю на него свысока. Были дни, когда я, словно отец блудному сыну, желал ему смерти, но это скоро проходило, а его литературный дар искупал в моих глазах все его прегрешения. Тем временем наш журнал начал процветать и привлекать общее внимание, и Л. стал для меня самым ценным сотрудником: сам он не так уж много и делал, но то, что делал, было для нас образцом. Немудрено, что очень скоро он получил признание всех, кто имел какое-то отношение к нашему журналу. На первых порах, заинтересованный в успехах юноши, я старался при каждом удобном случае представить его всем, кто мог стать ему полезным, а потом он сам благодаря своему уму, цельности натуры, пылкости воображения и острому критическому чутью сумел собрать вокруг себя целую группу искателей новых путей: молодых писателей, художников, поэтов, драматургов, композиторов — это был удивительно занятный и своеобразный артистический кружок. Местом их встреч служили все те же дрянные ресторанчики в глухих закоулках и даже на главных улицах, близ Таймс-сквер; иногда они собирались у кого-нибудь дома или в моем служебном кабинете, вечером, когда я уходил домой; в таком случае они уверяли меня, что у них срочная работа. И все время только и разговоров было, что о новых певцах, танцовщицах, о новых пьесах и новеллах, только задуманных или уже почти законченных, о статьях и критических очерках, которые должны были вот-вот увидеть свет, о богемных ночных пирушках, которые хоть и не стоили больших денег, зато отличались неудержимым весельем. Денег у этой молодежи, конечно, всегда было в обрез, и потому члены кружка постоянно то занимали друг у друга, то расплачивались с долгами. С тревогой я обнаружил, что наш заведующий отделом оформления, этот доблестный рыцарь богемы, и сторонница литературно-критической школы Уэлсли-Брайан Моур — оказались самыми деятельными членами этого кружка. К нему со временем примкнули и наш технический редактор и многие другие из числа тех, кто так или иначе причастен был к изданию журнала. Кружок этот, если и не приносил непосредственной пользы, во всяком случае очень оживлял атмосферу вокруг журнала, и я твердо убежден, что с точки зрения «знакомства», «контакта» и «равнения» на основные литературные течения и тенденции — а ведь это необходимо для успеха дела — он был просто неоценим. Он стал своего рода нашей литературной кухней, куда притекало и затем получало известность множество разнообразнейших и интереснейших идей. Здесь обсуждали то нового, дотоле никому неведомого тенора, которого следовало пригласить из-за границы и с помпой представить падким до знаменитостей американцам, то молодого скульптора или художника, о котором в Америке не имели и понятия, то выдающегося актера, то поэта или писателя. Я слушал бесконечные пересуды о новейших направлениях в скульптуре, в живописи, в литературе, — они с минуты на минуту должны были поразить мир. Духом пылкой, мечтательной юности веяло от этого кружка. Вся эта молодежь жадно тянулась к знанию и была исполнена самых радужных надежд, и я частенько спрашивал себя, кому из них суждено осуществить свои мечты — да и суждено ли. Однако в отношении Л. у меня не было ни малейшего сомнения. Правда, он начал усваивать все более легкомысленные привычки, стремился быть в самом центре беспутного веселья, царившего в кружке; временами он стал выпивать — главным образом, по-моему, под влиянием нашего сумасбродного заведующего отделом оформления, человека, который не знал чувства меры ни в делах практических, ни в вопросах искусства и во что бы то ни стало хотел превратить свою жизнь в непрерывную вакханалию. Я не раз слышал, как на предложение куда-нибудь отправиться и повеселиться всем вместе Л. категорически заявлял: «Нет, нет. Я не пойду. Мне надо домой». Ему хотелось поработать над рассказом или дописать статью. Нередко он прибавлял, что присоединится к ним позже, если к тому времени, как закончит работу, он застанет компанию в условленном месте. Развлечения, как видно, никогда не отражались на его работе. Именно в ту пору я по-настоящему понял, чем питалось его дарование и какого размаха оно было. Он был буквально без ума от европейской и прежде всего французской школы и манеры письма. Он тщательно изучал творчество, характер и перипетии жизни (более всего, боюсь, последнее) таких писателей, как Мопассан, Флобер, Бодлер, Бальзак, Мюссе, Жорж Санд, Додэ, Дюма-сын, Золя, а из более поздних — Эрвэ, Бурже, Луис и их современники. Однако самым глубоким и сильным было его пристрастие к Мопассану; он восхищался им самим, его творчеством, его стилем, его широкими взглядами на жизнь, отсутствием у него моральных, религиозных или даже сентиментальных предрассудков. Я глубоко убежден, что в начале своей литературной карьеры он рабски подражал Мопассану во всем, хотя, естественно, не мог ни отрешиться от американской психологии, ни избавиться от влияния среды, в которой вырос. Один критик и издатель из Западных штатов, которому до встречи со мной Л. посылал свои рукописи и с которым связывал свои надежды, написал мне уже после его смерти письмо; говоря о периоде, предшествовавшем моему знакомству с Л., человек этот пишет: «Он был помешан на искусстве «конца века», которое вошло тогда в такую моду и от которого (надеюсь, мне это зачтется на том свете) я всеми силами старался его отвратить». Полагаю, что так оно и было, и тем не менее Л. все еще находился под сильным влиянием этой литературы. Он обожал Обри Бердслея и новейших французских живописцев, Верлена, Бодлера, Ропса, группу «Желтая книга», даже Оскара Уайлда, хотя у него самого взгляды на жизнь были гораздо более материалистические, плебейские, даже радикальные. К несчастью для Л., нашему хозяину и издателю вдруг взбрело на ум активно вмешаться в дела журнала. До сих пор он следил лишь за тем, чтобы наш «Бродвей» приносил барыши, теперь же, поскольку журнал стал привлекать всеобщее внимание, хозяин решил пожать плоды его литературного и художественного успеха, более того — прослыть его истинным вдохновителем и движущей силой — опасность, которой я отнюдь не предвидел, когда принимал на себя обязанности редактора. Между нами был уговор, что он не будет вмешиваться в сферу моей деятельности, но теперь он надумал создать нечто вроде редакционного совета, куда бы вошел он сам и те сотрудники, которых я же в последнее время и привлек. Возражать было трудно, к тому же это не так уж сильно огорчало меня. Я еще раньше решил, что редактирование этого журнала — лишь этап в моей жизни. То же самое, по-моему, можно было сказать и о Л., хотя он все более входил во вкус нашей журнальной работы. Между тем я еще не видел возможности устроить свои дела по-иному и уйти из редакции; на какое-то время я застрял там, чувствуя себя почти что сторонним наблюдателем. И вот тут-то я, к своему великому огорчению, заметил, что Л. стал все больше подпадать под влияние человека, который, по-моему, мог ему только повредить. М. отнюдь не годился ему в наставники. Человек не лишенный блеска, но чрезвычайно поверхностный и корыстолюбивый, М. был убежден, что обладать такими вполне осязаемыми благами, как дома, земельные участки, акции разных предприятий, а также получить доступ в клубы и иные сферы, где вращаются люди богатые и преуспевающие, — значит достигнуть всего, к чему стоит стремиться на свете. М. почти ничего не смыслил ни в искусстве, ни в литературе, ни в том тончайшем и неуловимом, от чего зависит лицо журнала и особенно — писателя, и, однако, считал себя в этих делах знатоком. Более того, он старался обзавестись друзьями не только среди тех, кого я мог бы привлечь к работе в журнале, — при условии, конечно, что эти люди оказались бы чем-то полезны ему, — но и среди литераторов куда более преуспевающих, составивших себе имя более обыденными и пошлыми писаниями, тех, у кого уже были приверженцы и кто умел извлекать для себя и для журнала прибыль из своих сочинений, каковы бы они ни были. М. только и говорил, что о деньгах: деньги всемогущи, за деньги можно все купить и всего достигнуть, материальные блага — превыше всего. Он хотел воспевать в своем журнале золотого тельца и в то же время — как это ни парадоксально — хотел, чтобы здесь были представлены лучшие силы литературы и искусства. Это, разумеется, было совершенно неосуществимо; однако он умел подходить к людям легко и непринужденно и на первых порах многим нравился; он был всегда весел и в некоторых отношениях почти неотразим, отнюдь не груб и не утомителен. И он очень рьяно принялся за дело, стараясь сблизиться с теми, кто окружал меня; он вел долгие и таинственные беседы о том, как лучше наладить журнал, без стеснения намекал на блестящие перспективы, которые ожидают всех и каждого — особенно того, с кем он в данную минуту разговаривал. Как ни странно, но М. — этот необычный для круга Л. и, я бы сказал, глубоко чуждый ему человек — чем-то чрезвычайно понравился юноше. Я не хочу утверждать, что это влияние оказалось роковым. Оно могло бы принести Л. даже пользу, будь он постарше или поуравновешеннее. Но, мне кажется, дружба с М. позволила Л. слишком быстро достичь того, что должно даваться далеко не сразу. Ибо М. знал толк как раз в тех вещах, которых Л. следовало всячески остерегаться, — он любил во всем показной эффект, пошлые удовольствия, какими упивается ночной, праздный, богатый Нью-Йорк. В этом отношении я не встречал человека более обольстительного и ловкого, — никто не умел так хитро воспользоваться кем-нибудь ради своих тщеславных целей, а затем преспокойно отвернуться от него. М. обладал поистине талантом придавать всему безвкусному и никчемному видимость чего-то значительного и даже совершенного. На первых порах Л. не раз, по его же выражению, «крыл хозяина на все корки» (конечно, только за глаза): он высмеивал торгашеский взгляд издателя на общество и на деньги, говорил, что у М. идеалы лавочника со Среднего Запада, но, как я отлично видел, уже тогда яд этих пошлых идеалов проник в его душу. Ведь нельзя забывать, что Л. был совсем новичок в Нью-Йорке, почти мальчик, до сих пор он всегда нуждался и, надо думать, слегка завидовал благополучию этого человека, его успеху, видному положению и даже тому мелкотравчатому величию, которое издатель старался придать себе. И все же это могло бы еще оказаться не столь зловредным, будь возле Л. человек, способный предостеречь его от неверных шагов, удержать от измены самому себе, своему таланту, своему строгому вкусу, но вокруг него вились одни прихвостни и подхалимы. Некоторое время спустя я ушел от М. и стал работать редактором в другом месте. Мне приходилось просматривать почти все выходящие журналы; и вот во многих из них, особенно в изданиях М., который тогда необычайно процветал, я все чаще с беспокойством встречал рассказы Л. Они были написаны с подлинным мастерством, говорили о строгом вкусе и зорком глазе, но при этом в них появилось то, чего я опасался с самого начала — признаки явного компромисса. Кто-то привил ему проклятый порок всей американской литературы — неизбежный счастливый конец. К моему искреннему огорчению, Л. начал писать рассказы примерно на такие темы: 1) как молодая женщина, отказавшись от мечты посвятить себя искусству, с успехом занялась рекламным делом; 2) как уже немолодая обольстительница, пустившись во все тяжкие, потерпела полное поражение в чисто американском духе; 3) рождественская картинка, столь сладкая и сияющая, что хуже не найти даже на самых сентиментальных страницах Диккенса; 4) как бродвейский репортер, решив разрекламировать большой отель описанием изощренного разврата, царящего в его стенах, случайно женил добропорядочного молодого человека, каким оказался управляющий отеля, на богатой наследнице. И так далее и так далее, если не до бесконечности, то по крайней мере в течение тех десяти лет, пока Л. жил и работал. За это время мне приходилось слышать, а порой и наблюдать много такого, что меня в Л. никак не радовало. М., верный своему обещанию, — а я убежден, что он в самом деле привязался к своему юному протеже (насколько он вообще способен был к кому-либо привязаться), — обеспечил молодому человеку приличное жалованье, тысячи три в год; его, юношу двадцати четырех — двадцати пяти лет, М. направил в Стокгольм для встречи с прославленным обманщиком — доктором Куком, утверждавшим, будто он открыл полюс; посылал его в Париж, где он написал ряд интересных статей, в Рим, на Средний и Дальний Запад, давал ему возможность изучать светскую и театральную жизнь Бродвея. Все это, конечно, очень хорошо, только М. неизменно требовал во всем, что писалось для его журнала, заключительного «мазка» — счастливой концовки, или уж хотя бы возвышенной и трогательной. Я же считал, что Л., при его одаренности, должен целиком посвятить себя беллетристике, как искусству, и писать, невзирая на различные теории и типы концовок, — я твердо верил, что в конечном счете из него, бесспорно, получится настоящий мастер. Разумеется, я не возражал бы против того или иного опыта, даже если это на время и уводило его в сторону от реалистической манеры письма — лишь бы он всегда помнил о том идеале, к достижению которого должен был стремиться. Ему следовало писать всегда в том ясном, остром стиле, каким были написаны его ранние рассказы, следовало сохранять тот дух страстного обличения, который был присущ ему на первых порах, когда условности морали нисколько не связывали его и не принимались им в расчет. Но, встретясь с М., работая на него и, видимо, на какой-то срок подпав под влияние его личности, Л., по-моему, стал постепенно забывать о своем идеале: М., словно паук, ловко опутал его сетями своих заманчивых рассуждений. Я уверен, что М. вредно действовал на юношу. Под его опекой Л. мало-помалу стал, например, завсегдатаем одного широко известного ресторанчика, где собирались люди, считавшие себя богемой. Это заведение, проникнутое духом дурной сентиментальщины и подражания английской старине, должно было представлять собою подобие старинной английской гостиницы, причем владельцам явно хотелось, чтобы посетители принимали копию за подлинник, — внутри все было отделано мореным или черным дубом, стены украшены трубками с длинными чубуками и картинами с изображением сцен английской охоты и веселого кутежа, на темных, грубо сколоченных столах валялись газеты и журналы, посвященные конному спорту и всяким иным развлечениям светских людей на лоне природы. Все это должно было создать в заведении атмосферу близости к большому свету, в который посетители не были вхожи, хотя и жаждали прослыть светскими людьми. Здесь-то и бывал Л. в кругу новоявленных добрых приятелей, так не похожих на его прежних друзей, — тут был самовлюбленный поэт, светский тон и претензии которого далеко превосходили его талант; маклер с Уолл-стрита, корчивший из себя клубмена, остряка и непременного посетителя театральных премьер; несколько молодых и честолюбивых драматургов, мечтающих об успехе на Бродвее, — и в этой компании Л. стал разыгрывать из себя некую достопримечательность города, истинное его дитя, любимца и баловня самых блистательных нью-йоркских кругов — одним словом, вел себя как достойный ученик М. Одевался он теперь — я изредка встречал его — с гораздо большим шиком, но отнюдь не с большей солидностью, чем в те дни, когда я впервые познакомился с ним. Маленькую круглую шляпу или залихватскую кепку, которую он носил, приехав с Запада, он заменил каким-то необыкновенным котелком с четырехугольной тульей; к такому головному убору, мне кажется, питают пристрастие владельцы похоронных бюро, банкиры пуританского склада и некоторые лица духовного звания, только у Л. котелок был светло-коричневый. Он носил красновато-коричневый либо серый в елочку костюм из английской шерсти, модные тупоносые штиблеты с пуговицами. Он ходил с тяжелой тростью, нередко — с портфелем из светлой кожи и, видимо, был поглощен собой, своими делами и своими сочинениями. «Каждый человек, — наткнулся как-то я на одно из его изречений, — должен относиться ко всем удовольствиям и трудам, какие ему выпадают в этом мире, с величайшей серьезностью». Он держался барином, покровительственно разговаривал с метрдотелем и официантами, называл повара приятелем (тот, вероятно, о нем и не слыхал никогда) и передавал ему наставления — как именно надо зажарить отбивную или бифштекс. Ежедневно в пять часов он встречался со своими новыми друзьями или хотя бы с одним из них (поэтом) и священнодействовал за шахматной доской, затем просматривал вечернюю газету и заказывал обед. В традиционных оловянных кружках появлялся добрый эль — отнюдь не пиво — единственный напиток, достойный настоящих литераторов. Я пишу все это с сожалением; конечно, молодежь имеет право покуролесить. Однако я не ждал этого от Л. и не без разочарования смотрел, как его юношеское презрение к житейскому благополучию и богатству сменилось пристрастием к бессмысленной показной роскоши. А ведь два-три десятка таких его рассказов, как «Верный человек», «Светлые грезы», «Человек со сломанными пальцами», «Вторая причина», были бесконечно выше множества напечатанных им вещей, принесших ему деньги и возможность вести подобный образ жизни. Добавлю, что в первые месяцы своего процветания и дружбы с М. молодой писатель женился; его жена прежде служила продавщицей в магазине; скромная, рассудительная, она умела вести хозяйство и рожать детей, что и делала с успехом, но она не понимала и даже не подозревала, каково истинное призвание ее мужа. Она ничего не смыслила в литературе и искусстве и, если не считать ее достоинств как хозяйки, не умела, да и не любила «принимать» у себя. Естественно, что муж мало обращал на нее внимания. Его волновали, должно быть, великие творческие замыслы, а с ними — и мечта стать знаменитостью. Он приобрел в окрестностях Нью-Йорка ферму и нередко, словно простой батрак из западных прерий, косил и сгребал в копны сено, разыгрывая перед жившими по соседству с ним известными литераторами заправского фермера. Иногда, под влиянием минуты, как подобает великому писателю, он удалялся в комнатку, заставленную толстыми томами в роскошных кожаных переплетах; здесь его навещали те чудаковатые поклонники литературы, которые видят в гениях такого типа олицетворение всего высшего в жизни. В те времена считалось, что писатель должен иметь землю и своими руками возделывать ее. Так поступал Гораций. Говорят, к Л. заглядывал некий джентльмен, обладавший настоящим литературным и критическим дарованием и большим вкусом во всем, что касается искусства, но не питавший ни малейшего интереса и склонности к физическим упражнениям, — сей джентльмен, в шелковой сорочке и с моноклем в глазу, помогал хозяину сгребать сено. Здесь бывал и один обаятельный умник и повеса, лишенный, впрочем, всякой творческой фантазии, — он пил, ел, развивал множество планов, подхватывал для себя несколько новых мыслей, занимал небольшую толику денег или выкуривал немного морфия — и удалялся. Третий гость без умолку говорил о своих нынешних или будущих драматургических успехах; четвертый приезжал написать картину на сюжет, подсказанный ему Л., пятый — сочинить стихи на сельскую тему, шестой оказывался или маклером, или «жучком», дающим ценные советы на скачках, или содержателем бара (для разнообразия был и такой) — и все они изумлялись, как это Л., да и вообще кто бы то ни было, может жить в деревне. Конечно, устраивали попойки и напивались до зеленого змия, так, чтобы, согласно традициям Джонсона, Рабле и Мольера, усталый разум и все великие дарования погружались в блаженную Лету алкоголя. А ведь на все это требовались деньги. К тому же мой юный друг, желая, видимо, вкусить всей роскоши своего века (а это, по излюбленной теории М., было даже, если угодно, обязанностью), нес еще одно бремя — снимал, по крайней мере временами, квартиру в фешенебельном квартале Ист-Сайда, плата за которую составляла серьезнейшую статью его расходов. И до и после того у Л. существовали и другие непосильные денежные обязательства: он брал их на себя главным образом из желания блеснуть, — надо же было всем показать, что он добился успеха в литературе! Время от времени (как мне говорил кое-кто из его приятелей), неожиданно обнаружив, что карман пуст, Л. выезжал из великолепной квартиры, где жил до того несколько месяцев на широкую ногу, спасал, что мог, из мебели и обстановки или же, махнув рукой и на мебель и на многочисленные долги, укрывался в какой-нибудь невзрачной, темной комнатушке окнами во двор; там, мучимый угрызениями совести, вдохновляясь примером великих писателей — Бальзака, Бодлера, Джонсона, Гольдсмита, Верлена, — он, не отрываясь, сидел над рукописью, которая наверняка должна была принести деньги. Закончив работу, он относил рукопись в какой-нибудь процветающий журнал, не скупящийся на гонорары, — и перед ним вновь сияли огни богатых кварталов, и он снимал апартаменты еще изысканнее прежних. К этому времени родился первый ребенок, один из двух, оставшихся после его смерти. Домашние заботы множились, супружеская жизнь приедалась. Но это не мешало Л. по-прежнему устраивать обеды для своих новых друзей — тех, о ком уже шла речь, или им подобных, — у себя дома или в нью-йоркских шикарных ресторанах, где обычно кутила богема. Словом, он завоевал довольно прочную репутацию новеллиста и критика, и в нем жило чувство, что он еще одержит победу и в других, более трудных жанрах художественной литературы. Как раз в ту пору, если не ошибаюсь, я стоял однажды вечером в фойе одного бродвейского театра и поджидал приятеля, и вдруг передо мной появился не кто иной, как Л. Одет он был самым диким образом — он довел до абсурда былое юношеское пренебрежение к своей внешности; ведь он так любил разыгрывать из себя неотесанного молодого американца, не обращающего ни малейшего внимания на свою одежду: пусть он похож на деревенского увальня, зато он талантлив, как Шелли! Теперь на нем был дрянной, плохо сшитый костюм из магазина готового платья, притом, должно быть, немало времени пролежавший на полке, неуклюжие грязные башмаки, рыжевато-коричневая клетчатая кепка с длинным козырьком. Короткое мешковатое пальто из дешевого бобрика, полы пальто широко распахнуты: Л. с вызывающим видом держал руки в карманах брюк. Было ясно, что он выпил или даже сильно пьян и способен на любую дерзкую выходку. У меня мелькнула мысль, что он и напился и оделся так нарочно или, возможно, бродил в поисках материала для своих рассказов и соответственно снарядился. Будем великодушны, остановимся на последнем предположении. С Л. были два каких-то субъекта, которые всячески пытались утихомирить его. — Ну, брось. Не заводи скандала. Мы и так попадем на спектакль. — Конечно, попадем! — с вызовом ответил Л. — Где директор? Появился надменный манекен во фраке — директор собственной персоной — и отнюдь не дружелюбно оглядел Л. — Это мистер Л., — объяснил один из спутников писателя, подойдя к директору. — Он связан с журналом М. Он там печатает иногда рассказы и пьесы. Директор наклонил голову. Как-никак, журнал М. пользуется на Бродвее влиянием. Надо соблюдать вежливость. И Л. с обоими его спутниками любезно провели в зрительный зал. А мне — мне стало обидно за Л., за весь его облик, за то, что с ним произошло. Меня это не касалось, он мог распоряжаться собой, как хотел, но все же было обидно. Не хотелось верить, что он так низко пал. Ведь у него от природы такой ясный ум! Все это — просто мальчишеское ухарство и позерство, а уже пора бы ему образумиться и остепениться. Я искренне надеялся, что со временем так оно и будет. Эту мою уверенность укрепило одно обстоятельство: скоро журнал М. прогорел, и молодой человек остался без той, так сказать, финансовой поддержки, которая, по моему убеждению, нанесла ему столько вреда. Имелся и другой благоприятный признак; в издательство, где я тогда сотрудничал, Л. принес некоторые свои рассказы — всего шестнадцать, лучшее из того, что он создал к тому времени, — и хотя он не просил передать мне ни слова (надо думать, он старательно избегал встречи со мной), я просмотрел рукопись, и по моему совету эта небольшая книжка была напечатана; она разошлась, помнится, в количестве около пятисот экземпляров. Меня очень обрадовало, что в книжке не было ни одного рассказа, который бы свидетельствовал об отказе автора от его юношеских убеждений. Более того, я уверен, он не случайно принес свою рукопись в издательство, где я работал. Мне было приятно, что я принял участие в издании книжки. «По крайней мере, — говорил я себе, — он еще не забыл об идеалах своей юности. Теперь он, наверное, выберется на дорогу». После этого то в одном, то в другом журнале, о хорошем вкусе которых свидетельствовали их маленькие тиражи, я встречал произведения Л., отмеченные печатью истинного таланта. Один критический журнал, выходивший на Западе, начал печатать серию его очерков, — за них, я убежден, Л. не получил ни цента. Три-четыре года спустя то же самое западное издательство выпустило вторую книгу его рассказов, и она почти не уступала первой. Он пытался работать серьезно, по-настоящему; и, однако, он все еще страстно тянулся к той роскоши, которая окружала его на ферме, в нью-йоркских ресторанах или великолепных квартирах и которой он теперь не мог уже себе позволить. И он продолжал изготовлять рассказики со счастливым концом, продавал их, где только брали, и, как видно, сумел обеспечить им довольно устойчивый рынок сбыта. Тем временем появилось кино и возник спрос на сценарии — он стал писать и для кино. Он пробовал свои силы также в драматургии — это подтверждает вполне законченная рукопись и несколько набросков, попавшие мне в руки после его смерти. Один наш общий знакомый рассказывал мне, как однажды Л., разослав по редакциям немало прекрасных рассказов и получив их обратно, плакал и бесился, проклиная Америку за пренебрежение к серьезной литературе. Превосходный признак,подумал я, отличное лекарство для того, кто в конце концов должен отказаться от мечты о роскоши и богатстве и обрести себя. «Придет время, — сказал я, выслушав это, — он продерется через этот чертополох, освободится из-под влияния М. и напишет что-нибудь поистине великолепное. Иначе быть не может. Надо только переболеть этими фантастическими мечтами о богатстве, славе и успехе и забыть о них». В течение некоторого времени я почти не слышал о Л., знал лишь, что он поставляет для одного киноконцерна сюжеты для фильмов и это дает ему кое-какие средства. Затем я увидел новую серию его критических очерков в том западном журнале, о котором я уже говорил, — в том же издательстве вышла перед тем книга рассказов Л. Иные из этих очерков были превосходны — смелы и искренни. Я понимал, что писатель идет по верной дороге, хотя это не приносит ему ни денег, ни славы. В один прекрасный день, к моему величайшему изумлению, появился восторженный и пространный очерк обо мне; я решил никак не откликаться на это; и вот, недели три спустя, раздался телефонный звонок. Помню ли я его? (!) Можно ли зайти поговорить со мной? (!) Я пригласил его к обеду, и он явился, держа в руках — кто бы мог ожидать этого от него, еще недавно простого парня — целую охапку красных роз. Это растрогало меня. — Ну, что за блажь! — воскликнул я смеясь. Он зарделся, как девушка, но смотрел на меня немножко сердито; вероятно, он надеялся, что я встречу его не столь критическим взглядом, а быть может, ему казалось, что я смеюсь над ним, чего у меня и в мыслях не было. — Захотелось принести вам цветы, вот я и принес. Разве нельзя? — Конечно, можно, раз вам так хотелось, и я принимаю их с благодарностью. Не подумайте, что я вас осуждаю. Он улыбнулся и заговорил с грустью о «былых временах», как он выразился, о том, что жизнь уходит. Только об этом он и мог говорить с такой охотой и жаром. Он вспоминал множество подробностей, множество людей: и М., и К., и нашего чудака — заведующего художественным оформлением (он теперь выжил из ума и совсем опустился), и весь наш тогдашний кружок. Вспомнил он и о своих прежних, юношески-наивных взглядах. — Вы знаете, — откровенно признался Л. под конец, — моя мать мне говорила и тогда и позднее, что я сделал большую ошибку, расставшись с вами. Вы оказывали на меня благотворное влияние. Мать была права. Теперь я это понимаю. Но жизнь есть жизнь, всегда приходится чем-то жертвовать… Я от всей души согласился с ним. Он рассказал мне о своей жене, детях, о ферме, о своем здоровье и своих затруднениях. Оказалось, что временами он еле зарабатывает на хлеб, а иногда дела идут совсем не плохо. Величайшее проклятие для него — ходкие журналы, им так трудно продать хорошую вещь. Я не мог не согласиться с этим. Ушел он от меня в полночь, обещал зайти еще, приглашал к себе за город, на ферму, когда только мне вздумается. Я дал слово побывать у него. Но то одно, то другое обстоятельство мешало мне выполнить мое обещание. Скоро я уехал на Юг. Полгода спустя, когда я вернулся в Нью-Йорк, Л. позвонил мне и сказал, что хочет меня видеть. Разумеется, я пригласил его, он явился и стал жаловаться на свое здоровье. Один врач, его бывший товарищ по колледжу, сказал ему, что он болен Брайтовой болезнью и что смерть может настигнуть его в любую минуту. И теперь он спрашивал, можно ли рассчитывать на меня, если с ним что-нибудь случится: не возьмусь ли я проследить за судьбой его рукописей, большинство которых, во всяком случае самые серьезные, не увидели света. Я согласился. Он ушел, и больше я его не видел. Минул год, и вот однажды мне сообщили, что три дня назад Л. умер от болезни почек. Он ездил на Запад к одному кинорежиссеру, на обратном пути ему стало плохо, и он остановился у каких-то знакомых, чтобы подлечиться или лечь на операцию. Недели через три он вернулся в Нью-Йорк; не веря, что может умереть так рано, он не захотел отлежаться и отдохнуть, ходил, занятый делами, по городу — и вдруг смерть настигла его. Рассказывали также, что он встретил своего приятеля-врача — человека столь же необузданного, как и он сам, — который, видно, желая показать, как он силен духом, прямолинеен и чужд всякой сентиментальности (именно такой склад ума и привлекал Л.), велел ему немедленно идти домой и лечь в постель, ибо ему осталось жить не больше сорока восьми часов! Может быть, именно это категорическое заявление и добило Л. Несмотря на все старания его жены, которая не только ради него самого, но и ради себя и детей, наперекор предсказанию врача, всеми силами пыталась помочь ему и рассеять его безнадежное настроение, Л. слег и умер. В последний день, понимая, очевидно (он не мог этого не понять!), как бесплодно прошла его жизнь, как страсти, нужда, грубое вмешательство случая заглушили и свели на нет его самые заветные стремления и мечты, он впал в отчаяние и долго плакал навзрыд. Потом он умер. Один приятель, часто видевшийся с Л. в этот последний период его жизни, сказал мне довольно ядовито: — Он встретил смерть в образе медика. Вы его когда-нибудь видали? — Он говорил о докторе. — Настоящая реклама гробовщика. По-моему, он просто хотел проверить, может ли он убить человека силой внушения, — и тут-то ему попался Л. Вы знаете, как впечатлителен был бедняга. Ну, и этот медик убил его, как убивают выстрелом птицу. Он сказал: «Вы умерли» — и Л. умер. Теперь о М., бывшем патроне писателя. Ко времени болезни и смерти Л. издатель оставался должен ему тысячу сто долларов за все, что Л. писал для него в последние месяцы существования злосчастного журнала. Но издатель не имел привычки платить долги, — очередное банкротство было для него лазейкой, куда он на время укрылся, а потом вынырнул другим ходом, сияя улыбкой и располагая достаточными средствами, чтобы начать все сначала. Сейчас он снова был богачом, богачом первого разряда, председателем крупного акционерного общества, но так и не заплатил причитавшихся Л. тысячи ста долларов — этих денег теперь уже нельзя было взыскать с него и по суду. К тому времени у издателя на текущем счету, как установил один мой знакомый, лежало сто тысяч долларов. Миссис Л., пытаясь найти выход из затруднений, с которыми она столкнулась, едва скончался ее муж, и не зная, к кому обратиться за помощью, написала издателю. В доме нет хлеба, нет денег на лекарства, нечем накормить детей. Нельзя ли получить что-нибудь из тех тысячи ста долларов? Л. надеялся… Ответ не заставил себя ждать, — М. никогда не писал ничего более трогательного. Он ошеломлен ужасной вестью, поистине ошеломлен. Как, неужели? Его юный блестящий друг? Невероятно! Черная, мрачная весть вызвала у него слезы, да, слезы — он плакал, плакал, плакал без конца. Жизнь так горька, так печальна. Что касается его лично, то его дела никогда не находились в столь дурном состоянии. Это просто несчастье. Он кругом в долгах. Долги, как кошмар, преследуют его, не дают спать по ночам. У него нет выхода. Кредиторы окружают его плотным кольцом. Малейший толчок с их стороны — и он будет смят, уничтожен, раздавлен. И потому… как бы ни разрывалось его сердце и каким бы потоком ни лились у него слезы — даже в эту минуту, — он не может ничего сделать, ничего, ничего. Он потрясен, он убит, но тем не менее… Затем, после подписи, следовал постскриптум или нотабене. Пересмотрев все свои возможности, писал М., он обнаружил, что, отказав себе кое в чем, он может наскрести двадцать пять долларов, которые и прилагаются. Если бы, о господи, он был побогаче в этот грустный час!* * *
Не буду останавливаться на подробностях, но я немедля послал за рукописями Л., и они прибыли — целый ворох бумаг в двух чемоданах и в портфеле; третий чемодан, в котором, как мне сообщили, хранилась сотня рукописей, главным образом рассказов, где-то затерялся! Покойный оставил немало неулаженных дел, пришлось не раз обращаться в суд. Миссис Л. была вынуждена… впрочем, не буду писать об этом. Скажу одно: смерть Л. и все, что за нею последовало, могло бы описать, пожалуй, лишь его собственное перо — перо реалиста и сатирика. Разобранные, приведенные в порядок и, наконец, прочитанные рукописи составили два небольших тома превосходных рассказов, и ни один из них при жизни автора не был напечатан; то же, что было опубликовано, не представляло, как правило, никакой ценности. Я обнаружил также набросок упомянутой выше популярной комедии — вещь пустую и ничтожную, — томик очерков и совсем тоненькую тетрадку очаровательных стихов; найдись для этих стихов издатель, они составили бы чудесный сборник, свидетельствующий об исключительной отзывчивости поэта, о редкостном чувстве формы и красок. Я привел их, как мог, в порядок и, наконец… Впрочем, они до сих пор не напечатаны.* * *
P. S. Если говорить о литературном наследстве Л. в целом, о его лучших вещах, то можно сказать, что хотя он и не принадлежал к числу великих психологов, но его могут необдуманно счесть одним из них на основании некоторых его претенциозных высказываний. Он не успел создать ни собственной четко сформулированной теории, ни определенного стиля: сегодня подражал Мопассану, завтра О'Генри, послезавтра Эдгару По; однако медленно, но верно он вырабатывал своеобразную, яркую и предельно ясную манеру, стремясь к наибольшей выразительности и естественности. Временами он сверх меры увлекался изысканной формой или, напротив, — холодной и даже грубой простотой. Но, как правило, все, что он писал, отличалось сочностью красок, полнотой, глубиной и силой чувства и — когда нужно — большой остротой. Как и его кумир Мопассан, он не знал моральных или социальных предрассудков, не обладал богатым и беспокойным воображением, на него не давил груз противоречивых идей. Он смотрел на Америку и на мир, как на объект для своей живописи, — так смотрят на жизнь и рисуют ее все мастера. Одаренный жилкой истинного сатирика, он до конца своих дней так и не развил по-настоящему эту сторону своего таланта. Он не мог отрешиться от некоторых предрассудков, — в том или ином виде они существовали у него и нарушали цельность создаваемой им картины. К тому же, в Америке, да и в других странах, слишком многое стоит на пути честолюбивого и настойчивого писателя: не будь этого гонения на естественность и искренность в изображении внутреннего мира людей и их жизни, не будь из-за этого так трудно одаренному человеку изыскивать себе средства к существованию — Л. достиг бы гораздо большего. Если б он не умер так рано, в конце концов он непременно нашел бы себя. Его на редкость острая и тонкая наблюдательность, вкус, его творческая энергия и творческая гордость были залогом этого. Иначе не могло быть. Еще десятилетие — и, судя по тому, как быстро он шел вперед, сколько делал за год, сколько оставил после себя, он, конечно, занял бы прочное, а может быть, и выдающееся место в пантеоне американской литературы. Не исключено, что когда-нибудь это всеми будет признано, ибо у него бесспорно были задатки гения.Мэр и его избиратели
Это рассказ о человеке, чья политическая и общественная деятельность должна была бы послужить примером (если, конечно, верить в силу примера, как то делают наши моралисты) и оказать воздействие на каждого гражданина Соединенных Штатов. К сожалению, этого не случилось. А впрочем?.. Как знать? Во всяком случае, он и его деятельность теперь совершенно забыты, и все эти годы никто и не вспоминал о нем. Он был мэром одного из мрачных промышленных городов Новой Англии. В этом царстве дыма и копоти вели безрадостное существование около сорока тысяч жителей. Здесь он родился и жил до тридцати шести лет, пока не решил попытать счастья в другом месте. Он работал на разных фабриках, с которыми так или иначе было связано почти все население города. По профессии он был сапожник, вернее, рабочий на обувной фабрике, то есть умел выполнять только часть операций, необходимых для изготовления обуви. Но работник он был отличный и получал пятнадцать, а иногда даже и восемнадцать долларов в неделю — довольно высокий заработок для тех мест. Потому ли, что он от природы обладал отзывчивым сердцем, или потому, что на собственном горьком опыте познал, как тяжело живется людям, но ему свойственно было какое-то смутное чувство протеста, которое и побудило его в конце концов организовать клуб для изучения и пропаганды социалистических идей; позже, когда этот клуб настолько окреп, что мог уже проявить себя политически и выставить на выборах своего кандидата, он стал первым и затем в течение ряда лет оставался постоянным кандидатом в мэры. Долгое время, до тех пор, пока число членов клуба не увеличилось настолько, что эта организация привлекла уже к себе некоторое внимание политических кругов, все смотрели на ее членов (следуя нашему чисто американскому, варварскому обычаю) как на сборище безобидных чудаков, одержимых сумасбродными идеями о долге перед ближним и какими-то наивными мечтами о честном и бережливом управлении общественным хозяйством, — в данном случае хозяйством их родного города. Таково-то наше американское благоразумие, наше внимание к ближнему, наша забота о его благополучии! Число членов клуба было все же так ничтожно, что они по-прежнему служили предметом веселых шуток, будто только на это и годились. Однако клуб продолжал выставлять своего кандидата, и вот в 1895 году ему вдруг удалось получить пятьдесят четыре голоса — вдвое больше, чем в любой предшествующий год. В следующем году было зарегистрировано уже сто тридцать шесть голосов, а еще через год — шестьсот. А тут скоропостижно скончался мэр, одержавший в этом году победу, и были назначены досрочные выборы. На этот раз клуб получил шестьсот один голос, те же шестьсот и сверх того еще один! В 1898 году клуб снова выдвинул своего постоянного кандидата, и он получил уже тысячу шестьсот голосов, а в 1899 году все тот же неизменный кандидат получил две тысячи триста голосов — и был избран мэром. Нам этот факт может показаться не таким уж важным, но в том захолустном фабричном городке, столь типичном для Новой Англии, он был воспринят совсем иначе. Знакома ли вам жизнь Новой Англии — ее пуританская, непримиримая, узколобая и эгоистическая психология? Хоть этот бедняга и был избран всего на один год, те, кто не голосовал за него, изумились его избранию, словно невесть какому событию, а приверженцы старого религиозного и политического уклада, набожные прихожане и строгие хранители всех укоренившихся в городке обычаев, прямо завопили от негодования. Никто, разумеется, не знал, что представляет собой новый мэр и каковы его убеждения. Однако клуб, выдвинувший его кандидатуру, немедленно был объявлен анархистским — обычное обвинение против всего нового в Америке; предлагали даже обратиться в суд, дабы воспрепятствовать новому мэру вступить в должность. И это говорили люди, которые сами терпели нужду и занимали в обществе положение более чем скромное! По их мнению, от нового мэра следовало ожидать всего самого наихудшего, — ведь он был, и совсем недавно, простым рабочим! — а до того приказчиком в бакалейной лавке и в обоих случаях зарабатывал каких-нибудь двенадцать долларов в неделю или еще меньше! Разве не ясно, что собственность немедленно подлежит разделу, всех предпринимателей заставят платить каждому рабочему не менее пяти долларов в день (неслыханный заработок в Новой Англии!), права личности будут урезаны и всячески ущемлены (а до тех пор в Америке таких случаев, видите ли, никогда еще не бывало!) — вот что мерещилось этим американским обывателям, как неизбежное следствие скромной победы, одержанной новым мэром. Прожженные политиканы и главари корпораций, лучше понимавшие суть дела, не переоценивали своего слабосильного противника, и хотя были раздражены, но успокаивали себя тем, что впоследствии с ним можно будет разделаться. Лучшей иллюстрацией создавшегося положения может послужить подлинный разговор, происшедший как-то раз в сумерки на одной из окраинных улиц. — Да кто он такой, собственно говоря, этот новый мэр? — спросил один местный житель у какого-то незнакомого ему прохожего, с которым случайно разговорился. — По-моему, человек самый обыкновенный. Говорят, приказчик из бакалейной лавки. — Удивительное дело! Вот уж не думал, что эта публика чего-нибудь добьется. Ведь в прошлом году на них никто и внимания не обращал. — Кажется, никто еще ясно себе не представляет, как он себя поведет? — Да, и меня это тоже интересует. Болтают, что он анархист, а я не очень этому верю. Не велика у мэра власть. — Что верно, то верно, — отозвался незнакомец. — Как бы то ни было, ему надо дать возможность проявить себя. Он одержал большую победу. Хотелось бы повидать его, посмотреть, каков он лицом. — Ну, лицо у него самое простое. Я его знаю. — Говорят, еще молодой? — Да. — Откуда он появился? — А он здешний. — И вправду был рабочим? — Да. Любопытный горожанин задал еще несколько вопросов, затем отошел, собираясь свернуть за угол. — Конечно, — заметил он на прощание, — нам остается только гадать. Но я склонен поверить в этого человека. Хотелось бы увидеть его своими глазами. До свидания! — До свидания! — отозвался незнакомец и помахал рукой. — Может, еще когда-нибудь меня встретите, тогда уж так и знайте, что видите перед собой мэра. Любопытный горожанин в изумлении воззрился на удалявшегося незнакомца, но то, что он видел — высокая, не меньше шести футов, а в остальном вполне заурядная фигура, худощавое молодое лицо, спокойные, серые с чуть заметной голубизной глаза, — меньше всего отвечало обычному представлению о важном политическом деятеле, да еще заслужившем столь шумную известность. «Слишком молод» — вот первое, что сказали сограждане, увидев нового мэра. «Какой-то приказчик из бакалейной лавки» — вот вам второе суждение о нем, и незачем объяснять, как много сомнений и как мало надежды на что-либо доброе впредь заключалось в такой оценке. А он, хотя в нем и не было ничего выдающегося в том смысле, как это понимают политиканы, был по-своему интересной личностью. Не обладая ни большой тонкостью ума (врожденной или выработанной воспитанием), ни особой проницательностью, он все же остро чувствовал, каким злом является столь резкое в нашем обществе и вовсе не вызванное необходимостью социальное неравенство и как важно направить все усилия на то, чтобы уменьшить пропасть между неорганизованной и невежественной нищетой и колоссальным богатством, находящимся в руках у людей, которые мало того, что сами не трудятся, но считают, что так и быть должно. Ибо к чему, в конечном счете, сводится практическая мудрость любого капиталиста, любого миллиардера: не к слепой ли и хищной алчности? Как бы то ни было, горожане наблюдали за новым мэром на его пути от дома до канцелярии и обратно, и когда общее волнение улеглось, пришли к выводу, что он ничего особенного собой не представляет. Новый мэр приступил к исполнению своих обязанностей в небольшом, но уютном доме городского управления и сразу столкнулся с шайкой засевших там дельцов и с заведенным ими порядком. Никому из них и в голову не приходило, что молодой и не имевший связей мэр сделает попытку этот порядок нарушить. В муниципалитете орудовали прожженные политиканы: они распределяли подряды на очистку улиц, освещение, благоустройство города и всякого рода поставки, и узы взаимной выгоды тесно связывали их друг с другом. — Вряд ли он будет для нас большой помехой, — говорили эти господа между собой. — Куда ему! Кишка тонка! Новый мэр не принадлежал к числу людей, которые любят болтать и откровенничать. Но нельзя сказать, чтобы он был замкнутым или ему не хватало простоты и непринужденности в обращении. Он только был вечно поглощен своими мыслями, «витал в облаках», как говорили про него, и курил одну сигару за другой. — Не мешало бы нам собраться и потолковать о распределении подрядов, — сказал однажды утром председатель муниципального совета, вскоре после того как мэр был введен в должность. — Вы увидите, что члены совета готовы в этом вопросе пойти вам навстречу. — Рад это слышать, — ответил мэр. — Я выскажу свои соображения в письме муниципальному совету, которое пришлю завтра утром. Старый политикан с любопытством посмотрел на мэра, тот, в свою очередь, посмотрел на старого политикана без вызова, а как бы говоря: что ж, при желании мы можем отлично столковаться; затем мэр вернулся в свой кабинет. На следующий день письмо мэра было оглашено. Вот его основная суть:«Подряды на производство работ для города могут сдаваться лишь при условии, что нанятые подрядчиком рабочие будут получать не меньше двух долларов в день».Требование это было встречено негодующим ревом, и о выступлении мэра стало в тот же день известно по всему городу. «Ерунда и нелепица!» — вопили дельцы из муниципалитета. «Социализм!», «Анархизм!», «С этим надо покончить!», «Этак городское управление через год обанкротится!», «Ни один подрядчик не в состоянии платить поденным рабочим по два доллара в день», «Сколько же город должен платить подрядчику, чтобы тот мог покрыть такие расходы?». — Благосостояние города есть не что иное, как благосостояние большинства его граждан, — заявил мэр на заседании муниципалитета, подчеркивая, таким образом, альтруистическую и оставляя неясной экономическую сторону вопроса. — Надо найти подрядчиков, которые возьмутся за дело на наших условиях. — Ну, это еще посмотрим! — сказали представители оппозиции. — Человек с ума спятил! Если он думает, что сможет управлять городом так, чтобы все были довольны, если он возмечтал каждого сделать богатым и счастливым, ну так он останется в дураках, только и всего, на том дело и кончится. К счастью для нового мэра, трое из восьми членов муниципального совета разделяли его взгляды, — они были избраны по одному с ним списку. Они, правда, не могли провести свою резолюцию, но могли помешать совету принять резолюцию, на которую мэр наложил вето. Таким образом, всем стало ясно, что если подряды не будут розданы людям, удовлетворяющим требованию мэра, они не будут розданы вовсе. Мэр был явно на пути к победе. — Какого черта мы тут торчим изо дня в день! — говорили недели две спустя члены совета, возглавлявшие оппозицию. Бесплодная борьба утомила их наконец. — Без его согласия все равно нельзя принять никакого решения о подрядах. Ну и пусть раздает их кому хочет. Таким образом, предложение мэра установить минимальную плату рабочему два доллара в день было одобрено и резолюция о подрядах принята. Сторонники мэра ликовали, но сам он, как человек более трезвый, не обольщал себя радужными надеждами. — Мы еще далеки от цели, друзья мои, — заметил он группе своих приверженцев, беседуя с ними в клубе. — Нам предстоит очень многое сделать, если мы хотим сохранить доверие избирателей и вторично одержать победу на выборах. При старой системе подрядов, несмотря на то, что в контракте оговаривалась ставка заработной платы, рабочим платили пустяки или вовсе ничего не платили, и работа вообще не выполнялась. Никто этого и не требовал. Отбросы и зола скапливались на улицах, мостовые и тротуары были усыпаны обрывками бумаги. Прежний подрядчик, который преспокойно прикарманивал деньги, ассигнованные на очистку города, рассчитывал делать это и впредь. — Горожане по-прежнему выражают недовольство, — однажды заявил мэр этому господину. — Вам придется держать город в чистоте. Подрядчик, здоровенный ирландец с бычьей шеей и массивной челюстью, которому незаконно присвоенное богатство отнюдь не придало светского лоска, ухмыляясь, оглядел мэра с ног до головы. Он старался сообразить, что это значит — хочет ли мэр, чтобы ему дали взятку, или же он говорит всерьез. — Столкуемся, надо полагать, — сказал подрядчик. — Тут не о чем толковать, — ответил мэр. — Мне нужно от вас только одно, чтобы вы очищали улицы от мусора. Подрядчик ушел, и несколько дней улицы блистали чистотой, но всего лишь несколько дней. Гуляя по городу, мэр сам увидел валяющиеся бумажки и отбросы и опять вызвал к себе подрядчика. — Говорю с вами об этом в последний раз, мистер М., — сказал он. — Либо вы будете выполнять условия подряда, либо вам придется передать его кому-нибудь другому, кто станет работать на совесть. — Ладно, вычистим, — заявил подрядчик после жаркой пятиминутной перепалки. — Два доллара в день на рабочего — это просто разорение, но уж я добьюсь, чтобы улицы были чистые. Опять подрядчик ушел, и опять мэр прогуливался по городу, и вот однажды утром он зашел к подрядчику в контору. — Ну, хватит, — сказал мэр, вынув сигару изо рта и держа ее в отведенной руке. — Вы отстраняетесь от работы. Завтра я пришлю вам официальное уведомление. — Да нельзя это так делать, как вам хочется, — сказал подрядчик и выругался. — Расчету нет. Плати рабочим по два доллара, а самому что останется? Черт! Это же всякому ясно! — Очень хорошо, — вежливо и спокойно ответил ему мэр. — Пускай кто-нибудь другой попробует. На следующий день он договорился с новым подрядчиком, и тот, руководствуясь таблицей, в которой было указано, сколько следует нанять рабочих и на какую прибыль можно рассчитывать, стал преуспевать. Отбросы вывозились ежедневно, и улицы были чисто выметены. Как раз в это время потребовалось, в дополнение к сети начальных школ, организовать техническое училище, и надо было сдать подряд на его постройку. И тут мэр выступил с предложением, которое на дельцов из муниципалитета произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Они уже наметили подрядчика и подсчитывали свои барыши, как вдруг при обсуждении этого вопроса на одном из открытых заседаний мэр заявил: — А почему бы, джентльмены, городу самому не построить здание? — Да разве это возможно?! — воскликнули члены муниципального совета. — Город — не человек, он не может следить за постройкой. — Город может нанять архитектора, как делает всякий подрядчик. Давайте попробуем. Многих членов совета все это привело в крайне мрачное настроение, но мэр стоял на своем. Он вызвал архитектора, и тот составил до смешного дешевую смету. Никогда еще постройка общественного здания не требовала таких скромных затрат. — Послушайте, — сказал один из членов муниципального совета, когда проект и смета были представлены на рассмотрение. — Ведь это просто недобросовестно по отношению к городу, и наша обязанность, как членов совета, в корне пресекать такие рискованные затеи. К чему это сведется? Вы растранжирите общественные средства, а построите какую-нибудь дрянь — и все только для того, чтобы заполучить голоса избирателей! — Я буду предавать гласности счета на строительные материалы, — заявил мэр. — А когда здание будет построено, все увидят, дрянь это или не дрянь. Чтобы предупредить возможные махинации со стороны своих противников, мэр стал публиковать в газете все счета на строительные материалы, по мере того как они поступали, сопоставляя их всякий раз с затратами на точно такое же количество таких же точно материалов при постройке других зданий. Таким образом, жители города все время знали, как идет строительство, и крики о том, что дешевая стройка затеяна с политической целью, вскоре умолкли. Это было первое общественное здание, возведенное самим городом, и, когда оно было закончено, оказалось, что это не только самое дешевое, но и самое лучшее из всех городских строений. Таким образом, новый мэр уже оказал городу немаловажную услугу. Однако он вскоре понял, что против него сколачивается сильная оппозиция и что, если он хочет поддержать пробудившийся к нему интерес избирателей, надо какими-то более решительными мерами завоевать их сочувствие. — Я могу быть честным, — сказал он одному из своих друзей, — но одной честностью нашу публику не проймешь. Люди не слишком заботятся об общественном благополучии. Они не любят, когда их беспокоят, и им всегда недосуг. Надо сделать что-нибудь такое, что могло бы произвести на них сильное впечатление и что вместе с тем стоило бы труда. Меня не переизберут за одни хорошие обещания и за мои красивые глаза. Однако, когда он лучше ознакомился с обстановкой, ему стало ясно, что поле деятельности муниципалитета сильно ограничено законодательством. Он, например, обещал снизить непомерную плату за газ и уничтожить в черте города наземные железнодорожные переезды, но, по закону, муниципалитет не мог сделать ни того, ни другого без предварительного голосования, которое надо было проводить в городе ежегодно в течение трех лет подряд; и все три раза результаты голосования должны быть в пользу предполагаемого мероприятия, иначе оно не может осуществиться. Эту небольшую предосторожность заинтересованные корпорации приняли уже давно, задолго до избрания нынешнего мэра. — Обещать, что мы все это проведем, конечно, можно, — сказал мэр, беседуя со своим другом, — и наличие такого закона для нас достаточное оправдание, но избиратели не станут три года довольствоваться одними оправданиями. Если я хочу, чтобы меня снова избрали мэром, надо что-то сделать — и сделать немедленно. Освещение города находилось в руках газовой корпорации, начавшей свое существование с акционерным капиталом в сорок пять тысяч долларов, а впоследствии возросшим до семидесяти пяти тысяч. В 1899 году корпорация получила пятьдесят восемь тысяч долларов чистой прибыли и собиралась, как это обычно делается, номинально увеличить капитал до пятисот тысяч долларов и выпустить соответственное количество новых акций. И вот мэр подумал: если эта корпорация из вложений в семьдесят пять тысяч долларов извлекает такие огромные прибыли, что в состоянии предложить своим вкладчикам шесть процентов годовых с несуществующего капитала в пятьсот тысяч долларов, — причем деньги, вырученные от продажи дутых акций, она положит себе в карман, — то не может ли она снизить плату за газ с одного доллара девятнадцати центов до какой-нибудь более приемлемой цифры? Но как быть с законом о троекратном голосовании, за которым, как за каменной стеной, укрывалась богатейшая корпорация, пребывая в состоянии покоя и равнодушия? Мэр послал за своим юристом и некоторое время усердно изучал законы о газоснабжении. Он узнал, что в столице штата существует специальная коллегия или комиссия, созданная для надзора за газовыми компаниями и для рассмотрения жалоб тех муниципалитетов, которые считают себя обиженными. — Как раз то, что мне нужно, — сказал мэр. Не располагая достаточной властью, чтобы самовольно снизить плату за газ, он решил изложить дело перед упомянутой комиссией и просить ее вмешательства. Но стоило ему заговорить об этом, как он понял, что встретит сопротивление не только в самом городе, но и далеко за его пределами. Его намерению произвести местное снижение платы за газ противостояла целая система грабительских расценок, действующая в штате и по всей стране; если бы этот вопрос был поднят, против него встали бы сотни разжиревших на сверхприбылях газовых корпораций, доходы которых могли оказаться под угрозой. — И вы действительно будете добиваться осуществления своего плана? — спросил его видный представитель местной адвокатуры, зашедший к нему как-то утром с намерением выяснить его точку зрения. — Я говорю с вами от имени джентльменов, которые контролируют нашу местную газовую компанию. — Разумеется, буду, — ответил мэр. — Ну что ж, — заявил неофициальный представитель частных интересов после длительной беседы, во время которой он изложил различные «доводы», почему новому мэру было бы гораздо более выгодно и политически целесообразно отказаться от своего намерения, — я сказал все, что мог сказать. Мне остается только предупредить вас, что вы идете против объединения, которое вас раздавит. Отныне вы будете иметь дело не с городом; вы будете иметь дело с целым штатом, со всей страной. Корпорации не могут допустить, чтобы вы победили, и они этого не допустят. Не вам бороться за это дело; у вас пороху не хватит. Мэр улыбнулся и ответил, что ему самому трудно, конечно, судить об этом. Адвокат ушел, и на следующий день мэр поручил своему юрисконсульту просмотреть годовые отчеты газовой компании за все время ее существования, а также бюллетень, выпускаемый фирмой биржевых маклеров, взявшей на себя распространение дутых акций, которые компания намеревалась выпустить в огромном количестве. Он вызвал также эксперта по газовому освещению и попросил его составить и обосновать жалобу, которую он решил подать в комиссию по надзору. Эксперт установил, что со дня своего основания и в течение первых тридцати лет компания выплачивала дивиденды с помещенного капитала в размере десяти процентов годовых; за последние десять лет она произвела большие усовершенствования и, несмотря на это, выплачивала дивиденд в двадцать и даже двадцать пять процентов годовых. Тщательно подсчитав стоимость оборудования и все издержки, понесенные корпорацией, мэр и его юрисконсульт сели в поезд и поехали в столицу штата. Удивительно, какое волнение в политических кругах вызвал такой, казалось бы, маловажный факт, как приезд в столицу штата этого молодого человека, представителя незначительной политической организации, и его появление в назначенный час в приемной упомянутой комиссии. Все газовые монополии, все газеты и общественные организации почему-то вдруг проявили горячий интерес к борьбе, которую он вел; стая репортеров осаждала его в отеле, где он остановился, и в здании сената штата, в комиссии, где должно было разбираться дело. Они старались выведать, чем вызваны его действия, что это — просто шантаж или происки конкурирующей корпорации? Тому, что он мог действовать из чистых побуждений, никто не верил. — Джентльмены, — сказал мэр, обращаясь к пышному сборищу маститых законников, восседавших в зале комиссии и дожидавшихся только минуты, чтобы разнести в пух и прах все его доводы, — я не учел одного обстоятельства в этом деле, которое собираюсь вам изложить, а именно степени общественного интереса к нему. Я предполагал, что мое заявление будет негласным, но теперь хочу просить вас предоставить мне возможность выступить публично. Я вижу, что общественность проявляет к этому делу большой интерес, как оно, конечно, и должно быть. Я буду просить перенести мое выступление на послезавтра. Это заявление мэра вызвало в собрании немалое замешательство, ибо гласное обсуждение вопроса было явно нежелательно для корпораций. Но комиссии не оставалось ничего другого, как согласиться. Шум, поднятый вокруг этого дела газетами, уже привлек к нему всеобщее внимание. Мэр разыскал нескольких депутатов и сенаторов от своего округа, заставил их ознакомиться с материалами, и когда наступило утро публичного рассмотрения дела, в палате представителей собралась масса народа. Когда решительный час настал, мэр выступил вперед и просто и ясно изложил суть вопроса и обстоятельства, побудившие его искать содействия комиссии и широкой гласности. Затем он попросил предоставить слово государственному инспектору газовых установок и освещения, который, по его поручению, опираясь на двадцатилетний опыт своей работы в этой области, составил доклад о положении, в котором очутились сограждане мэра, пользующиеся газом. Комиссия была немало изумлена этой просьбой, но изъявила готовность заслушать мнение эксперта в лице юрисконсульта города. Доклад был зачитан и пролил яркий свет на положение дел. Юрисконсульты различных газовых корпораций неоднократно прерывали докладчика. И самого мэра они всячески старались втянуть в спор, но его ответы были так ясны и убедительны, что его предпочли оставить в покое. Зато все эти юристы пустились в многоречивые рассуждения о типах газовых установок в других городах, о стоимости оборудования, рабочей силы и тому подобном, и эта дискуссия тянулась день за днем и угрожала затянуться на недели. Однако потрясающих свидетельств об огромных прибылях и дальнейших спекулянтских планах не только этой, но и всех других газовых компаний штата уже нельзя было замолчать. Когда стало известно, какую колоссальную прибыль получают все корпорации, это вызвало такое возмущение, что комиссия, опасаясь лишиться политического доверия, после длительных колебаний проголосовала, наконец, за снижение взимаемой с потребителей платы за газ до восьмидесяти центов. Нужно ли говорить, как это решение было воспринято в родном городе мэра. Когда он вернулся домой, он был встречен овацией, ему аплодировали даже многие из тех, кто в свое время был так напуган его избранием. Но мэр понимал, что этих восторгов хватит ненадолго. Раздраженные неудачей противники продолжали его травить, привлекая на свою сторону все новые и новые силы. Они копались в его семейной жизни и его прошлом; детские его шалости и интимные чувства — все было выставлено напоказ. Надо было искать нового случая принести пользу обществу: бездействовать сейчас значило бы потерпеть в будущем неизбежное поражение. В избирательной программе, которую предложила партия мэра и благодаря которой он победил на выборах, содержался пункт, гласивший, что выдвинутый партией кандидат, в случае его избрания, обязуется уничтожить в черте города наземные железнодорожные переезды; эти переезды были причиной многочисленных несчастных случаев и вызывали справедливое недовольство граждан. Вот этим пунктом мэр и решил заняться. Но тут ему мешал упомянутый выше закон, согласно которому ни один город не имел права уничтожить наземные железнодорожные переезды, пока этот проект не будет трижды представлен на рассмотрение граждан и одобрен ими в течение трех лет подряд. И теперь за этим законом стояла уже не какая-нибудь мелкая корпорация с капиталом в пятьсот тысяч долларов, как то было в период борьбы с газовой компанией, но все железнодорожные компании, хозяйничавшие в Новой Англии, простыми прислужниками которых были печать и законодательные органы, суды и присяжные заседатели. К тому же близились перевыборы мэра, голосование по вопросу о переездах совпало бы с голосованием по его кандидатуре. Такое соображение могло бы отпугнуть и куда более честолюбивого политика. Но мэр был не из пугливых. Он начал агитацию за свой проект, и борьба разгорелась. Сперва она велась как будто по-честному: мэр доказывал свое, его противники свое, но тут, в самый острый момент, крупная железнодорожная компания предприняла жульническую махинацию. Неожиданно на рассмотрение нижней палаты законодательного собрания штата был внесен втайне подготовленный и весьма хитро составленный законопроект, в котором предлагалось, чтобы закон, позволяющий всем городам уничтожать наземные железнодорожные переезды на основе предварительного троекратного голосования, был для данного города аннулирован на срок в четыре года. Закон мог пройти немедленно, и политическая его подоплека даже не была бы затронута. Когда слухи об этой махинации достигли мэра, он сел в первый поезд, шедший в столицу штата, и появился в нижней палате как раз к началу обсуждения законопроекта. Он попросил, чтобы ему разрешили сделать заявление. Столь своевременное прибытие мэра произвело в палате настоящую сенсацию. Тайные сторонники законопроекта попытались было снять вопрос с обсуждения и передать его в специальную комиссию. Но это им не удалось. Один из депутатов решительно высказался за то, чтобы продолжить обсуждение законопроекта, и тайным голосованием его предложение было принято. Мэру предоставили слово. Он помолчал с минуту, прежде чем начать свою речь, и все почувствовали, что он искренне взволнован. Наконец он сказал: — Меня обвиняют в том, что я возражаю против этого законопроекта по личным мотивам, ибо, если его примут, у меня не останется надежды на переизбрание. Если нельзя будет голосовать за уничтожение наземных переездов, не будет повода голосовать и за меня. Джентльмены, у вас сложилось неправильное представление о характере и умственных способностях граждан нашего города. Вы считаете, что этот законопроект будет иметь для меня политические последствия: смею вас уверить, что если он и будет иметь последствия, то совсем не такие, как вы думаете. Если бы я не считал этот законопроект несомненным злом, я упал бы перед вами на колени и умолял бы немедленно принять его. Ничто не может так способствовать моему избранию, как принятие этого законопроекта. Ничто не может так повредить оппозиции. Если вы непременно хотите, чтобы я победил, вам стоит только учинить этот произвол, это грубое нарушение прав нашего города: мое избрание тогда обеспечено. Лучшей помощи мне и желать нельзя. Джентльмены, коим поручено было провести законопроект, сильно призадумались после речи мэра; и так долго они думали и колебались, что решение вопроса затянулось на целые недели. А между тем подошло время выборов, и было сочтено неблагоразумным протаскивать это дело в разгар политических страстей. Оставалось дать бой в самом городе. Разношерстные элементы оппозиции были непостижимым образом приведены к согласию. Демократы, республиканцы, сторонники сухого закона, содержатели пивных и религиозные круги — все слились в одно гармоничное целое, вдохновленные одной идеей — нанести мэру поражение. Кто-то, — кто именно, осталось неизвестным, — выступил с призывом создать комитет пятидесяти, который должен был взять в свои руки дело защиты города от «удушающей политики экономического притеснения и анархии», как говорилось в призыве. Демократов, республиканцев, сторонников и противников сухого закона пригласили собраться вместе — и все они собрались. На подготовку брошюр и листовок к избирательной кампании не пожалели ни денег, ни умственных сил. В городе открыто говорили, что заинтересованная железная дорога вручила главарю оппозиции незаполненный чек с предложением вписать любую сумму, какая потребуется для того, чтобы сокрушить этого выскочку, вознамерившегося перевернуть вверх дном издавна заведенные обычаи и порядки. Как и следовало ожидать, оппозиция не скупилась на лживые измышления. Мэра обвиняли, например, в том, что он вошел в сделку с железнодорожной компанией, дабы взвалить на город тяжелое бремя расходов: ведь закон, на основе которого можно было заставить железную дорогу построить в черте города надземные пути, гласил, что одну пятую расходов должен нести город, а остальныечетыре пятых — железная дорога. Стало быть, на плечи налогоплательщиков ляжет долг в двести пятьдесят тысяч долларов, а взамен они не получат ничего. Выиграет только железная дорога. «Отложите это мероприятие до того времени, когда можно будет заставить железную дорогу взять на себя все расходы целиком, как того требует справедливость», — говорили сочинители агиток, всегда готовые оказать услугу тем, кто мог им хорошо заплатить. Мэр и его предвыборный комитет, хотя и не располагали большими средствами, тоже выпускали листовки и, кроме того, выступали публично, разъясняя, что даже при явно преувеличенном исчислении суммы долга в двести пятьдесят тысяч долларов городские налоги увеличатся всего до шести центов на человека. Таким образом, крикливые заявления о том, что каждому гражданину в течение десяти лет придется ежегодно платить лишних пять долларов, были полностью опровергнуты, и избирательная кампания пошла своим чередом. Тогда противники мэра пустили в ход запугивание. Если мэр победит, говорили они, все солидные коммерсанты покинут город. Фабрики закроются, и начнется голод. Наступят тяжелые времена. Обладатели капиталов боятся опасности. Какой дурак в самом деле станет рисковать своими деньгами в городе, где создалась такая неблагоприятная обстановка? А мэр доказывал, что корпорации обязаны вернуть населению хотя бы часть полученной ими прибыли. Сторонники мэра обошли все дома, подсчитали, сколько человек собирается за него голосовать, и обнаружили, что их число значительно возросло. Они выведали, какое число голосов противник считает достаточным для того, чтобы нанести мэру поражение. Мэр увидел, что ему, если он хочет быть абсолютно уверенным в победе, требуется еще триста голосов. Он отыскал колеблющихся в стане противника и заблаговременно, еще до наступления решающего утра, заручился их обещанием голосовать за него. Вечером накануне выборов город представлял собой великолепное зрелище; противники мэра уже были уверены в своем торжестве. Десятки ораторов от обеих сторон выступали на перекрестках и в городском зале заседаний. Красноречие лилось рекой, и освещенные керосиновыми фонарями агитационные фургоны разъезжали по улицам, изливая желчь на мэра и елей на его соперника. Враждебными мэру силами был устроен даже большой парад, для участия в котором сотни лошадей и людей были доставлены из соседних поселков; все это сборище выдали за исполненных энтузиазма граждан города. «Лошади не голосуют!» — эта фраза, брошенная мэром, несколько умерила восторги нахлынувшей в город толпы и вызвала смех у соратников мэра, для которых такая поддержка была далеко не лишней. На следующий день состоялось голосование, и надежды мэра оправдались — на этот раз во всяком случае. За него было подано не только значительно больше голосов, чем в прошлые выборы, но он собрал на целых двести голосов больше своего соперника. Эта победа вдохновила мэра и его приверженцев, зато их противникам доставила немало огорчений. Они еще накануне завезли в город целый вагон ракет для фейерверков, и этот вагон стоял теперь печально и одиноко на тех самых путях, которым предстояло, очевидно, стать надземными. Самую горькую досаду противники мэра испытали тогда, когда победители, входя в их тяжелое положение, предложили скупить все ракеты за полцены. Целый год после этого не слышно было разговоров о том, что мэр разоряет город. Плата за газ, в соответствии с решением комиссии, держалась на уровне восьмидесяти центов. Новое техническое училище, построенное на редкость дешево, — этот памятник муниципальной честности, — красовалось у всех на виду. Городская водопроводная станция была расширена, и цену на воду снизили. Улицы содержались в чистоте. Тогда мэр ввел еще одно новшество. В первый год его пребывания на новом посту клуб реформаторов каждую неделю устраивал собрания, на которых мэр откровенно рассказывал о своих планах и затруднениях. А теперь он предложил проводить эти собрания публично. С тех пор каждый вечер по средам деятельность мэра становилась предметом всеобщего рассмотрения, и всякий, побывав на таком собрании, приходил к выводу, что все это еще больше будет способствовать росту влияния и популярности мэра. Обсуждения происходили в большом зале, предназначенном для общественных собраний. Приглашались все желающие. Мэр был здесь и хозяином и гостем, он приходил сюда просто как человек, который хочет рассказать о своих планах, о возникших затруднениях и попросить совета. Перед ним были его избиратели, пришедшие не только затем, чтобы его послушать, но и высказать свои пожелания. — Джентльмены, — говорил он, — эта неделя оказалась для меня особенно тяжелой. Я столкнулся с рядом трудностей, которые попытаюсь вам сейчас разъяснить. Прежде всего вы сами знаете, как ограничена моя власть в муниципалитете. В настоящее время всего три члена городского совета голосуют за мои предложения: только идя на взаимные уступки, мы можем как-то продвигаться вперед. Затем он подробно рассказывал о своих затруднениях, после чего начиналась общая дискуссия. Всякий, даже простой рабочий, имел возможность выступить со своим предложением. Каждая проблема обсуждалась в атмосфере самого дружеского участия. Когда мэр спрашивал: «Что же надо сделать?» — он часто получал весьма дельный совет. Если ему подсказывали неудачное или неприемлемое решение, оно не встречало поддержки у других, и непригодность его быстро обнаруживалась. Сторонников крайних мер осаживали, слишком осторожных понукали. Всякий вопрос разбирался так подробно и освещался так всесторонне, что каждый человек, уходя, ясно представлял себе и позицию, занимаемую мэром, и его намерения. Побывавшие на таком собрании разговаривали потом с другими: они разъясняли и отстаивали действия мэра, потому что сами их понимали; казалось бы, если пять тысяч человек (или даже больше) постоянно это делают, в городе не может возникнуть никаких кривотолков. Все слышавшие мэра говорили, что цель и линия его поведения в любом вопросе всегда ясны. Казалось, что он, как ни одно должностное лицо во всей Америке, тесно связан со своими избирателями и что только сумасброды могут быть недовольны его управлением. Так прошел год; настала пора президентских выборов; почти одновременно должны были происходить и перевыборы мэра. Плата за газ уже не могла быть гвоздем предвыборной кампании. Улицы сияли чистотой, контракты выполнялись аккуратно. О благосостоянии города заботились как нельзя лучше. Только вопрос о железнодорожных переездах оставался неразрешенным: требовалось еще двукратное голосование. Самым сильным аргументом в пользу мэра была его предшествующая деятельность. Но на стороне, враждебной мэру, стояли потерпевшие в прошлый раз поражение местные организации обеих влиятельных партий и железнодорожная компания. Она-то, непримиримая в своей злобе, и позаботилась о том, чтобы сплотить местных демократов и республиканцев и создать мощную оппозицию. Все средства были пущены в ход: газеты подкуплены, большое число железнодорожных служащих временно переселено в город для того, чтобы они могли здесь проголосовать: этой местной избирательной кампании всячески старались придать значение общегосударственное. В последние недели перед выборами борьба приняла особенно ожесточенный характер. И деньги победили. Пять тысяч четыреста голосов было подано за мэра. Пять тысяч четыреста пятьдесят — за кандидата оппозиции, который принадлежал к той же партии, что и победивший кандидат в президенты. Это был тяжелый удар для мэра, но он умел философски смотреть на вещи и принял его спокойно. Покидая муниципалитет, он держался так же просто и непринужденно, как всегда, а спустя три дня пришел на одну из обувных фабрик города и попросил дать ему работу по его прежней специальности. — Что? Неужели вы ищете работу?! — воскликнул изумленный мастер. — Ищу, — сказал мэр. — Работу мы вам дадим, приступайте хоть сейчас, но, мне кажется, вы могли бы заняться чем-нибудь получше. — Придет время, займусь, — ответил мэр, — вот когда изучу как следует право. А пока, для разнообразия, хочу опять поработать на фабрике да посмотреть, как живется рядовым рабочим. И, надев фартук, принесенный из дому, мэр приступил к работе. Однако долго работать ему не пришлось, — его уволили. Об этом позаботились политические противники бывшего мэра, мечтавшие изгнать его из города. Многие осуждали его за желание устроиться на простую работу, говорили, что в этом чувствуется «душок зазнайства», неискренность, ему, мол, не было нужды это делать, он просто-напросто решил нажить политический капитал. Спустя некоторое время один торговец бакалейными товарами, разделявший убеждения мэра, предложил ему место приказчика, и тот, руководствуясь какими-то неведомыми соображениями — гуманными или узколичными, — принял это предложение. Тут он проработал уже несколько дольше. И снова многие говорили, что мэр ведет простой образ жизни с целью нажить политический капитал, рассчитывая, что это ему пригодится для дальнейшей политической карьеры. Возможно, и даже вероятно, что так оно и было. У каждого собственный способ отстаивать свои убеждения. Итак, некоторое время мэр работал в бакалейной лавке, а его сограждане, настроенные кто сочувственно, а кто враждебно, продолжали поносить или хвалить его, высмеивать или превозносить его так называемую «джефферсоновскую простоту». Как раз в это время я и встретился с ним. Мне сразу понравился этот высокий худощавый человек, как видно, очень способный и вообще прелюбопытный. А он охотно доверился мне и рассказал всю свою историю. Человек он действительно был примечательный, и о нем стоит вспомнить. В одной из комнатушек его скромного домика — комнатушка эта представляла собой не то контору, не то кабинет, а домик был такой маленький и невзрачный, что, пожалуй, только рабочий или мелкий служащий согласился бы в нем жить, — хранилась целая коллекция вырезок. В одних его хвалили, в других ругали, в третьих просто сообщали о каких-нибудь его действиях; обилие этих печатных откликов свидетельствовало о такой его популярности, которой мог бы позавидовать любой претендент на самый высокий пост во всей Америке. По альбомам вырезок и конвертам, до отказа набитым передовицами и большими статьями из газет, выходивших во всех уголках страны, от Флориды до Орегона, можно было судить, что в это время и в предшествующие годы каждый его шаг вызывал в народе особый интерес. Было совершенно ясно, что один класс настороженно следит за ним, шпионит и отвергает его, а другой — приветствует, одобряет и поощряет. Редакторы журналов домогались его сотрудничества, журналисты из больших городов ловили его, чтобы узнать о его намерениях, общественные организации с разных концов страны приглашали его приехать и выступить, а ведь он был еще совсем молодой человек, не очень образованный и не слишком сведущий в политике, всего только бывший мэр маленького городка и представитель организации, не имевшей никакого влияния. Теперь, оставшись не у дел, он, кажется, находил некоторое утешение, перебирая эти вырезки и вновь обращаясь мыслью к недавним событиям, еще свежим в его памяти; а может быть, его поддерживала и надежда на лучшее будущее. С какой-то веселой иронией он показывал мне образчики самой беспардонной и злонамеренной клеветы, которой пытались очернить его безупречное поведение. Он видел в них дань тому интересу, который проявляла к нему публика. — Вы хотите знать, что люди думают обо мне? — спросил он меня однажды. — Вот тут есть кое-что. Прочитайте. — И он протянул мне пачку вырезок, содержавших самые ожесточенные нападки на него — в одних его изображали хитрым и коварным врагом народа, в других — круглым невеждой, одержимым страстью к разрушению. Лично я не мог не восхищаться твердостью его духа. Как раз этой твердости не хватало тем, кто клеветал на него. Явная ложь не возбуждала его гнева. Очевидное недоразумение не могло, по-видимому, вывести его из себя. — На что вы надеетесь? — спросил он меня, когда я написал для одного из журналов правдивый очерк о его деятельности, который, кстати сказать, так и не был напечатан. Я пытался добиться у него признания: ведь верит же он все-таки, что его пример сможет в будущем вызвать широкий и благоприятный для него отклик. Но я так и не мог понять, согласен он со мной или нет. — У людей короткая память, — продолжал он, — они быстро все забывают. О человеке помнят, пока он у всех на глазах и чем-нибудь привлекает общее внимание. Это может быть снижение платы за газ или организация оркестра, исполняющего классическую музыку. Публике нравятся сильные и только сильные люди, хорошие они или плохие — все равно, я в этом убедился. Стоит кому-нибудь — отдельному лицу или корпорации — оказаться сильнее меня, начать травить меня, сорить деньгами, спаивать людей пивом и сулить им золотые горы — и песенка моя спета. Со мной именно это и случилось. Я столкнулся с мощной корпорацией, которая, по крайней мере в данное время, оказалась сильнее меня. И теперь мне остается только одно — уехать куда-нибудь и стать сильнее, а каким способом я этого добьюсь, не имеет значения. Что людям до нас с вами, до наших идеалов, до наших забот о благе общества; людей привлекает только сила и занимательное зрелище. И обмануть их ничего не стоит. Хищные корпорации пустили в ход юристов, политических деятелей, прессу, представили меня в жалком и смешном виде. И люди забыли обо мне. Если бы я мог добыть миллион или хотя бы пятьсот тысяч долларов и задать этой корпорации хорошую трепку, они стали бы меня боготворить — но только до поры. А потом пришлось бы доставать новые пятьсот тысяч долларов или еще что-нибудь придумывать. — Все это так, — отозвался я. — И все же «vox populi — vox dei»[38]. Сидя однажды вечером у порога его домика, который находился в очень скромном квартале города, я спросил: — Вы очень огорчились, потерпев в этот раз поражение? — Ничуть, — ответил он. — Действие и противодействие — таков закон. Думаю, что все это со временем выправится, во всяком случае, так бы должно быть. А впрочем, как знать. Но, думается мне, придет время, появится человек, который сумеет дать людям то, что им действительно нужно, то, что они должны иметь, и он победит. Не уверен, конечно, но надеюсь, что так и будет. Ведь жизнь идет вперед. Его худощавое молодое лицо было спокойно, бледно-голубые глаза глядели задумчиво. Казалось, перенесенные им испытания не омрачили его духа. — Вы на все смотрите с философской точки зрения? — Постольку поскольку, — сказал он. — Видите ли, люди говорят, будто все, что я делал, все мои заботы о чужом благе свидетельствуют только о моей никчемности. Что ж, возможно. Может быть, личный интерес и есть закон жизни и лучший ее двигатель. Я еще не знаю. Но сочувствую я, разумеется, совершенно другому. Одна газета писала обо мне: «Его бы следовало засадить в каторжную тюрьму, пусть бы там тачал сапоги». А другая посоветовала мне заняться чем-нибудь таким, что не превышало бы моих способностей, дробить камни или выгребать нечистоты. Почти все сходились на том, — добавил он, и усмешка шевельнулась в уголках его большого выразительного рта, — что я хорошо сделаю, если буду сидеть смирно, а еще лучше, если уберусь куда-нибудь подальше. Они хотят, чтобы я уехал из города. Для них это был бы наилучший выход. Казалось, он подавил усмешку, которая вновь готова была появиться на его губах. — Голос врага, — заметил я. — Да, голос врага, — подтвердил он. — Но не подумайте, что я сдался. Вовсе нет. Я просто вернулся к прежнему своему состоянию, чтобы на досуге хорошенько все обдумать. Может, я уеду отсюда, а может, и нет. Во всяком случае, я опять появлюсь где-нибудь, и не безоружным. Однако уехать ему пришлось, и было сделано все, чтобы помешать ему когда-либо снова завоевать общественное признание. Пять лет спустя, в Нью-Йорке, занимая довольно обеспеченное служебное положение, он умер. Он боролся — и боролся отважно, но время, обстоятельства, положение светил, что ли, не благоприятствовали ему. Может быть, у него не было гения-покровителя, который провел бы его сквозь все препятствия. Толпа приверженцев не устремилась ему на помощь и не спасла его в решительную минуту. Может быть, ему не хватало обаяния — этой языческой, стихийной, непроизвольно действующей силы. Парки не дрались за него, как дерутся они за своего избранника, спокойно взирая на миллионы и миллионы неудачников. Но разве можно сказать хоть о ком-нибудь из нас, что жизнь вполне удалась? Пусть даже другим она кажется удачной, — как далеко все это от того, что нам мечталось, к чему мы стремились!.. Мы то и дело поступаемся чем-нибудь — и мечтами своими, и многим другим. Что касается тех перемен, за которые он боролся, то, может быть, они наступят очень скоро. А может быть, еще не так скоро. In medias res[39]. Но его жизнь?..
Питер
В любом обществе, какое мне когда-либо приходилось видеть, Питер выделялся бы, и не внешностью, — это был человек совсем особого душевного склада. Среди безмерной скудости американской умственной жизни он был словно оазис, настоящий родник в пустыне. Он понимал жизнь. Он знал людей. Мне казалось, что он был во всех отношениях свободен: свободно мыслил, свободно чувствовал. Чем дольше тянешь лямку непонятного, загадочного существования, тем больше ценишь эти качества в человеке: не ложную свободу сильных мира сего, тех, у кого туга мошна или тяжел кулак, а подлинную внутреннюю свободу, когда человеческий разум, сознавая свою силу и свою слабость, смело глядит в лицо природе и широким, непредубежденным взором оценивает творческие силы свои, человечества, вселенной и, решительно разрывая путы всяческих догм, в то же время остается верен всему простому и человеческому, что составляет нашу повседневную жизнь в ее здоровой, естественной основе. Впервые я увидел Питера в Сент-Луисе в 1892 году, когда я приехал из Чикаго и поступил репортером в «Глоб-Демократ», где он работал в отделе иллюстраций. С тех пор и до последнего дня своей жизни (умер он в 1908 году) Питер ничуть не изменился: невысокий, плотный, но быстрый, даже порывистый в движениях, с густой шапкой непокорных волос на голове и всклокоченной бородой; иногда он вдруг сбривал ее, но она удивительно быстро отрастала заново. Забавно было смотреть на него, и, думается, он нарочно старался быть смешным, но при этом от него всегда веяло душевным здоровьем и силой, чувствовалось, что он не только весельчак, добрый малый, каким кажется на первый взгляд. Несомненно, он был человек серьезный, однако с легким характером, всем своим видом он словно говорил: «А жизнь забавная штука». Одевался Питер хорошо, но на редкость небрежно. На его костюме случалось видеть чернильные или даже масляные пятна; эта неряшливость приводила в отчаяние всех, кто его знал, особенно друзей и родных. Вдобавок он вечно бывал осыпан табаком, который любил во всех видах: жевал, курил трубку, сигары и даже папиросы, если не находилось ничего лучшего. Меня всегда особенно поражало его острое чувство юмора, пристрастие к нелепым шуткам, умение посмеяться и над собой и над другими; он все воспринимал по-своему, не так, как положено. Порою он переходил все границы — должно быть от желания развлечься, как-то рассеять окружающую скуку. И все же он любил жизнь во всей ее пестроте и многообразии, ничего не презирал и не стремился что-либо исправить или изменить. Он считал, что жизнь хороша, как она есть, удивительно хороша! Она казалась ему столь великолепной, что он не знал ни минуты покоя, — так жаждал жить, видеть, понимать, действовать. Мир был в его глазах мастерской, необъятным полем деятельности для художника, мыслителя и для простого пахаря, — и, ни к кому не относясь критически, он выше всего ставил личность, способную понять жизнь, отразить ее или творить в ней, что бы ни двигало этой личностью: чувство ли художника, или точный расчет ученого. Для него (я понимал это тогда и еще яснее вижу сейчас) не было ни возвышенного, ни низменного. Все на свете относительно. Вор — это вор, но и у него есть свое место в жизни. То же и убийца, то же и святой. Не человек, а природа задумывает или по крайней мере устраивает весь этот порядок вещей; человек же, как слепое орудие, только повинуется ему, не в силах его понять. Вульгарная проститутка на улице или в притоне могла так же потрясти и растрогать Питера, как и девственная чистота. Богатый — богат, бедняк — беден, но и тот и другой — во власти могучих сил, чьи неумолимые законы или, быть может, беззакония делают всех людей жалкими, ничтожными, а если угодно, и великими. Он сострадал невежеству и нищете, презирал тщеславие, бессмысленную жестокость, скупость, в чем бы она ни проявлялась. В нем уживались широта натуры и практичность, чувственность и одухотворенность. И хотя денег у него никогда не водилось, он был так щедро одарен природой, так живо чувствовал и мыслил, что вокруг него всегда создавалась теплая и радостная атмосфера, и жизнь, если не на самом деле, то в воображении (а оно-то и есть подлинная реальность) становилась куда лучше и отраднее. И притом он вечно прикидывался шутом, повесой, распутником, даже безумцем, вдруг огорошивал слушателей чудовищной нелепицей, проповедовал самые фантастические бредни. Вам кажется, что я сгущаю краски? Но я говорю о человеке поистине необыкновенном. Насколько я знаю, Питер родился на Среднем Западе, в семье ирландского происхождения, поселившейся на юго-западе штата Миссури. В его родном городишке и железной дороги-то не было, она появилась, когда он стал уже взрослым, — это обстоятельство забавляло его, но не слишком огорчало. По этому поводу он рассказал мне забавный случай. Один провинциал, никогда в жизни не видевший поезда, заблаговременно пришел с женой и детьми на вокзал, купил билеты, подождал немного, выглядывая то в одно, то в другое окно, потом, наконец, вернулся к кассирше и спросил: «Когда же эта штука тронется с места?» Он ждал, что поедет само здание вокзала. К тому времени, когда Питер начал работать художником-карикатуристом, он закончил лишь обычную среднюю школу, но знания его были удивительно широки и разнообразны, и он вовсе не стремился получить дальнейшее образование в каком-нибудь колледже. Любопытная подробность: его отец, по происхождению ирландец, был человек образованный, юрист по профессии и при этом католик. Мать — коренная американка — была тоже католичка, женщина ограниченная и весьма строгих правил. Кроме Питера, в семье было еще четверо детей — своеобразные люди, необычайно энергичные и, я бы сказал, довольно неуравновешенные. Все они, насколько я мог судить, изредка встречаясь с ними, не особенно задумывались над тайным смыслом жизни; порывистые, неугомонные, они прямо подавляли своей жизненной силой. Один из братьев, К., который тоже поддерживал со мной знакомство, как с другом Питера, был такой беспокойный, горячий, так быстр в словах и поступках, что я даже слегка побаивался его. Он любил крикливую роскошь шумных ресторанов и засиживался там допоздна. Кстати, он недурно играл на рояле; одевался с шиком, как сказали бы на Бродвее; вообще умел пожить; словом, являл собой прекрасный образец ловкого, напористого дельца. То и дело К. появлялся в роли представителя новой фирмы, что-нибудь рекламировал: соус или слабительное, мыло для бритья, жевательную резинку, безопасную бритву, велосипед, резиновые шины или целый автомобиль. Где я только не встречал его: в Уокешо, Висконсине, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Новом Орлеане. — Кого я вижу! — восклицал он при встрече и протягивал мне обе руки; богатство его интонации и мимики сделало бы честь любому комическому актеру. — Сам Драйзер, закадычный друг Питера! Так, так, так! Ну, по этому поводу надо выпить. И закусить, конечно. Я здесь только на один день. Пойдем в Мюзик-холл или в ресторан двинем? Так, так, так. Кутнем как следует! А? — И он вперял в меня сверкающий взгляд, желая, видимо, подбодрить, а я под этим взглядом совсем терялся, словно на меня надвигалось стихийное бедствие. Однако я хотел рассказать о Питере. В тот день, когда я увидел его впервые, он, склонясь над чертежной доской, набрасывал иллюстрации к рассказу о змее для очередного воскресного номера «Глоб-Демократа», редакция которого охотно угощала своих читателей самыми дикими небылицами; пресмыкающееся, свиваясь кольцами, выползало из-под его пера, ужасающе живое: пристальные злые глаза, разинутая пасть, вытянутое жало… — Ого, — заметил я мимоходом — мне надо было поговорить с ним по другому делу. — Замечательная змея! — Ну, нашему редактору по части змей и эта змея еще не змея, — ответил Питер, поднимаясь и стряхивая табак с рубашки (он был без пиджака). Затем он сплюнул, старательно целясь мимо блестящей медной плевательницы, — ею явно никто никогда не пользовался, но зато резиновый коврик, на котором она стояла, был весь «изукрашен». Я очень удивился такой манере, но, будучи в ту пору новичком, не решился что-либо сказать. Позже я понял, в чем дело. Это была его блажь, одна из странных и нелепых шуток, превратившаяся в механическую привычку. Если кто-нибудь, не подозревая об этой прихоти, собирался использовать «золотую чашу», как он ее называл, по ее прямому назначению, Питер тотчас вскакивал и, предостерегающе подняв руку, торжественно и мрачно провозглашал: «Стоп! Не сюда! Рядом, на коврик! Эта вещь стоила мне семь долларов!» Затем он так же торжественно усаживался на свое место и продолжал рисовать. Он проделывал эту штуку со всеми в редакции, кроме самого высшего начальства. И все, даже самые хмурые, смеялись, всех забавляла полнейшая нелепость этой выходки. Но я забегаю вперед. Так вот о змее. Питер имел в виду помощника редактора, который ведал подобными рассказами. — Чем змея толще, чем ядовитее, чем зловещее блестит ее чешуя, тем лучше, — продолжал он. — Жаль, газета у нас печатается не в красках, а то бы я сделал этому змею красные глаза, красное жало и сине-зеленую чешую. Фермеры наши были бы в восторге. Им по вкусу только добротные ядовитые змеи. Он усмехнулся, выпрямился и, склонив голову набок, самодовольно поглядел на рисунок, потом взъерошил волосы, бороду и добавил: — Понимаете, здесь нет предела: чем живей и энергичнее змея, тем лучше, — вот и рисуешь, чтобы они так и ползали по газетному листу. — И он ухмыльнулся до ушей. Я не мог удержаться от смеха. До чего же он был самонадеян! И какой снисходительный тон! Вскоре мы стали неразлучными друзьями. В той же газете вместе с ним работал еще один иллюстратор, некто Дик В., сам по себе как будто человек незаурядный, но, мне казалось, годный только для контраста, чтобы подчеркнуть на редкость своеобразный и значительный облик Питера. В худом, бледном лице Дика было что-то общее с Данте; его иссиня-черные, как у индейца, волосы, аккуратно разделенные посредине пробором, напомаженные и зализанные к вискам и затылку, казались склеенными. Маленькие черные глаза смотрели обиженно и подозрительно, но в углах рта прорезались морщины, словно след горя и страданий, а никаких таких страданий Дик вовсе не переживал; и, однако, всем своим видом он словно просил о сочувствии и, пожалуй, находил его. Дик, — в своем роде актер, если хотите, трагик, — обладал на свое счастье некоторой долей юмора и проницательности и поэтому был не совсем смешон. Как большинство актеров, он любил порисоваться. Он носил мягкую полотняную рубашку, белую или голубую, зеленую или коричневую; на шее у него неизменно развевался длинный, свободно повязанный галстук. Как мог в ту пору обойтись без всего этого американский подражатель богеме Латинского квартала? А без желтых или черных перчаток, без круглой мягкой шляпы, поля которой загибаются самым неожиданным образом? Без лакированных туфель, без плаща с капюшоном, гибкой тросточки, цветка в петлице? И все это — в прозаическом, дымном и шумном торговом городе Сент-Луисе, полном дельцов и фермеров Среднего Запада. Я бы и не упоминал об этом человеке, если бы мы трое — он, Питер и я — не были тогда большими приятелями. Мы стали на время как бы «тремя мушкетерами» газетного царства. Дружба эта продолжалась несколько лет; позже мы с Питером переехали на Восток и тут стали совсем неразлучны; у нас с ним находилось все больше и больше общего, и мы оба все лучше понимали, что же такое Дик: настоящий диккенсовский тип, да еще в иллюстрации Крукшенка. Но в те давно минувшие дни мы трое были неразлучны: вместе завтракали и обедали, работали и развлекались, только что не ночевали под одной крышей. У меня было нечто вроде мастерской в убогом фабричном пригороде Сент-Луиса (Десятая улица возле рынка, теперь, кажется, там бойкий торговый район); мастерская Дика была на углу Бродвея и Локаста, против знаменитого тогда Южного Отеля. Питер жил с семьей на Южной стороне, в самой мирной и почтенной части города. Любопытно, что самый волнующий жизненный опыт, самые интересные мысли и самые увлекательные открытия всегда, за редким исключением, приносили мне встречи с мужчинами, а не с женщинами. Едва ли не каждый поворот в моей судьбе отмечен знакомством с какой-нибудь сильной личностью, которой я обязан часами самого высокого духовного наслаждения, когда жизнь моя как бы озарялась новым светом, словно ослепительным сиянием тропического солнца. Таким человеком стал для меня и Питер. Он был почти ровесник мне, но его дар понимать жизнь и людей казался мне просто сверхъестественным. Хотя он, как и я, был воспитан в католической вере и преувеличенно, прямо в духе Рабле, изображал себя приверженцем этой религии, он удивительно легко принимал все, доброе и злое: «Как знать, может, и в этом есть свой смысл». Притом он вовсе не стремился следовать заповедям церкви, высмеивал ее лицемерие и предпочитал свою собственную жизненную теорию всем иным учениям. Его смешила самая мысль о том, чтобы исповедоваться, причащаться и получать отпущение грехов у какого-нибудь плотного здоровяка-священника, скорее всего ирландца и такого же любителя земных благ, как и он сам! В то же время Питеру очень нравились немцы, он восхищался их образом жизни, патриархальными нравами, их пивом, их кухней и прочим, — и кончилось тем, что женился он на немке. Насколько я понимаю, Питер верил в одну только природу, да и в ней только в красоту и случай, в те награды и кары, которые она таит, ею он восхищался, перед ней благоговел, и все (даже самое малое) в ней доставляло ему истинное наслаждение. Жизнь была в его глазах великолепной сверкающей загадкой, то чудовищной, то прекрасной, увлекательнейшим приключением. В отличие от меня он в ту пору уже начисто освободился от пуританства, которым нас до отказа пичкали в детстве, он хотел жить жизнью вольной, здоровой, красочной, почти первобытной. Его интересовали негры, древний Рим и Египет, сказки Востока и фантастика средних веков, наши грязные трущобы и сомнительные кварталы — как он упивался всем этим! Он готов был бродить там ночи напролет, смотреть, слушать, изучать, петь, плясать, даже играть на флейте! Кстати, одной из его, казалось бы, грубых, а в сущности невинных, забав было частое посещение одного негритянского притона, каких немало в Сент-Луисе. Он играл на флейте, еще кто-нибудь на тамбурине или маленьком барабане, а две или три чернокожих девушки танцевали какой-нибудь дикий, колдовской танец, переносящий зрителя в самое сердце Африки. Насколько я знаю, они танцевали не за деньги — просто Питер был здесь своим человеком. И, конечно, в этих странных оргиях он удовлетворял свою жажду ярких красок, звуков, языческого веселья. Не знаю, как удавалось ему завязывать подобные знакомства. Мне никогда не приходилось присутствовать при зарождении такой дружбы. Но, хоть они и утоляли его жажду необычного, живописного, в этом, конечно, не было и следа грубой чувственности. Признаюсь мимоходом, что, когда мне случалось быть свидетелем этих вольных плясок, они словно освежали меня и в то же время опьяняли. Я был тогда жалкий, неуклюжий желторотый птенец, мне не терпелось узнать жизнь, но, воспитанный в сугубо строгих правилах, я боялся ее, боялся, что она погубит меня, отравит мои мысли и поступки тлетворным дыханием порока. Питер был не таков. Для него жизнь была хороша вся, без оговорок. Он смотрел на нее, как на увлекательный спектакль, с любопытством и интересом. Оглядываясь назад, я вспоминаю убогую, скудно освещенную комнату с низким потолком, куда он привел меня «развлечься», чернокожих девушек, танцующих под мерные удары барабана, их белые зубы, блестящие глаза, гибкие движения извивающихся в танце темных тел, их удивительное чувство ритма — и я благодарен Питеру. Я стал свободнее мыслить, кругозор мой расширился. Бывая там с Питером, я порою не мог оторвать глаз от танцующих — и все время мучился сознанием, что совершаю что-то низкое, преступное, позорное; но я видел, как веселится Питер, с каким самозабвением он бьет в барабаны или играет на флейте, как умеет чувствовать звуки, краски, — и понимал, что он выше меня, что предо мною подлинно цельный и душевно здоровый человек. Я был нравственным трусом, а Питер не боялся своих желаний, и постоянный внутренний страх, так свойственный многим из нас, не отравлял ему радости жизни. Он был сильный, здоровый, бесстрашный и таким же делал меня. Однако я не хочу, чтобы он казался человеком низких побуждений и возмущал тех, кто решительно отвергает все выходящее за рамки их узкого обыденного мирка. А потому поспешу обрисовать его и с другой стороны. Интересы Питера были отнюдь не низменны, он с детской непосредственностью увлекался всеми сторонами жизни. Америка, американский образ мыслей, религиозные и другие взгляды только забавляли Питера, он не принимал этого всерьез. Он любил изучать всякого рода секты, ереси, тайные обряды. Больше всего его увлекала древняя история, дикость и варварство средневековья, — у него был удивительно своеобразный склад ума. Уже тогда он знал труды многих ученых, о которых я даже не слыхал: Масперо, Фрейд, Гексли, Дарвин, Уоллес, Ролинсон, Фруассар, Хэллам, Тэн, Эвебьюри! А имена художников, скульпторов, архитекторов, иллюстраторов, которых он знал (и не только их произведения, но и литературу о них), невозможно перечислить. Когда мы познакомились, он особенно увлекался египтологией, изучал первобытную древность, — его интересовало все дикое, естественное, первозданное. — Драйзер, — с жаром сказал он однажды; глаза его блестели, — ты не представляешь, сколько очарования таят в себе некоторые древние верования. Вот, например, знаешь, почему египтяне почитают скарабея? — Скарабея? Что это за штука? Первый раз слышу, — ответил я. — Да это жук. Египетский жук. Что такое жук, ты, надеюсь, знаешь? Ну, так вот, эти жуки роют в земле, в иле Нила норы и кладут туда яички, а весной из яичек снова выводятся жуки. Вот египтяне и решили, что жук не умирает, а если даже и умирает, то способен воскреснуть, что он бессмертен, стало быть — бог. И они стали почитать его. — Говоря подобные вещи, Питер, бывало, помолчит, а потом взглянет на меня своими удивительными, блестящими, как бусины, глазами, чтобы убедиться, произвели ли его слова на меня должное впечатление. — Да неужели? — Верно, верно. Вот откуда это взято, — и Питер начинал рассказывать о священном животном — обезьяне, о последователях Заратустры, об огнепоклонниках, о священном быке Египта, олицетворяющем силу продолжения рода, о религиозном почитании этой силы, о фантастических оргиях в Сидоне и Тире, о фаллических празднествах и шествиях. Я был тогда в этих вопросах полным невеждой, — в тех немногих книгах, которые я прочел, об этом не говорилось ни слова. Но я верил Питеру. И загорался страстью читать, но не старые, выхолощенные, ортодоксальные учебники, а другие книги и брошюры — те, которые добывал Питер. Я засыпал его нетерпеливыми расспросами, где и как об этом можно узнать. Питер объяснял, что эти книги либо запрещены и изъяты, либо из-за нашего пуританства и ханжества не полностью переведены, но называл мне авторов и книги, которые были доступны, и адреса некоторых старых букинистов, где я мог бы найти эти книги. Его интересовали еще и этнология, и геология, и астрономия (по крайней мере самые значительные явления в этой области), и многие прикладные искусства. Керамика, ковры, картины, гравюры, резьба по дереву, ювелирное дело, графика — чем только он не занимался, однако даже самые серьезные занятия не мешали ему разыгрывать нелепые эксцентричные шутки, на которых он был прямо помешан. Когда ему хотелось смеяться, он находил, над чем посмеяться, даже в самой серьезной обстановке. Так, помню, он сыграл презабавную шутку с нашим Диком, заранее подметив и изучив его смешные стороны. Дик, вообще человек не глупый, любил прикидываться личностью романтической, хотя в сущности был просто нытиком. Как газетный иллюстратор он ничего выдающегося собою не представлял; Питер стоял неизмеримо выше его, хотя делал вид, что в вопросах искусства считается с Диком и смотрит на него, как на кладезь премудрости. В то время Дик проявлял особый интерес ко всему китайскому и слыл, вернее, выдавал себя, за знатока не только китайского языка, который откуда-то немного знал, но и искусства, и обычаев этой страны, и даже истории, как известно, мало изученной. Изредка он снисходил до того, что брал нас с собой в какой-нибудь захудалый китайский ресторан, который он считал — в этом была известная романтика — притоном воров, мошенников и прочих обитателей сомнительных кварталов (все китайские рестораны в Америке выросли из таких кабачков). Дик обычно знакомил нас кое с кем из своих китайских друзей, с которыми давно и старательно поддерживал знакомство, превратившееся теперь в дружбу. Как справедливо заметил Питер, у Дика была счастливая способность самовнушения; и вот он убедил себя, что китайцы — таинственная, высшая раса, что существует какая-то китайская организация «шесть компаний», пользующаяся властью — разумеется, тайной — чуть ли не над всем миром. Прежде всего она имеет влияние на разные строительные предприятия и поставляет по первому же зову в любую часть света тысячи китайских рабочих; они служат своим нанимателям, но беспрекословно повинуются этой тайной организации, а тем, кто выйдет из повиновения, перерезают горло, кладут их вниз головой в корзины и засыпают рисом; затем в привезенных из Китая гробах их останки без лишнего шума отправляют на родину. Дик уверял, что именно эта организация поставляла рабочих для строительства Тихоокеанской железной дороги. Питер, бывало, слушал выдумки Дика с восторгом, хохотал над ними и в то же время делал вид, что всему верит. Но во всем этом Питера особенно интересовало одно: нельзя ли где-нибудь в Сент-Луисе купить настоящий китайский нефрит, шелк, вышивки, фарфор, плетеные изделия, статуэтки. Это занимало его сильнее, чем экономические или общественные условия жизни Китая. Он заставлял Дика водить себя всюду, где еще можно было своими глазами увидеть эти редкости, и загонял беднягу до полусмерти. Дику приходилось волей-неволей просить китайцев, дружбой с которыми он так похвалялся, показывать все, что у них есть любопытного. Помню, однажды Питер потребовал, чтобы Дик сводил его в местный музей искусств и дал какого-нибудь своего друга китайца в проводники. Он требовал объяснений к каждому рисунку, к каждой завитушке на вазе. Тут-то Дик и сел в лужу. Никто из его приятелей-китайцев ничего не смыслил в искусстве, но никто, и в том числе сам Дик, не решился в этом признаться. — Знаешь, Драйзер, — сказал мне однажды Питер, и в глазах у него промелькнула усмешка, смесь добродушия и ехидства. — Я все это делаю нарочно, чтоб помучить Дика. Ни он, ни его друзья ни черта не смыслят в искусстве. Вот я и вывожу их на чистую воду. Одно удовольствие смотреть, как они пыхтят и отдуваются. Понимаешь, в музее-то, оказывается, продается каталог с фотографиями подлинных древностей и даже с объяснениями всех символов, какие только известны науке, а Дик об этом не знает и ночей не спит, стараясь их разгадать. Поглядел бы ты на него и на его приятелей, когда они уставятся на какую-нибудь вазу. Как же было Питеру не смеяться? Сам-то он, видимо, в китайском искусстве отлично разбирался. Забавляло Питера и другое: Дик мечтал о блестящей партии, которая откроет ему доступ к роскоши, введет его в избранные круги общества — он очень старался быть изысканным и доходил до крайностей в одежде и в манере говорить, писать, рисовать. Как я уже упоминал, у Дика была мастерская на Бродвее — большая квадратная комната в верхнем этаже доходного дома, и Дик сделал ее, как ему казалось, изысканной и оригинальной. Он воображал, что вся мишура, наполнявшая его комнату, говорила об аристократическом вкусе, а между тем мебель была разрозненная, случайная, безделушки, картины, книги, каких полно в любой антикварной лавчонке; но Дику, выросшему в Блумингтоне в штате Иллинойс, эти вещи казались редкими художественными ценностями. Его претензии, особенно литературные, были безграничны — он сочинял рондо, триолеты, четверостишия, сонеты, написал несколько вымученных рассказов, решительно отвергнутых всеми редакциями; возвращенные рукописи были разбросаны, как бы случайно, в самых неподходящих местах, с целью поразить наивного посетителя. Дик разыгрывал отвергнутого, обиженного, непонятого — ведь это удел всех великих художников, поэтов, мыслителей! Однако самой заветной его мечтой оставалась женитьба на какой-нибудь весьма прозаической и тупоумной дочери одного из новоиспеченных богачей Вест-Энда; вот к чему были устремлены все его помыслы, все его усилия — рисовал ли он, писал ли, заказывал новый костюм или мечтал о будущем. Я и сам частенько подумывал о женитьбе, хотя из несколько иных побуждений, но у меня-то не было никаких шансов на успех; Дик же — художник, поэтическая натура — был красив, держался холодно и высокомерно, занимал более солидное положение, и казалось, непременно добьется своей блистательной цели, а я — не красавец, не художник, да и не такая уж поэтическая натура — едва ли мог надеяться на что-либо подобное. Бывало, в обеденный час Дик, одетый по последней моде — в темно-синем костюме, лакированных башмаках, мягкой шляпе, со свободно повязанным галстуком, — выходил, легко помахивая тросточкой, из редакции, и, глядя на него, я был почти уверен, что победаего близка, что она наступит сегодня же, и в следующий раз я увижу его уже супругом богатой наследницы, и разговаривать он со мной будет только мимоходом, как с полузабытым приятелем. Вот и сейчас он, может быть, идет к ней, а я, жалкий неудачник, должен корпеть над своей унылой работой. Неужели мой корабль никогда не войдет в гавань? Неужели никогда не наступит мой день? Мой черед? Злая судьба! Питер прекрасно понимал все эти мечты и надежды Дика, мог при случае даже посочувствовать, но это не мешало ему высмеивать приятеля и вечно замышлять какую-нибудь потеху. Однажды он пришел в отдел происшествий, где я работал за своим столом, наклонился ко мне и, еле удерживаясь, чтоб не расхохотаться, сказал: — Слушай, Драйзер, что я придумал! Вот разыграем Дика! — Он замолчал и весело поглядел на меня; казалось, его маленькое круглое тело лопнет от смеха. — Это просто здорово! Ух, если это удастся, он у нас попляшет! Ты только послушай, — продолжал он. — Ведь у Дика мания — богатая невеста, ты же знаешь. Он только о том и думает — жениться на какой-нибудь девице из Вест-Энда, для этого он и франтит, об этом говорит и пишет. (Дик без конца сочинял и читал нам по вечерам у себя в мастерской все один и тот же рассказ о несчастном, но талантливом художнике, которому любовь открывала доступ в высшее общество.) Все эти разговоры о том, что он бывает в каких-то богатых домах, — враки. Он только наряжается каждый вечер, как на бал, идет в фешенебельные кварталы и бродит там, как лунатик. Так послушай, что я придумал. Мы пойдем завтра в магазин Мермод и Джакард и купим несколько листов лучшей бумаги с монограммами. Потом сочиним письмо и подпишем его каким-нибудь таким романтическим именем. Хуанита! Сирена! или, скажем, Дорис! Напишем, что она дочь миллионера из Вест-Энда, воспитана в строгости, но видела в газете его рисунки — и жаждет с ним познакомиться, понимаешь? Потом, пусть она назначит ему свидание в семь часов, скажем, у западного входа Портленд Плейс. Она опишет себя: молодая, красивая, в каком-нибудь элегантном костюме — и Дик будет сражен. Он непременно попадется в ловушку. А в условленный час мы явимся туда и станем звать его с нами в парк или куда-нибудь пообедать. Оденемся так, что он постыдится признать нас друзьями. Он будет зол, как черт, постарается всеми силами от нас отделаться, а мы не отстанем и испортим ему свидание. В письме скажем, что он непременно должен быть один, — понимаешь, она застенчива и боится, как бы ее не узнали. Бог мой! Да он с ума сойдет! Решит, что мы загубили его жизнь, — хо, хо! — Питер чуть не прыгал от восторга. Шутка удалась. Пожалуй, она была жестока, но кто же огорчится, если ближний попадет впросак? Мы достали бумагу, один приятель Питера, служивший в соседней конторе по продаже недвижимости, написал письмо, каждое слово в нем мы тщательно обсудили. Там были намеки и на крайнюю молодость автора строк, и на ее красоту, и на роскошный особняк. Она давала понять, что угадала в Дике возвышенную натуру. При встрече он узнает ее по зеленому шелковому шарфу (ведь была весна, самое подходящее время года). Она обещала прийти в семь часов. В этот раз она уделит ему лишь несколько минут, но потом… своего адреса она не указала. Письмо, конечно, было отправлено из Вест-Энда и в положенное время пришло в редакцию. Питер работал возле Дика за соседним мольбертом и украдкой наблюдал за ним. — Ты бы видел его, Драйзер! — воскликнул он, разыскав меня час спустя. — Ха, ха! Знаешь, он, кажется, действительно всему поверил. У него, должно быть, голова закружилась. Он и виду не подал, но через минуту схватил шляпу и пошел к Дэку (это был ближайший бар) выпить стаканчик. Я следовал за ним. Он сам не свой. Подожди, что-то будет вечером, в день свидания, когда мы появимся на горизонте! Я выряжусь бродягой. Я его опозорю. Бог ты мой, да он сойдет с ума! Вообразит, что мы загубили его жизнь, спугнули богатую невесту. Адреса нет. Он ничего не может сделать. Ха, ха, ха! В назначенный день — это был солнечный майский день — Питер пришел и сказал мне, что в три часа Дик ушел из редакции; мы отправились переодеваться. В шесть мы с Питером встретились, взяли такси и высадились, не доезжая одного квартала до места свидания. Я никогда не забуду того вечера: казалось, в самом воздухе разлито что-то такое, от чего томишься и грустишь о любви — даже такой, как любовь Дика. Солнце садилось, птицы пели свои вечерние песни. Но Питер — до чего же бессовестный — вырядился так, как мог вырядиться только он один, когда хотел пугать людей своим видом; это был настоящий бродяга, грязный, всклокоченный, как будто он неделями ночевал в канаве. Волосы свисали на глаза, и уши, лицо, руки, башмаки — все в грязи. Он даже зубы слегка подчернил. Рубашка без воротничка, но манеры самые развязные, и в руках, видите ли, тросточка, словно он вовсе не понимает, на кого похож. Ко всему Питер был еще и прирожденный актер. Мы ждали неподалеку за деревьями, и минута в минуту явился Дик, конечно, полный надежд и нетерпения; бледный, изящный — почти таков, каким всегда хотел казаться. Сразу видно — человек искусства! Новая соломенная шляпа! Светло-зеленая рубашка, какие носили художники! Черный пояс с широкой пряжкой! Трость! Темно-коричневые летние туфли! Бутоньерка! Да, он явно приготовился встретить свою судьбу, решающий час своей жизни. И вот, не дав ему опомниться, как раз когда он ждал, что вот-вот появится его поклонница, мы с Питером обрушились на него, грязные, замызганные, словно только что вырвались из ада. Мы были так рады ему, лезли обниматься и целоваться! Как удачно мы здесь встретились! Какой славный вечерок! Проведем его вместе! Прогуляемся по парку, закусим, выпьем… Дик взглянул на Питера, на его шляпу, рубашку без воротничка и весь посерел. Невозможно! Явиться в такой компании! (По совету Питера, я тоже постарался выглядеть как можно хуже, что мне было нетрудно сделать.) Нет, нет, он не может идти с нами. Он ждет друзей. Он просит извинить его. Но от Питера было не так-то легко отвязаться. Он стал оживленно болтать на самые разнообразные темы. Заговорил о работе, которой был занят Дик сегодня в редакции, потом свернул на какой-то заказ, — как Дик с ним справляется, когда закончит? Дик не поддержал этой темы, тогда Питер начал распространяться о собственных успехах и замыслах. Он задавал глупые вопросы, уверял, что Дик сегодня франт и красавец, — интересно, для кого это он так вырядился? Несчастный Дик, он уже не просто нервничал, он был в отчаянии, он чувствовал, что все потеряно! Это было жестоко. Дик становился все беспокойнее, тоскливо и тревожно оглядывался по сторонам, не знал, уйти ли самому, или дождаться, пока мы уйдем. Он был жалок. Прошло уже минут пятнадцать, и какие только девицы не появлялись за это время на площади, каких только не проехало карет, верховых лошадей, ведь каждая могла везти его богатую невесту! Наконец Дик собрался с духом и сделал героическую попытку отделаться от нас. — Нет, уж извините меня! — воскликнул он вне себя. — Я тороплюсь! — Он терял золотые минуты. Не могла же она подойти к нему, пока он стоял с нами. — Мои друзья, как видно, не придут. Я ухожу. Он слабо улыбнулся и пошел прочь, а Питер шел сзади и уговаривал его вернуться. Но Дик не хотел ничего больше слушать, и мы остались на месте свидания, насмешливо глядя ему вслед. Потом зашли в парк, сделали несколько шагов, уселись на скамейку, откуда вся площадь видна как на ладони, и стали делиться впечатлениями. Особенно разговорчив был Питер. Он задыхался от смеха. Потом, в половине восьмого, все еще продолжая хохотать, мы сделали вид, что собрались прогуляться, но через пять минут, словно передумав, повернули к выходу и наткнулись там на Дика; увидев нас, он шарахнулся в сторону. Вид у него был унылый. Даже трагический. Но Питера это не смущало — он хохотал до упаду, так, что другого на его месте, наверное, хватил бы удар. — О черт, — задыхался он. — Это слишком! Ой, не могу! Это великолепно! Несчастная наследница! Он опять вернулся! Ха, ха, ха! — Ну и собака же ты, — сказал я. — И не стыдно тебе издеваться над беднягой? — Ни капли, ни капли, — весело повторял он. — Ему это полезно. Почему бы ему не помучиться? Переживет. Он вечно пускает пыль в глаза, болтает о женитьбе на богатой. Теперь он в самом деле потерял богатую невесту. Ха, ха, ха! — и Питер хватался за бока. Он, наверно, еще с полгода смеялся, вспоминая об этой истории, но никому ни словом о ней не обмолвился. Сидит, рисует — и вдруг расхохочется, — и если кто-нибудь, даже сам Дик, спросит, над чем он смеется, отвечает только: — Да так, вспомнилось… славную шутку я раз сыграл с одним приятелем. Если Дик и догадался в конце концов, — он не подал виду. Потеряна такая любовь! Рассеялись такие надежды! Следующей зимой я уехал из Сент-Луиса и несколько лет не видел Питера; все это время я переезжал из города в город, пока, наконец, не обосновался в Нью-Йорке. Изредка мы писали друг другу, и в конце концов Питер начал сотрудничать в нью-йоркской газете, которую я редактировал, а потом, не без моего влияния, и сам перебрался в Нью-Йорк. Я заметил, что Питер никогда не мог сказать, в чем его призвание. Да это его и мало заботило, а каких только талантов у него не было: он и рисовал, и писал, и гравировал, и вырезал по дереву. — Не знаю, на чем остановиться, — сказал однажды Питер. — Может быть, в конце концов я стану художником, может быть, писателем, а может, и коллекционером — сам еще не знаю. Хочу учиться и зарабатывать на жизнь — больше пока мне ничего не нужно. Я живу и буду жить так, как мне нравится. Бывают люди, которые прекрасно знают города, или, вернее, все элементы, составляющие культуру города, — вот таков был и Питер. Иногда я думал, что он был рожден писателем с большим и ярким талантом, только не нашел себя. Я знал многих писателей, даже очень талантливых, но Питер никому из них не уступил бы ни в знании жизни, ни в богатстве воображения. Он был и поэт, и художник, и философ, и прекрасный прозаик, о чем красноречиво свидетельствует его посмертный роман «Волк. Автобиография пещерного жителя». Но он еще не мог тогда проявить себя полностью, и это его ничуть не тревожило. Питер страстно любил жизнь во всех ее проявлениях, умел веселиться сам и развеселить других, но он никогда не закрывал глаза на страдания и заблуждения людей; трагедию он чувствовал так же остро, как и комедию. Приехав в Нью-Йорк, он тотчас принялся подробно осматривать и изучать город: музеи и общественные здания, расположение улиц, политические учреждения; но потом вдруг решил, что здесь все не по нем, и, не прощаясь, не сказав ни слова, уехал; и долгие месяцы я о нем ничего не слыхал. Он решил, что сперва надо попробовать свои силы в городе поменьше, и не стал терять времени. Встретились мы снова в Филадельфии, где он устроился на хорошее жалованье в самую крупную газету. Лишь после того как Питер прочно обосновался в Филадельфии, мы начали понимать друг друга по-настоящему и на многое смотреть одинаково; не то что на первых порах, когда наша дружба была довольно легкомысленной и поверхностной. В Филадельфии мы особенно почувствовали, как сблизила нас совместная работа на Западе. Здесь я впервые убедился, что Питер, человек необычайно разносторонний, видит и понимает жизнь города во всем ее разнообразии, улавливает много такого, чего другой бы и не заметил. Где бы ему ни случалось бывать, он прежде всего подробно изучал прошлое города, всю его историю, осматривал старинные здания, памятники, кладбища; потом старался узнать получше нынешний облик города, его окрестности, реки, озера, парки (какие мы с ним совершали прогулки!), осматривал все достопримечательности, лучшие произведения современной архитектуры. Он живо интересовался и культурной жизнью каждого города, куда его забрасывала судьба, ходил по музеям, библиотекам, по букинистам, читал местные газеты и журналы. Это он привел меня в книжную лавку Лири в Филадельфии, расхвалив ее с обычным своим пылом. Наконец он всегда был в курсе всех местных дел, будь то политика, финансы или светские развлечения; впрочем, Питер любил говорить, что политика — это грязная игра, которая только и нужна, чтобы поддерживать порядок в низших классах. Он всегда предугадывал или узнавал какими-то таинственными путями все, что происходило в городе. Этот человек обладал таким блестящим и глубоким умом, что даже просто находиться рядом с ним было для меня наслаждение. Он не был спорщиком, но не уставал говорить обо всем, что знал, слышал, угадывал, предполагал, — казалось, его мысли и чувства так и рвались наружу. И они бывали порою столь ярки и неожиданны, что напоминали мне разноцветную мозаику из драгоценных камней. Я всегда знал, что он незаурядный человек, при этом он не был ни излишне сдержан, ни напыщен; жизнь била в нем ключом; он был мудр не по годам, кругозор его был необычайно широк, таланты разнообразны и многочисленны, и, быть может, именно поэтому ему не суждено было достичь вершин в мире, где все шло к узкой специализации, обусловленной чисто коммерческими соображениями. И все же я думаю, что Питер многого достиг бы, если бы захотел. Он так легко сходился с людьми из самых разнообразных кругов. Его живой ум, может быть, чересчур легко переходил от одного увлечения к другому, и, однако, он умел находить общий язык с самыми простыми, ничем не замечательными людьми. Он осуждал их за ограниченность и ханжество, и в то же время не без удовольствия жил их жизнью, и, кажется, ничего другого для себя не желал. А ведь его образ мыслей был с их точки зрения довольно опасным. Он смело и откровенно говорил среди друзей о вещах, о которых простой средний человек не мог и не стал бы рассуждать, а общепринятые истины он отбрасывал как пустые иллюзии, как ложь или хитроумную и бесчестную пропаганду. Он всегда осуждал ужасающую человеческую косность и силу предрассудков, поразительную способность цепляться за самые нелепые представления о жизни, и то простодушно, то яростно их отстаивать. Он часто говорил о роли слепого случая в нашей судьбе, о том, как случай разрушает наши мечты и нашу жизнь, как бессмысленно жесток и равнодушен он ко всему живому и прекрасному, но я никогда не замечал, чтобы Питера это удручало, мрачным мыслям он никогда не предавался. Когда же кто-либо принимался возражать ему, он метал громы и молнии. И без конца читал; читал книги по истории, археологии, этнографии, геологии, медицине; читал биографии, путешествия — и потом рассказывал о прочитанном, обо всем чудесном и неповторимом, что открывали книги в природе и человеке. Он мог без устали говорить о культуре и общественном устройстве Греции и Рима, начиная с шестого века до нашей эры, об античной философии, путешествиях, искусстве, о простом, естественном, языческом взгляде на вещи, и сожалел, что эти времена прошли. Порою он как будто даже горевал, что не жил в ту эпоху, и раз уж не довелось ему увидеть своими глазами древний мир, он жадно разыскивал осколки погибшей цивилизации, словно боясь, что не успеет увидеть всего. И с грустью и нежностью рассматривал он в музеях образцы искусства, которые оставили нам египтяне, греки, римляне: чертежи или рисунки их жилищ и общественных зданий, античную скульптуру, светильники, корабли, мечи, колесницы, надписи, свитки и папирусы. Он просто бредил Карфагеном, Римом, Грецией, Финикией, его занимало все: их искусство, колонии, торговля, как тогда жили и развлекались люди, во что веровали. Такие книги, как «Таис», «Саламбо», «Камо грядеши», до глубины души волновали его. У Питера был необычайно широкий круг друзей. Тут были посредники по продаже недвижимости, конторщики, банковские служащие, владелец кожевенной лавки или табачной фабрики в деловой части города, коммивояжер, наборщик, два-три газетных иллюстратора и репортера — всех их слишком долго перечислять, да и не к чему: все это были люди заурядные, ничем не примечательные. Питера же связывала со всеми этими людьми самая теплая, сердечная дружба. Они были для него, так сказать, питательной средой, он чувствовал себя своим в их кругу, — я же не мог этого понять и завидовал Питеру, потому что был нелюдим и не умел принимать жизнь так, как он. Он искал их дружбы и умел ее завоевать. Он так же охотно и просто принимал участие в доступных им занятиях и развлечениях, как занимался тем, что интересовало и развлекало его самого. В этой компании Питер обычно и веселился вместе с какими-нибудь девушками — продавщицами или маникюршами; они устраивали вечеринки с танцами в доме у какого-нибудь скромного обывателя, обеды, пикники; флиртовали, катались на лодках, ловили рыбу, иногда ездили в ресторан, в театр, и прочее, и тому подобное. Питер немного пел (у него был довольно приятный баритон), играл на фортепьяно, на кларнете и флейте, на банджо, мандолине и гитаре, но уверял, что его любимые инструменты — губная гармошка и гребенка с бумажкой, в которую он дул с неистовой энергией, извлекая из нее самые дикие звуки, пока все не начинали умолять его, чтобы он перестал. На вечеринках Питер больше всех шумел, суетился, танцевал, готовил какие-то особенные лакомства: шоколад, конфеты, гренки с сыром, — и при этом с комической серьезностью требовал, чтобы ему не мешали. — Ну-ка, убирайтесь все отсюда и предоставьте остальное мастеру. Кто тут повар — я или вы? Вот и отстаньте. Дайте мне только какао, сахар, миску, большую ложку, и я угощу вас такой штукой, что вы пальчики оближете. — Он подвязывал фартук или просто полотенце и принимался за стряпню с таким видом, что в любой компании сразу исчезала натянутость и все начинали чувствовать себя просто и весело. Да, Питер умел расшевелить людей. Он всех заражал своей добродушной веселостью. Умный, хоть и некрасивый, он очень нравился женщинам и был далеко не равнодушен к их красоте. Ему ничего не стоило сломить их сдержанность, и вскоре они были уже приятелями, обменивались новостями и безобидно сплетничали о своих знакомых. Он был всеобщий любимец и притом со всеми одинаково хорош, — не верилось, что он может быть близок с кем-нибудь по-настоящему, но и так бывало. Иной раз в минуты откровенности он рассказывал мне, как провел вечерок. — Эх, Драйзер, — говорил он, — я отыскал такую красавицу! Я не могу сказать, кто она, но это чудо, а не женщина! Как раз то, что мне нужно. Этот старый мир не так уж плох, а? Давай-ка еще выпьем. — Он заказывал кружку светлого немецкого пива и осушал ее, улыбаясь, как старый фавн. Когда он жил в Филадельфии, началась очаровательная и наивная любовная история, превратившая Питера в самого идеального семьянина, какого я когда-либо встречал. Он рассказывал мне, как однажды субботним вечером, года через два после переезда в Филадельфию, он проходил по одному дальнему заводскому району Северной стороны и среди детей, играющих на улице, увидел девочку лет тринадцати. — Черт возьми, — рассказывал Питер, — я в жизни не видал более очаровательного существа. Золотые волосы, короткое голубое платьице и розовые банты в волосах… Знаешь, Драйзер, я как увидел ее, так и застыл. Вот это то, что мне надо, хотя бы мне пришлось ждать пятнадцать лет! Немочка — ну просто загляденье! А бедная какая, башмаки на деревянной подошве. И даже еще не умела говорить по-английски. Другие дети тоже не умели. В том квартале жили одни немцы. Что ж, я смотрел, смотрел на нее, а потом подошел и сказал: «Послушай, девочка, где ты живешь?» Она не поняла. Кто-то из детей перевел ей, она ответила по-немецки: «Я не знаю по-английски». Тут я совсем голову потерял. Другие под конец объяснили мне, кто она и где живет. И вот, веришь ли, я пошел домой и засел за немецкий. Через три месяца я уже мог кое-как изъясняться, но еще раньше, недели через две после того как ее встретил, я разыскал ее отца и объяснил ему, что хочу бывать у них в доме, чтобы изучить немецкий. Я ходил к ним по воскресеньям, когда все были дома. В семье было шестеро детей, я со всеми подружился. Долгое время я не мог добиться, чтобы «девочка» (ее так и звали в доме) поняла, в чем дело, но теперь она уже знает. Я без памяти влюблен. Как только она станет постарше, я женюсь. — Откуда ты знаешь, что она согласится выйти за тебя? — спросил я. — Согласится! Я говорю ей, что мы поженимся, когда ей будет восемнадцать, и она говорит — хорошо! Я, кажется, ей нравлюсь. А я влюблен без памяти. Забегая вперед, скажу, что через пять лет Питер переехал в Ньюарк, неплохо устроился там в газете и смог привести в исполнение свои планы: он немедля съездил в Филадельфию и женился. Квартира в Ньюарке была уже приготовлена, Питер надеялся, что угодит ею своей молодой жене. Это был счастливый брак: они любили друг друга, и в доме у них было мирно и уютно. Мне не случалось видеть более счастливой семьи. Я пишу все это и чувствую, что мне не удается передать живой облик Питера, полнокровного и разностороннего человека. Питер находил радость и в простых, будничных вещах — в той самой прозе жизни, которая многих отталкивает, — и во всем, в чем проявляется человеческий ум, талант и мастерство и что не стоит при этом больших денег; он покупал старинные книги, гравюры и всякую всячину, имеющую какой-нибудь исторический или научный интерес, он увлекался прикладными искусствами, ему было интересно все: как обжигают и окрашивают глину и стекло, как плетут корзины и гамаки, как ткут ковры, как вырезают по дереву; он собирал японские и китайские гравюры и копировал их; с увлечением изучал египетский способ бальзамирования и даже вместе со своим приятелем-гробовщиком попытался возродить это искусство, превратив в мумии двух дохлых кошек. И в каждом деле Питер пытался достичь мастерства и достигал его, хотя всегда повторял, что он лишь жалкий подражатель настоящих мастеров. Но больше всего он увлекался китайскими и японскими изделиями: он собирал резные украшения, шкатулки, курильницы, фарфоровые и нефритовые статуэтки, чашки, вазы, гравюры. И в то самое время, когда он развлекался в Филадельфии с веселой компанией, о которой я уже говорил, и ухаживал за своей юной немочкой, он обегал все музеи и положил начало своим коллекциям, — позже он любил показывать их друзьям и знатокам. Когда он стал в Ньюарке ведущим карикатуристом крупнейшей местной газеты, у него уже был весь Токайдо (сорок пейзажей — все виды дороги из Токио в Киото), множество гравюр Хокусаи, Сесшиу, Сойо, коллекция из ста inros, пятьдесят резных брошек, около тридцати курильниц, лакированные шкатулки, чашки и другие изделия редкой красоты и ценности, среди них даже одеяние мандарина. Позже Питер продавал коллекции или обменивался со знакомыми коллекционерами. Я помню, как он продал за тысячу с лишним долларов свою коллекцию картин Токайдо, — он собирал ее более четырех лет. Незадолго до своей смерти он обменивал броши на шкатулки и хотел всю свою коллекцию продать через какого-то посредника в музей. И вместе с тем его могли занимать самые обычные развлечения: игра в шары, гольф, биллиард, теннис, даже карты и кости; меня всегда поражало это в Питере — ведь у него было столько других интересов, — и, однако, иной раз он играл в карты или кости с азартом одержимого, а в другие дни, казалось, и не вспоминал о них. Чем бы ни увлекся Питер, можно было не сомневаться: он достаточно владеет собой, чтобы не зайти слишком далеко, и сумеет вовремя остановиться. Однако пока шла игра и длилось увлечение, каково бы оно ни было, Питер казался ненасытным, неукротимым; он отдавался мгновению всей душой, и человек, мало с ним знакомый, мог принять его за маньяка. Помню, однажды я приехал к нему в Филадельфию, чтобы провести вместе субботу и воскресенье, — мы часто навещали друг друга. Он жил в меблированных комнатах средней руки на Четвертой Южной улице; там жил и кое-кто из его приятелей, другие навещали их; когда бы я туда ни пришел, игра бывала уже в разгаре; я не видел в этом ничего дурного, просто здесь умели жить и развлекаться. Сбросив пиджаки, засучив рукава, если это было летом (а нередко и зимой), вокруг стола сидели или стояли с десяток игроков в покер или в кости. Питер среди них — самая яркая фигура. На столе или где-нибудь под рукой — деньги, коробки папирос, сигары, кувшин, а то и целый жбан с пивом. Питер ни минуты не сидит спокойно — он красен, возбужден, глаза блестят, волосы взъерошены, воротничок расстегнут; он то закуривает сигару, то наливает пиво и, размахивая руками, кричит во все горло: — Моя взяла! А я говорю, не выйдет! Два на шесть! Три! Четыре! Давай бросай кости! Ну-ка, бросай кости! Снимай! Выкладывай, Спайк! У тебя есть сейчас деньги, плати. Не заплатишь — больше в долг не поверю. Один на четыре, на пять — очко! Бросай кости! Давай, давай! — Увидев меня, он немного успокаивался и понижал голос: — Ух, Драйзер, я уже набрал двадцать восемь! — Или: — Я уже проиграл тридцать, черт возьми. Но я все равно еще поставлю, была не была. Проиграю или выиграю еще пять — и на этом кончу. Понимаешь? Эти чертовы плуты всегда стараются смошенничать! А когда проигрывают, не хотят платить. В жизни не сяду больше играть с такими жуликами! В комнате с ними бывали и девушки — сестра, подруга кого-либо из играющих, — они танцевали, играли на рояле, пели; тут были и хозяева — какая-нибудь невзрачная пара, прошлое и настоящее которой всегда, видимо, хорошо было известно Питеру. Он был душой этих сборищ, просто удивительно, как он умел вносить в них дух бесшабашного, дружного веселья. Я глядел на него и с восхищением и с завистью, — уж больно унылой и пресной казалась мне в такие минуты моя собственная жизнь, мои мысли и желания. В Питере же, в его энергии и жизнерадостности было что-то сильное, широкое, язычески здоровое. Он играл во все, в любые игры и где придется — под открытым небом и в доме. Выбьется из сил и тогда только отбросит то, что было в руках — будь то карты, клюшка для гольфа, теннисная ракетка, — и скажет: — Довольно! Хватит. Я уже совсем выдохся. Хватит с меня. Больше не могу. Ни одной партии. Пошли, Драйзер, я знаю одно такое местечко… — И, с упоением вспоминая о шашлыке или жаренной во фритюре рыбе, о приготовленном особым способом сладком корне или кукурузе, или помидорах, он вел меня в какую-нибудь свою любимую «обжорку», как он, бывало, говорил, или шашлычную, или в китайский ресторанчик и, если его не удержишь, заказывал столько еды, что хватило бы на четверых. По дороге — а он всегда предпочитал ходить пешком — он успевал поговорить и о последнем политическом скандале, и о новом научном открытии, и о недавнем трагическом случае, и об искусстве — ничто не ускользало от его внимания. Когда я бывал с Питером, весь мир для меня преображался, жизнь казалась более красочной, более веселой и увлекательной. Словно передо мной распахивались настежь двери и воображение мое проникало в новые для меня миры и мирки: чужая семейная жизнь, фабрики, лаборатории, игорные дома и притоны. В то время самыми популярными фигурами были такие люди, как Маккинли, Теодор Рузвельт, Ханна, Рокфеллер, Роджерс, Морган, Пири, Гарриман; их деятельность, их взгляды и цели, их искренность или лицемерие Питер подвергал блестящему анализу. Мне кажется, он оправдывал и даже одобрял трезвый оппортунизм в государственном деятеле, если это не было следствием низкого образа мыслей, но меркантильность таких людей, как Маккинли, возбуждала в нем негодование и даже презрение, — правители не должны опускаться до торгашества. Однажды я спросил его, почему он не любит Маккинли, и Питер коротко ответил: — Маккинли болтает, а Ханна загребает. — Над Рузвельтом Питер всегда посмеивался, считая его забавным эгоистом и самовлюбленным позером. — Ничего не скажешь, — говорил Питер, — Тедди умеет рекламировать себя. Но для Америки он полезен, он открывает перед ней широкие перспективы. — Рокфеллером Питер восхищался, как двигательной силой, толкающей Америку к автократии, олигархии, а может быть, и к революции. Впрочем, и Ханна, и Морган, и Гарриман, и Роджерс приведут к тому же, если их не обуздать. Пири, может быть, открыл северный полюс, а может быть, и нет, — об этом Питер не брался судить. Но старый плут Кук, попытавшийся незадолго до смерти присвоить себе честь этого открытия, очень веселил Питера. — А датчане еще нацепили на него венок из роз! Это великолепно, Драйзер, это грандиозно. Мюнхаузен, Кук, Гулливер, Марко Поло — они бессмертны, они созданы для бессмертия. По субботам или воскресеньям, если мы проводили их вместе, мы отправлялись куда-нибудь за город, сначала трамваем, или поездом, или пароходом, а потом пешком; а иногда, если была охота, мы от самого дома шли пешком и вели длинные беседы. Тут-то Питер показывал себя во всем блеске. Он так хорошо знал жизнь, так интересно говорил о природе, о ее жестокой, загадочной красоте, что я мог слушать его без конца, как, должно быть, когда-то ученики слушали Платона и Аристотеля. Однажды мы бродили с ним вдоль узенькой бухточки, где-то в окрестностях Камдена; через бухточку был перекинут мост, а под ним стояли рыбачьи лодки. Как раз когда мы проходили по мосту, внизу кто-то с лодки увидел утопленника, вероятно, самоубийцу; видно, тело пробыло в воде не один день, но не было обезображено, только посинело. Судя по одежде, утопленник был человек с некоторым достатком. Меня мутило от одного вида мертвеца, и я тянул Питера прочь. Но не тут-то было. Ему непременно надо было помочь вытащить тело на берег; не успел я оглянуться, как он уже был среди лодочников и вместе с ними горячо обсуждал вопрос о том, кто этот человек и почему он утонул. Потом Питер предложил им обыскать карманы утопленника, пока кто-нибудь сходит за полицией. Но, главное, ему не терпелось порассуждать о том, что человек всего-навсего соединение хлора, серной и фосфорной кислоты, калия, натрия, кальция, магния, кислорода, и о том, какие из этих составных частей окрашивают разлагающуюся плоть в зеленые, желтые или бурые цвета. Питер был реалист, не боялся прямо смотреть на вещи с суровой, но, по-своему, очень человечной пытливостью. У меня этого мужества не было. Питер же все мог переварить. Его не смущало, что тело утопленника уже становилось добычей червей. Питер с увлечением говорил и о них, об их назначении и обязанностях. Он смело утверждал, что человек в лучшем случае — всего-навсего химическая формула, что его создала сила несравненно более разумная, чем он, — для каких-то своих, может быть, и не очень высоких целей. И какова бы она ни была, эта сила, что бы она собою ни представляла, она и не добра и не зла в том смысле, как мы это понимаем, но соединяет в себе и то и другое. И тут он сел на своего конька и пустился в мистику: рассказывал о прорицаниях халдеев, как они гадали по звездам и по внутренностям мертвых животных, прежде чем отправиться в поход, о варварских фетишах африканцев, о хитрых фокусах греческих и римских жрецов и, наконец, сообщил мне об одном предприимчивом рыботорговце, который привязал под водой дохлую лошадь, чтобы каждое утро иметь для рынка побольше угрей. В конце концов я возмутился и сказал, что все это омерзительно. — Друг мой, — возразил он, — ты слишком чувствителен. Нельзя так смотреть на жизнь. Для меня она хороша, несмотря ни на что. Такова она есть, и мы ей не хозяева. Зачем же бояться правды? Химия человеческого тела ничуть не хуже любой другой, и едим же мы трупы животных, которых сами убиваем. Немного больше или немного меньше жестокости — какая разница? В другой раз, и, конечно, чтобы поддразнить меня, он рассказал, что однажды в каком-то захудалом китайском ресторанчике ему подали рагу, и он обнаружил в нем и съел кусочек детского мизинца. — И это было очень вкусно, — добавил он. — Чудовище! — возмущался я. — Свинья! Людоед! — Но он только хохотал в ответ и уверял, что это чистая правда! Однако вспоминаю я об этом только потому, что мне хочется нарисовать во всей полноте этот своеобразный, порой казавшийся мне просто неправдоподобным характер. Несмотря на весь свой цинизм, он неизменно оставался отзывчивым и сердечным, и столько в нем было тепла и такта, что в любом обществе он сразу становился своим. Он знал, кому и что можно сказать, и никогда никого не задевал неосторожным словом. Через минуту после вздора о рагу он уже рассказывает о тайнах цветочного опыления, о средневековых цеховых корпорациях, или вдруг залюбуется пейзажем, и, глядя на Питера, я сам невольно заражался его невысказанным волнением — так глубоко он чувствовал красоту. Питер прожил в Филадельфии года два-три — этот город уже был для меня неотделим от его вкусов и настроений, — но потом вдруг переселился в Ньюарк; оказалось, он давно уже вел переговоры с самой крупной ньюаркской газетой. Он не поладил с редактором своего отдела в Филадельфии и, недолго думая, уехал, оставив на столе записку с едкой цитатой из какого-то поэта. В Ньюарке — городе, который для меня до тех пор просто не существовал, он чувствовал себя прекрасно, и я, живя по соседству, в Нью-Йорке, тоже был на верху блаженства. В заштатном фабричном городе Ньюарке насчитывалось всего тысяч триста жителей, и казалось, что там может быть интересного? Но там жил Питер, и этот городок сразу предстал для меня в новом свете. Питер тотчас нашел там удивительной красоты канал, — он проходил через центр города возле самого рынка; мы часто гуляли по берегу канала, уходили далеко в поле, в лес. В одном из тихих переулков он нашел или выкроил из какого-то пансиона такое уютное и приветливое жилье, что оно показалось мне даже лучше, чем его филадельфийская квартира. Питер записался в члены загородного клуба на реке Пассаик, и мы не раз там обедали на террасе. Он отыскал в городе китайский квартал с двумя-тремя ресторанами; очень живописный итальянский квартал, где тоже имелся ресторан; среди новых знакомых Питера были: аптекарь психиатрической больницы, обладавший коллекцией японских и китайских редкостей стоимостью в сорок тысяч долларов; нью-йоркский режиссер, который и сам писал пьесы; владелец газетного синдиката; председатель общества любителей пения; председатель стрелкового клуба; хозяин гончарной мастерской. Питер был неутомим, жизнь била в нем ключом, и одно увлечение сменялось другим. Вдруг он увлекся керамикой, сам делал и обжигал фарфор, ему хотелось скопировать те изумительные китайские тарелки и вазы, которые он видел в Государственном музее искусств. Он снимал узор, покупал или сам обжигал в какой-нибудь гончарной тарелку, покрывал ее глазурью и снова обжигал. С полгода он работал дома по субботам и воскресеньям, а иногда и по утрам, перед тем как идти в редакцию, и, наконец, смастерил три или четыре тарелки, которыми сам остался доволен; они и в самом деле были великолепны, и он сохранил их. Остальные раздарил. А немного погодя — не угодно ли — он принялся за турецкий коврик; он уже давно исподволь приготовил пяльцы и шерсть. И вот Питер обзавелся подушкой с турецким узором, сел перед ней, скрестив ноги, и начал медленно, но верно выделывать ковер. Мне понравились и рисунок и цвета. Работа эта — кропотливая, нудная, да и заниматься ею Питер мог только на досуге и только днем: он уверял, что подбор цветов требует самого яркого освещения. Бывало, он сидит на полу, поджав ноги, или иногда на скамеечке перед своим грубым самодельным станком, состоявшим из деревянных планок и веревочек, и чем-то постукивает, что-то подхватывает, связывает, распутывает, — мне казалось, нет на свете занятия скучнее. — Ради всего святого, — сказал я однажды, — неужели ты не мог помешаться на чем-нибудь поинтереснее? Более унылой и канительной работы я в жизни своей не видел. — Потому-то она мне и нравится, — отвечал он и, не взглянув на меня, продолжал все так же усердно ткать. — У тебя, Драйзер, есть один большой недостаток: ты не умеешь извлекать удовольствие из малого. Не забывай, то, что я делаю, — это искусство, а не труд по обязанности. Мне любопытно проверить, сумею я выткать турецкий ковер или нет. И это мне нравится. Если у меня получится хоть одно яркое пятно, хоть уголок узора — с меня довольно. Значит, я могу сделать весь ковер, понимаешь? Ведь на один такой ковер иной мастер тратил всю жизнь. Ты считаешь, что я занимаюсь пустяками. Вовсе нет. Тут не ковер дорог, дорого доказать самому себе: вот я могу это сделать! — И, в высшей степени довольный собой, Питер продолжал постукивать и связывать. Со временем он действительно выткал три или четыре дюйма мягкой, но плотной и вместе с тем шелковистой ковровой ткани. И как же он ликовал! Всем показывал свое изделие и уверял, что, когда закончит его (через сколько же это лет, хотел бы я знать?), у него будет великолепный ковер. В то время у него в Ньюарке составился круг друзей, и я думал, что это уже надолго. Он всей душой отдавался своей работе в газете, и, хотя был только карикатуристом, его влияние чувствовалось во всех отделах, и его неутомимая предприимчивость воодушевляла всех сотрудников. Издатель газеты, главный редактор, заведующий отделом иллюстраций, заведующий редакцией, заведующий хозяйственной частью — все были его друзьями. Он застраховал свою жизнь в пользу будущей жены и детей. С заведующим цинкографией он рассуждал о клише и шрифтах, с фотокорреспондентом — о художественной фотографии, с иллюстратором — о том, как расширить местный музей. Очень скоро здесь вовсю дало себя знать его пристрастие к нелепым выдумкам — он затеял глупейшую мистификацию и одурачил население по меньшей мере четырех штатов, — ее подхватили все воскресные газеты, а под конец Питер сам выступил в этой комедии как режиссер и блестящий актер. И все это — потехи ради, чтоб показать, как часто говорил Питер, что он и такое может. Дело в том, что Питер выдумал что-то вроде старого буки, которым нас пугали в детстве: будто откуда-то явился дикарь и бродит вокруг — свирепый, кровожадный, страшный. Впервые я услыхал об этом как-то в воскресенье, года через два после переезда Питера в Ньюарк. Мы гуляли с ним за городом, и вдруг ни с того ни с сего он сказал: — Слушай, Драйзер, меня недавно осенила блестящая идея, и мы в газете все думаем, как ее осуществить. Это старый, затасканный трюк, но он пройдет, как и любой вздор, лучше, чем что-нибудь дельное. Я решил изобрести дикаря. Ты же знаешь, как обыватель любит все необычайное, сверхъестественное, жуткое? Барнем был совершенно прав. Дураков не сеют, — они сами родятся. Вот я и готовлю эту штуку для дураков. Она не хуже священного белого слона или гиппопотама, выделяющего кровь вместо пота. Я собираюсь разыграть ее именно здесь, в нашем богоспасаемом Ньюарке, — и уж будь уверен, тут все попадутся на удочку, непременно! — и он расхохотался. — О господи, что ты еще придумал? — спросил я с горестным вздохом. — Ну, ладно, ладно. Теперь уже все дело на мази. Мы будем теперь каждые три-четыре дня давать первые телеграммы — одну, скажем, из Рамблерсвилля, в Южном Джерси, другую дня через четыре из Хохокеса, на двадцать пять миль дальше. Мы постепенно к весне передвинем его на север — прямо сюда, в Эссекский округ. Это будет настоящий дикарь, понимаешь, — злобный, страшный. Он у нас будет покрыт длинной шерстью, как бизон, глаза налиты кровью, руки и ноги огромные, и на них — когти. Он совершенно голый или станет голым, пока попадет в Ньюарк. Он восьми футов ростом. Он убивает и пожирает лошадей, собак, коров, свиней, кур. Приводит в ужас мужчин, женщин, детей. Он носится по пустынным дорогам, заглядывает по ночам в окна, обращает в паническое бегство стада, устрашает бродяг и торговцев вразнос. Вот подожди, увидишь. Летом мы будем сообщать о нем сенсационными заголовками, в воскресных выпусках посвятим ему целые полосы. Мы заставим простофиль охотиться за ним, предложим денежное вознаграждение за его поимку. Может быть, где-нибудь действительно изловят какого-нибудь несчастного безумца. Наша публика чему угодно поверит, если ее как следует раззадорить. — Да ты сам сумасшедший! — смеялся я. — Шут гороховый! Но вот прошла неделя, другая, и Питер уже посылает мне газетные вырезки — телеграфные сообщения о проделках своего лесного жителя, да не откуда-нибудь, а из таких почтенных органов, как нью-йоркский «Солнце и мир», филадельфийский «Североамериканец», хартфордские «Куранты». То тут, то там, особенно в восточных штатах, стали появляться довольно пространные сообщения с описанием подвигов этого неуловимого дьявола. За один месяц его видели в десяти разных местах, довольно отдаленных друг от друга, но он неуклонно двигался к северу. В одном месте он убил сразу трех коров, в другом — двух и пожирал мясо сырым. Старушка Горсуич из Датчерс Ран (округ Осгорула, штат Пенсильвания), возвращаясь от своей невестки Энни Горсуич, потихоньку плелась по пустынной дороге, как вдруг на нее набросилось страшное чудовище, получеловек, полузверь, громадный, весь обросший рыжими волосами; алчные, налитые кровью глаза так и впились в нее; он уже готов был схватить свою жертву, но в это время загромыхал ехавший навстречу фургон, и чудовище убежало, а м-с Горсуич осталась лежать на земле в обморочном состоянии. То тут, то там вспыхивали стога и амбары; одинокие вдовы, живущие где-нибудь на отшибе, в страхе покидали свои дома… Я читал все это и дивился упорству и терпению мистификатора. Помнится, в июне или в июле я был в Ньюарке и мимоходом спросил Питера, как поживает его одичавший человек. Он ответил: — Великолепно! Лучше некуда! Все уже устроено. Скоро он будет здесь, в ближайшую субботу или воскресенье, смотря по тому, когда я смогу освободиться; мы собираемся сфотографировать его. Хочешь приехать посмотреть? — Что за чертовщина! — изумился я. — Кто будет его изображать? Где? Питер усмехнулся: — Приезжай и увидишь. Мы нашли настоящего дикаря. Это я его отыскал. Я поймаю его тут в лесу. Приезжай и посмотри, если не веришь. Вот ты не верил, когда я говорил, что одурачу обывателей, а я своего добился. Взгляни-ка, — и он показал мне вырезки из газет-соперниц. Сообщалось, что дикаря видели в Эссекском округе, меньше, чем в двадцати пяти милях от Ньюарка. В пяти соседних штатах пострадало имущество многих граждан. Высказывалось предположение, что дикарь — это помешанный, сбежавший из сумасшедшего дома; другие утверждали, что он бежал из цирка или с торгового корабля, потерпевшего крушение у берегов Джерси (эту мысль подсказал сам Питер). Дикарь уже нанес жителям убытков в общей сложности на тысячи долларов. Даже самые почтенные граждане забеспокоились. Повсеместно было объявлено вознаграждение за поимку дикаря. Разъяренные фермеры, вооруженные до зубов, соединялись в отряды, полные решимости схватить его во что бы то ни стало. В любую минуту можно было ожидать каких-нибудь чрезвычайных происшествий… Я читал вырезки и глазам своим неверил. Это было слишком нелепо, и за всем этим стоял ухмыляющийся, хохочущий Питер — душа этой дурацкой затеи. — Ах ты, негодяй! — твердил я. — Шут гороховый. — А он только посмеивался. Чтобы не пропустить такую сенсационную развязку, как поимка чудовища, я в следующее воскресенье ни свет ни заря отправился в Ньюарк, Питер был дома; в комнатах — кавардак, сам он засовывал в саквояж какие-то вещи. У подъезда его ждали в автомобиле фотограф редакции и еще несколько человек — все очень весело настроены: они собрались помогать Питеру выследить дикаря, устроить на него облаву и, если удастся, сфотографировать его. — Все это прекрасно, но кто будет изображать дикаря? — добивался я. — Ну, ну! Не будь таким любопытным, — смеялся Питер. — И у дикаря есть свои права и привилегии. Еще раз всех предупреждаю — относитесь к нему с уважением. Он очень обидчивый и репортеров-то, во всяком случае, не жалует. Мы его сфотографируем — и это будет самый настоящий дикарь. Чего вам еще? Но вот мы приехали к месту съемки. Место выбрали самое подходящее: уединенный живописный уголок на берегу Морисского канала, близ Бунтона; преследователи группами рассеялись по лесу и осторожно выглядывали из-за деревьев, горя нетерпением выследить свою необычайную дичь. Здесь-то и был сделан моментальный снимок. Затем Питер куда-то исчез, и вот вижу, он идет к нам, волосы дыбом, все тело вымазано чем-то черным, только вокруг глаз белые мазки, на запястьях, на лодыжках, на бедрах торчат клочья шерсти — поистине одичавший человек, лучше не надо, только роста до восьми футов не хватало. — Питер! — сказал я. — Это нелепо! Ты с ума сошел! — Осторожнее выбирай слова, когда говоришь со мною, — промолвил Питер с достоинством. — Ведь я дикарь. С нашим братом лучше не шутить. Я потомок старейшего, славного племени. Ты меня не тронь. — И он важно, как заправская кинозвезда, прошествовал через лужайку, чтобы обсудить с художником и фотографом, в каких позах снять дикаря, не замечающего своих преследователей, чтобы вышло и страшно и правдоподобно. — Но где же рост в восемь футов? — не выдержал я. — Пустяки, пустяки, — беззаботно отвечал Питер. — На фото выйдут все восемь футов. Нет ничего проще. Видишь ли, мы, дикари… Некоторые снимки получились великолепны — от них прямо дух захватывало. Дикарь то злобно скалился, то хитро или испуганно выглядывал из-за листвы. Питер был превосходный актер. У меня, кажется, и сейчас еще где-то хранится полный набор этих снимков вместе с номером газеты, вышедшим через неделю; дикарю в нем была посвящена целая полоса. Конечно, снимки произвели должное впечатление, но, увы, опасения оправдались — дикарь исчез. Воды канала смыли внушаемый им ужас, а вернее — он скрылся в тайниках памяти Питера. Газеты еще несколько раз о нем упомянули, потом из какого-то города на северо-востоке Пенсильвании сообщили по телеграфу, что найден, по-видимому, труп этого самого дикаря. А Питер появился то ли из глубины канала, то ли с берега, если и не с чистой совестью, то, во всяком случае, чистенький и аккуратный, как ни в чем не бывало. Он смеялся, приглаживал волосы, поправлял галстук. — Ну и сумасброд! — восхищался я. — Ты неисправимый жулик. — Ничего подобного, Драйзер. Брось ворчать, — смеялся в ответ Питер. — Я всеобщий благодетель, а не жулик. Я творец. Я ведь сотворил необычайное существо, и оно живет в умах людей, и в твоем сознании, и в моем. Ты же и сам поверил в него. Вот только четверть часа назад он выглядывал из-за этих кустов. Он развлекал тысячи людей, радовал их, волновал. Стивенсон сотворил своего Джекила и Хайда, почему бы мне не сотворить дикаря? Я и создал его. Вот его фотографии. Чего же тебе еще? Пришлось согласиться. Это была блестящая мистификация, и Питер разыграл ее мастерски: тут он был в своей стихии. После этого он как будто успокоился на время; но теперь им все сильнее стала овладевать мечта о женитьбе, о семье, о детях. По тому, что я рассказал о Питере, он может показаться человеком, презирающим все будничное, житейское. На самом деле Питер был совсем не таков. Несмотря на крайность некоторых своих взглядов, он сознательно, страстно тянулся к обыденным радостям жизни. Он хотел для себя жизни деятельной, светлой, но простой и здоровой. Он не искал утонченности; недаром он так увлекался прикладными искусствами. Бакалейщик, парикмахер, трактирщик, портной, сапожник, — если только они были мастерами своего дела, — всегда вызывали в Питере интерес и теплое участие. Он уважал их занятия, их ремесло, умение и особенно — в тех, кто обладал этими качествами, — трудолюбие, трезвость, честность. Он считал, что, как ни тяжела их жизнь, миллионы людей, и прежде всего те, кто окружает его, добросовестно стараются делать свое дело как можно лучше. Он не выносил бездельников, людей тупых, скучных; мошенник или вор был ему так же противен, как и праведный ханжа и педант. Он не любил ничего напыщенного и показного. Маленькие домики с палисадниками и крылечками, привычный уклад жизни, чистота и порядок — вот что, казалось, больше всего пленяло Питера. Он уверял, что этого довольно. На что человеку жить во дворце, если он не занимает высокого поста и не обязан устраивать у себя приемы? — Вот, Драйзер, — говорил он, бывало, еще в Филадельфии и Нью-Йорке и даже еще раньше, — именно так я буду когда-нибудь жить. У меня будет моя маленькая фрау, семеро ребят, куры, собака, кошка, канарейка — все как в добропорядочном немецком доме, — свой садик, курятник, своя любимая трубка, а по воскресеньям, вот увидишь, буду шествовать во главе своего семейства в церковь! Башмаки у ребят должны быть начищены, у девчонок в косичках — ленты, — все как полагается. — Э, брось болтать, — говорил я. — Вот подожди, увидишь. Что может быть на свете лучше домашнего очага? Человек должен жить и умереть в лоне семьи. Это единственно правильное. Ты не смотри, что я сейчас бешусь, отдаю дань молодости. Я просто готовлюсь к тому, чтобы стать настоящим добропорядочным семьянином. Только так и надо жить. Это закон природы. Наши мальчишеские похождения — дело временное. Это нужно только, пока ищешь, выбираешь себе подходящую жену. Это проходит с годами. Каждый человек, если ему не грош цена, должен найти женщину, с которой он мог бы прожить всю жизнь. На этом держится мир, тот мир, в котором нам приятно жить. И мы все в душе стремимся к этому. Это в духе нашей цивилизации — каждый должен найти себе жену и остепениться. Когда я женюсь, не будет больше ночных похождений то с одной, то с другой. Я буду образцовым мужем и отцом, вот не сойти мне с этого места! Да, да. Можешь не улыбаться. У меня будет свой дом, сад, добрые соседи. Ты будешь приходить к нам и нянчить наших детишек. — О боже, новое помешательство! Любопытно, долго ли ты будешь бредить этим раем в шалаше. — Ладно, ладно. Смейся, сколько тебе угодно. Потом сам увидишь. Время шло. Питер жил все в том же водовороте увлечений. Но нет-нет, а возвращался к мысли о женитьбе. Однажды, правда, мне показалось, что со светловолосой девочкой из Филадельфии покончено. Он вспоминал о ней все реже и реже. Как-то в загородном клубе, играя в гольф, он познакомился с одной из развлекающихся там девиц. Я видел ее. Это была вполне современная молодая особа — недурна собой, лицо несколько чувственное, изящная, мила в обращении, не очень образованная, но веселая и неглупая; словом — не хуже других. Одно время Питер, казалось, сильно увлекся ею. Она немного музицировала, танцевала, хорошо играла в гольф и теннис. Питер ей как будто очень нравился, по крайней мере она это показывала. А он в конце концов признался мне, что влюблен в нее. — Значит, с Филадельфией покончено? — спросил я. — Мне очень стыдно, — отвечал он, — но боюсь, что это так. У меня скверно на душе, я ведь еще не совсем потерял совесть. Больше мы об этом не говорили. У него была тогда новая причуда — он коллекционировал кольца и, точно индусский раджа, набрал целую шкатулку и предложил своей пассии выбрать те, которые ей понравятся. Вдруг он заявил мне, что все это кончилось и он женится на девушке из Филадельфии. Бриллиантовый перстень, который он подарил своей недавней возлюбленной в знак помолвки, он, сняв с ее руки, выбросил в водосточную канаву. Сначала он не хотел говорить мне, что же произошло, но мы были слишком дружны, чтобы он мог долго молчать. О своей мечте обзавестись женой и детьми и стать добропорядочным семьянином Питер говорил не только мне. Он посвятил в это и свою новую возлюбленную, и она, видимо, отнеслась к его планам сочувственно. Но вот однажды, когда он уже подарил ей кольцо, кто-то из его партнеров по гольфу раскрыл ему глаза: девица его обманывает! Она была близка с другими мужчинами, и по крайней мере одна из этих связей еще продолжается. Позднее эта особа уверяла, что не на шутку была влюблена в Питера и хотела начать с ним новую жизнь; но она не окончательно порвала с прошлым, а если и порвала, никто в это не верил. Нашлись люди, которые с фактами в руках обвиняли ее. Извлекли на свет какую-то компрометирующую ее записку и показали Питеру. — Так мне и надо, Драйзер, — каялся Питер, рассказывая мне об этом, — следовало знать, что это не та женщина, которая мне нужна. Она меня хорошо проучила, поделом мне. Как я раньше не видел, что она такая? Уж очень она легкого нрава, какая это жена? Семьи с ней не создашь. Просто ей не хотелось терять меня, я ей нравился. И притом она совсем не в моем вкусе — я предпочитаю женщин попроще. — А я думал, ты любил ее. — Любил или вообразил, что люблю. Но у меня все же были сомнения. Многое в ней мне не нравилось. Ты думаешь, насчет семьи это одни слова? Ошибаешься. Тебе это кажется скучным и пресным, а мне ничего другого не надо. Я хочу жениться и жить именно по-семейному, нормальной, обыденной жизнью, — и я этого добьюсь. — Но как же ты так быстро с ней порвал? — полюбопытствовал я. — Как только я узнал о ней правду, пришел и все ей выложил. Представь, она и не думала ничего отрицать. Сказала, что да, это так, но все равно она любит меня и готова ради меня бросить старое и жить по-другому, как я хочу. — Что же, это, наверное, искренне, — сказал я, — Может, она правда любит тебя. Ты и сам, знаешь ли, не святой. И если бы ты помог ей, она, возможно, сдержала бы слово. — Может быть, но я в это мало верю, — возразил он, качая головой. — Думаю, не так уж она меня любит. Я ей нравлюсь, и все. Вряд ли она переменилась бы после всего, что уже испытала. Она, может быть, и хотела бы, да поздно. Я это чувствую. И не хочу рисковать. Она мне нравится, я просто без ума от нее. Но все кончено. Я женюсь на моей немочке, если только она согласится, и навсегда разделаюсь с холостяцкой жизнью. И тебе придется мириться с этим и бывать у меня. Через три месяца Питер сделал предложение, получил согласие, привез в Ньюарк свою немочку (потом он стал называть ее Зулейкой) и поселился с ней сначала в прелестной квартирке в самой респектабельной части города, а потом они переехали в небольшой домик с зеленой лужайкой впереди и двориком позади, на одной из самых тихих и скромных улиц. Душа радовалась, когда я смотрел на то, с каким удовольствием он входит в новую роль примерного мужа, а ровно через девять месяцев после свадьбы — в роль счастливого отца; в доме у них было скромно, но уютно. Здесь я лишь кратко могу остановиться на семейной жизни Питера. Я уже писал о том, с каким упоением Питер всегда говорил о семье, — это была его давнишняя, заветная мечта. Он был верен себе до конца жизни и в точности осуществил свои планы. Я не знаю лучшего, чем Питер, мужа, отца, гражданина. Он выбирал эту роль сознательно, по расчету, но вкладывал в нее столько души, столько неподдельного пыла, что я поражался: я-то ведь знал, что все это заранее обдумано и рассчитано. Трудно было поверить, что ему это удастся, и, однако, Питер создал поистине счастливую семью. Я не видел другого дома, где дышалось бы так легко и радостно. — Вот она, моя фрау Зулейка, — говорил он в день свадьбы. — Ну разве она не прелесть? Видал ты когда-нибудь такие чудесные волосы! А какие румяные щечки! Ты только посмотри! А носик! Ах ты, моя женушка! Вот здесь, — он указал на жилетный карман, — золотая цепь, которой я теперь навек прикован к домашнему очагу. А у нее на руке кольцо — символ моего будущего рабства. — Затем, как бы обращаясь только ко мне, но нарочито громко, он сказал: — Через полгода начну ее колотить. Поди сюда, Зулейка. Придется нам пройти через это. Ты должна поклясться, что будешь моей рабыней. Итак, они поженились. Питер оказался необычайно деятельным, заботливым и притом шумным хозяином дома. Возвратившись из редакции, он тотчас начинал хлопотать, суетиться, что-то прилаживал, приводил в порядок свои коллекции, помогал Зулейке мыть посуду или учил ее готовить какое-нибудь неизвестное ей кушанье. Он бегал по лавкам, ходил через весь город на рынок. Еще задолго до рождения первого ребенка он говорил мне, ничуть не стесняясь: — Знаешь, Драйзер, через несколько месяцев у нас с Зулейкой появится наш первый детеныш. Хочется мальчишку, но ведь заранее не угадаешь. Мы уже возносим к богу наши молитвы, делаем пожертвования на церковь. Я каждый вечер заставляю Зулейку молиться. И знаешь, когда он родится — никакого баловства, никому не разрешу его баюкать и укачивать. Уж я-то буду разумно воспитывать своего ребенка. Я уже разработал режим. Никаких каш и детской муки! Будем поить мамашу добрым старым кульмбахским пивом, а потом и младенца, если ему это придется по вкусу. В моем доме будет царить добрый старый закон и порядок. Все будет крепко и солидно, «tüchtig, wichtig», — как говорят немцы. — У тебя вульгарные, плебейские вкусы, — смеялся я, поддразнивая его. — Больно просто ты смотришь на вещи. Вскоре родился ребенок, к величайшей радости Питера — мальчик. Я никогда не видал человека, который бы с таким увлечением нянчил ребенка, вкладывал столько души и страсти во все мелочи, от которых могло зависеть здоровье и благополучие малыша. Первые недели он все твердил, что не надо ребенка баловать и портить, но скоро взгляды его резко изменились, — он стал нежнейшим, до смешного заботливым папашей. Он готов был с утра до ночи держать малыша на руках, лишь бы позволила жена. У них была няня, но куда бы Питер ни ходил один или с женой, он брал ребенка на плечо и тащил с собой. Больше всего он любил сидеть с сыном в качалке и петь ему песенки, а то вдруг ввалится с ним в мою нью-йоркскую квартиру, причем малыш так закутан, что кажется клубком шерсти. Ночью — чуть только ребенок пошевелится или захнычет во сне — Питер уже вскакивает и бежит к кроватке. А с каким восторгом он покупал фартучки, чепчики, люльку, игрушки; младенцу еще и трех недель не было, а Питер уже накупил ему разноцветных резиновых мячей и солдатиков! — Где же твой суровый режим и спартанское воспитание? Кто говорил, что не даст укачивать ребенка по ночам? — Все это хорошо, пока нет своего ребенка. Теперь, когда у меня есть сын, я смотрю на это по-другому. Послушайся моего совета, Драйзер, женись. Не избегай общего порядка. Обзаведись младенцем, а то и двумя, и тремя. Человек не может быть без семьи. Это сильнее нас. Так уж устроено природой! Да, иметь семью, детей — большое, великое дело. Говоря это, он покачивался в качалке и прижимал к груди сына. Умилительное зрелище! А его жена, она так и сияла от счастья! В доме было столько света, цветов, столько смеха и радости. И здесь у Питера тоже всегда толпился народ — приезжали старые и новые друзья, заходили соседи. Прожив здесь каких-нибудь два года, он уже был на дружеской ноге с мастером из парикмахерской, что за углом, и с бакалейщиком, и с портным, и с хозяином ближайшего бара, и со всеми, кто жил по соседству. Молочник, угольщик, аптекарь, хозяин табачной лавочки на углу — все знали дорогу к дому Питера. На двух клумбах в его крохотном палисаднике все лето цвели цветы; на грядках под окном росли салат, лук, горох, фасоль. Питер бывал счастлив, когда мог побыть дома, поиграть с сынишкой, покатать его в коляске, поработать в огороде или, растянувшись на полу, что-нибудь мастерить: он гравировал, вырезал по дереву, трудился над какой-нибудь шкатулкой, а карапуз в дешевом бумажном платьице ползал тут же. Питер никогда не сидел без дела, но все время уголком глаза следил за малышом и нет-нет да грозил ему, шутя: — Ну-ка, брат, не очень-то усердствуй. Не тронь мои игрушки! По воскресеньям Питер любил посидеть на крыльце, конечно, не один, а с сыном на руках, — читал газету, покуривал, наслаждался желанным семейным счастьем. После обеда, подхватив сынишку, он отправлялся куда-нибудь — к друзьям, в парк, даже ко мне в Нью-Йорк. За завтраком, за обедом, за ужином наследник неизменно восседал рядом с ним на высоком стуле. — На вот резиновую ложку. Стучи ею. И не больно и не разобьешь ничего. — Хочешь корочку хлеба в соусе? А? Или боишься сломать себе зубы? — Зулейка, твой сын считает, что ему полезно выпить ложку-другую пива. Что ты на это скажешь? Бывало, в субботний вечер Питеру хотелось пойти поиграть в шары, но и тут он не желал расставаться с сыном. На малыша надевали плотный свитер, шапочку, отец сажал его на плечо и тащил в бар, а затем, выпив пива, шел играть. Малыша он привязывал где-нибудь в стороне к креслу, а сам катал шары со мною или еще с кем-нибудь. В одиннадцатом часу, наигравшись, он собирался уходить, а к этому времени малыш, которому наскучило играть собственными ногами или сосать большой палец, давно уже спал крепким сном, свесившись через шарф Питера, привязывающий его к креслу. — Смотри, Питер, — заметил я однажды, показывая на уснувшего ребенка, — может, отнесем его домой? — Вот еще! Пускай спит. Чем ему здесь плохо? И мне приятно на него смотреть. А в комнате полно народу, курят, пьют пиво, громко смеются; друзья Питера привыкли к ребенку и были очарованы им так же, как отец. Этот человек всегда делал, что хотел, и никогда не сомневался в своей правоте. Очень уж просто и естественно он верил в то, что делает, и другим внушал эту веру, и чем больше его узнавали, тем искреннее уважали, больше того — горячо любили, особенно простые люди, среди которых ему так нравилось жить. Именно в это время соседи задумали выбрать его то ли в муниципалитет, то ли в законодательное собрание штата; они верили, что он далеко пойдет на политическом поприще. Но Питер и слышать об этом не хотел. В ту пору или немного позже, когда у него уже родился второй ребенок — девочка, он как раз с увлечением писал свою поэму в прозе «Волк». Это оказалось блестящее произведение, чему я нисколько не удивился: ведь автором был Питер! Если бы он вдруг спроектировал великолепное здание, создал прекрасную картину, занялся политикой и стал губернатором или сенатором, — я счел бы, что это в порядке вещей: ему все было по плечу! И сил и всяческих талантов у него хоть отбавляй. С разрешения Питера я предложил его поэму издательству, с которым был связан, и вот что мне сказал один из наших старейших издателей и знатоков книг: — Вы никогда ничего не заработаете на этой книге. Она слишком хороша, слишком поэтична. Но выгодно это или нет, я за то, чтоб ее издать. Лучше потерпеть убыток на такой книге, чем наживаться на той дряни, какую мы выпускаем. Золотые слова. Я согласился с ним тогда, соглашаюсь и теперь. Конец Питера был столь же необычен и полон драматизма, как и вся его жизнь. В семье у него все шло так, как он задумал. Он был предан дому и детям, у него была любящая жена, множество друзей, он всем на свете интересовался; как это в нем все уживается? — снова и снова изумлялся я, хорошо помня его прошлое. Однажды он приехал в Нью-Йорк, побывал в китайской импортной фирме, через которую все еще доставал иногда кое-какие безделушки для своих коллекций. Питер зашел ко мне в редакцию, в Баттерик Билдинг, узнать, приеду ли я к нему, как обычно, на воскресенье. Он раздобыл кое-что занятное. Хочет сделать мне сюрприз. Надо, чтобы я приехал и поглядел. У лифта он весело помахал мне рукой, — Ну, будь здоров. В субботу увидимся! Но в пятницу, когда я, сидя за письменным столом, разговаривал с приятелем, мне подали телеграмму. Она была от жены Питера. Я прочитал: «Питер умер сегодня в два часа от воспаления легких. Приезжайте». Я не верил своим глазам. Разве он был болен? Что теперь будет с его маленькой златокудрой Зулейкой, с малышами? А как же все его замыслы, планы? Я все бросил и помчался на вокзал. По дороге я размышлял над загадками, о которых так любил рассуждать Питер: смерть, распад, неизвестность, жестокое равнодушие природы. Что же станет с его женой, с детьми? Приехав, я увидел, что от безмятежного семейного счастья в доме не осталось и следа, — все угасло, как свеча от порыва ветра. Питер лежал неподвижный и холодный; рядом в детской его ребятишки лепетали, как всегда, не понимая, что случилось; жена словно застыла и онемела от горя. Это случилось так внезапно, точно гром среди ясного неба, — она не могла опомниться, сначала не могла даже рассказать, как все произошло. Тут же были врач, приятель Питера, сосед-парикмахер, два-три сослуживца Питера по редакции, владелец бара, где мы играли в шары, владелец антикварной коллекции в сорок тысяч долларов. Все, как и я, были ошеломлены случившимся. Как самый близкий друг Питера, я взял на себя все хлопоты: телеграфировал родным, пошел к гробовщику, знавшему Питера, договориться о похоронах; хоронить предстояло в Ньюарке, а может быть, и в Филадельфии, как захочет вдова (кроме Питера, ее с Ньюарком ничто не связывало). Страшно было это отчаяние в доме, ощущение непоправимого несчастья, катастрофы. Казалось, какие-то неведомые, злые и коварные силы совершили подлое убийство. Еще в понедельник, когда Питер заходил ко мне, он был совершенно здоров. Во вторник утром он слегка простудился, но, несмотря на протесты жены, выбежал куда-то без пальто. К вечеру у него поднялась температура, он принял хину, аспирин и выпил горячего виски. В среду утром он почувствовал себя хуже, послали за доктором, но ни о чем серьезном никто еще и не думал. В ночь на четверг ему стало еще хуже, днем началось удушье, и пришлось послать за кислородом. В ночь на пятницу больной уже очень ослабел, но надеялись, что вот-вот минует кризис и ему полегчает. Новый приступ начался внезапно, никто и не думал о роковом исходе, поэтому даже мне ничего не сообщали. Утром больному не стало ни лучше, ни хуже. Если бы к ночи положение не ухудшилось, он мог бы выздороветь. Днем началось резкое ухудшение. Жена и сиделка давали ему кислород, послали за доктором. В половине второго Питеру стало совсем плохо. — Лицо посинело, губы сделались серые, — рассказывала мне его жена. — Мы дали ему кислород, и я спросила: «Питер, ты можешь говорить?» Мне было так страшно! А он только еле-еле покачал головой. — «Питер, — говорю я, — ты не должен сдаваться! Борись! Подумай обо мне, о детях!» (Я была прямо вне себя от страха.) Он так пристально посмотрел на меня. Потом весь напрягся, заскрипел зубами, видно было, что собирал все силы. И вдруг откинулся и затих. И все кончилось! Я невольно подумал: какая же нужна воля и энергия, чтобы в последнюю минуту, когда уже и язык не повинуется, еще бороться со смертью, стиснув зубы. Что же такое человеческая душа, человеческий разум, если они способны так бороться до последнего мгновенья? Мне казалось, какая-то злобная, свирепая сила убила Питера, убила преднамеренно и безнаказанно. И вот остались его антикварные коллекции, ковер, гравюра, фарфоровые тарелки, множество замыслов, книга, которая должна была скоро выйти. Я смотрел на все и дивился. Смотрел на жену и детей Питера и не мог вымолвить ни слова. И как всегда перед лицом подобного несчастья, меня одолевали мысли о грубом, своенравном случае, разрушающем наши мечты, о природе, равнодушной ко всему человеческому, — ей нет до нас дела! Если хочешь преуспеть — рассчитывай только на свои силы. Ночь я провел в комнате рядом с той, где лежал умерший; там бледным светом горела свеча, и мне все казалось, что мимо меня взад и вперед, к спальне жены и обратно, ходит Питер, охваченный скорбным раздумьем. Мне чудилось, что тень эта безмерно страдает. Один раз он, казалось, подошел и коснулся рукой моего лица. Вот он входит в комнату к жене и детям, но его никто уже не видит, не слышит, не понимает… Я поднялся и долго смотрел на останки друга, потом снова лег. Затем начались дни, полные хлопот. Приехали с Запада мать и сестра Питера, мать и брат его жены. Мне пришлось заняться всеми его делами: страховым полисом, который он оставил, художественными коллекциями, хлопотать о том, чтобы его похоронили на «освященной земле» филадельфийского кладбища, а для этого необходимо было согласие и помощь тамошнего католического священника; без этого согласия тело не могло быть предано земле. Мать Питера желала похоронить его, как католика, но он никогда не был верным сыном церкви, и возникли осложнения. Приходский викарий отказал мне, отказал и священник. Тогда я пригрозил святому отцу, что буду жаловаться епархиальному епископу, — я взывал к здравому смыслу, говорил об уважении к чувствам католической семьи, если уж нельзя отнестись по-христиански к убитой горем матери и вдове, — и священник в конце концов согласился. И ни на минуту меня не оставляло ощущение, что кто-то совершил чудовищное преступление, подлое убийство. Я не мог отделаться от этого чувства, и оно вызывало у меня не скорбь, а гнев. Лет через семь я однажды навестил семью Питера а Филадельфии. Вдова его жила со своими родителями в одном из переулков фабричного района, где прошло ее детство; она теперь служила секретарем и стенографисткой у какого-то архитектора. Она мало изменилась, разве что слегка пополнела, но в ней уже не было прежней безмятежности, лицо стало покорным и озабоченным. Сынишка Питера, его любимец, уже не помнил отца, девочка, конечно, и не могла его помнить. В доме сохранилось несколько его гравюр, два-три китайских блюда, которые он сам обжигал, ткацкий станок с неоконченным ковром. Я остался обедать, на меня нахлынули воспоминания, но тягостно было на душе, и я скоро ушел. Вдова Питера проводила меня до дверей и долго смотрела мне вслед, как будто со мной уходило и то последнее, что осталось от ее прежней жизни.ИЗ СБОРНИКА «КРАСКИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
В метель
Зимний день. Только четыре часа, а все уже тонет в вечернем сумраке. Густо падает снег, мелкий, колючий, подхваченный резким ветром, он взметается длинными, тонкими космами и сечет, как хлыстом. Снег устилает улицу холодным мягким ковром в шесть дюймов толщиной; экипажи и пешеходы обратили его в бурое месиво. По заснеженной Бауэри-стрит бредут люди, подняв воротники, нахлобучив шляпы до самых бровей. Перед грязным четырехэтажным зданием собирается толпа. Сперва подходят двое или трое; постукивая нога об ногу, чтобы хоть немного согреться, они слоняются около запертой деревянной двери. Они даже не пытаются войти внутрь, а лишь уныло топчутся, глубоко засунув руки в карманы, и исподлобья поглядывают на пешеходов и на зажигающиеся фонари. Здесь и седобородые старики с ввалившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнуренные недугом, и люди средних лет. Толпа у дверей прибывает, слышен приглушенный гул голосов. Это не беседа, а беспрерывный поток замечаний, ни к кому не обращенных. Раздается брань, недовольные возгласы: — Хоть бы поторопились, что ли. — Гляди, фараон-то как уставился. — Что они, думают, сейчас лето? — У Пири на полюсе — и то, верно, теплее. Ветер хлещет все злей, и люди теснее жмутся друг к другу. Ни гнева, ни угроз. Одно лишь угрюмое терпение, не скрашенное хотя бы шуткой или добрым словом. Мимо с шумом проезжает автомобиль, внутри небрежно развалился седок. Кто-то у самой двери кивает на него: — Ишь, покатил! — Ему-то не холодно. — Эй, эй! — кричит еще кто-то вдогонку, но автомобиль уже далеко, и пассажир не услышит. Мало-помалу подкрадывается вечер. Прохожие спешат по домам. А толпа по-прежнему упорно топчется у двери. — Да откроют они, наконец? — раздается хриплый и словно бы подстрекающий голос. И толпа, всколыхнувшись, придвигается ближе к запертой двери: все взоры устремляются на нее. В глазах людей уныние, точно у бессловесных тварей, точно у собаки, когда она скулит и ждет, не повернется ли ручка двери. Они переминаются с ноги на ногу, щурятся, что-то бормочут, чертыхаются. Они все ждут, а снег все метет, все хлещет их. В доме зажигают свет, и его тусклые отблески появляются на стекле вверху двери. Толпа сразу оживляется. Все гуще падает снег, он скопляется на потрепанных шляпах, на худых острых плечах, и никто его не стряхивает. От тепла и дыхания столпившихся у двери людей снег тает, капает с полей шляп, течет по носу, по щекам, но в такой тесноте нельзя даже поднять руку и вытереть лицо. По краю толпа реже, и там снег не тает. Те, кто не может пробраться в середину, втягивают головы в плечи, съеживаются. Наконец слышится скрип засовов, и толпа настораживается. Кто-то кричит: «Эй, вы, не нажимайте!» — и дверь отворяется. Минута толкотни и давки — угрюмо, по-звериному молча каждый старается первым протиснуться внутрь, и толпа быстро уменьшается. Люди исчезают в здании, как плавучие бревна, уносимые течением. Продрогшие, съежившиеся, замученные, в обвисших шляпах и промокших пальто, они сплошным потоком вливаются в двери мрачного здания. Ровно шесть часов, и по лицу каждого прохожего видно, что он торопится домой, где его ждет ужин. — А еду какую-нибудь у вас купить можно? — спрашивает кто-то седого старика привратника. — Нет, только койку. На сегодня все, кто ждал у двери, обрели ночлег.В снегу
Своеобразные картины можно увидеть зимним днем в большом городе. Если идет снег, улицы мигом покрываются слякотью, и это немалая помеха деловой жизни города. В первые минуты снегопад даже красив: воздух полон летучим пухом, низкое небо затянуто тучами. Потом начинается слякоть, грязь, а нередко и пронизывающий холод. Скрипят и скрежещут на морозе экипажи; тысячи мужчин и женщин — волны людского прибоя, заполняющего улицы города, — снуют взад и вперед, спеша покончить с работой или с делом, которое удерживает их вне дома. В такую погоду в некоторых кварталах можно увидеть людей, которых природа и обстоятельства сделали неотъемлемой частью снегопада. Они словно чайки, сопровождающие в море стаи рыб. Нужда — вот что соединяет их и роднит, в известной степени она их классовый признак. Они не только бедны телом, они бедны и духом, а что касается земных благ, у них, конечно, нет ничего. Как чайки кормятся рыбой, так эти люди кормятся непогодой. Они урывают свои крохи, следуя за подрядчиками, которые берутся очистить городские улицы от снега; около сараев, где хранятся лопаты и скребки и где ежедневно раздают наряды на работу, собираются сотни людей и подолгу ждут здесь да еще в такую рань и в такую погоду, что смотреть тошно. Перед рассветом, когда начинают распределять работу, они уже там — продрогшие, без пальто, часто без перчаток и шарфов, у них нет даже воротничков, а если и есть, то изодранные в клочья; а шляпы так помяты и истрепаны, что, по правде говоря, их уже и шляпами не назовешь. За уборку снега город обычно платит этим людям по два доллара в день. Но подрядчики даже и за такие гроши неохотно их нанимают, предпочитая более здоровых людей, ищущих временную работу; однако под давлением городских властей и общественного мнения волей-неволей надо соблюдать хотя бы видимость заботы о бедняках. Итак, тысячи людей, которым не находится никакого иного применения, получают временный заработок, — вот они, эти люди. Итак, в холод, в пронизывающую сырость они, как стадо овец, ждут у ворот. В этом старании поддержать свою жизнь не чувствуется особого пыла. В них еще теплится жажда жизни, но жажда бессильная, почти угасшая, ибо они ни у кого не находят поддержки. Они пытались просуществовать в этом мире, и их долго швыряло и кидало во все стороны, пока они почти утратили волю и мужество. Для других непогода означает домашний уют, тепло, развлечения; для них же это случай тяжелым трудом заработать кусок хлеба: жалкий, конечно, а все-таки хлеб. И вот они собираются здесь спозаранку, в темноте. Они выстраиваются длинной очередью у двери конторы подрядчика и ждут, пока он распорядится ими по своему усмотрению. Наконец за небольшим окошком, прорезанным в двери, появляется человек. Это энергичный, прижимистый субъект, на лице его трудно заметить признаки мысли, зато жадность видна отчетливо. Ему нет дела до людей, стоящих перед ним. Его мало трогает, что почти все они хватаются за эту работу с отчаяния, как за последнюю соломинку. Ему важно одно: смогут ли они работать? И возьмут ли по доллару семьдесят пять центов вместо двух долларов, которые платит город? Подрядчик не спрашивает об этом прямо; это делается иначе: — Лопата есть? — Нет, сэр. — Тогда с тебя двадцать пять центов за лопату. — У меня нету. — Ладно, вычтем из получки. И имейте в виду, двадцать пять центов за лопату удерживают не только в первый день, но ежедневно. Подрядчики обычно объясняют это тем, что лопаты иногда крадут, но ведь над каждой партией рабочих поставлен десятник, за лопаты отвечает он, а без его разрешения рабочему не заплатят ни гроша. Следовательно… И все же, несмотря на все свои страдания, эти люди вносят в жизнь города какие-то волнующие краски. Подчас жалко смотреть, как в пронизывающий холод они бредут за громадными фургонами, в которых свозят с улиц снег, и однако это захватывающее зрелище. Я видел, как седобородые, косматые, белые как лунь старики лопатами наваливали снег в кузов. Я видел, как работали тощие, изголодавшиеся, плохо одетые подростки; их худые, костлявые, красные от холода руки торчали из слишком коротких рукавов. Я видел, как хилые, чахоточные бродяги в снегу, на морозе, кутаясь в лохмотья и еле передвигая ноги, через силу ворочали лопатой. Да, в лучшем случае грустная и запутанная это штука — жизнь. Судьба так слепо, наобум распоряжается рождением и смертью, что даже трудно винить человека. Она разбивает вдребезги мечты королей и нищих, осыпает лежебоку золотыми цехинами, отнимает у труженика то немногое, что он заработал в поте лица, — и все это с таким равнодушием, что в конце концов просто теряешься. Легко обвинять неудачника в том ли, в другом ли, и подчас обвинения справедливы; и однако же легко понять, как могла случиться беда. Не всегда хватало ума и способностей, вмешалась болезнь, ложный шаг, нечестный поступок — и усилия долгих лет пошли прахом: тот, кто упорно пробивался наверх, снова оказывается на самом дне. Остается только барахтаться там, внизу, и подбирать падающие на дно крохи. Вот они, эти люди. Итак, снегопад, подобно даровой похлебке в бесплатных столовых, подобно ночлежке на Бауэри-стрит, дает им возможность существовать… кое-как, не более того. Еще несколько дней — и снега не будет. Еще несколько дней — и солнце станет пригревать и отнимет у них этот заработок. Они снова канут во тьму подвластной случаю жизни, откуда ненадолго появились. Только теперь их и можно увидеть всех вместе, на холоде, в снегу, с лопатами в руках. Но плохи ли они, хороши ли, я люблю вспоминать их такими, какими видел не раз вечерами, после трудового дня, когда они стояли у сараев в ожидании получки. Тот, кто давно потерял всякую надежду найти работу, радуется самым жалким грошам, если их удалось заработать своими руками. Отблески этой радости изредка мелькают на хмурых лицах людей в длинной очереди у сарая. Зимний вечер, уже темнеет, зажглись уличные фонари; люди переминаются с ноги на ногу, стараясь согреться. Им приходится ждать в конце каждого рабочего дня, но они терпеливо предвкушают получку, доллар семьдесят пять центов за долгий день работы на холоде. Они охотно жертвуют двадцатью пятью центами. Двадцать пять с каждого, а их ведь сотни — и подрядчик изрядно и без хлопот наживается. А они?.. Они рады уже и тому, что есть с чем встретить завтрашний день. Это не пустяк, если есть чем заплатить за ночлег и за еду. Доллар семьдесят пять — целое богатство для таких бедняков, все равно что для иных пятьдесят, или сто, или тысяча долларов. Довольство и радость так относительны. А они ведь заработали эти деньги — и теперь их ждет вся та сказочная роскошь, какую можно себе позволить за один доллар семьдесят пять центов.Во тьме
Нельзя сказать, что здесь царит тьма в полном смысле слова, так как висящий над головой электрический фонарь отбрасывает широкий золотисто-желтый круг, но стоит холодная январская ночь, еще только четверть второго, и поблизости нет другого источника света. Темны и безмолвны редакции газет: место действия — тротуар перед зданием, где помещается одна из редакций. Повсюду, в каждой типографии, огромные валы печатных машин готовятся начать свой могучий бег, и, если бы прохожие перестали шаркать ногами по тротуару, вы сразу услышали бы звуки приготовлений. Немного позже, когда машины будут пущены в ход, вы услышите гул их стремительного движения, смутный, приглушенный и в то же время явственный — этот каскад новостей, которого ждет мир, ежедневная пища человеческих умов, словно хлеб, который булочник каждое утро оставляет у ваших дверей. Но что за странные люди собираются здесь в этот ранний час? Еще несколько минут назад вокруг не было ни души, а теперь вон три или четыре человека рассуждают о том, почему наступили тяжелые времена, и подальше, в тени у подъезда, стоят еще трое или четверо. Вы оглядываетесь и видите, что они появляются со всех сторон из темноты и сходятся сюда, к свету, к еще пустому газетному киоску, где сидит в ожидании товара толстая старуха ирландка. На первый взгляд все они кажутся одинаковыми — маленького роста, худые, изможденные. Но спустя некоторое время вы убеждаетесь в том, что они не так уж похожи друг на друга, как вам сперва показалось, и что это люди разных национальностей. Правда, несомненно, всем им холодно, и все они испытывают легкое нетерпение. Они то и дело переходят с места на место, озираются по сторонам и смотрят на желтый освещенный циферблат часов над муниципалитетом или оглядывают улицу и изредка бормочут два-три слова. Разговаривают здесь очень мало. — В чем дело? Что происходит? — спрашиваете вы случайного соседа, который, должно быть, вполне в курсе дела, поскольку стоит здесь уже довольно долго. — Ничего, — отвечает он резко. — Ждут утренних газет. Хотят первыми получить работу. — Ах, вот что! — восклицаете вы, и, как молния, вас осеняет догадка: — Значит, они хотят опередить других. И они ждут всю ночь? Но ведь это очень тяжело, верно? — Право, не знаю. Тут почти всё шведы да немцы. — Последние слова звучат так, будто эти две национальности и, без сомнения, некоторые другие не заслуживают человеческого отношения. — Это по большей части официанты, повара, буфетчики и судомойщики. Попадаются и еще всякие. Но особенно много официантов. — Неужели вы думаете, что этот старик — вон, с седой бородой, — был официантом? — Ну нет! Это не официант. Не знаю, кто он таков, может, просто нищий. Таких не берут на работу. А вот те, молодые, это официанты. Вы смотрите на них — да, они, пожалуй, молоды, эти люди, худые, тонкогубые, узкогрудые, с желтоватым, болезненным цветом лица; одежда их потрепана, и каждый держит под мышкой какой-то сверток в газетной или просто оберточной бумаге — быть может, фартук. Вы начинаете размышлять, и при помощи случайных пояснений нового знакомого вам удается, наконец, представить себе всю картину в целом. Да, это очень большой, жестокий и холодный город, а собравшиеся здесь люди очутились, по крайней мере временно, на самой низшей ступени общественной лестницы. Столбцы объявлений в популярных утренних газетах привлекают их к себе, потому что сулят возможность найти счастье. И вот они приходят сюда в холодную ночную пору для того, чтобы опередить других и первыми получить работу. Кто первый придет, тот первый и получит. Пока вы ждете и размышляете, кто-то осторожно и нерешительно подходит к вам. Этот человек выглядит не таким удачливым, как тот, с которым вы только что разговаривали, он более худ и более изнурен. — Взгляните-ка, хозяин, — говорит он, разжимая ладонь и протягивая вам что-то блестящее, похожее на золото. — Нет, — отвечаете вы с беспокойством (вы уже попадались раньше на эту удочку), — не хочу я ничего смотреть. — Вы только взгляните, — настаивает он. — Нет, — досадливо, резко отвечаете вы, но все же бросаете нерешительный, недовольный взгляд и видите золотой перстень с печаткой, на которой вырезаны инициалы. Он сжимает кольцо в худой руке и снова прячет в карман. Он уже собирается отойти от вас, как вдруг его осеняет другая мысль. — Вы ищете работу? — спрашивает он. — Нет. — А вы не повар? — Нет. — Да ну?! А я думал, вы какой-нибудь важный шеф, они иной раз приходят сюда. Сомнительный комплимент, но все же лучше, чем ничего. Вы немного смягчаетесь. — Я вот официант, — сообщает он, завладев, наконец, хотя бы на минуту вашим вниманием. — Я хочу сказать, когда бываю здоров. Сейчас я малость расклеился. Лучшее, на что я могу рассчитывать, — это мытье посуды. Но по профессии я официант, одно время даже работал барменом. А об этой компании много говорить не приходится. Все они работают в дешевых ресторанах. В субботу вечером почти все напиваются, и если в воскресенье опаздывают, им дают расчет. Хозяин нанимает новых. А в воскресенье ночью или в понедельник они опять приходят сюда. Вы готовы согласиться, что это описание вполне вяжется с вашими собственными наблюдениями над некоторыми из окружающих, — но ведь тут есть и другие, по виду люди семейные, которые выглядят такими измученными и жалкими. — Конечно, здесь и других много, — подсказывает ваш новый знакомый. — Каждый день бывает по три столбца с требованиями на маляров. Почти каждый день печатают столбец с требованиями на типографских рабочих. Ведь люди красят свои дома круглый год. Бывает, требуются поденщики. Или плотники. Этим удается найти место. Но больше всего спрос на поваров, официантов и судомоев. Вы задумываетесь над тем, соответствует ли это истине, но его рассказ звучит достаточно правдоподобно. Совершенно очевидно, что в огромном большинстве эти люди — повара и официанты.Их поиски работы должны начинаться очень рано, так как рестораны и гостиницы обычно бывают открыты ночь напролет. Так что это вполне вероятно. И все время вам хочется знать, почему же до сих пор нет газет. Ведь просто позор, что эти люди должны стоять здесь так долго. Собралась уже целая толпа, человек двести или триста. Полисмен, тяжело топая, шагает туда-сюда, старается расчистить проход. Он настроен далеко не дружелюбно. — Посторонитесь! — сердито приказывает он. — В последний раз вам говорю! В толпе образуется широкий проход. И вот внезапно появляется мальчик, он бежит, едва удерживая в равновесии свою ношу — огромную связку самой ходовой утренней газеты. Кажется, толпа готова схватить мальчика и вырвать у него газеты, но вместо этого она только быстро смыкается позади него. Когда он добегает до старухи ирландки, вокруг ее киоска образуется сплошное кольцо людей, которые толкаются и наперебой хватают газеты. Воздух оглашается отчаянными криками: «Мне! Дайте мне! Поскорее!» — и за какие-нибудь пять минут происходит оживленная и бурная распродажа. Потом люди разбегаются, держа в руках газеты, как убегает собака с костью в зубах. Каждый спешит к какому-нибудь ближайшему источнику света и торопливо просматривает столбцы объявлений. Иногда они делают в газете какие-то отметки и затем поспешно уходят. Они нашли то, что нужно. Жалкое и, в сущности, мрачное зрелище. Ваш собеседник-судомой (он же бывший официант) сообщает вам, что, помимо чаевых, большинство этих людей может рассчитывать всего лишь на пять долларов в неделю и харчи. И он добавляет, что харчи отвратительные. Пока вы разговариваете с ним, некий прилично одетый, солидно зарабатывающий журналист проходит мимо, направляясь в этот поздний час домой. Какой контраст! Какая пропасть между ним и всеми этими людьми! — А знаете, — говорит ваш собеседник, — я думал, что получу сегодня работу. Думал, кто-нибудь купит это кольцо. Утром в ломбарде мне за него дадут доллар семьдесят пять центов. У меня нет денег на трамвай, а то бы я не заговорил об этом. Я всегда закладываю кольцо в начале недели и выкупаю в субботу. Утром заложу его и попытаю еще раз счастья завтра ночью. Какая грустная повесть! Какая нужда! Вы опускаете руку в карман и достаете монету в двадцать пять центов. Вы покупаете ему газету. «Это вам на счастье», — говорите вы ободряюще. Но какая нищета! Какая глубина падения! И подумать только, что каждый из нас может до этого дойти! Он уходит, уходят и другие, и снова вокруг ночь и тишина. Сейчас здесь нет никакого движения, нет большой нужды освещать улицу. Старая ирландка погружается в унылое ожидание утра. Лишь изредка какой-нибудь прохожий купит у нее газету. А те, другие? Они рассеялись во все стороны: сейчас они обивают пороги дешевых ресторанов в Бруклине, Манхэттене, Бронксе, Хобокене, Стейтен-Айленде; они сидят в ожидании на ступеньках подъездов; они отстаивают свое место у дверей магазинов. Они имеют право просить работы первыми, быть первыми потому, что они пришли первые. Благородная привилегия! А вы и я… что ж, мы вернемся к своим снам, нас ждет отдых и покой. Жизнь идет своим чередом. Нам предначертан другой удел. Мы не из числа этих людей, живущих во тьме.Очистка нефти
Неподалеку от Нью-Йорка, на южной оконечности полуострова, известного под названием Бейонн, есть участок земли, отведенный для своеобразной деятельности. Полуостров этот — длинная узкая коса — разделяет два широких залива: один уходит далеко к Ньюарку, другой к бескрайнему, неугомонному океану по ту сторону Бруклина. Во всякое время года тут свищет буйный ветер. Высоко над темными крышами зданий носятся чайки и крачки. Повсюду высоченные фабричные трубы, унылые строения из красного кирпича, громадные круглые резервуары для горючего — какой-то мрачный хаос, но он не лишен притягательной силы: так притягивает взгляд редкое уродство или трагическая театральная маска. Здесь обосновалось процветающее предприятие — одна из ветвей гигантского дерева, — где производят, точнее, очищают, нефть. В самый обычный будний день здесь открывается весьма внушительная картина того, что называют промышленностью. У этих причалов швартуются огромные суда, только что прибывшие или готовые отплыть во все порты мира. На бесчисленных железнодорожных путях, в тупиках и на ветках, отходящих от главных магистралей, длиннейшие составы нефтяных цистерн, словно стальные караваны, ждут своего часа, чтобы нести все новые грузы нефти в самые отдаленные уголки страны. Бесчисленные строения всех видов и размеров непрестанно изрыгают густые клубы дыма, и в пасмурный день, куда ни глянь, всюду багровеют огни, — их негаснущий отсвет придает унылому однообразию черных и серых тонов какую-то зловещую красоту. Этот клочок земли, уж во всяком случае, примечателен и своей живописностью, а не только тяжким человеческим трудом. Художник найдет здесь тысячи контрастов, тысячи оттенков черного, серого, красного, синего — есть над чем поработать карандашом и кистью. Какие высокие эти трубы, а встают они над такой низкой, приземистой постройкой. На болотистой почве, образовавшейся за столетия из сплошной массы морских водорослей, всюду лужи с радужным отливом нефти, между ними чернеет земля, и еще черней — стены несчетных построек: ни один художник не устоит перед таким сочетанием тонов и оттенков. Уистлер создал бы здесь изумительные рисунки пером. Вьерж или Шинн показали бы, что значит уловить и запечатлеть самую суть мрака. Если сюда случайно забредет человек восприимчивый, он содрогнется и поспешит прочь, угнетенный и подавленный. Это великое царство тьмы полно неустанного движения и притом играет всеми тончайшими оттенками серого и черного. Но как ни поражает эта картина, еще поразительней скрытая за нею суровая жизнь. Тех, кто здесь работает — а их тысячи и тысячи, — можно не задумываясь назвать самыми обыкновенными людьми. Конечно, они не обладают никакими особыми талантами, иначе они не работали бы здесь. Они не слишком привлекательны внешне, ибо тело обычно отражает душу, а за наружностью этих людей чаще всего чувствуется неповоротливый, неразвитый ум. В большинстве это шведы, поляки, венгры, литовцы, которые еще плохо говорят по-английски; жизнь их тяжела и скудна, и тот, кто привык к сколько-нибудь сносным условиям существования, содрогнется при одной мысли о ней. Они ютятся в полуразвалившихся лачугах рядом с заводами, и одному небу известно, как удается им сводить концы с концами. Заработок их невелик (доллар, полтора — уже хорошая плата), а многие должны еще кормить семью, большую семью, ведь у бедняков всегда много детей. Тут и там видны крохотные темные лавчонки и такие же темные дешевые кабачки, куда рабочие нередко заходят выпить. Глядя на эти лачуги и кабачки, невольно думаешь, что ни один человек, на каком бы низком уровне развития он ни стоял, не должен жить в таких условиях и что высшая мудрость, которой мы когда-то наделяли природу, не должна бы этого допускать. И, однако, все это перед вами. Но в нестерпимую летнюю жару или в сильный холод, в дождь или снег, когда буйствуют стихии, эти трущобы обретают какую-то хмурую торжественность, скорбное достоинство или безнадежность, — за такое зрелище можно, пожалуй, воздать природе хвалу! Они такие угрюмые, такие безотрадные, неприютные. Художники должны бы писать с них картины. Романисты — изображать их в книгах. Музыканты — черпать здесь вдохновение для своих диссонансов и контрапунктов. Это жизнь в самом мрачном своем обличье, ее грубая, неприглядная изнанка. Однако картина будет неполной, если, помимо жилищ, не описать работу на заводах — работу нудную, грязную, безрадостную, ничего не дающую ни уму, ни сердцу, ибо это процесс чисто механический, один и тот же изо дня в день, без намека на творчество: наполнять нефтью чаны; прибавлять в чан определенное количество разных химических веществ, способствующих очистке нефти; открывать и закрывать краны, чтобы нефть переливалась по трубам из одного чана в другой и, наконец, попадала в бочки и в баки, которые погрузят на автомобили или пароходы. Как все это делается, вы прочтете в любой энциклопедии. Меня же интересует другое: здесь, в гнетущей, сумрачной мгле, среди тошнотворных запахов и испарений, день за днем работают люди. Достаточно войти в заводской двор, заглянуть в любое из этих зданий, посмотреть на рабочих, на их усталую, тяжелую походку, чтобы понять, что эта полутьма, этот воздух, насыщенный зловонием и вредными газами, отнюдь не благоприятствуют ни телесному здоровью, ни духовному развитию. Повсюду видишь только нефть, всевозможные отходы и кислоты, задыхаешься от едких запахов. Со всех сторон из громадных труб поднимаются к небу столбы черного и сизого дыма или синеватые облака пара, которые, оседая, втягиваются в окна. Земля под ногами пропитана нефтью, нефтью забрызгано и перепачкано все вокруг — цистерны, грузовики, инструменты, машины, здания и, конечно, люди. От нее здесь, кажется, никуда не уйдешь. Самый воздух полон дыма и нефти. И в такой обстановке работают тысячи людей. Их можно увидеть утром, когда с завтраком в котелке или корзинке они бредут на работу: лица у них землисто-бледные; от постоянного пребывания в дыму и вредных испарениях некоторые надрывно кашляют; а вечером они бредут обратно, лица их все так же землисто-бледны, и они все так же кашляют; за днем тяжелого труда наступает ночь, сон в убогой, мрачной лачуге, которую и домом-то не назовешь. А на смену тянется другая вереница людей. Каждое утро и каждый вечер в течение часа два встречных людских потока растягиваются на добрые две мили, направляясь на работу и возвращаясь с нее. Тут не заметишь ни искры веселья, ни признака оживления. На всех лицах застыло выражение, которое появляется только у человека, вынужденного исполнять какую-либо однообразную, механическую работу. Поистине это тягостное зрелище. И все же я не сказал бы, что этот труд совершенно непосилен и невыносим. «Бог смиряет ветер ради стриженой овцы», — говорит старая пословица, и, конечно, она справедлива. Несомненно, эти люди не столь чутки и восприимчивы, как некоторые чувствительные натуры, и, вполне возможно, самое понятие того, что называется «окружающей атмосферой», им незнакомо и чуждо. Но здоровье их, бесспорно, разрушается на этой работе, и бесспорно также, что условия их жизни из рук вон плохи, все равно, виноват ли в этом невысокий уровень развития, или невысокий заработок, или то и другое вместе. Конечно, одно дополняет другое. Пожалуй, любую попытку помочь им материально или духовно они встретили бы с недоверием. Как бы то ни было, до сих пор никто и не пытался улучшить их положение. Им платят жалованье, и никто даже не думает еще хоть чем-нибудь им помочь. К примеру, для целой армии рабочих, которые очищают перегонные кубы и мешалки от нефтяных остатков и отбросов — отвратительной вязкой гущи, — отгорожен досками тесный закуток за каморкой старшего мастера; свет проникает сюда только через низкую дверь, нет ни мыла, ни полотенца, один лишь длинный желоб с водой, вроде низкого деревянного корыта, и все. В котельной, куда в полдень и вечером сходятся более трехсот рабочих, чтобы съесть свой завтрак или обед, тоже не лучше. Некоторые после работы все же пытаются кое-как почиститься, а другие так и уходят из цеха грязные — все равно толком не отмоешься. Это отнимает слишком много времени. Никому и в голову не приходит устроить для рабочих чистую, удобную столовую или, скажем, раздевалку. Еду люди приносят из дому в котелках. Однако я не намерен здесь разбирать сложную проблему наемного труда с точки зрения этической, я лишь описываю, как выглядит эта отрасль нефтяной промышленности. Если вам по вкусу мрачные зрелища, в пасмурный или ненастный день вы найдете здесь законченную картину тяжкого, безотрадного труда, которая, возможно, скоро отойдет в прошлое, ибо мир неуклонно меняется. С одной стороны, безмерно скаредные хозяева, те, в чьих руках огромная власть и богатство; с другой — безответные жертвы этой скаредности и равнодушия; и над всем — дым, газы, и всюду эти пропитанные зловонием каменные коробки. Право, если вы пожелаете отправить в ад злейшего врага своего, нельзя найти ничего более подходящего, чем отвратительные коробки, где люди бродят, как страждущие души в этом людьми же созданном чистилище; трудно себе представить, на каком низком уровне развития остаются почти все эти пасынки природы. Внизу — непросвещенность и, скажем так, неразвитость ума и притупленность чувств; наверху, у главных акционеров нефтяного концерна, — роскошные особняки и конторы, собственные автомобили, коллекции картин. Для тех, кто наверху, — пышные дворцы Пятой авеню, великолепные курорты Ньюпорта и Палм-Бич, для них — искусство и свобода; для тех, кто внизу, — мрачный заводской цех, тучи дыма, недуги, зловоние, убогое жилище. Но кто скажет, что это не есть предопределенный порядок жизни? Можно ли это изменить? Кто может сказать?Союз Майкла Дж. Пауэрса
В одном из районов густо населенной рабочей части Нью-Йорка, именуемой Ист-Сайдом, на территории, насчитывающей около сорока тысяч жителей, живет и властвует человек, политическая деятельность которого весьма поучительна. Вот идет он, тучный, большеголовый, ладно скроенный, но медлительный; его хорошо знают даже там, где он не стал вершителем человеческих судеб. Нет ни одного содержателя пивной (а их здесь по две на каждый квартал), который не знал бы его в лицо и не был бы рад снять перед ним шляпу, лишь бы это вышло кстати и помогло ему снискать у мистера Пауэрса еще большее расположение. Нет ни одного уличного мусорщика или дворника, нет такого полисмена или пожарного, который не узнал бы его и, почтительно здороваясь, не уступил бы ему дорогу. Лавочники и школьники, парикмахер из подвала и итальянец, торгующий углем, — все, слыша слово «босс», хорошо понимают, о ком речь. Его передвижение по улице, если можно так назвать эти ежедневные прогулки, являет собой беспрерывное триумфальное шествие. Правда, оно не сопровождается громкими криками «ура!», зато вызывает у окружающих гораздо более глубокое и сильное чувство — благоговение перед хозяином. Мне вспоминается самый обычный жилой дом на одной из улиц Ист-Сайда — улиц, на которых ютится беднота, душных, переполненных народом, где по вечерам играют шарманщики и тысячи ребятишек носятся по мостовой. Бедность, теснота; округа богата только этими быстро увядающими цветами из плоти и крови — городской детворой. Большинство людей бежало бы отсюда, если бы люди эти искали отдыха и покоя. Многочисленные тележки и фургоны гремят по мостовой; бедняки упорно трудятся, добывая кусок хлеба; тяжелый, спертый воздух вырывается из множества распахнутых дверей и окон. И вот здесь, зимой и летом, как только наступает вечер и кончаются дневные хлопоты по заключению сделок в конторе, можно видеть этого человека: он восседает на веранде своего дома или медленно шествует в клуб, — для этого ему надо миновать каких-нибудь пять-шесть домов. И таковы уж особенности политической жизни большого города, что путь ему, даже на таком коротком расстоянии, преграждают десятки людей, благоговейно приникающих к его уху, словно для исповеди. — Мистер Пауэрс, если вы не возражаете, когда у вас будет свободная минутка, я хотел бы поговорить с вами. — Мистер Пауэрс, если вы не очень заняты, я хотел бы спросить вас кое о чем. — Мистер Пауэрс… Как часто слышит он это несложное начало всякой просьбы. Расстояние менее чем в триста футов за три часа — одно это говорит о бесчисленном множестве просителей, старающихся задержать его разговорами. «Хотят что-нибудь выклянчить» — так толкуют смысл этих разговоров люди, разбирающиеся в политике. Как всякий человек, обладающий большим весом и влиянием, он склонен к деспотичности, а бесконечные просьбы и мольбы, нашептываемые на ухо, вряд ли могут умерить эту склонность. Он всегда держится осторожно и скрытно. Есть что-то жестокое и непреклонное в его большом рте с нависшей верхней губой, в тонкой полоске этого рта, напоминающей край устричной раковины, в квадратной, тяжеловесной нижней челюсти, придающей лицу холодное, безжалостное выражение. И, однако, подобие улыбки беспрестанно морщит уголки его губ, и его приближенные, так же как и самые далекие от него люди, скажут вам, что у него доброе сердце. Можете усомниться в этом или нет — как вам угодно. Вскоре после того как я попал в этот округ, я заметил в окнах почти всех магазинов и лавок дешевые печатные плакаты, объявлявшие о том, что ежегодный пикник «Союза Майкла Дж. Пауэрса» состоится во вторник, второго августа, в Уэтзелской роще, Колледж-Пойнт. Участники пикника будут доставлены на место пароходом «Лебедь», отходящим с тридцатой пристани на Ист-Ривер. Увеселительная программа включает игры, завтрак и обед. Стоимость билета пять долларов. Достаточно даже самого беглого знакомства с Ист-Сайдом, чтобы поразиться непомерно высокой цене в пять долларов. Никто даже на миг не поверил бы, что эти бережливые немцы, евреи и люди других национальностей, занятые обычно на низкооплачиваемой работе, согласятся потратить больше пятидесяти центов на подобный пикник. Жизнь здесь всегда тяжела, доллар считается огромной суммой. И все же предстоящее удовольствие произвело большой переполох в округе. — Вторник — великий день, — добродушно пошутил немец-парикмахер, когда я зашел к нему побриться в субботу на предшествующей неделе. — А что будет во вторник? — Мистер Пауэрс устраивает пикник. Будьте уверены, уж там выпьют немало пива. — А вы откуда знаете? Разве вы тоже член этого союза? — Да. Вот уже шесть лет. Прекрасный союз. — Почему билет стоит пять долларов? Вряд ли здесь многие в состоянии заплатить так дорого. — Во всяком случае, соберется три тысячи человек, — ответил он, — а может, и больше. Все поедут. Мистер Пауэрс скажет «езжайте», и они поедут. — Так, значит, это мистер Пауэрс заставляет вас ехать? — Нет, — ответил он сдержанно. — Это просто хороший пикник. Будет музыка, несколько оркестров. Будут гонки, плавание, пива вволю, завтрак и обед, веселое катание на лодках. О, мы славно проведем время! — Вы член демократической партии? — Нет, сэр. — Может быть, мистер Пауэрс обещал вам какую-нибудь должность? — Нет, сэр. — Но тогда зачем вам ехать? Должна же быть какая-нибудь причина! — В задней комнате у меня помещается избирательный пункт, — сознался он наконец. — Сколько вы получаете за это? — Шестьдесят пять долларов в год. — И из них пять долларов отдаете за билет? Он улыбнулся, но ничего не ответил. В понедельник немец, торговец бакалейными товарами, тоже сказал мне, что поедет на пикник. — Разве вы все обязаны быть там? — осведомился я. — Нет, — ответил он, — не обязаны. Но все-таки там будет кто-нибудь от каждого здешнего заведения. — Почему? — Спросите мистера Пауэрса. Там будет по одному человеку от каждой пивной, парикмахерской, ресторана и от каждой бакалейной лавки в нашей округе. — Но почему? — Так ведь это будет прекрасный пикник, — ответил он. — Мистер Пауэрс просто великолепен, когда шествует во главе. Говорят, он сейчас первый после Крокера. Почти все местные мелкие торговцы столь же одобрительно отзывались о предстоящем событии. — Это будет замечательная процессия, — сказал мне молочник. — Если вы придете сюда вечером, вам будет на что посмотреть. Сенаторы рядом с уличными мусорщиками, и полицейские чины тоже. Я подумал о снисходительности этих сильных мира сего, которые благосклонно соглашаются шагать в одной шеренге с простыми мусорщиками. — А вы поедете? — спросил я. — Да. — Вам хочется? — Ну, это будет совсем не плохо. — Что вы думаете о Пауэрсе? — Он большой человек. Первый после Крокера. Вот обождите, вы сами увидите процессию. Процессия — вот что было главным в этом деле. Такое пышное вещественное доказательство власти уже само по себе могло внушить этим людям почтение. Они чтят власть. Те, кто ими командует, отлично знают это. Внезапно мне пришла в голову мысль, что принудить такое множество людей к участию в процессии — дело нешуточное, и, заинтересовавшись, я зашел накануне знаменательного дня в клуб демократической партии. Роскошные комнаты здешнего лидера в клубе — постоянная арена его деятельности — в описываемый вечер были центром политической шумихи. Передо мною вновь предстали символы власти, иные доказательства которой я уже видел раньше. Большой зал клуба, где обычно проводятся политические собрания, был заставлен столами и конторками; за ними стояли люди, которые, как я вскоре узнал, занимали высокие посты в районной и городской организациях партии. Чиновники различных отделов городского хозяйства, бывшие сенаторы, бывшие члены законодательного собрания штата, полицейские, сыщики, члены муниципалитета — все присутствовали здесь сегодня, все оказывали посильную помощь общему делу. На столах были разложены огромные, шириной в несколько ярдов, листы бумаги со списками. За столами виднелись груды кепок, значков и тростей. Всех приходящих сейчас же проверяли по списку, на пригласительных билетах, которые они весело бросали на стол вместе с пятидолларовой бумажкой, делали отметку об уплате и возвращали владельцам. За другими столами по этим билетам они получали кепку, трость и два значка, долженствовавшие украшать каждого участника процессии. Но как бы ни был энергичен десяток чиновников, полицейских и сыщиков, бывших членов законодательного собрания и прочих, кто, сняв пиджаки и жилеты, трудился над списками и раздачей значков и всего остального, все же они едва успевали управиться с толпой ревностных членов организации, входивших и выходивших непрерывной вереницей и уносивших с собой только что полученные кепки и трости. Сотни конторщиков, полицейских, сторожей, мусорщиков и мелких канцелярских служащих шумно толпились в просторном вестибюле и приветствовали друг друга с легкой небрежностью, принятой в большинстве политических организаций. Оклики: «Привет!», «Здорово, старина!», «Как дела?» и «Ничего, понемножку» — наполняли комнаты сплошным гулом вместе с густым облаком табачного дыма, висевшим в воздухе. Люди всех степеней благосостояния расхаживали по комнатам в новых костюмах и скрипучих башмаках. Представители разных национальностей наглядно демонстрировали, что своекорыстие — черта общечеловеческая и что молодые немцы, ирландцы, евреи одинаково готовы поддержать дело и начинание, в котором их личные интересы могут сочетаться с усилением власти отдельных личностей или организаций. Они приветствовали друг друга, улыбаясь с напускной непринужденностью и дружелюбием, которые нарочито пускались в ход для данного случая. Было совершенно очевидно, что почти все они делают над собой усилие, стараясь казаться веселыми и сердечными. Тем не менее они хорошо владели собой и успешно сохраняли честное и искреннее выражение лица. Только время и незначительные промахи в поведении некоторых из них могли показать, какими суровыми и неумолимыми способны становиться эти рты, какими вызывающими могут делаться эти узкие выдающиеся челюсти. Когда оживление и суета достигли предела, появился сам мистер Пауэрс. Выглядел он весьма живописно. В этот вечер на нем был простой черный костюм и черный галстук, его лицо было багрово-красным, что отчасти объяснялось недавним и очень тщательным бритьем. Он прокладывал себе путь с кошачьей ловкостью и изяществом движений, и на каждом шагу собравшиеся старались задержать его на несколько минут или кланялись ему, а он улыбался каждому все той же бесцветной, ничего не говорящей и весьма таинственной улыбкой. — Мистер Пауэрс, у нас скоро кончатся кепки, — поспешил доложить один из помощников. — Дуган позаботится об этом, — ответил он. — Я думаю, у нас будет стопроцентная явка, — шепнул кто-то из его любимчиков. — Это хорошо. Потом он уселся в своем отделанном палисандровым деревом кабинете, рядом с залом, и к нему то и дело стали заглядывать десятки людей, пришедших из других округов, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение и купить билет. — Утром я буду у тебя, Майк, — сказал веселый чиновник из другого округа. — Спасибо, Джордж, — отозвался мистер Пауэрс с улыбкой. — Надеюсь, мы славно проведем время. — Я тоже так думаю, — заметил тот. Некоторые из старейших должностных лиц, придя в клуб по случаю этого чрезвычайного события, уселись в кресла и задумчиво перебирали в памяти события минувших дней. — Помнишь, Джерри, как Майк был членом муниципалитета? — Помню. Никто не мог с ним сравниться. — А помнишь, как он поссорился с Мэртой? — Еще бы! В те дни он никому не давал спуска. — Храбрый был, как лев. — Это верно. — Да и теперь его хладнокровию только дивиться можно. — Безусловно. — Он хороший лидер. — Само собой. — Каким образом удалось Пауэрсу завладеть этим округом? — спросил я у одного старика чиновника, молчаливо наблюдавшего за жужжащей толпой. — Наши всегда хорошо к нему относились, — ответил чиновник. — Задолго до того, как был разделен сороковой округ, Пауэрс уже пользовался известностью среди жителей одного из кварталов. В то время лидером был Кример. — Да, но каким образом Пауэрс выдвинулся? — А как выдвигаются все?.. Он поработал над этим. Еще когда был помощником механика пожарной части и получал сто двадцать долларов в месяц, раздавал половину жалованья. Каждый мог занять у него денег — в этом-то и была вся суть. Я знавал его парнишкой, он еще тогда раздавал в долг до семидесяти семи долларов в месяц. — Кем же он был, что мог так швырять деньгами? — Старшиной «Клуба двухсот». Впрочем, никто не требовал, чтобы он тратил собственные деньги. — И с этого началась его карьера? — Он всегда был ловкий малый, — возразил мой собеседник. — Кример любил его. Кример сам умел дела делать, а Майк был храбр, как лев. Когда округ разделили, Кример уговорил Джона Келли отдать вторую половину Пауэрсу. Конечно, он сделал это потому, что доверял Пауэрсу и рассчитывал на его поддержку. — Келли стоял тогда во главе местной организации? — Да. Пока мы разговаривали, какой-то возчик или мусорщик стал пробираться от широкой парадной двери к кабинету Пауэрса, где было полно народу; подойдя к порогу, он снял шляпу и почтительно остановился в сторонке. Вокруг болтались без дела десятки молодых энергичных людей. Чиновник отдела городского транспорта, помощник районного сборщика налогов, младший служащий отдела городского хозяйства и многие другие сидели, удобно развалясь, в комнате шефа. Трое или четверо служащих из канцелярии начальника полиции, все в черных костюмах, похожие на священников, шепотом совещались между собой с многозначительным и хитрым видом, как обычно разговаривают карьеристы, стремящиеся выдвинуться на политическом поприще. — Вам чего? — надменно спросил кто-то из них, подходя к ожидавшему у двери незнакомцу. — Скажите, мистер Пауэрс нынче здесь? Услышав это, Пауэрс, который сидел, развалясь в кожаном кресле, поднял голову, взглянул на человека, ждущего в приемной, потом воскликнул: — Надень шляпу, старина! Здесь никто не снимает шляпы. Заходи! Он помолчал, пока мусорщик не подошел, затем небрежно обернулся к своим прихвостням. — А ну-ка, убирайтесь отсюда, дайте человеку потолковать со мной! — сказал он, явно стараясь показать, что одинаково прост и приветлив со всеми. Чиновники, улыбаясь, вышли, и старика впустили в кабинет. Я услышал, как Пауэрс начал: «Ну что, мистер Кассиди…» — тут он медленно подошел к двери и закрыл ее. Мы, оставшиеся по другую сторону, больше ничего не слышали. И только по тому, как низко кланялся старик, выходя через некоторое время из кабинета, и как он без конца повторял: «Спасибочки вам, мистер Пауэрс, спасибочки!» — можно было понять, какого рода сделка, видимо, состоялась между ними. Таких посетителей и таких разговоров было немало за этот вечер, а тем временем толпа жаждущих купить билет не иссякала. Сотни людей входили и выходили, причем некоторые удостаивались кивка головы, другие — только беглого взгляда, третьих осматривали внимательно, испытующе. — Это все члены клуба? — спросил я своего друга, в прошлом члена законодательного собрания, а ныне уполномоченного по выборам в моем избирательном округе. — Почти все они — члены нашей окружной организации, — ответил он. — Сколько голосов вы намерены закрепить за собой таким образом? — Около пяти тысяч. — А сколько всего избирателей в округе? — Десять тысяч. — Стало быть, еще до начала выборов вам обеспечена половина всех голосов? — Мы обязаны их обеспечить, — ответил он многозначительно. — Пауэрс начнет действовать, только когда будет уверен, что большинство голосов уже за ним. Так мы сидели, наблюдая за происходящим, а время шло, и толпа редела, и вот в клубе осталась лишь незначительная горстка людей. Около полуночи можно было считать, что уже все прошли, после чего Пауэрс вышел из кабинета и спокойно собрался уходить. — Все сделано, Эдди? — спросил он стоявшего у дверей молодого ирландца с острым, как мордочка хорька, лицом. — По-моему, все. — Вы позаботитесь, чтобы помещение привели в порядок? — спросил он у сборщика налогов. — Будьте спокойны, шеф, к утру оно расцветет, как майский сад.ИЗ СБОРНИКА «ЦЕПИ»
Золотой мираж
Надо увидеть это собственными глазами, иначе не понять, до чего убог этот суровый край, до чего скудна каменистая почва, как жалки дома, сараи, сельскохозяйственные орудия, лошади, скот и даже люди — особенно люди; да и как могли бы они процветать на земле, приносящей лишь самые жалкие плоды? Старый судья Блоу первый сделал открытие, что подлинное богатство округа Тэни — цинк; впрочем, до того, как был открыт цинк, тут вообще не приходилось говорить ни о каких богатствах. Однажды в зимний день, задолго до начала бума, судья стоял перед плавильной печью в далеком К. и внимательно разглядывал куски руды, которую здесь плавили, изумляясь ее сходству с камнями и булыжниками, известными в его родных местах под названием «пустыш». — Что это такое? — спросил он обнаженного по пояс рабочего, когда тот отошел на несколько шагов от пылающей печи и стал утирать потное лицо. — Цинк, — ответил тот, проводя по лбу широкой грязной ладонью. — В наших краях есть такие же, — сказал судья, вертя в руках тусклый кусок породы и разглядывая его со всех сторон. — Точь-в-точь такие же, и сколько угодно… — И вдруг замолчал, пораженный какой-то мыслью. — Ну, если там и вправду «джек», — сказал рабочий, пользуясь названием цинка, которое в ходу на рудниках и заводах, — на этом можно нажить деньгу. Наш — привозной, из Сент-Фрэнсиса. Старый судья постоял в раздумье и медленно пошел прочь. Он знал, где находится Сент-Фрэнсис. Если эта руда настолько ценится, что ее даже привозят сюда с юго-востока, из Б., — так почему бы не везти ее из Тэни? А у него в Тэни немало земли… И вот спустя некоторое время в Тэни и его окрестностях начались большие, хотя и весьма таинственные перемены. Судья по каким-то своим сугубо личным делам исколесил всю округу, вслед за ним объявились два-три пронырливых изыскателя, а немного погодя вся местность прямо кишела ими. Но к этому времени многие фермеры уже продали свою землю за гроши, ибо понятия не имели о ее ценности. Старик Бэрси Квидер, бедняк и неудачник, прожил на своей земле сорок лет и, пока судья Блоу рыскал вокруг, даже не подозревал, что в камнях, о которые изо дня в день спотыкаются его натруженные ноги, как раз и заключено то самое богатство, о котором он уныло и бесплодно мечтал всю свою жизнь. Для Бэрси земля всегда была загадкой, — он ничего не знал о том, что в ней скрыто. А между тем в этих семидесяти акрах, которые все вместе и каждый порознь стоили ему столько пота и исторгли столько проклятий из его уст, таились неведомые возможности — исполнение всех его желании! Впрочем, под старость он стал чудаковат, по-своему толковал Священное писание и ждал близкого конца света; однако он был еще крепок и мог потягаться если не с людьми, то с природой. Весной, летом и даже осенью Квидер изо дня в день гнул спину на своем бесплодном участке; жесткая борода его и редкие волосы стояли торчком, узловатые пальцы впивались в рукоятки плуга, словно птичьи когти; он пахал свое поле — проводил узкие, неглубокие борозды, попросту царапал твердую каменистую почву, которая давно уже не приносила ему ни малейшего дохода. Земля едва могла прокормить его — только этого он теперь ждал от нее и только это получал. Дом, вернее, лачуга, где он жил с женой, сыном и дочерью, до того обветшал, что не стоило и пытаться его подправить. Заборы все развалились, держалась лишь ограда, сложенная из того никудышного камня, который всегда приводил Квидера в недоумение: от этого камня нет толку ни людям, ни животным, одна помеха, говорил он. Сарай был заплата на заплате, и в нем у Квидера хранились лишь одна старая повозка да кое-какой инвентарь, годный разве что на лом. Ветхие, покосившиеся закрома ежеминутно готовы были рассыпаться. Сорняк и проплешины, каменистая земля и чахлые деревья, костлявые клячи и такие же костлявые дети, а вдобавок одиночество и часто нужда — вот мир, которым он правил и о котором пекся. Миссис Квидер была под стать мужу — самая подходящая спутница для жизни, на которую он был обречен. Понемногу она научилась переносить постоянные лишения с полным равнодушием. Поблизости не было ни школы, ни церкви, ни клуба, ни хотя бы соседей, и потому семья жила очень одиноко. Миссис Квидер была женщина раздражительная, сварливая, со странностями; голос у нее был пронзительный, лицо изможденное. Квидера она отлично понимала — или думала, что понимает, — и могла хоть немного отвести на нем душу, пилить его, как он выражался; они часто ссорились, да оно и понятно. Среди этих унылых полей и развалившихся изгородей чего и ждать, как не ссор и брани? — Взял бы ты этот пустыш да сложил бы вон там изгородь, — бог весть в который раз за десять лет говорит миссис Квидер мужу; речь идет о добрых тридцати пяти кучах первосортной руды, почти чистого цинка, наваленных Квидером вдоль края ближнего поля; на сей раз жена заговорила об этом потому, что две тощие коровы забрались на участок, засеянный кукурузой. А «пустышу» этому цена не менее двух тысяч долларов. И Квидер бог весть в который раз отвечает: — Тьфу, пропасть, да что, мне делать больше нечего, что ли? Думаешь, эти чертовы камни чего-нибудь стоят? Еще изгороди из них складывать! Оттащил я их с борозды, и ладно, вот что я тебе скажу. — Ты скажешь… да ты, старый лодырь, только и знаешь, что табак жевать, ты… — Далее следует длинный ряд ругательств, а затем один из собеседников пускает в ход печную заслонку, кочергу или полено поувесистей, а другой столь же искусно увертывается. Семейная идиллия, как видите, — плод глубокого и нерушимого родства душ. Итак, продолжаем. Жара и дожди сменяли друг друга, однообразной чередой проходили годы, а камни по-прежнему лежали на поле. Дод, старший из детей Квидера и единственный сын, рослый, костлявый и нескладный тупица, унаследовавший от своих злополучных родителей не слишком приятный и отнюдь не кроткий нрав, мог бы перетаскать эти груды камней, не будь он «завзятым лодырем» (так называл его отец) или «вылитым папашей» (так говорила мать), и Джейн, дочь Квидеров, тоже могла бы помочь; но оба отличались тем же унылым равнодушием, какое свойственно было их отцу. И чему тут удивляться, скажите на милость? Работали они много, а давала работа мало, ничего они в жизни не видели и не ждали от нее ничего хорошего, хоть и понимали: будь судьба милостивей к ним, какой-нибудь выход все-таки нашелся бы. Бесплодная борьба с неподатливой землей ожесточила их сердца. — Не пойму, какой толк пахать южный участок, — говорит Дод в третий раз за нынешнюю весну. — На нем все равно ни черта не растет. — А ты бы малость поработал, чем рассиживаться под кустом, да ковырять в зубах, да ворон считать. Может, что и выросло бы, — визгливо огрызается миссис Квидер; озлобленная долгими, бесцельными и безнадежными спорами, она ко всему придирается, вечно недовольна и сердита. — Что толку ворочать эти камни, — возражает Дод и лениво прихлопывает муху. — Вся эта паршивая ферма гроша ломаного не стоит. И в известном смысле он прав. — Чего ж ты здесь торчишь? — язвительно спрашивает Квидер, не из желания заступиться за свои владения, а просто так, от скуки. — Раз земля тебя кормит, стало быть, и работать на ней стоит, вот что я тебе скажу. — Кормит! — глумливо, с досадой фыркнул Дод. — Пока что не больно она меня кормила. Или, может, меня чему учили, может, я хоть что-то видал на свете? — И он прихлопнул еще одну муху. Старик Квидер почувствовал едкий упрек в словах сына, но виноватым себя не считал. Он-то работал. Однако спорить с Додом ни к чему: Дод молод, силен и после стольких семейных ссор уже не питает к отцу сыновнего почтения. Даже наоборот. Мальчишкой Дод вытерпел немало пинков и подзатыльников, а теперь он куда сильнее отца и легко одолеет его в любой стычке; и Квидеру, который прежде властвовал в доме и знал, что его слово — закон, пришлось отойти на второе, даже на третье и, наконец, на четвертое место: бранью да брюзжанием уважать себя не заставишь. Но, несмотря ни на что, они кое-как уживались друг с другом. А между тем день ото дня — с тех пор как судья Блоу вернулся в Тэни — все ближе подступала цинковая лихорадка и с нею невиданный земельный бум. Люди менее толстокожие ощутили бы: что-то надвигается, словно грозовая туча… Но эти недогадливые владельцы цинковых залежей были слишком толстокожи. Они все еще нимало не подозревали о том, что готовилось. Да и как узнать о чем-нибудь в этой глуши, в безлюдье и бездорожье. Перекупщики проезжали либо севернее, либо южнее, и ни один еще не набрел на богатейший участок, где проживали Квидеры. Он был уж очень на отшибе — какой-то скалистый закоулок, поросший чахлыми деревьями и колючим кустарником. А потом в одно солнечное июньское утро… — Эй, Бэрси! — крикнул Кол Арнолд, ближайший сосед Квидеров (он жил мили за три от них), останавливая пару тощих лошадей, запряженных в расхлябанную повозку, возле поля, где работал Квидер. — Слыхал, что делается? — Он двигал во рту табачную жвачку и говорил оживленно, весело поглядывая на Квидера, будто собирался сообщить занятную новость. — Нет, а что? — спросил Квидер. Он оставил свой старый однолемешный плуг и, подойдя к краю поля, облокотился на сложенную из цинка ограду и пригладил ладонью редкие волосы. — Старик Данк Портер продал свою ферму под Ньютоном, — многозначительным и торжественным тоном объявил Кол, словно речь шла о грандиозном сражении или о том, что близится конец света. — И получил за нее три тыщи долларов. Он с наслаждением просмаковал эту цифру. — Ишь ты! — негромко произнес Квидер, крайне удивленный. — Три тыщи? — переспросил он, не веря своим ушам. — Да за что же это? — Говорят, там есть руда, — с важностью продолжал Арнолд. — И будто этой самой руды по всей округе полным-полно. Повсюду. Говорят, вроде наш пустыш и есть руда. — И он легонько стегнул кнутом по груде ничего не стоившего доныне цинка, к которой прислонился Квидер. — Вот эта штука и есть руда, «джек» прозывается, и цена ей два цента фунт, даже больше, когда ее перепарят (он хотел сказать «переплавят»). У тебя тут, видать, ее порядочно. У меня тоже. Сколько хочешь валяется на участке. Я всегда думал, эта штука ни на что не годна, а вот, говорят, годна. Парни, кто побывал в К., говорят, если эту штуку обработать, перепарить и все такое, из нее можно наделать чего угодно. Что именно делают из цинка, он не знал, и потому не стал вдаваться в подробности. Он только мечтательно прищурился, скривил рот, собираясь сплюнуть, и взглянул на Квидера. А тот, не в силах осмыслить неожиданную новость, взял в руки кусок «пустыша», который он прежде так презирал, и уставился на него. Подумать только, долгие годы он так мучился, гнул спину и всегда считал, что камень этот ни на что не годен, и вдруг оказывается — это штука, если ее перепарить, стоит два цента фунт, и соседи уже продают свои фермы за неслыханные деньги. Его владение (так всегда выражался Квидер) сплошь завалено этим камнем — а ведь он все равно что золото! Да вон там, подальше, целые бугры его греют свои горбатые серые спины на жарком солнце, а в одном месте он выпирает из земли длинной грядой. Ну и дела! Подумать только! Но хоть думал Квидер много, он не сказал ничего, ибо в его отупевшем, худосочном мозгу в эти минуты зарождался и расцветал великий, потрясающий замысел. У него будут деньги, богатство, благополучие — шутка сказать! Не гнуть больше спину, не обливаться потом в летнюю жару, вволю мечтать, сложа руки, жевать табак сколько душе угодно, жить в городе, съездить в далекий, таинственный К., поглядеть на белый свет! Подумать только! — Ну, ладно, я поехал, — сказал наконец Арнолд, видя, что Квидер его не слушает. — Съезжу к Брадеру, хочу обернуться засветло. Я с ним сговорился, меняю поросенка на сено… Он стегнул своих костлявых кляч и покатил по каменистой пыльной дороге. Квидер не мог опомниться. Неужто все это правда? Неужто Портер продал ферму? Съездив через несколько дней в Арно — за шестнадцать миль, — он убедился, что это и в самом деле правда, но сохранил новость в тайне, он лелеял волшебную мечту. Земля принадлежит ему — не жене и не детям. Долгие годы, еще до женитьбы, он пахал ее, выплачивал за нее то деньгами, по нескольку долларов, то кукурузой, пшеницей, свиньями. А теперь… теперь скоро явится какой-нибудь из этих странных людей, как их там Арнолд называл, «зыскатели» вроде, что разъезжают по всей округе с туго набитым кошельком, и купит его владение. Чудеса! Прямо чудеса! Сколько он получит? Наверняка тысяч пять, — вон Портеру заплатили три за сорок акров, а у него семьдесят. Четыре тысячи уж во всяком случае — немного побольше, чем Данк. Трудно высчитать точно, но, уж конечно, ему заплатят больше, чемДанку, верней всего — пять тысяч! Только одно тревожило Квидера, очень тревожило — мысль о злобном, жестокосердном его семействе: упрямый Дод, нескладеха Джейн и сварливая Эмма, его дражайшая супруга, уж наверно захотят получить свою долю этих сказочных благ; они даже могут отнять у него все как есть, и придется ему по-прежнему влачить самое жалкое существование. Они ведь куда упрямей и сильней его. Он становится стар, даже немощен, годы тяжкого труда отняли у него силу. А жена всю жизнь только и делала, что насмехалась и глумилась над ним, — сейчас он ни о чем другом вспоминать не желал; да и сын ничуть не лучше. Дочь — та совсем его не любит, считает неудачником и лодырем, сама ничего не делает, а отец надрывайся из последних сил… Если и были когда-нибудь в этой семье любовь и согласие, они давно сгинули в затхлой атмосфере озлобленности и нищеты. Разве кто-нибудь из них сделал для него хоть что-нибудь? Ничего. А теперь они, конечно, захотят получить свою долю. Он прожил с ними долгие, безрадостные годы и сейчас спрашивал себя, неужели они посмеют заикнуться о дележе, — и все же знал, еще как посмеют! Они всегда нападали на него, изводили. А теперь, когда в его дверь стучится богатство, станут его улещать, выпрашивать подачки, а пожалуй, и требовать! Как же быть? Что делать? Ведь богатство почти что уже в руках. Нельзя его упускать! Как затравленная крыса, Квидер настороженно озирался и хорохорился. Даже домашние заметили, как он переменился, и удивились, но, еще ничего не зная о случившемся, приписали это странностям, понятным в его возрасте. — Что-то у нас отец зачудил, — сказал однажды Дод матери и Джейн, когда старик, пообедав, снова отправился в поле. — Знай стоит у ограды и глазеет по сторонам, то ли ждет кого, то ли думает о чем. Может, он малость свихнулся? Как по-вашему? Дод всегда внимательно приглядывался к отцу — здоров ли: ведь когда старик умрет, каждый получит свою долю наследства, а может быть, всем на ферме станет заправлять он, Дод, — тогда за него пойдет любая девушка в округе, сбудется давнишняя его мечта о женитьбе, заглохшая, почти несбыточная при такой тяжкой жизни. — Да, и я стала примечать, — подтвердила миссис Квидер. — Какой-то он не такой, как раньше. Верно, вбил себе что-нибудь в голову. Может, надумал что сделать, да не ладится у него, или, может, что божественное на уме. Никогда не угадаешь, что его там разбирает. Джейн была такого же мнения, и на том разговор закончился. А Квидер все раздумывал, как бы решить эту путаную задачу; понятно, все дело в том, как продавать землю — открыто или тайно; если удастся, надо продавать тайно, решил он под конец. Ведь от жены и детей он сроду ласки не видал, — ничего лучшего они и не заслуживают. Он ферме хозяин, чего ж не распорядиться своим-то добром? Наконец появился и перекупщик — он ехал верхом, одетый по-дорожному, и оглядывал поля; заметив квидеровский участок, где выходила на поверхность большая жила, он сразу оценил его и оживился. Самого Квидера в эту минуту не было поблизости, — он ушел на дальнее поле, но миссис Квидер встретила незнакомца довольно любезно — она даже не подозревала, чего стоит их земля, а потому и не заметила скрытого огонька в его глазах. — Вы не дадите мне напиться? — попросил он, когда она появилась на пороге. — Как не дать! — ответила она почтительно. Прилично одетые люди были в этих местах большой редкостью. Старик Квидер с дальнего поля заметил у колодца незнакомого человека и повернул к дому. — Из чего это у вас сложены изгороди? — осторожно закинул удочку незнакомец. — Вот уж не знаю, — сказала миссис Квидер. — Из камня какого-то. По-нашему прозывается пустыш. Приезжий подавил улыбку, нагнулся и подобрал один из валявшихся под ногами камней. Руда была та же, какую он видел всюду на несколько миль в окружности, только чище, и ее здесь было куда больше. Никогда ему не приходилось видеть так много первосортного цинка, и притом почти на поверхности. Руда везде выходила наружу, плуг, морозы и дожди обнажили ее, а ведь в соседнем районе приходилось ее выкапывать из-под земли. Эта разоренная ферма, жалкая одежда миссис Квидер, старик, гнущий спину под палящим солнцем, и поля, непригодные для земледелия из-за своих сказочных богатств, — все это прямо ошеломило агента. — Вся эта земля ваша? — спросил он. — Почти семьдесят акров, — ответила миссис Квидер. — Не знаете, почем тут акр? — Не знаю. Давно не слыхать, чтоб у нас кто продавал землю. Уж верно, ей невелика цена. При словах «невелика цена» перекупщик невольно вздрогнул. Что сказали бы его друзья и соперники, если бы знали об этом участке?.. Вдруг кто-нибудь откроет глаза этим людям?.. Купить бы сейчас за бесценок, это наверняка нетрудно! По соседству уже рыщут другие агенты. В Арно он обедал за одним столом с тремя какими-то личностями, должно быть, и они занимаются тем же. Надо заполучить этот участок, и притом не откладывая. — Я, пожалуй, пойду потолкую с вашим мужем, — сказал он, тронул поводья и рысцой отъехал, а миссис Квидер и Джейн, совсем одинаковые в мешковатых синих платьях, раздуваемых ветром, стояли на развалившемся крыльце и смотрели ему вслед. — Чудной какой, верно? — сказала Джейн. — Чего это ему надо от папаши? Старик Квидер, увидав, что приближается чужой человек, взялся было снова за плуг, а теперь выпрямился и подозрительно уставился на него. Перекупщик приветливо поздоровался, порассуждал минуту-другую о погоде и наконец спросил: — Вы, случайно, не знаете, не продается тут поблизости хороший участок под пашню? — А вам земля нужна под пашню? — ехидно спросил Квидер, испытующе глядя на незнакомца, и приезжий сразу понял, что фермер знает больше, чем его жена. — Я-то слыхал, ее нынче покупают больше из-за руды. — Он сбоку, по-птичьи, взглянул на собеседника, стараясь уловить, как принят этот выпад. Агент хитро, понимающе улыбнулся. — Ясно, — сказал он. — Так, по-вашему, здесь можно добывать руду? А во сколько вы оценили бы свою землю, если бы могли продать ее под разработки? Квидер призадумался. Пара лесных голубей печально ворковала в отдалении, резко прокричал черный дрозд. Наконец старик заговорил: — Да я еще не знаю, стану ли продавать-то. — Он давно сообразил, что хорошо бы придержать землю и набить цену, когда найдется побольше охотников ее купить; но его мучила мысль, что тем временем жена и дети обо всем узнают и потом заставят его разделить с ними барыши. А он хотел поездить по свету, повидать новые места, уехать от семьи, стать свободным и счастливым — такие мечты неотступно преследовали его. — А рядом с вашей чья земля? — спросил незнакомец, поняв, что этот участок за гроши не купишь. Квидера передернуло. Ведь и соседний участок был богат рудой, и старик это хорошо знал. — Вон та, стало быть… — проворчал он словно бы равнодушно, силясь скрыть досаду. — Это земля Мэрродью, — нехотя сказал он наконец. Конечно, если он откажется продать свою землю, этот приезжий или еще кто-нибудь может купить участок у другого фермера. А все-таки тут вся земля богатая, и его участок не хуже других. Раз уж Данк Портер получил три тысячи… — Если вы не хотите продавать, так, может быть, сосед ваш продаст, — вкрадчиво заметил приезжий. Он высказал это предположение рассеянно, спокойно, почти равнодушно. Наступило молчание; Квидер размышлял, опираясь на рукоятки плуга. Ужасно было бы упустить долгожданное счастье. И, однако, несмотря на всю свою жадность, он не растерялся. Арнолд сказал, что одна только руда — вот эти камни — стоит два цента фунт, но Квидер не мог себе представить, что сам по себе участок, сама земля, не считая скрытой в ней руды, ничего не стоит. Как же так? Кое-какой урожай она все-таки дает. — Не знаю, — сказал он с вызовом, хоть и чувствовал себя не слишком уверенно. — Спросите его сами. Я-то не слыхал, чтоб он собирался продавать. Квидер решил пойти на риск, даже если придется потом бежать за этим человеком и упрашивать его, — впрочем, может, и не придется. Найдутся и другие покупатели. — Не уверен, что мне подойдет ваш участок, — лениво, с отлично разыгранным равнодушием сказал агент, — но если бы вы надумали продать вашу землю, я составил бы запродажную. Сколько вы возьмете за все семьдесят акров? Мы могли бы составить запродажную сроком на два месяца. Несчастный фермер не имел ни малейшего понятия о том, что такое «запродажная», но решил в этом не признаваться. — А сколько вы дадите? — спросил он наконец, сам не зная, сколько запросить. — Ну, скажем, двести долларов сейчас и пять тысяч через два месяца, если мы к тому времени окончательно сойдемся. — Зная, какие сделки заключались в этот день по соседству, агент предлагал наименьшую сумму, на которую, по его предположениям, мог согласиться Квидер. Старик не понимал, что такое «запродажная», и не знал, что сказать. Пять тысяч — он с самого начала думал, что предложат эту сумму, — но через два месяца! Что бы это значило? Если этот человек хочет купить участок, почему он не платит сразу наличными, как заплатили, по словам Арнолда, Данку Портеру? Квидер лихорадочно следил за лицом незнакомца, сжимая рукоятки плуга, и наконец почти наобум сказал: — Я и семь тыщ запросто получу, коли захочу ждать. Вот мой сосед получил три тысячи, а у него на тридцать акров меньше моего. Тут приходил один, давал мне шесть тыщ. — Что ж, может, и я дам шесть, если земля окажется подходящая. — Наличными? — в изумлении спросил Квидер и отшвырнул ногой камень. — Самое позднее через два месяца, — ответил агент. — А-а! — хмуро протянул Квидер. — Я думал, вы хотите купить теперь. — Ну, нет, — сказал тот. — Я говорю о запродажной. Если столкуемся, я вернусь с деньгами через два месяца или даже раньше, и мы покончим с этим делом: шесть тысяч наличными, за вычетом задатка. Понятно, я не обязуюсь непременно купить вашу землю, только получаю преимущественное право купить ее в любой день в течение двух месяцев, а если я за это время не вернусь, деньги, которые я вам дам сегодня, — ваши, понятно? И тогда вы можете продать участок кому-нибудь другому. — Гм! — буркнул Квидер. Он мечтал о том, чтобы получить деньги сейчас же и уйти от своих, а тут непонятный разговор про какие-то два месяца. — Ладно, — сказал агент; видя недовольство Квидера, он решил накинуть немного, чтобы не упустить выгодную сделку. — А если семь тысяч и сейчас пятьсот наличными? Ну, как? Семь тысяч через два месяца и пятьсот сейчас. По рукам, что ли? Он полез в карман и вытащил туго набитый бумажник, что привело Квидера в большое волнение. Никогда он не видывал столько денег, да притом — таких денег, которые могли сейчас же перейти в его руки, стоит ему только захотеть. В конце концов и пятьсот долларов наличными — деньги нешуточные. С ними чего только не сделаешь! А потом, через два месяца, еще шесть тысяч с половиной! Но вот задача — жена и дети. Если он хочет, чтоб сбылась его мечта — убежать от своих, надо сохранить все в строжайшей тайне. Что будет, если они узнают про эти деньги, хотя бы про пятьсот долларов? Вдруг Дод, или жена, или Джейн, или все втроем отнимут их… украдут, пока он будет спать? С них станется! Он стоял молча, с таким растерянным видом, что агент начал опасаться отказа. — Вот что я вам скажу, — заявил он, словно делая фермеру величайшую уступку. — Даю восемь тысяч и сейчас выложу восемьсот. Ну как? Это мое последнее слово, больше я дать не могу. — И с этими словами он сунул бумажник в карман. Но Квидер только немо смотрел на него, ошарашенный и своим неожиданным счастьем и теми препятствиями, которые он предвидел. Восемь тысяч! Восемьсот наличными! Уму непостижимо. — Нынче? — спросил он наконец. — Да, только вам надо съездить со мной в Арно. Я хочу посмотреть ваши бумаги. Но, может быть, акт на владение землей у вас дома? Квидер кивнул. — Ну, тогда, если он в порядке, я заплачу вам сейчас же. У меня есть с собой бланк соглашения — наверно тут можно найти кого-нибудь, кто его засвидетельствует. Только надо, чтобы и ваша жена подписала. Лицо Квидера вытянулось. Вот тут-то и загвоздка: жена и дети! — И она тоже должна подписывать? — спросил он мрачно, в полном унынии. Он был вне себя от отчаяния и негодования. Столько лет он работал как лошадь, как раб! А теперь привалило счастье — и вот, видно, все пойдет прахом! — Да, — перекупщик понял по лицу и тону Квидера, что тому вовсе не хочется посвящать в дело жену, — ее подпись тоже нужна. Жаль, если это вам неприятно, но таков закон. Может, вы как-нибудь между собой столкуетесь? Давайте попробуем с нею поговорить. Квидер замялся. Делиться с женой и сыном… даже подумать тошно! Он, пожалуй, не против Джейн. Но если они обо всем узнают, они станут приставать к нему и требовать себе большую часть. Надо будет отбиваться, отстаивать свои права. А когда у него будут деньги — если будут! — придется сторожить их, прятать, скрывать от всех. — Ну, в чем же дело? — спросил перекупщик, заметив смятение старика. — Жена не хочет, чтобы вы продавали землю? — Да нет. Еще как захочет, когда узнает. Только я никогда не говорил ей про это. Они с Додом станут требовать себе бóльшую половину, а ведь это не их земля, а моя. Это я ее купил. Я тогда еще и женат-то не был. А жена никогда ничего не делала, только знай суетилась да ругалась со мной. — Давайте пойдем и поговорим с нею. Может быть, она не будет упрямиться? Видите ли, по закону ей полагается только третья часть, разве что вы сами захотите дать больше. Так что у вас останется около пяти тысяч. Если хотите, я устрою так, чтобы вам достались те же пять тысяч, сколько бы ни получила ваша жена. — Перекупщик решил, что Квидеру почему-то необходимо получить именно пять тысяч для себя лично. И в самом деле, при этих его словах лицо старого фермера немного посветлело. Пять тысяч? Да ведь это больше, чем он рассчитывал получить еще час назад. Допустим, и жене достанутся три тысячи. Так что же? Ведь его-то мечта сбудется! Он сразу согласился и направился вместе с приезжим к дому. Но на полпути остановился и огляделся. Казалось, он плохо соображал, что делает. Столько денег… такие перемены в жизни… если только дело выгорит! Голова у него шла кругом, мысли путались. И без того с годами рассудок его стал сдавать, а внезапно свалившееся богатство, надежды, которые оно пробудило, и страх его потерять совсем сбили старика с толку. Он медленно повернулся и обвел горизонт пустым, отсутствующим взглядом; перекупщик заметил странный блеск в глазах фермера, и у него мелькнуло подозрение, что старик не в своем уме. — Что с вами? — спросил он. Тот, казалось, внезапно пришел в себя. — Ничего, — сказал он. — Просто я задумался. Агент мысленно спросил себя, насколько законным будет соглашение, заключенное с помешанным, но участок был слишком ценным, чтобы беспокоиться о пустяках. Раз документ будет подписан, хотя бы и слабоумным, всякая попытка расторгнуть договор натолкнется на серьезные юридические препятствия. С покосившегося крыльца Джейн и ее мать с удивлением смотрели на приближающуюся пару; но Квидер тотчас прогнал дочь, шугнул ее, как забежавшего в дом цыпленка. Войдя в единственную комнату, которая служила и столовой, и спальней, и всем, чем угодно, Квидер тотчас захлопнул дверь в кухню, куда отступила Джейн. — Иди, иди отсюда, — пробормотал он при этом, видя, что она топчется у самой двери. — Мне надо поговорить с матерью, поняла? Джейн отошла было, но потом снова прижалась ухом к двери, чтобы подслушать разговор. Однако отец был настороже и опять отогнал ее. Потом принялся объяснять жене, в чем дело. — Вот этот человек… не знаю, как вас звать… — Кроуфорд, — подсказал перекупщик. — Кроуфорд… мистер Кроуфорд… хочет купить нашу ферму. Я и подумал, раз на твою долю тут тоже кой-что приходится… третья часть, — предусмотрительно прибавил он, — нам надо с тобой потолковать! — Кой-что? — подозрительно и злобно огрызнулась миссис Квидер, нимало не стесняясь чужого человека. — Надо думать! Я тут работала как каторжная целых двадцать четыре года. А сколько вы нам дадите? — резко спросила она перекупщика. Квидер весь задрожал от жадности, и его отчаянный взгляд предупредил агента, что правду говорить не следует. — А сколько она, по-вашему, стоит? — Ну, я не знаю в точности, — уклончиво сказала миссис Квидер, боясь продешевить: она вообразила, что муж, по старости не доверяя себе, предоставляет ей вести переговоры. — Тут в округе фермы вроде нашей продаются чуть не за две тыщи долларов. — Она назвала самую большую сумму, о какой когда-либо слыхала. — Это, пожалуй, многовато, — солидно сказал Кроуфорд, упорно не глядя на Квидера. — Обычно земля в этих местах стоит не дороже двадцати долларов за акр, а у вас тут, как я понимаю, акров семьдесят, не больше. — Так-то так, но у нас земля получше, чем у других, — возразила миссис Квидер, забыв, что полчаса назад она говорила совсем другое. — И ручей возле самого дома, — прибавила она, выдвигая лучший довод, какой только могла придумать. — Да, — сказал Кроуфорд, — я видел. Это, конечно, тоже кое-чего стоит. Стало быть, по-вашему, этой земле цена две тысячи, так? — И он выразительно поглядел на Квидера, словно говоря: «Здорово разыграли!» Миссис Квидер, очень довольная, что решающее слово в этих переговорах принадлежит ей, обратилась за советом к мужу: — Как скажешь, Бэрси? Квидер, терзаясь сознанием своего двуличия и страхом, что все откроется, снедаемый алчностью и тревогой, растерянно смотрел на жену. — Да по мне, так земля, конечно, этого стоит, — пробормотал он. Кроуфорд начал объяснять, что сейчас он хочет только составить запродажную — получить предварительное согласие владельцев продать ему землю, и, если они сойдутся в условиях и бумага будет подписана, он даст им немного денег вперед, чтобы скрепить сделку; тут он опять со значением поглядел на Квидера, давая понять, что тот получит сумму, о которой они сговорились раньше. — Если вы согласны, мы сейчас же и покончим дело, — сказал он вкрадчиво, доставая из кармана бланк соглашения. — Я только заполню бланк, и вы оба подпишетесь. Он подошел к щербатому, некрашеному столу и развернул на нем бумагу, а Квидер и его жена неотрывно следили за каждым его движением. Оба они не умели ни читать, ни писать, притом Квидер не представлял себе, каким образом он получит свои восемьсот долларов, и мог только надеяться на изобретательность перекупщика. Мужа и жену совсем заворожила мысль, что их бесплодную, никудышную землю можно продать так быстро и за такую высокую цену и получить самые настоящие деньги, — они плохо соображали и двигались, будто во сне. Глаза миссис Квидер от жадности совсем сузились и стали, как щелки. — А сколько ж вы дадите задатку? — тревожно спросила она с лихорадочным нетерпением во взгляде. — Ну, скажем, сотню долларов, — сказал перекупщик и многозначительно взглянул на Квидера. — Хватит этого? Сто долларов! Они жили в такой бедности, что и сотня казалась им целым состоянием. Жене Квидера, ничего не знавшей о ценности руды на их участке, эти деньги представлялись невероятным, необъяснимым, с неба свалившимся счастьем, предвестьем лучших времен. И через два месяца еще две тысячи! Но тут встал вопрос о свидетеле и о том, как подписать бумагу. Агент заполнил расписку в получении ста долларов (заполнил карандашом) и предложил: — Теперь подпишитесь здесь, мистер Квидер. — Да я не умею писать, — ответил тот. — И жена не умеет. — Когда я молодая была, нас тут ученьем не баловали, не до того было, — засмущалась его супруга. — Ну что ж, тогда просто поставьте по кресту, а кто-нибудь засвидетельствует, что это ваша рука. Сын или дочь умеют писать? Это было новое осложнение, самое неприятное для обоих: ведь стоит позвать Дода, и он захочет всем распоряжаться, он такой упрямый и непокорный. Правда, подписать свое имя он умеет, даже читать немного обучен, но лучше бы подольше ничего ему не говорить… Муж и жена подозрительно и недоверчиво смотрели друг на друга. Что же делать? Из затруднительного положения их вывел грохот колес на дороге. — Может быть, там едет кто-нибудь, кто мог бы удостоверить ваши подписи? — спросил Кроуфорд. Квидер взглянул в окно. — Да, он вроде грамоте знает, — заметил он. — Эй, Лестер, поди-ка сюда! Дело есть. Грохот смолк, и через минуту в дверях появился Лестер Ботс, фермер, с виду бедолага под стать Квидеру. Перекупщик объяснил, что здесь требуется, и соглашение наконец было подписано; при этом Ботсу, ничего не слыхавшему о руде на участке Квидера, очень хотелось сказать агенту, что можно купить под пашню участок получше и притом дешевле, только он не знал, как об этом заговорить. Прежде чем подписать бумагу, миссис Квидер решила внести в дело полную ясность. — Я получу свою долю сейчас же, да? — осведомилась она. — Вы мне прямо сейчас заплатите? Кроуфорд взглянул на Квидера, словно спрашивая, как старик к этому отнесется; а тот, охваченный жадностью, и притом хорошо зная характер жены, крикнул: — Ничего ты не получишь, покуда я не помру. Никакой доли тебе не полагается, раз мы не врозь живем! — А коли так, не стану подписывать, — злобно огрызнулась миссис Квидер. — Я, конечно, не хочу вмешиваться, — примирительно вставил перекупщик, — но, по-моему, лучше отдайте жене ее долю — тридцать три доллара (он выразительно посмотрел на Квидера, стараясь его вразумить), а потом и треть от двух тысяч — это всего шестьсот шестьдесят долларов. Стоит ли срывать дело? Вам надо как-то столковаться. Сделка выгодная. Всем хватит. Фермер внимательно выслушал это хитроумное предложение. В конце концов шестьсот шестьдесят долларов из восьми тысяч — не так уж много. Боясь отсрочки и разоблачения тайны, он сделал вид, что смягчился, и под конец дал согласие. Кресты вместо подписей были поставлены и их подлинность удостоверена Ботсом, сто долларов наличными отсчитаны и по желанию миссис Квидер разложены на две пачки, а соглашение исчезло в кармане мистера Кроуфорда. Затем перекупщик и Ботс уехали, но сперва Кроуфорд потихоньку сунул вышедшему с ним Квидеру разницу между сотней и той суммой, о которой они условились раньше. Увидев у себя столько денег, старый фермер уставился на них, словно зачарованный. Он помедлил, дрожа от мучительной жадности, потом его жесткие, узловатые пальцы стиснули бумажки, точно когти ястреба, хватающего добычу. — Спасибо вам, — сказал он громко, — спасибо! — Он тревожно оглянулся на дверь и понизил голос: — Вы сперва потолкуйте со мной, когда приедете в другой раз. Нам надо быть поосторожней, а то она проведает, что к чему, и не станет подписывать, да еще подымет крик на весь дом. — Ладно, будьте спокойны, — ответил перекупщик, очень довольный. Он смекнул, что старик своим обманом сам запутывает дело, и потому нетрудно будет заявить, будто эти две тысячи, вписанные карандашом, и есть настоящая цена, а Квидеру заткнуть глотку, пригрозив разоблачить его двойную игру. Впрочем, впереди два месяца, еще успеем все это обдумать. — Я буду у вас через два месяца, а то и раньше. — И он не без грации откланялся, оставив несчастного старика во власти тревожных дум. Нетрудно догадаться, что тревоги Квидера только начинались. Дод и Джейн, услышав через некоторое время от матери о выгодной продаже земли, пришли в волнение. Деньги — любые деньги, даже самая маленькая сумма — пробуждают мечту о достатке, о приятной, легкой жизни, — кто же всем этим насладится? Ведь и они работали, столько сил положили на эту землю! А где их доля? Они снова и снова спрашивали об этом, но тщетно. Мать и отец упорно твердили, что надо сперва получить все деньги, а там видно будет. Пока они препирались и спорили даже из-за такой скромной суммы, как сто долларов, возникло новое осложнение: Дод узнал, что вся земля кругом полна руды, что в Эдере — соседнем приходе — и даже здесь, у них, уже продаются фермы, и ходят слухи, будто Квидер продал свой участок за пять тысяч — и прогадал, земля стоит куда больше, до двухсот долларов за акр, стало быть, они должны бы получить четырнадцать тысяч. Дод сразу же заподозрил родителей в мошенничестве: пожалуй, никакого предварительного соглашения не было и земля окончательно продана, а старик, или мать, или оба вместе скрыли от него и от Джейн огромные деньги. В доме сразу воцарились подозрительность и злоба. — Они продали ферму не за две тыщи, а за пять, вот что, — объявил однажды Дод сестре в присутствии родителей. — Все нынче знают, чего стоит эта земля, и они получили не меньше, будь уверена. — Врешь! — пронзительно крикнул Квидер, пораженный словами Дода. Как? Мало того, что сын уличил его в обмане, но и сам он продешевил при продаже! Значит, он попал в ловушку, из которой нелегко будет выбраться. — Ничего я не продавал, — сказал он со злостью. — Лестер Ботс был тут и знает, об чем был уговор. Он тоже подписался. — Может, земля и стоит больше двух тыщ, да тот человек не хотел давать больше, — пояснила миссис Квидер; однако, не слишком доверяя мужу, она тут же подумала, что он, пожалуй, втихомолку сговорился с тем приезжим. — Может, они с отцом и столковались по-другому, — она подозрительно покосилась на Квидера, припоминая вкрадчивую любезность перекупщика, — да только он мне ничего не сказал. Помнится, они с отцом битый час толковали у той изгороди, а уж потом пришли сюда. Я и тогда подивилась: об чем это они? Она с тревогой спрашивала себя, как бы поправить дело и получить настоящую цену. — Я так думаю, он получил больше, чем говорит нам, — вызывающе заявил Дод и недоверчиво поглядел на отца. — Нынче от нас до самого Арно и по двести долларов за акр землю не купишь, не мог он про это не знать, да еще земля куда хуже нашей. Просто он получил деньги и припрятал их, вот что! Миссис Квидер, крайне расстроенная мыслью, что муж, видно, ее одурачил, сочла нужным призвать небеса во свидетели: она-то по крайней мере никого не обманывала! Если тот человек предложил или заплатил больше, так она про это ничего не знает. В свою очередь, Квидер был вне себя от страха, от ярости, от ненависти к жене и детям — он вовсе не желал с ними делиться. — Ах ты, подлюга! — крикнул он Доду, вскочил на ноги и кинулся за поленом. — Я тебе покажу, как мы прячем деньги! Что ж, по-твоему, я вор? Но Дод, который был гораздо сильнее отца, перехватил его на полпути и отшвырнул. Уже не в первый раз, к великой ярости Квидера, Доду без труда удавалось с ним сладить. Старика всегда возмущала грубость сына, его наглость и жестокость. Кончилось тем, что сын вытолкал старика за дверь, а мать принялась многословно доказывать Доду и Джейн, что уговор и правда был только о двух тысячах, а больше она ничего не знает и, подписывая бумагу по секрету от детей, не желала им ничего худого, хотела только обеспечить их и себя. Однако догадываясь, что муж все-таки обманул ее, она стала строить планы, как бы вместе с Додом и Джейн его перехитрить. Между тем Квидера душила злоба; он боялся и ненавидел сына, со страхом думал о том, что же будет теперь, когда Дод знает правду. Как помешать Доду присутствовать при окончании сделки? А если не помешать, как перекупщик вручит ему деньги, причитающиеся по тайному уговору? Допустим даже, что он их получит, — а вдруг он все-таки продешевил? Чуть не каждый день доходят слухи о новых продажах по ценам куда выше, чем выторговал он. А супруга его, точно разъяренная наседка, непрестанно кудахтала, что муж, видно, смошенничал, но скрытного старика невозможно было уличить. Он старался по целым дням не бывать дома, вздрагивал, как заяц, при малейшем шуме, при виде незнакомого прохожего; когда к нему приставали с вопросами, он либо отмалчивался, либо что-нибудь врал. Полученные тайком семьсот долларов он обернул бумагой, запрятал в щель между балками в конюшне и заставил щель старым бидоном. По нескольку раз на день он возвращался сюда и, настороженно прислушиваясь и озираясь, проверял, на месте ли его только что обретенное богатство. Поистине что-то зловещее, едва ли не безумие вошло отныне в жизнь семьи: мать и дети замышляли разделаться с отцом, а старик бодрствовал ночи напролет, поминутно вздрагивал и прислушивался к каждому звуку, доносившемуся со стороны конюшни. Не раз он менял тайник, одно время даже носил деньги при себе. Как-то он нашел старый, ржавый нож, спрятал его на груди, не расставался с ним ни днем, ни ночью, и ему снились дурные сны. В разгар всего этого в одно прекрасное утро явился новый перекупщик и не меньше первого обрадовался находке. Как всякий хороший делец, он соглашался разговаривать только с самим владельцем и потребовал, чтобы позвали Квидера. — Отец! — крикнула Джейн с покосившегося порога. — Тут какой-то человек хочет с тобой переговорить! Старик Квидер, работавший под палящим солнцем на поле, где он проводил теперь все дни в напряженном ожидании, осторожно поглядел в сторону дома и увидел незнакомого человека. Он перестал полоть и направился к нему. Откуда-то вынырнул и Дод. — Экая сушь стоит, правда? — любезно заговорил незнакомец, встретив старика на полдороге. — Да, — рассеянно отозвался Квидер: он страшно устал за эти дни, устал и душой и телом. — Сушь, сушь, это верно! — Он вытер ладонью изрезанный морщинами лоб. — Не знаете, тут кто-нибудь по соседству не продает землю? — А вы, небось, тоже из этих, которые насчет руды? — напрямик спросил Квидер. Теперь уж не к чему было играть в прятки. Незнакомец был застигнут врасплох, он никак не ожидал сразу натолкнуться в этой глуши на столь полную осведомленность. — Да, из них, — признался он. — Так я и думал, — сказал Квидер. — Вы не продали бы свой участок? — спросил перекупщик. — Не знаю, — уклончиво начал фермер. — Тут и раньше приходили какие-то, вроде вас, высматривали. А сколько вы дадите? — Он в упор поглядел на собеседника; они отходили все дальше от дверей, где стояли, наблюдая за ними, Дод, Джейн и мать. Перекупщик бродил по ферме, разглядывал валявшиеся повсюду глыбы руды. — Как будто участок недурен, — спокойно сказал он немного погодя. — А сколько вы хотите за акр? — Да вот, я слыхал, вокруг Арно берут по триста, — ответил Квидер, изрядно преувеличивая. Теперь, когда явился новый покупатель, ему не терпелось услышать, насколько больше ему предложат, чем в первый раз. — Н-ну, знаете, это многовато, ведь до железной дороги далеко, перевозка обойдется недешево. — Да земля-то все-таки свои триста стоит! — глубокомысленно заметил Квидер. — Ну уж, не знаю. А может быть, вы продадите сорок акров по двести? Старик Квидер навострил уши. Сорок акров по двести долларов… да ведь это выходит столько же, сколько он думал получить за все семьдесят акров, — и в его распоряжении еще останется тридцать акров. Вот это и впрямь выгодная сделка, она и вправду сулит богатство — восемь тысяч за сорок акров, а из первого покупателя он только и сумел выжать что восемь тысяч за все семьдесят! — Ха! — Он решил поторговаться не спеша, в свое удовольствие. — Мне дают двенадцать тыщ за все, и запродажная готова. — Что? — воскликнул агент, испытующе глядя на него. — И вы подписали какие-нибудь бумаги? Квидер с минуту подозрительно смотрел на него; потом, заметив, что издали, с порога, за ними наблюдает все семейство, сделал приезжему какой-то загадочный знак. — Отойдем-ка, — сказал он и повел агента к дальней изгороди. На безопасном расстоянии от дома они остановились. — Я вам сейчас все расскажу, — зашептал Квидер. — С месяц назад приезжает один человек, а я тогда еще не знал, что тут есть руда, поняли? А он знал, да мне ничего не сказал, и спрашивает, сколько я возьму за акр. А тут как раз проезжал один мой сосед и говорит — мол, неподалеку участок в сорок акров продали за пять тыщ. Я и подумал, раз моя земля такая же, еще получше, и у того сорок акров, а у меня семьдесят, стало быть, я должен получить почти вдвое против него. Я так и сказал. Он сперва не соглашался, а потом одумался, и мы уговорились: раз это моя ферма, раз я тут работал еще до женитьбы, стало быть, коли я ее продам, мне полагается больше всех. Вот мы и столковались промеж себя, шито-крыто, чтоб никто не знал: как будем через два месяца подписывать бумагу, он мне потихоньку даст, почитай, все деньги. Понятно, я бы ничего такого не делал, кабы это не была с самого начала моя земля да кабы мы с женой и ребятами ладили по-прежнему, а ведь она все только орет да дерется. Коли он приедет, как обещал, так мне одному будет восемь тыщ, а остальное мы с женой поделим, — ей по закону полагается третья часть. Перекупщик слушал, недоумевая и потешаясь, но и с удовольствием: он быстро сообразил, что хотя тайный сговор фермера с покупателем не совсем противозаконный, Квидера можно убедить в его незаконности. Кроме того, стоит все рассказать жене — и сделка с первым агентом сорвется. Да и сам старик так жаден, что нетрудно подбить его отказаться от прежнего соглашения. Дело ясное, фермер и сейчас не знает настоящей цены тому, что он так глупо выпустил из рук. Поля вокруг — сплошной цинк, едва прикрытый тонким слоем почвы. Да если принять во внимание размах промышленности в Восточных штатах, шестьдесят тысяч долларов за этот участок — сущие пустяки. Руднику, который откроют на месте этой фермы, просто цены не будет! Миллион долларов — и то мало! За посредничество в этой сделке он, агент, легко мог бы получить сто тысяч. Боже правый, да тот ловкач ни за грош приобрел целое состояние! Если перехватить у него покупку… это будет только справедливо! — Вот что я вам скажу, мистер Квидер, — помолчав, начал он. — Мне кажется, ваш покупатель, кто бы он там ни был, попросту вас надул. Ваша земля стоит куда больше, это ясно. Но вы можете избавиться от него без особого труда, у вас есть все основания: вы же, в сущности, не знали, что продаете, когда шли на эту сделку. По-моему, так и в законе сказано. Вы не обязаны держаться соглашения, раз сами не понимали, что делаете, когда его подписывали. Если хотите, я, пожалуй, могу вас вызволить. Когда придет срок, откажитесь подписать какие-либо другие бумаги и верните задаток, только и всего. А потом я охотно возьму всю вашу землю по триста долларов за акр и заплачу наличными. Вы сразу станете богачом. Я вам дам три тысячи наличными в тот самый день, как вы подпишете соглашение. Беда в том, что вы попросту попались на удочку. Вы и ваша жена совсем не знали, что делали. — Это верно, — проскрипел Квидер, — мы не знали. Мы и не думали ни про какую руду, когда подписывали ту бумагу. Триста долларов за акр, подсчитывал он про себя, это значит двадцать одна тысяча — двадцать одна вместо жалких восьми! С минуту он стоял пошатываясь, не зная, что делать, что подумать, что сказать. Согбенный, иссушенный и изглоданный лишениями, он весь дрожал при мысли, что стоит только захотеть — и богатство у него в руках, — и в то же время терзался сознанием, что из-за его ошибки, совершенной по неведению, оно, чего доброго, ускользнет. Его темный ум, помутившийся в одиночестве, изнемогал, подавленный внезапным даром судьбы. Все перепуталось у него в голове, точно весь мир перевернулся вверх дном. Перекупщик по-своему истолковал молчание фермера. — Я даже могу предложить вам немного больше, мистер Квидер, — заговорил он. — Скажем, двадцать пять тысяч. На это вы можете купить дом в городе. Ваша жена станет ходить в шелковых платьях; вам никогда больше не придется и пальцем шевельнуть, а сын и дочь, если захотят, пойдут в колледж учиться. Вам надо только отказаться подписать купчую, когда тот покупатель опять явится, — верните ему задаток или узнайте его адрес, и я сам ему отошлю. — Он меня надул, вот что! — вдруг почти крикнул Квидер; крупные капли пота выступили у него на лбу. — Он хотел меня ограбить! Ни акра он не получит, бог свидетель, ни единого акра! — Вот это правильно, — сказал агент. И, прежде чем уехать, он еще раз объяснил фермеру, как несправедливо с ним поступил первый покупатель: двенадцать тысяч (он думал, что именно столько должен был получить Квидер) — далеко не то же, что двадцать пять! Для наглядности он перечислил блага, которые Квидер приобретет на лишние тринадцать тысяч, когда будет жить в городе. Но Квидер понимал, что сам испортил все дело: обманул жену и детей из-за каких-то восьми тысяч, а уж теперь из-за новой, гораздо большей суммы надо ждать еще бóльших неприятностей — перебранок, ссор, а то и драки. Жена и Дод, конечно, рассвирепеют. Выдержит ли он? И хоть у него никогда не было ни гроша, теперь ему казалось, будто он страшно много теряет, будто у него хотят отнять огромное богатство, всегда ему принадлежавшее. Все последующие дни он размышлял над этим и старательно избегал своих домашних, а они зорко следили за ним и все гадали, когда же вернется первый покупатель и о чем Квидер сговорился со вторым. А он совсем потерял душевное равновесие, и постепенно им овладела навязчивая идея: жена, дети, весь мир хотят его обокрасть, и остается лишь один выход — бежать со своим сокровищем, лишь бы только его заполучить. Но как? Как? Ясно одно: семья не должна завладеть его деньгами. Он будет бороться, он лучше умрет. И, одинокий среди безмолвных полей, измученный душой и телом, Квидер неотступно думал о своем богатстве, и ему чудилось, что он уже владеет им и должен его защищать. Тем временем первый перекупщик рассудил, что нетрудно будет заполучить землю Квидера за указанную в запродажной сумму в две тысячи долларов; ведь Квидер сам пожелал, чтобы остальные деньги были переданы ему в полной тайне. Как только в присутствии юриста и жены фермера будет подписана купчая, — а в ней речь идет о двух тысячах, — можно будет, придерживаясь буквы соглашения, преспокойно удрать, ничего больше не заплатив. Условленный срок истекал, и ожидание становилось нестерпимым. Квидер просто места себе на находил, в его глубоко запавших глазах застыл недоуменный вопрос. Целыми днями он беспокойно, бессмысленно бродил по ферме. И вот, когда миновали два месяца, точно, день в день, явился тот, кто стал его проклятием, — первый покупатель в сопровождении некоего Джайлза, поверенного из Арно, отъявленного мошенника и негодяя. В первую минуту, увидев их, Квидер почувствовал сильнейшее желание сбежать, но тут же одумался: нет, это опасно. Земля принадлежит ему. Если его тут не будет, жена и сын, пожалуй, сторгуются с приезжим без его согласия, подстроят так, что он останется и без земли и без денег… или проведают про те семьсот долларов, что он получил в задаток, и про деньги, которые он еще должен получить по тайному уговору с Кроуфордом. Необходимо остаться… но как же все-таки распутать этот узел? Когда приезжие вошли во двор, Джейн стояла в дверях и первая встретила их; затем подошел Дод, увидевший их с ближнего поля, — все эти дни он был настороже. Затем их окинула вызывающим и враждебным взглядом миссис Квидер: вот они явились! Хотят ее обобрать! — Где твой отец? — запросто обратился к Доду Джайлз, хорошо знавший Квидеров. — Вон там, на втором картофельном поле, — угрюмо ответил Дод и тут же заявил напрямик: — Только если вы насчет земли, так это все зря. Мать с отцом порешили не продавать. Больно мало вы даете. Вокруг Арно руды куда меньше, не сравнить, и то продают по триста долларов за акр, а вы, я слыхал, за всю ферму даете две тыщи. Дураки будут мать с отцом, если согласятся. — Ну-ну, брось, — примирительно, но и не без досады сказал Джайлз; сам злющий и неотвязный, как оса, он в подобных случаях всегда старался успокоить своих клиентов. — У мистера Кроуфорда есть запродажная на этот участок, подписанная твоими родителями и засвидетельствованная… (он заглянул в бумагу) мистером Ботсом, ну да, Лестером Ботсом. По закону вы не можете отказаться от продажи. Мистеру Кроуфорду остается только заплатить вам, прямо выложить деньги на стол — и земля его. Таков закон. Запродажная есть запродажная, и она подписана при свидетеле. Так что напрасно вы надеетесь увильнуть. — Никто слова не сказал ни про какую руду, когда я это подписывала, — заявила миссис Квидер. — Куда ж годится такая бумага, раз я и не знала, что там к чему! Нет уж, ничего я больше не подпишу. — Ну-ну, — нетерпеливо сказал Джайлз. — Давайте-ка позовем мистера Квидера и посмотрим, что он на это скажет. Уж он-то, я уверен, не станет говорить такие неразумные и противозаконные вещи. Тем временем старик Квидер, за которым с радостью сбегала Джейн, недоверчиво выглянул из-за угла, точно затравленное животное, — хмурый, испуганный; заметив его, перекупщики и юрист, успевшие усесться, снова встали. — Ну, вот и мы, мистер Квидер, — начал Кроуфорд и умолк, пораженный странным видом старика: тот растерянно водил рукой по лбу и тупо смотрел прямо перед собой. Он больше походил на голодную птицу, чем на человека, — желтый, худой, какой-то одичавший. — Погляди-ка на отца! — шепнула Доду Джейн; вид старика поразил даже ее, хоть она и привыкла к его странностям. — Так вот, мистер Квидер, — заговорил поверенный Джайлз, не обращая внимания на шепот Джейн и торопясь уладить это хлопотливое дело. — Мы пришли, чтоб покончить с продажей, как было договорено. Надо думать, вы не возражаете? — Чего это? — бессмысленно спросил Квидер; потом, как бы очнувшись, крикнул: — Ничего я не стану подписывать. Ничего — и крышка! Не подпишу, хоть тресни! Ничего! — Он сжимал и разжимал кулаки, вертел головой и вытягивал шею, словно его терзала острая боль. — Что такое? — грозно спросил юрист, пытаясь запугать старика и заставить его опомниться. — Не подпишете? То есть как не подпишете? Вы подписали запродажную и получили сто долларов задатку, вот бумага, она подписана вами и вашей женой при свидетеле Лестере Ботсе, а теперь вы заявляете, что больше ничего не подпишете! Прошу прощенья за резкость, но ведь налицо документ и деньги по нему получены. Такими вещами не шутят, мистер Квидер. Договор — серьезное дело в глазах закона, мистер Квидер, очень серьезное дело. В подобных случаях закон предписывает весьма решительные меры. Хотите вы подписать или не хотите, раз у нас имеется запродажная, мы можем при свидетелях уплатить вам деньги, возбудить иск, и суд решит в нашу пользу. — Не решит, раз человек не знал, что к чему, когда подписывал бумагу, — возразил Дод; теперь, когда он был сам заинтересован в этом деле и увидел, что отца провели, он стал относиться кнему с некоторым сочувствием и даже, пожалуй, дружелюбно. — Ничего я не подпишу, — мрачно стоял на своем Квидер. — Не обжулите меня на моем же добре. Я не знал, что тут есть руда, и не знал, какая ей цена, и ничего я не подпишу, вы меня не заставите. Вздумали получить мою землю задаром, вон чего захотели! Не стану я подписывать. — Я и знать не знала ни про какую руду, когда подписывала ту бумагу, — причитала миссис Квидер. — Да бросьте вы! — резко прервал Кроуфорд. Чтобы сломить упрямство старика, он решил намекнуть на их тайный сговор, в надежде, что фермер струсит. — Не забывайте, мистер Квидер, что у нас с вами особый уговор. — Теперь уже у него не было уверенности, что удастся заплатить две тысячи вместо восьми. — Собираетесь вы выполнить наше с вами условие или нет? Решайте поживее. Да или нет? — Убирайтесь! — выкрикнул Квидер вне себя, отскочил и замахал руками. — Вы меня обжулили, вот что! Думали ухватить мою землю задаром? Нет уж, не выйдет! Ничего я не подпишу! Ничего не подпишу! Глаза его налились кровью, взгляд стал диким. Тут Кроуфорд понял — за две тысячи ему этот участок не получить, придется, как уговаривались, уплатить все восемь. Но он решил сделать это не с глазу на глаз с Квидером, а в открытую. Когда жена и дети узнают, сколько старик должен был получить и как хотел обмануть и Кроуфорда и их самих, они, возможно, станут на сторону покупателя. Ведь ясно же, что семья знала только о двух тысячах. Если теперь объяснить им, как обстоит дело, может быть, положение изменится в его пользу. — Так, по-вашему, восемь тысяч за вашу землю — жульничество? Тогда чего ради вы взяли у меня восемьсот долларов и держали их у себя целых два месяца? — Что такое? — переспросил Дод, придвигаясь ближе; потом обернулся, свирепо взглянул на отца и с недоумением покосился на мать. У него и в мыслях не было, что им причитаются такие огромные деньги. И, конечно, он решил, что оба — и отец и мать — солгали. — Восемь тыщ! Вы ж вроде говорили про две! — Он испытующе посмотрел на мать. На лице миссис Квидер отразилось неподдельное изумление. — Восемь тыщ? Первый раз слышу, — растерянно сказала она, понимая, что дети могут и ее счесть обманщицей. На Квидера в эту минуту страшно было смотреть. Окончательно выведенный из равновесия разоблачением, которого и ждал и боялся, он обезумел от ярости, страха, от сознания, что совсем запутался и теперь у него нет выхода. Больше всего ошеломило его, что этот человек его так бессовестно обманул, а теперь сам же на него нападает. И вдобавок жена и сын теперь знают, какой он жадный, все время только о себе и заботился, — это приводило его в ужас. — Так вот, именно восемь тысяч я ему и предложил, — отчеканил Кроуфорд, заметив, как подействовали его слова. — Он согласился взять эти деньги, и я приехал, чтобы их заплатить. Я дал ему восемьсот долларов наличными, чтобы скрепить сделку, эти деньги у него. А теперь он говорит, что я его обманул! Да это просто смешно! Он просил меня молчать, говорил, что это его земля и он рассчитается со всеми вами, как ему вздумается. — Убирайся отсюда! Убью! — в бешенстве закричал Квидер, совсем теряя рассудок. — Все вранье! Ни про какие восемь тыщ и разговору не было. Говорили про две тыщи, вот и все! Надуть меня хотите, все вы негодяи, жулики! Ничего я не подпишу! — Он нагнулся и схватил было табурет, стоявший у стены. Все шарахнулись; только Дод, который и прежде не раз одолевал отца в драке, кинулся на него и одним ударом сбил слабого старика с ног; поверенный и перекупщик, видя, что Квидер лежит без движения, попытались за него вступиться. А Дод решил, что настал его час. Отец ему солгал. Понятно, он теперь его боится. Почему бы просто силой не заставить старика подписать купчую? Лишь бы подписал, тогда деньги будут уплачены тут же, при Доде, и он без всяких помех и без спросу возьмет свою долю. Исполнятся все его мечты! Отец ведь согласился продать участок за восемь тысяч, стало быть, нечего теперь артачиться, думал Дод. — А ну, полегче! — прикрикнул Джайлз. — Никаких драк, нам надо уладить это дело полюбовно. Ведь так или иначе, рассуждал он, вторую подпись, вернее, крест Квидера получить нужно — и уж лучше мирно, без побоев и насилия. Как-никак они не вояки, а деловые люди. — Стало быть, вы говорите, он согласился на восемь тыщ, верно? — переспросил Дод: уж очень трудно было поверить, что такую прорву денег и вправду могут сейчас же уплатить наличными. — Да, правильно, — подтвердил Кроуфорд. — Ну, так он сделает, как уговорился, черт возьми. — Дод тряхнул своей круглой головой и подбоченился: ему не терпелось поскорее получить деньги. — Эй! — обернулся он к распростертому на полу отцу. А тот при падении ударился затылком и все еще лежал, слегка приподнявшись на локтях, и смотрел на присутствующих бессмысленным взглядом; он совсем растерялся, мысли его путались, и он не в силах был ни осознать происходящее, ни сопротивляться. — Что это ты вздумал, старая перечница? А ну, вставай! — Дод шагнул к отцу, рывком поставил его на ноги и подтолкнул к столу. — Раз тогда подписал, так и теперь подписывай. Где та бумага? — спросил он поверенного. — Вы только покажите где — и уж он подпишет. Только сперва покажите деньги, — прибавил он, — я хочу на них поглядеть. Перекупщик достал из бумажника деньги (он заранее сообразил, что чек у него нипочем не возьмут), а поверенный развернул документ, на котором требовалось поставить подпись. Дод нетерпеливо схватил деньги и начал считать. — Ему надо только подписать вот эту вторую бумагу, и жене тоже, — пояснил Джайлз и, видя, что Дод кончил считать, прибавил, очень довольный новым оборотом дела: — Если ты грамотный, посмотри сам, что тут сказано. Дод взял бумагу и пробежал ее глазами с таким видом, словно для него тут все просто и ясно как день. — Вот видишь, — продолжал юрист, — мы сошлись на том, что твой отец продает мистеру Кроуфорду свой участок за восемь тысяч долларов. Восемьсот он уже получил. Остается еще уплатить семь тысяч двести, вот они. — Он ткнул пальцем в пачку денег, которую Дод так и не выпускал. Потрясенный тем, что у него в руках оказалось столько денег, Дод от радости не мог выговорить ни слова. Подумать только, семь тысяч двести долларов! И за что? За эту голую, никудышную землю! — Ах ты, господи! — в один голос вскрикнули миссис Квидер и Джейн. — Надо же! Восемь тыщ! Квидер, еще оглушенный и плохо соображающий, все же несколько пришел в себя, поднялся со стула и стал недоуменно озираться, но любящий сын опять грубо толкнул его на прежнее место — ему надо было, чтобы старик подписал бумагу. — Ничего, ничего, старая перечница! — рявкнул он. — Сиди где сидишь и подпишись, коли тебя просят. Обещал, так держи слово. Ты уж совсем рехнулся, сам не знаешь, чего хочешь, — усмехнулся он, чувствуя, что отец, бог весть почему, вдруг стал податлив, как воск. И действительно, старик был совершенно беспомощен и нем. — Он говорит, ты согласился на это, — верно? Да ты что, или вовсе спятил? — Ах, злодей! — негодовала миссис Квидер. — Восемь тыщ! А он все говорил только про две! Ни разу ничего другого не сказал! Это надо же! Все хотел забрать себе, слова никому не сказавши! — Да, — подхватила Джейн, уставясь на отца жадным и мстительным взгядом, — он думал все забрать себе. А мы-то работали тут круглый год, и всё на него. Она смотрела на старика такими же злыми глазами, как и Дод. Отец казался ей чуть ли не вором: он хотел украсть у них то, что они заработали тяжелым трудом. Поверенный взял у Дода бумагу, разложил ее на ветхом столе и подал Квидеру перо; тот взял его, безвольно и послушно, как ребенок, и поставил крест там, где ему велели. — Вы делаете это без принуждения, по доброй воле, не так ли, мистер Квидер? — осторожно спросил при этом мистер Джайлз. Старик ничего не ответил. Падая, он ударился головой и, наверное, потому забыл — по крайней мере на время — о своем твердом решении не подписывать купчую. Подписавшись, он блуждающим взглядом обвел всех вокруг, словно спрашивал, чего еще от него хотят; между тем миссис Квидер тоже поставила крест и ответила утвердительно на тот же вопрос предусмотрительного юриста. Потом Доду, как самому разумному в семействе и притом распоряжающемуся теперь по праву сильного, предложили засвидетельствовать подписи отца и матери; то же сделала и Джейн, так как требовались два свидетеля; затем Дод взял деньги и стал их пересчитывать под внимательными взглядами матери и сестры. А старик Квидер сидел совсем тихо; он еще не понимал, что значат эти деньги, но пристально смотрел на них; ему мерещилось, что надо бы их забрать, но зачем и почему, он не соображал. — Все в порядке, надеюсь? — спросил юрист, поворачиваясь, чтобы уйти. Дод признал, что счет совершенно верен. Тогда оба посетителя отбыли, захватив желанный документ. А семейство Квидеров, за исключением отца, который все еще не вышел из оцепенения, принялось обсуждать, как поделить это необычайное богатство. — Вот что я тебе скажу, Дод, — начала мать, жадно и тревожно глядя на деньги, — сколько тут ни есть, а мне по закону полагается третья часть. — И мне, понятно, тоже кой-что полагается, мало ли я тут работала, — заявила Джейн, подходя вплотную к брату. — А ну, убери руки, пока я не кончил, — потребовал Дод и принялся пересчитывать деньги в третий раз. Какое наслаждение — перебирать эти бумажки! Каких только они дверей не откроют! Теперь он может жениться, поехать в город и сделать еще много всякого, о чем давно мечтал. Он и думать забыл, что отцу тоже по праву причитается часть денег. А что старик, видно, потерял рассудок, стал совсем беспомощен и отныне обречен бродить где-то в одиночестве или полностью подчиниться сыну, Дода и вовсе не трогало. Он мужчина, и по праву сильного настоящий хозяин теперь он, — по крайней мере он сам так считал. Он перебирал деньги и сиял от удовольствия, и все говорил, говорил, и предавался самым заманчивым мечтам… потом вдруг вспомнил о восьми сотнях, вернее, о семи, спрятанных отцом. — Да, а где же задаток, интересно знать? — сказал он. — Отец таскает его с собой, что ли, или, может, где запрятал? И Дод подозрительно оглядел съежившегося на стуле старика, ощупал его карманы и одежду, но ничего не обнаружил и отступился: этим можно заняться и после. Наконец, он поделил наличные деньги: третью часть матери, четвертую Джейн, остальные себе — верному помощнику и наследнику отца… Тем временем он старался догадаться, где могут быть спрятаны те восемьсот долларов. Вот тут-то Квидер внезапно пришел в себя и понял наконец, что произошло. Он вскочил на ноги и, дико озираясь, визгливо, пронзительно закричал: — Украли мое кровное! Украли! Ограбили меня! Ограбили! А-а-а! Земля не восемь тыщ стоит, а все двадцать пять, я мог получить двадцать пять тыщ, а они заставили меня подписаться, и все пропало! А-а-а! — Он стонал и метался, бессмысленно подскакивая и приплясывая; потом увидел деньги, которые Дод все еще сжимал в руке, и тут отчаяние помешанного нашло новый исход: он выхватил деньги, бросился к открытой двери и стал кидать драгоценные бумажки на ветер и все кричал: — Украли мое кровное! Украли! Не надо мне этих треклятых денег! Не надо мне их! Отдайте мое кровное! А-а-а! Во всей этой истории Доду важно было только одно — наличные деньги. Ничего не зная о предложении второго перекупщика, он не мог понять, почему старик пришел в такую ярость и окончательно лишился рассудка. И, видя, что тот в исступлении разбрасывает кредитки, Дод накинулся на него, как дикая кошка, опрокинул наземь, вырвал оставшиеся деньги и, крепко придавив отца коленом, крикнул женщинам: — А ну-ка, подберите деньги! Подберите деньги и давайте веревку, слыхали? Давайте веревку! Он начисто рехнулся, не видите, что ли? Совсем спятил, говорю вам. Ей-богу, он сумасшедший! Давайте веревку! И, не спуская глаз с матери и сестры, которые заботливо подбирали деньги, он крепче прижал отчаянно отбивающегося старика к полу. Когда помешанный был надежно связан и деньги вручены Доду, нежный сын поднялся на ноги, сызнова пересчитал свою долю и, удостоверясь, что все цело, соизволил немного благосклоннее взглянуть на этот предательский мир. Потом, посмотрев на старика, скрученного и связанного, как петух, которого везут на базар, сказал не без сочувствия: — Вот поди ж ты! Бедный папаша! Похоже, на этот раз он начисто свихнулся. Крышка. — Да, видать, что так, — сказала миссис Квидер, с мимолетным сожалением взглянув на супруга; в эти минуты ее куда больше заботили деньги, что приходились на ее долю. И затем Дод, его мать и сестра с полнейшим равнодушием принялись обсуждать, как теперь поступить со стариком, а он бессмысленно озирался, уже не в силах понять, что происходит.Победитель
Глава 1
Несколько выдержек из статьи о покойном Дж. X. Остермане, принадлежащей перу К. А. Гридли, главного инженера компании «Остерман-нефть», и появившейся в августе месяце на страницах «Технического вестника»: «Меня восхищали не столько даже огромное состояние покойного Дж. X. Остермана и быстрота, с какой он приобрел и умножил свое богатство, когда ему было уже за сорок, сколько его энергия, смелость и предприимчивость. Мистер Остерман не всегда был приятен в обращении. Не то чтобы он был подвержен вспышкам гнева, но, выступая на заседаниях правления, он давал почувствовать, что далеко не полностью раскрывает свои карты; он обычно держался как сторонний наблюдатель и словно измерял каждого критическим взглядом. Выслушав мнения окружающих по тому или иному вопросу, он пренебрежительно качал головой, будто ему говорили вздор, но всегда умел подхватить чужую мысль, воспользоваться дельным советом и при этом, мне кажется, был искренне убежден, что до наилучшего решения додумался самостоятельно. Насколько мне известно — а я служил у мистера Остермана лет четырнадцать, — он был из тех, кто постоянно в работе, увлечен делами и почти не нуждается в отдыхе. Это был энергичный, властный человек. Даже когда ему минуло шестьдесят пять лет — в эти годы большинство состоятельных людей уходит на покой и предоставляет другим нести бремя забот, — он затевал все новые и новые предприятия. Всего за неделю до смерти — удар настиг его внезапно в его загородном доме — он пришел ко мне в контору с предложением ссудить деньгами правящие круги некоего небольшого азиатского государства, чтобы получить возможность на мирных началах добывать там нефть и другие природные богатства. Этот план предусматривал, между прочим, создание в этом государстве на средства мистера Остермана хорошо вооруженной армии. В том же духе был его план устройства двойных эскалаторов для проектируемого туннеля между Нью-Йорком и Нью-Джерси — этот план мистер Остерман разработал, по-видимому, весной, перед своей внезапной кончиной, и всячески добивался в министерстве, чтобы он был представлен на рассмотрение обоих штатов. Едва ли надо говорить — ведь это всем известно, — что предложение мистера Остермана было принято. В том же духе был и проект Аргентино-Чилийской железной дороги, который в течение нескольких лет горячо обсуждался в технической и экономической печати и недавно был финансирован правительствами обеих стран. Только такой человек, как мистер Остерман, с его умом и тактом, дипломатическими способностями и удивительным умением изыскивать и использовать природные богатства любой страны, подчас нелегко реализуемые, мог довести до конца это необычайно сложное дело. Слишком много здесь было трудностей дипломатического порядка, всяких предрассудков, слишком много сталкивалось противоположных интересов. И все же мистер Остерман добился успеха: осуществил свой замысел и своей деятельностью в Южной Америке завоевал дружбу и доверие правительств обеих заинтересованных стран».Глава 2
Сведения о том, как сложилось и умножилось богатство покойного Дж. X. Остермана, сообщенные его бывшим секретарем К. В. Каммингсом, который производил расследование по поручению И. К. Баша, адвоката группы акционеров компании «С. С. и Р.». Эти акционеры предъявили иск о возвращении первоначальным пайщикам железной дороги их денег, незаконно захваченных Дж. X. Остерманом и Фрэнком О. Пармом (фирма «Парм-Бэгготт и К°»). Каммингс приводит эти факты в своих воспоминаниях о мистере Баше и о тяжбе между Остерманом и Пармом, с одной стороны, и компанией «С. С. и Р.» — с другой. 1. Одно время я был секретарем мистера Остермана и могу сообщить некоторые подробности дела Остерман — де Малки, насколько мне удалось их собрать и запомнить. Когда Остерман вернулся из Гондураса в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою сомнительную махинацию, де Малки был одним из многих мелких маклеров, спекулирующих на каучуке и другом сырье. Накануне своего самоубийства — и это обстоятельство в сочетании с внезапным возвышением мистера Остермана долгое время считали свидетельством против моего патрона — де Малки пришел в контору мистера Остермана на Брод-стрит; контора эта была обставлена мебелью палисандрового и красного дерева с той кричащей показной роскошью, к которой Остерман уже тогда имел пристрастие. Де Малки умолял дать ему время, чтобы собрать сто тысяч долларов, которые он должен был уплатить за десять тысяч акций «Каламита-Каучук»; все акции в то время находились в руках мистера Остермана, и он требовал за них оплаты по номиналу, хотя еще накануне эти акции шли по семь долларов с четвертью и по семь и три четверти. Де Малки был одним из тех мелких маклеров, которых Остерман, явившись в Нью-Йорк и выпустив дутые акции «Каламиты», сознательно и хладнокровно заманил в ловушку. Не догадываясь о замысле Остермана, де Малки запродал по упомянутой низкой цене десять тысяч акций «Каламита-Каучук», предполагая, что цена еще упадет: фактически акций у него на руках не было, о чем Остерман прекрасно знал. Остерман именно на это и рассчитывал и теперь был очень доволен, что де Малки и многие другие оказались в безвыходном положении. До сих пор сделки по таким акциям, как «Каламита», заключались только на бумаге, чтобы заманить в ловушку простаков. Маклеры продавали то, чего у них в сущности не было. Для того чтобы соблазнить простаков, цену акций надо было время от времени понижать. При перемене курса маклеры сбывали простакам, которые поручали им совершить сделку, любое количество акций и отмечали сделки в своих книгах. Затем маклеры сговаривались между собой, сбивали цену еще ниже и ставили простака перед необходимостью либо выложить круглую сумму для покрытия разницы, либо выйти из игры. И чаще всего простак выбывал из игры, а ловкий маклер подсчитывал барыши. Именно этим и воспользовался Остерман, чтобы разбогатеть — притом сразу, за одну ночь. Его тайные агенты давно уже понемногу покупали акции «Каламиты» по цене выше курса, а опрометчивые маклеры в полной уверенности, что смогут легко заработать на таких ходких бумагах, охотно продавали их, фактически не имея на руках ни одной акции. Поэтому Остерман и получил возможность неожиданно нанести удар — заставить маклеров выложить деньги. Так им и пришлось сделать. Им казалось, что заправилы «Каламита-Каучук» либо не хотят, либо не умеют заботиться о своем предприятии, поэтому дутые сделки становились все крупнее и крупнее, уже нередко продавались пакеты по тысяче и даже по десять тысяч акций. Когда же дело зашло достаточно далеко, ловушка захлопнулась. За одну ночь все те, кто скупал для Остермана акции «Каламиты» (а к этому времени их было продано уже на сотни тысяч долларов), вдруг пожелали покрыть разницу и получить акции на руки. Это ставило маклеров перед необходимостью в двадцать четыре часа выложить акции, иначе им грозило банкротство, а то и тюрьма. Естественно, начались лихорадочные поиски свободных акций. Но оказалось, что все они были заблаговременно припрятаны в сейфе мистера Остермана — единственного владельца «Каламиты», и маклерам, в конечном счете, ничего не оставалось, как броситься к нему. Остерман встретил их с благодушием кошки, подстерегающей мышь. Ах, вот как, им нужна «Каламита»? Прекрасно, пожалуйста, сколько угодно… по номиналу, даже чуть-чуть выше. Ах, им это кажется дорого, ведь только накануне акции продавались по семь и три четверти или семь восьмых? Ничего не поделаешь. Это все, что он может предложить. Хотите — берите по этой цене, не хотите — не надо. Понятно, среди тех, кому пришлось круто, началась паника. Остерман их одурачил — это ясно, но ясно также, что закон на его стороне. Кто мог, покорно проглотил пилюлю и раскошелился, другие, у которых не хватило средств, удрали, предоставив агентам Остермана возмещать убытки, как им будет угодно. Только один мистер де Малки, очутившись в безвыходном положении, покончил с собой. К несчастью, он вложил в это дело гораздо больше, чем кто-либо другой, притом денежные дела его были особенно запутаны. В тот день, когда пришел де Малки, Остерман, сидя за письменным столом, готовился к встрече многих подобных посетителей. Как я позже узнал от самого мистера Остермана, де Малки было нелегко заманить в ловушку, — он действовал весьма осторожно, заключал сделки с оглядкой, чем сильно осложнил победу Остермана, а потому безусловно заслуживал разорения! Де Малки пытался объяснить, что небольшая отсрочка поможет ему выйти из затруднительного положения. «Я продаю по номиналу, соглашайтесь — или нам не о чем разговаривать», — таков был единственный ответ Остермана. — Но у меня нет сейчас таких денег, мистер Остерман, и мне негде их достать! — воскликнул де Малки. — Ведь вчера эти акции котировались по семь и три четверти. Неужели вы не можете уступить или подождать несколько месяцев? Мне бы полгода или год, — сперва я должен разделаться с еще более неотложными платежами. Я как-нибудь выпутаюсь, если только получу отсрочку. Я был тогда в комнате и слышал этот разговор. — По номиналу, и деньги на бочку. Это все, что я могу предложить, — повторил Остерман и сделал мне знак проводить маклера. Мистер де Малки посмотрел на Остермана, и в глазах его было отчаяние, однако моего патрона это ничуть не смягчило. — Мистер Остерман, — сказал де Малки, — я здесь не для того, чтобы попусту тратить ваше или свое время. Я прижат к стене и готов на все. Если вы не уступите мне акций по сходной цене, я погиб. Это будет слишком тяжелый удар для моих близких, и я этого не переживу. Я слишком стар, чтобы начинать все сначала. Дайте мне акции сейчас. Завтра будет поздно. Вам это, наверно, безразлично, но завтра уже никто не сможет взыскать с меня долги. Моя жена уже два года как прикована к постели. У меня сын-подросток и дочь-школьница. Если я не смогу… — Он замолчал, отвернулся, судорожно глотнул и провел языком по пересохшим губам. Но мистер Остерман не был расположен верить маклерам, а тем более сочувствовать им. — Номинал. К сожалению, это все, что я могу предложить. Де Малки всплеснул руками и вышел, бросив на Остермана последний, полный отчаяния взгляд. В ту же ночь он покончил с собой, чего Остерман никак не ожидал, по крайней мере так он потом говорил. Тогда-то я отказался от должности секретаря мистера Остермана. Я знал, что маклер действительно был близок к самоубийству. И что еще хуже, спустя всего три месяца покончила с собой жена де Малки — отравилась. После смерти кормильца семьи ей пришлось переехать в тесную и бедную квартирку. Газеты поместили тогда заметки и фотографии, судя по которым бедная женщина была, как и говорил де Малки, тяжело больна, по существу, прикована к постели. В газетах сообщалось также, что в лучшие времена де Малки щедро жертвовал на содержание одного сиротского приюта, Дома Грейшет, внешний вид которого был хорошо знаком Остерману. Об этом писали во всех газетах, и благотворительность де Малки, как говорят, особенно поразила Остермана, — он будто бы всегда питал слабость к сиротам. Я слышал потом, что только внезапная смерть три года назад помешала ему подписать завещание, по которому львиная доля его громадного состояния должна была отойти акционерному обществу, обязанному опекать сирот. Правда ли это — не знаю. 2. Нечто подобное произошло с Генри Гризэдиком, конкурентом мистера Остермана. Говорят, мистер Гризэдик был грубый, неотесанный человек, без всякого образования, но знал толк в разведке и очистке нефти; на свое несчастье он натолкнул Остермана на мысль заняться разработкой богатейшего нефтяного месторождения Арройя Верде. Остерман и его сообщники пожали плоды там, где Гризэдик вряд ли когда-нибудь сумел бы нажить состояние. Но все-таки с Гризэдиком они поступили подло, еще более подло, чем с де Малки, сделки которого с акциями были все же сомнительны. Вот подробности этой истории. Как говорят, Гризэдик был человек хвастливый, шумный, самонадеянный, но при этом толковый и способный изыскатель. Остерман, нажившись на разорении де Малки и других маклеров, отправился на Запад; сначала он купил в штатах Вашингтон и Орегон крупные лесные массивы, затем в нефтяных районах Калифорнии и Мексики приобрел значительные месторождения, которые сулили ему огромные доходы. Случилось так, что, разъезжая по Южной Калифорнии и Аризоне, он встретил Гризэдика, которому незадолго перед тем посчастливилось напасть на нетронутые запасы нефти, — Гризэдик начал их тайно разрабатывать, хотя в сущности не имел на это средств. В расчете на будущие прибыли он занял денег у Л. Т. Дрюберри из компании «К. В. и В.» и еще кое у кого. По-видимому, именно Дрюберри и указал Остерману на Гризэдика и его находку, и позднее они задумали захватить участок Гризэдика. В то время Остерман и еще три-четыре предпринимателя были заинтересованы в расширении владений компании «К. В. и В.» в Аризоне. Участок Гризэдика находился в ста милях от железной дороги, в безводной местности, где только скудный ручеек стекал по склону. Правда, компания «К. В. и В.» собиралась построить ветку на Ларстон, но до Ларстона оставалось еще четырнадцать миль, и Гризэдику все равно пришлось бы подвозить туда нефть или перекачивать ее по трубам. Прослышав об этом, Остерман тотчас сообразил, что искусным маневром нетрудно поставить Гризэдика в такое положение, при котором ему только и останется что продать участок, — и взялся за дело. Участок Гризэдика в Арройя Верде был расположен на склоне горы и отделен тонкой перемычкой из глины и сланца от безводной и никчемной Арройя Бланко. И вот Остерман купил земли, расположенные над владениями Гризэдика, разрушил эту перемычку, отвел воду в сторону и тем самым лишил Гризэдика возможности продолжать разработки. Это было подстроено так, будто произошел обвал — на все ведь божья воля, — и восстановление разрушенного было Гризэдику не по карману. А обещанная ветка на Ларстон — что ж, постройку ее можно оттягивать до бесконечности. Ведь в сговоре с Остерманом был Дрюберри, главный владелец акций «К. В. и В.». Наконец была пущена в ход еще одна уловка — перекуплены у Дрюберри и прочих закладные на землю Гризэдика, и оставалось только ждать, пока владелец, припертый к стене, не продаст свой участок. Покупка закладных была поручена Уитли, ловкому помощнику Остермана, который в свою очередь сделал это через подставное лицо. По своему обыкновению Остерман держался в тени. Понятно, Гризэдик, узнав, как его провели, пришел в бешенство. Он долго сопротивлялся, кидался на всех, как разъяренный бык, даже пытался убить Дрюберри; но в конце концов противники одолели его и завладели участком. Не имея денег, чтобы начать все снова, и видя, что другие процветают там, где сам он потерпел неудачу из-за того, что у него не было хотя бы небольших средств, Гризэдик запил с горя и, наконец, умер здесь же в Ларстоне, в баре, который открылся, когда компания «К. В. и В.» построила железнодорожную ветку. Что касается мистера Остермана, то он остался совершенно равнодушен к судьбе погубленного им человека. Он даже заметил как-то Уитли, который до последних дней был рабски предан ему, что, не замарав рук, крупного состояния не наживешь. 3. И, наконец, вот как Остерман и Фрэнк О. Парм, владельцы фирмы «Парм-Бэгготт», ухитрились захватить львиную долю акций железнодорожной компании «С. С. и Р.». Сперва они купили небольшую часть этих акций и засыпали компанию судебными исками от имени разных подставных лиц, чем подорвали доверие к ее правлению и председателю Доремусу, так что напуганные держатели акций стали спешно сбывать их. Остерман и Парм, разумеется, скупали эти акции и стали под конец истинными владельцами дороги. Тогда они добились продажи дороги с торгов и сами же купили ее. Два года спустя Майкл Доремус, первый председатель компании, ушел в отставку. Он объявил, что его затравили, что он стал жертвой грязных финансовых махинаций и что акции железной дороги надежны, как никогда (и это была чистая правда). Просто невозможно стало бороться с бесконечными исками и упорными слухами о неумелом управлении. Через год после отставки Доремус умер. «Бог справедлив, — заявил он перед смертью, — время покажет, кто был прав». А пока что дорогу прибрали к рукам мистер Остерман и мистер Парм и, как известно, в конце концов присоединили ее к своим предприятиям.Глава 3
Несколько фактов из биографии покойного Дж. X. Остермана, архимиллионера и нефтяного короля, напечатанной в «Лингли мэгэзин» в октябре 1917 года. Надо знать, каким тяжелым и безрадостным было детство покойного Дж. X. Остермана, чтобы понять его поведение, оценить необычайные успехи и не всегда благовидные поступки. Отец Остермана, судя по тому, что мне удалось узнать, был человек грубый, ограниченный; тяжелая жизнь, полная лишений, сделала его еще более грубым и жестоким. Он отнюдь не был нежным отцом. Умер он, когда Джону Остерману, герою этого очерка, было одиннадцать лет. Мать Остермана, как говорят, была болезненная женщина, неумная, запуганная и безответная; муж, озлобленный ударами судьбы, все вымещал на ней. Была у Джона еще сестра — некрасивая, угловатая девушка, такая же ограниченная и добропорядочная, как мать, и такая же вечная труженица. Когда ей исполнилось девятнадцать лет, мать умерла. Осиротев, брат и сестра стали вдвоем хозяйничать на ферме и управлялись неплохо, а через два года сестра вышла замуж, и Остерман уступил ей ферму. Он навсегда расстался с работой на земле, тем более что у него были совсем другие наклонности и планы, и отправился в Техас на нефтяные промыслы; там он приобрел кое-какие познания по разведке и очистке нефти. Но чего только ему не пришлось раньше вынести! Он часто рассказывал, как после смерти отца два года подряд все их посевы гибли от саранчи и засухи, как он, мать и сестра отказывали себе в самом необходимом, как его посылали в лавку выпрашивать в долг немного кукурузной муки и соли, и неизвестно было, удастся ли хотя бы через год вернуть этот долг! Налоги росли. Скот пришлось продать, нечем было сеять и не было денег на семена. Семья была разута и раздета. Остерман пришел к твердому убеждению, что в Римере, канзасском городке, близ которого стояла их ферма, люди черствы и жадны, особенно лавочники. Он, его мать и сестра не могли найти здесь ни поддержки, ни сочувствия, — ведь они были фермеры. В церкви, которую посещала его мать (сам он никогда не был усердным прихожанином), он только и слышал: «Око за око, зуб за зуб», и еще: «Какой мерой мерите, такой и вам отмерится». Естественно, предприимчивый и энергичный подросток прочно усвоил подобные поучения и впоследствии руководствовался ими в своих хитроумных финансовых операциях. Впрочем, кое-кому Остерман и сочувствовал: говорят, он всегда отбирал среди своих служащих самых напористых юнцов без гроша в кармане и давал им возможность выдвинуться; все его ближайшие помощники — будто бы в прошлом бедняки, сироты, дети полунищих фермеров. Впрочем, автору настоящей статьи не удалось установить, насколько это верно. Во всяком случае, из сорока с лишком высших служащих Остермана все, за исключением четверых, — дети фермеров или сироты, начинавшие свою карьеру на его предприятиях с самых незначительных должностей, притом семеро из них, как и он, канзасцы родом.Глава 4
Некоторые размышления покойного Дж. X. Остермана за последние пять лет его жизни, проведенных им в особняке на Пятой авеню 1046 (Нью-Йорк) или в других местах: Ох, уж эти дни, полные забот, интриг, постоянных усилий ради того, чтоб продвинуться, дни, когда он был убежден, что в жизни деньги — это все! Жалкие дощатые лачуги, гостиницы, меблированные комнаты в городах и поселках Северо-Запада и повсюду, где он скитался в вечной погоне за деньгами, в поисках богатства. Грязный, вонючий пароходишко, на котором он плавал по илистым, мутным рекам Гондураса и бог весть где еще, а чего ради? Змеи, москиты, аллигаторы, тарантулы, бородавчатые жабы и ящерицы. В Гондурасе он ночевал под тропическими деревьями на подстилке из листьев, и только костер защищал его от змей и прочей нечисти. А по утрам его будили обезьяны и крикливые попугаи, и приходилось швырять в них гнилыми плодами, чтобы отогнать подальше и еще хоть немного поспать. Он тащился один по малярийным болотам, преследуемый по пятам индейцами из племени пекви, которые польстились на его жалкие пожитки. Он в изумлении смотрел на гигантские пальмы высотой в сто футов с перистыми листьями длиною в пятнадцать футов и огромными, в три фута, золотыми соцветиями. Ну ладно, все это давно позади. Однажды он застрелил квезала, попугая с длинным золотистым хвостом, и обменял его на кусок хлеба. Один раз он чуть было не умер от лихорадки в хижине метиса, где-то в Кайо. Метис этот украл у него ружье, бритву, все вещи, и он едва оттуда выбрался. Вот она, жизнь. Вот они, люди. В те годы он и понял, что честным путем ему, мальчишке, не разбогатеть. Скитаясь по этой неприветливой, опаленной солнцем стране, он повстречался с Месснером — американцем, по всей вероятности бежавшим от правосудия; Месснер и подсказал ему план, благодаря которому позже, в Нью-Йорке, он так быстро разбогател. Месснер рассказал о Торби, о том, как тот явился из Центральной Африки в Лондон и выпустил акции несуществующей компании — предполагалось, что она владеет в сердце Африки огромными лесами каучуконосов. И, глядя на бескрайные, но неприступные каучуковые леса Гондураса, Остерман решил повторить в Нью-Йорке проделку Торби. Почему бы нет? Дураков всюду много, а ему терять нечего, он может только выиграть. По словам Месснера, Торби ухитрился, дав объявление в газете, заручиться поддержкой богатой вдовы, а затем сообщил о своем каучуке лондонским биржевикам и стал продавать двухфунтовые акции всего по десять шиллингов, чтобы потом поразить публику небывалым повышением. Он выпустил на два миллиона фунтов акций, не стоивших и бумаги, на которой они были напечатаны, и зарегистрировал их на лондонской бирже; маклеры поддались соблазну и, не имея на руках ни единой акции, стали продавать их без счета. Тогда Торби через подставных лиц без труда скупил у всех этих маклеров акции на разницу. Затем, как это всегда делается на бирже, он потребовал (разумеется, через тех же подставных лиц) выдать ему на руки купленные акции. Конечно, у маклеров ни одной акции не оказалось, хотя сделки они заключили на тысячи акций. Все акции лежали в сейфе Торби; это означало, что маклерам придется купить у него акции по номиналу или сесть в тюрьму. И действительно, они толпой явились в его контору, и Торби основательно обчистил их, заставив оплатить акции по номиналу. Что ж, а он, Остерман, проделал то же самое в Нью-Йорке. По примеру милейшего Торби он приобрел права на незначительный участок в Гондурасе, вдали от железной дороги, и, приехав в Нью-Йорк, выпустил акции «Каламиты». Как и Торби, он подыскал богатую дамочку, вдову фабриканта роялей, и убедил ее, что дело сулит миллионы. От нее он отправился на Уолл-стрит и на биржу; он действовал в точности, как Торби… Вот только де Малки покончил с собой. Это было не так-то приятно. Он не ожидал ничего подобного! А потом и несчастная жена де Малки отравилась. И двое детей остались сиротами. Это было хуже всего. Он не знал, конечно, что де Малки помогал сиротам, иначе… Ну, а потом он поехал на Запад, в штат Вашингтон и в Орегон, купил там огромные лесные массивы, которые и теперь приносят ему всевозрастающие доходы. А после этого вполне естественно было заняться нефтяным районом Южной Калифорнии и Мексики… Да, Гризэдик, еще одна печальная история! А потом рудники и концессии в Перу и Эквадоре и еще более доходные в Аргентине и Чили. Деньги к деньгам идут. Наконец, когда у него было уже около девяти миллионов, ему удалось заинтересовать Нэди, а через нее предприимчивых состоятельных дельцов ее круга, у которых нашлись свободные деньги, чтобы вложить в его предприятия. И вот его состояние выросло почти до сорока миллионов. Ну и что же? Разве он по-настоящему счастлив? Чего он достиг? Жизнь так обманчива: она выжимает тебя, как лимон, и потом выбрасывает за ненадобностью. Сначала казалось, что это великолепно — идти, действовать, покупать и продавать, как вздумается, не считаясь ни с чем, лишь бы это было и приятно и выгодно. Он воображал, что вечно будет наслаждаться жизнью, но скоро пресытился. Годы идут, неотвратимо подкрадывается старость, становишься чрезмерно толстым или чрезмерно худым, начинается склероз, мускулы слабеют, кровь течет медленнее, и, наконец, понимаешь ясно, что уже незачем тянуть дальше. Ну вот, он преуспел, а что толку? Да к тому же у него нет детей, нет ни одного верного друга. Настоящей дружбы не существует на свете. Каждый заботится только о себе, а на остальное наплевать. Такова жизнь. Она выжимает тебя, как лимон, и выбрасывает за ненадобностью, будь ты даже велик и могуществен. Время ничем не остановишь, жизнь уходит. Конечно, совсем не плохо было построить для Нэди два особняка и жить там, когда он возвращался в Нью-Йорк из других стран. Но все это пришло слишком поздно; он был уже стар и не мог радоваться жизни. Несомненно, Нэди — большая находка для него, но она слишком красива, чтобы искренне полюбить человека его возраста. Ее прельстило богатство — это совершенно ясно; он всегда это знал, и не станет же он теперь обманывать себя. У нее было положение в обществе, у него — никакого. Разумеется, когда они поженились, он сумел воспользоваться ее связями. Но ведь Нэди рассчитывает, что он оставит все свое огромное состояние ее сыновьям, этим двум бездельникам. Ни за что! Эти шалопаи того не стоят. Только и умеют, что шаркать по паркету да сорить деньгами. Он и без них найдет, куда девать свои миллионы. Уж лучше отдать все сиротам, в конце концов, сироты принесли ему в делах немалую пользу, больше, чем эти двое. …Чудак де Малки… Давно это было. Кстати, ведь это под влиянием сыновей жена заинтересовалась д'Эйро, архитектором, который построил оба их особняка и подсказал ей мысль устроить картинную галерею. И ни одна картина в этой галерее не может понравиться здравомыслящему человеку. А разве не из-за Нэди он не отвечал на письма Эльвиры, своей сестры, которая просила его помочь двум ее сыновьям получить образование. Он тогда не решился взять племянников к себе, — вообразил, будто это может как-то повредить его отношениям с Нэди и ее знакомыми. А теперь Эльвира умерла, и он даже не знает, где ее дети. В конце концов, разве не Нэди виновата в этом? Да, такова жизнь. Он построил два великолепных особняка и думал, что это доставит ему большую радость; вначале так оно и было; но ему уже недолго осталось пользоваться этой роскошью и комфортом. Он теперь совсем не тот, его утомляет большое общество — надоели люди, которые сходятся в гостиных, чтобы показать себя, надоела их праздная болтовня. С ним они, разумеется, всегда учтивы, но и только. Им нужно его громкое имя. Если он не положит этому конец, его дом и дальше будут осаждать люди, которые непременно хотят что-нибудь навязать ему — акции, ценные бумаги, предприятия, гобелены, земельные участки, скаковых лошадей. А Нэди и ее сыновья еще всячески поощряют их, особенно когда дело касается так называемых произведений искусства. Но теперь — кончено. Хватит с него. Бывало и так, что продажная юность и красота пытались заманить его в ловушку. Но время его прошло. Вся эта мишура и суета — для людей помоложе. Чтобы это доставляло удовольствие, казалось красивым, романтичным, нужна молодость и энергия, а у него уже нет ни того, ни другого. Его время прошло, теперь остается только умереть, ведь сам он, в сущности, никому не нужен, нужны только его деньги.Глава 5
Воспоминания Байнгтона Бригса, эсквайра (Скефф, Бригс и Уотерхаус, поверенные покойного Дж. X. Остермана). Из частной беседы в нью-йоркском Метрополитен-клубе в декабре 19… года: «Вы ведь знали старика Остермана? Последние восемь лет его жизни я был его поверенным и могу сказать, что на своем веку не видывал хищника умнее и хитрее. В нем странным образом сочетались черты спекулянта, финансиста, мечтателя и отъявленного жулика. Трудно себе представить, что такой человек был склонен к благотворительности, не правда ли? Мне бы это никогда не пришло в голову, я узнал об этом лишь года за полтора до его смерти. Тут, по-моему, возможно единственное объяснение: у Остермана было очень тяжелое детство, а в старости он никак не мог примириться с тем, что пасынки, Кестер и Ренд Бенда, только и ждут его смерти, чтобы промотать наследство. Кроме того, я думаю, Остерман убедился, что Нэди вышла за него исключительно ради его богатства. Скажу вам по секрету: за три месяца до своей смерти Остерман поручил мне составить завещание, по которому все его состояние — около сорока миллионов — переходило не к жене, как было сказано в прежнем завещании, предъявленном ею впоследствии, а поступало в распоряжение «Фонда Дж. X. Остермана». Это благотворительное учреждение должно было взять на себя заботу о трехстах тысячах сирот, содержащихся в приютах Америки. Так бы оно и вышло, если бы Остерман не умер внезапно в Шелл Ков два года назад. По его последнему завещанию миссис Остерман и ее сыновья получали лишь пожизненно проценты с определенной суммы, вложенной в ценные бумаги; после их смерти эти бумаги также поступали в распоряжение «Фонда Остермана». Иными словами, жене и пасынкам Остермана предназначалось тысяч сорок — пятьдесят в год — и только. Полмиллиона долларов было оставлено непосредственно приюту Грейшет, наШестьдесят восьмой улице, а обширное имение Остермана в Шелл Ков должно было стать центром сети благоустроенных приютов для сирот, которую предполагалось создать по всей Америке. Доход от имущества, передаваемого в фонд, должен был целиком идти на это дело, а приют Грейшет становился нью-йоркским отделением всей этой системы. В этом году жена Остермана сдала имение Шелл Ков в аренду Герберманам; замечательная это усадьба — весь дом отделан мрамором, озеро в милю длиною, большой тенистый сад, прекрасная остекленная оранжерея и изумительный вид на море. До последнего часа Остермана, до последнего его вздоха — я был при этом — жена и не подозревала, что он собирался оставить ей только сорок или пятьдесят тысяч в год. Здесь ведь все свои, иначе я бы даже теперь не рискнул говорить об этом; впрочем, насколько я знаю, Клипперт, тот самый, что предложил Остерману проект сиротских домов, уже рассказывал эту историю. Дело было так: Поверенным Остермана я был со времен борьбы за контроль над акциями компании «К. В. и В.» в 1906 году; не знаю почему, но старик любил меня, — может быть, за то, что я составлял поистине «непромокаемые» контракты, как он их всегда называл. За шесть-семь лет до смерти Остермана я понял, что он не очень-то ладит с женой. Миссис Остерман женщина очень умная, с большим вкусом, еще и сейчас хороша собой, но, мне кажется, Остерман чувствовал, что она пользуется им в своих целях и что ему не так уж повезло в семейной жизни. Прежде всего, как я понял из разговоров, миссис Остерман слишком любила своих сыновей от первого брака, а кроме того, она подпала под влияние этого архитектора д'Эйро и слишком сорила деньгами. В то время все говорили, что д'Эйро и его приятель Безеро, которого старик тоже недолюбливал, подбили миссис Остерман на покупку картин для галереи в доме на Пятой авеню. Конечно, Остерман, ничего не смысливший в искусстве, не вмешивался в это дело. Он не отличил бы хорошую картину от сносной литографии, и, мне кажется, его это мало трогало. Однако, как вы сейчас увидите, отчасти из-за картины у супругов и пошли нелады. В то время Остерман казался мне очень одиноким, в целом свете у него, видно, не было близкого человека, только компаньоны в делах да служащие. Он почти всегда жил в своем городском особняке, а миссис Бенда — я хочу сказать, миссис Остерман, — ее сыновья и знакомые постоянно находили предлоги, чтобы оставаться в Шелл Ков. Там всегда бывали большие приемы и всякие увеселения. Однако миссис Остерман была достаточно умна и время от времени приезжала в город, разыгрывая, по крайней мере перед мужем, роль внимательной и заботливой супруги. Что до Остермана, то он уныло бродил по этому огромному дому, показывая картины своим агентам и служащим, а заодно и маклерам, которые навязывали ему самые разнообразные покупки, и делал вид, что имеет какое-то отношение к коллекции своей жены, или, вернее, архитектора д'Эйро. Старик-то ведь был до черта тщеславен, хотя и считался по праву одним из умнейших дельцов своего времени. Казалось бы, человек одаренный должен быть свободен от мелкого тщеславия, но, как видно, это не так. Когда я думаю об Остермане, мне вспоминается этот большой дом, всюду резьба, позолота, громадный орган в гостиной, о котором говорили, что он стоил восемьдесят тысяч долларов, стрельчатые окна с цветными стеклами, словно в церкви. Безеро как-то говорил мне, что миссис Остерман, будь ее воля, никогда бы не построила подобный дом, но Остерману хотелось создать нечто великолепное, образцом же великолепия в его представлении была церковь. Ничего не оставалось, как построить ему особняк с готическими окнами и органом и постараться как-то так обставить этот дом, чтобы он все же стал поуютнее. Но еще прежде, чем была закончена постройка, миссис Остерман и д'Эйро решили, что лучше всего построить дом с таким расчетом, чтобы можно было превратить его в картинную галерею, а затем либо продать, либо оставить как своего рода памятник. Но я думаю, д'Эйро и миссис Остерман надули старика, установив для него под видом органа фисгармонию. Очевидно, они рассчитывали, что большую часть времени Остерман будет проводить в одиночестве, так надо же ему чем-нибудь развлечься! И он действительно развлекался. Помню, как-то я застал его одного — вернее, не было никого из родных, но дом был полон народу: на какое-то совещание съехались с Юга и Запада агенты и управляющие разными предприятиями Остермана, в деловой сфере весьма усердные и ловкие, но не слишком уверенно чувствующие себя в обществе. В огромной столовой, рядом с гостиной, был уже накрыт стол для завтрака, и все эти дельцы сидели, как стая черных воронов, а Остерман на возвышении в конце комнаты, сидя перед своим «органом», важно исполнял свои любимые «Колокольчики Шотландии». Когда он кончил, все захлопали! Впрочем, я хотел рассказать не об этом; как-то при мне Остерману принесли небольшую картину, которая почему-то ему сразу понравилась. Безеро сказал, что это неплохое полотно шведского реалиста Даргсона. На картине была изображена худая и измученная женщина лет за сорок, покончившая самоубийством. Она лежит на кровати, одна рука свесилась, а рядом, на полу, валяется стакан или пузырек из-под яда. Тут же стоят двое детей и мужчина, оплакивают свою потерю. Эта картина почему-то произвела на Остермана огромное впечатление. Не могу понять почему, — это было скорее не произведение искусства, а воплощение человеческого страдания. Так или иначе, Остерману картина понравилась, и он хотел, чтобы Нэди купила ее для своей коллекции и тем самым одобрила его выбор. А Нэди, если верить Безеро, собирала только произведения, представляющие всякие там школы, эпохи и страны. Поэтому, когда посланный Остерманом агент пришел к Нэди, картина была немедленно отвергнута. Тогда Остерман купил ее сам и, чтобы показать, что он не так уж считается с мнением жены, повесил у себя в спальне. С этих-то пор он и стал ворчать, что галерея — вздор, и нечего тратить на нее столько денег. Однако и сейчас едва ли кто-нибудь объяснит, чем ему так понравилась именно эта картина. Я знаю одно: именно в то время Остерман заинтересовался Клиппертом и его проектом улучшения жизни сирот. В конце концов он направил Клипперта ко мне, чтобы я подробно ознакомился с проектом, и не только в отношении Дома Грейшет, но и всех приютов в Америке. Остерман предупредил нас, что, пока он не будет готов действовать, надо соблюдать полнейшую тайну, иначе он откажется от своих намерений. Разумеется, иначе он не мог бы перехитрить миссис Остерман. Он сказал, что хочет устроить для сирот что-то совсем новое, усовершенствованное — никаких унылых бараков, казарменных порядков, уродливой дешевой казенной одежды; вместо всего этого — систематическое образование и жизнь совсем по-домашнему, в уютных коттеджах. Ни я, ни Клипперт тогда еще не представляли себе, как далеко шли его планы. Клипперт предполагал, что Остерман, может быть, согласится в виде опыта дать деньги на расширение Дома Грейшет, и убеждал меня повлиять на старика. Однако оказалось, что Остерман решил создать приюты по всей стране, а центром сделать имение Шелл Ков — нечто вроде Восточного морского курорта или санатория для сирот со всей Америки. Это была грандиозная затея, для осуществления которой потребовались бы все его деньги, даже больше. Но раз уж он так хотел, мы с Клиппертом взялись за разработку плана. Он был очень способный, этот Клипперт, деловой, толковый и, насколько я понимал, честный и бескорыстный. И мне и Остерману он нравился, но старик хотел, чтобы он не попадался на глаза миссис Остерман, пока все не будет готово. Клипперт добросовестно принялся за дело. Он объездил все существующие в Америке заведения для сирот и вернулся с подробными данными о пятидесяти или шестидесяти приютах и с планом, который Остерман описал мне потом в общих чертах; этот план был включен в его завещание, — тем дело тогда и кончилось. Остерман почему-то не подписал бумагу сразу, а она лежала в моем сейфе, пока… впрочем, лучше я расскажу все по порядку. Как-то утром в субботу — погода была чудесная, и я собирался пойти в клуб поиграть в гольф — Остерман вызвал меня по междугородному телефону и просил приехать вместе с Клиппертом и еще неким Моссом в Шелл Ков, захватив с собой завещание: он окончательно решил подписать его, сказал Остерман; потом я не раз думал — может быть, он предчувствовал, что произойдет. Хорошо помню, как обрадовался Клипперт, когда я вызвал его. Он увлекался своим планом до самозабвения, как мальчишка, и, казалось, кроме благополучия сирот, ничем другим не интересовался. Мы отправились в Шелл Ков, и что бы вы думали? Как только мы приехали… я помню все, точно это было вчера. Ясный, теплый день. В парке множество полосатых бело-зеленых и бело-красных палаток, легкие плетеные кресла, качалки, столики. Повсюду сидят, гуляют или танцуют нарядно одетые гости. Здесь же был и Остерман. Он прохаживался по южной веранде близ главного входа, должно быть поджидая нас. Заметив, что мы подъехали, он приветственно помахал нам рукой и пошел навстречу, но вдруг пошатнулся и упал, словно кто-то внезапно сбил его с ног. Я понял, что это паралич или апоплексический удар, и весь похолодел при мысли, чем это может кончиться. Клипперт кинулся вверх по лестнице, прыгая сразу через четыре ступеньки, но пока мы бежали по веранде, Остермана уже внесли в дом; я по телефону вызвал доктора. Клипперт был бледен и точно окаменел. Нам оставалось только переглядываться и терпеливо ждать, так как возле Остермана была жена и ее сыновья. Наконец стало известно, что мистеру Остерману немного лучше и он хочет видеть нас. Мы вошли. Остерман лежал на большой кровати с белым пологом в просторной солнечной комнате, выходящей окнами на море; он был так бледен и слаб, словно проболел целый месяц. Он долго молча смотрел на нас; рот его был полуоткрыт, губы слегка вздрагивали. Но вот он собрался с силами и прошептал: «Дайте мне… дайте…» — и снова замолчал, не в состоянии продолжать. Приехавший тем временем врач дал ему глоток виски, и больной опять попытался что-то сказать, но это ему не удавалось. Наконец он с усилием прошептал: — Дайте мне… дайте… бумагу… — И немного погодя: — Клипперт… и… вы… — Он снова умолк, потом прибавил: — Пусть все выйдут… все, кроме вас троих и доктора. Доктор настоял, чтобы миссис Остерман и ее сыновья удалились, и это, как я заметил, ей совсем не понравилось. Под разными предлогами она все время возвращалась в комнату — она была здесь и в минуту его смерти. Как только они вышли, я достал завещание, и Остерман удовлетворенно кивнул. По нашей просьбе принесли легкий пюпитр, чтобы больной мог писать. Мы приподняли Остермана и положили перед ним завещание, но он был слаб и снова откинулся на подушки. Наконец удалось его поднять, он попытался взять перо, но пальцы не слушались. Остерман покачал головой и прошептал: «Ма… маль… чики…». Клипперт был вне себя от волнения, но Остерман не мог пошевелить рукой. И тут в комнату вошла миссис Остерман. «Что это вы заставляете бедного Джона подписывать? — воскликнула она. — Оставьте его в покое, пока ему не станет лучше». Она хотела взять бумагу, но я оказался проворнее и, словно не заметив ее протянутой руки, перехватил завещание. Конечно, она догадывалась, что мы в заговоре с ее мужем и хотим что-то скрыть от нее, и глаза ее метали молнии. Остерман, видимо, понял, что дело принимает скверный оборот, и с тоской смотрел то на одного, то на другого. Он потянулся к завещанию. Клипперт пододвинул пюпитр, я подал документ, и Остерман снова попробовал взять перо. Убедившись, что это ему не удается, он простонал: «Я… я… хочу… сделать что-нибудь… для… для…» Тут он упал на подушки, и через минуту его не стало. Посмотрели бы вы тогда на Клипперта! Он не шевельнулся, не вскрикнул, но тень легла на его лицо — я бы сказал, тень смерти: погиб его замысел, дело, которое было ему дорого, и в нем самом словно что-то оборвалось со смертью старика Остермана. Он повернулся и вышел, не сказав ни слова. Я тоже хотел идти, но миссис Остерман остановила меня. Может быть, вы воображаете, что она тогда была слишком потрясена смертью своего мужа, чтобы думать о чем-либо другом, — ничуть не бывало! Покойный еще лежал здесь, а она, не стесняясь доктора, подошла ко мне и потребовала показать бумагу. Я как раз собирался спрятать завещание, но она выхватила его у меня из рук. — Вы, конечно, не возражаете, если я взгляну на это, — сказала она холодно и, когда я запротестовал, прибавила: — Имею же я право узнать волю своего мужа. — Сначала я хотел пощадить ее чувства, но спорить было бесполезно, и пришлось дать ей прочесть завещание. Видели бы вы ее лицо! Глаза ее сузились, она так и впилась в бумагу. Когда ей стало ясно, о чем шла речь, она чуть не задохнулась от ярости, а пожалуй, и от страха при мысли, чем бы все это кончилось, если бы Остерман не был так слаб. Она посмотрела на безжизненное тело мужа — я уверен, это был единственный взгляд, которым она его удостоила за весь день, — потом на меня и вышла из комнаты. Мне тоже оставалось только уйти. С тех пор миссис Остерман перестала меня узнавать, хотя раньше была довольно любезна. Что ни говорите, она едва не осталась на бобах. Будь у старого чудака в последнюю минуту побольше сил — и подумать только, на какое грандиозное дело пошли бы его миллионы. В конечном счете миссис Остерман и миллиона не получила бы. Все досталось бы маленьким оборвышам. Вот уж, можно сказать, повезло!»Прибежище
Глава 1
Прежде всего — вот в каких условиях она росла до пятнадцати лет: каменные коробки битком набиты беднотой; газовые рожки бросают тусклый свет на выкрашенные зеленой краской стены тесных прихожих; кажется, будто входишь не в жилой дом, а в морг; стены грязных комнат и коридоров выкрашены синей, коричневой, зеленой краской, чтобы сэкономить на обоях; голые деревянные полы давным-давно пропитались грязью, дешевым жиром, маргарином, салом, пивом, виски и табачным соком. Иной раз какой-нибудь любитель чистоты и поскребет пол в своем углу — предполагается, что таким способом в доме поддерживается чистота. И где бы она ни жила, квартал за кварталом тянулись такие же голые, однообразные каменные коробки, битком набитые людьми; с грохотом неслись подводы, всякие повозки, воняющие бензином грузовики. Духота и пыль летом, ледяной ветер зимой; кое-где бродячая кошка или собака роется в мусорном ящике, и надо всем бдительное око величественного полисмена, и всюду снуют люди, люди… Бог весть как они добывают кусок хлеба, и живут они так, как только и можно жить в таких условиях. В этой обстановке, то перебиваясь кое-как, то катясь по наклонной плоскости, а то и вовсе в ужасающей бедности жили портовые грузчики, возчики, уборщицы, судомойки, официанты, швейцары, прачки, фабричные рабочие. И, насколько ей было известно, единственным источником существования для всех этих людей было нечто загадочное, изменчивое и зыбкое, что называлось еженедельной получкой. Ее всегда окружало пьянство, драки, жалобы, болезни, смерть; являлась полиция и забирала то одного, то другого; приходили сборщики платы за газ, за квартиру, за мебель, барабанили в дверь, требовали денег и не получали их… В свое время являлся и гробовщик, его встречали отчаянными воплями, словно такая жизнь была бог весть каким счастьем. Неудивительно, что по общему мнению, ничего хорошего в такой атмосфере вырасти и не может. Как? Цветок, распустившийся на помойке? Вот именно, и не так уж редко на помойке рождается цветок, но едва ли он достигнет пышного расцвета. И, однако, здесь может распуститься цветок души, во всяком случае появиться здесь он может. А если он сморщится и увянет в этом отравленном воздухе, что ж, пожалуй, это естественно, хотя в действительности далеко не все цветы, рожденные на такой почве, увядают. Цветы бывают разные. Глядя на Мэдлейн Кинселла, когда ей было пять, семь, одиннадцать и даже тринадцать лет, можно было согласиться, что она и в самом деле своего рода цветок — быть может, не из числа гордых, великолепных орхидей или гардений, но все же цветок. Ее очарование было проще, скромнее; в ней не было той яркости, которую обычно называют красотой. Она никогда не была ни румяной, ни цветущей, ни задорной и смелой. С детства она всегда пряталась от жизни, забиваясь в самые уединенные и укромные уголки, удивленно, подчас испуганно глядя на все широко открытыми кроткими глазами. Ее лицо — нежно очерченное, бледное — ничем не поражало с первого взгляда. Серо-голубые глаза с темными зрачками, черные волосы, тонкие длинные пальцы — все это никак не могло понравиться молодым людям ее среды. Каждое движение ее гибкой, стройной фигурки было проникнуто бессознательной грацией. Рядом с грубоватыми, цветущими, крикливыми девушками, которые ее окружали и которые нравились парням, она была незаметна, но все же казалась в иные минуты очень миловидной, подчас даже красивой. Тяжелее всего на ее юность и на всю ее жизнь повлияла обстановка в семье — бедность и полная никчемность ее родителей. Они были так же бедны, как и все кругом, и вдобавок это были люди сварливые, озлобленные и ничтожные. Когда ей было лет семь-восемь, в ее сознании стал смутно вырисовываться облик отца; этот маленький человечек, вечно пьяный, вздорный, болтливый, постоянно был без работы, вечно ссорился с матерью, сестрой, братом; а мать всегда попрекала его, называя горьким пьяницей. — Врешь! Врешь! Врешь! — Как хорошо ей запомнился этот его неизменный припев, звучавший у нее в ушах, в каком бы подвале, в какой бы жалкой дыре они ни жили. — Врешь! Не делал я этого! Врешь! Не был я там! Мать ее, постоянно угнетенная своими болезнями, часто сама полупьяная, не оставалась в долгу и отвечала ему в том же духе. Старший брат и сестра были приятнее в обращении; им так же доставалось, как и ей; но они лишь ненадолго появлялись откуда-то и вновь исчезали, чтобы переждать домашнюю грозу; она же, робкая и боязливая, принимала все это как неизбежное, быть может даже необходимое: ведь жизнь так сурова, загадочна, непостижима. Нередко бывало и так: — Эй ты, крыса, сбегай, притащи мне пива! Да поживее! Она хватала кувшин и, испуганная, крепко сжимая тонкими пальцами доверенную ей монету, бежала в дешевую пивнушку на ближайшем углу, дивясь по дороге всем чудесам и радостям улицы. В то время она была еще такая маленькая, что не могла дотянуться до стойки, и ей приходилось прибегать к помощи бармена или какого-нибудь посетителя. И она терпеливо ждала, пока ей наливали пиво и дразнили за малый рост. Раз, только раз, на нее напали по дороге трое мальчишек; они знали, куда она бежит, знали, что ее жалкий замухрышка-отец страшен разве что своим домашним, — и они выхватили у нее деньги и удрали; вытирая слезы, она в страхе вернулась к отцу, а он ударил ее и выругал за то, что она не отбилась от мальчишек: — У, чтоб тебя, на черта ты годишься! И этого не можешь сделать! Ей бы пришлось много хуже, если бы мать не оказалась трезвой и с бранью не вступилась за нее. А на долю мальчишек, отнявших деньги, достались лишь ругательства и страшные проклятья, которые никому не причинили вреда. Несколько иное, но не менее жалкое существование вели два других члена семьи: ее брат Фрэнк и сестра Тина. Фрэнк был худощавый, подвижной подросток, способный подчас так же вспылить, как отец, и отнюдь не желавший безропотно подчиняться отцовской воле. Мэдлейн помнила, что по временам окружающая обстановка страшно возмущала его, и он бранился и проклинал все на свете, даже грозился уйти из дому; в другие дни он бывал настроен довольно мирно, во всяком случае не принимал участия в отвратительных сценах, которые постоянно устраивал отец. Мальчишкой, лет двенадцати-тринадцати, Фрэнк поступил на какую-то фабрику и некоторое время приносил свой заработок домой. Но часто дома для него не находилось ни завтрака, ни обеда, и, когда отец и мать бывали порядком на взводе или ругались, все в доме приходило в такое запустение, что, будь даже семейные узы и крепче, человек, хоть немного повидавший жизнь, не мог бы вынести эту обстановку, — и Фрэнк сбежал. Мать вечно жаловалась на прострел и не поднималась с постели даже в те времена, когда Фрэнк и Тина работали и приносили домой свой заработок или хоть часть его. Если она и вставала, то лишь для того, чтобы повозиться около убогой плиты и вскипятить себе чашку чаю, и все это — не переставая жаловаться. Еще совсем крошкой Мэдлейн слабыми, неумелыми руками пыталась помогать матери, но не всегда знала, как взяться за дело, а мать была то больна, то плохо настроена и не подпускала девочку к хозяйству. С Тиной получилось то же, что и с Фрэнком, только это произошло еще раньше. Когда Мэдлейн шел шестой год, Тина была уже большая десятилетняя девочка, миловидная, веселая, с золотистыми волосами; она работала где-то в кондитерской за полтора доллара в неделю. Когда же Мэдлейн было восемь лет, а Тине тринадцать, она перешла на пуговичную фабрику и зарабатывала уже три доллара. Мэдлейн смотрела на сестру со смутным чувством восхищения и страха; ей чудилось в Тине что-то смелое, непокорное — в ней самой этого совсем не было, и она не могла бы определить, что это такое, ведь она еще плохо разбиралась в жизни. Просто она видела, что Тина, миловидная, крепкая, уже с девяти лет отказалась бегать за пивом по приказу отца, хоть он и ругал ее, даже колотил или швырял в нее чем попало; нередко ей доставалось и от матери; часто после работы или в воскресный вечер она стояла на крыльце, глядя на людную улицу, или прогуливалась с другими девчонками и мальчишками, хотя мать велела ей подмести, вымыть посуду, прибрать постель или выполнить еще какую-нибудь скучную, унылую домашнюю работу. — Хватит тебе красоту наводить! Хватит, говорят тебе! — кричал отец, как только она подходила к разбитому зеркалу поправить волосы. — Вечно она крутится перед этим чертовым зеркалом! Если ты не отойдешь сейчас же, я выкину тебя вместе с ним на улицу! Ну, кой черт ты вечно перед ним вертишься? Но Тину все это, как видно, мало трогало, она только отмалчивалась, а иногда с вызывающим видом расхаживала по комнате и напевала. Она старалась одеваться как можно наряднее, видно, ей казалось, что этим она может хоть немного скрасить свою невеселую жизнь. Она всегда все прятала, не позволяла домашним трогать ее вещи. Чем старше она становилась, тем больше ненавидела отца и в горькие минуты называла его пьяницей и дураком. Тина никогда не была послушной дочерью: отказывалась ходить в церковь и почти ничего не делала по дому. Когда отец и мать напивались или затевали драку, она, бывало, улизнет и сидит у какой-нибудь подружки по соседству. И хотя они жили в убожестве и нищете, вечно переезжали с места на место, скверно питались, Тина в двенадцать-тринадцать лет уже ухитрялась всегда выглядеть нарядной и миловидной. Мэдлейн часто вспоминала ее клетчатое платье, неизвестно где раздобытое, которое было так к лицу Тине, и позолоченную булавочку у ворота. Сестра как-то по-особенному высоко укладывала свои золотистые волосы — эта прическа больше всего запомнилась Мэдлейн, быть может потому, что отец вечно ругал за это Тину.Глава 2
Неудивительно, что в двенадцать-тринадцать лет Мэдлейн ничего не знала, ничего не умела и ничего по-настоящему не понимала в огромном мире, который ее окружал. С тех пор как отец умер от воспаления легких, а брат и сестра ушли из дому, чтобы начать самостоятельную жизнь, пьяница мать оказалась в сущности на ее попечении. Первое время Мэдлейн могла только выполнять мелкую подсобную работу в лавках и мастерских или помогать матери, когда та нанималась стирать и производить уборку. Если у них вовсе не оставалось денег на квартиру, на обед, на уголь, м-с Кинселла бралась за какую-нибудь случайную работу в прачечной или на кухне, мыла полы или окна, но все это ненадолго: пристрастие к спиртным напиткам скоро лишало ее и этой работы. Мэдлейн до тринадцати лет только помогала матери, а потом ей удалось самой получить работу на кондитерской фабрике за три доллара и тридцать центов в неделю — заработок хоть небольшой, но регулярный, однако не было никакой уверенности, что мать прибавит к нему столько, чтобы хватило на еду и на топливо. Нередко, пока дочь работала, мать заливала вином свои горести, а по вечерам и по воскресеньям вознаграждала Мэдлейн пьяной болтовней, от которой на душе становилось еще тягостней. Иногда девочка буквально голодала. Подвыпив, мать обычно начинала хныкать и вспоминать всю свою несчастную жизнь, отчего ее робкая и очень отзывчивая дочь приходила в полное уныние. Девочка мучительно искала хоть какого-нибудь выхода. Массовые увольнения на кондитерской фабрике снова вернули ее в ряды тех, кто безуспешно ищет работу. Одна соседка, пожалев ее, сказала, что на рождественские дни нужны продавцы в универсальном магазине, но к этому времени Мэдлейн так обносилась, что с ней там и разговаривать не стали. Потом владелец ресторана на соседней улице взял ее и мать в судомойки; мать он вскоре вынужден был уволить, но Мэдлейн хотел оставить. Однако ей пришлось сбежать оттуда, даже не получив сполна тех ничтожных денег, которые ей причитались, потому что повар напугал ее своим чрезмерным вниманием. Потом Мэдлейн устроилась прислугой в одной семье, где она прежде вместе с матерью мыла полы. Кто имеет хоть малейшее представление о жизни прислуги, тот знает, как убога, однообразна и беспросветна эта жизнь. Где бы ни жила Мэдлейн в прислугах, — а лучшей работы ей найти не удавалось, — в ее распоряжении были только кухня или каморка под самой крышей. Здесь она должна была проводить все время, если не работала где-нибудь по дому или не уходила навестить мать. Кастрюли и сковородки, чистка, мытье, уборка — в этом проходила вся ее жизнь. Если кто-либо, кроме матери, хотел ее видеть (что случалось редко), можно было пройти только в кухню, мрачную и неуютную. У нее, как она скоро поняла, не было никаких прав. Утром она должна была подыматься раньше всех, даже если накануне ей пришлось работать до поздней ночи. Она должна была прежде подать завтрак другим, а потом уже могла поесть сама, что останется. Затем она подметала и убирала комнаты. В одном доме, где она служила, когда ей шел пятнадцатый год, хозяин так приставал к ней, стоило только жене отвернуться, что Мэдлейн пришлось уйти; в другом доме к ней приставал хозяйский сын. К этому времени она похорошела, но по-прежнему была незаметна и робка. Но где бы она ни была, что бы ни делала, она постоянно вспоминала о матери, Тине, Фрэнке, об отце, о безысходной нужде, о слабостях и пороках, которые погубили их. Ни брата, ни сестры она так больше и не видала. Мать же — Мэдлейн знала это (несмотря ни на что, она жалела старуху) — останется с нею до конца дней своих, если только Мэдлейн не сбежит, как другие. С каждым днем мать все больше опускалась, все меньше могла сдерживаться и думать о ком-либо, кроме себя. И хоть она была плохая мать, Мэдлейн невольно думала о том, как тяжело ей всегда жилось. Где бы мать ни получала работу (а теперь это бывало не часто), ее скоро прогоняли, и тогда она являлась к хозяйке Мэдлейн и просила разрешения повидать дочь. Ее замызганное платье, рваная шаль, бесформенная шляпка, весь вид этой опустившейся женщины, естественно, вызывали негодование в каждом добропорядочном доме. И если только Мэдлейн позволяли выйти к ней, старуха начинала жаловаться на свою горькую нужду. — Господи, масла у меня ни капли не осталось, угля ни крошки нет! — Она плакалась, что у нее нет то хлеба, то мяса, но никогда — что нет виски. — Ты ведь не допустишь, чтобы твоя бедная мать мерзла и голодала, правда? Ты же добрая девочка. Ты дашь мне пятьдесят центов, деточка, если у тебя есть, или хоть двадцать пять, и я к тебе тогда долго не приду. Ну, хоть десять центов, если уж не можешь дать больше. Бог тебя наградит. Завтра я сама возьмусь за работу. Ты же добрая, ты не прогонишь меня ни с чем. Стыд и жалость боролись в дочери, когда она делилась с матерью тем немногим, что у нее было, дрожа от страха, как бы появление этой неприглядной старухи не навлекло на нее неприятностей. Потом мать уходила; нередко она бывала навеселе и ноги ее заплетались, а кто-нибудь из прислуги, должно быть, видел это и доносил хозяйке, — та, конечно, не желала больше пускать старуху на порог и так и говорила Мэдлейн или для верности просто давала ей расчет. Так от четырнадцати до шестнадцати лет она переходила из дома в дом, из лавки в лавку в напрасной надежде, что мать, наконец, оставит ее в покое. И все же это была пора ее юности, когда кровь быстрее бежит по жилам, когда жизнь зовет, — та большая, неизведанная жизнь, которая сулила ей все, потому что до сих пор еще ничего не дала. Маленькие радости бытия, грошовые наряды и украшения — все, чем тешится юность, которой всегда свойственно желание нравиться, все эти пустяки приобрели в ее глазах особое значение. Она достигла возраста, когда все перестраивается в молодом существе, когда эхом откликаются друг другу мысли, краски, мечты. Весь мир раскрывался перед ней. И, конечно, любовь не заставила себя долго ждать: появился некий видавший виды молодой человек и от нечего делать стал ухаживать за ней. Отец его был довольно состоятельный бакалейщик, и он по сравнению с Мэдлейн был человеком уже какого-то иного круга. Молодой человек был хорош собой: румяный, светловолосый, голубоглазый, и самодовольства его хватило бы на десятерых. Он мимоходом заинтересовался робкой миловидной девушкой. — А я вас вчера видел, вы мыли окна! — Или с той же сияющей неотразимой улыбкой: — Вы, верно, живете недалеко от Блейк-стрит. Я вижу, вы часто ходите в ту сторону. Мэдлейн смущенно отвечала, что это верно. Какое чудо, что ею заинтересовался такой блестящий молодой человек! По вечерам, да и в любое время, если она шла по какому-нибудь поручению или к матери, которую она навещала в ее убогой каморке, он, заметив ее в стремительном людском потоке, с ловкостью опытного волокиты подходил и заговаривал с ней. Он пробовал напроситься в гости, но это не удавалось, потому что и комната матери, да и сама мать были слишком уж убоги. Наконец он убедил ее, что не может быть ничего лучшего, как в ближайшее воскресенье прокатиться в автомобиле в одно из шумных веселых местечек на побережье, куда он любил ездить со своей компанией. Один только раз побывала она в стране чудес и окунулась в вихрь развлечений, один только раз побывала в зале, где он учил ее танцевать под звуки музыки, сливавшейся с плеском волн, один только раз пообедала она в шумном раззолоченном ресторане, — и самые радужные надежды пробудились в ее душе, казалось — вот-вот сбудется мечта о счастье. Да, жизнь более радостна, чем она думала прежде, — во всяком случае ее можно сделать радостной. Не все люди дерутся и кричат друг на друга, в мире есть еще и нежность, есть и ласковые, теплые слова. Но столь искушенный молодой человек с девушками не медлил и не любил околичностей. В девичьей свежести он способен был находить только преходящее удовольствие, как в цветке, который можно сорвать и бросить. Он был из породы людей, которые в погоне за удовольствиями растаптывают чужую молодость — молодость тех девушек, чья жизнь так уныла и безрадостна, что они готовы все отдать за ласковое слово, за малейшее развлечение, за одну возможность побыть в обществе человека более опытного и сильного, чем они сами. Такою была и Мэдлейн. Стоило в ее пустом, безрадостном существовании появиться красивому, самоуверенному и опытному мужчине, который показал ей такие чудеса, какие ей и не снились, повел ее туда, где много огней, красок, убедил ее, что она создана для лучшей жизни, хоть, может быть, эта жизнь придет еще и не завтра, — и Мэдлейн доверилась тому, кто меньше всего был достоин доверия. Чтобы добиться своего, он даже вел разговоры о свадьбе когда-нибудь в будущем, о том, что любовь должна быть великодушной, доверчивой, а потом…Глава 3
Сыщик Эмундсен, ястребиным оком наблюдая за районом Четырнадцатой улицы и Кай-стрит, неподалеку от Блейк-стрит, где одно время жила Мэдлейн, заинтересовался новым лицом, которое показалось ему несколько подозрительным. Уже с неделю, в разные часы дня, он замечал в своем районе девушку, то крадущейся, то вызывающей походкой проходящую по улицам, где порядочным женщинам и появляться-то не следовало. Разумеется, он еще не видел, чтобы она с кем-нибудь заговорила; да и не было в ее взгляде и движениях ничего, что наводило бы на мысль, будто она может заговорить. Все же уверенно, как старый, искусный блюститель нравов, не раз ловивший такую дичь, он незаметно пошел за ней, следя, куда она идет, как пугливо медлит на углу, затем поворачивается и идет обратно. Она была совсем молода, не старше семнадцати лет. Сыщик поправил галстук и решил испытать свое искусство. — Извините, мисс! Вышли прогуляться? Я тоже. Позвольте вас немножко проводить. Может, зайдем и выпьем чего-нибудь, а? Я работаю в гараже, тут недалеко, на Грей-стрит, у меня как раз свободный вечер. Вь живете тут поблизости? Мэдлейн с опаской посмотрела на него. Чего только не натерпелась она после того, как любовник бросил ее! Не желая ни признаться своей пьяной и вечно сонной матери, ни просить ее о помощи, Мэдлейн всеми силами старалась найти хоть какую-нибудь работу. Надо было как-то кормиться, да и ребенок, рождения которого он ждала со страхом и стыдом, потребует новых расходов, и о матери приходилось заботиться, — все это под конец заставило ее прибегнуть к позорному ремеслу, хотя бы на время. В те дни, когда она вся в слезах бродила по городу, одна девушка подобрала ее, кормила некоторое время и потом научила уму-разуму. Ее безжалостным и преступным способом избавили от того, что так угнетало и страшило ее. А затем, не находя пока иной опоры в жизни, она обучилась уличному ремеслу; но скоро поняла, что нелегко ей привыкнуть к этому чудовищному виду торговли. Не для нее это было. Она искренне думала, что недолго будет заниматься таким делом; это был только временный выход, подсказанный страхом и отчаянием. Но ни сыщик Эмундсен, ни блюстители закона не желали верить Мэдлейн. Для Эмундсена она была просто одной из многих, одним из тех погибших созданий, которым по тупости и легкомыслию предоставляют цвести и увядать в городских трущобах. Сидя с ним в кафе, она слушала, как он рассказывает про комнату, которую то ли снимает, то ли может снять в ближайшей гостинице. Проклиная судьбу, которая заставила ее принимать такие милости, твердо решив как можно скорее покончить с этим и найти для своей жизни лучшее применение, она пошла за ним. Потом ей открылась страшная истина: он — представитель закона, шпик, который наглой, презрительной усмешкой отвечает на ее слезы и объяснения. Он и не подумал, что она, такая юная, едва ли могла быть столь закоренелой преступницей, какой он ее изображал. Ей пришлось под взглядами прохожих идти с ним в ближайший полицейский участок, а он, встречая своих собратьев, кивал им или останавливался и объяснял, что за добычу он ведет. Она не хотела назвать свое настоящее имя и назвалась вымышленным, под которым ее и зарегистрировал, тараща на нее глаза, грубый полицейский; потом камера с деревянной скамьей, первая в ее жизни; какая-то пожилая женщина обыскала ее; потом ее повезли куда-то в закрытой машине, и, наконец, быстрая, ошеломляющая судебная процедура, пугающе холодный взгляд судьи.«Нелли Фитцпатрик. Агент Эмундсен, восьмой полицейский округ».Подруга, обучавшая ее уличному ремеслу, предупреждала Мэдлейн, что, если ее поймают и арестуют, это может стоить ей нескольких месяцев заключения в каком-нибудь исправительном заведении; она плохо поняла, что это такое и как там исправляют. Ясно только одно: ее хотят лишить свободы и тех немногих, пусть жалких вещей, которые она могла назвать своими. И вот это случилось, она в когтях закона, и некому защитить ее. Сыщик дал показания, какие давались уже сотни раз в таких случаях: он обходил район, и она стала приставать к нему, как это всегда бывает. Так как никто не предлагал взять Мэдлейн на поруки, судья оставил ее под стражей до окончания следствия; следствие показало, как и надо было ожидать, что ее жизнь станет лучше, если применить к ней некоторые исправительные меры. Ее никогда ничему стоящему не учили. С пьяницы матери нечего спрашивать. Несколько месяцев пребывания в каком-нибудь заведении, где ее обучат полезному ремеслу, — лучший для нее выход. Итак, сроком на один год она была отдана на попечение монахинь ордена Доброго Пастыря.
Глава 4
Холодные голые стены этого заведения угрюмо возвышались над одним из самых унылых и неприглядных районов города. Фасад его выходил на север, на мощеный двор, а в отдалении виднелся скалистый берег стремительного пролива и высокий маяк. К востоку — тоже скалы, по-зимнему серые воды реки, а над рекою жалобно кричат чайки, и их заглушает протяжный вой бесчисленных пароходных сирен. К югу — мрачные угольные склады, вагоноремонтные мастерские, каменные коробки домов. Дважды в неделю сюда привозили приговоренных к исправительным работам правонарушительниц всех возрастов: тут были «дети», как Мэдлейн, «девушки» от восемнадцати до тридцати лет, «женщины» от тридцати до пятидесяти, «старухи» от пятидесяти до самого преклонного возраста; их доставляли сюда в плотно закупоренном ящике, похожем на большой цирковой фургон, с маленькими решетчатыми отдушинами под крышей. Внутри вдоль стенок тянулись жесткие, голые скамьи. Тут сидела представительница Городского управления исправительными заведениями, угрюмая, немолодая особа, и с нею полицейский, детина таких невероятных размеров, что один вид его вызывал недоумение: зачем столько ненужного багажа? Пропадая от скуки, он то и дело поглаживал большой рот красной волосатой ручищей и вспоминал о минувших днях. Самим заведением управляла мать-начальница и тридцать монахинь упомянутого ордена, все весьма искусные, каждая в своей области: в кулинарии, домоведении, стирке, закупках провизии, вязании кружев, воспитании детей и прочих хозяйственных делах. В здании было четыре крыла, или отделения, для каждой из четырех названных групп. У каждой группы была своя мастерская, столовая, спальня, комната отдыха. Только в церковь сходились все вместе; в этом большом, высоком, озаренном свечами, пышно украшенном помещении, с алтарем посредине, ежедневно, а нередко и два или три раза в день происходила служба; узкий шпиль, увенчанный крестом, виден был из окон почти всех мастерских. Кроме заутрени, ранней и поздней обедни и вечерни, часто по вечерам и в праздники бывали еще дополнительные службы. Для набожных это, пожалуй, было утешением, для неверующих же утомительно и скучно. Всегда — и в часы работы и в часы однообразного отдыха — на все падала мрачная тень неумолимого закона, его карающая рука чувствовалась во всем: в строгом распорядке, внешнем благолепии, в рабском послушании, заменявшем здесь раскаяние. Пусть голоса монахинь звучали ангельски кротко и шаги их были легки, пусть они всегда были учтивы, ровны в обращении, разговаривали наставительно мягко, — за всем этим стояла мрачная сила, которая могла вернуть любую из их подопечных в грубые лапы полиции, предать их жестокому, неумолимому суду. Страх перед этой силой был для нарушительниц закона или его жертв куда убедительнее любых недовольных или укоризненных взглядов и смирял всякую их попытку возмутиться. При всем своем желании они не могли забыть, что они здесь по воле закона, который насильно удерживает их в этих стенах. Порядок, мир, тишина и спокойствие, царившие здесь, — все это само по себе было не плохо, подчас даже утешало, и, однако, самая основа этой жизни явно была двойственна и противоречива: с одной стороны — неумолимая власть закона, с другой — елейные, прекраснодушные увещевания монахинь. Мэдлейн, наивная и неопытная девочка, видела и чувствовала только одно: грубую, жестокую и слепую силу закона — или самой жизни, — силу, которая никогда не дает себе труда спросить, как и почему, а только распоряжается людьми, не зная милосердия. Словно испуганный зверек перед свирепым врагом, она могла думать только о том, как бы ускользнуть и спрятаться в каком-нибудь темном уголке, укрыться в тайнике, таком крошечном и незаметном, чтобы огромный, безжалостный мир не стал бы преследовать ее. И монахини, особенно те, у кого она была в непосредственном подчинении, ясно понимали, каковы могут быть сейчас ее мысли и настроения. Они понимали это, потому что за долгие годы немало таких, как Мэдлейн, прошло через их руки. И хотя закон предписывал строгость, они по-своему заботились о ней. Она была кротка и послушна, и им оставалось только одно: заставить ее забыть пережитые страдания и обиды и поверить, как верили они сами, что жизнь не всегда жестока и несправедлива, и что не все пути заказаны, и не всюду царит зло. Они внушали ей, что не все потеряно, что для каждой из заключенных, и даже для нее, еще есть надежда начать жизнь сначала, — и, может быть, эта жизнь будет много лучше прежней.Глава 5
Сестра Агнес, ведавшая шитьем в безукоризненно опрятном, но мрачном, как сарай, помещении, где стояла сотня швейных машин, сама прожила не слишком счастливую жизнь. Отец ее умер, когда ей было восемнадцать лет, и она вернулась из монастыря, куда отец отдал ее учиться, желая оберечь от царившей в доме нездоровой атмосферы; дома ее встретила мать, светская дама, чей образ жизни девушка не могла ни понять, ни тем более принять. Безнравственность, лживость и самодовольная праздность так же быстро опостылели ей, как опостылела Мэдлейн улица. Очень скоро она почувствовала, что не в силах больше выносить такую жизнь, и бежала из дому; сначала она попыталась жить самостоятельно, но тем, кто не способен на грубые, подчас постыдные уловки, этот мир предоставляет лишь скудный заработок и безрадостное существование; потом, измученная своими бесплодными попытками, Агнес вернулась в монастырь, где она провела свою юность, с намерением самой стать воспитательницей. Но после суровых испытаний, выпавших на ее долю, жизнь в монастыре показалась ей слишком тихой имирной, и она попросила, чтобы ее перевели в Дом Доброго Пастыря; в этом заведении она впервые почувствовала, что приносит пользу. Начальница Дома, мать Берта, часто прохаживалась по отделениям и беседовала со своими подопечными, расспрашивая каждую о ее прошлом; прежняя жизнь самой матери Берты была еще более горестной, чем жизнь сестры Агнес. Она была дочерью владельца обувной мастерской; отец ее разорился, мать умерла от чахотки; брат, которого она нежно любила, запил и сбился с пути, потом тяжелый недуг свалил его, и он умер. А затем смерть отца, которому она отдала лучшие годы, крушение всех надежд на личное счастье — все это заставило ее отвернуться от мира, и она постриглась в монахини, надеясь, как и Агнес, что в стенах монастыря ее жизнь будет не такой пустой и бесполезной. Ее радовало, что есть к кому привязаться, что благодаря ее заботам несчастные девушки возвращаются к жизни. И с этой мыслью она изо дня в день обходила мастерские, следя за тем, чтобы работа заключенных была не слишком тяжела и надежды тех, кто еще не перестал надеяться, не были обмануты. И, однако, важный, строгий вид монахинь, непривычная одежда — серый бумажный передник, серое шерстяное платье, простые грубые башмаки — и гладко зализанные волосы, обязанность подыматься в половине седьмого, выстаивать службы, завтракать в восемь, работать с половины девятого до половины первого и потом с половины второго до четырех; обедать ровно в половине первого, ужинать в шесть; в половине пятого снова становиться на молитву; с пяти до шести и с семи до девяти убивать время за бессмысленными играми с другими девушками; потом, по звонку, немедленно уходить в огромную общую спальню, уставленную длинными рядами узких железных кроватей и тускло освещенную лампадами и свечами перед изображением святых, — все это заставляло Мэдлейн чувствовать себя наказанной преступницей, и особенно тягостно было сознавать, что за каждым ее шагом, за выражением лица постоянно, неотступно следят. К тому же ее мучила мысль, что ей уготовано еще более суровое наказание или что она сама навлечет его на себя каким-нибудь промахом. Судьба всегда так поступала с нею. Но мало-помалу она притерпелась к этой жизни. Большая рабочая комната с сотней машин, с высокими окнами, из которых видны были угольные склады, река и на ней лодки и чайки, не казалась Мэдлейн такой уж мрачной. Чистые, светлые окна; до блеска натертые полы и стены, вымытые самими заключенными, причем и монахини не гнушались своей долей работы; черные платья сестер, их отороченные белым чепцы, стук их четок, бесшумная поступь и негромкая речь — все это понемногу стало даже нравиться Мэдлейн. Если она портила работу, никто ее не бранил, ей только терпеливо объясняли, как избежать ошибок; правда, работа была скучная, однообразная, ходить надо было гуськом, скрестив руки на груди, не глядя по сторонам; подолгу стоять на коленях во время службы, молиться до и после трапезы, при пробуждении и перед отходом ко сну, при звоне колоколов утром, в полдень и вечером, но, помимо этого, не было особых притеснений. Девушки, попадая сюда, сначала дичились друг друга, держались замкнуто и холодно; каждая таила в себе свой мир — свое прошлое, воспоминания о пережитом, о родных и близких; но, оказавшись здесь бок о бок за работой, за едой, на молитве, в спальне, они не могли не сблизиться понемногу, и в конце концов начались откровенные разговоры и признания. Девушка, сидевшая в швейной мастерской по правую руку от Мэдлейн, бойкое, веселое белокурое существо по имени Вайола Петтерс, хоть и перенесла на своем веку немало злоключений, все еще не утратила интереса к жизни. Постепенно, за работой, девушки сошлись ближе. Вайола поведала, что отец ее, маляр, не состоящий в профсоюзе, прилично зарабатывал, когда мог достать работу, но ему не всегда удавалось достать ее и он плохо умел устраивать свои дела. Мать ее была женщина болезненная, детей было много, и семья жила очень бедно. Вайола сперва работала на упаковочной фабрике, где ей удавалось на сдельной работе, «склейке углов», как она это называла, заработать всего три доллара, а то и меньше; однажды ее обругали и даже вышвырнули из-за стола, за которым она работала, потому что она не так заклеила угол; и тогда она взяла расчет. Дома отец, в свою очередь, стал ругать ее за то, что она разыграла неженку; потом она пошла работать в магазин стандартных цен за три доллара в неделю и премиальные — один процент с ее выручки, что, впрочем, не давало ей и доллара лишнего. Потом она нашла место получше, в универсальном магазине, за пять долларов в неделю. Здесь-то она и встретила красивого парня, который потом причинил ей столько горя. Он был шофер такси и, когда работал, всегда имел в своем распоряжении машину, но только у него редко бывало желание работать. Правда, он честно женился на ней и взял ее из дому, однако денег приносил мало; а вскоре после того как они поженились, его и еще двоих арестовали по обвинению в том, что они угнали и продали чужую машину, и после долгих месяцев заключения он был приговорен к трем годам каторжной тюрьмы. Он потребовал от нее помощи; умоляя, почти приказывая, он настаивал, чтобы она добывала столько денег и такими способами, какие ей никогда и не снились; и все-таки она любила его. Вот когда она добывала деньги одним из этих «способов», ее и поймала полиция, и ее, как Мэдлейн, прислали сюда; только она никому, даже Мэдлейн, не сказала того, что полиция не сумела обнаружить: среди прочих способов добывания денег, подсказанных ей супругом, было и воровство. — А я на это не смотрю, — прошептала она в заключение, не отрываясь от шитья. — Как ни говори, он был добрый, когда у него была работа. Он меня до смерти любил. Если у него были деньги, он всегда водил меня повсюду: и на танцы, и в кино, и по ресторанам. Ну и времечко было! Вот его выпустят, и если он захочет, я вернусь к нему! Другие в тысячу раз хуже. Ты бы послушала, что девушки рассказывают! Под конец и Мэдлейн пришлось поведать свою историю. И раз уж лед был сломан, другие девушки тоже охотно стали говорить о себе, — все это были рассказы о печальной, неудачливой доле затравленных судьбой существ, но, когда Мэдлейн слушала их, в ней почему-то воскресало что-то от прежней робкой веры в жизнь и интерес к ней. Все, о чем говорили девушки, было «безнравственно», но все-таки это была живая жизнь. Несчастливы были их первые шаги, грязь окружала их с колыбели, но они были в этом не виноваты, они всеми силами старались из нее выбраться, — и наперекор всему сохранили мужество и веру в будущее. Для всех этих девушек любовь была проклятьем, но в то же время и единственной радостью. И теперь они мечтали о том счастье, которое, может быть, найдут, соединив свою судьбу с возлюбленным, или о том, чтобы выйти на свободу и, если посчастливится, найти работу, лишь бы в их жизни было хоть немного того, что они понимали под красотой и радостью. И понемногу Мэдлейн отдохнула душой, все дальше и дальше в прошлое отступала память о крушении ее надежд и мечтаний, забывались мучительный позор и жестокое пробуждение. Холодная, невозмутимая размеренность этой суровой жизни успокаивала Мэдлейн хотя бы потому, что здесь она была в безопасности и вдали от враждебного мира. Конечно, это было жалкое, скудное существование, но по крайней мере без тревог и волнений. Подымаясь по утрам в тишине скупо освещенной спальни, повторяя заученные молитвы, в молчании направляясь в церковь, в столовую, в мастерскую, где слышалось только глухое жужжание машин, потом снова в церковь, убивая время за скучными играми и, наконец, так же безмолвно по заведенному распорядку, укладываясь вечером в свою узкую постель, Мэдлейн чувствовала себя успокоенной и отдохнувшей. И, однако, быть может, именно поэтому она не могла не думать о грохочущем, шумном мире за стеной. Этот мир принес Мэдлейн только боль и страдания, но в нем, грубом и жестоком, все же кипела жизнь. Вечерние улицы, залитые огнями! Автомобили! Дансинг на берегу моря, где ее когда-то учили танцевать! Мимолетные ласки и поцелуи ее неверного любовника! Как быстро все это кончилось. Где он теперь в этом огромном, таинственном мире? С какой девушкой? Может быть, она так же быстро надоест ему, как надоела Мэдлейн? И он так же обижает ее? Где теперь Тина, Фрэнк, мать? Что сталось с матерью? Мэдлейн ничего не знала о ней. Наконец, почувствовав доверие к сестре Агнес, Мэдлейн однажды, расплакавшись, поведала ей все о себе и о своих близких, и монахиня обещала разыскать старуху мать. Но, узнав, что та отправлена в работный дом, сестра Агнес решила пока ничего не говорить. Мэдлейн еще успеет намучиться с матерью, когда выйдет на свободу. Зачем омрачать обновляющуюся жизнь столь постыдным воспоминанием.Глава 6
И вот кончился срок заключения, и Мэдлейн, ничего не забывшую из своего прошлого, снова выпустили в мир; быть может, теперь она была уже не так беззащитна, как прежде, но все же, по самому характеру своему, едва ли достаточно вооружена для жизненной борьбы. Ей было прочитано множество торжественных и премудрых наставлений о тех ловушках и западнях, которые подстерегают девушку в этом мире; потом монахиня, вся в черном, отвезла ее прямо в некое высоконравственное и благочестивое семейство, чья строгая приверженность религии должна была служить девушке достойным примером; итак, Мэдлейн снова была предоставлена самой себе и снова взялась за работу, которая была знакома ей и прежде, ибо монахини не умели придумать для своих подопечных лучшего занятия, чем должность прислуги. В деле воспитания и обучения они ограничивались принципами морали, требующей от воспитанниц не столько уменья, сколько веры и слепого послушания. Здесь, как и в исправительном заведении, воздух, окружавший Мэдлейн, был пропитан благочестием, упованием на высшую силу, заботящуюся о благе человека, но Мэдлейн все это было чуждо, — вопросы религии никогда не занимали ее. Здесь тоже повсюду были маленькие раскрашенные изображения святых в белых, розовых, голубых и золотых одеяниях, ниспадающих мягкими складками; святых венчали звезды или короны, и они держали в руках скипетры или лилии. Лица у них ясные, взгляд добрый и задумчивый. Но Мэдлейн видела в них только изображения — милые и приятные, но так разительно не похожие на действительность, что трудно было усмотреть в них нечто большее, чем просто красивые картинки. В большой церкви, которую посещало это семейство — они уговорили и Мэдлейн сопровождать их, — было очень много таких же изображений святых, алтари, озаренные свечами, — Мэдлейн смотрела на все это с почтительным изумлением. Одеяния священника и служек, белые с золотом и алые с золотом ризы, золото и серебро крестов, кубков, чаш — все наполняло ее наивную, впечатлительную душу благоговением, но не убеждало в существовании высших сил, смысл и назначение которых она никак не могла уразуметь. Бог, бог, бог — вечно она слышала о нем и о крестных муках и искупительной жертве Христа. И здесь, как там, царили тишина, порядок, чистота, размеренность, смирение — все это так поражало ее, так было непохоже на ее прошлую жизнь. Раньше это было чуждо ей и она не понимала значения всего этого. Но теперь день за днем, как капля точит камень, как маятник отсчитывает минуты, все это понемногу оставляло, хоть и неглубокий, след в ее душе. Размеренное однообразие будней, неуклонное соблюдение обрядов, раз навсегда установленных властной и могущественной церковью, постепенно накладывали на Мэдлейн свой отпечаток. Хотя монахиня из Отдела надзора изредка и навещала Мэдлейн, ей не только разрешалось, но она просто вынуждена была по мере сил и умения сама пробивать себе путь в жизни и существовать на те средства, какие ей удавалось добыть. Ибо, несмотря на все молитвы и наставления монахинь, жизнь оставалась все такой же суровой и беспощадной. Эта жизнь, как видно, имела мало общего с религией. Вопреки всем увещеваниям церкви, хозяева, у которых служила Мэдлейн, полагали, что религия обязывает их дать прислуге кров и пищу лишь постольку, поскольку она полезна им. Если она хочет чего-то лучшего, — а очень скоро Мэдлейн ясно поняла, что должна добиваться лучшего, — ей следует научиться многому, чего она еще не умеет, но тогда она вряд ли будет нужна в этом доме. И хотя месяцы, проведенные в исправительном заведении, и показали Мэдлейн, что жить нужно лучше и разумнее, чем она жила до сих пор, внешний мир с его удовольствиями, надеждами манил ее все так же властно и настойчиво, как и прежде. Но что же делать? Что? Трудно было решить эту задачу. Мэдлейн не принадлежала к числу тех смелых и предприимчивых натур, которые способны собственными силами найти верный путь. Сколько бы она ни раздумывала и что бы ни делала, ее не покидала уверенность, что любовь, только любовь, ласки и заботы сильного и любящего мужчины могли бы избавить ее от всех житейских невзгод. Но если даже и так, — откуда придет к ней эта спасительная любовь? Она совершила ошибку, и если возникнут какие-то честные и искренние отношения с кем-нибудь другим, надо будет в этой ошибке сознаться. Что тогда? Сможет ли тот, кто ее полюбит, простить? Любовь, любовь, любовь, мир и покой счастливой, размеренной семейной жизни, какую, казалось ей, она видела вокруг, — это счастье сверкало вдали, как звезда! А тут еще мать. Вскоре после того как Мэдлейн вышла на свободу, полное одиночество, чувство дочернего долга и жалость заставили ее отыскать мать, чтобы вновь создать для себя хоть какое-то подобие семьи. У нее никого нет на свете, кроме матери, говорила себе Мэдлейн. Мать, конечно, опять начнет клянчить у нее деньги, но зато она хотя бы выслушает дочь, пожалеет ее иной раз, будет с кем слово сказать. Как-то в свободный день Мэдлейн пошла на их старую квартиру и узнала, что мать отправили в работный дом, а оттуда в богадельню. Эти розыски привели к тому, что мать вскоре сама нашла Мэдлейн и опять стала для нее тяжкой обузой; но год спустя она умерла. А жизнь по-прежнему звала и манила Мэдлейн, ибо она все еще была полна надежд и трепета молодости. Незадолго до того, как Мэдлейн вышла на свободу, Вайола Петтерс как-то сказала ей в порыве дружеской откровенности: — Когда мы с тобой обе выберемся отсюда, давай встретимся. Только пока я еще здесь, ты мне сюда не пиши, — все равно не передадут. Я думаю, они не захотят, чтобы мы с тобой водили дружбу. Уж, верно, я им не так по душе, как ты. Но ты мне все равно пиши на имя… (тут она дала Мэдлейн адрес), мне передадут, когда я выйду отсюда. Она не сомневалась, что найдет хорошее место, как только освободится от опеки монахинь, и обещала устроить куда-нибудь и Мэдлейн. И теперь от тоски и уныния Мэдлейн часто вспоминала об этом; и в надежде хоть немного скрасить свою жизнь, она в конце концов написала Вайоле и вскоре получила ответ: Вайола приглашала ее к себе. Но Вайола не могла помочь ей. Мэдлейн мечтала о более разумной, более чистой жизни, а Вайола и ее подруги, как она скоро убедилась, добывали средства к существованию тем способом, которого Мэдлейн твердо решила впредь избегать. Жила Вайола в собственной квартире — и в такой роскоши, какая Мэдлейн никогда и не снилась, но доставалась она слишком дорогой ценой, и Мэдлейн не хотела и думать об этом. Однако в жизни самой Мэдлейн, где бы она ни работала — в лавке или на фабрике — и сколько бы ни переходила с места на место в надежде устроиться получше, тоже не было ничего хорошего. С каждым днем она все яснее понимала, что на такой работе ей ничего путного не добиться — а на другую она и рассчитывать не может. Матери уже не было в живых, и одиночество все сильнее тяготило Мэдлейн. Так прожила она несколько лет, еле сводя концы с концами, и все помыслы ее были о любви, о том, что любовь внесла бы в ее жизнь… если бы опереться на нежную заботливую руку, найти прибежище в любящем сердце! И вот, во второй раз за ее короткую жизнь, пришла любовь, — во всяком случае она полюбила и думала, что любима. К этому времени она своими силами, без чьей-либо помощи, поднялась до должности продавщицы в универсальном магазине с жалованием в семь долларов в неделю, на что она и пыталась жить. Однажды у ее прилавка появился один из тех вкрадчивых, смазливых франтов, которые полагают, будто женщины для того и созданы, чтобы ловить их на приманку лихо закрученных усов и пышной шевелюры; он был одет с иголочки: в светлом костюме, ослепительном белье и новеньких ботинках — словом, поразительное видение в скучном, будничном мире Мэдлейн. Его томный взгляд и галантное обращение неизменно покоряли женское сердце, особенно если оно еще не постигло всей обманчивости внешнего лоска. Да, один вид привыкшего к победам мужчины, его пустые, пошлые комплименты, блеск глаз и глянец свежевыбритых щек, какой-то особый, никогда не виданный ею дешевый шик мгновенно поразили ее воображение. Он наклонился над прилавком, рассматривая почтовую бумагу и карандаши, говорил что-то о ценах, расспрашивал о ее работе, лукаво улыбался и всячески давал ей понять, что она ему очень нравится. А она безотчетно покорялась притягательной силе, которая неудержимо влекла ее к нему. Наконец-то он явился, предмет ее мечтаний, — красивый, обаятельный мужчина, он не прошел мимо нее, скромной девушки. Его напомаженные завитые волосы казались ей венцом на челе юного бога, усы и острый хищный нос — воплощением красоты. Даже в движениях его жилистых цепких рук увидела она изящество и грацию. Едва она успела изумиться его совершенствам, как он исчез. Но назавтра он пришел опять и держался еще более развязно и вкрадчиво. Еще через день он напрямик заявил ей, что она ему нравится и они должны стать друзьями. Как-то во время перерыва он повел ее завтракать в такой шикарный ресторан, в каком она и не мечтала побывать; в другой раз он повез ее обедать. Он говорил ей, что она красивая, удивительная. Она — нежный цветок и понапрасну губит себя на такой тяжелой работе. Если она выйдет за него замуж, жизнь ее станет легкой и приятной. Когда ему везет, он зарабатывает много денег, очень много. Они будут вместе ездить за город, побывают в новых местах, увидят много интересного. Что касается ее несчастливого прошлого, о подробностях которого она умалчивала, он, как видно, нисколько им не интересовался. Она ничуть не виновата, если ее прежняя жизнь сложилась так плохо… Любовь, любовь… Старая история. Наконец в порыве любви и благодарности она поведала ему о своем великом грехе; он несколько минут размышлял с важным видом и затем изрек, что это просто невинная ребяческая ошибка, не заслуживающая внимания. Так возник один из тех скоропалительных и опрометчивых союзов, которые столь часты среди бедняков; их толкает на это инстинкт самосохранения, трудная, необеслеченная жизнь общественного дна. Нашелся священник, который скрепил этот союз, что, по-видимому, должно было превратить его в идеальный брак. А потом они поселились в дешевых меблированных комнатах, и началась новая, лучшая жизнь, от которой Мэдлейн ждала осуществления всех своих грез.Глава 7
Есть на дне жизни известный тип хищника, коршуна, что выхватывает птенцов из гнезда, уносит маленьких зверьков с полей и весь мир считает лишь местом охоты, где всякого, кто слабее телом или духом, можно поработить; тому, кто знаком с наглыми и безжалостными повадками такого хищника, это описание не покажется ни неверным, ни преувеличенным. Завзятые волокиты, меняющие женщин, как перчатки, они ведут жизнь беспечную, хоть и преступную, и их жертвы могут засвидетельствовать, что какое-то очень короткое время, находясь на попечении, или, вернее, в плену у таких мужчин, они даже чувствовали себя счастливыми. Так было с Мэдлейн и ее возлюбленным. Он снисходительно посмеивался над ее искренними, хотя и неловкими усилиями создать домашний уют для их, как ей казалось, прочного брака, для их совместного будущего; он это считал смешными пустяками, а для нее словно раскрылись небеса, и она увидела новый мир. В его любви и заботе она найдет покой. Если не теперь, то позже (ибо он уже жаловался на препятствия, которые мешают ему работать) надо будет общими усилиями скопить немного денег и поскорее начать лучшую жизнь — им нужен свой угол, семейный очаг. Она мечтала даже о детях. Вскоре он начал жаловаться на всякие временные неудачи, говорил, что нужно беречь каждый грош и, пока он не «уладит свои дела», ей придется подыскать себе какую-нибудь работу повыгоднее прежней; но и это не заставило ее насторожиться. Для нее было невыразимой радостью работать ради своего возлюбленного, ибо пришла любовь — то великое, что спасает от горя и забот, разрушает все, казалось бы, неодолимые преграды. Несмотря ни на что, жизнь ее, согретая любовью, наконец, распустится, как цветок. Конец одиночеству, гнетущему равнодушию огромного житейского моря. Как и в первый раз, пробуждение было внезапным и ошеломляющим. Поняв, что она слепо восхищается его смазливой наружностью и что в его подлой, низкой душонке для нее весь мир, он без зазрения совести стал убеждать ее, день ото дня все настойчивее, — прибегнуть к самому легкому и быстрому способу зарабатывать деньги (способ, к несчастью, ей уже знакомый), так как он попал в крайне затруднительное положение. Обычной басни о грозящей катастрофе, о карточном проигрыше, который грозит ему тюрьмой, а значит разлукой с нею, оказалось достаточно. Он прожужжал ей уши рассказами о том, как женщины выручали его приятелей, попавших в такое же положение, о том, как на каждом углу «клиенты» только и ждут, чтобы их одурачили и обобрали. Чего тут сомневаться! Достаточно вспомнить, какие жалкие гроши она прежде зарабатывала, в каком убожестве жила. Зачем самим закрывать себе дорогу в будущее? Это же просто глупо. На его взгляд, к любви это не имеет никакого отношения. Неужели она этого не понимает? Словом, он уговорил ее. Но теперь не стыд и не страх перед наказанием мучили ее: мысль, что он надругался над их любовью, — эта мысль ранила ее, жгла и терзала. И снова она начала смутно понимать, что любовь не должна быть такой. Если любовь — это то, о чем всегда мечтала Мэдлейн, не должна ли она прежде всего защищать и оберегать ее, хранить для самой же любви? И что же — любовь снова посылает ее на улицу, слоняться по подъездам и перед витринами и «стрелять глазами». Эта мысль сверлила ей мозг, пронзала сердце. Ибо, несмотря на свой горький опыт и жестокие разочарования, она твердо верила, что любовь не должна быть такой, что тот, кто любит, не должен так поступать. Дорогие черты, которые и посейчас и еще долго спустя, как и черты ее первого возлюбленного, казались ей столь достойными обожания, глаза, которые сияли лаской, губы, которые так нежно улыбались и целовали, руки, которые обнимали ее, — как могли они быть орудием той силы, что толкала ее на улицу?. Нет, любовь должна быть иной. Он сам говорил ей сначала, что она ему дороже всего на свете, — и что же!.. И вот года через полтора, однажды ночью, гроза разразилась. Обозленный больше обычного карточным проигрышем и необходимостью терпеть возле себя Мэдлейн, хоть она и могла еще быть ему полезна как покорная раба, он в дикой ярости набросился на нее. Как, только-то? Убирайся к черту отсюда! Дурак я, что ли! Пусти мою руку. Не приставай. Да не цепляйся ты за меня, говорят тебе! Надоела ты мне до черта! Убирайся, чтоб духу твоего здесь не было, понятно? Хватит с меня, хватит, слыхала? Вон отсюда! Я тебе и раньше говорил, а на этот раз точка. Проваливай, шлюха, и не попадайся мне больше на глаза! Слышишь ты, размазня! Он оттолкнул ее, распахнул настежь дверь и, так как она все еще со слезами цеплялась за него, вышвырнул ее вон с такой силой, что она разбила о косяк левый глаз и кисть руки. Мэдлейн только успела крикнуть: — Фред, Фред, ради бога!.. — И дверь с грохотом захлопнулась перед нею; оглушенная, обессиленная, она в отчаянии прислонилась к перилам лестницы. Снова жестокая и непостижимая жизнь придавила ее всей тяжестью, только теперь она уже больше ни на что не надеялась. Все было так мрачно, так беспросветно. Мысль ее обращалась то к быстрым ледяным водам реки, поблескивавшим в холодных лучах зимней луны, то к Дому Доброго Пастыря, единственному прибежищу, где она была словно щитом отгорожена от жизни, где знала покой и тишину. И вот, терзаясь горькими думами, глотая слезы, она медленно побрела по длинным улицам, вспоминая печальную повесть своей поруганной любви, навеки разбитых мечтаний.Глава 8
Все так же угрюмо высились кирпичные стены исправительного заведения, тусклые в холодном свете луны. Было три часа утра. Она прошла долгий путь, изнемогая под бременем горьких мыслей, в слезах, полузамерзшая. Минутами ее охватывало отчаяние, силы изменяли ей, и ее неодолимо влекло к реке… и только память об этом мрачном, уродливом доме, о его тишине и покое, об опеке сестры Агнес и матери Берты поддерживала ее. Она шла и спрашивала себя, примут ли ее после всего того, что случилось с ней. И все же она шла и шла, пока перед нею не выросли высокие, безмолвные стены. Нигде ни огонька. Но, наконец, она увидела свет над дверью — это были не те огромные, неприступные ворота, через которые ее провели в первый раз, а узкая боковая дверь; туда-то она и направилась после недолгого колебания, позвонила, и сонная монахиня впустила ее и провела в теплую тихую прихожую. Здесь Мэдлейн машинально подошла к железной решетке, которая, точно в тюрьме, преграждала путь внутрь здания, устало опустилась на один из двух жестких стульев, стоящих по обе стороны небольшого квадратного отверстия в решетке, и заглянула туда. Подбитый глаз и ушибленная рука болели. Выцветший жакет и помятая шляпка, съехавшая набок, были запорошены снегом. И когда дежурная сестра, услышав шаги, подошла к решетке, Мэдлейн, сложив на коленях маленькие красные, огрубевшие руки, подняла на нее заплаканные глаза. — Сестра, — сказала она просительно, — можно мне войти? Потом, вспомнив, что только начальница может впустить ее, тихо добавила: — А мать Берта здесь? Я жила у вас раньше, она меня узнает. Монахиня с любопытством смотрела на Мэдлейн, чувствуя, что перед нею существо еще более несчастное, чем те, кого она привыкла видеть в этих стенах; заметив, что девушка либо больна, либо вне себя от горя, она поспешила позвать начальницу: мать Берта строго требовала, чтобы в таких случаях обращались к ней лично. Мэдлейн не шевельнулась, пока не послышались шаркающие шаги и в квадратном окошке не появилось морщинистое утомленное лицо матери Берты. — Ты хотела видеть меня, дитя мое? — спросила она негромко, с интересом и удивлением глядя на позднюю посетительницу. — Матушка, — начала Мэдлейн дрожащим голосом, глядя в знакомое старческое лицо. — Вы не помните меня? Это я, Мэдлейн. Я была здесь четыре года назад. В отделении «детей». Я работала в швейной мастерской. Жизнь нанесла ей столько ударов, так безжалостно разрушила ее хрупкие надежды, что и здесь она боялась встретить один лишь равнодушный отказ. — Да, я помню тебя, дитя мое. Но что привело тебя сюда? Я вижу, у тебя поранены глаз и рука. — Да, только, пожалуйста, сейчас ни о чем не спрашивайте. Впустите меня! Я так устала. Я такая несчастная! — Хорошо, дитя мое, — сказала начальница, открывая дверь. — Ты можешь войти. Но что случилось? Что у тебя с глазом и рукой? — Можно мне не отвечать сейчас? — устало повторила Мэдлейн. — Я так измучилась! Дайте мне только на эту ночь мое прежнее платье и койку, ту, под ночником. — Хорошо, дитя мое. Можешь ничего не говорить сейчас. Я понимаю тебя. Пойдем. Она повела ее голыми, тускло освещенными коридорами, потом вверх по холодным, широким железным ступеням, где глухо отдавались шаги, и опять, как четыре года назад, Мэдлейн очутилась в мрачной, но опрятной ванной комнате, где стояли корзины для грязного белья. — Теперь, дитя мое, разденься и вымойся, я принесу тебе мазь для глаза. И снова Мэдлейн скинула жалкий, хоть и крикливый наряд, который в последнее время украшал и позорил ее: шерстяную юбку, недавно купленную в робкой надежде понравиться ему, безвкусную шляпку, стоившую десять долларов, полосатую блузку, которую она когда-то надевала с такой гордостью, опять-таки надеясь понравиться ему. Мэдлейн сняла туфли и чулки и, когда начальница вышла, глотая слезы, села в ванну, уже наполненную водой. Она вымылась, вытерлась, надела приготовленную для нее грубую рубашку, расчесала волосы; потом села на стул, держась за больной глаз, и сидела, не шевелясь, пока мать Берта не принесла ей лекарство. Потом она опять шла по безмолвным коридорам, которые когда-то наводили на нее такую тоску, а теперь успокаивали и утешали. Начальница привела Мэдлейн в большую комнату, где рядами стояли простые железные койки и тускло светились красные лампадки и тонкие свечи, зажженные перед изображениями святых. Над койкой, которую она когда-то занимала, по-прежнему мерцал трепетный огонек перед образом богоматери. При виде этой лампадки, которую Мэдлейн всегда мысленно называла своей, она чуть не разрыдалась. — Видишь, дитя мое, — тихо, чтобы не потревожить длинные ряды спящих, сказала мать Берта, — твоя кровать свободна. Может быть, она знала, что ты придешь, и ждала тебя. — Ах, позвольте мне остаться здесь совсем, — вдруг прошептала Мэдлейн. — Я не хочу уходить отсюда, я так измучилась на воле. Я буду много, очень много работать, только оставьте меня здесь! Мать Берта, немало повидавшая на своем веку, с любопытством посмотрела на нее. Еще ни разу не приходилось ей слышать такую просьбу. — Отчего же, дитя мое, — сказала она. — Если ты хочешь остаться, я думаю, это можно будет устроить: это у нас не в обычае, но ты не единственная, были и еще такие, что выходили отсюда, а потом опять возвращались к нам. Я верю, что бог и пресвятая дева услышат твои молитвы. Теперь же ложись спать. Тебе нужно отдохнуть. А завтра или еще когда-нибудь ты расскажешь мне, что случилось с тобой, а если не захочешь, можешь совсем не рассказывать. Она ласково, но настойчиво заставила Мэдлейн лечь, укрыла ее одеялом и погладила по голове холодной морщинистой рукой. Мэдлейн схватила эту руку и прижала ее к губам. — Вы не прогоните меня отсюда? — всхлипывая, сказала она. — Жизнь очень страшная! Не прогоните? Я так устала, так устала! — Нет, нет, — ответила мать Берта, склонившись над ней, — ты останешься здесь, пока сама не захочешь уйти. А теперь отдыхай. И она тихо вышла из комнаты.Святой Колумб и река
В то утро, когда Мак-Глэзери с того места, где была прорыта первая шахта, впервые увидел великую реку, катящую свои воды на запад, зрелище это не поразило его, а если и поразило, то неприятно. Река была слишком уж серая и угрюмая — такой, во всяком случае, она показалась ему сквозь сетку косого дождя со снегом. Множество паромов и всевозможных судов и суденышек бороздили ее неспокойные воды; чего тут только не было: и гигантские пароходы, и далеко выступающие причалы, огромные и таинственные, и тучи чаек, и пронзительные свистки, и трезвон сигнальных колоколов, предупреждающих о тумане… Но Мак-Глэзери не любил воду. Она напоминала ему о тех одиннадцати ужасных днях, когда он плыл из Ирландии через океан и страдал от морской болезни. Тогда, пройдя через мытарства Эллис-Айленда, он с таким облегчением ступил, наконец, на твердую землю Бэттери, держа чемоданы в руках, что у него невольно вырвалось: «Слава богу, теперь с этим покончено!» Он был твердо уверен в этом, потому что до смерти боялся воды. Но — увы! — судьба решила иначе. Вода в том или ином виде, казалось, поистине преследовала его. В Ирландии, в графстве Клэр, откуда Мак-Глэзери был родом, он копал канавы — стало быть, в известном смысле все же имел дело с водой. Здесь, в Америке, не успел он обосноваться в Бруклине и приняться за поиски заработка, как обнаружил, что, пожалуй, лучшее, на что можно рассчитывать, — это работа по осушке очень болотистой и сырой местности: как видите, опять вода! Однажды, когда прорывали водослив — этакую большую открытую канаву — и он работал на дне ее вместе с другими землекопами, хлынул дождь, неукротимый послеполуденный ливень, и они едва унесли ноги, спасаясь от быстро прибывавшей воды, которая грозила поглотить их. В другой раз вместе с тридцатью рабочими он чистил старый, осыпающийся каменный водоем, разделенный перегородкой надвое; и вот, когда из одной половины водоема всю воду выкачали, а другая половина была доверху полна, — ветхая перегородка рухнула, и опять он едва спасся, вскарабкавшись по крутому откосу. Тут-то впервые у него и зародилась мысль, что вода — любая вода, морская или пресная, — приносит ему одни несчастья. И тем не менее в это серое, дождливое ноябрьское утро Мак-Глэзери стоял на берегу и собирался наняться на работу по прорытию туннеля под великой рекой. Подумать только! Он все-таки пришел сюда, вопреки своим предубеждениям и страхам, и все из-за Томаса Кэвеноу, мастера, с которым он проработал вместе последние три года, прихожанина той же церкви, куда ходил и он сам. Кэвеноу явно привязался к нему и потому сказал, что, если он пойдет землекопом в туннель, будет стараться на новом месте и проявит достаточно умения и храбрости, его могут поставить на работу получше — например, укладывать кирпичи, или цементировать стены в самом туннеле, или устанавливать крепления, а то и еще лучше: клепать стальные плиты — эта работа требует квалификации металлиста и оплачивается не ниже двенадцати долларов в день. Шутка сказать — двенадцать долларов в день! Опытных рабочих такой специальности нелегко найти для работы в туннеле, да и вообще на них в Америке большой спрос. Сам Кэвеноу будет работать в этом туннеле мастером в смене Мак-Глэзери и присмотрит за ним. Конечно, чтобы получить место получше, понадобится немало времени и терпения. Ведь начинать-то придется с самого низа — на глубине семидесяти пяти футов под Гудзоном, где им предстоит сначала тщательно провести сложные земляные работы. Слушая все это, Мак-Глэзери глядел на своего начальника и благодетеля каким-то неуверенным и, однако, уже загоревшимся взглядом. — Да неужто все это правда? — спросил он наконец. — Ну да. Конечно, правда. А то зачем бы я с тобой разговаривал? — Значит, верно? — Само собой. — Так, так! Похоже, неплохая работенка. Прямо не знаю. Значит, говорите, для начала пять долларов в день? — Да, пятерка в день. — Так. Что ж, простому рабочему — такому, как я, пожалуй, больше-то нигде не дадут. Попробовать, что ли? Авось ничего со мной не сделается, коли немножко поработаю с вами! — Человеком станешь! — Ну, так я пойду к вам. Пойду. Да. Пятерку-то не везде получишь. Когда, стало быть, я вам понадоблюсь? Мастер, этакий гигант Гаргантюа, в желтых штанах и высоких резиновых сапогах, доверху забрызганных грязью, дружелюбно и весело поглядывал на Мак-Глэзери, а тот взирал на своего начальника почтительно и даже благоговейно, — такого почтения он, пожалуй, ни к кому не испытывал, разве что к священнику своего прихода (Мак-Глэзери был набожный католик), да еще к местному политическому боссу, благодаря которому он в свое время получил работу. Для него это были великие люди, властители его судьбы. Вот как случилось, что этим пасмурным утром, вскоре после начала работ в туннеле, Мак-Глэзери стоял на берегу, и перед ним текла огромная река, а где-то глубоко внизу, в новой штольне, ждал его Томас Кэвеноу, к которому он должен явиться, прежде чем приступить к работе. — Да-а, похоже, здесь не в игрушки играют, — заметил он, обращаясь к рабочему, который почти одновременно с ним подошел ко входу в штольню и теперь начал уже спускаться по лестнице, — ступеньки ее, теряясь во тьме, вели к промежуточной платформе; оттуда вниз шла новая лестница, за ней — новая платформа, а еще ниже виднелся желтоватый свет. — Так, говоришь, мистер Кэвеноу там, внизу? — Да, там, — ответил рабочий, не глядя на него. — Во второй камере. Ты что, работаешь тут? — Да. — Тогда пошли. Подхватив одной рукой узел с резиновыми сапогами и поношенным комбинезоном, а другой придерживая на плече кирку и лопату, Мак-Глэзери последовал за ним. Так он добрался до дна шахты; стены тут были обшиты огромными дубовыми досками, а над головой перекрещивались балки креплений; здесь он присоединился к группе рабочих, дожидавшихся, пока воздушное давление не понизится до нужного уровня, затем вместе с ними вошел в камеру. Это сравнительно небольшое помещение с тяжелыми железными дверьми в противоположных концах, медленно открывавшимися под напором нагнетаемого в камеру воздуха, произвело на него сильное впечатление. Камеру освещал лишь неровный свет керосинового фонаря. Откуда-то доносился свистящий звук. — Эй, ирландец, тебе случалось когда-нибудь работать под воздушным давлением? — с добродушной усмешкой спросил Мак-Глэзери рослый неуклюжий металлист. — Под воздушным — чем? — спросил тот, совершенно не понимая, о чем идет речь, но не желая обнаружить свое невежество. — Нет, не случалось. — Так вот: ты сейчас под давлением в две тысячи фунтов на квадратный дюйм. Разве не чувствуешь? Деннис Мак-Глэзери, уже заметивший, что с ушами и горлом у него творится что-то неладное, но не догадывавшийся о причине столь странных ощущений, признался, что чувствует. — Это от воздуха, да? — спросил он. — Что-то мне вроде не по себе. Свист прекратился. — Тут, новичок, нужно в оба глядеть, — беззлобно заметил другой, тощий вертлявый американец. — Чтоб воздух не нагнетали слишком быстро. А то еще «кессонка» хватит. Деннис, понятия не имевший, что такое «кессонка», промолчал. — А ты знаешь, новичок, что такое «кессонка»? — продолжал приставать тощий. — Нет, — немного погодя нехотя ответил Деннис, чувствуя, что на него со всех сторон устремлены любопытные и изучающие взгляды. — Ну, так узнаешь, коли она тебя хватит, хо-хо! — сказал потешный нескладный каменщик, который до тех пор не подавал голоса. В камере было довольно много народу. — Когда слишком быстро нагоняют или снижают давление, тут-то она и приключается. Руки, ноги сводит, и каждая жилка в тебе болит. Да, уж если она тебя хватит, ты ее сразу узнаешь! — Помните Эдди Слоудера? — весело сказал еще кто-то. — Он как раз от нее помер — тут, неподалеку, в Белвью, когда начались работы в конце Четырнадцатой улицы. Слыхали бы вы, как он орал! Я ходил тогда к нему в больницу. Приятные новости, нечего сказать! Вот, значит, с чего началось его знакомство с туннелем: оказывается, существует опасность, о которой Кэвеноу даже и не заикнулся. Мак-Глэзери хоть и туго соображал, а все-таки встревожился. Но теперь ничего не поделаешь: он тут, в туннеле, и в противоположном конце камеры рабочие уже медленно открывают дверь, и похоже, что это воздушное давление не причинило ему вреда, во всяком случае, пока что его не убило; он двинулся дальше по туннелю, в этой части почти уже законченному, но пока еще заваленному балками, плитами, мешками с цементом и грудами кирпича, и попал в другую камеру, такую же, как первая; когда он вышел из нее, то при свете полудюжины шумно потрескивавших больших керосиновых ламп, озарявших сложное переплетение балок и подпорок, которые сдерживали нависшую над головой темную массу — не более, не менее, как землю под дном реки, — он увидел Кэвеноу в коротком красном свитере, больших резиновых сапогах и старой желтовато-коричневой фетровой шляпе, лихо сдвинутой на ухо. Кэвеноу разговаривал с двумя другими мастерами и каким-то хорошо одетым человеком, наверное, инженером, — словом, важной шишкой. О, как далеко было Мак-Глэзери до этого джентльмена в отутюженном, хорошо сидящем костюме! Он смотрел на него, как на существо из другого мира. Здесь, за последней камерой, он увидел группу рабочих под началом незнакомого мастера, задержавшихся после ночной смены (землекопов, плотников, откатчиков и клепальщиков); они выполняли тяжелую и в то же время тонкую работу — прокладывали и крепили штольню под рекой — и только теперь покидали шахту. Кругом толпился народ. В воздухе стояла духота от горящих ламп; было грязно — все вокруг заляпано черной мокрой землей. Деннис как раз пробирался среди разбросанных балок, когда Кэвеноу заметил его. — А, явился наконец! Это все ребята оттуда. — И он махнул рукой, указывая в дальний конец туннеля. — Иди туда, Деннис, и копай в том углу, за столбом. Джерри поможет тебе. Землю наваливай на платформу, надо выкопать столько, чтоб можно было вогнать вот эти подпорки. Мак-Глэзери повиновался. Он занял свое место в самом конце туннеля под земляным сводом, едва различимым сквозь переплетение балок и стропил. Напрягая мускулы рук, ног и крепкой спины, он врезался лопатой в густую грязь, разбивал киркой твердые комья и кидал землю на грубо сколоченную платформу; другие рабочие сбрасывали ее оттуда лопатами в вагонетку, которую по наспех набросанным доскам отвозили потом к камере и дальше — на поверхность. Это была нудная, грязная, но не очень тяжелая работа, и все бы ничего, если бы можно было забыть об огромной реке, которая текла там, наверху, о судах и волнах, плещущих под дождем, о чайках и сигнальных колоколах. А Денниса все-таки пугала и тревожила мысль об этой огромной толще земли и воды у него над головой. Прямо-таки сердце замирало от ужаса. Не слишком ли затуманила ему мозги эта приманка — деньги? А вдруг вода прорвется, вдруг земля над ним обвалится и засыплет его, — черная земля, едва различимая сквозь крепления, такая же тяжелая и жирная, как та, в которую врезается сейчас его лопата. — Эй, Деннис, чего в потолок уставился? Он тебе ничего худого не сделает. Ты здесь не затем, чтоб наблюдать за потолком. Это уж мое дело, а ты знай копай. Голос Кэвеноу раздался над его ухом. Сам того не заметив, Мак-Глэзери уже несколько минут перестал копать и стоял, глядя в потолок. Дело в том, что от свода оторвался комок земли и ударил его по спине. А вдруг!.. А вдруг!.. Знай, о читатель, что прокладка туннеля — одна из самых интересных строительных работ, известных человечеству, но вместе с тем и самая опасная, чреватая даже катастрофой. В наше время, во всяком случае, прокладка подводного туннеля требует, чтобы по обе стороны реки, озераили канала (примерно футов за сто от берега) были прорыты большие шахты на глубину, скажем, тридцати футов ниже уровня воды; оттуда — сразу с двух концов — и ведутся работы под дном реки, пока обе партии не встретятся где-то посредине. Обе части туннеля должны сомкнуться совершенно точно, без малейшего отклонения, — это считается одной из труднейших задач в инженерном искусстве. Все это Мак-Глэзери понимал, но лишь весьма смутно. И от этого не чувствовал себя увереннее. Тут следует сказать, что техника безопасности да и сама специфика прокладки туннеля требуют сооружения воздушных камер на каждом его конце; сначала их устанавливают на дне каждой шахты, а потом, по мере прорытия туннеля, — примерно через каждые сто футов. Это огромные кессоны, или стальные цилиндры, пятнадцати футов в диаметре — нечто вроде воздушных шлюзов с переменным давлением, с массивными, расположенными одна напротив другой дверями, которые открываются внутрь, чтобы воздух, непрерывно нагнетаемый под невероятно высоким давлением установленными на берегу мощными насосами, не мог их открыть. Открываются они лишь с помощью той же хитроумной системы, что применяют на шлюзах. А именно: рабочие, спустившиеся в штольню и желающие пройти в ту часть туннеля, которая находится по другую сторону камеры, должны сначала войти в камеру, куда постепенно нагнетают воздух, пока давление в ней не сравняется с тем, какое поддерживается в следующей части туннеля. Когда давление достигнет нужного уровня, растворяющаяся внутрь дверь сама откроется и рабочие могут выйти в туннель. После этого они проходят по туннелю, скажем, футов сто или немного больше, а затем попадают в новую камеру. Давление в ней, в зависимости от того, кто последний ею пользовался, соответствует либо той части туннеля, которая ближе к берегу, либо той, которая ближе к середине реки. Снижение или повышение давления в воздушных камерах до уровня, который необходим для того, чтобы открылась та или иная дверь, регулировалось сначала посредством звонков, потом его стали регулировать при помощи телефона, а затем — путем электрической сигнализации. Если давление в камере отличается от давления в той части туннеля, где вы находитесь, и дверь камеры не открывается (а открыть ее в таком случае действительно невозможно), нужно определенное число раз (в зависимости от вашего местонахождения) дернуть за веревку колокола или нажать на кнопку звонка — и давление в камере изменится соответственно давлению в вашей части туннеля. Тогда дверь откроется. Войдя в камеру, вы даете сигнал — и по вашему сигналу давление воздуха либо повышается, либо понижается, совсем как вода в шлюзах, и вы можете пройти в следующую часть туннеля, ближе к берегу или дальше от него. Вся эта система, уже тогда, много лет назад, была налажена до тонкостей.Прорывать этот туннель было, в общем, не опасно, — так по крайней мере стало казаться Мак-Глэзери после того, как он проработал там некоторое время. В удачные дни удавалось пройти два или даже три фута; но когда начинали ставить подпорки, крепления и стальные плиты или же когда попадался каменистый грунт, который надо было сверлить, землекопы со своими кирками и лопатами по целым дням слонялись без дела, а не то — и это было куда лучше — их посылали в помощь плотникам ставить балки и крепления, предохраняющие стены от обвала. Таким образом, Деннис сумел многому научиться и даже изрядно преуспел в плотницком и бурильном деле. И все-таки эта работа под рекой хоть и хорошо оплачивалась, но была для него источником постоянного страха. Земля, в недрах которой он все время находился, была такая ненадежная. Сегодня — это плотная черная масса, а завтра — хлюпкая грязь, день — это ил, а день — песок, в зависимости от того, сквозь какой слой почвы прокладывает себе путь туннель. Вдобавок от свода по временам отрывались и падали глыбы земли — не очень, правда, большие, так что свод в результате оставался неповрежденным, но если бы такая глыба свалилась на рабочего, она вполне могла бы сломать ему спину или наполовину засыпать. Впрочем, как правило, глыбы, не долетев до земли, разбивались о перекрещивающиеся под потолком балки. Но вот однажды, месяцев через семь после того, как Мак-Глэзери пришел в туннель, — к этому времени он уже почти привык к работе под землей и настолько набрался опыта, что его стали считать мастером своего дела, — произошло непредвиденное. Как-то утром, в восемь часов, Мак-Глэзери спустился в туннель со своей партией и принялся укреплять основания двух только что установленных подпорок, как вдруг заметил — или ему так показалось, — будто земля на этот раз влажнее обычного, какая-то мокрая, липкая, и ее трудно копать. Такой грунт бывает разве что близ подземных родников. А тут еще кто-то принес керосиновый фонарь и повесил неподалеку, и Мак-Глэзери увидел при его свете, что потолок стал серебристо-серый и весь покрылся, словно бисером, мелкими каплями. Он сказал об этом Кэвеноу, который как раз оказался поблизости. — Н-да, — протянул мастер, глядя вверх, — мокроват. Может, воздушные насосы пошаливают. Сейчас проверим. — И он послал сказать инженеру. Сам руководитель работ явился в штольню. — Наверху все в порядке, — сказал он. — Две тысячи фунтов на квадратный дюйм. Могу подбавить еще, если это, по-вашему, нужно. — Не мешало бы, — ответил Кэвеноу. — Со сводом что-то неладно. Кстати, если увидите мистера Хендерсона, пошлите его вниз. Я бы хотел поговорить с ним. — Ладно, — сказал инженер и ушел. Мак-Глэзери и остальные сначала было встревожились, но потом, несколько успокоившись, снова принялись за работу. Однако грунт у них под ногами скоро совсем размок, а серебристые точки на потолке превратились в крупные капли и стали падать вниз, а кое-где даже побежали струйки. Потом вдруг сверху свалилась глыба мокрой земли. — Назад, ребята! То был голос Кэвеноу. Но еще прежде, чем он успел произнести эти слова, рабочие уже бросились бежать: чувство опасности никогда не покидает работающих в туннеле, и они сами заметили просочившуюся воду, сразу уловили звук падающей со свода земли. В ту же минуту раздался зловещий треск одной из балок перекрытия — предвестник неминуемой катастрофы. Люди сломя голову кинулись к камере, находившейся футах в шестидесяти от места происшествия. Они побросали инструменты, позабыли о старшинстве. Они падали, спотыкались о балки, сталкивали друг друга в грязь и воду по краям туннеля, — Мак-Глэзери бежал впереди всех. — Дверь! Откройте дверь! — раздался единодушный крик, когда они добежали до камеры; кто-то только что вошел в нее с другой стороны — это был инженер. — Ради бога, откройте дверь! Но на это требовалось время. По крайней мере должно было пройти несколько минут, прежде чем она могла отвориться. — Прорвало! — раздался панический крик какого-то слесаря. — Господи! Обвал! — воскликнул какой-то каменщик, когда лавина грязи погасила три лампы, горевшие в дальнем конце. Мак-Глэзери не помнил себя от страха. Он весь был в холодном поту. Пять долларов в день, да наплевать на них! Нечего ему соваться к воде — он должен запомнить это раз и навсегда! Ведь он же знал это! Вода всегда приносила ему несчастье! — Что случилось? Что случилось? — спрашивал удивленный инженер; не подозревая о том, что происходит в туннеле, он открыл наконец дверь. — Прочь с дороги! — Впустите, впустите нас, ради бога! — Закройте дверь! — орало с полдюжины попавших в камеру счастливцев, которые могли бы считать себя в безопасности, если бы дверь тотчас закрылась. — Погодите! Кэвеноу еще там! — крикнул кто-то, но уж, конечно, не Мак-Глэзери, который в страхе забился в угол. Слишком он был перепуган, чтобы думать об участи начальника. — К черту Кэвеноу! Закройте дверь! — завопил рослый детина-слесарь, обезумевший от страха. — Впустите Кэвеноу, вам говорят! — кричал инженер. Тут в душе Мак-Глэзери, впервые за всю его жизнь, заговорило чувство долга, — правда, не слишком громко: очень уж он был напуган. Вот тебе и выгодная работа! Да, конечно, он давно знает Кэвеноу, Кэвеноу его друг. И ведь это он пригласил его сюда, он дал ему работу, да и не только это. Все, конечно, так… Ну, а с другой стороны, ведь именно Кэвеноу уговорил его спуститься под землю, а это было ошибкой. Не следовало ему этого делать… И все же, как ни трусил Мак-Глэзери, совесть говорила ему, что нехорошо будет, если они не впустят Кэвеноу. Только — что он тут может: ведь он один… И вот он стоял и раздумывал, а тем временем остальные, спасая собственную шкуру, навалились на дверь, чтобы она скорее закрылась, — как вдруг в крепкой руке великана мастера блеснул револьвер. — На месте уложу первого подлеца, который попробует закрыть дверь, пока мы с Келли не вошли в камеру, — крикнул великан, выволакивая этого Келли из жидкой грязи, затопившей туннель. Буквально швырнув его в камеру, Кэвеноу вскочил следом, повернулся и спокойно помог закрыть дверь. Мак-Глэзери был потрясен такой храбростью. Остаться, чтобы помочь другому, перед лицом столь грозной опасности! Видно, Кэвеноу даже лучше и добрее, чем он думал, настоящий человек, не трус, как он сам. Но зачем Кэвеноу уговорил его идти сюда работать, он же знал, что Мак-Глэзери боится воды! А теперь вот что получилось! Они стояли, сбившись в кучу и дрожа от страха — все, кроме Кэвеноу, — а из-за двери, из туннеля, до них доносился треск ломающихся бревен и хруст перетираемого в порошок кирпича; сомнений быть не могло: там, где всего несколько минут назад было сооружение из балок и стали — будущая дорога для людей, — теперь тьма и бурлящие воды, и, как прежде, властвует могучая река. Этот случай привел Мак-Глэзери к убеждению, что, во-первых, он большой трус и, во-вторых, не ему прорывать туннели. Он для этого не годится. «Хватит, в последний раз! — сказал он себе, благополучно выбравшись на поверхность вместе с остальными после десятиминутного мучительного ожидания у дверей следующей камеры. — Ей-богу, я думал, все мы тут пропадем. Ведь на волосок от смерти были. Ну, уж больше вниз я не ходок. Хватит с меня!» Он вспомнил о своем скромном счете в банке — шестьсот долларов, которые ему удалось отложить, — о девушке в Бруклине, собиравшейся выйти за него замуж. «Нет уж, больше меня сюда не заманишь!» Кстати сказать, Мак-Глэзери мог и не опасаться, что ему сразу предложат новую работу в туннеле. Обвал обошелся подрядчикам во много тысяч долларов и притом показал, что одного воздушного давления и креплений далеко не достаточно для того, чтобы с успехом вести работы. Требовалась какая-то иная техника. Работы на обоих концах туннеля были прекращены больше чем на полтора года, а тем временем Мак-Глэзери женился, у него родился ребенок, и его шестьсот долларов давным-давно растаяли. Разница между двумя и пятью долларами в день весьма ощутима. Надо сказать, что за все это время Мак-Глэзери ни разу не встречался со своим прежним мастером (ему было как-то стыдно смотреть тому в глаза), и дела его поэтому шли неважно. Прежде Кэвеноу всегда находил ему какое-нибудь занятие, так как считал его надежным и усердным работником, но теперь Мак-Глэзери приходилось иметь дело с незнакомыми людьми, и порою он по целым неделям сидел без гроша, а порою вынужден был работать всего лишь за полтора доллара в день. Это было не очень-то приятно. К тому же какое-то безотчетное чувство подсказывало ему, что, будь он немного похрабрее, пойди и поговори он тогда же или вскоре после обвала со своим старым мастером, он и сейчас жил бы неплохо. Но, увы, в свое время он этого не сделал, а если пойти к Кэвеноу теперь, тот, разумеется, спросит, почему Мак-Глэзери тогда вдруг исчез. Надо сказать, что хоть брак Мак-Глэзери и был счастливым, бедность вскоре начала порядком угнетать его. Родилось еще двое детей — близнецы. Между тем Хендерсон — инженер, с которым в свое время хотел посоветоваться Кэвеноу, — изобрел новый метод проходки туннеля, впоследствии получивший известность как щитовой метод. Состоит он в следующем: в землю вводится щитовой каркас в виде стальной трубы десяти футов в длину и пятнадцати в поперечнике (согласно ширине туннеля), и по оси будущего туннеля его медленно продвигают вперед. Сначала трубу целиком загоняют в землю, а затем всю землю изнутри удаляют. В освободившемся пространстве ставят распорки, подобно спицам колеса. Их протягивают от стен туннеля к центру, а стены одевают тяжелыми стальными плитами. Вот по этой-то системе компания и решила возобновить работы. Как-то вечером, сидя на пороге своего дома, Мак-Глэзери разбирал по складам вечернюю газету, из которой он и узнал об этих событиях. В газете сообщалось, что мистер Хендерсон по-прежнему будет руководить работами. Сообщалось там, кстати, и о том, что Томас Кэвеноу опять будет одним из двух главных мастеров. К работам собирались приступить немедленно. Это сообщение невольно взволновало Мак-Глэзери. Если бы только Кэвеноу взял его назад! Правда, в тот раз Мак-Глэзери чуть не распростился с жизнью — так ему, во всяком случае, казалось! Но ведь этого все-таки не произошло! Никто не погиб, ни одна душа. Почему же он так боится — разве Кэвеноу подвергается меньшей опасности? Где еще заработаешь пять долларов в день? И тем не менее Мак-Глэзери не покидало чувство, что море и все реки и каналы, где бы они ни находились, грозят ему бедой и что когда-нибудь вода наверняка причинит ему большое зло — быть может, убьет его. По временам у него появлялось ощущение, будто некая сила затягивает его в воду — тащит не то вверх, не то вниз (он не мог сказать точно куда), липкая грязь засасывает его, и он медленно задыхается. Это было ужасно. Но мысль о пяти долларах в день (и даже семи, когда он станет совсем опытным, — это, небось, не то, что получать полтора или два доллара, а то и вовсе сидеть без работы!) и об обеспеченной будущности проходчика, «подземника-кессонщика», — он знал теперь, что так называют рабочих вроде него, — соблазняла и будоражила Мак-Глэзери. В конце концов у него нет иной профессии, кроме той, которой начал обучать его Кэвеноу. И что хуже всего: он не состоит в профсоюзе, а деньги, которые он когда-то скопил, все вышли, и на руках у него теперь жена и трое детей. Он на все лады толковал об этом с женою. Да, конечно, работать в туннеле — дело опасное, а все-таки!.. Жена соглашалась, что лучше бы ему туда не ходить, но… У обоих не выходило из головы, какую разницу составят в их бюджете пять, а может быть, и семь долларов в день вместо двух. Мак-Глэзери понимал это. После долгих колебаний он решил, что, пожалуй, лучше ему вернуться в туннель. В конце концов ведь тогда с ним ничего не случилось, да, может быть, и никогда не случится! Словом, он прикидывал и так и эдак. Как уже говорилось, Мак-Глэзери был человек очень суеверный. Он верил, что вода приносит ему несчастье, но он верил также в способность различных святых мужского и женского пола помогать или вредить человеку. В католической церкви св. Колумба в Южном Бруклине, постоянными прихожанами которой были Мак-Глэзери и его молодая жена, стояла гипсовая статуя этого святого, по-видимому, сподвижника св. Патрика в его трудах по обращению ирландцев в христианство. В Килраше (графство Клэр) — родном городе Мак-Глэзери, расположенном на берегу Шэннона, — этому святому многие века поклонялись или по крайней мере высоко чтили его как покровителя мореплавателей и вообще всех, кому приходится иметь дело с водой. Возможно, это объяснялось тем, что Килраш стоит у самой воды и обитателям его нужен был такого рода святой. Во всяком случае, когда Мак-Глэзери был мальчишкой, к святому частенько обращались за помощью в такого рода делах. Да и сам он, к примеру, отправляясь в Америку, по совету матери девять дней подряд усердно молился этому святому, прося помочь ему благополучно пересечь океан и затем преуспеть в Америке. И что же, он благополучно пересек океан и, по его мнению, неплохо преуспевал. В туннеле его, во всяком случае, не убило. И вот теперь, стоя на коленях перед двумя толстыми свечами, горевшими на подставке, и положив полдоллара в кружку с надписью «Сиротам св. Колумба», Мак-Глэзери спросил святого, станет ли тот, в доброте своей, хранить его, если он вернется на подземную работу, — нужда заставляет его идти на это. Мак-Глэзери был уверен, что, попроси он Кэвеноу, — тот не откажет, если будет место. Ведь Кэвеноу всегда благоволил к нему, считая его хорошим, полезным работником. Прочитав семь раз «Отче наш», семь раз «Богородицу» и для верности еще литанию деве Марии, Мак-Глэзери осенил себя крестом и поднялся с колен, чувствуя огромное облегчение. В душе его, пока он стоял перед статуей, возникла приятная уверенность, что отныне вода никакими силами не может причинить ему серьезного вреда. То было озарение, а пожалуй, и прямое откровение. Во всяком случае, что-то подсказывало ему, что надо сейчас же, пока работы еще не развернулись, пойти и повидать Кэвеноу, да не бояться: с ним теперь ничего плохого не произойдет, а если он станет мешкать, то при всем желании может ничего не получить. Он ринулся вон из церкви и помчался прямо к берегу реки, где еще уцелела заброшенная шахта; и, конечно, тут стоял Кэвеноу, беседуя с мистером Хендерсоном. — Гм… зачем это тебя сюда принесло? — спросил мастер, слегка усмехаясь, так как в свое время отлично понял причину исчезновения Мак-Глэзери. — Да вот я читал, что вы вроде опять принимаетесь за этот туннель… — Верно. Ну и что? — Ну я и подумал, может, у вас найдется для меня местечко. Я теперь женат, и у меня трое детишек. — По-твоему, этого достаточно, чтобы тебя взяли на работу? — забавляясь его замешательством, не без ехидства спросил великан мастер. — А мне помнится, ты говорил, что навсегда покончил с рекой: больше, мол, тебя сюда ничем не заманишь! — Говорить-то говорил, да теперь передумал. Работа нужна, вот что. — Ну что ж, ладно, — сказал Кэвеноу. — Мы начинаем завтра утром. Смотри, будь здесь ровно в семь. Да чтобы не трусить и не озираться по сторонам! Теперь это дело надежное. Все по-другому. Никакой опасности. Мак-Глэзери ответил своему бывшему начальнику благодарным взглядом и распрощался, а на следующее утро явился на берег, еще не совсем уверенный в правильности своего шага, но, во всяком случае, готовый приступить к работе. Св. Колумб, конечно, дал ему понять, что с ним ничего не случится… и все же… Трудно человеку совсем избавиться от сомнений, даже если его охраняет самый надежный из святых. Мак-Глэзери спустился вниз вместе с остальными и стал расчищать ближайший отрезок бывшего туннеля, где земля, смешавшись с водой, сначала превратилась в липкую грязь, а потом затвердела. Когда эта работа была закончена, смонтировали трубу, чтобы двигаться дальше, — новый метод по сравнению с прежним был, конечно, большим шагом вперед и как будто обеспечивал полную безопасность. Мак-Глэзери попытался растолковать все преимущества этого метода жене, которая очень тревожилась за него, а сам каждое утро и каждый вечер, отправляясь на работу или возвращаясь домой, как бы ненароком заходил в церковь св. Колумба и читал про себя коротенькую молитву. Несмотря на все эти молебствия и на свой уговор со святым, он по-прежнему относился подозрительно к страшной реке, которая текла у него над головой. Кто знает, что еще может случиться, хоть св. Колумб и обещал ему свое заступничество. Вдруг чем-нибудь ему не угодишь, — он возьмет да и передумает! Проходили дни, недели и месяцы, и ничего не случалось. Работа под руководством Кэвеноу быстро продвигалась вперед, и они с Мак-Глэзери вскоре снова стали добрыми друзьями; Деннис считался теперь одним из лучших специалистов среди стропильщиков и крепильщиков и вполне заслуживал семи долларов в день, хоть и не получал их. Неожиданно всех их перевели с дневной работы на ночную — почему-то ей придавалось больше значения. Время от времени Кэвеноу подолгу беседовал с Хендерсоном и с другими инженерами компании, спускавшимися в туннель посмотреть, как идет дело; из их длинных разговоров Мак-Глэзери почерпнул много сведений о технике работ и связанных с ними опасностях. По-прежнему над ним текла бурная река; порой он чувствовал, как она давит на него, давит на толстый слой грязи и ила у него над головой и под ногами — на тот грунт, в который они теперь вгрызались этим новым щитом. Но один месяц сменялся другим, и ничего не случалось. Они прошли тысячу футов без единой заминки. Мак-Глэзери несколько успокоился. Видно, при новом методе работать в самом деле было безопасно. Каждый вечер Мак-Глэзери спускался вниз и каждое утро поднимался на поверхность, целый и невредимый, и раз в две недели, по вторникам, ему вручали конверт с кругленькой суммой в семьдесят два доллара. Подумать только! Семьдесят два доллара! Само собой разумеется, что из благодарности к св. Колумбу Мак-Глэзери щедро жертвовал на приют для сирот, носящий имя святого, — он давал целый доллар в месяц, — и каждое воскресенье после обедни ставил свечку перед его алтарем; между прочим, он купил два участка на берегу Гусиного ручья — в рассрочку: когда-нибудь, с божьей помощью, он построит здесь образцовый коттедж, чтоб годился и на зиму и на лето. Но тут-то оно и стряслось!.. Что ж, думал впоследствии Мак-Глэзери, пожалуй, это случилось потому, что, ослепленный своим благополучием, он стал небрежничать или возгордился и был не так внимателен к святому, как следовало. Словом, однажды ночью, несмотря на заступничество св. Колумба, — а быть может, как раз при его участии и с его согласия: возможно, святой хотел показать Мак-Глэзери свое могущество! — окаянная, подлая река опять сыграла с ним скверную, прямо ужасную шутку. Дело было так. Они работали ночью под новым креплением, какого требовал метод щитовой проходки, при воздушном давлении в две тысячи фунтов на квадратный дюйм. До сих пор такого давления было вполне достаточно, чтобы удерживать на месте стальные плиты свода, которые рабочие день за днем укладывали позади щитового каркаса по мере его продвижения вперед; а следом шли цементщики и скрепляли плиты наподобие арки, которую не могла разрушить даже вся тяжесть текущей вверху реки, — и вот тут-то и произошло самое страшное. С тех пор как начались работы по новому методу, наиболее опасным считалось то место, где в просвете между стальными плитами потолка и щитовым каркасом, непрерывно продвигающимся вперед, обнажалась узкая полоса ничем не укрепленного грунта — дно реки. Кэвеноу всегда держался поближе к этому месту, следил за щелью, твердил всем, чтоб были осторожнее — «не шутили с этим», как он говорил. — Не мешкать, ребята! — постоянно подгонял он их. — А ну, давайте плиту, давайте! Завинчивайте гайки! А теперь живо клепать, живей, живей! А люди! Как они работали тут, под рекой, всякий раз, когда освобождалось место для нового кольца стальных плит! Ведь именно здесь река могла к ним прорваться! Как они надрывались, потели, хрипели и ругались в этой мрачной, грязной дыре, освещенной слепящими дуговыми фонарями — последней новинкой в туннельном деле! Работали они голые до пояса, штаны и сапоги насквозь пропитаны грязью, руки, спина и грудь мокры от пота и вымазаны глиной, волосы взъерошены, глаза воспалены, — так представляет себе, наверно, художник бедлам, ад, на который обречены люди труда. А над ними — великая река, и на ней океанские пароходы, и от всего этого их отделяло лишь тридцать, пятнадцать, а иногда каких-нибудь десять футов земли; воздушное давление в две тысячи фунтов на квадратный дюйм — вот и все, что поддерживало этот тонкий слой, не давая ему обрушиться, все, что мешало речным водам хлынуть в туннель и затопить их, как крыс! — Давай плиту, давай! Теперь гайки! Теперь клепать! Готово! Давай, Джонни! Начинай сначала! Голос Кэвеноу, подгонявшего их, казался им музыкой; этот голос придавал им бодрости и сил, был их трудовым гимном, их «Эй, ухнем!». Но бывало и так, что щитовой каркас в своем поступательном движении наталкивался на слишком твердую породу, а в образовавшийся просвет нельзя было уложить стальную плиту, и тогда этот опасный участок чрезмерно долго подвергался воздействию воды, непрерывно размывающей речное дно. Время от времени то тут, то там обнаруживалась течь — тоненькими струйками сочилась вода, осыпалась земля; на место тотчас являлись Кэвеноу и Хендерсон, и до тех пор, пока с течью не было покончено, в туннеле царила тревога. Порою воздух, стремясь под давлением вверх, буравил отверстия в слое грязи над головой. Но их всякий раз замазывали глиной, а если это не помогало, затыкали мешками со стружками или с опилками, — давления воздуха, подаваемого снизу, было вполне достаточно, чтобы мешки плотно затыкали отверстие, если только оно не было чересчур большим. Даже во время аврала, когда вся смена была занята укладкой нового кольца стальных плит, кому-нибудь одному всегда поручали «не спускать глаз» со свода. В тот вечер, о котором идет речь, после того как двадцать восемь человек, включая Кэвеноу и Мак-Глэзери, спустились в штольню в шесть и проработали в обычном темпе до полуночи, семерым из них было разрешено выйти из туннеля, чтобы выпить и перекусить в ближайшем ночном кабачке (их отпускали для этого группами по семь человек; каждой группе давалось полчаса, затем отправлялась следующая партия). В это время — от двенадцати до двух — каждые полчаса наступал рискованный момент: одна партия приходила, другая уходила, и внимание рабочих ослабевало; создавалась опасная атмосфера безответственности — Кэвеноу это знал и в это время был особенно настороже. Обычно в эти часы за сводом наблюдал землекоп Джон Доуд, но в ту роковую ночь его заменили Патриком Мэрса, а Патрик как раз вернулся из кабачка на углу, и мысли его еще были заняты только что выпитым пивом и закуской на выбор у стойки. Он пропустил целых четыре стакана кряду и теперь, переваривая этот превосходный напиток и горячие сосиски, болтал с группой, собиравшейся уходить, — он и думать забыл, что должен внимательно следить за просветом в своде. Да что в самом деле — неужто так и не спускать глаз с этой окаянной щели? Ну, что тут может случиться? Тоже придумают! Ничего ведь не случилось за последние восемь месяцев! «Шш — ш-ш!» Что это? Звук такой, словно где-то выпускают пары. Его тотчас услышал Кэвеноу, стоявший в дальнем конце щитового каркаса: он показывал Мак-Глэзери и еще одному рабочему, где именно надо ставить крепления, чтобы еще на несколько дюймов продвинуть каркас вперед, а значит, и уложить позади него новое кольцо стальных плит. Одним прыжком мастер выскочил из каркаса, лицо его горело от ярости и волнения. Кто недоглядел за щелью? «А ну! Кой черт, что тут такое?» — хотел он крикнуть, но тут сквозь широко разверзшуюся щель хлынула вода, гнев Кэвеноу тотчас испарился, и им овладел страх. — Назад, ребята! Остановите течь! Это был крик испуга, вырвавшийся из уст растерявшегося, но мужественного человека. В голосе Кэвеноу слышался не только страх, но и огорчение. Он был так уверен, что уж на этот-то раз ничего подобного не случится! Но там, где секунду назад было отверстие, которое можно было заткнуть мешком с опилками (что и пытался сделать Патрик Мэрса), теперь зияла быстро расширявшаяся брешь, а из нее водопадом хлестала грязная речная вода пополам с илом и тиной. Кэвеноу подскочил к этой дыре и схватил мешок, чтобы заткнуть ее, но тут сверху упала новая глыба мокрой земли, пришибла и его и Мэрса и залепила им глаза. Мэрса судорожно барахтался, пытаясь выбраться из-под завалившей его грязи. Мак-Глэзери, который до этого вместе с остальными находился в конце рокового туннеля, подбежал, спотыкаясь, до смерти перепуганный, не зная, что делать. — Скорей, Деннис! В камеру! — крикнул ему Кэвеноу, однако сам не двинулся с места. — Живо! Деннис мгновенно понял, что положение безнадежное, надо спасать жизнь, и бросился было к камере, но путь ему преградил внезапно хлынувший поток грязи и воды. — Скорей! Скорей! В камеру! Не видишь, что делается? Ныряй! Кэвеноу схватил Мак-Глэзери, который стоял рядом, боясь сделать шаг — вдруг погибнешь! — и, кроме того, не решаясь на этот раз покинуть своего начальника, и буквально швырнул его сквозь стену воды и ила; то же самое проделал он и с остальными: все оказались вдруг по ту сторону, ослепленные, задыхающиеся, но уже вне опасности. Когда последний человек проскочил сквозь водяную стену, следом за ним нырнул и Кэвеноу, по колено увязая в жидкой грязи. — Скорей! Скорей! В камеру! — закричал он и, увидев, что Мак-Глэзери, добежавший уже до самого входа в камеру, остановился и ждет его, он снова крикнул: — Залезай! Залезай! У двери была форменная свалка: каждый старался пробиться вперед, но многим преграждали путь плававшие бревна и мешки; внезапно, когда уже казалось, что все спасены, с потолка рухнула стальная плита, расшатавшаяся из-за обвала нескольких других плит в конце туннеля, уложила на месте человека, стоявшего на пороге камеры, и, загородив вход, заклинила полуоткрытую дверь, так что ее нельзя было ни открыть, ни закрыть. Кэвеноу и другие рабочие, подбежавшие в эту минуту к камере, уже не могли войти. Мак-Глэзери, только что вошедший в камеру, беспомощно наблюдал все это. Однако в эту критическую минуту он вел себя не так, как в прошлый раз: вместе с теми, кто был в камере, он кинулся к убитому и попытался втащить его внутрь и в то же время, окликнув Кэвеноу, спросил, что делать дальше. Но тот молчал, растерянный и ошеломленный. Он с горечью видел, что вряд ли тут вообще можно что-нибудь сделать. Плита, придавившая мертвеца, была слишком тяжелая, да к тому же через тело его в камеру уже переливалась жидкая грязь. Тем временем люди в камере, сознавая, что хоть они и сделали несколько шагов по пути к спасению, однако жизнь их все еще под угрозой, буквально обезумели от страха. В воздухе стоял поистине звериный рев ужаса. А Мак-Глэзери и вовсе потерял голову от страха: он понял, что его Немезида — вода — настигла его и уж теперь, как видно, прикончит совсем. Конечно, св. Колумб обещал ему свое покровительство, но не это ли видение преследовало его во сне и не испытал ли он уже страшное чувство, когда человек захлебывается в иле и грязи? Неужели он сейчас умрет такой смертью? Неужели его заступник-святой и впрямь отвернулся от него? Да, видно, так оно и есть. — Пресвятая Мария! Пресвятой Колумб! — взмолился Мак-Глэзери. — Что же мне теперь делать? Отче наш, иже еси на небеси! Боже ты мой, ну и попал же я в переплет! Никогда мне отсюда не выбраться! О, матерь божия! Неужто мы не втащим его, ребята? О, святой ковчег! О, врата рая! Он бормотал обрывки молитв, а вокруг стоял разноголосый крик: одни старались втащить мертвеца, другие ломились в дверь напротив, а Кэвеноу, стоявший у камеры по пояс в воде и грязи, молча наблюдал все это. — Слушайте, ребята! — послышался вдруг его сильный гортанный голос. — Эй, Мак-Глэзери! Деннис! Вы что, рехнулись? Снимайте все с себя и затыкайте дверь! Это ваша последняя надежда! Снимайте все, живо! Берите вон те доски, ставьте их стоймя! О нас не думайте. Сперва сами спасайтесь. А потом, может, и для нас что-нибудь сделаете. Он убеждал их заткнуть щель в двери — тогда сжатый воздух, подаваемый с берега, наполнит камеру и можно будет открыть вторую дверь, ведущую в следующую часть туннеля, что ближе к берегу, и находящиеся в камере спасутся. Его властный, даже перед лицом смерти не дрожавший голос вдруг умолк. Позади и вокруг него, сбившись в кучу, словно овечье стадо, толпились те, кто не успел войти в камеру — их было человек двенадцать, — они стояли по пояс в грязи и воде, молились и плакали. Они жались к нему, все еще пытаясь почерпнуть у него силы и храбрости, и, продолжая стенать и молиться, не сводили глаз с камеры. — Да, да! — вдруг воскликнул Мак-Глэзери; в нем пробудилось наконец чувство долга, и он понял; пора исполнить то, что он не раз обещал самому себе и своему святому, пора думать и поступать лучше, благороднее. Он всегда забывал об этом. Теперь в нем вспыхнуло вдруг сознание своей вины: опять он вел себя, как и в прошлый раз, не позаботился ни о Кэвеноу, ни о других, только о себе. Он ужасный трус. Но что же все-таки надо делать, спросил он себя. Что можно сделать? Он сорвал с себя куртку, жилет и рубашку и, как приказал Кэвеноу, стал запихивать их в щель, крича остальным, чтоб они делали то же. В одно мгновение вся одежда была связана в узлы, были собраны плававшие в камере палки и доски, и щель в двери удалось заткнуть — этого было достаточно, чтобы прекратить утечку воздуха, но мастер и находившиеся с ним люди оказались совсем отрезанными. — Это ужасно! Я не хочу так! — закричал Мак-Глэзери, обращаясь к Кэвеноу, но решимость мастера было не легко поколебать. — Все в порядке, ребята, — твердил Кэвеноу. — Что за малодушие! Стыдитесь! — Потом, обращаясь к тем, кто остался с ним в туннеле, он спросил: — Вы что, не можете постоять спокойно и подождать? Может, они еще успеют вернуться и помочь нам. Спокойней! Молитесь, если умеете, и не бойтесь. Воздух, нагнетаемый с берега под большим давлением, удерживал узлы в щели, но давление было не настолько сильным, чтобы помешать воздуху выходить из камеры, а воде проникать в нее. Вода перекатывалась через труп, просачивалась во все щели и в камере уже тоже доходила людям до пояса. Снова она угрожала их жизни, и теперь вся надежда была на то, что им удастся открыть противоположную дверь и добраться до следующей камеры, но на это можно было рассчитывать лишь в том случае, если бы удалось полностью прекратить утечку воздуха из камеры или найти какой-то другой способ открыть дверь. Один лишь Кэвеноу, оставшийся снаружи, но по-прежнему заботившийся прежде всего о людях, которым он помогал спастись, понимал, что надо делать. Перед ним была дверь и в ней, как и в той, которую старались открыть люди, находившиеся в камере, имелось оконце с толстым стеклом — так называемый «глазок»: оно позволяло видеть все, что происходит внутри; через него-то и заглядывал в камеру Кэвеноу. Когда он убедился, что вторая дверь не открывается, ему пришла в голову новая мысль. Он закричал, и голос его перекрыл стоявший вокруг шум: — Выбейте «глазок» в той двери! Слушай, Деннис! Слушай меня! Выбей «глазок» в той двери! Деннис часто спрашивал себя впоследствии, почему Кэвеноу обратился тогда именно к нему. И почему он, Деннис, слышал его так ясно? Мак-Глэзери расслышал эти слова сквозь оглушительные крики обезумевших людей и тут же понял, что, если он сам или они все вместе выбьют «глазок» в другой двери и впустят воздух, им скорее удастся открыть дверь, но это наверняка погубит Кэвеноу и его беспомощных товарищей. Вода, хлынув в направлении берега, затопит и камеру и место, где стоит Кэвеноу. Должен ли он сделать это? И он медлил. — Выбей стекло! — дошел до его слуха приглушенный голос мастера, который стоял по ту сторону камеры и спокойно глядел на него. — Выбей, Деннис! Больше вам не на что надеяться! Выбивай! И тут, впервые за все годы, что Мак-Глэзери работал с Кэвеноу, он уловил легкую дрожь в голосе начальника. — Если спасетесь, — сказал мастер, — постарайтесь сделать что можно и для нас. В эту минуту Мак-Глэзери переродился. Правда, он готов был разрыдаться, но страх его исчез. Теперь он больше не боялся за себя. Он уже не дрожал, почти не суетился, и в нем пробудилось нечто новое: безграничное, непоколебимое мужество. Что?! Кэвеноу, оставшийся там, снаружи, ничего не боится, а он, Деннис Мак-Глэзери, мечется, как заяц, спасая свою шкуру! Ему хотелось вернуться туда, что-то сделать, — но что он мог? Все бесполезно. И он принял на себя командование. Казалось, дух Кэвеноу переселился в него. Он огляделся, увидел большое бревно и приподнял его. — Эй, ребята! — крикнул он тоном командира. — Помогите выбить стекло! За бревно тотчас с готовностью, порожденной ужасом и близостью смерти, схватился десяток крепких рук. С невероятной энергией ударили люди бревном в толстое стекло и выбили его. В камеру ворвался воздух, в ту же минуту дверь уступила их напору, хлынувшая из камеры вода подхватила их, как соломинки, и вынесла наружу. Кое-как поднявшись на ноги, они бросились в следующую камеру, и дверь за ними закрылась. И сразу у всех вырвался глубокий вздох облегчения: здесь они были почти в безопасности — во всяком случае, на какое-то время. Мак-Глэзери, в которого поистине вселилось мужество Кэвеноу, даже обернулся и посмотрел сквозь «глазок» назад, в ту часть туннеля, откуда они только что выбежали. Они ждали, пока воздушное давление в камере понизится настолько, чтобы открылась следующая дверь, и все это время Мак-Глэзери смотрел туда, в сторону камеры, за которой они оставили своих заживо погребенных товарищей — мастера и двенадцать рабочих. Но что можно было сделать? Пожалуй, один лишь бог да св. Колумб могли бы ответить на этот вопрос — ведь вот почему-то св. Колумб спас же его (только он ли это сделал?), да, спас, вместе с пятнадцатью другими рабочими, а Томасу Кэвеноу и еще двенадцати рабочим дал погибнуть. Кто сделал это — св. Колумб? Бог? Кто? — Такова воля божия, — смиренно пробормотал он. — Но почему господь так сделал?
Однако и после этого Мак-Глэзери не удалось развязаться с рекой — и, как мы понимаем, вопреки его собственной воле. Хотя он постоянно молился за упокой души Томаса Кэвеноу и его товарищей и целых пять лет избегал воды, дело на том не кончилось. Теперь у Мак-Глэзери было уже восемь детей, и он был беден, как всякий рядовой труженик. После того несчастного случая и гибели Кэвеноу, как уже было сказано, он зарекся иметь дело с морем, с водной стихией, с любой работой, связанной с водой. Он рад был бы плотничать, строить обыкновенные жилые дома, только… только… не всегда удавалось найти такую работу за приличную плату. А жилось ему, прямо скажем, неважно. И вот однажды, когда ему приходилось, как всегда, очень туго и он тщетно бился, стараясь выкрутиться, разнеслась весть о возобновлении работ все в том же старом туннеле. Как сообщалось в газетах, в их местах появился знаменитый инженер, прибывший с новым проектом из-за границы — и не откуда-нибудь, а из Англии. Звали его Грейтхед, и изобрел он так называемый «щит Грейтхеда», который после некоторых изменений и усовершенствований должен был полностью обезопасить туннельные работы. Мак-Глэзери, сидя на пороге своего домишка, выходившего окнами на залив Берген, прочел об этом в вечернем выпуске «Клэрион» и призадумался: неужто это правда? Он по-прежнему не очень понимал, в чем суть нового щитового метода, тем не менее в сердце его вдруг ожило что-то от былого увлечения работой в туннеле. Да, было времечко! А какая жизнь была — собачья жизнь, если сказать по правде, ну а все-таки… А Кэвеноу — какой это был начальник! Тело его погребено там, на дне; так, наверно, и стоит, выпрямившись. Интересно бы посмотреть! Простая справедливость требует, если только возможно, извлечь тело и почтить память погибшего, предав его земле. Его жена и дети по-прежнему живут в Флэтбуше. Статья расшевелила в Мак-Глэзери воспоминания, прежние страхи, прежний пыл, но не пробудила в нем особого желания вернуться в туннель. Однако мысль эта не оставляла его в покое — ведь у него жена и восемь детей, и получает он всего три доллара в день, а то и меньше, почти всегда меньше; между тем в туннеле таким, как он, платят по семь, по восемь долларов… А почему бы все-таки не пойти туда, если работы возобновятся и снова понадобятся люди? Дважды он почти чудом спасался от смерти… Да, но удастся ли ему спастись еще раз — это большой вопрос! По воскресеньям в церкви он без устали взывал к своему святому, но не получал никакого определенного ответа, да и работы в туннеле еще не начались, а потому он ничего не предпринимал. Но следующей весной в один прекрасный день все газеты запестрели сообщениями о том, что работы в туннеле действительно скоро возобновятся, а вслед за тем Мак-Глэзери, к своему великому удивлению, получил записку от мистера Хендерсона — того самого, под начальством которого работал Кэвеноу: инженер просил его зайти. Чувствуя, что река снова зовет его, Мак-Глэзери пошел в церковь св. Колумба, помолился своему заступнику, положил доллар в кружку пожертвований для сирот и поставил свечку перед алтарем; приободренный и успокоенный, он поднялся с колен и, посоветовавшись с женой, направился к реке, где и нашел своего прежнего начальника, который, как и раньше, занимался у себя в бараке разными важными делами. Оказалось, что Хендерсон вызвал Мак-Глэзери затем, чтобы узнать, не согласится ли тот работать у них помощником мастера в дневной смене — руководить сменой будет новый мастер, прекрасный человек по имени Майкл Лэверти; плата — семь долларов в день, поскольку Мак-Глэзери уже работал здесь, знаком с трудностями дела и так далее. Мак-Глэзери в изумлении уставился на мистера Хендерсона. Он — помощник мастера, старший над всеми крепильщиками! И будет получать семь долларов в день! Это он-то! Мистер Хендерсон, правда, не сказал, что после того как с туннелем было столько неприятностей и о трудности работы в нем стало широко известно, нелегко было, особенно вначале, найти подходящих людей; впрочем, такого опытного работника, как Мак-Глэзери, приняли бы, конечно, в любое время. К тому же при новом щите, пояснил инженер, опасность исключена. На этот раз уж не случится беды. Работа пойдет как по маслу. Мистер Хендерсон принялся даже объяснять Мак-Глэзери устройство нового щита и его достоинства. А Мак-Глэзери слушал и сомневался; впрочем, он думал в эту минуту не столько о щите и повышенной оплате, которую будет получать, хотя это занимало не последнее место в его размышлениях, сколько о некоем Томасе Кэвеноу, своем старом мастере, и о двенадцати рабочих, погребенных вместе с ним там, внизу, в речном иле; да и о том, как сам он тогда бросил Кэвеноу. Простая справедливость требовала извлечь кости мастера и всех остальных, если только их можно найти, и похоронить по-христиански. Ибо теперь Мак-Глэзери был еще более ревностным католиком, чем раньше; и кроме того, он чувствовал себя в долгу перед Кэвеноу — ведь тот был так добр к нему! Опасность, конечно, есть, но разве св. Колумб не хранил его до сих пор? И, может быть, станет хранить и впредь, — должен же святой войти в его положение! Нет, право, это, видно, указание свыше. Мак-Глэзери чувствовал, что так оно и есть. И все же Деннис волновался и тревожился; он вернулся домой, посоветовался с женой, снова со страхом подумал о реке и, наконец, снова пошел в церковь и долго молился передалтарем св. Колумба. Ощутив новый прилив бодрости и сил, он отправился к мистеру Хендерсону и объявил ему, что вернется в туннель. Да, вернется! Он чувствовал, что в самом деле избавился от страха, словно на него возложили некую священную миссию, и уже на следующий день стал помогать Майклу Лэверти очищать туннель от земли, заполнившей ту его часть, что находилась за второй камерой. Дело подвигалось медленно, и только в середине лета была очищена старая, ранее уже законченная часть туннеля и люди добрались до костей Кэвеноу и погибших с ним рабочих. Да, откопать Кэвеноу и его людей — это было великое, хотя и скорбное событие. Труп Кэвеноу узнали по огромным сапогам, револьверу, часам да по связке ключей — все это лежало тут же, рядом. Кости и сапоги были затем благоговейно подняты и перенесены на кладбище в Бруклин; Мак-Глэзери с десятком рабочих проводили их туда. Дальше все пошло гладко. Новый щит был просто чудо. В мягком грунте он проходил по восемь футов в день, и хотя Мак-Глэзери, несмотря на свою вновь обретенную храбрость, по-прежнему крайне подозрительно относился к реке, он уже не боялся ее так, как раньше. Что-то говорило ему, что никакой опасности больше не существует и бояться нечего. Река уже не может причинить ему зла. И все же через несколько месяцев — точнее, через восемь — река нанесла ему последний удар; правда, кончилось все не так плохо, как можно было ожидать, но это была очень странная история. И Мак-Глэзери так и не понял, произошло ли все с помощью и с согласия св. Колумба или без оного. Обстоятельства, во всяком случае, были очень уж необычные. Новый врубовой щит представлял собой цилиндр тринадцати футов в длину и двадцати в поперечнике; впереди у него имелся резец из закаленной стали — что-то вроде гигантского ножа длиною в пятнадцать дюймов и толщиною у лезвия в три дюйма. За этим ножом находилась так называемая «внешняя диафрагма» с несколькими отверстиями, через которые грунт, вытесняемый щитом по мере его продвижения, поступал в камеры, расположенные позади каждого такого отверстия. Камеры эти были длиною в четыре фута, и в каждой — водонепроницаемые, легко закрывающиеся дверцы на шарнирах, которые регулировали количество поступавшего внутрь грунта, — устройство весьма сложное. За этими маленькими камерами было установлено много стальных рычагов — от пятнадцати до тридцати штук, в зависимости от размеров щита; щит передвигался под давлением воздуха в пять тысяч фунтов на квадратный дюйм, и рычаги подталкивали его. Позади рычагов находился так называемый хвост щита, который доходил до готовой части туннеля; всякий раз, когда щит продвигался вперед настолько, что можно было уложить новое кольцо плит, этот хвост служил защитой тем, кто укладывал их, то есть работал на том опасном участке, где погиб Кэвеноу. Единственная опасность, связанная с работой в этой части туннеля, заключалась в том, что между последним кольцом плит и хвостом щита всегда оставалось незащищенное пространство шириною в дюйм или полтора. При обычных условиях такая узкая щель не имела бы никакого значения, но в некоторых местах, где грунт наверху был очень мягким и слой его не очень толстым, возникала опасность, что сжатый воздух, давящий на грунт изнутри с силою в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, может прорвать его; в результате образовалось бы отверстие, куда свободно могла хлынуть речная вода. Этого, конечно, никто не предвидел, никто об этом даже и не подумал. Щит быстро продвигался вперед, и Хендерсон с Лэверти предсказывали, что туннель будет закончен за год. Но как-то зимой, когда работы шли полным ходом, щит наткнулся на скалу; при этом лезвие его погнулось; возникла необходимость бурить скалу, преграждавшую путь. Как только было вырублено достаточно камня, пришлось соорудить подпорную стену, чтобы отремонтировать лезвие щита. На это ушло ровно две недели. Тем временем позади щита сжатый воздух с силою двух тысяч фунтов на квадратный дюйм давил на грунт в упомянутой узкой щели, и в этом месте в грунте постепенно образовалась глубокая вмятина длиною в восемьдесят пять футов (впоследствии мистер Хендерсон приказал произвести промер); вмятина эта тянулась по направлению к берегу вдоль крыши туннеля. Теперь у работающих над головой не было ничего, кроме воды. Инженеры, прислушавшись к шуму реки, поняли, в чем дело: вырывающийся снизу воздух смел наносный грунт, составлявший дно реки, и теперь с грохотом, напоминающим барабанную дробь, она перекатывала гравий и камни по крыше туннеля. Дело было как будто легкопоправимое — можно временно заткнуть щель мешками, но в один прекрасный день щит исправят, придется двинуть его вперед, чтобы уложить новое кольцо плит, — и что тогда? Мак-Глэзери тотчас почуял недоброе. Опять подлая река (опять вода!) собирается сыграть с ним скверную шутку. Он всерьез забеспокоился и тотчас отправился помолиться св. Колумбу, а потом, на работе, он, как оса, все кружился у подозрительной щели. Каждые три минуты бегал посмотреть, что там делается; говорил об этом с мастером ночной смены, а также с Лэверти и мистером Хендерсоном. Мистер Хендерсон по просьбе Лэверти и Мак-Глэзери спускался вниз, глядел на щель и размышлял. — Когда надо будет двинуть щит вперед, — сказал он наконец, — вы просто приготовьте побольше мешков, забейте ими все вокруг, кроме того места, где в этот момент будут укладывать плиты. В этот день мы еще повысим воздушное давление — насколько может вынести человеческий организм — и, я думаю, все обойдется. Имейте под рукой побольше народу, чтобы затыкать щель мешками, но только чтобы люди не догадывались, что здесь что-то неладно: тогда все будет в порядке. Дайте мне знать, когда будете готовы двинуть щит, — я сам сойду вниз. Когда щит наконец отремонтировали и было дано указание продвинуть его вперед ровно на двадцать пять дюймов, чтобы можно было уложить новое кольцо плит, мистер Хендерсон, Лэверти и Мак-Глэзери все находились внизу. Мак-Глэзери, понятно, руководил группой рабочих, которые должны были затыкать просвет мешками, чтобы преградить доступ воде. Если вам когда-либо приходилось наблюдать рыжеволосого ирландца среднего роста в состоянии крайнего возбуждения и решимости, то перед вами готовый портрет Мак-Глэзери! Его видели в пятнадцати местах сразу: он отдавал приказания, подбадривал, уговаривал, действовал где криком, где убеждением — и… волновался. Да, волновался, несмотря на святого Колумба! Щит сдвинулся с места. Воздушное давление было увеличено, сквозь щель стала просачиваться вода, тогда отверстие заткнули мешками, и главную течь удалось приостановить; лишь там, где слесари заклепывали плиты, вода все же текла — минутами так сильно, что рабочих стал одолевать страх. — Эй вы, там! В чем дело? Чего стали? Чего испугались? Подайте-ка мне этот мешок! Давайте, давайте! Вот так! Вы что, удирать нацелились? Попробуйте только! Это командовал Мак-Глэзери, не угодно ли! Мак-Глэзери, который пережил два таких испытания! И, однако, как раз в эту минуту он всем своим существом по-настоящему боялся реки. Что же случилось дальше? Потом, в больнице, корчась долгие недели от «кессонки», он тщетно пытался восстановить в памяти все по порядку. Он помнил, как четыре мешка с опилками разорвало и унесло вверх, — мешки с опилками тут вообще не годились, это была ошибка. А потом (это он помнил довольно ясно), когда они стали запихивать в щель другие мешки, обнаружилось, что одного мешка не хватает, и его не сразу удалось чем-нибудь заменить, вода же лилась водопадом и поднималась рабочим уже выше щиколоток, — и тут Мак-Глэзери бросил вызов реке, ибо он не хотел, чтобы она и на этот раз победила его. И он отдал великий приказ. — Эй, — закричал он, — вы там, трое! — Это относилось к трем рабочим, которые стояли неподалеку, разинув рот. — Подымите меня! Засуньте меня туда! Уж, наверно, я не хуже мешка с опилками. Подымайте! Удивленные, восхищенные, воспрянув духом, трое рабочих подскочили и подняли его. Они держали его, прижав к небольшой щели, из которой текла вода, пока другие бросились за новыми мешками. Хендерсон, Лэверти и слесари стояли тут же, готовые помочь, — поступок Мак-Глэзери изумил их, позабавил и вместе с тем придал им храбрости; уже одна находчивость Мак-Глэзери буквально привела их в восторг. Но тут — хотите верьте, хотите нет — пока они держали его, конец щита, — да, этого замечательного стального сооружения! — уступая силе воздушного давления (ибо теперь над щитом не было ничего, кроме воды), приподнялся дюймов на одиннадцать, тринадцать или четырнадцать (ровно на столько, чтобы в щель мог протиснуться человек среднего роста), и Мак-Глэзери вместе со всеми мешками вылетел наверх, прямо в реку, а вода хлынула вниз, и рабочие бросились наутек. Можете себе представить, какой это был ужасный миг, только миг, но за это время Мак-Глэзери исчез, а щит, который сперва приподнялся, уступая большому воздушному давлению, тут же снова опустился (ибо давление резко упало — ведь часть воздуха вырвалась наружу) и захлопнулся, словно предохранительный клапан, сомкнувшись с плитой; благодаря этому вода не хлынула в туннель, и все стало опять, как было, ничего не произошло. А Мак-Глэзери? Да, что же случилось с ним? Чудо, читатель! Стоял ясный декабрьский день. В три часа капитан буксира, шедшего вниз по Гудзону, вдруг с удивлением заметил, что футах в тридцати от его судна забил небольшой фонтан; наверху этого фонтана подпрыгивал какой-то черный предмет, который капитан принял сначала за мешок или бревно. Но очень скоро он понял свою ошибку, ибо «предмет», выброшенный вверх фонтаном, скрылся было под водой, а потом опять вынырнул, неистово вопя: — Ради бога! Спасите! Помогите! Ой! Да вытащите же меня! Ой! Ой! Ой! Это орал Мак-Глэзери собственной персоной, живой и невредимый: он ничуть не пострадал от своего купания, если не считать того, что его хватила «кессонка» и он терпел невероятные мучения. Все же он мог кричать и даже пытался плыть. Да, на сей раз он и впрямь испытал все, чего так давно боялся. С полминуты, а то и больше его вертело и стремительно несло вдоль крыши туннеля, потом, докатившись до того места, где струя воздуха, наткнувшись на препятствие, устремилась вверх, он как пробка вылетел на поверхность, и его вместе с огромной массой воды подкинуло куда-то в воздух. Внезапный переход от давления в две тысячи фунтов к обычному атмосферному заставил Мак-Глэзери снова погрузиться в воду да к тому же вызвал острый приступ «кессонки», от которой он сейчас и страдал. Но св. Колумб не совсем забыл о нем. Правда, Мак-Глэзери испытывал ужасные мучения, он уже считал себя мертвым, но кто же, как не добрый св. Колумб, поместил поблизости буксир, на борт которого теперь и подняли нашего утопленника. — Вот так штука! — воскликнул капитан Хайрем Нокс и с удивлением обнаружил, что Мак-Глэзери жив, хотя и не совсем в себе. — Откуда это вы взялись? — Ой! Ой! Ой! — вопил Мак-Глэзери. — Руки мои, руки! Ребра! Ой! Ой! Ой! Из тоннеля! Откуда же еще! Снизу, из тоннеля! Скорей, скорей! Я же подыхаю от «кессонки»! Везите меня скорей в больницу! Капитан, по-настоящему тронутый и напуганный стонами Мак-Глэзери, выполнил его просьбу. Он направился к ближайшей пристани и через несколько минут вызвал «Скорую помощь», а еще через несколько минут Мак-Глэзери отвезли в ближайшую больницу. Дежурный врач, которому года за два перед тем пришлось иметь дело с этой болезнью, решил, что надо клин клином вышибать. Посему Мак-Глэзери как можно скорее переправили в одну из воздушных камер все того же туннеля, чем повергли в величайшее изумление всех, кто знал, что с ним произошло (его исчезновение вызвало большой переполох): на него смотрели, как на выходца с того света. Но вот что самое замечательное: под давлением в две тысячи фунтов он настолько оправился и так повеселел в привычной обстановке, что мог уже рассказывать о своих приключениях; по мнению Мак-Глэзери, тут, конечно, не обошлось без св. Колумба. Опять святой проявил к нему лестное внимание! Ибо теперь уже было ясно, что жизнь Мак-Глэзери вне опасности. Весь город — если не вся страна — был прямо потрясен этим происшествием, и Мак-Глэзери стал героем дня: больше недели все газеты только и писали о нем. Тут были и большие рисунки, изображавшие, как Мак-Глэзери взлетает в небеса на верхушке водяного фонтана, и длинные, глубокомысленные объяснения, как и почему все это произошло. Затем его отвезли обратно в больницу, где он и провел четыре счастливейшие в своей жизни недели, рассказывая всем и каждому о своем удивительном приключении; его интервьюировали по меньшей мере пять представителей воскресных газет и одиннадцать репортеров из городских ежедневных газет: все они жаждали узнать, как это случилось, что его выбросило наверх, в воздух, и он пролетел сквозь такую огромную, глубокую реку, и как ему понравилось путешествие. Настоящий триумф! Да, реки бывают хитрые, но, слава тебе, господи, святые похитрее их. И в довершение всего, поскольку у Мак-Глэзери отнялась правая рука (на всю ли жизнь или только на некоторое время — этого врачи и сами не знали), компания в благодарность за то, что он отказался иметь дело со всякими «шакалами»-адвокатами, которые набросились на него и уговаривали возбудить иск и требовать крупного вознаграждения, предложила ему на выбор солидную пенсию или пожизненное место за приличную оплату, да к тому же еще и денежное пособие. Это как будто разрешало все проблемы его весьма шаткого будущего и обеспечивало ему спокойную жизнь. Вы, конечно, согласитесь, что и тут не обошлось без святого. И наконец, он испытывал чувство особого внутреннего удовлетворения от сознания, что выполнил свой долг и что ему помогает великий святой. Уж если все это не доказывало, что св. Колумб хранит его, какие еще нужны вам доказательства? Правда, река, как могла, попыталась навредить ему и заставила его пережить немало страха и боли, да и св. Колумб, как видно, имел не такую уж власть над рекой, какую должен был бы и хотел бы иметь… а может быть — что всего вероятнее — и сам Мак-Глэзери не всегда заслуживал поддержки доброго святого. Тем не менее, разве в критическую минуту св. Колумб не вступился за него? Иначе как объяснить, что буксир «Мэри Бейкер» оказался тут как тут, совсем рядышком, когда Мак-Глэзери вынырнул из воды более чем в двух тысячах футов от берега? И если святой не старался помочь ему, то чем вы объясните, что попался именно такой врач, который вовремя отправил Мак-Глэзери в камеру, — подумайте, он уже раньше видел подобный случай и знал, как лечить эту «кессонку»! Ведь это все неопровержимые доказательства! А если вы считаете иначе, то растолкуйте, почему? Как бы то ни было, Мак-Глэзери думал именно так, и по воскресеньям и праздникам, — все равно, отмечалось ли в тот день какое-либо событие в его церкви или нет, — его можно было видеть у статуи любимого святого: он стоял на коленях и время от времени бросал на святого благоговейные и восхищенные взгляды. — Слава богу, — часто восклицал он, рассказывая впоследствии об этом удивительном событии, — меня не зажало между щитом и плитой и не убило насмерть, а ведь могло! Я часто думал: конечно, это чудо, что тогда вода не хлынула внутрь и не потопила их всех. Щит поднялся ровно настолько, чтоб я вылетел как пробка, — вот я и вылетел, а потом, хвала господу, он опять опустился. Но, слава богу, вот он — я, и ничего со мной не случилось, хоть иной раз и ломит руку. А добрый святой Колумб… Ну, что еще можно сказать о добром святом Колумбе?
Ураган
С самого рождения Иду Зобел окружали очень ограниченные и равнодушные люди. Ее мать, строгая, чопорная немка, умерла, когда Иде было только три года, и девочка осталась на попечении отца и его сестры — людей весьма сдержанных и благонравных. Позже, когда Иде исполнилось десять лет, Уильям Зобел женился вторично на женщине, такой же трудолюбивой и педантичной, как он сам и его первая жена. Оба они никак не могли примириться с американским легкомыслием и распущенностью, которые окружали их. Это были заурядные, недалекие, трезвые немцы, и их раздражала неугомонная, падкая на удовольствия и, по мнению Зобела, чуть ли не развратная молодежь, которая каждый вечер разгуливала по улицам, явно не думая ни о чем, кроме развлечений. А эти молодые бездельники, разъезжающие со своими подругами в автомобилях! Какие распущенные, равнодушные родители! Что за распущенные, вольные манеры у детей! Чего можно ждать от такого народа? И разве ежедневные газеты, которые он едва терпел в своем доме, не полны возмутительных происшествий? А фотографии полуголых женщин! А джаз! А любовные похождения! Школьники таскают в карманах фляжки с виски. У девчонок прозрачные платья, юбки до колен, носки, открытая шея, голые руки, волосы коротко острижены. Чтобы его дочь росла такой? Позволить ей вступить на этот гибельный путь? Ни за что! И поэтому Иду воспитывали в самых строгих правилах. Разумеется, она никогда не будет стричь волосы. Никогда не будет красить губы и щеки — ничего фальшивого, вызывающего. Простые платья. Простое белье, и чулки, и обувь, и шляпы. Не дурацкие, безрассудно пышные наряды, но прочная приличная одежда. Когда нет занятий в школе — работа по хозяйству и в отцовской москательной лавке, неподалеку от дома. И, наконец, главное — подобающее образование, которое оградит Иду от бесчисленных модных сумасбродств, явно подрывающих основы общества. Для этой цели Зобел выбрал частную школу, возглавляемую набожной старой девой, немкой, по имени Элизабет Хохштауфер, которая после многих лет преподавания сумела заставить добрую сотню немецких семейств в округе оценить свои достоинства воспитательницы. Ничего общего с легкомысленной и безнравственной городской школой. Как только девочка поступила туда, дома начались ежедневные допросы и поучения, которые должны были наставить ее на стезю добродетели. — Скорее! У тебя только десять минут осталось. Не теряй зря времени… Почему ты сегодня пришла на пять минут позже? Что ты делала?.. Тебя задержала учительница? Ты хотела купить тетрадь? Почему ты не зашла сначала домой, мы бы потом вместе купили? — (так говорила ей мачеха.) — Ты же знаешь, отец не любит, когда ты задерживаешься после школы… А что ты делала сегодня на Уоррен-авеню между двенадцатью и часом? Отец сказал, что ты была с какой-то девочкой… Вилма Бэлет? Что это за Вилма Бэлет? Где она живет? А давно ты с ней дружишь? Почему ты раньше никогда о ней не говорила? Ты же знаешь, как отец на это смотрит. А теперь мне придется рассказать ему. Он рассердится. Ты должна слушаться. Ты еще недостаточно взрослая, чтобы поступать по-своему. Сколько раз отец тебе это говорил. И, однако, хотя Ида вовсе не была смелой или упрямой девочкой, ее привлекали как раз те развлечения, которые требовали смелости и дерзости, Воображение переносило ее в яркий, сияющий мир Уоррен-авеню, куда ей удавалось лишь мельком заглянуть. Сколько автомобилей проносится мимо! Там и кинематографы, и фотографии любимых актеров и актрис, которым стараются подражать все школьницы. Юноши и девушки, смеясь и громко разговаривая, разгуливают по людной улице, где ходят трамваи и где столько магазинов. Как весело болтали девочки о своих победах, о предстоящих удовольствиях, непринужденной походкой прохаживаясь под руку по главной улице; они заворачивали за угол, снова возвращались, на ходу поглядывая в зеркала и витрины, где отражались их стройные ноги и тоненькие фигурки, и бросая на молодых людей несмелые взгляды. Но Ида — как ни манило ее все это — ни в десять, ни в двенадцать, ни в четырнадцать лет не могла ускользнуть от строгого домашнего режима. Завтрак точно в половине восьмого, потому что отец открывает лавку в восемь; второй завтрак в половине первого, минута в минуту, как требовал отец; обед не позже половины седьмого, потому что вечерние часы Уильям Зобел посвящал различным делам и обязанностям. А кроме того, каждый день с четырех до шести и с семи до десяти вечера, а в субботу целый день Ида помогала отцу в лавке. Ни пойти на вечеринку, ни пригласить к себе подруг, которых она сама выбрала бы. Мачеха всегда разбирала по косточкам тех девочек, которые нравились Иде, да и отцу внушала свое мнение о них. Все соседи говорили, что ее родители очень уж строгие и не дают ей шагу ступить без спросу. Она бывала в кинематографе, но смотрела только те фильмы, которые выбирали для нее родители; иногда она каталась с ними в автомобиле, — когда Иде исполнилось пятнадцать лет, отец купил дешевенькую машину. Но все время она видела, что молодежь вокруг живет весело и радостно. А дома — во всем укладе жизни, в отношениях с родителями — гнетущая скука и серость. Уильям Зобел, чьи светло-голубые глаза холодно поблескивали за стеклами очков в золотой оправе, едва ли был таким человеком, которому могла довериться девочка с характером Иды. Не тянуло ее и к мачехе, чопорной женщине с длинным унылым лицом, тусклыми темными глазами и тщательно приглаженными черными волосами. В самом деле, Зобел держался так важно и торжественно, все его мысли и жизненные устои были преисполнены такой трезвости и практичности, что девочке он казался не отцом, а повелителем, и это никак не помогало им сблизиться. Разумеется, она здоровалась и прощалась с родителями, благодарила их, вставая из-за стола, давала почтительные и робкие объяснения то по одному, то по другому поводу. Время от времени они брали ее с собой, когда отправлялись в гости или в ресторан; но Зобел никогда не хотел иметь дочь, а его жена была не особенно привязана к чужому ребенку, — и ни тот, ни другая не задумывались над внутренним миром подрастающей девочки, у которой впервые раскрываются глаза на жизнь, а потому не было и понимания, духовной близости, не было настоящей любви. Вместо этого — подавленность, а иногда и страх, который с годами превратился в подчеркнутую вежливость и беспрекословное послушание. Но Ида все яснее понимала, что она с каждым днем становится привлекательней; в глазах же отца, а может быть и мачехи, это, видимо, означало неминуемую опасность в настоящем или в будущем. У нее были светлые шелковистые волосы, светлые серо-голубые глаза, даже девочки в школе мисс Хохштауфер обращали внимание на то, как она хорошо сложена. У нее был точеный носик, маленький пухлый капризный рот и круглый подбородок. Что же, разве у нее не было зеркала и разве с тех пор, как ей исполнилось семь лет, мальчишки не поглядывали на нее, стараясь привлечь ее внимание? Отец и мачеха, конечно, замечали это. Но Ида не смела, как это делали ее подруги, задерживаться на улице и заводить знакомства с веселыми, озорными мальчишками. Ей приходилось спешить: ее ждали различные обязанности по дому, в лавке или другие занятия, которые Зобел и его жена считали для нее полезными. Если ее посылали с каким-нибудь поручением, время, нужное для этого, высчитывалось с точностью до минуты. Но все эти предосторожности не могли помешать взглядам встречаться, сердцу биться сильнее. У вечно ищущей, беспокойной юности свой особый язык. Когда Иде было двенадцать лет, в аптеке на углу Уоррен-авеню и Трейси-стрит, в нескольких шагах от ее дома, появился новый продавец содовой воды Лоуренс Салливэн. Он казался ей самым красивым человеком на свете. Напомаженные темные волосы с тщательным пробором над красивым белым лбом; тонкие, изящные руки (по крайней мере ей они казались такими), безупречный, щеголеватый костюм, даже школьники не так хорошо одевались. А как он разговаривал с девушками — непринужденно, с приятной улыбкой. У него всегда находилось словечко для каждой, когда они забегали в аптеку по дороге из школы. — Добрый день, Делла! Как поживаете, мисс Мак-Гиннис? Бьюсь об заклад, я знаю, чего вы хотите. Хорошенькие блондинки любят шоколадное мороженое, — оно им к лицу. И он безмятежно улыбался, а мисс Мак-Гиннис млела и вздыхала. — Много вы знаете о том, что любят блондинки! И Ида Зобел, которой иногда разрешали выпить содовой воды или съесть порцию мороженого, жадно смотрела и слушала. Какой красивый молодой человек. Ему уже семнадцатый год! Сейчас он, конечно, и не посмотрит на такую девчонку, но вот когда она станет старше… Будет ли она такая же хорошенькая, как эта мисс Мак-Гиннис? Сможет ли она держаться так же уверенно? Как это чудно — понравиться такому молодому человеку! Что он ей тогда скажет, если вообще заговорит с ней? Что она ответит ему? Много раз Ида мысленно ставила себя на место этих девушек и вела с ним бесконечные воображаемые разговоры. Но, так и не заметив ее немого обожания, мистер Салливэн, как это часто бывает с продавцами содовой воды, вскоре переменил место службы и больше здесь не появлялся. Но годы шли, другие привлекали ее внимание, ненадолго занимали ее мысли, и, мечтая о них, она строила воздушные замки, весьма далекие от действительности. Например, Мертон Уэбстер, бойкий, самоуверенный и не слишком разборчивый сын здешнего сенатора; он жил в одном квартале с Зобелами и посещал колледж Уоткинса, куда ее так и не решились отдать. Какой он красивый, какой любезный. — Хелло, детка! Да какая ты хорошенькая! Я как-нибудь возьму тебя на танцы, если хочешь. Однако она была еще слишком юной, слишком строг был родительский надзор, — она только вспыхивала, опускала голову, но все-таки улыбалась ему. И мысли о нем тревожили ее целый год, а потом ее внимание привлек Уолтер Стор; у его отца была контора по страхованию недвижимости неподалеку от лавки Зобела. Уолтер был высокий блондин с веселыми глазами и большим, всегда смеющимся ртом; вместе с Мертоном Уэбстером, Лоуренсом Кроссом, сыном бакалейщика, Свеном Фолбергом, сыном владельца мастерской химической чистки, и другими шалопаями он нередко болтался около ближайшего кинематографа или у аптеки на углу и заигрывал с проходящими девушками. Хотя Ида была очень застенчива, она знала этих молодых людей по имени или в лицо, потому что каждый день ходила по этим улицам в школу и помогала отцу в лавке. Они иногда заходили в лавку и даже обменивались замечаниями на ее счет: «Смотрите-ка, а она становится хорошенькой!» Тут Ида краснела и спешила заняться с покупателем. Она многое узнала об этих молодых людях и девушках от Этель Шомел, дочери соседа-немца, который был другом ее отца. Зобел считал Этель подходящей подругой для Иды главным образом потому, что та была дурнушкой. Но из рассказов Этель и во время прогулок с нею Ида услышала немало сплетен об этой компании. Уолтер Стор, который ей страшно нравился, ухаживал за дочерью торговца молоком Эдной Стронг. Отец Стора был не так скуп, как многие родители. У него был автомобиль, и он иногда разрешал сыну брать его. Стор часто приглашал Эдну и ее подруг на лодочную станцию на Литтл Шарк Ривер. Одна из подруг Этель говорила, что он прекрасный рассказчик и танцор. Как-то она встретилась с ним на вечеринке. И, конечно, Ида жадно и с любопытством выслушивала все это. Какая веселая, какая удивительная жизнь! Однажды вечером, около половины восьмого, когда Ида шла в отцовскую лавку, Стор, стоявший по обыкновению с приятелями на своем излюбленном углу, крикнул: — Знаю я одну милашку, да жаль, папаша не позволяет ей смотреть на парней. Верно? — Этот вопрос был обращен непосредственно к Иде, когда она проходила мимо, а она, прекрасно зная, кого он имеет в виду и насколько справедливы его слова, ускорила шаги. Если бы отец слышал это! О господи! И все же эти слова обрадовали ее. «Милашка! Милашка!» — так и звенело у нее в ушах. И вот, наконец, когда ей исполнилось пятнадцать лет, в большой дом на Грей-стрит переехал Эдуард Хауптвангер. Его отец, Джейкоб Хауптвангер, зажиточный торговец углем, недавно купил склад на Эбсеконе. К этому времени Иде стало понятно, что у нее не такая юность, как у всех ее сверстниц, она лишена общества молодежи, строгий, бездушный надзор отца и мачехи отнимает у нее все радости жизни. Весною и летом, чудесными, томительными вечерами, она подолгу глядела на луну, сиявшую над этим надоевшим домом, над тесным надоевшим садиком, где все же цвели тюльпаны, гиацинты, жимолость и розы. Звезды сверкали над Уоррен-авеню, где все — автомобили, толпы народа, кинематографы и рестораны — казалось ей таким заманчивым. О, как ей хотелось радости — до боли, до безумия. Вырваться отсюда, убежать куда-нибудь, где можно танцевать, играть, целоваться, все равно с кем, лишь бы он был молодой и красивый. Неужели никого не будет в ее жизни? А что хуже всего — парни со всего квартала кричали ей, когда она проходила мимо: «Поглядите-ка, кто идет! Вот обида, папаша ее никуда не пускает». «Почему ты не срежешь косы, Ида? Стрижка тебе пойдет». Хотя Ида уже кончила школу, она, как прежде, помогала отцу в лавке и одевалась по-прежнему. Короткие платья, стриженые волосы, носки, губная помада — все было под запретом. Но появился Эдуард Хауптвангер, и жизнь ее изменилась. Это был напористый молодой человек весьма твердого и решительного нрава, сердцеед, необыкновенно изобретательный по части любовных похождений, притом он со вкусом одевался и умел держать себя: в глазах тех молодых людей, которых он выбрал себе в приятели, это был почти герой. Ведь у Хауптвангеров большой собственный дом на Грей-стрит! По всей округе, развозя уголь, разъезжают покрытые кричащими рекламными надписями фургоны и грузовики его отца. И вдобавок, благодаря безрассудной и слепой любви его матери (отец отнюдь не разделял этих чувств) у Эдуарда всегда было достаточно карманных денег на тот образ жизни, какой обязателен в подобной компании. Он мог водить своих подруг в театр, кинематограф, рестораны не только в их районе, но и в центре города. И лодочный клуб на Литтл Шарк Ривер сразу же стал для него местом свиданий. Говорили, что у него есть собственная байдарка. Он отлично плавал и нырял. Ему было разрешено пользоваться отцовским автомобилем, и по воскресеньям он часто возил своих приятелей в лодочный клуб. И вот, прожив здесь около года и завоевав репутацию светского молодого человека, Хауптвангер впервые увидел Иду Зобел, когда она вечером шла из дома в отцовскую лавку. Как строго ни держали Иду, как скромно ни одевали, красота ее сразу привлекала внимание. Кое-какие замечания о ней и ее подневольной жизни, услышанные от приятелей, у которых не хватало ни ловкости, ни дерзости, чтобы познакомиться с нею поближе, заставили Эдуарда насторожиться. Хороша, ничего не скажешь. Молодой Хауптвангер по натуре был искатель приключений, и потому ему показались заманчивыми препятствия, стоявшие между ним и этой девушкой. «Ох, уж эти старомодные, деспотичные немцы! И кругом не нашлось ни одного парня, который сумел бы вмешаться в это дело. Видали вы такое?» И, не теряя времени, он стал усердно присматриваться к понравившейся ему девушке и к ее жизни. И скоро почувствовал, что его непреодолимо влечет к ней. Какое хорошенькое личико! Как сложена! Какие большие серо-голубые глаза, кроткие и застенчивые! И в глубине их — робкий призыв. И он стал с дерзким видом прохаживаться мимо лавки Зобела в часы, когда там бывала прекрасная Ида, не обращая внимания на ее отца, который с утра до ночи сидел, склонившись над кассой и книгами, или обслуживал покупателей. А Ида, которая никогда и ни в чем не смела дать себе волю, вдруг почувствовала, что она нравится Хауптвангеру и что он старается показать ей это, — и ее все больше и больше влекло к нему. Он скоро узнал, в какие часы ее вернее всего можно застать одну. Как правило, это бывало по средам и пятницам, когда ее отец с половины девятого уходил в клуб немецких коммерсантов или в певческое общество. Правда, изредка Иде помогала мачеха, но обычно она в эти вечера оставалась в лавке одна. Итак, смелое наступление должно было разрушить чары, сковавшие спящую красавицу. Сначала Хауптвангер, впрочем, только улыбался Иде, когда они случайно встречались, и хвастал перед приятелями: — А девочка-то будет моя! Вот увидите! Потом, как-то вечером, в отсутствие Зобела, он явился в лавку. Ида стояла за прилавком, покупателей как раз не было, и она, по обыкновению, мечтала о той жизни, что шумела за стенами. За последние недели она стала особенно остро чувствовать, что нравится этому любезному молодому человеку. Какая у него стройная, гибкая фигура, какие быстрые, энергичные движения, какой требовательный и настойчивый взгляд! Как и все, кто нравился ей прежде, он был именно из тех самоуверенных и самовлюбленных франтов, к которым всегда влечет робких девушек вроде Иды. Он нимало не колебался. Даже и для этого случая он не потрудился выдумать какой-нибудь предлог. Какая разница? Все сойдет. Ему нужно посмотреть краску. Скоро надо будет заново окрасить дом… тем временем он втянет ее в разговор, а если старик вернется, — ну что ж, он потолкует с ним о краске. Итак, в этот на редкость мягкий и теплый майский вечер молодой Хауптвангер непринужденно вошел в лавку Зобела; он был в новом сером костюме, в светло-коричневой фетровой шляпе и коричневых ботинках, картину довершал ослепительный галстук — предмет зависти всех местных щеголей. — Хелло! Невесело в такой вечер сидеть в четырех стенах, верно? — эти слова сопровождались неотразимой улыбкой. — Я хотел бы посмотреть кое-какие краски, то есть образцы. Мой старик думает заново окрасить дом. Смущенная Ида, вспыхнув до корней волос, поспешно стала искать образцы, стараясь скрыть пылающее лицо. И все-таки она была заинтересована не меньше, чем испугана. Какая смелость! А вдруг вернется отец или войдет мачеха? Но в конце концов он такой же покупатель, как и всякий другой… хотя она прекрасно понимала, что он пришел не ради краски. Вон там, на другой стороне улицы, выстроились в ряд три его приятеля и восхищенно наблюдают за ним; а он, облокотившись на прилавок, весело и развязно говорит: — Я часто видел вас, когда вы ходили в школу или в лавку. Я здесь уже почти год, но что-то не замечал, чтоб вы гуляли с другими девушками. Обидно. А то бы мы с вами раньше познакомились. С остальными я уже давно знаком. — Говоря это, он небрежным жестом поправил галстук, стараясь, чтобы ей бросился в глаза опаловый перстень и манжета в розовую полоску. — Я слышал, ваш отец даже не пускает вас гулять по Уоррен-авеню. Строгий старик, а? — И он, широко улыбаясь, заглянул в ее серо-голубые глаза, любуясь румянцем на ее щеках, пухлым ртом и шелковистыми волосами. — Да, у меня отец очень строгий, — еле выговорила Ида, дрожа от волнения. — Что же, вас так и будут вечно держать взаперти? (Прейскурант красок уже давно лежал забытый на прилавке.) Надо же вам когда-нибудь немножко поразвлечься, верно? Если бы я знал, что вы не против, я бы представился раньше. У моего отца большой угольный склад, тут, у реки. Уж, наверно, наши отцы знакомы. У меня есть автомобиль, то есть у папаши, но это все равно. Как вы думаете, отец отпустит вас за город в субботу или в воскресенье, скажем, на Литтл Шарк Ривер или на Пек Бич? Все здешние парни и девушки ездят туда. Теперь было совершенно ясно, что Хауптвангер уже кое-чего добился, и его приятели оставили свой наблюдательный пункт на той стороне улицы, не надеясь больше, что он потерпит поражение. А испуганная и взволнованная Ида думала: как чудесно, что она, наконец, понравилась такому красавцу. Отец, пожалуй, будет недоволен, но, может быть, такой смелый молодой человек сумеет все преодолеть? Да, но волосы у нее не подстрижены, платья длинные, губы не накрашены. Неужели она действительно могла ему понравиться? А у него такие упрямые, дерзкие темно-карие глаза, такие красивые руки. И как он великолепно одет. Она вдруг поняла, какое скучное и строгое на ней синее платье с белой отделкой, какие немодные туфли и чулки. Вслух же она решительно ответила: — Нет, нет, мне ничего такого нельзя. Видите ли, мой отец не знает вас. Он не отпустит меня с человеком, которого не знает и с которым я почти не знакома. Вы же сами понимаете. — Ну что же, тогда я сам представлюсь. Уж, наверное, мой отец знает вашего. Я просто скажу, что хочу познакомиться с вами, ладно? Я не боюсь его, и ведь тут ничего нет плохого, верно? — Да, может быть, только он очень строгий… и он все равно может не отпустить меня. — Ну вот еще! Но вы-то хотите поехать? Или пойти в кинематограф? Уж этого-то он не запретит. Хауптвангер, улыбаясь, посмотрел ей прямо в глаза и многозначительно прищурился, что всегда производило впечатление на девушек. И в душе Иды вдруг пробудились смутные, неосознанные и неподвластные ей стремления. Она только робко посмотрела на него. Какой он удивительный! Как прекрасна любовь! Ее так влечет к нему! И, собравшись с духом, она сказала: — Может быть, и нет. Не знаю. Понимаете, у меня никогда еще не было кавалера… Ее взгляд сказал ему, что он одержал победу. Как просто! Готово дело, подумал он, пара пустяков! Он пойдет к Зобелу и получит его разрешение или будет встречаться с ней тайком. Вот еще, по какому праву такой папаша вовсе не дает дочке развлечься. Нет, он покажет этим тупым, упрямым немцам! Пора их расшевелить, пускай очнутся! Итак, не прошло и двух дней, как он без малейшего смущения явился в лавку, чтобы попробовать, нельзя ли заставить Зобела признать его возможным претендентом на руку дочери. А если это дело окажется не столь привлекательным, он просто прекратит знакомство, только и всего. Мало ли было таких случаев? Конечно, Зобел знал, кто отец Эдуарда. Слушая бойкие и откровенные объяснения Хауптвангера-младшего, он трезво оценивал модный костюм, новые коричневые ботинки, и в целом молодой человек произвел на него благоприятное впечатление. — Так вы уже разговаривали с ней? — Да, сэр, я спросил, могу ли я увидеться с нею. — Гм! Когда это было? — Два дня назад. Я вечером заходил сюда. — Гм… гм… И тут Зобелом овладело привычное тревожное недоверие ко всему на свете — недоверие, от которого на лбу его, на висках и у рта давно прорезалось множество морщинок. — Ну, ну, я поговорю об этом с дочерью. Мне надо подумать. Я, знаете, очень осторожен в отношении дочери и ее знакомств. Тем не менее он подумал о множестве грузовиков, развозящих уголь по всей округе, о том, что этот юноша носит немецкую фамилию и, вероятно, воспитан в добром старом немецком духе. — Я дам вам знать. Зайдите как-нибудь в другой раз. А затем он побеседовал с дочерью, и было решено, что, пожалуй, ей можно и даже следует познакомиться хоть с одним молодым человеком. Как-никак, ей шестнадцать лет, и до сих пор он держал ее в строгости. Может быть, она уже вышла из самого опасного возраста. Большинству ее сверстниц все же разрешены кое-какие развлечения. Во всяком случае один порядочный кавалер, может быть, и нужен; а этот юноша, который обратился к нему так откровенно и бесстрашно, чем-то понравился Зобелу. И вот, пока что Хауптвангеру было позволено приходить раза два в неделю, но он с первых дней стал строить дерзкие планы. Ведя себя крайне осмотрительно, он добился того, что в один прекрасный вечер Иде позволили пойти с ним в ближайший кинематограф. И с тех пор, по средам или пятницам, смотря по тому, когда Ида была занята в лавке, он постоянно проводил с ней вечера. Смелость и ловкость никогда не изменяли ему, и через некоторое время он испросил у мистера Зобела разрешение съездить с Идой в субботу на Пек Бич. Это было очень милое местечко в девяти милях от города, куда по субботам и воскресеньям горожане отправлялись подышать свежим воздухом. Позднее, когда он вполне завоевал доверие Зобела, ему было разрешено приглашать Иду то в театр, то в ресторан или в гости к приятелю, — у того была сестра, да и жил он неподалеку. Как ни был строг и неотступно наблюдателен Зобел, он не мог помешать все большей близости, рожденной молодостью, взаимным влечением, влюбленностью. Ибо для Эдуарда Хауптвангера встречаться с девушкой значило увлечь ее и в конечном счете добиться своего. Итак, понемногу дело дошло до рукопожатий, до поцелуев, сорванных на лету. Тем не менее Ида еще слишком боялась выйти из отцовской воли и оставалась все такой же пугливой и уклончивой, что было жестоким испытанием для ее поклонника. — О, вы не знаете моего отца. Нет, я не могу этого сделать. Нет, я не могу оставаться так поздно. Нет, нет, я боюсь пойти туда, я не решусь. Просто не знаю, что он тогда со мной сделает. И так всегда, стоило ему намекнуть на позднюю прогулку, на поездку в этот таинственный и заманчивый лодочный клуб на Литтл Шарк Ривер, в двадцати пяти милях от города, — Эдуард с жаром рассказывал, как там можно потанцевать, искупаться, покататься на лодке, послушать музыку — словом, повеселиться вволю. Но Ида, которой никогда не доводилось так развлекаться, скоро поняла, что на это потребуется неслыханно много времени — в сущности, вся суббота, с полудня до полуночи, а то и позже; а ведь отец требует, чтобы она возвращалась под родительский кров не позднее половины двенадцатого. — Что ж, вам и повеселиться нельзя? Вот еще! Он вам ничего не позволяет, а вы так и будете его слушаться? Посмотрите на здешних девушек и парней. Никто так не запуган, как вы. И потом, что тут плохого? Ну, не вернемся мы вовремя. Разве нельзя сказать, что автомобиль сломался? Отец на это ничего не скажет. Да и кто является минута в минуту? Но Ида все еще трусила и не поддавалась на уговоры, а Хауптвангер именно из-за этого сопротивления решил непременно поставить на своем и в то же время перехитрить ее отца. И потом сладостные опьяняющие летние вечера… и поцелуи под сенью деревьев Кинг-Лейк парка или на озере, в лодочке, врезавшейся в берег, в тени нависших ветвей. Ида, впечатлительная и пылкая, несмотря на всю свою сдержанность и неопытность, все больше поддавалась чарам юности, лета, любви. Как он красив, ее возлюбленный! Как он хорошо одет, какой он мужественный, сильный, смелый. А он, болтая о том, о сем, то и дело ухитрялся ввернуть, что, будь она похрабрей и люби его по-настоящему, они могли бы отлично проводить время. Ведь к их услугам все удовольствия, какие только есть на свете. И, наконец, все там же, на озере, когда она доверчиво покоилась в его объятиях, он позволил себе вольности, каких она прежде и представить себе не могла… она вскочила, требуя, чтобы он отвез ее к пристани, а он только рассмеялся в ответ. Да что он такого сделал? Что ж на самом деле, любит она его или нет? А тогда к чему разыгрывать недотрогу? Зачем плакать? Зачем поднимать крик? Ну, что ж, ладно, если она такая ломака… И, выйдя на берег, он быстро пошел прочь, веселый и очень довольный собой. А она,одинокая, потрясенная этим внезапным изгнанием из рая, пробралась домой, в свою комнату, и, зарывшись лицом в подушку, шептала, что все это так ужасно, такой страшной опасности она избежала! И все же перед ее мысленным взором неотступно стоял блистательный Хауптвангер. Ее преследовал его образ, она вспоминала его лицо, волосы, руки. Его смелость. Его поцелуи. Разумно ли она вела себя, права ли была, что так возмутилась?.. И на следующий день в тоске и отчаянии она поплелась в отцовскую лавку… она ждала и думала, что, может быть, он не такой плохой, как ей тогда показалось… может быть, он не хотел оскорбить ее, просто он совсем потерял голову, был околдован так же, как она. Любовь, любовь! Эдуард! Он не покинет ее, он не может уйти. Она должна увидеть его, дать ему возможность объясниться. Пусть он поймет: она была такой застенчивой, робкой, такой сдержанной не потому, что мало любит его, а потому что боится — боится отца, всех, всего на свете. Да и сам Хауптвангер при всей своей опытности и фанфаронстве опасался, не слишком ли он поспешил. Ведь все-таки какая красотка! Какой соблазн! Он не может так просто ее упустить. До чего приятно, что она так влюблена в него, — еще немного поухаживать за ней, и кто знает? И он отправлялся на угол Уоррен-авеню и Хай-стрит, где она вечерами проходила домой, но притворялся, что не замечает ее. И Ида, бледная и тоскующая, видела его, проходя мимо. Так было вечером в понедельник… во вторник… Хуже того, в среду вечером он прошел мимо лавки и даже не повернул головы в сторону Иды… На другой день она дала негритенку, служившему на посылках в лавке, записку, чтобы он вручил ее Хауптвангеру часов в семь, когда тот наверняка будет на углу. И вот Эдуард самым небрежным и высокомерным жестом взял записку и прочел ее. Ах так, ей пришлось написать ему. Ох уж эти женщины! И все же что-то дрогнуло в нем, когда он прочел: «Эдуард, милый, неужели ты можешь быть таким жестоким? Я так люблю тебя. Ты ведь только пошутил, правда? Я тоже не то хотела сказать. Пожалуйста, приходи к нам в восемь. Я хочу тебя видеть». И Эдуард Хауптвангер, чувствуя себя победителем, ответил посыльному в присутствии четверых приятелей, которые знали о его ухаживании за Идой: — Что ж, ладно. Передай ей, что я попозже загляну. А в восьмом часу он зашагал к дому Зобела. И один из приятелей заметил ему вслед: — Видали? Он уже обработал дочку Зобела. Она ему записочки пишет. Мальчишка сейчас принес. Ловко, а? — И остальные завистливо, удивленно и насмешливо откликнулись: — Видали? И вот еще одно свидание в июньский вечер под деревьями Кинг-Лейк парка. — Милый, как ты мог так поступить со мной, как ты мог? Мой дорогой, мой хороший! И его ответ: — Да, да, конечно, все это хорошо, но что я, по-твоему, каменный? Будь подобрее, я ведь живой человек. Я не бесчувственный. Ведь я от тебя без ума, да и ты тоже меня любишь, правда? Ну, тогда… значит… послушай… — А дальше, как нетрудно угадать, долгие лицемерные, лживые речи с тонкими намеками на страдания и муки подавляемого желания… но, конечно, он не думает ни о чем дурном. Нет, нет. И снова в ответ — вечная, бессмысленная мольба испуганной любви. И потом его настойчивые уверения, что если что-нибудь случится, ну, тогда, конечно. Но к чему сейчас беспокоиться? Смешно, сколько он знает девушек, и она единственная беспокоится о таких вещах. И, наконец, поездка на Литтл Шарк Ривер в отцовском автомобиле. А потом еще и еще свидания. Ида сначала безвольно и пугливо покорялась, потом ее охватил ужас перед возможными последствиями, и потому она слишком пылко и откровенно льнула к нему, что начинало ему надоедать. Теперь она принадлежит ему — совсем, навсегда. Ведь он никогда, никогда не покинет ее, правда? Но как только Хауптвангер добился своего и его беспокойная, тщеславная натура удовлетворилась новой победой, уже пресытясь, движимый вечной, лихорадочной, неподвластной ему жаждой новых ощущений, а также страхом потерять свою свободу, он кинулся искать чего-нибудь поновее, новых связей, которые были бы не так опасны. Ведь в конце концов Ида — еще одна девушка, еще одно приключение, и не так уж отличается от всех прежних. А ведь он был совсем околдован ею до того, как она уступила. Он сам не понимал этого. Не мог понять. Да он и не утруждал себя размышлениями. Но так оно было. Не то чтобы он боялся, что ему уже сейчас грозят неприятные последствия, которые заставят его жениться, — напротив, он твердо решил никогда, ни в коем случае не брать на себя таких обязательств. Но вот прошли июль и август и после многих, многих счастливых часов — роковое признание. Она боится, что с нею что-то неладно. У нее за последнее время какое-то странное состояние — такая тоска, все что-то неможется, все чего-то страшно… Может быть, с ней случилась беда? Как он думает? Могло это случиться? Она ведь во всем его слушалась. А если это так, что же ей тогда делать? Он женится на ней? Если это правда, он просто должен. Другого выхода нет. Отец… он придет в бешенство… Ей так страшно! Она больше не может жить дома. Может быть, теперь… может быть, они теперь поженятся, если это правда? Ведь он говорил, что женится, если это когда-нибудь случится, не так ли? Хауптвангер почувствовал тревогу и холодное раздражение. Жениться! Подумать только! Невозможно! А его отец! А его вольная, беспечная жизнь! А его будущее! И потом, откуда она знает? Разве она может быть уверена? И если даже это правда? Другие девушки справляются с этим без особых хлопот. Почему она не может? И разве он не был осторожен? Она слишком легко пугается, слишком неопытна, ей не хватает смелости. Он знает сколько угодно случаев, когда девушки легко выпутывались из подобных историй. Он сперва постарается что-нибудь придумать. И она вдруг почувствовала, что он стал каким-то чужим и холодным, — она никогда раньше не видала его таким, — а все потому, что он решил оборвать эту опасную связь, чтобы не увеличивать свою ответственность. Ему очень хотелось держаться подальше. Мало ли на свете девушек! Сколько угодно. Совсем недавно он встретил одну более опытную и искушенную в любовных делах, она-то вряд ли станет для него обузой! Но, с другой стороны, его отец, такой же строгий, как Зобел, и его мать… веря в его порядочность, они, наверно, сочтут поведение сына небезупречным. И потому он попытался как можно скорее и деликатнее выпутаться из опасного положения. Правда, сперва он добросовестно, хоть и с досадой, пробовал через друзей и приятелей найти какое-нибудь верное средство. Но достиг только того, что все поняли: его веселое и удачное приключение кончилось весьма неудачно для Иды. А потому они теперь все переглядывались, перемигивались и подталкивали друг друга, стоило ей пройти по улице. А Ида, стыдясь своего позора, почти не выходила из дому, а если ей приходилось выйти, старалась избегать перекрестка Уоррен-авеню и Хай-стрит. Тайный страх терзал ее; строгий и безжалостный образ отца угрожающе стоял перед ней, и она чувствовала, что силы покидают ее. Она знала, что отец строг, беспощаден, неумолим. Что же ей делать? Ведь пока она принимала это бесполезное средство, которое достал ей Эдуард, можно было только ждать. И ожидание кончилось лишь еще бóльшим ужасом. И все время — опостылевшая работа в лавке, опостылевшие домашние заботы, попытки увидеть любимого… а ему новые и весьма неотложные дела все больше мешали где бы то ни было и когда бы то ни было встречаться с нею. — Но разве ты не понимаешь, милый, что так продолжаться не может? Я больше не могу, неужели ты не понимаешь? Ведь ты говорил, что женишься на мне. Подумай, прошло уже столько времени. Я просто с ума схожу. Ты должен что-то сделать. Должен! Должен! А если узнает отец, что же тогда будет? Что он со мной сделает, да и с тобой! Неужели ты не понимаешь, как это страшно? Но Хауптвангер спокойно выслушал полную муки мольбу обезумевшей и все еще любящей девушки, и в этом спокойствии было не только равнодушие, но и жестокость. Черт бы ее побрал! Он не женится. Он не может. Он должен непременно избавиться от нее. Он пытался не встречаться с ней больше — никогда не разговаривать с ней на людях и вообще держаться подальше. Но Ида никак не хотела поверить в это, она была слишком неопытна, молода и все еще слишком верила в него. Это невозможно. Она никогда не подозревала, что он такой. Но теперь он так равнодушен — этому может быть только одно объяснение. Он избегает ее… и эти отговорки… И вот однажды, когда тоска и ужас овладели ею и погнали ее к нему, он сказал, спокойно и нагло глядя ей прямо в глаза: — Да я вовсе и не обещал жениться на тебе. Ты это прекрасно знаешь. И потом ты сама виновата не меньше моего. Ты что же воображаешь — ты не умеешь сама о себе позаботиться, а я должен на тебе жениться? Так, что ли? Его взгляд впервые стал по-настоящему жесток. Он твердо решил одним ударом покончить со всей этой историей. И удар был достаточно силен, чтобы едва не свести с ума романтическую и пылкую девочку, до последней минуты так безрассудно верившую в любовь. Нет, этого не может быть! Какой ужас! И неминуемая катастрофа… Все еще отказываясь верить, теряя голову, она воскликнула: — Но, Эд, послушай, что ты говоришь? Ведь это неправда! Ты сам знаешь! Ты обещал. Ты клялся. Ты же знаешь, я не хотела, ты заставил меня. Ну, что мне делать? Отец… Не знаю, что он со мной сделает и с тобой тоже. Боже мой! Боже мой! Не находя слов, чтобы убедить его, она, как безумная, в каком-то исступлении ломала руки. Тут Хауптвангер окончательно решил как следует припугнуть ее, чтобы она отстала от него раз и навсегда. — Да брось ты! — крикнул он. — Я никогда не говорил, что женюсь, и ты это знаешь. — Он повернулся на каблуках и отошел к стоявшей на углу оживленной компании молодых людей, с которыми болтал до ее прихода. И чтобы утвердиться в своем решении и показать приятелям, что он разделался со всем этим, добавил: — Ох уж эти юбки! Чертям от них тошно! Однако при всем своем тщеславии и заносчивости он был немного испуган тем, что дело принимает неприятный оборот. Но все-таки, когда Джонни Мартин, его приятель, тоже претендент на славу местного Дон Жуана, заметил: «Я видел, она тебя тут вчера искала, Эд. Гляди в оба. Доведут тебя эти юбки когда-нибудь до беды», — он спокойно вынул папиросу из серебряного портсигара и, даже не взглянув на помертвевшую Иду, сказал: — Вот как? Ну, что ж. Это мы еще посмотрим. — И затем, небрежно кивнув в сторону Иды, настолько измученной, что у нее не было сил уйти, добавил: — Уж эти немки! Выросла у своего папаши дура дурой, а теперь вообразила, что с ней неладно, и я же виноват! Как раз в это время подошел еще один его приятель и сообщил, что две девицы, с которыми они собирались встретиться, ждут их. — Ну как, Скэт? — весело спросил Эдуард. — Все в порядке? Тогда ладно, пошли. Пока, ребята. — И он ушел быстрой и уверенной походкой. Но разбитая, потрясенная Ида все еще медлила под почти уже обнаженными сентябрьскими деревьями. Мимо нее проносились трамваи и автомобили; их гудки и звонки, громкий говор прохожих, шарканье ног, сверкающие вечерние огни — все сливалось в оглушающем хаосе звуков и красок. Какой холод! Или это только ей так холодно? Он не женится на ней! Он и не обещал никогда! Как мог он это сказать? А теперь ей придется иметь дело с отцом… и тут еще ее состояние… Она все стояла, не шевелясь, и вдруг перед нею мгновенным видением возникла летняя ночь в Кинг-Лейк парке — тропинки и скамьи, лодки, скользящие под деревьями… в каждой двое: юноша и девушка… И весла бесцельно лежат на воде… и одурманенные любовью головы склоняются друг к другу… сердца бьются так неистово, что перехватывает дыхание… А теперь… после стольких поцелуев и обещаний все оказалось ложью: ее мечты… ее слова… его слова, которым она так верила… ложью были часы, дни, недели, месяцы невыразимого блаженства… ложью были ее надежды — и не сбудутся ее мечты — никогда. Нет, лучше умереть… умереть. Еле передвигая ноги, она медленно вернулась домой и, пользуясь отсутствием отца и мачехи, проскользнула к себе, легла и думала, думала… Ее бросало то в жар, то в холод, и страшная боль, вызванная жестоким потрясением, пронизывала ее. И вдруг — приступ негодования, такого острого, какого она никогда еще не испытывала. Какая жестокость! Какая жестокость! И какое вероломство! Он не только лгал, он еще и оскорбил ее. А ведь всего пять месяцев назад он так добивался ее внимания, так смотрел, так улыбался! Обманщик! Негодяй! Чудовище! Так думала она, и в то же время ей страстно хотелось не верить этим мыслям, вернуться на месяц, на два, на три назад, найти в глубине его глаз хотя бы намек на то, что могло бы опровергнуть эти страшные мысли. Ах, Эдуард! Так прошла ночь, наступил рассвет. И потом — тяжкий, мучительный день. И еще такие же дни. И не с кем поговорить, — ни души. Если бы она могла рассказать все мачехе! И еще дни и ночи — такие одинокие. И вихрь беспорядочных, слепящих, обжигающих мыслей; они преследовали ее, как стая демонов. Что станут говорить, если с нею в самом деле стрясется такая беда? Ее неопытность еще усиливала страх. А эти зеваки на улицах, провожающие ее наглыми взглядами и насмешками… знакомые девушки… что они подумают, ведь скоро они все узнают. Как одиноко ей будет без любви. Эти и сотни подобных мыслей проносились в ее мозгу в фантастической пляске смерти. И все же в ее сознании крепла неотвязная мысль, что все услышанное ею — неправда, что это ей только померещилось и она еще сумеет уговорить его, разжалобить. Милый, любимый! Не может быть, чтоб они больше не смогли понять друг друга. И, однако, с каждым часом она все яснее понимала, что никакими просьбами и мольбами не вернуть его былой нежности. Она писала ему записки, поджидала его на углах, в дальнем конце улицы, ведущей к угольному складу его отца, подле его дома… и что в ответ? — молчание, увертки, а то и прямое оскорбление и насмешки. — Чего это ты вздумала ходить за мной по пятам? По-твоему, мне больше делать нечего, только слушать тебя? Я тебе сразу сказал, что не женюсь. А теперь ты вообразила, что с тобой неладно, и хочешь взвалить все на меня. Ну, знаешь, крутом и без меня парней достаточно, это всем известно. Тут он замолчал, увидев, что его последние слова пробудили в ней силу и решимость, которых он в ней и не подозревал. Брошенное им оскорбление потрясло ее до глубины души. Лицо ее вдруг совсем побелело, в глубине зрачков вспыхнули гневные искры. — Это ложь! Ты же знаешь, что это неправда! Какой ужас! Как ты мог сказать такое! Теперь я все понимаю. Ты просто подлец и трус! Значит, ты просто обманывал меня все время. Ты никогда и не собирался жениться на мне, а теперь ты струсил и хочешь увильнуть, хочешь все свалить на кого-то. Негодяй, да еще мелкий негодяй! И это после всех твоих слов, после всех обещаний! Как будто я хоть раз в жизни подумала о ком-нибудь другом! Ты это прекрасно знаешь — и ты осмелился сказать мне такую вещь! Она все еще была смертельно бледна, и даже руки побелели. Глаза ее были полны предельного, беспомощного и бессильного страдания. Но, несмотря на все, сквозь гнев и страдание пробивалась любовь — властная, пламенная, всепоглощающая! И это было так мучительно, что слезы выступили на глазах девушки. И прекрасно зная, что эта любовь еще жива, он тотчас придрался к ее справедливым словам и решил прикинуться обиженным. — Ах, вот как? Я трус? Ладно, посмотрим, что ты на этом выиграешь, дуреха. — И, круто повернувшись, он пошел прочь. В эту минуту он думал только об одном — как бы не уронить себя в глазах здешних обывателей. Он даже не оглянулся. — Эд! Эд! Вернись! — крикнула Ида в безмерном страхе и отчаянии. — Ты не смеешь вот так бросить меня! Я не допущу этого. Говорю тебе, не допущу. Вернись, сейчас же! Слышишь? — Но он быстро уходил, не слушая ее. Вне себя, почти не сознавая, что делает, она бросилась за ним. Удивленный и обеспокоенный ее угрожающим тоном, он резко повернулся к ней: — Слушай, ты! Брось дурить, а то я тебе покажу, слышишь? Тебе не удастся втравить меня в это дело. Не на такого напала. Сама во всем виновата, сама и выпутывайся. Убирайся, пока я с тобой не расправился, слышишь? Он подошел ближе и посмотрел на нее с таким бешенством и угрозой, что впервые за все время их знакомства Ида по-настоящему испугалась его. Какое у него злое, мрачное лицо. Какие жестокие, бешеные, свирепые глаза. Неужели, в довершение всего, он и на самом деле может ударить ее? Стало быть, она совсем не знала его. И она застыла, не шевелясь, — ее охватил тот же страх перед грубой физической силой, который заставлял ее беспрекословно повиноваться отцу. А Хауптвангер, видя, как подействовала на нее его яростная вспышка, прибавил: — Не смей больше подходить ко мне, слышишь? Я так тебя отделаю, что не обрадуешься. Хватит с меня. Кончено — раз и навсегда. Он снова повернулся и решительно, не оглядываясь, зашагал прочь, по направлению к центру города, к Хай-стрит и Уоррен-авеню, а Ида осталась стоять неподвижно, слишком потрясенная, чтобы собраться с силами и ясно понять, что ей теперь делать. Какой ужас! Позор! Стыд! Теперь она, конечно, погибла. Но нельзя привлекать к себе внимания… и она пошла медленно, очень медленно… ее шатало от вихря беспорядочно сталкивающихся мыслей. И вот, дрожащая и бледная, она снова вернулась домой и незаметно проскользнула в свою комнату. Она слишком измучилась, чтобы плакать, и только думала — то мрачно, даже яростно, то беспомощно и бессильно — обо всем, что произошло. Отец! Мачеха! Если… если они узнают. Но нет — что-то должно случиться прежде, чем случится это. Она должна уйти. Или нет… может быть, утопиться… как-то исчезнуть… или… На чердаке, куда она ребенком часто забегала поиграть, висела старая веревка, на которую иногда вешали белье. А что, если… теперь, когда рухнули все ее надежды… может быть… она когда-то читала, что одна женщина покончила с собой вот так же… И едва ли кто-нибудь заглянет сюда, прежде чем… чем… Но способна ли она на это? Может ли она это сделать? А зарождающаяся в ней жизнь, которая так ее пугает? Имеет ли она право оборвать эту жизнь? И свою? Имеет ли право разрушить то, что даровано ей самой жизнью? И ведь ей так хочется жить! Притом обязан же Эдуард сделать для нее что-нибудь, помочь ей, помочь ее… ее… Нет, она не может… она даже не станет больше думать об этом… и потом, умереть так — значит только дать ему полную свободу для новых легких и радостных побед. Нет, ни за что! Она убьет сначала его, потом себя. Или изобличит его перед всеми… а значит, и себя… и тогда… тогда… Да, но отец! Мачеха! Позор! И вот… В лавке, в ящике письменного стола, лежал револьвер — большой, неуклюжий, отец говорил, что из него можно выстрелить восемь раз подряд. Он был такой тяжелый, тусклый, холодный. Она видела его, трогала, даже как-то взяла его в руки, но с таким страхом… Он всегда наводил на мысль о смерти, о гневе, только не о жизни. Но теперь — если… если она решится наказать Эдуарда и себя… или себя одну. Нет, это не выход. Так где же выход? Где? Она все думала и думала, в каком-то мучительном исступлении, пока отец, заметив ее необычное состояние, не осведомился, что с нею происходит в последнее время. Не поссорилась ли она с Хауптвангером? Что-то его давно не видно. Или, может быть, она больна? У нее совсем пропал аппетит. Она почти ничего не ест. Услышав в ответ на оба вопроса торопливое «нет», он не вполне удовлетворился этим, однако решил больше не расспрашивать. Тут, конечно, что-то кроется, но несомненно это скоро разъяснится. Раз отец уже почуял неладное, значит нужно действовать… решать. И вот из мыслей о самоубийстве, о револьвере возникло решение: она попробует пригрозить Хауптвангеру. Она только напугает его. Может быть, даже прицелится в него — и посмотрит, что он станет делать. Конечно, она не сможет убить его — она знала это. Но если… если прицелиться… нет, нет, не в него… и… и… вспышка огня, дымок, смертоносная пуля ему в сердце… потом, конечно, себе. Нет, нет! Ведь потом… что потом? Куда? Сколько раз за эти два дня она подходила к ящику, смотрела на револьвер, наконец подняла его — просто так, не думая. Он был такой тяжелый, холодный, тусклый. Самый вес его и назначение приводили ее в ужас; однако после многих тщетных попыток ей удалось, наконец, надежно спрятать его на груди. Это было ужасно — холод у сердца, где прошлым летом так часто покоилась голова Эдуарда. И вот однажды, когда у нее уже не хватало сил выносить мучительное напряжение, отец спросил: — Что с тобой? Ты, кажется, вовсе не соображаешь, что делаешь. Может быть, у тебя разладилось с твоим кавалером? Что-то он больше не бывает у нас. Пора уже тебе выйти за него замуж, либо совсем перестать с ним встречаться. Я не допущу никаких глупостей между вами. И эти слова заставили ее принять то решение, которого она больше всего страшилась. Теперь… теперь… нужно действовать. Сегодня же она должна по крайней мере увидеться с ним и сказать, что пойдет к его отцу и откроет ему все… и что если Эдуард не женится на ней, она убьет и его и себя. Может быть, она покажет ему револьвер… пригрозит ему… если сможет… но, кроме угроз, в последний раз попробует подействовать на него мольбами. Если только… если только он выслушает ее на этот раз, не обозлится… может быть, он испугается и поможет ей, а не накинется на нее с бранью, не прогонит. Это произойдет возле угольного склада его отца, в конце переулка, ведущего к реке, или около его дома. Сначала она пойдет к конторе склада. Он наверняка выйдет оттуда в половине шестого и в шесть будет около дома. В семь или в половине восьмого он опять уйдет, скорее всего на свидание… на свидание… с кем? Но лучше… лучше пойти сначала к конторе. Оттуда он должен выйти один. Так будет скорее. Хауптвангер вышел в этот вечер из конторы с видом и настроением человека, очень довольного собой и всем светом. Был ветреный ноябрьский вечер; дуговые фонари сверкали в отдалении; доносились далекие гудки автомобилей, шум далекой жизни; ветер гнал по земле сухие листья. И вдруг из-за сложенных кирпичей, мимо которых он обычно проходил, появилась женская фигура в знакомой накидке. — Одну минуту, Эд, мне надо поговорить с тобой. — Опять ты! Какого черта! Я же сказал тебе: у меня нет времени, и я вовсе не желаю с тобой разговаривать. — Слушай, Эд, перестань. Я в отчаянии. Я в отчаянии, Эд, слышишь? Неужели ты не понимаешь? — голос ее прерывался, звучал пронзительно и вместе с тем скорбно. — Я пришла сказать, что теперь ты должен жениться на мне. Ты должен — слышишь? Она нащупала на груди тяжелый, громоздкий револьвер — теперь уже не такой холодный. Рукоятка торчала кверху. Теперь надо вытащить его… показать Эду… или держать под накидкой наготове, чтобы, когда понадобится, можно было сразу вынуть… и заставить его понять, что если он ничего для нее не сделает… Но рука у нее так дрожала, что она едва могла держать револьвер. Он был такой тяжелый, такой страшный. Почти не слыша собственного голоса, она продолжала: — А то я пойду к твоему отцу и к своему. Даже не знаю, что мой отец со мной сделает, это будет ужасно, но тебе будет еще хуже. И твой отец тоже не спустит, когда узнает. Но все равно… — Она хотела прибавить: «Ты должен жениться на мне и поскорей, или… или… я убью тебя и себя, вот и все», — и потом достать револьвер и угрожающе помахать им перед лицом Эдуарда. Но она не успела. Ничего не подозревавший Эдуард в бешенстве накинулся на нее! — Вот нахальство! Брось это, слышишь? Ты что о себе воображаешь? Что я говорил тебе? Ступай к моему отцу, если тебе так хочется. И к своему. Не испугаешь! Думаешь, что они поверят такой… как ты? Никогда у меня с тобой ничего не было, вот и все! — И он с силой толкнул ее, рассчитывая, что она испугается и уйдет. И тут, наперекор ее желанию не причинять ему зла, внезапная вспышка ярости и боли ослепила ее огненным вихрем искр, перед глазами пошли круги — стремительные, багровые и странно красивые… И окаймленное ими лицо Хауптвангера, ее возлюбленного… но не такое, как сейчас, нет, нет… окруженное странным сиянием… таким она видела его весной, под деревьями Кинг-Лейк парка… Она повернулась и в исступлении кинулась к нему: — Ты женишься на мне, Эд! Женишься! Вот, видишь? Ты женишься! И вот, к величайшему удивлению обоих, так неожиданно, что они даже не очень испугались, револьвер с громким шумом изрыгнул пламя и едва не вырвался из ее руки… и прежде, чем она успела отвести его, раздался еще выстрел, еще раз вспыхнул огонь в полумраке. Мгновение Хауптвангер, безмерно изумленный, не мог вымолвить ни слова, потом вскрикнул: — Господи! Что это ты… — И, ощутив острую боль, поднял руку к груди. — О, черт! Застрелила… — и упал ничком у ее ног… Багровые искры все еще кружились у нее в мозгу, перед глазами: «Вот теперь… теперь… я должна убить себя тоже. Должна. Должна. Убежать куда-нибудь… и выстрелить в себя…» — но она была не в силах поднять револьвер… а кто-то уже приближается… голос… шаги… кто-то бежит сюда… она тоже хотела бежать — под деревья, в ворота, за угол, куда-нибудь, где она сможет выстрелить в себя. Но кто-то кричит: «Держи ее! Убийство!» И еще, откуда-то с другой стороны: «Стой! Убийство! Держи ее!» И быстрые, тяжелые шаги за спиной. Кто-то схватил ее за руку, все еще бессознательно сжимавшую револьвер. Чья-то рука разжала ей пальцы! «Отдай револьвер!» И какой-то крепкий парень — она его никогда прежде не видела, но он чем-то походил на Эдди — взял ее за плечи и повернул к себе. — Послушай, ты! Какого черта! Иди-ка, иди. Хочешь удрать? Не выйдет. И все же глаза его смотрели беззлобно, и сильные руки держали ее не слишком грубо. — Пустите меня! Пустите! — закричала она. — Я тоже хочу умереть, слышите? Пустите! — и зарыдала без слез, содрогаясь всем телом. И сразу же ее окружила толпа — откуда-то набежали мужчины и женщины, мальчишки, девчонки и, наконец, полиция, и каждый полицейский твердо знал, что ему надлежит получить возможно больше сведений о происшествии, проследить, чтобы раненый был немедленно доставлен в больницу, а девушка — в ближайший полицейский участок, и записать имена и адреса нескольких свидетелей. А несчастная, обессилевшая Ида сидела в оцепенении на крыльце какого-то дома, во дворе, окруженная теснящейся толпой, и в ушах у нее отдавались голоса: — Где? Что? Как? — Да, да! Только сейчас, на этом самом месте. — Понятно, вызывают скорую помощь. — По-моему, ему крышка. Две пули в грудь. Не выжить ему. — Гляди, он весь в крови! — Ясно, это она. Из револьвера — из огромного! Полисмен забрал его. Она хотела удрать. Но Джимми Аллен поймал ее. Он как раз подходил к дому. — Да-а. Это дочка старика Зобела, у него москательная лавка, недалеко, на Уоррен-авеню. Я ее знаю. А он сын Хауптвангера, это вот его угольный склад. Я у него работал. Он живет на Грей-стрит. А тем временем молодой Хауптвангер в бессознательном состоянии был доставлен прямо на операционный стол в ближайшую больницу и там признан безнадежным, — ему оставалось жить двадцать четыре часа, не больше. Узнав о случившемся, его отец и мать кинулись туда. А измученную Иду доставили в полицейский участок на Хендерсен-авеню — там, в задней комнате, ее тесно обступили полицейские и сыщики и стали засыпать вопросами: — Так, говорите, вы с этим парнем познакомились примерно год назад? Это верно? Скоро после того, как он сюда переехал, так, что ли? — И безутешная Ида, почти теряя сознание, только кивала в ответ. А за стеной — толпа, жадная до сенсаций, охваченная нездоровым любопытством. Красивая девушка! Молодой человек при смерти! Преступление на любовной почве! А между тем Зобел и его жена, которых известил о происшедшем дюжий полицейский, бледные, до смерти перепуганные, побежали в участок. Господи! Господи! Они ворвались туда, едва переводя дыхание. У Зобела выступили на лбу капли пота и даже ладони стали влажными; горе, горе жестоко терзало его. Как! Его Ида кого-то застрелила! Молодого Хауптвангера! Да еще на улице, возле конторы. Убийство! Великий боже! Значит, между ними что-то было. Да, да. Как же он не заметил? Она была такая бледная в последнее время, казалась такой угнетенной, несчастной. Этот мальчишка соблазнил ее, вот что. Проклятие! Соблазнил! Обманул! Негодяй! А ведь он внушал ей, как надо себя вести! Он и жена так о ней заботились! Что скажут соседи? Что будет с торговлей? А полиция, суд! Может быть, приговор, смертный приговор! Боже правый! Его родная дочь! А тот мерзавец, такой вылощенный, франтоватый… Зачем, зачем он позволил ей встречаться с ним! Ведь он должен был предвидеть… его дочь так неопытна… — Где она? Боже мой! Боже мой! Какой ужас! И вот он увидел ее — такую жалкую, без кровинки в лице; когда он заговорил с ней, она взглянула на него пустым взглядом и беззвучно сказала: — Да, я застрелила его. Да. Да. Он не хотел жениться на мне. Он должен был, но не захотел — и вот… — и тут она вдруг в безысходной тоске стиснула руки и разрыдалась: — Эд! Эд! — Боже мой! — воскликнул Зобел. — Ида! Ида! Побойся бога, этого не может быть. Почему ты не рассказала мне обо всем? Почему ты не пришла ко мне? Ведь я твой отец! Я бы все понял. Да, конечно! Я бы пошел к его отцу… к нему… А теперь… теперь… — Он в отчаянии ломал руки. Однако сильнее всего старика терзала мысль о том, что теперь эта история станет известна всему свету и все его труды пойдут прахом. И он принялся многословно рассказывать дежурному лейтенанту, сыщикам и полицейским все, что знал. А единственная мысль, всплывшая в сознании несчастной Иды, едва она пришла в себя, была: неужели это ее отец? О чем это он говорил — о помощи? О том, что она должна была прийти к нему… а ведь она никогда, никогда не думала, что он может быть таким. Но потом снова мысль об Эдуарде. Та ужасная минута. Ужасное несчастье. Она не хотела этого, в самом деле не хотела. Нет, нет! Но неужели правда, что он умер? Неужели она убила его? Как он оттолкнул ее — почти ударил, что он говорил… И все же, о господи! господи! Она заплакала горькими, безмолвными слезами, и отец и мачеха склонились над нею, впервые с искренним сочувствием. Какая сложная жизнь, какая страшная! Никому нет покоя на земле, никому. Всюду безумие и скорбь. Но они не покинут ее в беде, нет, нет. А потом — репортеры. Шумиха, раздуваемая газетами; журналисты и журналистки, всякие бойкие писаки, фотографы. Кричащие заголовки! «Семнадцатилетняя красавица застрелила своего любовника двадцати одного года. Дважды выстрелила в молодого человека, которого она обвиняет в нарушении данного слова. Она скоро должна стать матерью. Молодой человек при смерти. Девушка признает себя виновной. Просит оставить ее наедине с ее горем. Родители обоих в отчаянии». И затем, день за днем, все новые сенсации, потому что на второй день в три часа Хауптвангер действительно скончался, признавшись перед смертью, что обманул Иду. А еще через день следователь вынес решение о задержании девушки впредь до разбора дела судом присяжных, без права освобождения на поруки. Но она очень красива, и все это так трогательно; и вот в редакции газет посыпались письма: священники, люди с видным положением в обществе, политические деятели и просто читатели требовали, чтобы с этой девушкой, готовящейся стать матерью и виновной лишь в том, что она слишком сильно, хотя и безрассудно, любила, не обошлись сурово, простили бы ее, выпустили на поруки. Было ясно, что ни один состав присяжных не осудит ее. В Америке это не пройдет. Худо придется тем, кто попытается наказать уже и без того исстрадавшуюся девушку. Несомненно, долг всякого судьи — выпустить это бедное, обманутое создание на поруки, пусть она спокойно, в мире и тишине живет в каком-нибудь частном доме или в благотворительном заведении, пока не родится ребенок; кстати, одна весьма богатая светская дама, глубоко взволнованная этой трагедией, не только выказала сочувствие невинной жертве любви и дочернего долга, но предложила внести за нее залог в любом размере и приютить у себя в доме, где Ида спокойно сможет дождаться рождения ребенка, а затем и судебного разбирательства, которое решит ее дальнейшую судьбу. И вот удивленная и смущенная девушка была передана на попечение этой внешне строгой, а в душе очень отзывчивой женщины, которая с первых дней заключения Иды в окружной тюрьме пыталась снискать ее доверие и симпатию; она была немолода и некрасива, но обладала приятным голосом и мягкими манерами; она постоянно твердила, что понимает Иду, что она и сама страдала, что ее сердце тоже было разбито и что Иде ни о чем больше не надо тревожиться. И в конце концов Иду — арестантку, выпущенную на поруки и обязанную вернуться по первому требованию, — перевезли в некогда загородный, а теперь оказавшийся в черте города дом в самом фешенебельном районе, с большим садом и великолепными комнатами. Несмотря на все свое отчаяние, она удивилась и растерялась от неожиданности: для нее было приготовлено все, что ей могло понадобиться; в ее распоряжении была горничная; еду ей подавали в комнату, стоило ей только пожелать; к ее услугам была тишина или развлечения, как ей угодно. Родителям разрешалось навещать ее, когда она захочет… Но ей было так тяжело в их присутствии. Правда, они теперь были неизменно добры и ласковы с нею. Говорили о новой жизни, которая начнется после того, как минет великое испытание — рождение ребенка (об этом упоминалось лишь обиняками) и потом суд. У них будет новая лавка в другом районе, и уже объявлено о продаже старой. И тогда… ну, что ж, она будет жить спокойно, а может быть, и счастливо. Но разве она не видела по глазам отца, даже когда он утешал ее, каким тяжким грузом легли на его плечи новые заботы. Она согрешила! Она убила человека! Она разрушила и его семью, разбила сердце его родителей; она отняла душевное спокойствие у своего отца, лишила его доброго имени и благосостояния. Думает ли он об этом, несмотря на сострадание к ней? Как почувствовать это за сдержанным поведением отца и мачехи? Она много времени проводила в одиночестве, как того, по-видимому, требовали ее настроение и здоровье, ничто не мешало ей подолгу размышлять над своей судьбой, над необъяснимой цепью событий, вызванных ее естественным желанием любить и быть любимой. Поразительно, какая разница в отношении к ней родителей сейчас и прежде, до этого страшного несчастья! Теперь они так внимательны, так сочувствуют ей, даже обещают лучшее будущее для нее и ее ребенка, а ведь прежде — так по крайней мере ей казалось — как все было безнадежно и страшно. А странный, совершенно непостижимый поступок этой чужой женщины — она так добра и великодушна к Иде, несмотря на ее грех и позор… И все же, могла ли она обрести мир и спокойствие здесь или в любом другом месте? Какие жестокие муки перенесла она еще до того страшного несчастья! А потом — крик ее Эдуарда! И его смерть! А ведь она так любила его! Любила? Любит и сейчас. И вот его злобное упрямство, грубость, жестокость отняли его у нее. Но все же, все же… теперь, когда его не стало… говорят, умирая, он сказал, что сначала «зверски влюбился в нее», «она прямо свела его с ума», но потом, из-за своих и ее родителей, он решил, что не женится… Услышав об этом, она невольно смягчилась. Правда, он был жесток. Но ведь он умер. И умер от ее руки! Она застрелила его, злодейски убила. Да, это она убила его. О боже! Ведь она помнит ту страшную минуту, помнит, как кто-то крикнул, что вся рубашка Эдуарда залита кровью. Боже мой! И когда она подскочила к нему, там, в сумерках, в сердце ее была ярость, да, ярость и даже ненависть. Да, да. Но как он крикнул: «О черт! Застрелила…» И потому, даже в тишине этих богато обставленных комнат, где все было к ее услугам, в часы, когда никто не мог этого видеть и слышать, неудержимо лились горькие слезы, грудь разрывалась от рыданий, и мысли, мысли — черные, леденящие… да, у нее не хватило разума, не хватило мужества и воли покончить с собой в тот ужасный вечер, когда она так легко могла это сделать. А теперь с нее взяли слово, что она не будет покушаться на свою жизнь. Но будущее! Будущее! И чего только она не пережила с того ужасного часа. Отец и мать Эдуарда на следствии… как они смотрели на нее! Сам Хауптвангер — энергичный немец с широким лицом, отмеченным печатью глубокого страдания. И миссис Хауптвангер — маленькая, вся в черном, глубоко запавшие глаза обведены темными кругами. Она все время беззвучно плакала. Оба показали под присягой, что ничего не знали о поведении сына и о его увлечении Идой. Он был очень упрямый, своенравный, он рано возмужал, очень трудно было уследить за ним. Но все-таки он не был испорченным — упрямый, да, но такой веселый, и работал усердно… их единственный сын. В одном углу обширного сада находился фонтан, теперь, зимой, вода была спущена, со всех сторон его окружали пирамидальные тополя, уже совсем обнаженные. На постаменте — на бронзовой скале, омываемой бронзовыми рейнскими волнами, — стояла рейнская дева, белокурая немецкая Лорелея, погруженная в грезы о юности, о любви. А у ног ее на коленях — немецкий рыцарь, светловолосый, сильный, в богатой одежде; лицо его и страстный, настойчивый взгляд обращены к красавице, руки протянуты к ней. А она склонила к нему любящий, покорный взор, и рука ее покоится на его бронзовых волосах. О Эдуард! О любовь! Весна! Нет, ей нельзя больше сюда приходить И все же с начала декабря, когда утих первый жестокий порыв грозного урагана и жизнь представлялась ей уже не в столь мрачном свете, Ида каждый вечер стала ходить к фонтану. И иногда, даже в январе, молодой месяц высоко в небе напоминал ей Кинг-Лейк парк. Лодочки, скользящие во всех направлениях! В одной она с Эдуардом… Она откинулась назад и грезила… совсем, как эта дева на скале. И он… он у ее ног. Да, конечно, он оскорблял ее, он говорил такие бессердечные, жестокие слова, что в конце концов довел ее до безумия. Но когда-то он любил ее, вот как этот рыцарь любит свою Лорелею. И только здесь, у этого фонтана, находила она утешение. Такие мысли и настроения владели ею и до и после рождения ребенка. А затем — суд и предрешенный оправдательный приговор, встреченный шумным одобрением публики: ведь это была настоящая любовная драма. Потом Ида окончательно покинула нарядные комнаты, где ее окружали такой заботой и вниманием. В конце концов с точки зрения закона все было улажено, ну, а что у нее на душе… И так как отец Иды не был бедняком и не нуждался в благотворительности, она вернулась в семью, в новый мир, который уже ждал ее — в новый дом и новую лавку в другом конце города. Она радовалась, что у нее родился мальчик. Подрастет — сам сможет позаботиться о себе. Он не будет нуждаться в ней. Неподалеку от новой москательной лавки был другой оживленный перекресток, другой кинематограф. И парни и девушки здесь, как и всюду, стоят на углах, гуляют под руку, а она опять, как бывало, сидит дома, стряпает, шьет, убирает. И тут же миссис Зобел, такая же строгая и недоверчивая, как прежде. И верно, разве в конечном счете Ида не искалечила свою жизнь, а чего ради? И что дальше? Быть вечно обузой в отцовском доме? Да, обузой, хотя Зобел, несмотря на всю свою суровость, видимо, привязался к ребенку. До чего жалка, до чего ничтожна жизнь! А там, далеко — Кинг-Лейк парк и памятные сердцу места. Ее мысли постоянно возвращались туда. Она была так счастлива прошлым летом! И вот опять лето. Их будет еще много и, может быть, когда-нибудь… когда маленький Эрик подрастет… у нее будет другой возлюбленный, которого она не оттолкнет… но, нет, нет, только не это. Ни за что! Она не хочет… не может… она бы не вынесла… И вот однажды, в субботу, она сказала, что ей надо съездить в центр купить кое-что для Эрика, а на самом деле отправилась в Кинг-Лейк парк. Все там было по-старому — маленькие лодочки, знакомые тропинки… укромный уголок под сводом ветвей. Она так хорошо знала это место. Здесь она тогда потребовала, чтобы он привел лодку к берегу, и ушла домой одна, — в таком была смятении. А вот теперь сама пришла сюда. Мир этого не понимает. Он занят другим, ему недосуг. И вот уже сумерки, ей давно пора бы вернуться. Сын… он будет звать ее! Легкий ветерок, тускнеющая багряная полоска на западе. И звезды! Час обеда, и парк почти опустел. Вода в озере такая спокойная, агатово-черная. (Мир, мир ни за что не поймет!) Где теперь Эдуард? Встретятся ли они? Обрадуется ли он ей? Простит ли, когда она расскажет ему обо всем? Найдет ли она его? (Этот мир — крикливый, равнодушный, трезвый мир, — как мало он знает!) И тогда, в тишине, среди вечерних теней, девушка подошла к тому месту, где врезалась в берег их лодка всего лишь год назад. Она спокойно ступила в воду, вошла в нее по колено… потом по пояс… по грудь… потом мягкая, ласкающая влага поднялась до ее губ, еще выше… и, наконец, обдуманно, решительно, без единого крика или вздоха она скрылась под водой. Мир не может этого понять. Слишком стремительно течение жизни. Столько прекрасного, столько ужасающего проносится мимо… мимо… непонятным, незамеченным в полноводном потоке. И, однако, ее тело было найдено, ее история вновь рассказана в огромных, кричащих заголовках («Ида Зобел, юная убийца Хауптвангера, покончила с собой»). А потом… потом… забыта.Цепи
С последнего делового совещания в городе К., где многоэтажные здания и вечно спешащие толпы прекрасно иллюстрировали силу, мощь и богатство Америки и вообще современной цивилизации, Гаррисон отправился на вокзал, чтобы ехать домой в Д., и с необычайным волнением и надеждой, даже с радостью, странной, горькой радостью, стал снова думать об Иделле. Где она сейчас? Что она делает в эту минуту? Был серый ноябрьский день, около четырех часов пополудни; он хорошо знал, что в этот час всегда, зимой и летом, Иделла любит блистать на дневных приемах или в ресторанах, где танцуют. Она неизменно бывает там в компании бойких франтов, представителей местной «золотой молодежи». Надо отдать справедливость Иделле, — даже после трех лет замужества в ней есть что-то такое, что привлекает этих молодых людей — и лучших и худших из них (больше, пожалуй, худших); вся эта публика как раз и задает тон в его родном городе, в широко раскинувшемся Д., где жизнь бьет ключом. Какая женщина! Какая судьба! И угораздило же его увлечься ею, ведь ему было уже сорок восемь, он занимал несравненно более высокое положение, чем она, у него был свой круг солидных друзей и установившиеся солидные привычки. Иделла совсем иная — прямо сорви-голова, она бывает груба, даже вульгарна (это она унаследовала, конечно, от отца, дубильщика кожи, француза родом, а не от матери-польки, женщины тихой искромной). И все же как хороша! Какие у нее чудесные золотисто-каштановые волосы, какие глаза — темно-карие, такие темные, что почти не различишь зрачка. Стройная, крепкая и с каким вкусом одевается! Что и говорить, она — совершенство, по крайней мере на его взгляд, или это только вначале так казалось?Какой шумный и пыльный этот К., какая здесь всегда сутолока! Вот уж типичный город Среднего Запада. Шофер гонит, как сумасшедший, не сбавляя скорости даже на поворотах!А сколько он пережил за эти три года, с тех пор как женился на ней! Как мучился, как страдал! Если бы только можно было повлиять на Иделлу, чтобы она стала ему настоящей женой! Но что же это непостижимое и губительное, что зовется красотой? Какое чудо, особенно для такого человека, как он — ведь многое в жизни приелось ему, — обладать этим совершенным созданием, на зависть всем, наперекор неумолимому бегу времени.
Наконец-то вокзал!Она не стоит его любви. Да, это большое несчастье, что он полюбил ее, но как быть? Как побороть это чувство? Как наказать ее за все то зло, что она ему причинила, не наказав тем самым себя, и еще больнее? Непостижимая вещь любовь! Как часто отдаешь ее тому, кто в ней вовсе не нуждается. Уж он-то хорошо это знает! Он сам тому наглядный пример. Он значит для нее не более, чем фонарь на углу или пара старых, стоптанных туфель, а все-таки… ведь вот он никогда не устает любоваться ею, думать о ней, — что она делает, чего хочет, что скрывает. Она вела и сейчас ведет себя не так, как должно; пожалуй, она просто и не может иначе… и все же…
Надо дать ей телеграмму до отхода поезда!А какая это радость — появляться под руку с нею в ресторане или в гостиной и всегда и везде быть уверенным, что ни у кого нет такой прелестной жены, ни у кого. Да, конечно, она всего лишь дочь рабочего, выросла в бедности, и все-таки она куда более элегантна, соблазнительна, нарядна, чем все другие женщины того круга, куда он ее ввел. Какие у нее глаза и волосы, какая прелестная фигура! И с каким вкусом одевается! Конечно, она несколько молода для него. Когда они рядом, это сразу бросается в глаза: он солидный, сдержанный, многие говорят, что у него почти военная выправка, — а она совсем юная, очаровательная, и молодежь вечно увивается вокруг нее. Но как бы он ни гордился ею, одна мысль постоянно терзала его: она не принадлежит ему всецело и никогда не принадлежала. Ее слишком занимают посторонние мужчины, да и всегда так было. Уж это ее прошлое! Вся ее юность была цепью легкомысленных, даже дурных, да, да, дурных поступков. Надо признать, что она всегда была скверной девчонкой — распущенной, себялюбивой, необузданной, бессовестной. Такой и осталась. И все-таки он женился на ней, несмотря ни на что, а ведь он знал, какая она. Впрочем, сначала он знал далеко еще не все.
— Да, все три места. Подождите, я сейчас достану плацкарту.Неудивительно, что люди сплетничают. Он все это слышал: что она вышла за него ради денег и положения в обществе, что он слишком стар для нее, что она позорит его имя, и прочее, и прочее. Что ж, может быть, это и верно. Но ведь он был влюблен в нее, без памяти влюблен, и она в него тоже — по крайней мере так казалось вначале. Да, наверно, была влюблена, — ведь она так льнула к нему, так восхищалась им, хоть и недолго. Первые недели вдвоем — какое это было счастье! Вначале она охотно и успешно играла роль хозяйки дома на Сикард авеню. Это было так восхитительно, обещало так много! Да, несомненно, первое время он был ей хоть немного дорог. И притом только человек его возраста мог вполне понять ее — ее настроения, порывы, мечты. А он — что ж, он и сейчас без ума от нее, как тогда, даже больше. Разве не так? Разве его влечет к ней меньше, чем в первое время? Конечно, нет. Да, такое ослепление, такая любовь ужасна, ее невозможно побороть.
— Вагон третий, купе седьмое!Ему не забыть тот вечер, когда он увидел ее впервые: ее внесли на носилках в приемный покой, он оказался там потому, что зашел навестить своего старого друга, доктора Дорси. Висок у нее был рассечен, рука сломана, внутренние повреждения настолько серьезны (разрыв диафрагмы), что ее надо было оперировать немедленно. И с первого взгляда она поразила его. Волосы ее рассыпались по плечам, руки бессильно повисли. Боже, эти руки! Он был потрясен! Он спрашивал себя, кто она, как с ней произошло такое страшное несчастье. Она показалась ему необыкновенно красивой. Подумать только, что такая красота могла быть изувечена! Но, слава богу, этого не случилось.
Телеграмму доставят не позже, чем через час. Она застанет Иделлу как раз вовремя.Тогда же в больнице он решил непременно познакомиться с нею, если она останется жива. Как знать, может быть, и он понравится ей, как она сразу понравилась ему. А вдруг нет? Эта мысль тогда просто истерзала его. Подумать только — он полюбил ее с первого взгляда, а сколько страданий она причинила ему с тех пор, как он полюбил ее, хотя она тогда была искалечена, изранена, на волосок от смерти… Поразительно!
Как душно всегда в поезде; особенно в первую минуту, как войдешь, — дым, гарь!А потом — операция; как это было страшно! В пустой операционной в ту ночь, кроме него, были только врач и три сестры. Дорси был так суров, так мрачен, но действовал, как всегда, решительно. Дорси по его просьбе разрешил ему присутствовать при операции; несчастье случилось за полночь, на окраине, и в больнице не оказалось никого из близких, кто мог бы опознать девушку, позаботиться о ней и воспротивиться присутствию постороннего.
— Да, чемоданы поставьте здесь!Он натянул на себя белый халат и стерильные нитяные перчатки и прошел на галерею, откуда можно было видеть, как Дорси, окруженный помощницами, оперировал пострадавшую. Он видел, как хирург сделал разрез, видел кровь, слышал, как она стонала под наркозом. И все время спрашивал себя — кто же она? Что с ней случилось? А как он жалел ее! Как боялся, что она не выживет! Ее красивое, лукавое лицо неотступно стояло у него перед глазами, хотя в тот час бинты и эфирная маска совершенно скрывали ее черты.
Вон поезд на другом пути, — как сверкают его стекла! Столы в вагоне-ресторане уже накрыты и лампы зажжены!И снова завладела им безрассудная мечта о любви и счастье, которая так мучила его в последнее время. С самого начала, почти не сознавая этого, он был словно околдован и даже мысли не допускал, что она может умереть. А потом, когда ее сломанную руку положили в гипс и раны зашили, он попросил поместить ее в отдельную палату, взяв на себя все расходы (что наверняка немало удивило Дорси), а сам отправился в клуб, где провел бессонную ночь. И наутро он уже стоял у ее изголовья: «Мы с вами не знакомы, меня зовут Гаррисон — Брейнерд Гаррисон. Нашу семью здесь, в Д., знают, может быть и вы слыхали эту фамилию. Я видел, как вас привезли ночью. Я хотел бы быть вам полезен — известить ваших близких, может быть, я еще что-нибудь могу для вас сделать. Вы разрешите?» Как хорошо он все это помнит, — ведь он заранее обдумал, что скажет, и был просто счастлив, когда она благосклонно приняла его услуги. При этом она чуть насмешливо улыбнулась ему, скользнув по его лицу странным уклончивым взглядом.
Это, конечно, рабочий постукивает молотком по колесам, проверяя, нет ли где трещины, не то на полном ходу может произойти крушение и погибнут сотни людей.Потом она дала ему свой адрес, вернее, адрес своей матери, за которой он сейчас же и поехал. И как он обрадовался, узнав, что у нее есть только мать, ни мужа, ни… Он посылал ей цветы, фрукты, дарил все, что, казалось ему, могло ей понравиться. А потом между ними завязалась своеобразная дружба. Так быстро сбылась его мечта о счастье. Иделла разрешила ему приходить ежедневно, разумеется ничего не рассказывала о себе, уклонялась от всяких откровенных разговоров, предоставляя ему думать о ней все что угодно, однако терпела его присутствие. Да, несомненно, она с самого начала честно вела игру, но ему так хотелось верить, что у них впереди — счастье, долгие годы ничем не омраченного блаженства! Каким же он был влюбленным дураком!
Что за отвратительная толстуха лезет в вагон, сколько у нее чемоданов! Неужели этот поезд никогда не тронется?К тому времени — как четко это врезалось ему в память! — он узнал, что она вдова и живет со своей маленькой дочкой у матери. Но на самом деле все это было только ложью, обманом. Она уже и тогда дерзко насмехалась над всеми условностями и приличиями, она была настоящей прожигательницей жизни, но он еще не знал этого. Он воображал, что произвел впечатление на наивную, неискушенную молодую женщину, уж во всяком случае не знакомую с низменными сторонами жизни, а на самом деле он был для нее только очередным приключением, счастливой случайностью, которая помогла ей выйти из затруднительного положения. Он тогда не знал, что в ту пору два соперника враждовали из-за нее и один из них пытался убить ее, подстроив автомобильную катастрофу. После этого ей больше всего хотелось пожить спокойно, хоть на время убежать от собственных мыслей и от обоих своих чересчур пылких поклонников. Но, кроме этих двоих, и до них были еще и другие, целая вереница достаточно отвратительных субъектов, — а, впрочем, так ли уж они отвратительны? — с которыми она… А он-то вообразил, что он для нее все или может стать всем. Это он-то! Но все это было бы неважно, если бы только она любила его! Не все ли ему равно, кто она, и что она такое, и каково ее прошлое, лишь бы только она была привязана к нему, как он к ней, или хоть вполовину так, или хоть совсем немного! Но Иделла в сущности никого и никогда не любила, уж во всяком случае не его. Никогда она не думала о нем одном и только о нем. Она слишком неугомонная, слишком непостоянная. Ведь даже те первые полгода, когда они познакомились и поженились, она только терпела его, не более. Да, она никого не любила, и зачем ей это? Слишком многим она нравится, слишком многие добиваются ее внимания…
Наконец-то поехали!Слишком много мужчин, людей состоятельных, быть может, даже богаче его, с положением в обществе, соперничали из-за нее между собой, а сейчас соперничают с ним; они и моложе, и много умнее, и привлекательнее его во всех отношениях, ведь ей нравятся люди бойкие, остроумные, — он же не такой и никогда таким не будет. Иделла, если угодно, родилась под счастливой звездой, у нее особый дар покорять и очаровывать. И как бы много горя ни причинила она ему или кому-либо другому, как бы сильно он ни жаждал отомстить ей, если только он когда-нибудь решится на это, судьба до поры до времени будет к ней благосклонна, — ведь она так хороша, так привлекательна. К чему отрицать это? Она слишком красива, слишком умна, к тому же слишком непостоянна, равнодушна и независима, никто не может пройти мимо такой женщины, а тем более эти беспечные, жадные до удовольствий молодые люди, которые всегда окружают ее. И она не позволяет ему вмешиваться в ее жизнь (ведь она согласилась выйти за него замуж только при условии, что он ничем не будет стеснять ее свободу), она живет, как ей заблагорассудится, делает, что хочет, бывает, где хочет. Так всегда было, так продолжается и поныне.
Голые дворы, кучи жалких, прокопченных домишек — очевидно, и внутри они такие же грязные, и люди в них живут, наверно, такие же унылые и жалкие… Куда лучше быть богатым, вот как они с Иделлой. Только она слишком мало ценит свое богатство и положение.Всегда, везде, где бы он ни был (дела часто отрывали его от Иделлы), он постоянно думал о ней — что она делает, где она сейчас, с кем… Мучительная мысль — где она, с кем: быть может, с этим бездельником Кином, обладателем миллионов, охотничьего заповедника и яхты, или с ней сейчас Браун — этот тоже молод и все еще маячит на горизонте, хотя она и бросила его, чтобы выйти замуж за него, Гаррисона; или Каулстон, с которым она сошлась в Питсбурге пять лет назад, когда ей было всего восемнадцать. Восемнадцать лет — счастливый возраст! И вот сейчас этот самый Каулстон здесь, в Д., а ведь прошло пять лет, и один раз Иделла его уже бросила. Да, он опять увивается вокруг нее, хочет, чтобы она вернулась к нему, стала его женой, а ведь он женат и она замужем!
Стая ворон летит над далеким полем.Конечно, Иделла смеется над его подозрениями или только притворяется, что это ее смешит. Она играет роль верной жены, говорит, что все это пустые сплетни, — их не избежать, всему виной ее бурное прошлое, а ведь тогда она его еще не знала. Но как ей верить? Может быть, она и на самом деле собирается бросить его и вернуться к Каулстону, на этот раз в качестве законной жены. Как знать? Природа человеческая непостоянна и капризна, а такой богач, как Каулстон, обладает большой притягательной силой. Он бросил свое крупное предприятие в Питсбурге и явился в Д., чтобы быть ближе к ней и досаждать ему, злить (ее-то это, может быть, и не злит) своими мольбами, своим сумасбродным поклонением, а ведь теперь она замужем и как будто счастлива. Подумать только — какую странную, необычную, даже постыдную жизнь вела прежде Иделла! И все-таки она утверждает, что это была совсем неплохая жизнь. Ей мало того, что он богат, счастлив с нею, боготворит ее, еще бы — ведь он не может заменить ей сразу десяток поклонников! Но чего ради ему терзаться? Почему он не расстанется с ней? К черту! Она легкомысленная, испорченная, только притворяется, что любит его… она умеет так лгать, так играет в любовь!
Баркерсберг… тридцать тысяч жителей, а поезд не останавливается. Первый раз за весь день проглянуло солнце — вон там, за деревьями, голубой просвет в серой пелене туч.Вся беда в том, что последние двадцать лет, да и раньше (хотя тогда он был не только богат, но и молод), он жаждал, чтобы его полюбила именно такая прелестная, жизнерадостная, полная сил девушка, как Иделла или Джессика, — та, которую он любил в юности, но понял он это, только когда встретил Иделлу, свою мечту. А поэтому такие женщины всегда обезоруживали его. Давно, давно — тому уже четырнадцать лет, подумать только! — он полюбил Джессику Белоуз, дочь одного из самых богатых и светских людей в Лексингтоне, и это закончилось для него катастрофой. Он приехал к полковнику Леджбруку по делам своего отца и там-то, в его богатом имении, познакомился с Джессикой. Тогда впервые в жизни он узнал, какое это счастье — завоевать любовь молодой, красивой девушки, хоть и ненадолго. Это было чудесно!
Как глухо звучит колокол на разъезде…И все пошло прахом! Мучительно больно вспоминать об этом, но как не вспомнить? Все как будто складывалось очень хорошо — он сумел завоевать Джессику и женился на ней, — но кончилось катастрофой: она ушла от него. Джессика во многом походила на Иделлу — такая же жизнерадостная, молодая, почти такая же настойчивая, но не так хороша собой и далеко не так умна. Этого у Иделлы не отнимешь. Она куда умнее и энергичнее едва ли не всех женщин, которых он когда-либо встречал — и молодых и старых, — куда тоньше и увереннее в себе. Да, так вот Джессика. Вначале она была от него в восторге, — он казался ей человеком светским, остроумным, любящим беззаботно и весело проводить время: танцевать, болтать о пустяках, кутить, а на самом деле он был совсем другой. Эта разгульная жизнь не по нем, — ему не хватает вкуса к этому и бойкости, а женщины как раз падки на это, так всегда было да так, видно, и будет.
Вон стая голубей на крыше сарая…В сущности он всегда был мечтателем, любил пофилософствовать, поразмышлять, хотя и старался не показать этого, а те, кто имеет успех — во всяком случае успех у женщин, — как видно, всегда решительны, находчивы, напористы и беззаботны. Они и говорят и действуют не колеблясь — он никогда этого не умел, — и всегда добиваются своего, просто потому, что такие они от природы. Подражать им бесполезно, таким надо родиться. Иделла, Джессика, любая веселая и обаятельная женщина (а только такие женщины и достойны любви) сразу чувствуют это и предпочитают мужчин именно такого склада. А таких, как он, серьезных и рассудительных, они всегда сторонятся. Да, таких они всегда избегают, может быть даже и бессознательно. Их привлекают только те, кто им подстать, — блестящие, светские франты. И почему женщины всегда повинуются слепому инстинкту и не ценят искренней, преданней любви?
Это, должно быть, Филлипсберг. Сразу узнаешь его высокую водонапорную башню.Как тяжко, когда видишь все это, сознаешь и бессилен что-либо изменить, переломить себя и стать другим человеком. Джессика все-таки обманулась, приняла его не за того, кем он был. Такой, каким она его видела, он существовал только в ее воображении. Но, конечно, потому, что его неодолимо влекло к подобным женщинам, он старался казаться «настоящим мужчиной» — так она называла веселых молодых людей, любителей (хорошо это или плохо — дело вкуса) карточной игры, охоты, скачек и всего прочего, что его ни в какой мере не интересовало, но чем увлекались люди, в компании которых он постоянно бывал, да еще старался занять там не последнее место.
Сколько всегда на этих полустанках бедного люда!И увиваются эти мужчины вокруг таких женщин, как Джессика и Иделла — тоже блестящих, самоуверенных; а этим женщинам только такие мужчины и нравятся, — и потому… Что ж, и он старался не отстать от них и даже перещеголять это веселое общество, и Джессика, живая, изящная блондинка (у Иделлы волосы темнее), увлеклась им, приняв его за светского человека и любезного кавалера. Она влюбилась в него, можно сказать, с первого взгляда (по крайней мере так тогда казалось) — и подумать только, чем все это кончилось! Какое ужасное время пережили они, когда он привез ее в свой родной город. Это была пытка!
Хоть бы этот толстяк в сером перестал, наконец, глазеть на него! Может быть, он первый раз в жизни видит очки в роговой оправе? Уж эти простаки из средне-западного захолустья!И сразу же, не успели они пожениться, она поняла, что совершила ошибку. Через какую-нибудь неделю она уже была к нему глубоко равнодушна, словно и не помнила, что они женаты, что он влюблен в нее и восхищается каждым ее движением, каждым словом. Мало того, это стало даже раздражать ее. Как видно, только тогда она и почувствовала, что, в сущности, и по характеру, и по склонностям, и по взглядам он ей не пара, что он совсем не тот человек, за которого она принимала его. И тогда настало ужасное время, ужасное…
Какая хорошенькая девушка там, у ворот…Да, это были тяжкие, гнетущие, унизительные дни. Ему тогда было двадцать четыре года, а Джессике всего девятнадцать, и она, такая прелестная, все время была мрачнее тучи — должно быть оттого, что понимала, как она ошиблась. Ведь ей нужен был человек с легким характером, остроумный, предприимчивый, такой, каким он изо всех сил старался казаться в поместье Леджбрука, и вдруг она увидела, что он просто скучный тяжелодум, вялый, рассудительный. Это было ужасно!
Смеркается, и под высокими сводами деревьев уже совсем темно…В конце концов она ушла от него, просто исчезла: сказала утром, что идет за покупками, и больше он ее никогда не видел, ни разу! Пришла телеграмма из Гаррисберга: она едет к матери, и пусть он не пытается вернуть ее. И он еще не успел решить, что ему делать, как объявилась эта старая лиса Колдуэлл, известный в Д. адвокат по бракоразводным делам, несомненно подосланный матерью Джессики, и в самых осторожных, вкрадчивых выражениях стал уверять, что, как это ни прискорбно, если брак оказался несчастливым и супруги не сошлись характерами, всякие попытки примирения безрассудны, и самое лучшее в таких случаях — расстаться без лишнего шума, мистеру Гаррисону следует подумать о своем добром имени, и так далее, и тому подобное… И, наконец, он согласился оформить развод без огласки в одном из западных штатов и отпустить ее на все четыре стороны. Подумать только!
Первый звонок к обеду. Пожалуй, лучше пойти сейчас же и покончить с этим. Хорошо бы сегодня лечь пораньше…Да, Джессика… Как долго его неотступно преследовала мысль о ней. Так остро было чувство утраты, что все в городе — и самые улицы — напоминало о ней, даже через много лет, когда она была уже матерью двоих детей. Да и теперь он не может спокойно пройти мимо отеля Брандингам, где они жили первое время, мимо модной мастерской мадам Гейтли, у которой она одевалась, и мимо ворот городского парка, — вид их надрывает душу, словно какая-то полузабытая, грустная мелодия.
Как сильно качает, когда переходишь из вагона в вагон, как лязгают буфера!Годы, полные деловой суеты, отрезвили его, и он понял, что никогда ему не быть беззаботным светским кутилой и сердцеедом; он просто удачливый делец и коммерсант, любитель чтения, лошадей — словом, человек, которого охотно принимают в обществе… И тут появилась Иделла.
Такая рань, а в ресторане уже полно. И что за публика!Он уже почти примирился с тем, что личная жизнь не удалась, что он не из тех, кто покоряет женщин, когда появилась она, Иделла, и как вихрь ворвалась в его жизнь. Иделла красивее Джессики, куда умнее, проницательней. Джессика во всем уступает ей… или, может быть, с годами начинаешь больше ценить все это? Вот почему Иделла привлекает мужчин, отталкивает женщин и предоставляет ему обожать себя. Она прекрасно понимает его, несмотря на то, что он много старше ее, столько видел и испытал, и она очень нежна с ним, когда захочет, но странное дело — подчас она совершенно равнодушна к нему, холодна, даже жестока. Порой он для нее просто не существует, она делает все по-своему. Как это тяжело!
Здесь неплохо, жаль только, что за окном темно, ничего не видно. Какие у них тут тяжелые, неудобные вилки.Ужасно, что ее молодость была такой бесшабашной, такой разнузданной, вспомнить хотя бы этого влюбленного в нее шестнадцатилетнего мальчика, который застрелился, когда она отказалась бежать с ним, — она бы и убежала, да он ей совсем не нравился! Грустная история, судя по ее рассказам. Отец мальчика явился к ним в дом и при родителях обвинил ее в смерти своего сына, но она все-таки не признала себя виноватой. А те два юнца… Один присвоил десять тысяч долларов и спустил их, развлекая ее с целой компанией таких же мальчишек и девчонок! Другой же по мелочам выкрал из отцовской кассы пятьсот долларов и кутил с Иделлой и ее приятелями в загородных ресторанах, пока его не задержали. Ох уж эти загородные кабачки. Она рассказывала ему о катании на лодках, об автомобильных прогулках (у некоторых юнцов были свои машины); весной и летом они ели, пили и танцевали под сенью деревьев, при свете луны… А вот в его жизни ничего этого не было, ничего! Когда одного из мальчишек поймали с поличным и он пытался объяснить своим и ее родителям, почему он сбился с пути, Иделла уверяла, что она тут ни при чем, да и до сего дня утверждает, будто не знала, что он украл эти деньги, и называет его трусишкой и молокососом. Еще несколько лет назад Иделла рассказывала об этом довольно юмористически, — быть может, ей и вправду это казалось забавным. Впрочем, в ее тоне можно было уловить и нотки раскаяния, — судьба этих юношей была ей не совсем безразлична, хотя она и уверяла, что не осталась перед ними в долгу: она щедро расточала им свое время, свою красоту и молодость. Да, что ни говори, а она дурная женщина, во всяком случае до замужества она вела себя дурно. К сожалению, этого отрицать нельзя. Но до чего пленительна, даже и теперь, а уж какая она была — и подумать страшно! Нетрудно понять этих мальчишек — конечно, они теряли голову. Есть в красоте, даже когда она и греховна, что-то такое, что сильнее всех нравственных правил и даже голоса совести. Вот и с ним так случилось, иначе разве он не расстался бы с ней? Так почему и с теми мальчиками не могло случиться то же самое?
Неприятно сидеть в ресторане, когда поезд стоит!Красота! Кто может избежать ее соблазна, ее очарования? Только не он. Его всегда влекли нарядные, красивые, смелые женщины, чей взгляд, походка, каждое движение говорят о пылкости чувств, живости ума, о смелости. Сколько бы ни звонили церковные колокола, сколько бы ни твердили бесчисленные проповедники о загробной жизни, где каждого ждет награда или кара по заслугам, кто в конце концов знает, что ждет нас после смерти? Это никому неведомо, вопреки всем догмам всех вероучений. Жизнь возникает и исчезает вновь — отворится зеленая дверь и уйдешь навсегда, — например, в такой же вечер сойдет с рельсов… Вот все эти фермеры гнут спину на полях, строят свои домишки, поселки, а где будут они через сорок — пятьдесят лет со всем своим трудолюбием и честностью? Нет, не за гробом, а здесь, на земле — жизнь, здесь красота, здесь такие женщины, как Иделла и Джессика.
Надо расплатиться и пойти для разнообразия в курительную. Приятно будет посидеть там, пока ему приготовят постель.А потом эта история с сыном банкира, Грейшетом-младшим, — с ним и теперь приходится встречаться в Д., только тот и не догадывается, что ему, Гаррисону, все известно… а, может быть, и догадывается? Вероятно, он и до сих пор в дружбе с Иделлой, хотя она и отрицает это. Ей совсем нельзя верить. Она уверяет, что этот Грейшет пленил ее воображение, когда ей было всего семнадцать лет, — у него были изысканные манеры, много денег, своя машина; вскоре он соблазнил ее, впрочем, можно ли сказать, что соблазнил? Пылкую, неугомонную, жадную до наслаждений Иделлу не могли остановить никакие условности и запреты. Нет, что бы она там ни говорила, нельзя винить в этом одного лишь Грейшета.
Великолепное зрелище — слепящее пламя доменных печей во мраке ночи, — поезд пролетает милю за милей, а этим огням все нет конца.Она рассказала ему об этих своих приключениях с самого начала, вернее, вскоре после того, как они поженились; тогда она хотела выложить все начистоту и начать новую жизнь, — и это бросало на ее прошлое своеобразный романтический отблеск.
«Игривые рассказы!» Ну и название для журнала! И не стыдно этому старому толстяку читать такое!А как необычайна судьба такой девушки — сколько страстей, сколько иллюзий! А быть может, и в самом деле по-настоящему живет только тот, кого щедро одарила природа и кто умеет взять от жизни все… Но как тяжко тому, кто этого лишен. Однако надо же в конце концов проститься с легкомыслием молодости, следовало бы и Иделле с ним покончить. Бог свидетель, она вволю безумствовала в юные годы. Безрассудная, неугомонная, порывистая, жадная к жизни, она ни в чем не знала удержу, — пора ей и угомониться. Почему бы и нет? Ведь он дал ей все, чего только она могла пожелать. Кажется, теперь она могла бы перемениться. Чрезмерная пылкость, словно у девочки-подростка, порой придает ей своеобразную прелесть, и все же это смешно, не к лицу взрослой женщине, жене и матери. Но именно ослепительный блеск юности покорил его, человека уже немолодого, именно это привлекало и всех ее остальных поклонников в Б. и повсюду, где бы она ни появлялась. Как ни странно, он мог бы и сейчас простить Иделле все ее возмутительное прошлое, как прощала ее мать, если бы только она теперь вела себя достойно, если бы она любила его, его одного, но любит ли она? Она, как видно, думает только о себе и не намерена ни в чем ему уступать.
Нет, эта публика в курительной невыносима! Пускай проводник сейчас же приготовит постель!А потом появился Каулстон, который и сейчас увивается вокруг нее; с Каулстоном связаны ее скандальные похождения в Питсбурге, — ему и сейчас тошно думать об этом. Разумеется, одно можно сказать ей в оправдание, если уж пытаться ее оправдывать, что в сущности невозможно, — она больше не была скромной, неискушенной девочкой, она много испытала, и в ней пробудился необузданный нрав. Она сама распоряжалась своей судьбой и делала, что хотела. Но почему она встретилась тогда не с ним, а с Каулстоном? Тогда он был еще полон жизни, и ведь он всегда чувствовал себя таким одиноким. Когда она рассказала ему о своем прошлом, не о Каулстоне, но о многом другом, почему он сразу не расстался с ней? Уйди он от нее тогда — ему теперь не пришлось бы мучиться, но мог ли он уйти? Он был вдвое старше ее, когда они поженились, и лучше знал жизнь, но он надеялся перевоспитать ее. Впрочем, так ли? Разве потому он женился на ней? И может ли он самому себе признаться — почему?
— Да, постелите сейчас же. (Вот теперь сиди и жди — экая досада!)Так вот, Каулстон и вся ее бурная жизнь в Питсбурге. Каулстон был одним из четырех или пяти очень богатых молодых вице-председателей компании Инверсон Сентлевер Фрог и Свич. Когда отец Иделлы внезапно умер, так и не узнав о том, что произошло между дочерью и Грейшетом-младшим, мать, растерявшись, уступила желанию Иделлы и отправила ее к тетке в Питсбург. Но вскоре после приезда Иделлы тетке пришлось на время уехать, а Иделла решила до ее возвращения погостить у подруги и уговорила мать позволить ей это.
Этой длинноногой девчонке в соседнем купе придется спать на верхней полке. Насколько удобнее спальные вагоны в Европе!Подруга Иделлы была, как видно, ей подстать, если не хуже. Во всяком случае, Иделла сумела обвести ее вокруг пальца. При ее помощи она ухитрилась познакомиться с некоторыми из тамошних молодых богачей, среди которых оказались два упомянутых вице-председателя компании Фрог и Свич, в том числе Каулстон. По рассказам Иделлы, это был отчаянный кутила, без счета швырявший деньгами и всячески старавшийся показать, что для него нет ничего невозможного и недоступного. Вечерами, особенно под праздник, он любил появляться в ресторанах, барах и прочих увеселительных заведениях и готов был бы обойти за один вечер десяток злачных мест, если б тогда их столько нашлось в Питсбурге.
Это, должно быть, Сентерфилд — столица штата И., а поезд даже не сбавил ходу. Сколько больших городов экспрессы минут не останавливаясь…С самого начала Каулстон стал настойчиво добиваться любви Иделлы, хотя и был женат (разумеется, несчастливо), а она — дерзкая, своевольная и неугомонная, ни в чем не знавшая удержу, так же откровенно и легкомысленно принимала его ухаживания. Вот это хуже всего — эта вечная, неутолимая, поистине языческая жажда наслаждений, в погоне за ними Иделла и по сей день не считается ни с кем и ни с чем, и он ничего не может с ней поделать. Есть что-то глубоко безнравственное в таком чисто животном влечении, бросающем людей в объятия друг друга. Ну, а если бы на месте Каулстона был он сам?
Как хорошо, что он один в купе. По крайней мере есть чем дышать…А затем — она сама признавалась, а пожалуй, и хвасталась этим, — настало безумное время. Полгода она уверяла мать, что ей пока не стоит возвращаться домой, лучше еще погостить у подруги. У нее была своя машина, слуги, наряды — все, что душе угодно. Каулстон окружил ее сказочной роскошью, она была свободна, как ветер, это было как волшебный сон, который, казалось ей, никогда не кончится… И мать ничего не подозревала! Все было к услугам Иделлы: стоило ей пожелать — и затевались веселые пикники, вечеринки, ночные пирушки в загородных клубах и кабачках, где обычно собирались молодые повесы со своими подружками, устраивались бешеные автомобильные гонки, поездки на соседние курорты и пляжи. Да полно, было ли все это? Вероятно, было, судя по тому, как она вела себя позднее — и с ним и с другими.
Приятно вытянуться и отдыхать, глядя на проносящиеся за окном залитые лунным светом холмы и равнины.Иделла и не скрывала, что была тогда безумно счастлива — вот это хуже всего; она почти не задумывалась над своими поступками и никогда не знала угрызений совести, не знает и теперь. Зато она жила полной жизнью, — говорит она. А почему бы ей, собственно, раскаиваться? Разве не все люди в душе эгоисты? Однако такова была ее ненасытная натура, она и тут не успокоилась! Тотчас появились новые поклонники, некий пожилой миллионер, еще более богатый и влиятельный, чем Каулстон, и какие-то юнцы, которые тоже добивались благосклонности Иделлы, но понапрасну — для нее они не представляли интереса. Старик, которого опередил Каулстон, но которого она все же терпела, вдруг стал неистово ревновать, хотя, по ее словам, не имел на это никакого права, и, наконец, решил уничтожить счастливого соперника, и ему это удалось: он изобличил Каулстона в безнравственности, изволите ли видеть, и именно на этом основании выжил его из фирмы, а затем и из города, а сам тут же попытался занять место Каулстона возле Иделлы! Вот на что можно пойти ради девятнадцатилетней девчонки, беспутной и легкомысленной! Как мало знает мир об этих страстях — и слава богу! Что было бы, если б все так же сходили с ума?
Мерно постукивают колеса, покачивается вагон, — до чего убаюкивающая музыка…А с какой наивной беспечностью, быть может наигранной, она относится к своему прошлому — ей все равно, что подумает он, что подумают люди, если узнают. Она словно и не догадывается, что мысль об этих старых историях так мучительна для него. Она слишком себялюбива. Вероятно, она и не подозревает, каково это ему, — ведь он так ее любит. Нет, она ничуть не дорожит им, да и никем, иначе она не рассказывала бы о таких вещах, — уж скорее солгала бы ему. Она всегда думала и заботилась только о себе, и хоть как будто остепенилась немного, но осталась все той же бессердечной прожигательницей жизни. Ее нимало не трогала участь жен обоих ее поклонников из Б., ее не интересовало, что сталось потом с ними самими, да и с теми, кто ухаживал за нею после. Ей нужно только одно — быть магнитом для всех, жить весело, свободно и беззаботно, в свое удовольствие. Сами по себе те, кто увлекался ею, были ей не нужны. Когда жене Каулстона сообщили о его связи с Иделлой, сам Каулстон, предвидя неизбежный скандал и притом без памяти влюбленный, предложил Иделле провести несколько лет в Париже или на Ривьере, но странное дело — она не согласилась. Она совсем не желала связывать себя надолго. По ее уверениям, в ней заговорила совесть, она даже побывала на исповеди и затем вернулась в Д., сбежав от всех своих преследователей и искусителей.
А вот и горы. Как внушительно выглядят те дальние склоны.Это можно понять: бывает так, что человек вдруг хотя бы на время почувствует отвращение к беспрерывному, чрезмерному распутству, и это был едва ли не единственный достойный поступок за всю ее жизнь. Но увы, в этом не было особенной заслуги, — просто она еще не была достаточно уверена в себе, чтобы расстаться с матерью и уехать в чужую страну. Кроме того, дело принимало опасный и для нее оборот, — если бы вокруг Каулстона разыгрался скандал, пострадало бы и ее доброе имя. Но хуже всего, что, как и следовало ожидать, она вернулась к прежней жизни. Она была хороша, легкомысленна, старики и молодые наперебой ухаживали за ней; за первым шагом по пути легких развлечений последовал второй, и вскоре от ее благочестивого настроения не осталось и следа. Конечно, жажда наслаждений в такой женщине, как она, не могла не взять верх.
Хижина, затерянная в горах, одинокий огонек в ночи…А потом… потом…
О черт, уже утро! Десять часов! Надо же так проспать! Скорее одеваться!Так вот, Иделла… о чем это он вспоминал? Ах, да… Как неотвязно все эти дни преследуют его мысли о ней! Каулстон, обозленный ее отказом вернуться к нему (Иделла говорила, что при всем своем благочестивом настроении не могла сделать этого, — ведь она уже охладела к нему) и опасаясь соперников, в конце концов, перевел все свои дела из Питсбурга в Д. И вот теперь, через пять лет, рассуждая о добродетели, о долге и бог весть о чем еще, он добивается у своей жены развода, чтобы жениться на Иделле и дать имя ее ребенку! А ведь она теперь жена его, Гаррисона! До чего доходит человеческое безумие!
Надо поторопиться с завтраком, скоро уже Д. Первым делом надо заехать к Киралфи — купить для нее цветы.Но Иделла на это не пошла. По ее словам, Каулстон ей больше не нравится. Да и вообще, как видно, только годы излечат ее от этого удивительного непостоянства. Но неужели она только к старости остепенится и кто способен ждать до тех пор? Уж во всяком случае не он! Да вот взять хоть тот случай, который бросил ее в его объятья; будь у него хоть капля здравого смысла, он тогда же понял бы, что она такое! Это было просто еще одно похождение, как история с Каулстоном и как со стариком Кандиа, только тут были замешаны люди помоложе — тоже светские бездельники, но один хоть действительно был от нее без ума, а другой попросту очень увлекся. И почему это у Иделлы всегда получается так, что сразу двое, трое стараются отбить ее друг у друга?
До чего противно умываться по утрам в поезде!По ее словам, она сперва влюбилась в младшего из этих двух — Гейтера Брауна (из семьи Браунов, издавна живущих в Д.); но в самый разгар их романа (а на горизонте маячил еще и Каулстон, от которого она никак не могла окончательно отказаться) появился Гетчард Кин — обладатель нескольких автомобилей, яхты, скаковой конюшни, — Иделла начала заигрывать и с ним. Но к этому времени…
Сколько народа в ресторане! Вся вчерашняя публика, да еще и новые прибавились. Должно быть, ночью прицепили несколько вагонов.…она почти уже обещала выйти за молодого Брауна, хотя и к нему не питала нежных чувств, и будто бы даже рассказала ему кое-что о себе и он простил ей все, сказав, что для него ее прошлое не существует. Когда же появился Кин, и она им заинтересовалась, Брауну это очень не понравилось, он стал бешено ревновать. Совсем обезумев, он пригрозил убить ее и себя, если она не перестанет встречаться с Кином, и это только усилило ее интерес к Кину. Наконец Браун не выдержал и, опасаясь, как бы Кин не восторжествовал (чего, конечно, не случилось бы — ведь Иделла никогда не любила Кина), пригласил ее покататься с ним на автомобиле…
Сегодняшний завтрак — только для проформы. Не хочется даже смотреть на еду, да и понятно — горькие раздумья последних дней совсем отбили у него аппетит.…вот после этой-то прогулки он и увидел Иделлу в Инсулской больнице. Должно быть, Браун и в самом деле очень любил Иделлу, раз он предпочитал убить себя и ее, лишь бы ее не потерять. Если верить ей, Браун на полной скорости врезался в скалы близ Салтер-Брука, но в газетах об этой истории не было ни строчки, и, разумеется, Иделла и Браун оба тоже молчали.
Какая всегда грязь в вагонах к концу такой долгой поездки!После она очень жалела Брауна и каждый день спрашивала о нем, хотя, конечно, все они были ей безразличны — и Браун, и Кин, и все, кто добивался ее любви. Она всегда думала только о себе и своих прихотях. Кин навещал ее каждый день, пытаясь узнать подробности катастрофы, являлся и Каулстон, очень встревоженный ее состоянием (наверно, и старик Кандиа и еще кто-нибудь — трудно сказать, сколько у нее в ту пору было поклонников). Она принимала всех, кто бы ни приходил ее навестить. И вдобавок — подумать только! — она поощряла его, Гаррисона, — позволила ему влюбиться в нее и даже вообразила, будто сама влюбилась в него (так она говорила во время ссор, стараясь его побольнее уколоть), будто готова исправиться и начать новую жизнь, и в конце концов согласилась выйти за него замуж, назло всем остальным. Как понять, что на уме у такого создания? Кто из них помешан — она или он? Или, может быть, оба? Конечно, оба.
Кенелм! Поезд набирает скорость… До чего безобразны эти четыре деревянные коровы среди поля — реклама сливочного масла.А ведь она может быть такой ласковой, когда захочет, и как она неотразимо вызывающе красива… Но ясно, что теперь все должно как-то измениться. Он больше не в силах это терпеть. Такие женщины, как Иделла, просто опасны, и им нельзя потворствовать. Многие на его месте давно бы бросили ее, а вот он терпит. Но почему же? Почему? Да ведь он любит ее. Любит и все тут. А потом другое, главное: если она уйдет, он останется совсем один — это так страшно! Одиночество! Какой это ужас — остаться под старость одному, да еще когда так любишь женщину, которая при всех ее пороках могла бы сделать его бесконечно счастливым, стоило ей только захотеть. О господи, как все-таки непостижима любовь! Люди теряют голову, страдают, мучаются. Вот и его грызет мысль о том, что без Иделлы он будет глубоко несчастлив, — ему непременно нужна женщина такая же красивая, такая же веселая и приветливая, какой бывает Иделла, когда захочет. Но она и так очаровательна. А ведь если он когда-нибудь, набравшись духу, попытается образумить Иделлу, ему снова придется привыкать к одиночеству. Но почему же он не в силах наставить ее на путь истинный? И почему бы ей, наконец, не угомониться и не начать вести достойную жизнь? Да, на этот раз нужно объясниться с нею раз и навсегда. Больше он этого терпеть не намерен. Пора уж бросить это баловство, она достаточно пожила в свое удовольствие! Он больше не желает быть ширмой для ее похождений и играть роль покладистого мужа. Нет уж, хватит с него!
Осталось всего тридцать восемь миль! Ну, если ее и на этот раз нет дома, как она обещала!..Начиная с сегодняшнего дня она должна будет считаться с ним, или он с ней расстанется. Он не хочет, не может выносить этого дольше. Стоит только вспомнить, как он в прошлый раз вернулся из К. — совсем, как сегодня: Иделла обещала ему быть дома, он еще перед отъездом взял с нее слово; сойдя с поезда, он зашел вместе с Арбутнотом в ресторан Брандингам, чтобыпозвонить по телефону, и увидел, что она веселится там с Кином и четырьмя другими повесами, а как раз перед этим он сказал Арбутноту, что Иделла обещала ждать его дома! — А вот и ваша жена, Гаррисон! — насмешливо улыбаясь, заметил Арбутнот, и ему пришлось изворачиваться. — Ах, да! какая глупость, я совсем и забыл — мы ведь сговорились встретиться здесь! Почему он тогда же не устроил скандал? Почему сразу не покончил со всем этим? Да потому, что он круглый дурак, позволяет Иделле водить себя за нос и делать все, что ей заблагорассудится. А все потому, что он ее любит. Надо быть последним ослом, чтобы так любить эту женщину, зная, что она собой представляет!
Уже Шивли! Вот и ферма полковника Бранда. Скоро дома! А вон тот маленький городок совсем в стороне от железной дороги…В тот раз, когда они, наконец, сели в такси, она по своему обыкновению начала оправдываться: ей будто бы понадобилось что-то в городе — платьице для дочери. Но стоило ему заикнуться о том, что ее поведение позорит их обоих, что она все время дурачит его и что он больше не в силах это выносить, как она тут же обозлилась и заявила ему: — Прекрасно! Почему же нам тогда не расстаться? Я ведь не держу тебя. Мне это надоело, с меня довольно! Не могу же я вечно торчать на Сикард авеню и дожидаться тебя! На Сикард авеню! А когда он с ней, она тоже отказывается сидеть дома, и в деловых поездках сопровождать его не хочет, и вообще нигде не хочет бывать с ним вдвоем! Нечего сказать — счастливая семейная жизнь! А все любовь! Да, любовь, черт ее возьми! Вот уже и Лондейл, осталось восемнадцать миль — при такой скорости всего восемнадцать минут езды, — скоро он увидит Иделлу, если только она дома. Хорошо бы она оказалась дома, хотя бы только на этот раз, поцеловала бы его, засмеялась, расспросила, как он съездил, а потом они бы спокойно пообедали где-нибудь в тихом ресторанчике и провели вечер дома, вдвоем. Вот было бы славно! Да нет, где уж… на станции его непременно встретит Чарлз на желтой гоночной машине, — надо будет взять себя в руки и как можно более непринужденно спросить шофера — в глазах прислуги, как-никак, следует сохранять видимость… но Чарлз может и не знать, дома ли она. Иделла часто уходит, ничего не говоря слугам. Ну, уж если она и сегодня не ждет его дома… он послал ей письмо, дал телеграмму… ну, тогда… если и на этот раз… к черту!
Уилрайт! Поезд, кажется, немного запаздывает, но прибудет он все же почти вовремя…А в последний раз та возмутительная сцена в С., у Шэкомексона, куда она отправилась с Бодином, Арбутнотом и этим противным субъектом Айкенхэдом и даже не предупредила! Подумать только — появиться в таком людном месте, как бар Шэкомексона, да еще в подобной компании! (От того, что с ними была и жена Бодина, дело не меняется, она сама не лучше их.) А ведь Иделла замужняя женщина и о ней и так без конца злословят. Если бы не он, ее давно перестали бы принимать в обществе. Конечно, перестали бы. Ведь вот тогда генерал де Пэси с женой демонстративно прошли мимо нее, не кланяясь, и, лишь когда он подошел к Иделле и взял ее под руку, они сухо кивнули, но дали ясно понять, что делают это только ради него.
Эта коричневая машина старается обогнать поезд. Как все-таки бывают глупы автомобилисты!Да, в тот раз, вернувшись в город и не застав ее дома, он поспешил в С. в надежде найти ее там — и не ошибся: Иделла танцевала там с Айкенхэдом и Бодином, а потом к ним присоединились миссис Бодин, Белла Джири и эта вертихвостка мисс Джилдас. Он разыскал Иделлу, чтобы она знала, что он уже вернулся и соскучился по ней, а она сразу набросилась на него, словно дикая кошка: «Вечно ты за мной следишь и шпионишь!» Она сказала это так громко, что многие могли ее слышать. Ужасно! Как снести такое оскорбление и не утратить уважения к себе! А он стерпел, смолчал, к своему великому стыду. И все потому, что так стосковался по ней, с таким нетерпением ждал встречи, а в кармане у него лежал подарок для Иделлы — серьги, и он надеялся, что они ей понравятся. Если б не это, все не окончилось бы так позорно, — ведь он не нашел ничего лучшего, как извиниться перед собственной женой, он оправдывался, уверял, что и не думал за ней шпионить. Почему, черт возьми, он тогда же сразу не расстался с ней? Ну, не вернулась бы она к нему, ушла бы совсем… Так что же? Но только…
— Выход здесь, прошу вас!Вот, наконец, и Д., и Чарлз дожидается, как обычно. Дома она или нет? Да или нет? А может быть, не спрашивать Чарлза, прямо заехать к Киралфи и купить цветы? Но к чему, если ее опять нет дома? И как тогда поступить? Нет уж, если она и сегодня не ждет его, нужно с этим покончить, — неужели у него не хватит сил? Неужели он снова уступит ей, ведь он дал себе слово порвать с ней, если она опять посмеется над ним. Теперь уж висит на волоске его доброе имя. Все будет зависеть от того, как он поступит. Что должны думать слуги, видя, как он бегает за ней по пятам, а она никогда не бывает дома и совсем не думает о нем.
— А-а, Чарлз! Ждете меня? сперва заедем к Киралфи, а оттуда домой.Она делает из него посмешище или сделает, если он сегодня же не положит этому конец. Он без памяти влюблен в эту женщину только потому, что она молода и красива; он мирится с тем, что его жена, нимало не интересуясь им, развлекается в его отсутствие с другими — с компанией дрянных бездельников. Она тянет его за собой — вот ведь что, — и он опускается до ее уровня. Он никогда и не думал, что можно так низко пасть. Это просто непостижимо… и все же… А пока что все-таки надо купить цветы!..
— Одну минуту, Чарлз!Вот и Сикард авеню, славная, тихая Сикард, красивые ряды деревьев по обеим сторонам широкой аллеи, и в глубине тенистого сада их большой, окруженный вязами дом. Как здесь спокойно и благородно! Почему же она всего этого не ценит, не дорожит тем высоким положением, которое он ей дал? Почему? Разве этого мало, чтобы быть счастливой? Если б только она захотела и приложила хоть немного усилий, она заняла бы в обществе видное место. Да нет, ей это совсем не по вкусу… И все будет по-прежнему, пока… пока…
Как ровно садовник опять подстриг траву на лужайке!— Нет, миссис Гаррисон нет дома, сэр, — мягко и нараспев, как все негры, говорит Джордж, поднимаясь по лестнице впереди хозяина; именно этого ответа Гаррисон ждал и боялся. Каждый раз одно и то же, и так будет до тех пор, пока он не соберется с духом и не покончит с этим раз и навсегда. И сегодня он это сделает! Он не хочет выносить это ни минуты дольше, ни одной минуты! — Миссис Гаррисон сказала, сэр, что она уехала к миссис Джилдас (с таким же успехом она могла отправиться к Бодинам, к Дель Гардиа или Крейнам — все они одного поля ягода) и чтобы вы, сэр, заехали за ней, когда вернетесь. И еще она сказала, что оставила для вас записку на туалетном столике. Черт бы ее побрал! Вечно одна и та же история! Хорошо же, на этот раз он ее проучит! Непременно! Этого он ей не простит!
Вот и медная ручка двери не вычищена как следует…— Джордж, — бросил он слуге, вошедшему первым в комнату — в их комнату, которую он так любил, когда выдавался мирный вечер, — пока не разбирайте чемоданы. Если вы будете мне нужны, я позвоню. И едва за слугой закрылась дверь, Гаррисон обвел комнату взглядом, полным ненависти… В раме зеркала, как раз над его щетками для волос, торчала записка: без сомнения, льстивая, пустая болтовня, так она всегда пишет, когда чувствует себя виноватой и хочет его задобрить. Посмотрим, что она сочинила в свое оправдание на этот раз, куда просит заехать за ней сегодня, что еще сделать… и это вместо того чтобы быть дома, как она обещала, как поступила бы на ее месте всякая порядочная замужняя женщина; ведь этого вправе ожидать каждый женатый человек. Ах, черт возьми!
Как жужжит и бьется в стекло муха, стараясь вырваться вон!К чему тогда и жить? Деньги и все остальное — что в них? Больше он не станет терпеть, он не в силах, просто не в силах, и все тут. Ну ее к дьяволу! Он ни за что больше не побежит за ней, ни за что… К черту все это, к черту! Кончено! Она всегда так! Но уж теперь все, терпенье его лопнуло! Он разведется с ней! На этот раз он не уступит, — он мужчина, а не тряпка, не жалкий нищий, он больше не станет ждать ее милостей, как подачки! Ни за что, никогда! Но только…
Вот и записка на туалетном столике, как всегда, дожидается его.«Мой милый, старый ворчун! Это еще не настоящее письмо, а всего лишь тысяча поцелуев! А настоящее приколото к твоей — к нашей — подушке, и это самое подходящее для него место, правда? Я не хочу, дорогой, чтобы ты расстроился, не найдя меня дома, слышишь? Не хочу, чтобы ты разозлился на меня… И очень хочу, чтоб ты прочел то, настоящее письмо. Так не будешь сердиться, нет? Приезжай за мной к Джилдасам. Я страшно хочу тебя видеть, милый. Честное слово, хочу! Я так соскучилась без тебя! Да, соскучилась! Ты непременно найдешь меня у них. И смотри, не вздумай сердиться и хмуриться! Я не могла ждать тебя дома, дорогой, никак не могла. Ну, а теперь читай второе письмо!
Иделла».
Хоть бы руки не дрожали так… Будь она проклята, тысячу раз проклята! Все время так издеваться над ним! Ему и часу не удается побыть с ней спокойно, без посторонних: то она в гостях, то кутит где-нибудь со своей компанией…Он скомкал записку, бросил ее на пол и подошел к окну. Из широких дверей дома напротив вышла молодая женщина — миссис Юстус, — вот она садится в машину. Эта простая, скромная женщина любит свой дом, свою семью; ей бы никогда и в голову не пришли вероломные и дикие выходки, на какие способна Иделла. Да если бы она только заподозрила, как ведет себя его жена, она бы и знать ее не захотела. И почему он не полюбил вот такую простую, спокойную девушку? А рядом — большой и тихий особняк Уолтерсов, людей солидных и состоятельных. Они очень милы, приветливы и любезны, а Иделла всегда твердит, что они несносные и скучные. Все, что другие считают хорошим, приличным, порядочным, ей скучно и несносно. Вот и к нему она относится так же. Сама-то она совсем другая, черт бы ее побрал! Поэтому она не выносит и не может понять таких достойных людей, как Юстусы или Уолтерсы. (Вот и Мэй Уолтерс показалась в окне столовой.) Или семейство Хартли… Да, а вторая записка, что в ней? Уедет он или нет, а записку нужно прочитать; но на этот раз он непременно уедет, уж это точно! Он подошел к двуспальной кровати и отколол от узорчатого покрывала вторую надушенную записку: такие записки она всегда оставляет, когда провинится. Наплевать ему теперь, что она там пишет… На этот раз он не бросится ей вдогонку, ни за что! Он больше не желает иметь с ней дела. Сейчас он покончит со всем этим — запрет дом, отпустит прислугу и не оставит ей ни гроша, пускай убирается ко всем чертям! А сам переберется в клуб, как он не раз обещал себе, или даже совсем уедет из города. Начнутся сплетни… невыносимо! Он и так сыт по горло. Проклятый городишко! Никогда ему здесь не везло! В этом городе ему ни разу не улыбнулось счастье, хотя здесь он родился, здесь вырос, дважды женился. И здесь, в родном городе, где его все знают, обе жены обманывали его, делали всеобщим посмешищем… но теперь уж…
Да, письмо!«Мой славный муженек, лучший из мужей! Ты, конечно, огорчишься, не найдя меня дома, и, как бы я ни оправдывалась, наверно, рассердишься, а лучше бы не надо! Но, мой милый, поверь мне, пожалуйста, только на этот раз (я, правда, и раньше так говорила, и ты мне не верил, но это не моя вина) все вышло совершенно случайно, честное слово! Провалиться мне на этом месте, если вру!
(Да, как же, очень ее трогают его огорчения и страдания!)Но вчера в четыре часа позвонила Бетти и сказала, что я должна непременно быть у них. Устраивается большой вечер (ты, конечно, тоже приглашен). Будет ее двоюродный брат Фрэнк и кое-кто из его друзей…
(Знает он этих друзей!)…и еще четыре мои школьные подруги — я просто не могла отказаться, да мне и не хотелось, ведь Бетти просила меня помочь ей, а сколько раз она мне сама помогала. Ну что мне оставалось делать?»
Иделла всегда любит поддразнивать, вот и в письмах то же самое. Да пропади она пропадом, эта Бетти Джилдас, со всеми своими вечеринками. Но почему Иделла не могла остаться дома хотя бы только на этот раз! Неугомонная, бессердечная вертушка! Он так мечтал об этом и заранее предупредил ее письмом и телеграммой! Да нет, она не любит его. И никогда не любила. Просто ей нравится водить его за нос, а между тем она пользуется его именем и положением в обществе. Она ничем не дорожит — ни этим домом, ни мнением его друзей, ни им самим. Она хочет водить его за нос, развлекаясь с такими же, как она сама, дрянными, жадными до развлечений пустоплясами, — в голове у них только выпивка и танцульки, они без устали гоняют по всяким сомнительным заведениям — загородным клубам, ресторанам, туда, сюда, а то и в Нью-Йорк, где все — вызов и насмешка над скромностью и душевным спокойствием! Нет, с него довольно. Она всегда тяготилась им, никогда не стремилась быть с ним, а вот ими она не тяготится! Ей нравятся самые беспутные, самые нелепые развлечения. Но теперь всему конец. Хватит с него. Пускай она идет своей дорогой. Черт с ними, с цветами, пусть валяются здесь, он не собирается преподносить их ей. Довольно с него. Он сделает, как решил, — уедет, бросит все. Но только… Он стал отбирать в саквояж кое-что из вещей в придачу к тому, что было у него с собой в чемоданах, — шелковые рубашки, еще белья, все воротнички. На этот раз он порвет с ней — навсегда, навсегда! Но только… Он рвал и метал, но тут взгляд его упал на любимую фотографию Иделлы: молодая, свежая и такая очаровательная в расцвете своих двадцати четырех лет (а ведь ему уже сорок восемь!) Каждый мужчина был бы рад и счастлив иметь такую жену. А ее поклонники, такие самоуверенные и наглые, — Каулстон, который не отстает от нее, хоть она и замужем; молодой и богатый Кин, Арбутнот, да мало ли их… И каждый будет рад завладеть Иделлой, если он ее бросит. Она знает это. В этом ее сила, власть и даже очарование. Черт бы ее побрал! Но главное — жизнерадостность, извечный соблазн красоты и молодости! Иногда она бывает нежна и снисходительна, так славно улыбается и болтает с ним в сумерках по вечерам. Вспоминаешь все и тянешься к ней. И всему этому конец, если он ее бросит. Она ведь предупреждала, и не раз: «Если я уйду, не надейся, что я вернусь». Она не вернется. Он слишком мало для нее значит. Уж если она уйдет, то навсегда. Он медлил, размышлял, по привычке кусая губы, хмурился, краснел, колебался, тучи набегали на его лицо… потом позвонил. — Джордж, — сказал он вошедшему слуге, — пусть Чарлз подаст опять машину, а вы соберите мне маленький коричневый саквояж — я уезжаю дня на два. — Слушаю, сэр! Потом он сошел вниз, повторяя себе, что Иделла лживое и ничтожное существо, бессердечный мотылек и заслуживает, чтобы он бросил ее немедленно. Но вот он в автомобиле, Чарлз, сидя за рулем, ждет распоряжений, — и еще помедлив, он говорит устало: — К Джилдасам! И поезжайте через Скилтаун, — так скорее… И снова погружается в раздумье.
ИЗ СБОРНИКА «ГАЛЕРЕЯ ЖЕНЩИН»
Ида Хошавут
Образ ее навсегда слит в моих воспоминаниях с тем сельским краем — землей млека и меда, где я с ней встретился. Когда я вспоминаю ее или тот скучный, грязно-коричневый фермерский дом, на пороге которого я впервые ее увидел, или ту маленькую чистую комнатку, где я в последний раз смотрел на ее лицо, успокоенное навеки, — перед моими глазами тотчас встает мягкая линия холмов, вздымающихся большими зелеными волнами; широкие и глубокие долины, где, кажется, хватило бы места для тысячи фермерских усадеб; круглые, как шар, пышные кроны деревьев, не тревожимых ветром; бесчисленные стада коров и овец, рассыпанные по холмам черными, белыми, красными пятнами; просторные амбары, в которых хранится зерно и сено и которые похожи скорее на ангары для каких-то огромных летательных машин. Да, поистине это край плодородия! До самого горизонта простираются там тучные поля пшеницы и кукурузы, овса и ржи; а среди них разбросаны молочные хозяйства или фермы, где разводят какой-нибудь один вид овощей — помидоры, кукурузу или бобы. Их хозяева живут, кажется, побогаче остальных жителей округи. Вспоминается мне и ее отец, «Фред» Хошавут — так по крайней мере он сам себя называл; это имя было написано огромными черными буквами над широкой дверью его большого красного амбара. Этот Хошавут был грубый, неотесанный человек — настоящий медведь, коренастый и жилистый, с обветренным красным лицом, белесыми волосами и неприветливыми серыми глазками. Всегда, даже по воскресеньям, он носил одни и те же коричневые штаны, коричневый свитер и высокие сапоги. Словом, он был из той отвратительной породы работяг, что весь век копят по зернышку, боясь хоть одно истратить для своего удовольствия, и после жизни, проведенной в неустанных трудах, оставляют все детям, чужим с юных лет, которым безразлично, жив ли, нет ли их родитель, а интересно только одно — то состояние, что он ухитрился сколотить. Но Хошавут даже и в этом не слишком преуспел. Недалекий от природы, он только и умел что припрятывать деньги, прикупать иногда немного земли или скота да вкладывать свои скромные сбережения в банк под низкие проценты. Хозяйство он вел согласно обычной своей поговорке: «У меня ни одна животина не разжиреет», — и был известен во всей округе самыми тощими, самыми заморенными и костлявыми лошадьми, которых он загонял чуть не до смерти. У него было три сына и две дочери, и, вероятно, все они ненавидели отца; так по крайней мере было с теми, которых я знал. Старший сын еще до моего приезда перебрался куда-то на Дальний Запад, предварительно пырнув отца вилами и послав его ко всем чертям. Второй сын, которого я хорошо знал, так как он жил по соседству с моим родственником, был уже женат. «Старик» еще до свадьбы выгнал его из дому за то, что он не проявлял достаточного усердия в работе. Однако этот нерадивый работник вот уже семь лет арендовал сорок акров плодородной земли, аккуратно платил за нее и даже купил по случаю автомобиль, — эту новомодную затею отец его именовал не иначе как «коляской бездельников». Младший сын, Сэмюэл, тоже ушел из дома. Он поссорился с отцом, — тот не мог простить сыну вполне естественного желания жениться и жить по-своему. Однако Сэмюэл, корыстолюбивый в отца, вскоре с ним помирился в надежде получить побольше после его смерти. Они даже подружились, насколько вообще могли дружить такие люди, — ходили друг к другу в гости, обменивались поздравлениями; впрочем, они все-таки жили как кошка с собакой — месяц ладили, а месяц грызлись; разность характеров и интересов давала повод к вечным ссорам и пререканиям. Было у Хошавута и две дочери. Одна из них, Эффи, двадцати одного года, убежала от отца, — он не разрешал ей иметь поклонников. Теперь ей было уже под тридцать. Она жила в соседнем городе, работала в прачечной и ни разу с тех пор не побывала дома. И, наконец, Ида — предмет нашего рассказа. Когда я с ней познакомился, ей было только двадцать восемь лет, но чувствовалось, что время ее уже ушло. И неудивительно! Старик был крут не только с «животиной», но и с людьми; в каждом он видел лишь рабочую машину, вроде самого себя. Сам он вставал еще до зари, с первым криком петуха, и спать шел последним. Генри Хошавут, второй сын, тот, которого я хорошо знал, рассказывал мне, что старик ругался, бывало, на чем свет стоит, если не все в доме были уже на ногах через пять минут после того, как он сам встал. Его жена, измученное, запуганное существо, умерла сорока трех лет. Второй раз Хошавут не женился, но уж, конечно, не из верности жене. К чему еще работница в доме, ведь у него была Ида. Не верил он ни в бога, ни в черта и знал только одну заповедь: «Не лезь в чужие дела, копи денег побольше да прячь их подальше». И вот ведь странное дело! Дети его не пошли в отца, это были скорее мягкие, чувствительные натуры — в этом, может быть, проявлялось их противодействие той гнетущей среде, из которой им удалось в конце концов вырваться. Но вернемся к Иде. Познакомился я с ней вот каким образом. Мой родственник, о котором я уже упоминал, собрался как-то к Хошавуту узнать, не продаст ли тот сена, и пригласил меня с собой. — Я тебе покажу там одного старика, — сказал он, — это, знаешь, сюжет, достойный пера художника-реалиста. Но, когда мы подъехали к дому, в ответ на громкий наш оклик на пороге показалось существо женского пола. Это и была Ида. Передо мною стояла рослая женщина, старообразная не по летам или, быть может, преждевременно увядшая от тяжелой работы, впрочем, видимо, крепкая и выносливая, с приплюснутым носом и маленькими робкими глазками на красном от загара лице. Ее большие руки тоже были красные; выгоревшие рыжеватые волосы небрежно скручены в узел на затылке. На наш вопрос, где отец, она указала на амбар и добавила: «Только что вышел свиней кормить». Мы свернули в узкие ворота и оказались в обнесенном крепкой изгородью дворе. Около загона, где толклось десятка три свиней, стоял сам Хошавут в своих неизменных коричневых штанах, заправленных в сапоги. Держа в каждой руке по ведру, он с удовольствием созерцал свое хрюкающее хозяйство. — Хороши свинки, а, мистер Хошавут? — начал мой родственник. — Ничего! — с заметным акцентом ответил тот, не слишком дружелюбно, а пожалуй, даже и чуть насмешливо поглядывая на меня. — Только пора уже их продавать. Теперь их корми не корми, цена им не прибавится. Так чего же зря корм тратить? Чистый убыток. Я оглянулся на своего родственника, — эта сценка забавляла меня, — но тот продолжал с невозмутимой вежливостью: — Сенца для продажи у вас не найдется, а, мистер Хошавут? — Почем думаете покупать? — хитровато спросил старик. — Как на рынке. Там сейчас, кажется, семнадцать долларов тонна. — Не пойдет. За семнадцать я всегда продам. А постоит такая погода еще недельку-другую, сенцо-то на пять долларов и подорожает. — И он окинул взглядом пересыхающие серовато-зеленые луга — дождя не было уже с месяц. Мой родственник улыбнулся. — Ну что ж, вы, пожалуй, правы. Если, конечно, не пойдет дождь… А за восемнадцать не отдадите? — И за двадцать не отдам. В октябре-то, небось, до двадцати двух долларов дойдет, а нет, так на другую зиму оставлю. Я внимательно приглядывался к хозяину фермы. Крепкий старик, и хоть прост, а, видно, себе на уме. Его дом и амбар подтверждали все ходившие о нем слухи. Дом, небольшой, грязно-коричневый, без крыльца и веранды, выглядел до крайности негостеприимно; дорожки, ведущие к дому, были не расчищены и не обсажены цветами. Тощая собака и несколько куриц бродили в тени деревца, украшавшего один из углов двора. В загоне возле амбара паслись лошади. Сегодня бедные животные могли не работать, — было воскресенье, а в тех краях строго соблюдался день субботний. Лошади были отменно худы и только что не валились с ног от голода. Но вид Хошавута, краснолицего и самодовольного, стоявшего у своего большого свежевыкрашенного амбара, показывал, во что старик вкладывал всю свою душу. Отличный это был амбар, прочный, просторный, без единого изъяна. Амбар и его содержимое — вот чем старый Хошавут дорожил больше всего на свете. На обратном пути мы разговорились об Иде. — Этот старик настоящий деспот, он, можно сказать, загубил ей жизнь, — говорил мой родственник. — Красоткой ее, конечно, не назовешь, особых надежд на замужество у нее никогда не было, но ведь Хошавут и подойти к ней никому не давал. А теперь уж, пожалуй, поздно. И чего она не убежала, как ее сестра, удивляюсь. Ну подумайте, как она тут живет? Как проводит время? Работа, работа, с утра до ночи одна только работа — и ничего больше. Старик и газет-то, наверное, никогда не покупает. Года три назад ходил тут про нее слушок — Хошавут тогда батрака держал, ну и будто бы поймал он этого парня, когда тот часа в два ночи тихонечко стучался к Иде в окошко. Старик чуть не до смерти избил его палкой от мотыги. Было ли там что между ними или нет, этого никто не знает, но только с тех пор Ида совсем одна, и вряд ли она теперь выйдет замуж. Потом я лет пять работал в других местах и ничего не слыхал об этой семье. Но как-то летом я опять приехал туда отдохнуть и узнал, что старик умер, не оставив завещания, так что наследство поделили согласно закону. И бедная Ида, которая лет тридцать безропотно служила отцу — готовила, стирала, убирала, гладила, помогала косить и скирдовать сено, получила ту же пятую часть, что и остальные наследники, — пятнадцать акров земли и две тысячи долларов. Землю она сдала в аренду своему преуспевающему брату, тому, что с автомобилем, деньги положила в банк. После смерти отца жизнь Иды, по-видимому, не стала легче. Чтобы как-то прожить, она зимой работала в прачечной в Саут-Биксли (главный город округа), летом на консервном заводе. Потом была экономкой в семье одного зажиточного фабриканта консервов. Замуж она так и не вышла. Любовника у нее тоже не было. Но поговаривали, что теперь, когда у нее появились земля и деньги в банке, к ней начали свататься. Одним из женихов был Арло Уилкинс, болтливый парикмахер-неудачник из Шривертауна, некогда гуляка и пьяница, теперь уже несколько присмиревший, потрепанный субъект лет пятидесяти. Другим — Генри Уиддл, тоже неудачник, но с более мирным характером, ибо для кутежей и скандалов у него не хватало ни сил, ни смелости. Он был сыном безземельного фермера, который весь век работал на других. Лет пять назад этот Уиддл, не обладая ни нужными знаниями, ни опытом вздумал было продавать деревья для посадок. Он объехал чуть не весь Техас и, по его словам, «погорел начисто». Потом он работал на мебельной фабрике в Чикаго, но, найдя это занятие слишком для себя тяжелым, отправился в Колорадо, где поступил на железную дорогу. («Я отслужил свое в компании «Денвер — Рио-Гранде», — говаривал он впоследствии.) Здесь, однако, оказалось не легче. И наш бродяга вернулся, наконец, домой к своей прежней и, как ему казалось издалека, такой легкой жизни. Но, увы, он вскоре увидел, что дома так же трудно, как и везде. Ко времени нашего знакомства он работал возчиком у местного подрядчика. «Самое легкое, что можно было найти», — ехидно заметил сын моего родственника. Как-то я снова целое лето провел в этих местах. Обычно я устраивался работать в рощице на вершине холма, недалеко от шоссейной дороги, проходившей по склону. По этому шоссе, давая о себе знать скрипом колес, каждый день тащился фургон Уиддла, груженный песком, лесом или камнями. В провинции все друг друга знают, и мы с Уиддлом тоже быстро познакомились. Картофельное поле, на котором работали сыновья моего хозяина, тянулось вдоль холма, и я часто слышал, как они что-то кричали проезжавшему Уиддлу, видимо, потешаясь над ним, — он почему-то служил для них неиссякаемым источником развлечения. Услышав однажды смех, я сбежал вниз и присоединился к их компании, — меня соблазнила возможность узнать сельские новости. Уиддл оказался человеком без стержня, без характера, без воли. Он жил, не ставя себе никаких целей, словно плыл, куда понесет волна, не догадываясь о сложных законах, управляющих жизнью, не замечая ее глубоких внутренних процессов. И все-таки он меня заинтересовал. Чем? — трудно сказать. Как я скоро заметил, внимание его задерживалось, да и то довольно поверхностно, только на тех явлениях, с которыми он непосредственно сталкивался, и только об этом он мог, да и то весьма невразумительно, разговаривать. Он беспрестанно рассказывал о том, что видел во время своих скитаний, — о горах Запада, о долинах Техаса, где он пытался продавать деревья; или же расхваливал свои родные места, но и то и другое получалось у него до крайности расплывчато и несвязно. Горы Колорадо всегда были у него «ужасно высокие», виды «ужасно красивые», в Техасе было «ужасно сухо и жарко, и деревьев ужасно мало, а покупать их все-таки никто не покупал». Люди, с которыми он встречался, проходили мимо него, словно неясные, тусклые тени. Как будто все, на что падал его взгляд, тотчас расплывалось в мутное пятно. Сохранилось ли у него в памяти хоть одно определенное, яркое впечатление, мне так и не удалось установить. И этот-то человек намеревался выступить в роли претендента на руку нашей многострадальной Иды! Он сам в этом признался, когда мы начали над ним подтрунивать. И не прошло и года, как он в самом деле женился на ней, одержав победу над более пожилым и, без сомнения, более опытным Уилкинсом. Немного позже мне написали, что молодые строятся на Идиной земле и на ее деньги, надеясь к весне уже перебраться. Оба сами работали на постройке вместе с плотниками. Уиддл возил бревна, кирпич и песок. Ида орудовала молотком и гвоздями. А еще немного спустя я узнал, что они с удобством устроились в новом доме, завели корову, лошадь, кур, свиней, купили кое-какие машины — все на Идины деньги. И теперь оба работали в поле. Но вот что больше всего заинтересовало меня. Заполучив, наконец, мужа после стольких лет одиночества, наша романтическая Ида готова была его боготворить. Даже и такого беспутного, как этот Уиддл. Она буквально молилась на него. Следующее лето я снова отдыхал в тех краях. — Эх, и повезло же этому Уиддлу, — начал как-то один из сыновей моего хозяина, — теперь уж ему нечего жаловаться на тяжелую жизнь. Чуть свет, а Ида уже на ногах, кур, свиней покормит, коров подоит и завтрак ему в постель подаст. Правда, он пашет иногда, но Ида и тут поспевает… — Что говорить, — добавил его брат. — Я сам видел, как она сено в амбар убирала, точь-в-точь как при отце. — Так, да не так, — иронически вставил мой хозяин. — Раньше она все делала не по своей воле и любовь не поддерживала ее силы, ну а теперь… — От любви сено легче не станет, — мудро заметил один из сыновей. — И пахать от этого не легче, а я вот видел, как она пашет, — добавил сидевший здесь же батрак. — Что ж, вы поэзию совсем, что ли, отрицаете? — поддразнил я их, решив встать на защиту романтических чувств. Так или иначе, а Уиддл в эти дни поражал своим благодушным, даже развязно шутливым настроением. Раньше, когда он ездил с фургоном, у него был такой подавленный, убитый вид, как будто мысль о загадке жизни, или, вернее, о борьбе за существование, угнетала его не меньше, чем всех нас. Но теперь, когда к нему пришла, наконец, удача, в нем появился даже какой-то лоск, не в одежде (одевался он, как все фермеры), а в манерах. Иногда, обычно после полудня, когда Уиддл заканчивал свои хозяйственные дела или когда Ида сама бралась за них вместо него, он приходил ко мне на холм в мой лесной приют, откуда открывался широкий и живописный вид. Как-то раз он начал, слегка конфузясь, расспрашивать меня о моем писательском ремесле. Можно ли на это прожить? Много ли приходится работать? Пишу ли я что-нибудь для журналов — ну этих вот, новых-то, с картинками? Я признался со вздохом, что пишу и для журналов, когда заказывают, и вообще я постарался его уверить, что путь скромного писателя достаточно тернист, хотя очень уж жаловаться тоже не приходится. Затем разговор перешел на его ферму, и тут я, надо сказать, почувствовал себя на более твердой почве. Как он живет? Много ли выручил за свой первый урожай? Каковы виды на новый? Не трудно ли ему хозяйничать на пятнадцати акрах? Как здоровье жены? На последний вопрос он отвечал, что хорошо, спасибо. На предпоследний, что ничего, справляется. — Конечно, — задумчиво продолжал он, — машины у нас пока так себе, неважнецкие, да и здоровье жены в этом году похуже стало, но, слава богу, живем помаленьку. Осенью соберу, наверно, мешков пятнадцать картошки да зерна бушелей триста. Мне-то, по правде сказать, больше нравится курей разводить. Конечно, у нас еще не все по-новому, как бы надо, но на будущий год, если ничего не случится, построю новый загон, расширю курятник, заведу побольше цыплят. И все только о себе — я заведу, я построю, — ни слова о жене. А мне, пока я его слушал, вспоминались рассказы о том, как Ида подает ему завтрак в постель, как она убирает сено, пашет, доит коров, ходит за курами, пока «хозяин» отдыхает. О бедная Ида и ее великая любовь! Как-то я полюбопытствовал взглянуть на их хозяйство, и Уиддл пригласил меня и моего родственника к себе. Их жилище выглядело довольно приветливо — небольшой, еще не покрашенный домик из двух комнат с пристройкой для кухни и новым крыльцом, выстроенным этой весной специально для того, чтобы «хозяин» мог любоваться, мечтая и покуривая, на заросшую тмином долину, зеленеющие поля, далекие холмы. Я еще издали заметил, что на ферме необыкновенно чисто, везде — на дорожках, у входа. Во дворе на одинаковом расстоянии от кухни находились амбар, закрома, коптильня, курятник и колодец с небольшим навесом — все новенькое, чистенькое, свеженькое, а вокруг нежная зелень травы. Уиддл водил нас по двору и, слегка смущаясь, показывал свои сокровища. — Побелить бы еще надо, да руки не доходят. К осени либо к весне авось и с этим управлюсь, то есть если, конечно, жена будет здорова. С курами вот тоже хлопот не оберешься. Да на будущей неделе поросят надо покупать, да вторую корову… Я слушал и невольно вспоминал о тех печальных для него днях, когда он возил песок и камни в своем поскрипывающем фургоне. Вышла Ида, большая, угловатая, с обветренным и загорелым до красноты лицом, молчаливая и робкая. Ей, без сомнения, этот мирок в пятнадцать акров казался раем. Наконец-то к ней пришла любовь! И Уиддл — le grand — был для нее воплощением этой любви. Взгляд мой невольно обратился к нему, потом к ней. В ее лице читалась не только любовь — туповатая и бессловесная, но и глубокое почтение к мужу. Он все говорил и говорил, а она открывала рот, только когда ее о чем-нибудь спрашивали. Ни разу она не заговорила первой. Отцовская выучка, — подумал я. Был воскресный вечер — самое подходящее время для визитов, час, когда все труды за неделю окончены и наступает отдых. И Уиддл, как полагается, благодушествовал на крылечке. Но Ида все еще хлопотала на кухне среди горшков и кастрюль. Впрочем, немного погодя появилась и она и, выполняя свой долг гостеприимной хозяйки, застенчиво принялась нас упрашивать: «Не присядете ли? Не выпьете ли молочка?» Достойный Уиддл едва замечал ее, курил, размышлял о чем-то и обозревал свои владения. Он наслаждался. А его жена, по-видимому, находила в этом высшую радость. Она молча улыбалась, пока мы разговаривали с Уиддлом, или, когда мы обращались уже прямо к ней, роняла односложные ответы. Вышколенная отцом, она, казалось, почти совсем разучилась говорить. Еще дома мой родственник посоветовал мне обратить внимание на одно любопытное обстоятельство: Ида уже на седьмом месяце, а работает по-прежнему не покладая рук. Да вот сам увидишь. И я это увидел. Ида, несомненно, была на сносях и, однако, пока мы у них сидели, то и дело бегала по хозяйству — то задавала корм свиньям, то возилась с курами. А ее супруг и повелитель тем временем покуривал трубку и разглагольствовал. Тема у него всегда была одна — как он поведет хозяйство, расширит курятник, построит новый хлев, да хорошо бы еще прикупить пять акров, вот тут с восточной стороны, они как раз сейчас продаются — совсем бы другая усадьба стала, и так далее, и тому подобное. Попутно он вспоминал о своих путешествиях по Западным штатам, и о том, что он «отслужил свое в компании «Денвер — Рио-Гранде». После этого посещения я не раз еще возвращался мыслью к Уиддлу, ибо он, на мой взгляд, служил прекрасной иллюстрацией той истины, что все в этом мире случайно и несправедливо: богатство, сила, красота, слава, талант, здоровье — все достается человеку даром, без всякой заслуги с его стороны, а сам он часто даже и пальцем не ударит для того, чтобы как-нибудь развить и умножить то, что ему дано. Взять хотя бы такое безвольное ничтожество, как этот Уиддл. Какое-то шестое чувство — неясное влечение к лучшей жизни — привело его совершенно случайно в здешние края, после того как он везде потерпел неудачу, а тут его ждала эта, только что освобожденная из-под отцовского ига, жертва, жаждавшая на свой крохотный капитал купить себе долю счастья. И она действительно обрела счастье в любви к нему. Но мог ли он ответить ей таким же чувством? Способен ли он был понять ее и оценить, как того требует всякая настоящая любовь? Едва ли! Едва ли… События ближайшего месяца как будто бы дали ответ на эти вопросы. И все же — кто знает! Жизнь полна странностей. И любовь у многих людей такое неопределенное чувство… Я спал в большой комнате, расположенной по фасаду дома, из окон которой открывался вид на склон холма и живописную долину у его подножия. Перед домом росли падубы и каштаны. Их листья шептались и шелестели от малейшего ветерка. Однажды, в тихую лунную ночь, часу уже, должно быть, во втором или в третьем, я услышал стук и чей-то голос внизу под окнами: — Миссис К.! Миссис К.! Опасаясь, что хозяйка может не услышать, я подошел к окну, но в эту минуту дверь внизу распахнулась и до меня донесся сначала голос хозяйки, потом голос Уиддла — значит, это он стоял перед домом, хотя в бледном свете луны я не мог его разглядеть. Уиддл, казалось, был чем-то встревожен и просил хозяйку пойти к его жене. — Очень она плоха, миссис К. Всю неделю прихварывала. А теперь ей и вовсе худо. Уж будьте такая добрая, пойдемте со мной. Мисс Агнес звонила доктору, да его, похоже, дома нету… Ах, вот что! Иде пришло время родить! Еще одно дитя на пороге жизни — и у таких родителей! Что будет с этим ребенком? Что из него выйдет? Сможет ли Ида перенести роды? Ведь она уже старовата для материнства — да еще такая тощая, нескладная. Выживет ли она? Сможет ли выкормить ребенка?.. Через несколько минут раздался звук мотора — миссис К. отправилась с сыном к Уиддлу. Происшедшее, видимо, сильно встревожило ее. До следующего утра я не узнал ничего нового. Потом вернулась хозяйка и сказала, что миссис Уиддл действительно очень плоха. Еще три дня назад она работала в поле, а всего за день до родов затеяла недельную стирку. Она ни с кем не советовалась, ни разу не была у доктора. А Уиддл, занятый только собой, как и прежде, проводил время в мечтах. Вероятно, он выполнял свою часть работы на ферме, но не больше, и до последней минуты, не задумываясь, принимал все попечения жены и все ее жертвы. Теперь уже ясно было для всех, что роды будут нелегкие. Все девять месяцев Ида не обращала на себя ни малейшего внимания. Доктор, вызванный, наконец, моим родственником, печально качал головой. Может, и обойдется, но беда в том, что с почками у нее не ладно. Он посоветовал взять сиделку, но Ида, как ни была больна, не захотела о ней и слышать. Слишком дорого! Конец пришел быстро, на следующую ночь, с большими страданиями. Истощенный организм не вынес. Попытка вызвать искусственные роды, при наличии уремии, ускорила роковой исход. Дали эфир. Не приходя в сознание, она умерла, ребенок тоже. Последний раз я увидел ее, когда мы с моим хозяином и его семьей пошли смотреть покойницу. Я знал, что у Уиддла не было друзей ни среди родственников, ни среди соседей. Его вялый, скучный, бездеятельный характер никого не располагал к дружбе, да и общих интересов у него ни с кем не могло быть. Чаще всего он молчал, а если говорил, так только о том, что его одного интересовало. Поэтому на похороны пришли всего двое-трое соседей, и те лишь приличия ради, а из родни только двое Идиных братьев. Для отпевания — при участии тех соседей, которые пожелали оказать помощь вдовцу, — была приготовлена гостиная — святая святых Идиного дома. Здесь, в гробу, невиданном по великолепию, возлежала покойница. Что это был за гроб! Какие краски, какая пышность! Снаружи он был обит бледно-лиловым плюшем, внутри — розовым шелком, по бокам торчало шесть позолоченных ручек. Гроб этот прямо-таки поражал воображение. Впрочем, и сама гостиная, воплощавшая, очевидно, эстетический идеал ее хозяев, была в своем роде не менее примечательна. Середину ее занимал дубовый стол пронзительно желтого цвета, сдвинутый сейчас немного в сторону, вдоль стен стояло несколько тяжелых и неудобных стульев с сиденьями из красного плюша, камин был отделан никелем и загорожен экраном с красными слюдяными оконцами. На стенах, оклеенных ярко-розовыми обоями, висели два назидательных изречения в ореховых рамках, фотография Уиддла с женой, тоже в красивой ореховой рамке, под стеклом и в веночке из восковых цветов, и тут же, словно контраста ради, ярко раскрашенный календарь с белокурой кинозвездой в вызывающей позе. На столе лежала Библия и обитый желтым плюшем альбом, в котором не было ни одной открытки, — я нарочно заглянул в него. Надо полагать, что хозяев соблазнил именно желтый плюш — старинный, почтенный символ роскоши. Но этот гроб! Я отнюдь не хочу впадать в легкомысленный тон, когда речь идет о смерти, тем более что этим, говорят, можно накликать на себя беду. И я не могу не уважать то смутное, почти бесформенное влечение к красоте, которое живет в каждом человеке, — хотя во многих из нас еще так слабо! — и даже в каждом животном. Я знаю, что именно этому чувству мы обязаны такими созданиями человеческого гения, как Акрополь, или Карнак, или «Ода греческой вазе». Но оно же породило то странное явление, которое мне довелось наблюдать в описываемые здесь годы в беднейших кварталах наших больших американских городов, равно как и в наших глухих сельских уголках, и, вероятно, оно существует и доныне — я имею в виду стремление облечь последнее пристанище человека в невероятную, умопомрачительную пестроту. Гробы, обитые желтым, голубым, зеленым, сиреневым, серебристо-серым плюшем, с шелковой отделкой контрастных тонов, с блестящими ручками — серебряными, черными, золотыми! Есть чем усладиться глазу, жадному до ярких красок! Наши Барнумы из похоронных бюро в погоне за прибылью напали на верный прием для утешения простых душ в час их скорби по умершим. Красота — сообразно доступному их клиентам идеалу — вот что они предлагают как лекарство от всех печалей. Так или иначе, а Иду, покоившуюся в своем пышном гробу, убрали, кроме того, садовыми цветами, и в руку ей вложили надгробные вирши, сочиненные Уиддлом(о них речь еще впереди). Однако сама она имела вид столь жалкий и невзрачный, что вся окружающая пышность казалась поистине нелепой. Даже просто смешной. Неожиданный результат! — если принять во внимание, что гроб был выбран именно за его великолепие, со специальной целью смягчить горе безутешного вдовца, достопочтенного Генри Уиддла. Я подозреваю, впрочем, что Уиддл в данном случае воспользовался благовидным предлогом для того, чтобы дать волю той жажде роскоши, которая всегда жила в нем, но никогда не получала удовлетворения, хотя сам он, быть может вполне искренне, принимал это побуждение за потребность пролить бальзам на свое скорбящее сердце. Но эта фигура в гробу! Бедная Ида, вот когда привелось тебе, наконец, отдохнуть — и на каком роскошном ложе! Но как поздно пришел этот отдых! Всю жизнь ты работала, сначала на отца, потом на мужа, и в награду получила всего один-единственный год счастья — год любви, а может быть, просто покоя, называйте, как хотите. Твои рыжие волосы, такие жесткие и непокорные, теперь гладко причесаны и убраны, костлявая голова с большим ртом и маленьким носиком откинулась на подушку, словно изнемогая от усталости. Но сильная рука все еще крепко прижимает к груди и широкому истомленному лицу крохотного, так и не начавшего жить младенца, а в пальцах другой руки зажата поэма Уиддла. Я отвернулся потрясенный, подавленный, даже устрашенный этим новым свидетельством неумолимого упорства жизненной силы. Слепой, чуждый разума импульс, породивший столько бессмысленного, жалкого и ужасного на нашей планете! Смешно? О нет! Выражение, застывшее на лице Иды, убивало всякий смех. В нем читалась не радость и не печаль, только безответное согласие со своей судьбой, какая-то неизъяснимо мрачная покорность. «Спи! — подумал я, отходя. — Спи! Так лучше». Теперь мое внимание привлек дом — ее дом, эта раковинка, в которой она пыталась укрыться от нищеты и одиночества. Сколько раз она терла, скребла, чистила все углы, окна, полки, кастрюли. Кухня, столовая — все блестело почти раздражающей чистотой. Все здесь было как при ней — убрано, чисто. А на крыльце, любуясь окружающим и приветствуя своих немногочисленных гостей, сидел сам Уиддл с безмятежным спокойствием на челе и чуть ли не с улыбкой на устах. Еще бы, разве теперь он не был безраздельным владельцем всего, на что падал его взор? Пятнадцать акров земли, дом, амбар, сараи, скотина… Хозяин! Одетый в парадный костюм по случаю прискорбного события, он держался с такою важностью, как сановник во время приема или распорядитель на каких-нибудь высоких торжествах. Мне очень хотелось узнать, что он думает о смерти, о своей духовной и физической утрате, о будущем, теперь, когда заботы о земном существовании — на время с него снятые — снова грозили обступить его. И всякий, кто признает механистическую или химическую теорию жизни и стремится понять, как сказывается действие этих сил в поведении живого организма, заинтересовался бы этим человеческим экземпляром. Наблюдая Уиддла, я пришел к убеждению, что все его поступки были просто бледным отражением обычаев и традиций его среды и времени. Существовал обычай носить в подобных случаях черное — и он носил черное; он слыхал или где-то видал, что похороны обставляются со всевозможной пышностью, — отсюда этот роскошный гроб в их убогом доме; он замечал раньше, что люди скорбят по умершим, — поэтому ходил теперь с вытянутым лицом и пытался строить печальные мины, хотя без особого успеха. Когда, после обычных соболезнующих фраз, я заговорил с ним о будущем, он не мог скрыть своего глубокого удовлетворения при мысли, что все, принадлежавшее его жене, должно теперь перейти к нему. Если, конечно, не возникнут какие-либо препятствия. А так как он почему-то считал меня — хоть я и не подавал к тому никакого повода — своим другом и доброжелателем, он тотчас осведомился, видел ли я его новый сарай, и когда я сказал, что нет, повел меня его осматривать. По двору он выступал медленно и важно, словно участвовал в погребальном шествии. Но, придя к сараю, заметно оживился — «отошел малость», по его выражению — и принялся без умолку болтать о своих дальнейших планах. — Эта лошадь не так уж плоха, да ведь одному мне не управиться, придется кого-то нанять, значит, вторую лошадь нужно. Жена мне здорово помогала, теперь без батрака не обойтись. Что поделаешь, хозяйство! Затем мы перешли к свиньям и осмотрели их с величайшим вниманием. — Жена считала, что пока и четырех свиней довольно, ну, а я думаю на тот год штук шесть либо восемь завести, — коли уродит кукуруза, так кормов хватит. А вот еще доходное дело — молочное хозяйство, если держать коровки этак три-четыре; да возни много — пасти, доить, телят выхаживать, боюсь один браться, жена-то в этом больше меня понимала. Потом он спросил, знаю ли я, какие есть законы о собственности жены и правах мужа на эту собственность. Я признался, что ничего в этом не смыслю, но выразил готовность разузнать все, что ему нужно. — Понимаете, — говорил он, прислонившись к стенке свинарника, — родные жены меня почему-то не любят. Может, считают, что хозяйство им должно достаться. Но ведь когда мы с Идой что покупали, у нас все общим считалось. «Я хочу так устроить, что если кто из нас умрет, то имущество и деньги чтоб другому достались», — вот что она сказала, когда мы после свадьбы в Шривертауне поехали к юристу. Мы тогда вместе это и подписали. И документ у меня есть. Ясно ведь, да? Вы разрешите, я как-нибудь принесу вам документики эти поглядеть. По-моему, никто не может вмешаться. А? Как вы думаете? Я согласился и даже обещал, раз это его так волнует, поговорить со знакомым юристом. В начале разговора он еще, видимо, чувствовал себя не совсем ловко, но потом разошелся. Мы осмотрели курятник, свинарник и остановились у забора. За ним начинались те пять акров, которые Уиддл надеялся присоединить когда-нибудь к своей земле. Поговорив еще немного о достоинствах почившей, я простился и ушел. После этого я виделся с ним только раз. Недели через две после похорон, когда печаль убитого горем Уиддла несколько утихла, он пришел ко мне на холм в мой зеленый приют — пофилософствовать, как я было решил. Но оказалось, что он просто захотел еще раз потолковать со мной о своем новом положении хозяина и вдовца. Был прекрасный летний день. Море хрустального света затопляло холмы и долины. Лучи солнца лились сквозь густую листву над моей головой и ложились пестрой сеткой на траву. Пели птицы. Два сурка, подстрекаемые любопытством, заглянули в мое убежище. Вдруг затрещали кусты, и боком, боком, непонятно откуда, выкатился Уиддл. — Вот где красота! — Да, здесь чудесно. Присаживайтесь сюда, на пенек. Рассказывайте, как дела. — Спасибо, ничего. Я думал, вам интересно будет почитать мои документы. Вот я их и принес. С этими словами он полез в карман пиджака и вынул пачку бумаг. Я развернул одну. Это было завещание Иды, в котором говорилось, что Ида Уиддл, урожденная Хошавут, владелица такого-то и такого-то состояния, завещает в случае своей смерти и при отсутствии детей все вышепоименованное состояние своему мужу, Генри Уиддлу, в полную и нераздельную собственность, что и засвидетельствовано нотариусом Дриггсом из Шривертауна. — Что ж, по-моему, это очень солидно, — сказал я. — Мне кажется, что любой юрист на основании этого документа сможет защитить вас от чьих бы то ни было посягательств. Давайте я сниму копию и узнаю поточнее, что и как. А впрочем, почему бы вам самому не обратиться к какому-нибудь юристу? Или к судье Дриггсу? — Оно бы можно, — начал Уиддл, медленно поворачиваясь ко мне и так же медленно складывая завещание, — да не люблю я этих юристов. Дерут они много. Да и боюсь я их. Сам-то я в ихних делах не разбираюсь, того и гляди оплетут. Нет, уж буду сидеть смирно, пока меня не трогают. Сам первый ничего заводить не стану. Но я думал, может, вы в этом понимаете, так сможете присоветовать. Я отложил перо и предался размышлениям о его судьбе — о том, какую великую услугу оказал ему случай. Ну, и сам он, надо сказать, не без хитрецы, отлично соображает, как нужно поступать. Юристы люди опасные, судьи и родственники тоже, все это ему совершенно ясно. Мы помолчали несколько минут. Уиддл сидел, погруженный в задумчивость, — может быть, вспоминал свою многострадальную жену. Потом, порывшись в карманах, он достал еще один сложенный листок. «Опять какой-то документ», — подумал я. Повертев эту бумажку в руках, Уиддл осторожно развернул ее и сказал: — Я вот сочинил стихи о жене и принес вам, вы же писатель. Может, скажете, что о них думаете. Это те самые, что я ей в гроб положил, ну только с тех пор я еще кое-что добавил. Хочу их в «Баннер» послать, в бикслейскую газету. «Вот оно что, — подумал я. — Те самые стихи, что я видел в руке покойницы!» Мои хозяева уже рассказывали мне, что Уиддл написал несколько чувствительных строк на смерть жены, и обещали при первом удобном случае попросить у него эти стихи для меня. А теперь он сам их принес! С трудом скрывая любопытство, я почтительно спросил: — Напечатать их думаете? — И протянул руку. — Можно взглянуть? — Пожалуйста. Только, может, лучше я сам прочту? Почерк у меня не того, разобрать трудно. Ну, а я-то прочитаю. — Отлично, но сперва давайте поговорим. Вы говорите, это стихотворение посвящено вашей жене. Вы его сами написали? — А как же. Вчера весь вечер сидел и позавчера. Всего, пожалуй, дня три потратил. Начал-то я еще, когда она только умерла. И в гроб ей положил самое начало. — Понимаю. Ну что ж, это очень трогательно и очень похвально с вашей стороны. Значит, в «Баннер» хотите их послать? — Да, сэр. Там их напечатают. — Но почему вы знаете, что их напечатают? Вы уже им показывали? — А они всегда печатают такие стихи, — неторопливо пояснил он. — Платишь десять центов за строчку, и тебе их печатают. У нас все так делают, если кто близкий умрет — жена или муж. — Ах, вот что! — Меня, наконец, осенило. — Здесь такой обычай, и вы не хотите им пренебрегать. — Ну, конечно, сэр, лишь бы только не слишком дорого. — Что ж, читайте. — Я приготовился внимательно слушать. Косой луч скользнул по Уиддлу, по бумаге. Уиддл аккуратно разгладил ее и принялся читать:Моя любимая жена, ты умерла
И счастье наше с собою унесла.
Нет ласки и любви, заботы ежечасной.
Ищу тебя повсюду, но напрасно!
Ты делала столько добрых дел,
Их нет — и я осиротел!
Ищу тебя повсюду, только тщетно…
И слезы падают как ливень беспросветный.
Не слышу больше шагов твоих в дому,
Тебя рядом уж нет, — мне грустно одному…
Но пусть я одинок, отец наш всемогущий
Тебя заботливо укрыл в небесной куще!
Я радуюсь, что ты блаженство обрела,
И мне лишь одному утрата тяжела…
«Не плачь, мой милый муж, не сетуй в укоризне…
Я с неба вижу тебя, каким ты был при жизни.
Я вижу, ты скорбишь, от горя изнемог,
О если б ты со мной вкусить блаженство мог!
Ты был таким добрым, заботливым и честным,
И столько претерпел от людей — все господу известно!
Не забывал никогда ты долга своего
И помогал жене — так не бойся же ничего.
Мужайся, дорогой, не страшись осужденья,
И пусть тебя не тревожит ни страх, ни сомненье.
Быть может, милый муж, осудит свет тебя,
Но твою доброту поймет господь, любя.
Ты воздаянья не знал в труде безвестном,
Но все должны признать, что ты был добрым и честным.
Пусть злые люди тебя чернят,
Ты отврати от них свой слух и взгляд.
Ведь я, твоя жена, на небе помню ежечасно,
Что ты дал мне любовь, ласку, заботу и счастье,
И если Всеблагой соединит нас вновь,
Мы вкусим вновь с тобой и счастье и любовь», —
Несколько лет спустя я получил письмо от жены моего родственника. Она писала:
«Думаю, вам интересно будет узнать дальнейшую судьбу Уиддла. Он теперь ударился в религию, читает Библию, толкует ее презабавным образом и приходит иногда за разъяснениями ко мне. Занимается хозяйством и размышляет о боге, ожидая каждую минуту его появления. Бога он представляет себе не то драконом, не то каким-то гигантом, который вот-вот придет и погубит его и всех людей. Конец света наступит, по его мнению, так: явится бог в образе дракона или великана и начнет шагать по земле. Куда ступит его нога, там все умрут. Когда он всех перетопчет, это и будет конец света. Уиддл понятия не имеет, что мир несколько больше Соединенных Штатов. Я как-то сказала ему: «Послушай, ведь богу придется очень много ходить, чтобы всех уничтожить». Он ответил: «Так-то оно так, но, может, у него ноги побольше наших: может, каждая величиной с амбар. И ходит он, наверно, побыстрее, чем мы». Словом, он весь ушел в Библию, все читает, и все о чем-то думает, и все прочитанное связывает со своим хозяйством. Живет один, сам себе готовит, второй раз не женился, боится, наверно, что вторая жена все у него отнимет. Но притязаний на его наследство никто не заявлял. Люди, кажется, жалеют его. Питается он главным образом кукурузной кашей, которую, сварив, размазывает по блюдцам или мелким тарелкам, чтобы получилась тонкая лепешка, — должно быть, просто не додумался, что можно вылить в глубокое блюдо, а потом нарезать ломтями».
Оливия Бранд
Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Уосатчские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшийся у их подножия, храм мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штата Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город, — отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекций время он занимался банковскими операциями, а кроме того, был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой из своих двадцати двух жен. Я вижу также длинные тихие улицы, на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада; отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом и с банком, и мне представляется его сумрачное, худое бородатое лицо; она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди и как ей самой следует поступить в том или ином случае. Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужения и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец. Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых придерживались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе ни к каким и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями; с ними она делилась своими мыслями, хотя и мать и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было четырнадцать лет, однажды в церкви, во время религиозного экстаза, овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину «обращена» и «спасена». Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеуслышание в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама. (Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью.)Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример. Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые, она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных похождений Брайема Юнга и пророка Джозефа Смита. (Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не преминула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной.) Надо сказать, что даже когда Оливии исполнилось восемнадцать лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назойливости. Она все-таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери. Но я забегаю вперед… Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвич-Вилледжа, своей желчностью и худобой напоминавшего шекспировского Кассио. Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку» — в те времена это заведение было еще в полном расцвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на Восток. Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены — друзей юриста; оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Вилледжу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно. Она была богата, умна и, что еще важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесанные на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб; продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто. Стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень… Не слишком ли кастильский облик для жительницы Спокэна? — с улыбкой подумал я. Среди гостей был модный поэт, — высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал анархистов; вдохновленный красотой новой гостьи, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов. Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запаса своих дифирамбов. Был там еще… впрочем, не довольно ли? Достаточно сказать, что за столом сидело по крайней мере человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оливии королеву вечера. Да она, и правда, была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет! Сколько угодно коктейлей и шотландского виски! Надо сказать, что Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары и где разговор еще больше оживился. Не было конца остротам и шуткам, веселой болтовне о том, о сем, обо всем на свете. Помнится, одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе: какая-то ревнивая неприязнь к Оливии Бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и, хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество! Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный! Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто! Потому что Оливия Бранд бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится! Она просто-напросто паразит, никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус! Воображает, что задает тон! Это она-то! Господи! Ну, уж и образец изысканности, нечего сказать! Деньги, деньги, деньги! Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв! Шикарный автомобиль! Нацепила все свои меха и драгоценности, водит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Вилледж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина, она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением! Подумать только! Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных фокусниц! Экая лицемерка! Вот уж подлинно гроб повапленный! (Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны, — что поделаешь, именно так выражалась моя приятельница.) Однако это уже становится интересным, подумал я. Что-то, видно, есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины тоже весьма незаурядной. Кроме того, она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания. После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой нашумевшей «авантюристке». Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартирка на Риверсайд-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых вроде, например, деятелей ИРМ[40] — между прочим одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера, — всем им она, по-видимому, очень нравится. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь — редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь! Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незаурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей. Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная. И я решил, что стоит к ней зайти. Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. Она не помешала. Она просит извинить ее. Говорит Оливия Бранд. Помню ли я ее? (Безусловно.) Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит. Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя, так нельзя. Но вот завтра она вместе с небольшой компанией — это очень интересные люди — собирается пойти в чешский театр в Ист-Сайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об этой пьесе и об актерах, — и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, говорила она, не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая. О любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям. В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты — странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но, когда мы стали разговаривать, пытаясь быстрее составить представление друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком: она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много и во всяком случае еще не успела пресытиться жизнью. Ах, Нью-Йорк такой интересный город! Если бы я только знал! После Спокэна! После Солт-Лейк-Сити! После угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное — самые улицы, толпа, иностранные кварталы! Все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе, говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи! Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу; и хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума. И вот мы у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб, в Верхнем Ист-Сайде. Иностранцы, по виду рабочие, толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу, нигде не бывают неуместными. Каждый человек — по крайней мере в Америке, — она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвальбы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши, ей уже случалось это делать, но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, не желая этим, конечно, никого обижать. (Прекрасный ответ той особе, которая хотела бы лишить Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище.) Рядом с главным входом помещался бар и ресторан, видимо, при этом клубе, — комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кегельбан (понятно, иностранцы), откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь. — Давайте зайдем сюда прежде, чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богемскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило. Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая, какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники. Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку. И, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно, должно быть, жилось ей на Западе. Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной, она несколько напоминала (по крайней мере по сюжету) «Власть тьмы» Толстого. В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно, что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рассматривать как неизлечимые язвы жизни; в отличие от меня она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь, хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере так должно быть! Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные, или, я бы сказал, нигилистические меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. Несчастные труженицы в потогонных мастерских Ист-Сайда! А рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбери и Патерсоне! Какая ужасная у них жизнь! Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон — крупные, закаленные в десятках забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда. А что думаю я о той жестокой борьбе, которая происходит сейчас между капиталистами и рабочими? Из моих книг видно, что я сочувствую бедным и угнетенным. Конечно, сочувствую, отвечал я, всем бедным и угнетенным как у нас в Америке, так и во всем мире. Но, мне кажется, неправильно было бы думать, что в своей бедности и угнетенности человек сам нисколько не виноват; конечно, у нас имеются не только несправедливые, деспотичные законы, но и несправедливые, деспотичные люди и порядки, с которыми надо как-то бороться. Ну, а вот насчет того, чтобы сделать всех людей равными и полноценными, это, кажется, не в природе вещей. Заблуждение Хейвуда, Эммы Гольдман и других руководителей рабочего движения заключается, как я тогда сказал, в том, что они предполагают, будто люди, только из-за своей бедности и угнетенности, благодаря какой-то таинственной социальной химии, — суть которой для меня остается загадкой, — могут превратиться, и даже мгновенно, в сознательную и творческую общественную силу; что именно в их руки нужно немедленно передать всю власть, в том числе право распределять блага жизни и указывать каждому его общественные обязанности; творческая же энергия одаренных представителей всякой другой социальной среды должна быть скована. С этим я никак не мог согласиться. Уничтожить угнетение? Конечно, надо его уничтожить, если это возможно, и устранить бедность, насколько это осуществимо для человеческой воли и способностей. Но думать, что люди при каком бы то ни было общественном устройстве могут освободиться от своих недостатков или своей тупости или же что рабочие, люди, занятые исключительно физическим трудом, должны лишь в силу своего численного превосходства стать главным предметом внимания общества и государства — тысячу раз нет! Мне непонятна такая точка зрения. Я не хочу, чтобы рабочих угнетали. Но я также не хочу, чтобы им переплачивали или разрешали — только потому, что они могут организоваться и имеют право голоса, — указывать всем остальным трудящимся, или мыслителям, или высокоталантливым творцам во всем мире, как и в какой мере они должны быть вознаграждены за свой труд. Ибо человек, вынужденный из-за своего умственного несовершенства заниматься физическим трудом, неспособен диктовать творческому уму, в каких границах тот должен мыслить и какое вознаграждение получать за свой умственный труд. Жизнь создана не для одной какой-нибудь общественной группы — будь то рабочие, или ремесленники, или художники, торговцы, или финансисты, — а для всех. И ни в коем случае не следует все слои общества мерить одной меркой. Они не могут одинаково думать и требовать одинакового вознаграждения — так никогда не будет. Жизнь по самой своей сути стремится не к однотипности, а к многообразию. Химически, биологически она представляет собой неустойчивое равновесие. И то же самое можно сказать о человеческом обществе. Следовательно… Но, кажется, я впадаю в поучающий тон, а ясностью мои рассуждения, боюсь, не отличаются, поэтому… И у нас завязался один из тех нескончаемых споров, которые по большей части ни к чему не приводят; он продолжался после театра, во время нашего позднего ужина и у нее дома, так что я попал к себе только к трем часам ночи. Теперь я понял, что Оливия женщина поистине незаурядная, способная и волновать своей красотой и пленять своим живым умом. Кроме того, я разглядел в ней душевную отзывчивость и человечность, которые не позволяли ей спокойно и равнодушно относиться к страданиям людей. Эта отзывчивость главным образом и побуждала ее, как мне кажется, читать, думать, искать, общаться с людьми и бывать повсюду: ей хотелось самой все видеть и слышать, все узнавать из первых рук. У меня появилась уверенность, что, несмотря на все, что мне рассказывали о ее легкомысленных наклонностях или, быть может, именно благодаря им, мы еще услышим об ее участии в сфере интеллектуальной деятельности. Теперь, заинтересованный ею, я охотно принял приглашение прийти к ней на обед. Я застал у нее разнообразное и интересное общество. Наряду, например, с Мойером, которого вместе с Хейвудом и Петтибоном судили за убийство некоего Штейненберга, бывшего губернатора штата Колорадо, происшедшее несколько лет назад во время знаменитой колорадской забастовки горняков, там были: два художника и музыкант — всех троих я хорошо знал, — редактор одного либерального журнала, редактор социалистического еженедельника того же направления, что и «Дейли Уоркер», поэт, тот самый, который осыпал ее комплиментами на обеде в «Черной кошке», всегда блистательный Бен Рейтман, бывшее увлечение Эммы Гольдман, один журналист (пожалуйста, запомните его!), который, располагая средствами и досугом, вел отдел городских новостей в одной из крупных воскресных газет Нью-Йорка; а для колорита и украшения общества там было пять или шесть молодых замужних и одиноких хорошеньких женщин, весьма неглупых и остроумных, обладавших своего рода нюхом на все достойное внимания в области философии, искусства и социальных проблем. Впрочем, на сей раз мы собрались просто для того, чтобы за едой и вином приятно провести время. Все связанное с Оливией Бранд будило теперь мое любопытство. В тот вечер меня особенно заинтересовал стиль обстановки ее комнат, вернее, то настроение, которое в этом проявлялось. Эффектность — вот наиболее подходящее слово для характеристики этой обстановки. Лесопромышленник, как видно, не поскупился и разрешил покупать все, что ей вздумается. Преобладала старинная мебель, повсюду красивые ковры, были тут и гобелены, и ультрамодерновые скульптуры и несколько интересных, хотя, пожалуй, слишком броских неоимпрессионистических картин, которые она бог весть где раздобыла. Ковры, портьеры, картины, торшеры, книги — все говорило о нарочитой небрежности, о стремлении поразить утонченностью своего вкуса. Масса книг по самым разнообразным вопросам. Эта женщина безусловно любила книги и читала много, притом не только для развлечения. Вначале я не был уверен, что все это отражает ее собственные интересы, и подозревал чье-нибудь чужое влияние. Однако с течением времени я убедился, что она была вполне самостоятельна в выборе. Оливия старалась быть приветливой и внимательной со всеми, и, слушая те грубоватые, а подчас до крайности резкие суждения, которые позволяли себе ее гости, я подумал, что она, пожалуй, даже излишне терпима к чужим взглядам. Создавалось впечатление, что собственные ее воззрения и интересы слишком уж широки и неопределенны. Однако было ясно, что в противоположность сторонникам крайних мер, неизбежно связанных с революционными потрясениями, она стояла за всестороннее развитие. Людям нужно учиться, учиться, учиться! (Если бы только они имели такую возможность!) Как-то впоследствии я сказал, что ей следовало бы избрать восходящее солнце своей эмблемой. Впрочем, она слишком интересовалась людьми — главарями каждого лагеря, — и это мешало ей стать на чью-либо сторону; однако в некоторых острых вопросах рабочего движения она была такой же непримиримой, как и любой революционер. Еще одно я заметил в тот вечер, что Оливия, как женщина, нравилась очень многим и сама не скупилась на ответные чувства, и это, заметьте, при наличии щедрого мужа где-то на Западе. По этой причине я был склонен, в особенности первое время, когда еще плохо знал Оливию, осуждать ее. (Все понять — значит все простить!) Среди ее поклонников был, например, литератор, тот самый, который рассказал мне о ее вечерах, — пышущий здоровьем, энергичный и привлекательный мужчина. Я заподозрил, что он имел особые права в этом доме, и, как потом выяснилось, я не ошибся. Затем был поэт, который пел ей дифирамбы в «Черной кошке». Его пьяная развязность на том вечере, как и в других подобных случаях, убедила меня, что он уже пользовался ее благосклонностью. Он впоследствии сам мне в этом признался. Был еще профсоюзный гигант. Да, и он тоже! Экая любвеобильная особа, подумал я. Тем не менее она мне очень нравилась. Было решительно что-то вдохновенное в ее страстном интересе к жизни, в ее умении чувствовать красоту, поэзию, романтику. Меня поражало ее тяготение к людям, творчески одаренным, особенно если им к тому же не было чуждо понимание красоты, и ее искреннее сочувствие тем, кто был всего этого лишен. Я подумал тогда, что в ней как бы воплотилось новое, а может, и очень старое, не знаю, как правильнее сказать, стремление женщин к свободе, их современный ответ на извечное непостоянство мужчин. Оливию, казалось, не слишком беспокоило, как оценивают люди женскую добродетель. Она была за жизнь, за дерзания, за романтику в любом их проявлении. А добродетель — или кодекс супружеской морали — она считала пустой выдумкой, которая одним людям нужна, а для других совершенно бесполезна. О себе же она, очевидно, решила, что имеет право на ту дионисийскую свободу, которую греки даровали лишь гетерам. И вообще она была убеждена, что женщина должна быть так же свободна в любви, как и мужчина, но она никому не навязывала своих взглядов и не считала, что мужчин надо ограничить в их правах. Как я понял из ее поступков и слов, она верила, что свободное общение одаренных мужчин и женщин не толькопринесет им самим радостное вдохновение и духовный подъем, но и будет способствовать общему благу, служить источником новых и плодотворных идей и вдохновителем общественного развития. Признаться, я невольно улыбался, слушая ее беседы с Беном Рейтманом, похожим на Гаргантюа, о том, как лучше устроить мир, — на этот счет у них было полное согласие. (О Рабле, если б ты мог присутствовать при этом!) Добавлю, что Оливия не была склонна рассматривать чувственную любовь только как потворство инстинкту, напротив — она связывала ее с романтикой, счастьем, идеями. Все, что угодно, ради достижения свободы духа, сказала она мне однажды, пусть жизнь будет как вихрь, в котором мужчины и женщины обретут счастье и вместе с тем смогут мыслить и творить. Что касается благоприличия и правильности таких взглядов, то я сказал бы: если мужчины и женщины способны долгое время находить удовольствие в подобном вихре, то, очевидно, это имеет какое-то оправдание. Бесспорно, что пуританизм обесцвечивает жизнь и порождает скуку, ибо сводит любовь к простому деторождению: плодитесь и размножайтесь! А для чего собственно? С другой стороны, далеко не все мужчины могут выносить непостоянство женщин, равно как и не все женщины согласны мириться с непостоянством мужчин. Но и не все способны выносить скуку, даже благонравные. И если некоторых людей их внутренние импульсы толкают на это бешеное кружение, то зачем их останавливать? Все же, что там ни говори, а Оливия Бранд была незаурядной женщиной. Она познакомила меня, и, конечно, не только меня, с интересными людьми, мыслями, событиями и книгами. Однажды, помнится, она повела меня на тайное собрание, где я увидел рабочего лидера, одного из руководителей знаменитой лоренской стачки. Оно происходило в Ист-Сайде в каком-то грязноватом зале с плотно занавешенными окнами, — боялись налета полиции, ибо уже имелся ордер на арест этого революционера. Люди столпились в душной комнате; и тут я воочию убедился, с какой страстностью бесправные и обездоленные тянутся к тем, кто может вселить в них хоть искру надежды. Нужно сказать, что в спасители этот человек вряд ли годился. Впоследствии он потерпел неудачу — вместе с другими он был выслан из США и недавно умер где-то за границей. Это не был вождь, а всего только человек горячего темперамента и беспокойного ума, который, задумавшись однажды над язвами жизни, с тех пор навсегда и совершенно бескорыстно отдал себя борьбе за дело рабочего класса. Но эта комната! И эти бледные, лихорадочные, изможденные лица! Маленькие фабричные работницы и служанки, не сводившие с него восторженных глаз! Мне казалось, будто я смотрю в окно на новый, неведомый для меня доселе мир. Будто я вижу Христа, задумчиво проходящего среди печальных теней преисподней. Но это еще не все. Именно Оливия повела меня в мечеть и в то единственное в Нью-Йорке место, где происходили сборища огнепоклонников, и на запрещенное состязание в боксе. И, наконец, в разгаре душного нью-йоркского лета, когда я изнывал от зноя и вдобавок сидел без денег, именно она разыскала этот ресторанчик, устроенный каким-то незадачливым лодочником на старой барже, полузатонувшей в прибрежном иле у берега Северной реки близ Девяносто шестой улицы. Ресторанчик был самый захудалый, но зато там можно было за семьдесят пять центов получить очень хороший бифштекс или баранью котлету и посидеть летним вечером, любуясь на закат солнца или на мерцающие звезды. Лодки, проплывавшие мимо! Плеск воды у самого нашего столика! Веселая болтовня десятка собравшихся со всех концов города знакомых, которых Оливия уговорила сюда приехать. Я словно сейчас вижу, как около семи часов вечера они торопливо спускаются к берегу, предвкушая ожидающий их бифштекс с картошкой на увязшей в грязи барже. Причудливая прелесть этих вечеров! Такое чувство, словно тебя ждет какое-то неведомое приключение — это и привлекло Оливию и побудило ее созвать нас всех, чтобы поделиться с нами своей находкой. Однако я несколько отклонился. При встречах я всегда старался дать ей понять, что мой интерес к ней носит чисто духовный характер. Тем не менее я вскоре обнаружил, что, невзирая на всю мою сдержанность, я, по-видимому, был избран ею для любовного приключения, как уже бывало со многими до меня. Вначале это ни в чем заметно не проявлялось. Она обращалась со всеми одинаково просто и дружелюбно. Однако, когда появлялся избранный, она улыбалась особенно обворожительно и протягивала руки в каком-то особом приветливом жесте, который красноречивее любых слов говорил: «Я рада тебе!». И всегда у нее находилась какая-нибудь новость, которой она делилась только с ним. Вскоре я стал замечать, что она все чаще приглашает меня одного, отдельно от других. То ей хотелось, чтобы я послушал в ее исполнении (кстати сказать, прекрасном) какой-нибудь романс или фортепианную пьесу, то у нее оказывалась какая-нибудь новая редкая книга, которой я еще не знал. Именно так мне довелось познакомиться с «Золотой ветвью» Фрезера, а также с произведениями Фрейда. (Позже я встретился у нее с американским последователем этого австрийца, известного своим истолкованием главного движущего импульса жизни.) Однажды, за завтраком у нее дома, скрытый смысл ее отношения ко мне стал слишком уж очевиден. На столе было вино, в воздухе носился пряный запах курений. Оливия знала, как все это обставить — кокетливо усадить вас в кресло, бросить для себя подушку на пол у ваших ног, придвинуть низенький столик, на котором стояли чашки с кофе, конфеты, фрукты, а порой лежала какая-нибудь книга или репродукция. И она умела принять самую грациозную позу. Но сначала мы отправились с ней в кухню, где приготовили яства для нашего пиршества, причем сам я выступал в роли помощника повара и судомойки. Именно здесь, в кухне, и, очевидно, не без умысла, она стала рассказывать мне историю своей жизни. Начало ее вам известно. Я уже пытался обрисовать ее отца — почтенного бородача из Солт-Лейк-Сити. По словам Оливии, она никогда не могла его понять и в восемнадцать лет ее так и подмывало сделать что-нибудь наперекор всем условностям и приличиям, которые он собой олицетворял. И вот в один прекрасный день, выбирая себе книгу в городской библиотеке, она встретила молодого адвоката, до той поры ей совершенно незнакомого, — в поисках способа сделать карьеру он неизвестно откуда появился в тамошних краях. Молодой человек был весьма любезен и недурен собой. Он помог ей выбрать книгу и посоветовал, что еще прочитать. Попутно он рассказал, где находится его контора, и договорился с Оливией о новой встрече — сперва в той же библиотеке, как самом удобном месте для таких свиданий. В дальнейшем он уже приглашал ее к себе. Этот роман продолжался больше года. Как призналась мне Оливия, ее чувство к нему не было глубоким. Она шутливо пыталась оправдать столь длительную привязанность к этому человеку тем, что устраивать с ним свидания было отнюдь не легко. Возникавшие при этом препятствия разжигали ее интерес к нему. Молодой адвокат, разумеется, был уже женат. Но не опасность и не какая-нибудь катастрофа положили конец этой истории, а просто усталость, постепенно созревшее в душе Оливии сознание, что жизнь ее по-прежнему остается замкнутой в те же узкие рамки, что это приключение ничего ей не дало. Через несколько месяцев ей стало казаться, что ее возлюбленный не такой замечательный человек и что, пожалуй, она стоит большего. А его вполне устраивала собственная жена, которая была довольно богата; и, когда пришло время, он без особых волнений расстался с Оливией. Вскоре после этого на сцене появился ее будущий муж, лесопромышленник из Спокэна, о котором я не раз слышал (впрочем, не от самой Оливии) как о грубом материалисте и неотесанном мужлане. По ее же словам, это был человек приятной внешности и очень богатый, но ограниченный. Для него существовало только то, что он мог видеть глазом, ощупать руками, сосчитать или измерить аршином. Ничто не казалось ему загадкой, кроме разве душевных болезней или каких-нибудь религиозных и политических химер. Его кумиром были деньги и все, что они приносили с собой: обширные поместья, собственные дома, дорогая мебель, счет в банке, место директора компании, общение на равной ноге с теми, кто, подобно ему самому, достиг богатства, или по крайней мере признание этими людьми его достоинств. Позиция отца вызвала у нее недоумение. Вы помните, что, по собственному ее признанию, она никогда не понимала отца. Теперь же, в связи с его заботами об устройстве ее брака, он стал казаться ей еще более загадочным. Из всего, что он раньше говорил, можно было заключить, что самым важным в жизни человека он считает религию. Причем под религией он понимал не христианство вообще, а секту баптистов, к которой сам принадлежал. Именно секта была дорога ему — его церковь, членство в ней, те общественные и коммерческие выгоды, которые гарантировали ему живое участие в жизни общины. И, однако, стоило появиться этому кандидату в мужья, которого уж никак нельзя было назвать глубоко верующим человеком, — он, правда, был как-то связан с методистами, но, по-видимому, весьма поверхностно и непрочно, — как его немедленно ввели в дом и представили дочери, потому что мать и отец прекрасно понимали и не раз уже говорили, что ей пора выйти замуж. Есть там у него религия или нету, зато он богат! Он приехал в Солт-Лейк, чтобы присмотреть и купить какие-то пастбища. Отец был очень озабочен тем, чтобы дочь предстала перед ним в полном блеске: он позвонил домой, извещая, что приведет сегодня одного очень солидного человека, будущего клиента их банка — не будет ли дочь так добра проявить к нему немножко внимания, хотя бы ради отца, — при этом ни слова ни о религиозных убеждениях, ни даже о личных достоинствах упомянутого джентльмена. Достаточно того, что он богат! Это в банке уже точно установили. Как бы то ни было, по словам Оливии, лесопромышленник сразу же проявил к ней большое внимание. Он задержался в городе на много дней. Всякий раз, бывая у них в доме, он говорил о размерах своего состояния, приводя точные цифры, — прямо уши прожужжал и родителям Оливии и ей самой. А когда он уходил, родители продолжали обсуждать эту тему. К этому надо прибавить, что одна из школьных подруг Оливии совсем недавно вышла замуж, притом весьма удачно, и с тех пор стала разговаривать с ней свысока. Самолюбие Оливии было уязвлено, а похвалы претенденту, расточаемые родителями, довершили дело. Что ж, по крайней мере она будет богата! С другой стороны, все, что она уже слышала о необходимости пока не поздно обеспечить себя спокойным семейным очагом, подсказывало ей, что после истории с юристом благоразумно было бы оградить себя на всякий случай брачным свидетельством. И она стала отвечать на письма своего поклонника. Он приехал снова. Оливия рассудила, что, став замужней женщиной, она получит большую свободу и сможет, наконец, делать все, что ей вздумается. Так почему бы и не выйти замуж? К тому же она этим натянет нос своей школьной подруге. Когда лесопромышленник появился снова, Оливия дала согласие. Затем была свадьба — настоящее венчание в церкви, у Оливии в руках были лилии. Потом поездка на Гавайи, где у мужа Оливии даже во время медового месяца нашлись какие-то коммерческие дела, и, наконец, Спокэн. В наше время, я думаю, всякий хорошо знает, до чего убога умственная и духовная жизнь в торговом американском городе средней руки — одном из тех, о которых в справочниках пишут: занимает девятнадцатое место по числу жителей, семнадцатое — по экономическим и финансовым данным и т. д. Но, когда Оливия рассказывала об этом, слушать ее было интересно. Общество дочерей американской революции (весьма влиятельная организация); Тагоровский литературный кружок; кружок Новых идей; Американская федерация женских клубов; не менее семи обществ для поощрения или, наоборот, для предотвращения чего-нибудь; прибавьте к этому религиозные дискуссии и беседы: некоторые почтенные семейства придерживались крайних сектантских взглядов. Рядом с этой, так сказать, интеллектуальной жизнью протекала жизнь деловая и светская видных людей города, их жен и дочерей — биржа, загородный клуб, торговый клуб, семейство таких-то с их автомобилем в семьдесят лошадиных сил, Констанция такая-то с ее избранным кругом друзей. В гостиных самых интеллигентных домов в те дни, как рассказывала Оливия, все еще можно было увидеть последние произведения Гопкинсон Смита, Марии Корелли и Томаса Нилсон Пейджа. Устраивались иногда несколько старомодные живые картины. Билли Сандей считался крупной общественной фигурой, и его принимали в лучших домах. Все это благоприятствовало, конечно, расширению умственного кругозора, да и сама Оливия в ту пору была, в сущности, пустой, хитрой, чувственной и тщеславной молодой особой; однако было, видимо, заложено в ней и что-то другое, благодаря чему она сильно изменилась, и даже очень скоро. Она поняла теперь, что не одни только деньги были ей нужны. Возможно, что лишь к этому времени она достигла той ступени, когда человек начинает обретать свое истинное «я». Во всяком случае окружающая обстановка заставила ее уйти в себя и повысила в ней интерес ко всему, что не было похоже на то, что она видела вокруг. Она стала покупать и читать серьезные книги: исторические сочинения, романы, мемуары. Нужно сказать, что у мужа Оливии, к ее удивлению, оказалась хорошая библиотека — она целиком досталась ему от кого-то, кто вынужден был расстаться с ней! Однако чтение книг только усиливало ее неудовлетворенность. Избранные произведения Вальтера Скотта, Диккенса, Брет Гарта, Роу! Неудивительно, что в поисках более интенсивной духовной жизни она невольно стала искать общества людей, мыслящих иначе, чем те, кто ее окружал. Но пока она вращалась исключительно в кругу членов загородного клуба, гольф-клуба, яхт-клуба; вдобавок муж старался ей внушить, что его жена должна занимать такое же место в светском обществе, какое сам он занимал в мире финансов. Он постоянно заставлял ее приглашать и принимать гостей, которые могли быть ему полезны. Это вовсе не льстило ее честолюбию. Она стала увиливать и уклоняться от обязанностей хозяйки дома. Между супругами начались ссоры. В довершение всего Оливия как раз в это время сблизилась с молодой замужней женщиной одних с ней лет, которая испытывала почти такую же неудовлетворенность. Она была женой довольно богатого агента по продаже недвижимости и жаждала развлечений, но не по надоевшему светскому шаблону. Ее скорее привлекала деятельность левых, и в особенности сами левые. Милях в пятнадцати или двадцати от города, в котором жила Оливия, находился маленький курорт или колония, где проводили свой отдых деятели рабочего движения. Сейчас там поселились несколько писателей и пропагандистов, интересовавшихся профсоюзной борьбой, которая в то время разгоралась в западных штатах, среди них — широко известные шведские, норвежские, а также американские и английские агитаторы. Эта колония пользовалась сомнительной репутацией из-за того, что, по слухам, там жило несколько супружеских пар, которые, однако, не состояли в законном браке. Доказательств, правда, не было, поэтому спокэнское общество не возмущалось открыто, но в Спокэне на колонию смотрели косо уже хотя бы потому, что там жили люди, связанные с рабочим движением. Однако новая знакомая Оливии по каким-то своим личным причинам относилась к этим людям дружелюбно. Ее приятельница, жена одного из главарей колонии, много рассказывала ей об их идеях и целях; все это очень ее заинтересовало. Не хочет ли Оливия встретиться с кем-нибудь из них? В их среде можно завязать интересные знакомства с умными образованными людьми. Не хочет ли Оливия пойти туда? Вот так и получилось, что обе молодые женщины рискнули в конце концов появиться в колонии. Как она теперь вспоминала, атмосфера этого места поразила ее. Там было мало денег, но много идей и ярких индивидуальностей. Между прочим, там жил молодой поэт-революционер, с которым у Оливии завязался безнадежный роман. Его звали Джитеро (впоследствии, как сказала она, он погиб в одной из забастовок; именно он познакомил ее с бунтарской литературой: с Марксом, Стриндбергом, Ибсеном, Горьким, Кропоткиным и Генри Джорджем). Она стала назначать ему тайные свидания в своем доме, и вскоре мистеру X. Б. Бранду, ее мужу, начали со всех сторон намекать, что под его семейным кровом далеко не все обстоит благополучно. Его жену и миссис Рилтор видели в пресловутой колонии. В его отсутствие какой-то проходимец из той же колонии время от времени посещает его собственный дом. Произошла бурная семейная сцена. Бранд требовал, чтоб ему сказали правду, Оливия отвечала уклончиво. Она просто интересуется этими людьми, вот и все. Эти радикалы милые люди, во всяком случае очень культурные. Что в них плохого? Однако Бранд, преуспевающий делец, член торговой палаты, видная фигура в семнадцатом по числу жителей городе США, очень хорошо знал, что в них плохого! Это же сборище головорезов! Анархисты, социалисты! Их надо арестовать, посадить за решетку, вышвырнуть вон из страны! Он не потерпит, чтобы подобная шваль являлась к нему в дом, он требует, чтобы его жена на пушечный выстрел не приближалась к этой колонии. Она не умеет или не желает поддерживать знакомство с порядочными людьми, с людьми своего круга, что ж, пусть! Но с этими-то она во всяком случае не должна связываться. Она погубит себя, да и его тоже — последнее, вероятно, в какой-то мере соответствовало истине. К несчастью для него, благодаря этим новым знакомствам умственный кругозор Оливии значительно расширился. Она уже больше не считалась со своим мужем и его друзьями; а радикалы ей нравились — во всяком случае ее увлекали идеи, за которые они боролись, — и муж стал ей теперь казаться недалеким, жадным, самонадеянным и невежественным человеком. Он богат, да, но, очевидно, для того чтобы делать деньги, как раз и нужна, по крайней мере в некоторых случаях, жадность и известная ограниченность; такой человек неизбежно отгораживается от всяких интеллектуальных, романтических и уж тем более революционных интересов. Оливия стала задумываться над тем, как бы ей выйти из неприятного положения, в которое она попала. Правда, ей было еще нелегко отрешиться от тех консервативных понятий, которые внушались ей с самого раннего детства. Но заставить себя подчиниться она не могла, да и не хотела. Она не желала отказываться ни от дружбы с миссис Рилтор, ни от радикалов. Начались тайные встречи. Была перехвачена записка. Оливии было приказано покинуть дом, а когда она уже собралась уезжать, ей приказано было остаться — проявление слабости, которой, по ее признанию, она не замедлила воспользоваться. Она попробовала было защищать своих новых друзей, что возмутило мужа еще больше, чем перехваченная записка, ибо, как он и опасался, Оливия оказалась зараженной ядом радикализма. Однако, понимая теперь, что муж слишком сильно привязан к ней и что ему не так-то легко с ней расстаться, она продолжала стоять на своем и сделала еще одну попытку уйти. Кончилось это тем, что муж в исступлении изорвал на ней платье и запер ее на ключ. Затем он плакал, просил прощения и купил ей дюжину новых платьев взамен изорванного. Но это было только начало. Муж стал донимать ее расспросами о ее поведении, ее взглядах и разговорами об обязанностях по отношению к нему и к обществу. Он даже грозился ее убить. Однажды он избил ее, и, когда она пыталась бежать, пригрозил, что все равно поймает и опять исколотит, а то и убьет. Хуже того, он объявил, что напишет ее родителям или поедет к ним сам и обо всем расскажет. Это, и только это, остановило Оливию, ибо какой бы мятежный дух ни владел ею, она все же не решалась совершить поступок, который мог подорвать престиж родителей, повредить их положению в обществе и нарушить их покой, — они ведь ничего не знали об ее изменившихся взглядах и уж никак не могли им сочувствовать. Для них это был бы удар, в особенности для отца, а Оливия страшилась его взволновать. Тем временем ее муж, воспользовавшись этим затишьем, повел против колонии такую атаку через местные газеты, что ее существованию пришел конец. Обитатели ее были разогнаны. Но Бранд, очевидно, не понимал, что он имеет дело с растущим и меняющимся организмом, и в одно прекрасное утро этот организм объявил за завтраком, что между ними все кончено. Ей не нравится Спокэн. Ей не нравится муж. Она не намерена больше жить с ним, независимо от того, как он будет с ней обращаться. Дом, автомобиль, деньги — ничего ей больше не нужно. Она уходит и будет жить самостоятельно. Поедет в Нью-Йорк и поступит в Колумбийский университет, проверит себя — а вдруг у нее есть литературные способности, и тогда она будет писать рассказы и пьесы! Она больше не может бездельничать и вести светскую жизнь. Пусть он для этого поищет себе другую. С нее довольно! Сперва Брандом овладела ярость, потом он растерялся и, наконец, перепугался не на шутку. Он остался дома, следовал за ней в спальню, долго стоял молча за ее спиной и, наконец, взволнованно спросил: «Чем же я плох, Оливия? Или я просто противен тебе? Да? В этом все дело?» Оливия говорила, что в эти минуты в нем было что-то жалкое и пришибленное. Впервые за все время, что она его знала, его безграничная самонадеянность, которая всегда так подавляла окружающих и даже ее, казалось, покинула его. Ей хотелось дружески поговорить с ним, объяснить ему, растолковать, но она тут же почувствовала, что это безнадежно. Он неспособен понять ни ее, ни самого себя. Да и она тоже вряд ли понимала его. Но она твердо знала, что, только уехав, она сможет подавить свою неприязнь к нему. В тот вечер она сказала лишь, что оставаться в его доме для нее невозможно. Тогда он стал уговаривать ее пойти на уступки. К чему так решительно порывать с ним? Она хочет поехать в Нью-Йорк — хорошо, пусть едет, он будет оплачивать ее пребывание в университете и прочие расходы, при условии, что, когда пройдет срок, скажем два года, она вернется и попробует снова жить с ним и в его кругу. Может быть, им все-таки удастся поладить. За это время он и сам, может, изменится. Не разрешит ли она изредка навещать ее в Нью-Йорке, просто чтобы взглянуть на нее? Он обещает, что это будет всего лишь дружеский визит, не больше. Да, и еще одно условие — раз уж он будет оплачивать ее расходы, ему хотелось бы, чтобы она держалась подальше от всяких радикалов, в особенности от этого поэта, и не нарушала супружеской верности, по крайней мере до тех пор, пока не решит уйти навсегда. (Все эти подробности я узнал гораздо позже, частью от самой Оливии, а частью от других лиц, чьи показания против Оливии мистер X. Б. Бранд пытался впоследствии использовать. А в тот вечер она представила события в несколько ином свете; во всяком случае она не упомянула о всех условиях, которые поставил ей муж. Итак, я узнал, наконец, что именно скрывалось за нью-йоркской квартирой, автомобилем, мебелью, картинами и всем прочим. Со стороны мужа вполне естественно было хотеть, чтобы она жила в роскоши, как и подобает жене мистера X. Б. Бранда. Между прочим, как я узнал впоследствии, квартиру он оплатил вперед за три года. Но хотя мне тогда и не были известны условия их соглашения, особого сочувствия вся эта история во мне не вызвала. Я не был влюблен в Оливию, и неразрешимые конфликты, происходящие от несходства характеров, мало меня трогали. Единственно правильным решением я считал полный разрыв — на любых условиях. Мне была неприятна мысль, что ее весьма романтическая и легкомысленная жизнь оплачивалась именно его деньгами. Впрочем, кто я такой, чтобы предписывать людям правила морали? Оливия интересовала меня как личность, интересует и по сей день, через десять лет после ее смерти. Мне казалось тогда — да я и сейчас так думаю, — что она в те годы еще сама себя не понимала, или, быть может, ее внутренняя жизнь горела тогда столь ярким пламенем, что для нее затмевалось различие между понятиями «мое» и «твое». Так бывает. С другой стороны, сумму, которую предоставлял ей муж, ни он, ни она, вероятно, не считали значительной. Он ведь был в самом деле очень богат. Однажды я спросил Оливию, не собирается ли она по истечении трех лет вернуться к мужу, и она, помнится, ответила, что нет, не собирается, добавив, что к тому времени он, пожалуй, и сам не будет так уж настаивать на ее возвращении, — замечание, которое поразило меня своей трезвостью и хладнокровием. И все-таки она мне нравилась. В ней было столько живости и очарования, и никогда нельзя было предугадать, что она скажет или сделает. Тем не менее этот завтрак с его романтическим вступлением ни к чему не привел. Около пяти часов мы расстались и после этого не виделись несколько месяцев. Затем, как-то зимним вечером, у меня раздался телефонный звонок — это была она. Целая вечность, как мы не виделись, правда? Ну, что ж, хоть я и забыл ее, она меня помнит. Не приду ли я сегодня к чаю, у нее будут две очень интересные женщины. Я счел за лучшее отказаться. В следующий раз она предложила мне присоединиться к небольшой компании, которая собиралась куда-то поехать. Я опять отказался, не помню почему, кажется, я был уже приглашен в другое место. Вскоре после этого Оливия сама пришла ко мне. Она была очень просто одета и держалась не так, как всегда. Почему я избегаю ее? О ней ходят какие-то сплетни, может быть, в этом дело? Да ни в коем случае, возразил я. Сплетен я никаких не слышал, и они меня ни капельки не интересуют, а вот сама она меня очень интересует и сейчас и всегда. Я рад, что она пришла, очень приятно снова ее видеть. Она тотчас же стала говорить о себе с такой откровенностью, словно я был ее исповедником. Ее жизнь — это сплошная цепь ошибок, теперь она это видит. Но она всегда тянулась к чему-то лучшему. Хотите — верьте, хотите — нет, но она всегда, может быть, бессознательно, стремилась расти. Ей ставили всяческие преграды, но это стремление оказалось сильнее голоса благоразумия. Может быть, она не всегда поступала правильно. Да, да, это, конечно, так. Но в ее жизни все-таки было две по-настоящему значительных полосы — ее знакомство с теми, кто борется и мыслит, и вот эти последние годы в Нью-Йорке. Мысль учиться в Колумбийском университете, которая вначале увлекала ее, оказалась ошибкой. Нельзя научиться быть писателем. Для этого нужно жить и понимать жизнь. Теперь она в этом убедилась, а также в том, что писательское мастерство — это особый дар, зависящий от личности и характера человека. Но это еще не все. Я, наверно, считаю, что она не совсем красиво поступила с мужем, может быть, это меня оттолкнуло? Но я не должен судить ее слишком строго. В прошлый раз она, видимо, недостаточно ясно изложила мне, как все происходило. Она не была бедна до замужества и, выходя за Бранда, скорее выполняла волю родителей, чем следовала собственному желанию. К тому же она была тогда еще совсем неразумной девчонкой. И разве она не прожила с ним два года, — он сам говорил, что был с ней счастлив! А что он дал ей взамен? Только вещи, не имевшие в ее глазах никакой цены. Кроме того, он очень богат. Почему бы ему не помочь ей немного, тем более что скоро она уже ничего не будет от него брать? У нее есть план. Она хочет жить самостоятельно. Это будет трудно, так как после окончательного разрыва с мужем ей уже нельзя будет обращаться за помощью к родителям. Они, конечно, станут на его сторону. Но так или иначе, она попытается сама пробить себе дорогу. Она будет работать. Разве это плохо? Так почему бы нам теперь снова не стать друзьями? Я не стал высказывать свое мнение о ней, хотя оно было самое лестное. Я просто заметил, что, по-моему, она избрала правильный путь, я не сомневаюсь, что она добьется успеха и что мы с ней никогда не переставали быть друзьями. Недели две спустя она позвонила мне и сказала, что пытается пересдать свою квартиру на оставшийся срок (около года) и, кроме того, продать мебель и автомобиль. На вырученные деньги она снимет более скромную квартирку, о да, гораздо более скромную. Она будет вести тихую и уединенную жизнь и попробует писать. И тем временем постарается получить развод, если это возможно, или предложит мужу начать бракоразводный процесс. Квартиру она скоро нашла, переехала и пригласила меня к себе. Она жила теперь в северной части города, близ Сто девяносто шестой улицы, в новом, менее привлекательном и более бедном квартале. Дом был пятиэтажный, с крошечным лифтом, которым можно было пользоваться лишь в тех редких случаях, когда негр-лифтер, исполнявший также все прочие работы по дому, оказывался на месте. Стоимость этого жилища едва ли превышала тридцать пять или сорок долларов в месяц. Квартира Оливии находилась на третьем этаже: небольшая гостиная, спальня, крохотная кухонька и ванная — только и всего. Зато всюду по стенам — и в гостиной, и в спальне — теснились на полках книги. И какие интересные! Почти все оставшееся пространство занимали пианино, виктрола и пишущая машинка. Уютный уголок! Из окна кухни открывался широкий вид на город, но, увы, только из этого окна. Не могу сказать, чтобы здесь, в этой новой обстановке, Оливия показалась мне более практичной и благоразумной, чем прежде. Все та же мечтательница и поэт в душе. Правда, она все же менялась понемногу, но стремление к какому-то неведомому идеалу не позволяло ей ни на чем успокоиться. Она сказала, что ей хотелось бы написать большое произведение, выразить в нем свои мысли и взгляды и тем проложить себе дорогу в литературу. Теперь она с каждым днем нравилась мне все больше. Постепенно я стал замечать, что гардероб ее становится скромнее, что отнюдь не огорчило меня, ибо в прежнее время платьев у нее было гораздо больше, чем нужно. Меня заинтересовало еще и то (видимо, и ее это удивляло), что хотя здесь у нее уже не было возможностей оказывать столь щедрое гостеприимство, как прежде на Риверсайд-Драйв, ее и теперь окружала толпа таких интересных людей, каких редко встретишь даже в свите нью-йоркских знаменитостей, — редакторы, писатели, художники, пропагандисты, социалисты, анархисты, консерваторы — все кто угодно. По крайней мере, два или три раза в неделю ее комнаты наполнялись людьми, приехавшими в такую даль только затем, чтобы повидать ее, не рассчитывая ни на изысканный обед, ни на хорошее вино. Но случилось так, что именно теперь, когда она окончательно решила порвать с прежней жизнью, на нее обрушилась настоящая беда. Ее муж явился в Нью-Йорк незадолго до ее переезда и объявил ей, что все это время он был осведомлен о том, какой образ жизни она вела и, по его убеждению, продолжает вести. И что если она к нему не вернется, он не даст ей больше ни гроша, мало того — сообщит все ее родителям и опозорит ее публично. Он теперь относится к ней уже не так, как два года назад. Ее поведение, пока она жила одна — и притом на его средства, — убило в нем всякое чувство. Она такая, она сякая. И все-таки видно было, что он продолжает любить ее какой-то странной, болезненной любовью. Ибо в заключение он сказал (я объясню потом, как мне это стало известно), что, хоть она и порочна до мозга костей и без сомнения заслуживает всяческой кары, все же, если она вернется и будет вести себя как полагается, он не станет применять к ней те крутые меры, которыми грозил. Узнал я обо всем этом вот как. Однажды в мою дверь позвонили, а как раз незадолго перед тем у меня была Оливия и рассказала, сколько неприятностей ей доставляет муж, что это за тяжелый человек, совершенно не способный ее понять, и как он теперь пытается силой принудить ее к тому, на что она никак не может согласиться. И вот теперь этот человек стоял передо мной — среднего роста крепыш, чисто выбритый, подвижной, с властными манерами. Он имеет честь говорить с таким-то? Совершенно верно. Если он не ошибается, я являюсь другом Оливии Бранд и одним из ее поклонников и доброжелателей? Надеюсь, что это так. В таком случае, он хотел бы поговорить со мной. Не могу ли я уделить ему несколько минут? То, что он хочет сказать, близко касается как Оливии, так и его самого. Я пригласил его пройти в кабинет, и он тотчас же принялся красноречиво рассказывать мне о подробностях своей неудавшейся семейной жизни. Что за прелестная девушка была Оливия, пока ее не отравил этот яд радикализма! Какие порядочные люди ее родители! Она была прекрасно воспитана, и он надеялся, что она сумеет оценить то общественное положение, которое он мог обеспечить ей в Спокэне. Но эти радикалы, они совсем сбили ее с толку. Она пошла по ложному, безумному пути, который неизбежно кончится гибелью. Подумайте только, какую жизнь она ведет здесь, в Нью-Йорке! И тут он стал выкладывать факты, которые, очевидно, мог узнать только через агентов, нанятых им для слежки за Оливией. К ней в дом ходят такие-то и такие-то лица, прощелыги из Гринвич-Вилледжа — как он их окрестил, — непризнанные и освистанные художники и поэты, бунтовщики из ИРМ и тому подобный сброд, бесстыжая, беспутная шайка. Оливия и сейчас продолжает посещать либеральный клуб — ему это точно известно, он может это доказать. Она водит знакомство и постоянно встречается с Эммой Гольдман, Беном Рейтманом, Биллом Хейвудом, Мойером и другими отъявленными радикалами и рабочими лидерами! Она даже принимала участие в стачках: помогала готовить обеды для забастовщиков и работала на их продовольственных пунктах. Он говорил и говорил, и в углах его твердого рта все резче залегала упрямая складка, квадратный подбородок выдвинулся вперед, глаза сверкали. Убежденность этого человека положительно зачаровала меня. Удивительный экземпляр! А весь его облик — безупречного покроя костюм, новые, до блеска начищенные ботинки, яркий галстук бабочкой, подчеркивающий белизну его рубашки и низкого воротничка! «Какое кричащее противоречие между этим мужчиной и этой женщиной!» — подумал я. И они воображали, что смогут жить вместе! Какая яркая иллюстрация слепоты и недомыслия, которые человек так часто проявляет в юности, а нередко и в более зрелом возрасте. Неужели он и сейчас продолжает всерьез думать о ее возвращении, о возможности примирения? В какой же ад превратится их жизнь, если он все-таки заставит ее вернуться! Я с любопытством смотрел на него. Он, очевидно, считал, что я имею влияние на Оливию, и не сомневался, что я стану на его сторону. Я начал было объяснять ему, что, по-моему, они слишком различные люди и по складу ума и по характеру, и разногласия, которые у них возникают, нельзя разрешить путем споров и насилия. Они по-разному смотрят на жизнь. То, что ему кажется ужасным, ей таким вовсе не кажется, да и мне тоже, если уж говорить откровенно. По всем этим причинам, с величайшей кротостью я пытался внушить ему, что самое разумное было бы оставить ее в покое. Он может, если угодно, лишить ее материальной поддержки (насколько я понял, он уже это сделал), но пусть не мешает ей идти своим путем и самой решать свою судьбу. Тогда он вдруг рассвирепел. Нет уж, простите, этого он никак не потерпит! Она испорченная женщина, развратница, мотовка! Или пусть немедленно возвращается к нему и живет с ним, или он выведет ее на чистую воду! Он давно уже следит за каждым ее шагом. Ему известны все ее знакомые и то, в каких она с кем отношениях. Вот погодите, узнают обо всем ее родители! И все ее друзья в Солт-Лейк-Сити и все родственники! Он наймет юристов и репортеров. Он поднимет на ноги прессу и сотрет с лица земли Гринвич-Вилледж и всех этих радикалов. Он ей покажет! Тут я заметил, что нам, пожалуй, лучше расстаться. Не стоит ему понапрасну тратить красноречие. Я не имею никакого влияния на Оливию, а если бы и имел, то не воспользовался бы этим, чтобы способствовать возобновлению их союза, который расцениваю как досадную ошибку. Бранд с достоинством удалился, и больше я его не видел. Примирение так и не состоялось. Бранд всячески досаждал Оливии и даже запугивал ее, и временами было заметно, что она от этого очень страдает. Ее переписку перехватывали и вскрывали; телефонные разговоры подслушивали и передавали ему. Ее знакомым звонили по телефону: «Это такой-то?» — «Да». — «Вы знаете Оливию Бранд?». — «Разумеется». — «Это говорит ваш доброжелатель. Советую вам от нее держаться подальше. Вы знаете, чем она больна?» (Следовали обычные в таких случаях инсинуации.) И подумать только, что эту войну против Оливии затеял человек, который уверял, что любит ее и хочет, чтобы она с ним жила! Кое-кого из ее знакомых, даже тех, кому она нравилась, это отпугнуло. Что же касается других (а также и меня), то их отношение к ней нисколько не изменилось. Все же Бранду удалось до некоторой степени сделать из нее парию, к чему он и стремился; странно только, что при этом он все еще желал ее возвращения. Бранд во всяком случае добился одного: спасаясь от его преследований — он следил буквально за каждым ее шагом, — Оливия снова переехала — на этот раз ночью — в небольшую квартирку в Ист-Сайде, где не было телефона, который можно контролировать, и где она поселилась под другим именем. В то же время она съездила в Солт-Лейк-Сити к своим родителям специально для того, чтобы предупредить, насколько возможно, те скандалы, которые Бранд намеревался учинить. Однако, как она мне потом говорила, эта поездка не принесла результатов. Оливии даже не удалось успокоить своих родителей. Теперь, совершенно очевидно, они считали во всем виноватой дочь, а ее мужа — олицетворением законности, порядка и всех прочих добродетелей. Ее отец был в плену ортодоксальных и консервативных взглядов и не одобрял развода. Что сделано, то сделано. Почему бы ей не вернуться к своему богатому мужу? Но эта крошечная квартирка в верхнем Ист-Сайде! И как сама Оливия была теперь не похожа на прежнюю! Помню, я однажды встретил ее на Первой авеню, близ Шестьдесят шестой улицы. На ней было простенькое бумажное платье, а в руках корзинка с провизией и какой-то журнал. Если не считать туалета, она очень мало изменилась, и здесь, в кишащем людьми Ист-Сайде, показалась мне даже более интересной, чем на Риверсайд-Драйв. Она предложила зайти к ней, и, поднявшись по каменной лестнице на четвертый этаж, мы оказались в ее новой квартире — всего лишь кухня (которая служила одновременно столовой) и смежная с ней жилая комната. Но здесь было опрятно и чисто, а из окон открывался прекрасный вид на реку. В комнате были все ее книги, пианино и пишущая машинка. Оливия объяснила, что поведение мужа вынудило ее избегать друзей, и в конце концов, не желая подводить их под неприятности, она решила спрятаться от всех. Она теперь пишет, или пытается писать, рассказы, стихи, очерки и даже пьесу. И если когда-либо ей удастся опубликовать результаты своих трудов, то она сможет жить счастливо, одна или еще с кем-нибудь, но, во всяком случае, свободно и независимо. Так по крайней мере она надеялась. Все же, начиная с этого времени, жизнь ее стала не легче, а труднее. Правда, не так уж надолго. По словам Оливии, Бранд, прежде чем возбудить дело о разводе, отправился к ее родителям и такого наговорил о ее поведении, что они перестали ей даже писать. Затем он наложил запрет на ее прежнюю квартиру и проданную мебель. А мы все хорошо знаем, каковы доходы начинающею писателя, в особенности если он стремится писать серьезные произведения. Оливия же вдобавок еще не представляла себе ясно, что она может писать и что нравится публике. Поэтому в первый же год жизни в Ист-Сайде ей пришлось расстаться и с пианино и с виктролой. Похоже было, что ей угрожает настоящая бедность. Поистине дорогой ценой платила она за свои убеждения и идеалы. А затем… Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям, мне хотелось бы рассказать о двух трогательных эпизодах, относящихся ко времени ее жизни в Ист-Сайде. Однажды вечером я зашел навестить Оливию, и она показала мне письмо, которое было подсунуто ей под дверь: написал его поэт, один из тех пылких любовников, которые стремительным натиском покоряют сердца женщин. Он был не лишен дарования, писал стихи; впоследствии он завоевал себе славу на полях сражения во Франции. Он узнал о ее невзгодах и о том, что она вынуждена скрываться. Прекрасное это было письмо — полное преклонения и искреннего чувства; любая женщина была бы рада получить такое послание. Он говорил о ее белом задумчивом лице, ее темных волосах, он сравнивал их с перламутром и черным янтарем. Она терпит нужду? Он был бы рад помочь ей. Но если она даже никогда больше не вспомнит о нем, никогда не удостоит его взглядом, все равно он будет вечно хранить память о ее облике, слышать музыку ее шагов. И затем спустя две-три недели она нашла на том же месте конверт с деньгами. Как видно, он решил, что она в самом деле голодает. Потом один из тех рабочих лидеров, о которых я уже упоминал, человек в своем роде выдающийся, разыскал Оливию и предложил ей помощь. Позже я как-то заговорил с ним о ней, и он сказал, что из всех женщин, сочувствующих рабочему движению, которых ему случалось встречать, Оливия не то что больше всех понимала, но была самой отзывчивой и умела воодушевить других. «Она помогала нам во время стачек в Лоуренсе и Патерсоне, — сказал он. — А это всегда сопряжено с опасностью, трудностями и риском. Она близко принимала к сердцу тяжелое положение рабочих, она сострадала голодным и угнетенным, но больше всего ее, пожалуй, увлекало другое — героизм, благородство, красота, которые она видела в этой почти безнадежной борьбе. Не нужно было даже близко общаться с ней, поглядишь на нее — и довольно. Своей улыбкой, своей верой она, казалось, воодушевляла людей. Мне она много дала. Пожалуй, можно сказать, что она меня вдохновляла». И вот однажды, еще в то время, когда Оливия жила в Ист-Сайде, я получил от нее по почте стихи. Они были адресованы мне, и мое имя стояло в посвящении. Перечитывая их, я понял, что эта женщина способна на нечто большее, чем поденная литературная работа, что она могла бы подняться до вершин подлинного творчества, где живут, мыслят и творят те, кто властвует над умами человечества. Я выразил ей свое искреннее восхищение стихами, тем, как она умеет тонко чувствовать и передавать движения человеческой души; однако в наших отношениях не появилось ничего нового; это была по-прежнему теплая дружба. Она знала, что я верно понимаю ее, вижу в ней мечтателя, вечно стремящегося к чему-то, человека, который смотрит широко открытыми глазами на все явления жизни, задумывается то над одним, то над другим, но все же чувствует, что жизнь остается и навсегда останется неразрешимой загадкой, той единственной тропой, которая подводит нас к вратам красоты. Еще раньше я просил вас запомнить одного журналиста, который был в числе гостей на обеде у Оливии, когда я впервые посетил ее. Это был интересный человек — для меня, во всяком случае. О нем стоило бы написать отдельную новеллу.Время показало, что он этого вполне заслуживает. Но новелла эта никогда не будет написана. Поэтому расскажу о нем здесь. Среди множества людей, которых я встречал в Нью-Йорке и время от времени принимал у себя, Джетро почему-то запомнился мне, — что-то в нем было такое, что произвело на меня сильное впечатление. Но что, однако? Порой спрашивал я себя. Он не был человеком высокоодаренным или все-таки был? Грубоватый в своих вкусах и склонностях, любитель развлечений — вечеринок, банкетов, театральных премьер, завсегдатай в мире кулис и богемы… Стоило, однако, час поговорить с ним, и вы видели, что это на редкость образованный человек, который по первоисточникам изучал историю, науку и искусство и умел применить эти знания в своей работе редактора и публициста. Но он был лишен той чуткости и тонкости, без которых… Ну, вы сами понимаете. И вместе с тем была в нем какая-то червоточинка, как будто временами в полнокровном голосе этого жизнерадостного человека, неутомимого спорщика, самоуверенного критика, проскальзывал чуть слышный, заглушенный, едва уловимый призвук уныния, сомнения, жалобы. Я всегда с удивлением замечал это. Прошло более полугода с тех пор, как Оливия была вынуждена перебраться в Ист-Сайд и оттуда прислала мне свои стихи. Я провел зиму на юге и месяца четыре не видел Оливии. И вот однажды раздался стук в мою дверь — на пороге стоял Джетро. Он только что узнал о моем возвращении, он хочет сообщить мне нечто важное. — Вы ведь один из самых близких друзей Оливии, — начал он. — Надеюсь, что так, — ответил я. — Видите ли, за последнее время, — вы этого, конечно, не знаете, — я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание. — И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Какая неожиданность для вас! Однако это так». — Да что вы говорите! Это чудесно! Поздравляю! — ответил я. — Передайте сердечный привет Оливии. Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели достопочтенный X. Б. Бранд уступил? — Все сделано и улажено, — ответил он. — Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала неправильно. Ну, да сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженимся. Теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем; между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют спокэнские газеты. — Джетро усмехнулся. — Я, впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в Спокэне двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня. Это известие поразило меня до крайности; но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетро во многих отношениях был надежный и солидный человек, весьма неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час! Странно, конечно, что ее избранник не поэт или какой-нибудь герой — человек большого таланта был бы скорее под пару ее незаурядной личности. Но, может быть, в Джетро есть что-то такое, чего я не заметил. Я призадумался. …Между тем они поженились и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетро, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетро снял дом в верхнем Ист-Сайде и с помощью Оливии, под ее руководством, обставил его. Книги, книги, книги. Большая уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро — на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами; новое пианино и виктрола. И как они всегда бывали мне рады! Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать. Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетро до брака вел далеко не добродетельную жизнь. Я с самого начала заподозрил — и чувство меня не обмануло, — что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов со всем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же в конце концов она остановила внимание именно на Джетро? Его ум? Но разве он обладал таким живым, прелестным умом, как у нее? Конечно же, нет! Ум его был трезвый и здравый и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетро был к тому же человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении, вечном стремлении вперед, пытливости, которая, казалось, ни на чем не могла успокоиться? Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил (в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в Ист-Сайде), что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же? Я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетро и его былую склонность к ночным увеселениям, а также прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов. — Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться… ну, духовно скудной, что ли? Немножко пресной? — На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джоконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала: — Есть многое на свете, друг Горацио… — Я так и думал, — ответил я. В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему: — Это выше моего понимания! В ночных клубах, наверно, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя. — Во-первых, — отвечал он, — вы видите, я занят — поджариваю ветчину; во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть! Но вопреки всем моим сомнениям они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же их все-таки сблизило. Я не знал раньше, что Джетро, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И, несмотря на всю свою внешнюю браваду, в глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны, и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройтись опытной рукой, чтобы придать им завершенность. Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил, и если прибавить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще: они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе (так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания). С другой стороны, поскольку Джетро интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы. Поэтому вскоре после женитьбы они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене. Как это воодушевило Джетро! Какую удовлетворенность ему принесло! Каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену! Ночные клубы? Вот еще! Вечера в Гринвич-Вилледже? Да кто они такие, завсегдатаи этих вечеров? Сборище бездельников, бесплодные мечтатели и искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа! Истинный успех — вот что ему нужно! Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия, круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон! Джетро прямо на глазах становился другим человеком; под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе, он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Вилледжа. А дни текли своим чередом, принося радости, принося печали. Время не остановишь, и случайность нельзя предусмотреть. Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших молодую чету! И вдруг — безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетро по телефону; мне нужно было навести у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова… Легкая простуда, пустяки… Всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне: ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар. Ждут доктора. Позже, вечером, я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу св. Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер. Я поспешил в больницу. К моему облегчению, я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джетро ее устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джетро сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, о том, что они с Джетро надумали построить дачу в Джерси на берегу моря в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спален и столовой смотрят в море, из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будущей весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости. Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джетро был в неописуемой тревоге. Он был бледен как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том о сем; на этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала: — Я не о себе думаю, мне жаль Джетро. Ему было хорошо со мной. «И даже очень», — подумал я, но вслух сказал: — Я понимаю, Оливия. — Я знаю, вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала? — Чудесные стихи. Прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами. Они всегда со мной. — Я хотела, чтоб вы знали. Но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли полюбить меня, нет? — Нет, Оливия, — отвечал я, — так не мог. Вы сами знаете: человек не властен над своими чувствами. Но не думайте, что я не видел вашей красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной… Я и теперь так считаю… Она взяла мои руки в свои. — Я понимаю, — сказала она, — все понимаю. Ну, я и подумала тогда, может быть, я смогу что-нибудь сделать для Джетро. Он так нуждался во мне. — Вы сделали для него все, — сказал я, — я уверен в этом. — Потому-то мне и не хотелось бы уходить, — ответила она. На другой день она была без сознания. Через день — то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней, в пять часов утра, позвонил Джетро: час назад она умерла. Дальше, как обычно, похоронная церемония — бессмысленно пышная и угнетающая. Затем мучительная для Джетро поездка в Солт-Лейк-Сити, — родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетро согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой. Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джетро говорил, что на них жалко было смотреть, — они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни. Но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетро с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры — это было ужасно, по словам Джетро. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. Вот вам Джетро, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный. Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусам. — Два дня я терпел, — сказал он. — Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. Могила Оливии, — продолжал он, — находится высоко над городом, на склоне гор, оттуда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась. Ей, наверно, понравилось бы это место. Но как ее смерть подействовала на Джетро! Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет; что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе. Я думаю, они в самом деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот — конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи… Я часто приходил посидеть с ним, пытался, сколько возможно, подбодрить его, но видно было, что ему слишком тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, переедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать… И мать с сестрой действительно приехали, и на другое место он перебрался, а работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась, — он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. Нужно отдать ему справедливость, он пытался. После того как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделил бы с ним сложный для него литературный труд. До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функции эндокринных желез и их влияния на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, и вскоре Джетро стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти теории и к чему все это приведет, но ему было интересно, и он рассчитывал в дальнейшем использовать этот материал для пьес и рассказов. Но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все преходяще в этом мире! Бренность, животная грубость и балаганная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека — этого представителя homo sapiens, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды! Его жалкие усилия сделать что-то из ничего! Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови — и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка! Боже, для чего же в конце концов живут люди! Во всеуслышание они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит! Добродетель, приличия, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства — какая все это ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме! Понятно, к чему привели эти настроения, — к пьянству, кутежам с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу «слова божьего»; сестра, встревоженная и огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливию, — только постаревший на десять лет, уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года! Примерно в это время он как-то зашел ко мне. Мы говорили о том о сем — о его работе, о его будущем. И, конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищеводе — бог его знает, что это такое, — и печень слегка увеличена, так по крайней мере показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность. — Знаете что, Джек, — сказал я, — вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы… — Если бы мне встретить такую, как Оливия. Но мне ее не встретить. Другой такой нет. Он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе, — скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его. Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию, километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной, хотя бы на несколько дней. Он ответил письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью говорил о моем предложении; он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но… Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания. Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты; с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура сорок. И все время бред — об Оливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джетро гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джетро в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке. Затем легкая простуда, жар и почти сразу же — бессознательное состояние. — Удивительное дело, — рассказывал он, — как только Джетро потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, ну, этой, знаете, Оливии Бранд. — Знаю, — сказал я. — Он только о ней и говорил. — Вот как. Я поднялся наверх; Джетро лежал на больничной койке, окруженный докторами — их было трое — и сиделками; он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными в жару. Он то провозглашал тост за чье-то здоровье: «Всем налито? Поднимайте бокалы!» То усаживал какую-то компанию в автомобиль: «Все в сборе?» То вдруг порывался встать и идти домой, — он должен идти домой, скорее домой, Оливия сказала… Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза: — Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня? — Конечно, знаю, — ответил он. Глаза его на минуту прояснились. — Вы… — И он назвал мое имя. Это было прощание. Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии. — Как странно, — сказала мне его сестра. — Болезнь у него началась точь-в-точь, как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки; мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его. И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил. На двадцать девятый день болезни он умер. Садясь в такси, чтобы ехать к нему домой, я сказал шоферу: — Поезжайте мимо парка, через Сто десятую улицу, потом вверх по Бродвею. Но он почему-то свернул у Морнингсайд Хайтс и проехал как раз под окнами больницы, где умерла Оливия. Я этого не заметил, пока случайно не взглянул вверх… Прямо передо мною было окно ее палаты. И тогда я подумал: «Оливия, Оливия, неужели это ты позвала его к себе? Ты так жалела его?..»
Рона Мэрса
Ее имя воскрешает в моей памяти восхитительную весну и лето в начале последнего десятилетия прошлого века, и я вспоминаю огромное здание в финансовом центре Нью-Йорка. В ту пору я был просто начинающим писателем, напечатавшим лишь несколько очерков и один или два рассказа. И в то время, как это иногда бывает с новичками, я очень подружился с одним молодым писателем, недавно приехавшим в Нью-Йорк. Мы были примерно одних лет и обладали одинаковыми вкусами и склонностями. Красивый, одаренный, отчасти идеалист (по крайней мере в теории), он был в то же время почти совершенно не приспособлен к практической жизни, и, однако, — возможно именно поэтому — он возбудил во мне живейший интерес. Я считал его тогда и считаю теперь неисправимым мечтателем и фантазером, любителем невероятных романтических историй, которые пленяли меня именно своей невероятностью. Он был к тому же веселым и отзывчивым человеком, любил жизнь и развлечения (главным образом развлечения, как я понял впоследствии). Самой неприятной и раздражающей чертой его характера было безмерное самомнение, которое заставляло его воображать, во-первых, что он — величайший мыслитель и писатель, какого видел свет; во-вторых, что он в то же время весьма практичный, бывалый деловой человек. Стоит ему только сосредоточить свое внимание на любом самом запутанном вопросе — и все сразу станет ясно и понятно! Стоит ему только серьезно вдуматься — и любая философская или практическая проблема будет разрешена. Короче говоря, он любил не только спорить, но и распоряжаться и командовать. Я неизменно уступал ему, потому что он очень нравился мне, как, впрочем, и другим людям, которым приходилось иметь с ним дело. Он был слишком обаятелен и интересен, чтобы не потворствовать ему во всем. Но, беседуя с ним о его прошлом, я вскоре обнаружил, что в личной жизни ему далеко не все удалось наладить и решить. В двадцать два года, например, он женился на очаровательной и умной девушке, а в двадцать три стал отцом; предполагалось, что теперь он — кормилец и вершитель судеб целой семьи. Но, подобно Шелли (и это можно было бы ему простить, если бы он стал знаменитым писателем), он оставил жену и ребенка на произвол судьбы. Правда, надо признать, что его жена была весьма практичная женщина и могла великолепно заботиться о себе, к чему он был совершенно не способен. Он принадлежал к числу тех идеалистов, которых непременно должен кто-то опекать. В то время, когда мы с ним познакомились, я уже был женат, и он мог жить у меня сколько угодно, всегда мог пообедать и даже занять немного денег на поездку за город или в ресторан. К тому же у меня были знакомства в нескольких журналах. И так мы вместе жили, обедали, гуляли и беседовали. Я соглашался со всем, что он делал, говорил и думал, хотя мне и казалось по временам, что он отнюдь не прав — например, как мог он бросить жену и ребенка? Но привязанность к человеку, если не заглаживает полностью, то по крайней мере делает незаметными очень многие его недостатки. И постепенно мы так подружились, что почти все писали вместе, за одним столом и во всем советовались друг с другом. Моя жена тоже очень привязалась к Уинни (его фамилия была Власто), и почти все субботние вечера и воскресенья мы проводили вместе. Однажды летом мы втроем отправились в те места, где он родился и вырос, на реке Мэшент в штате Мичиган, и больше месяца отдыхали и развлекались там. Мы действительно были с ним как братья в области духовных интересов, во всем, что имеет отношение к разуму, красоте, искусству, и, как говорил Уинни, нам самой судьбой было предназначено помогать друг другу в этой нудной и утомительной жизни. Да! Я как сейчас слышу его голос, вижу его голубые глаза, нахожусь под неуловимым влиянием его фантастических мечтаний и до сих пор ощущаю его присутствие рядом с собой, его неизменный оптимизм и жизнерадостность, которые как-то уравновешивали мои слишком серьезные и полные глубокой внутренней неудовлетворенности размышления о путях человеческих. Он умел создать так много из ничего! Деньги? Чепуха! Они нужны только тем, кто уже утратил способность наслаждаться жизнью. Разум — вот ключ ко всем тайнам и наслаждениям. Любовь и наслаждение даются тем, кто создан для них, кто самой природой предназначен для этих радостей. Разве я этого не знал? Увы, я это знал слишком хорошо. Мне было всего труднее разобраться именно в этих сторонах человеческой жизни, да и Уинни, пожалуй, тоже, в те минуты, когда он был вынужден сталкиваться с ними лицом к лицу. Но Уинни выработал то, что он именовал «доктриной счастья». Он очень много говорил и писал об этом, но по существу это было, как я понимал, чем-то вроде самоутешительного и облегчающего душу способа спастись бегством от тяжкого ярма долга. Ибо первое правило его новой оптимистической теории заключалось в том, чтобы быть счастливым самому, не обращая никакого внимания на других, а там будь что будет! Но для того, чтобы придать этой теории более гуманный облик, предлагалось следующее объяснение: поступая таким образом, вы даете счастье и солнечный свет окружающим. Меня всегда поражала внутренняя противоречивость этой теории. Несмотря на свою доктрину, он отнюдь не был столь счастлив, хотя и прилагал все усилия к тому, чтобы самому уверовать в это. Вот, например, жена и ребенок, — он совершенно не заботился о них и успокаивал свою совесть по этому поводу всевозможными хитроумными рассуждениями. Разве он не остается верен своей жене? И он обязательно сделает для них что-нибудь, как только у него будут необходимые средства. И ведь жена, право же, в гораздо большей степени деловой человек, чем он сам. Последнее соображение было вполне справедливо. Что касается этой верности, которой он по временам старался оправдать себя, ну, что ж, он увлекался женщинами, чуть ли не каждой молодой, хорошенькой и неглупой девушкой, и не мог понять, почему ему нельзя дружить с ними и развлекаться в их обществе. И почти все его знакомые женщины соглашались с ним. Однако, положа руку на сердце, я думаю, что до последнего времени его отношения с женщинами были вполне платоническими. Но он был такой язычник и пантеист по натуре и инстинктивно так ненавидел все цепи, узы и обязательства, в том числе и те, которые связывали его с женой и ребенком, что эти отношения не могли оставаться просто дружескими, по крайней мере для постороннего взгляда. Он становился так откровенно, так трогательно нежен. Даже женщины, обычно придерживающиеся строгих правил, казалось, не могли устоять перед ним. Но довольно об Уинни. Оставим его и обратимся к иным картинам и обстоятельствам. Однажды, закончив небольшой очерк, я положил рукопись в карман и вышел из дому, чтобы найти машинистку. Зайдя по какому-то другому поводу в огромное здание в деловой части города, я увидел в вестибюле напротив лифта небольшое объявление в позолоченной рамке:РОНА МЭРСА. ПЕРЕПИСКА НА МАШИНКЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. СТЕНОГРАФИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ, СЪЕЗДОВ И СОВЕЩАНИЙ. ПЕРЕПИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ И ЛИТЕРАТУРНЫХ РУКОПИСЕЙ. РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ НА РОТАТОРЕ. XVI этаж.Вспомнив о своем очерке, я поднялся на шестнадцатый этаж, где встретил молодую и весьма привлекательную женщину, которая очень заинтересовала меня своей живостью, сообразительностью и деловитостью. По моим предположениям, ей было года двадцать четыре — двадцать пять. Она была небольшого роста, изящна и хорошо одета: превосходно сидевший, строгого покроя костюм, белый воротничок и манжеты, яркий галстук и прочные туфли. Из левого кармана жакета торчали разноцветные карандаши. Пышные иссиня-черные волосы были разделены косым пробором, а сзади собраны в красивый узел. Но не менее, чем она сама, меня заинтересовало внешнее великолепие предприятия, поставленного на широкую ногу, в котором она явно играла первую роль. Помещение было размером не меньше чем тридцать на шестьдесят футов, и из окон, выходивших на три стороны, открывался широкий и величественный вид почти на всю северную часть Манхэттена и одновременно на Ист-Ривер и Норс-Ривер, а также на тот берег залива, где расположен Джерси-Сити. Внутри комната была уставлена скамьями, точно класс; там было десятка два или даже больше столов с пишущими машинками. За каждым столом сидела весьма прилежная, хотя и не всегда миловидная машинистка. Начальница этого машинописного бюро, как я вскоре узнал, не особенно благосклонно относилась к хорошеньким машинисткам. По ее собственному откровенному признанию, она не считала, что они способны всецело отдаться работе. И я сразу же обратил внимание на то, что ее собственный большой квадратный стол — в высшей степени солидное сооружение — стоял между двумя высокими окнами, откуда открывался самый замечательный вид, в то время как ее подчиненные должны были довольствоваться либо лицезрением своей начальницы, либо гораздо менее интересными пейзажами. На этот раз, как я вспоминаю, наш разговор длился недолго, и мы успели только поговорить об условиях, которые в данном случае оказались вполне приемлемыми. Она, однако, добавила, что, хотя в основном ее бюро занимается перепиской судебных документов, она охотно берет и «литературную работу»: хотя это и не так хорошо оплачивается, но ее интересуют романы и рассказы и даже такие очерки, как мой. Это меня и заинтересовало и позабавило. На мой взгляд, она была довольно наивным человеком, если бралась печатать то, что я в ту пору писал, ради удовольствия «заниматься литературной работой». Мои писания — литература! Вот как! После встреч с равнодушными или в лучшем случае непонятливыми редакторами и издателями это было приятной новостью. Я ушел, спрашивая себя, неужели кому-то доставляют удовольствие произведения неизвестного, непризнанного писателя? Встретив за обедом моего собрата по перу, я рассказал ему об этой находке — машинистке, которая не только неглупа и недурна собой, но и берет недорого. У нее такой большой штат, что она может выполнить заказ за три или четыре часа, если сдать ей рукопись не позже полудня. И сверх того, она польщена тем, что работает для писателя! Такая рекомендация произвела большое впечатление на моего друга, и через день или два, когда ему понадобилось отдать в перепечатку собственную рукопись, он объявил, что отправится в указанное мною место. И, к моему удивлению, после этого он исчез на несколько дней. Когда он опять появился, то сообщил, что провел эти дни с приятелем, которого давно не видел. Я удивился, не очень поверил ему, однако не настаивал на дальнейших объяснениях. Вскоре, видя, что я не донимаю его расспросами, он сам завел разговор о мисс Мэрса. Я оказался прав. Уже давно он не встречал такой умной, отзывчивой, услужливой женщины — это подлинное воплощение энергии и деловитости. Удалось ли мне поговорить с ней как следует? Я признался, что нет. Ну, а ему удалось, и он обнаружил в ней бездну здравого смысла и к тому же умение судить о литературе и искусстве. Как он объяснил мне, с первой же встречи он нашел с ней общий язык. Короче говоря, он уже с первого раза знал ее так, словно они были знакомы много лет. Он даже был у нее в гостях и обедал в уютном доме в Джерси-Сити, где Рона, как он уже стал называть ее, жила со своей матерью и теткой, старой девой; с ними жили еще помощница Роны по машинописному бюро и старая кухарка-ирландка, которая выполняла самые разнообразные поручения. Все это меня очень заинтересовало. Однако, зная, как Уинни ведет себя с девушками, я не слишком удивился. Но это было только начало. Затем он снова исчез на несколько дней, из-за чего, между прочим, остановилась работа над нашим общим очерком, который должен был дать нам деньги на жизнь. Когда Уинни вернулся, то заявил, что опять провел время в обществе Роны, или, вернее, ее семьи, но только в самом чистом, платоническом смысле этого слова, чему я должен поверить искренне и безоговорочно. Разумеется, это был один из тех редких и совершенно платонических союзов, когда люди сразу достигают полного взаимопонимания. И действительно, между ними установилась глубокая внутренняя симпатия, он откровенно рассказал ей о своем материальном, общественном и семейном положении, — и, видя, что у него совсем нет денег, Рона предложила ему поселиться у нее. В доме есть несколько свободных комнат, он может выбрать любую. И, конечно, в том свете, в каком он мне это преподнес, я не увидел тут ничего плохого. Разве искусство не остается искусством? Разве художник это не дар миру? У него особые права, и его нужно всячески поощрять. Я думал именно так. Поэтому, конечно, тут и не было ничего плохого. Kismet![41] Менее чувствительный и пылкий, чем я, он мог — я был в этом уверен — поддерживать такие отношения с женщинами и притом не переступать границ. Но пусть так. Во всем этом меня касалось только одно: он уже успел пооткровенничать с ней обо мне, поведал ей все подробности моей интимной жизни и моих подчас совершенно необъяснимых склонностей, увлечений и связей. И она, по его словам, все поняла. И вдобавок он рассказал ей почти все о нашей дружбе — об удивительной, теперь уже нераздельной и нерушимой душевной гармонии, которая заставила нас, как это бывает в любви между мужчиной и женщиной, с первого взгляда проникнуть в истинную сущность друг друга и, подобно Дамону и Пифию (или найдите какое хотите другое сравнение), обрести неразрывное единство как в духовном, так и в общественном отношении. Но я, видимо, забегаю вперед. Нужно еще рассказать о старом каменном доме в Джерси-Сити. Дом этот цел и поныне. Через много лет после того, как произошло все, о чем я рассказываю, однажды, летним вечером, мне случилось пройти мимо него. Незнакомые люди сидели на ветхом каменном крыльце, как когда-то давно в летний вечер сидели там, разговаривали и мечтали Уинни, Рона, ее мать, тетка и мы с женой. Я увидел те же коричневые ставни, те же открытые окна, куда вливалась вечерняя прохлада; и так же звучали голоса соседей, сидевших на своих крылечках. Только теперь, может быть, новая Рона с обожанием, как рабыня, смотрела на нового Уинни. Другие люди и другие мечты, но всем этим людям так же свойственно надеяться или отчаиваться. Что такое человек и почему, о боже, ты уделяешь ему так много внимания? Но, простите, я опять забежал вперед. Я говорил об их встрече. Как разительно переменилось все для нас с Уинни с этого дня! Ибо, конечно, это новое знакомство, которое так захватило его, было серьезным ударом для драгоценной духовной связи между нами. Ведь дружба, как и любовь, руководствуется одним законом: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». А здесь, конечно, появился другой бог, или, вернее, богиня. И эта богиня, или по крайней мере ее мать, обладала средствами, каких не было ни у кого из знакомых Уинни. Я сам видел солидно поставленное машинописное бюро со множеством служащих — ясно было, что оно дает Роне приличный доход, а Уинни рассказал еще и о доме в Джерси-Сити, а также о других домах и землях в штате Нью-Джерси, которые принадлежали матери Роны, ее тетке и еще другой тетке. И все это должно было перейти к той же Роне после смерти вышеупомянутых родственников. И хотя, как я знаю, Рона отнюдь не желала и не ожидала смерти своих любимых и любящих родственников, она поведала об этом Уинни, а он, несмотря на весь свой идеализм мечтателя и романтические склонности, все же не так уж презирал недвижимую собственность, при условии, что она достается ему без особых хлопот и не мешает осуществлению литературных замыслов и планов. Более того, не имея никаких корыстных намерений — ибо он создавал или давал радости, мысли и вдохновения всегда больше, чем получал, — он все же не остался к этому равнодушен. А Рона явно была рада этому и надеялась, что богатство вместе с ее неподдельным преклонением перед Уинни поможет ей удержать его. По крайней мере ее последующие поступки, как я полагаю, подтвердили это. Но постойте! Не впадайте в отчаянье! Я продолжаю свой рассказ. В то время Уинни объяснил мне, как будто не без грусти и смущения, что наша чудесная дружба ни в коем случае не должна быть омрачена или нарушена из-за этой новой связи. О нет! Ни в коем случае! Ни в коем случае! Ибо Рона уже поняла все. Право же, она поняла. Он с предельной ясностью довел до ее сознания, как мы необходимы друг другу. А кроме того, она настолько умна и деликатна, — это я и сам вскоре пойму, — что не захочет мешать столь многообещающему литературному содружеству. Да, да. Право же, говоря откровенно, она понимает, как глубока и благотворна для нас обоих эта дружба. В лучшем случае — как он неоднократно говорил в беседах со мной — она хотела только принять участие в нашей дружбе, так же как и моя жена, стать четвертым участником, быть полезной, чем можно. Ведь она богата! Как она сама призналась Уинни, она хотела, чтобы эти деньги помогли ей стать хоть немного счастливой. А если можно, она и других сделает счастливыми. (Я вижу теперь, насколько искренней она была, искренней к несчастью для себя.) Мы должны приехать к ней, и очень скоро (будет дан торжественный обед), а затем мы все вместе куда-нибудь отправимся — на морской или горный курорт. В доме у Роны, помимо комнаты, где поселился Уинни, были еще две свободные комнаты с ванной, прекрасно обставленные. Когда-то их занимал ее отец, скончавшийся много лет тому назад. Очевидно, эти комнаты предназначались в качестве приманки для Уинни. Но теперь он завел речь о том, что все это к нашим услугам в любое время — комнаты, стол, все, что нужно. Это было, пожалуй, слишком роскошно для нас, но разве это не звучало прекрасно? Право же, очень великодушное предложение. Тем не менее — и, боюсь, к нашему общему разочарованию — это ни к чему не привело, кроме бесконечных разговоров: мы с женой долго обсуждали, что все это, собственно, значит. Пожалуй, нам следует отнестись к этим весьма щедрым предложениям как можно более сдержанно. Конечно, я уже знаком с этой дамой. Ведь именно с моего посещения машинописного бюро и с моих рассказов все и началось. И тем не менее Рона интересуется по-настоящему не нами, даже не мною, а одним только Уинни. Правда, она очаровательна, и радушна, и все что угодно — ее отношение к нам, да и отношение Уинни тоже обещают в дальнейшем близкое и приятное знакомство, — а все же не лучше ли, с точки зрения здравого смысла, подождать, не спешить? Пусть эти дружеские отношения развиваются постепенно, сами собою. Нам казалось, что так будет лучше. К тому же нас беспокоило, что где-то ведь существовали жена и ребенок Уинни. А Уинни уж слишком легкомысленно к этому относится, он просто не желает думать о своей прежней семье. Ведь положение его жены сейчас далеко не блестящее! Я думал и об этом. И право же, перед нами в высшей степени интересная и своеобразная влюбленная пара, которая, как все влюбленные пары, скорее стремится к уединению, чем к обществу посторонних; ясно, что нам лучше быть сдержанными, ненавязчивыми и осторожными и не надоедать им. И мы искренне старались быть как можно сдержаннее, но нам не всегда удавалось устоять перед уговорами и обаянием Уинни. Возражать ему было невозможно. Пришлось принять приглашение на обед, а потом подумать и об ответном приглашении. Затем мы все вместе отправились в загородную поездку, а потом провели субботний вечер и воскресенье на одном из соседних морских курортов. Ведь я встретился с Роной весной, а теперь наступило лето. А тем временем мы напряженно изучали друг друга. Ибо хотя Рона была обаятельная женщина и притом щедра сверх всякой меры, когда дело касалось Уинни, но, как всегда бывает, мнения о ней расходились, — все зависело от благоприятной или неблагоприятной точки зрения наблюдателя. Что до меня, то Рона мне нравилась, как умная, очень тактичная и привлекательная женщина, которая простодушно увлекалась «литературой», или «беллетристикой», или тем, что она сама вкладывала в эти понятия. Конечно, мне вовсе не казалось, что она такой же свободно и оригинально мыслящий и тонко чувствующий человек, как сам Уинни. Однако он как будто видел или хотел видеть ее именно в этом свете. Судя по его описанию, такой она и была, и даже больше того. И, наоборот, моя жена, видевшая именно в самой себе источник чувства и поэзии, обогащающий нашу жизнь, встретив Рону, мгновенно решила, что описания Уинни сильно преувеличены. Она сказала и ему и мне, не переходя, однако, границ дружеской и мягкой критики, что Уинни, по обыкновению, настроен слишком восторженно. Рона, конечно, очень мила; не красива, но привлекательна и, несомненно, великодушна, когда дело касается Уинни, на нас же она распространяет свою любезность только ради него. И я должен иметь это в виду. Хоть Уинни и бредит платонической дружбой, которую не способна поколебать обычная, всем людям свойственная любовь или чувственное влечение, хоть необыкновенная щедрость Роны, граничащая с сумасбродством или даже безумием, и распространяется (или может распространиться) на всех нас, все же, утверждала моя жена, Рона — женщина и для нее важно только одно — Уинни, ее любовь или увлечение им, и ничего платонического тут нет. Жена считала, что она прекрасно разбирается в этом. Акроме того, нельзя забывать и о другом: о жене и ребенке Уинни. Нам следует вести себя осторожнее, вот что! В результате мы так и не поселились в одном доме. Мы только навещали друг друга, иногда ходили вместе в театр или еще куда-нибудь. Но я постоянно с тревогой думал о том, чем все это кончится. Ибо при всем моем желании разделять оптимизм Уинни, восторженно уверявшего, что все в нашей жизни идет как нельзя лучше, я вовсе не ощущал спокойствия и благополучия. Разве может мужчина (не кто иной, как я) состязаться с женщиной (Роной) в борьбе за привязанность другого мужчины (Уинни)? Хотя, если взглянуть на вещи с иной точки зрения, никакой борьбы или соперничества с моей стороны вовсе и не было. Какое мне дело до того, насколько близки станут Рона и Уинни, до их взаимной привязанности и страсти, лишь бы наше с ним духовное содружество, наше личное и литературное единение осталось непоколебленным. Но сохранится ли это содружество? Возможно ли это? Я сразу заметил, что Рона ясно отдает себе отчет в том, насколько прочно связывают нас с Уинни внутреннее родство, способность одинаково мыслить и чувствовать. Это был союз, который не так-то легко мог разрушиться или хотя бы отчасти пострадать, даже под влиянием их взаимных отношений. Уинни мог вести себя сейчас как угодно — считать, что он расстался со мной навсегда, ссориться со мною, минутами даже ненавидеть меня, но никогда, никогда я не стану ему безразличен. Нам обоим чутье подсказывало это с самого начала. Ни один из нас не мог ясно представить себе или определить это ощущение, однако оно существовало, оно было так же реально, как стена, или дверь, или, короче говоря, как та абсолютная субстанция, из которой делаются стены и двери или из которой они первоначально возникают. Теперь отношения Уинни с Роной угрожали нашей дружбе, и это очень тревожило меня. Но я любил Уинни, а потому старался ему верить. Кроме того, благодаря технической и деловой помощи Роны, — она могла, если нужно было, снова и снова перепечатывать нам рукописи очень быстро и притом почти бесплатно, — мы должны были работать быстрее и создавать больше. И, наконец, хотя я очень осторожно и сдержанно относился к гостеприимству Роны и Уинни, нам постоянно предлагали всякие развлечения, а чаще всего приглашали к ней домой. Я убедился, что это был действительно очень приятный дом. Отец Роны, как выяснилось, был полковником и во время Гражданской войны командовал Нью-Йоркским полком — лихой солдат и обаятельнейший человек, который, как рассказала нам Рона, превосходно знал литературу и право. Его дед был офицером во время американской войны за независимость. Во всем доме чувствовались традиции старины. А Рона, ее мать и тетушка были, право же, очень достойными женщинами, мягкими в обращении, скромными и ненавязчивыми. Мать и тетя, улыбаясь, объяснила нам Рона, чрезвычайно набожные католички и весьма ревностно исполняют все обряды. А сама она ничуть этим не интересовалась. В отношении религии она была, как и ее отец, белой вороной в семье и всегда верила только в то, что считала разумным. Мало того, она была поклонницей литературы реализма, философии и искусства, потому-то ее и заинтересовал Уинни, говорила она смеясь. А в церкви она бывала редко, только для того, чтобы не ссориться с родными. Но приходила она в церковь веселая, сияющая, точно на прогулку. Бедные мама и тетя! А отец Дули, приходский священник! Он уже давно махнул на нее рукой как на неисправимую грешницу. Ее мать и тетка ценили ее главным образом за то, что она была весьма практична и умела успешно вести их дела. Поэтому они были рады переложить все на ее плечи. Но какая борьба шла между мной и Роной! Ведь теперь не только Уинни приезжал работать ко мне, но и я ездил работать к нему; часто мы вместе обедали, вместе развлекались по воскресеньям, причем Рона непременно хотела сама платить за все. Нельзя сказать, чтобы я этого хотел! В сущности, если бы Уинни способен был сделать решительный выбор, я бы, не споря, примирился с его решением. Ясно было одно: несмотря на сильное и внезапное увлечение Роны и то, что сам Уинни охотно принимал ее материальную и духовную поддержку, он был, однако, уверен, что его творческая, если не эмоциональная жизнь нераздельно связана со мной. И так как я не мог жить с ним в Джерси-Сити, а навещал его лишь изредка и ненадолго, он приезжал ко мне и оставался иногда на несколько дней, особенно когда у нас была спешная работа. В таких случаях, насколько я знаю, он просто оставлял ей записку или потом звонил по телефону в бюро, чтобы объяснить свое отсутствие. Бывало так, что я приезжал к Уинни, мы с ним запирались в комнате и занимались неотложной работой. Мы не выходили и тогда, когда Рона возвращалась домой, и ей приходилось подолгу ждать нас. Иногда, как я мог уловить это из телефонных разговоров, она была недовольна. Иногда она даже пробовала сама скрыться на день, на два, но всегда быстро сдавалась и посылала телеграмму или записку с нарочным, прося позволения прийти или приглашая нас на обед. А иногда из самолюбия она делала вид, что у нее очень много работы и ей нужно до позднего вечера задержаться в своем бюро, — тем самым она давала Уинни возможность уехать, не прибегая к отговоркам и не обнаруживая слишком явного невнимания к ней. Делала она это с веселой улыбкой. И, однако, интерес Уинни к Роне, как я заметил, с самого начала носил какой-то двойственный характер: наполовину, если не больше, это был чисто практический интерес, а в остальном — искренняя, платоническая симпатия, но не более того. Он вообще был человек не слишком чувственный. И действительно, насколько я мог заметить, Рона и все связанное с нею интересовало его в значительной степени потому, что близкое знакомство с нею могло как-то помочь нам — ему и мне (содружеству двух писателей, пытающихся пробить себе дорогу), доставить какие-то удовольствия и удобства. И это было не последней из причин, заставлявших его дорожить отношениями с Роной. Я уверен, что Уинни ставил Рону гораздо ниже нас обоих и по умственному развитию и по душевному складу; он знал, что она его во многом не понимает и только одержима неукротимым стремлением стать чем-то для него: пусть он сделает из нее, что пожелает, все равно что, лишь бы это соответствовало его идеалу. А Уинни (я это понимал, и она сама тоже понимала) больше всего ценил ее за то, что она богата и готова разумно и практично тратить свои деньги ему на пользу. С другой стороны — и мне часто думалось, с какими, наверно, терзаниями, — он не раз задумывался о том, как плохо и трудно пришлось бы нам одним, то есть без помощи Роны. Что касается меня, то я писал такого рода вещи, которые вряд ли можно было скоро продать издателям и которые не обещали большой материальной выгоды. Помимо этого, в нашей совместной работе я всегда старался ускорять темпы, Уинни же, особенно теперь, склонен был работать с прохладцей. А почему бы и нет? Ведь у Роны есть средства. Она постоянно говорила о развлечениях и то затевала загородную прогулку на субботу и воскресенье, то уговаривала нас поехать к морю или в горы. Поездки эти доставляли большое удовольствие Уинни и нам с женой, хотя сама Рона иногда не могла оставаться с нами до конца. Не все ли равно — лето или осень? Почему бы не наслаждаться, пока есть возможность? При всем том я чувствовал тогда, как, впрочем, чувствую и теперь, что Рона бывала с избытком вознаграждена, когда ей, хотя бы и недолго, удавалось побыть в обществе Уинни — этого обаятельного, жизнерадостного мечтателя и поэта. Где и когда еще могла она найти человека, подобного ему, наслаждаться его присутствием, слушать его речи, видеть его улыбку? Как она восхищалась им! Какой красивый у него лоб! Какие ясные, синие глаза! А щеки и губы румяные, как у херувима! И при этом он был настоящий философ, убежденный оптимист, прямо второй Платон; слушая его, самый отчаявшийся человек воспрянул бы духом. Поистине этот юноша был гипнотизером, — мелодией своего голоса, красками и музыкой своей фантазии он, словно магическими заклинаниями, убаюкивал разум и уводил в царство мечты, в область непостижимого и таинственного. Но и в область трагедий, да, да, ибо, как у самого Шелли, его светлый путь шел через трагедии… других людей. С самым искренним сочувствием я вспоминаю теперь тревогу Роны, ее попытки извлечь все, что можно было, из создавшегося положения. Все ее усилия тогда и позднее, казалось, были направлены на то, чтобы соблазнить Уинни перспективой постоянного комфорта и даже роскоши. Она даже решила помочь его жене и ребенку, — по-моему, она хотела таким образом привязать к себе Уинни. И вскоре последовало очень великодушное предложение: пусть он разрешит ей дать воспитание девочке, отдать ее в школу, а жене можно посылать ежегодно известную сумму денег. В первую минуту оба эти предложения были решительно отвергнуты, но потом, если я не ошибаюсь, были приняты, — во всяком случае семья Уинни получила какую-то материальную поддержку. Кроме того, как я вскоре заметил, Уинни завел себе новые костюмы, новые ботинки и новую шляпу, и притом гораздо лучшего качества, чем все, что он мог позволить себе раньше. Я не преминул сделать из этого некоторые выводы. Однако, попав в такое затруднительное положение и оказавшись перед выбором — причем у него не было ни желания, ни воли разорвать отношения ни с ней, ни со мной, — Уинни стал придумывать способ, как удержать нас всех вместе. И когда прошла зима и наступила вторая весна нашего знакомства с Роной, он, наконец, нашел этот способ. В один прекрасный день он внезапно объявил с веселым, решительным видом, который всегда придавал такое своеобразие и убедительность его открытиям и затеям, что вокруг Нью-Йорка ведь немало прекрасных уголков на море и в горах; стоит только нам четверым выбрать подходящее место (впрочем, Рона, вечно занятая в городе, сможет бывать с нами лишь урывками), и мы могли бы немедленно отправиться туда и восхитительно провести время, продолжая при этом усиленно работать. Правда, я с грустью вспоминаю, что с тех пор, как появилась Рона, мы стали работать гораздо меньше. Плохо то, что Рона и на этот раз, по обыкновению, хотела платить за все, а это было уже слишком. Я сразу же отказался. Но Уинни и Рона продолжали настаивать. Они все обсудили. Это так просто. Она собиралась снять или построить где-нибудь на лоне природы маленький домик. Ну мог ли я отказаться от этого? Ведь в то время мы оба мечтали написать по роману. А где могли мы найти более идеальные условия для совместной работы? Предложение было действительно слишком заманчивым, чтобы отвергнуть его, тем более что Уинни и Рона так настаивали. Я призадумался. Как часто я мечтал пожить у моря! А теперь… шепните полуголодному писателю с Граб-стрит о поездке в горы или на берег моря летом — и вы увидите, как трудно будет вырвать у него отказ. Это предложение таило в себе безграничную романтическую прелесть. Дальше — больше. В начале весны Уинни объявил мне, что они с Роной, наконец, нашли островок недалеко от берега в Коннектикуте, близ восточной оконечности Фишер-Айленда. Истина заключалась, конечно, в том, что Рона, которой он подсказал подобную мысль, сама отыскала этот маленький островок, принадлежащий одному миллионеру, владельцу хлопчатобумажных фабрик, и взяла его в аренду на несколько лет. По словам Уинни, они с Роной уже заключили договор с местным подрядчиком на постройку маленького домика, причем Уинни немедленно описал мне все подробнейшим образом, чтобы получить мое одобрение. Наконец несколько недель спустя, в один прекрасный день он явился и сообщил мне, что дом уже построен, все готово и мы оба можем туда переселиться. Рона сможет приезжать к нам лишь раз в две или три недели на субботу и воскресенье. Остальное время мы будем там вдвоем. «Вот увидишь, — уверял он меня, — там великолепно! Эдем! Рай земной! Нет, подожди! Мы сможем гулять, кататься на лодке, работать, мечтать, лежать в гамаке или сидеть в удобном кресле и глядеть на проходящие мимо корабли. Ого-го! А чайки-то! А маленькие парусники! А легкий прохладный ветерок! А великолепные виды! И не вздумай отказываться. Это было бы просто глупо — не поехать в такое место». И все-таки меня мучили сомнения. Я относился к этому критически прежде всего потому, что тут был явный привкус паразитизма. Как могли мы — и он, и я, и моя жена — так легко принять приглашение Роны, не имея возможности хоть в какой-то мере отплатить за него? Мало того: ведь Рона не любила меня, и мы с ним оба знали это. Да и как могла она меня любить, ведь я был ее соперником, я оспаривал у нее привязанность Уинни! Да разве она не приготовила этот уютный уголок для себя и для него? Это все добром не кончится. Тем не менее Уинни твердил, что я совершенно не прав. Рона относится ко мне очень хорошо. Правда, она ревнует его ко мне, но это пройдет. Время сгладит все шероховатости. Она поймет, наконец, что мы необходимы друг другу, что врозь мы не можем работать. Нам нужно держаться более тактично, и мы это оба сделаем, он и я. И вот, когда все было устроено, я в конце концов отправился туда; Рона не могла приехать раньше, чем через три недели, моя жена тоже (ее задержала поездка на Запад). Я попал в настоящую страну чудес — синее море, чайки, паруса, корабли, все удобства и даже роскошь, какие только можно найти в маленьком домике на острове: плетеные стулья, деревянные качели между скал, гребная шлюпка, четырнадцатифутовая парусная яхта и прелестный песчаный пляж с подветренной стороны острова, где можно было купаться. А на другой стороне, в какой-нибудь миле или двух от нашего порога, по проливу шли океанские пароходы и другие суда. Бывали дни и ночи, когда во время шторма волны свирепо вгрызались в скалы, грохотали и гремели под самым нашим окном. Пасмурные, туманные ночи, когда этот пустынный, крохотный островок лежал как бы окутанный саваном, отделенный от всего остального мира. Слышны были только заунывные колокола бакенов да мрачные сирены береговых маяков — Рейс Рок, маяка на Фишер-Айленде, на Галл-Айленде и Уотч-Хилл. Но как великолепно было море в хорошую погоду — и на рассвете, и на закате, и в полдень! Вода, освещенная солнцем, колебалась, словно в танце, и весело журчала; ветерок ласково гладил волны, наши щеки и волосы; и облака проплывали, как невесомые корабли по прозрачному морю. Только иногда у скал, где теперь играла легкая зыбь, мы находили выброшенный волнами рангоут, или носовую часть, или штурвал с маленького суденышка, разбитого бурей. А однажды на скалах под самым своим окном я увидел целую штурманскую рубку, на которой ясно видно было название судна: «Джесси Хэйл». Но никогда нас не покидало ощущение, что море — опасно, неумолимо и коварно. Оно могло быть тихим, как пруд, но вот проходят какие-нибудь полчаса — и перед тобою яростный и окутанный мраком мир: темные дождевые тучи, туман, дождь, град, огромные валы бешено кидаются на скалы этого крошечного материка и наносят ему могучие удары, швыряя пену и соль в наши окна. Иногда, если бы не кустарник, или валун, или сломанное ураганом деревцо, за которое можно было уцепиться, нас совсем унесло бы ветром в открытое море. Сам домик, к счастью, был прочно укреплен тросами, и все же мы не могли отделаться от острого чувства опасности, особенно по ночам, когда бушевал ветер и шумели волны. Что касается Уинни, то он, по-видимому, относился к этому спокойно и даже весело и с восторгом вспоминал острова Греции, мореплавателей и героев древности. Как это ни удивительно, я никогда не чувствовал себя вполне счастливым на этом островке, я даже не был спокоен и доволен собой, хотя и проводил много времени с Уинни и на море. Ведь та, кому все это по-настоящему принадлежало, оставалась в своем бюро, в Нью-Йорке или в душном доме в Джерси-Сити. А почему я здесь? Потому что этого хочет Уинни, а не она. Потому что он хочет работать со мною и радуется, что я соглашаюсь работать с ним, хотя платит за все она. Все это было так неприятно! Я понимал, что она могла думать обо мне в Нью-Йорке. Я просто физически воспринимал ее мысли. А когда я говорил об этом Уинни или хотя бы пытался заговорить, он только отмахивался. По его словам, я просто не знал Рону: она такая добрая, великодушная, самоотверженная! А кроме того, ведь они оба и раньше мне объясняли, что работа не дает ей сейчас возможности уехать из города, — это чистая правда. Тем не менее в иные часы он сочинял и затем отправлял ей длиннейшие послания. Наконец наступил день, когда кое-что из намеченной нами работы было закончено, и мы пригласили Рону и мою жену приехать на остров. Но поверите ли, Рона все еще была робкой и неуверенной в себе. В первый раз она приехала только на субботу и воскресенье и объяснила, что дела заставляют ее вернуться в город. Но через неделю или полторы, окрыленная успехом первого приезда, когда все прошло довольно мило, она уже приехала на две недели и задержалась на целых три. Однако во время второго приезда у всех нас возникло какое-то неуловимое ощущение неловкости, принужденности — ощущение смутное, неясное, и, однако, мы не могли от него отделаться. И все потому, как я понял впоследствии, что где-то глубоко в основе наших отношений скрывались ложь и самообман, — это отражалось на всех нас, и этого нельзя было исправить или хотя бы отчасти изменить, так как слишком различны были наши характеры и желания. Впрочем, внешне все было хорошо, и, глядя на нас, всякий сказал бы, что тут собралась дружная и веселая компания. День за днем мы купались, ловили рыбу, катались на лодке, мечтали и фантазировали. Разговоры, споры, смех, приготовление еды и уборка посуды, планы прогулок и поездок, удачи и злоключения. Быть может, наиболее явно портил все сомнительный, хотя и подчеркнутый платонизм в отношениях между Уинни и Роной: предполагалось, что никакой иной близости, кроме задушевнейшей дружбы, между ними нет, да и не может быть — разве что они когда-нибудь поженятся. Однако иногда эта платоническая дружба казалась мне лишь довольно прозрачной ширмой, прикрывающей более интимную близость. Ну и что ж из того, думал я. Хоть Рона и ревновала Уинни ко мне, я искренне радовался, видя их вместе, глядя, как они держатся за руки, как он целует ее, как она кладет голову ему на колени и он играет ее волосами. Однако при этом в Уинни совершенно не заметно было той пылкости и, главное, стремления остаться с нею наедине, которое вернее всего свидетельствует о подлинной страсти. Нет, этого не было. Уинни не так уж хотелось оставаться вдвоем с Роной. Если ему представлялся удобный случай пойти куда-нибудь с нею, Уинни почти всегда настаивал, чтобы с ними пошли и мы с женой — особенно я. А Рона — явно ради него — тоже настаивала на этом. В конце концов я почувствовал, что он просто пренебрегает ею. Чего ради он старается, чтобы я всегда был вместе с ними? Почему он не хочет уделить ей больше внимания или уж совсем расстаться с нею? В этом была какая-то жестокость. Может быть, именно поэтому я вдруг обнаружил, что Рона нравится мне больше, чем прежде. Иногда она уж слишком настойчива в том или ином вопросе, думал я; немного рисуется и по временам слишком подчеркивает свое богатство и щедрость, столь резко контрастирующие с нашими скудными средствами. Впрочем, что из того? Конечно, бывали минуты, когда меня раздражала ее способность уж слишком энергично и деловито разрешать всякие материальные затруднения. Она заставляла нас поступать так или иначе. Принимать от нее то одно, то другое. Хочется нам где-нибудь побывать, поехать куда-нибудь? Раз-два! Она тут же вызывает Лору Тренч, свою помощницу, которая неотлучно находилась при ней, точно верный Ахат в женском облике или неотступная тень, и даже жила у нее; этой Лоре Тренч отдавались соответствующие распоряжения и указания, и все, чего бы мы ни пожелали, исполнялось. Я часто думал, что было бы приятнее довольствоваться меньшими благами, но зато оставаться свободным. Но Рона каждую минуту была готова проявить щедрость и великодушие. Она отлично умела все предвидеть и рассчитать заранее, поэтому все шло очень гладко и приятно. Стоило ей приказать — и сейчас же на сцену появлялись корзины с едой, серебряные ложки и вилки, ножи, блюда, кофейный или чайный прибор; всем этим ведала упомянутая Лора, у которой был лишь один недостаток: ее никак нельзя было назвать приятным спутником или товарищем. В то время я часто думал, что таков уж характер Роны и ее взгляды на жизнь: ей просто необходимо о ком-нибудь заботиться, кого-нибудь опекать, это подлинно широкая и отзывчивая натура. Но мне ли судить ее? Поэтому я иногда невольно жалел ее. Я чувствовал, что она и сама не может понять, как попала в такое нелепое, неестественное положение. На каком основании я отнимаю у Уинни столько времени, которое он мог бы проводить с нею? Почему я не уеду и не оставлю Уинни в покое? Не будь я внутренне связан, я бы, конечно, так и поступил, но пока что я был не более свободен в выборе, чем Рона. В этом жалком и глупом положении я оставался так долго только потому, что хорошо знал: я нужен Уинни не меньше, чем он нужен мне, не меньше, чем ему нужна Рона, даже больше. Я знал, что именно в нашем сотрудничестве, а не в ней, спасение для его ума и таланта. Боюсь, что и она понимала это. Но для нее, как и для меня, он был воплощением света и веселья — обаятельный, жизнерадостный, он спасал нас от свойственных, видимо, не только мне, но и ей мрачности и уныния. Однако в эти дни внешне Рона была со мной неизменно мила и приветлива. А Уинни всегда оставался самим собой — яркий, своеобразный, настоящий поэт и мечтатель, он увлекал нас в область красоты и мысли. Быть рядом с ним — значило носиться по сверкающему океану фантазии. Его душа, подобно крылатому гению фантазии, словно порхала вокруг всего прекрасного и обаятельного и старалась избегать и не замечать всего темного и печального. И, однако, несмотря на все это, или, вернее, именно поэтому, Уинни, строивший такие великолепные планы и обещавший, что мы будем здесь много работать, теперь и слышать не хотел о работе. Как, писать здесь, сейчас? «Ах, оставь, пожалуйста. Не будем слишком торопиться. Нельзя создать шедевр, пока не пришло подлинное вдохновение. Давай-ка еще немного поразмыслим. Еще не все откристаллизовалось в нашем сознании». И с этими словами он отгонял от себя творческую энергию и решимость, овладевшую было им или мною, и взамен отдавался тому dolce far niente[42], которое, по правде говоря, и являлось его излюбленным занятием. И вот, прожив там вместе с ним больше месяца, — теперь я вижу, что это было драгоценное время, хоть и потраченное даром, — я пришел к убеждению, что уже нельзя заставить его подолгу над чем-нибудь работать. Он предпочитал валяться на песке, или в гамаке, или растянуться в тени на скале и мечтать и грезить, любуясь морским простором. А я, наблюдая за ним, готов был думать, что лучше бы сама природа, или жизнь, или еще что-то избавило его от необходимости трудиться, и тогда ему довольно было бы одной Роны. С другой стороны, когда Рона была около него, я не всегда так чувствовал. Ведь ей совершенно не была свойственна характерная для него влюбленность в красоту. Наоборот, для Роны, мне кажется, вся красота мира была заключена в нем, и только в нем. Благодаря ему она узнала счастье, но счастье это было мучительно. Ныне ты вознес меня в рай! Но как он мог удержать ее там? Стоит ему отпустить ее руку, и она оступится и полетит вниз на землю из этих хрустальных чертогов. Я был уверен в этом. Вот откуда голод, безмерная тоска в ее глазах, отчаянное, безнадежное стремление к нему. Я прекрасно понимал, к чему это может привести. И я думаю, она смутно сознавала, что я понимаю все, и ненавидела меня за это. Я был для нее вечной угрозой, змеей, притаившейся в траве, Мефистофелем, насмешливо поглядывающим из-за цветущих и душистых виноградных лоз. Некоторое время спустя у нас с Уинни произошел разговор, во время которого я пытался внушить ему, как это все недостойно и некрасиво. Мы не работаем. Почему бы мне не уехать? Но нет, он не хотел и слышать об этом. Как, я собираюсь покинуть его? Неблагородно! Несправедливо! «Боже мой, — воскликнул я однажды про себя, — до чего все запуталось!» Какая досада, ведь все было так хорошо — и оборвалось так скоро, может быть, навсегда! И вот я остался, и на моих глазах менялось его отношение к Роне. Он становился все более беспокойным, резким, нетерпеливым и явно уже не был счастлив и доволен, как прежде. Однажды я увидел, как Рона плакала, — она была одна и думала, что поблизости никого нет. Причиной была морская прогулка. Мы часто выходили в море на лодке под парусами; Рона плохо переносила качку и не раз говорила, что предпочитает оставаться на берегу. Но Уинни не оставлял ее в покое. Напротив, именно тогда, когда разыгрывался свежий ветер и волны бились в борта и швыряли нашу маленькую лодку во все стороны, Уинни бросал свое место у руля и требовал, чтобы Рона сама управляла лодкой. Но к каким печальным результатам это приводило! Рона всегда тщательно следила за своей наружностью, и если ветру случалось растрепать ей волосы или у нее оказывались в беспорядке шарф, юбка, чулки, она вдруг начинала заниматься своим туалетом и отпускала руль. И тогда беспомощная лодка оказывалась во власти волн, кренилась на борт или зарывалась носом в воду, и нам всем угрожала опасность перевернуться и утонуть. Уинни приходил в ярость! — Рона, да что же вы делаете? Что я вам говорил? Вы не должны отпускать ни руль, ни шкоты. Здесь не место поправлять прическу. Что, вы не можете подождать, пока мы причалим к берегу или пока я возьму руль? К моему удивлению, в голосе его звучали теперь металлические нотки строгого и раздраженного наставника. Он, по-видимому, совершенно не обращал внимания на то, как очаровательно выглядит в такие минуты Рона. Я вспоминаю летний вечер, когда мы плыли к острову Бадж, находившемуся в миле с небольшим от нашего островка. Мы шли на четырнадцатифутовой парусной яхте, которая была нашим единственным средством сообщения, помимо гребной шлюпки. Треугольный парус стремился выскользнуть из своих гнезд, а руль был привешен не очень точно. Мимо нас неслись и пенились гребни волн, и нос яхты высоко поднимался в воздух. Рона, как обычно, захватила с собою весь свой набор туалетных принадлежностей и сумочку, которая была прикреплена к поясу золотой цепочкой. Уинни все время донимал ее упреками, спрашивал, как она будет править и почему не оставила дома всю эту дребедень. Она отвечала, что сожалеет об этом, но постарается быть осторожной. И она действительно была осторожна, пока яхта неслась мимо скалистой оконечности острова и выходила в пролив с такой быстротой, что у нас звенело в ушах. Ветер стремительно гнал по небу огромные облака. Потом мы заговорили о чем-то, и вскоре Рона забыла о парусе. Она занялась своими безделушками и слишком сильно натянула шкот. Яхта резко изменила курс. — Рона! — сердито крикнул Уинни. — Следите за тем, что вы делаете. Рона, испуганная его окриком, вместо того чтобы исправить свою ошибку, слишком сильно дернула шкот, ветер наполнил парус сзади, и неожиданно повернувшийся гик пронесся над нами; мы едва успели нагнуть головы. Шкоты вырвались у Роны из рук, и яхта стала бортом к волне; огромный вал подхватил нас, а следом вздымался новый вал. «Очень мило, — подумал я, — если дальше пойдет в том же духе, то все мы скоро очутимся в воде». И все же мне было жаль Рону. Она и сама заметно огорчилась. Изо всех сил она потянула за шкот, а именно этого и не следовало делать. Парус захлопал у самого носа яхты, она сильно накренилась и закачалась. Я сидел впереди всех и теперь пытался дотянуться до паруса и исправить дело; Уинни схватил весло и усиленно работал им, выравнивая яхту, пока я, наконец, не поймал парус. Когда шкот снова очутился в руках у Уинни, он обрушился на Рону. — Сумасшедшая! — яростно зашипел он. — Когда вы научитесь управлять яхтой? Рона вся вспыхнула, глаза ее засверкали. — Я не хочу, чтобы вы говорили со мною таким тоном, — сказала она. Затем тише, но очень решительно добавила: — Тогда правьте сами. — Видимо, она была глубоко оскорблена. — Нет! — настаивал Уинни. В его голосе появились визгливые нотки. — Или вы научитесь, наконец, управлять яхтой, или я вас больше никогда с собой не возьму! «Ого, — подумал я, — сильно сказано! Как будто все здесь — и яхта, и домик, и остров, и сама Рона — его собственность!» Но, поймав ее растерянный взгляд, я отвернулся, а она, закусив губу, снова попыталась взяться за управление яхтой. Но и на этот раз — теперь уже просто от волнения — она замешкалась и, одной рукой держа шкот, другой старалась разложить у себя на коленях свои любимые безделушки, чтобы не растерять их. При этом опять на какую-то долю секунды шкот натянулся сильнее, чем следует, и руль снова перестал ей повиноваться. Уинни пришел в ярость; дотянувшись до Роны, он схватил ее за руку, вырвал у нее все эти вещицы — кошелек, коробочку с красками и помадой, карандаш для бровей, маленькую записную книжку с золотым карандашиком, какие-то позолоченные флакончики — и швырнул все это за борт, причем Рона даже и не пыталась протестовать. Едва мы пристали к берегу, Рона быстро пошла прочь; она была бледна как полотно. Надо отдать справедливость Уинни, он почти сразу же догнал ее, и вскоре мир был восстановлен. Слезы ее высохли, и обычная улыбка вновь заиграла на губах. А потом, в полночь, когда он самым поэтическим образом разостлал на скале свой соломенный матрац, Рона подошла и устроилась по соседству, притащив с собою изящное шелковое одеяльце. Она была рядом с ним и, поверьте, чувствовала себя счастливой — или почти счастливой. То же самое происходило и во время рыбной ловли. Рона делала вид, что ей нравится ловить рыбу. Но трепетанье пойманной рыбы, необходимость насаживать приманку на крючок, а потом, пачкая руки в крови, извлекать его из рыбьей глотки — ко всему этому она испытывала непреодолимое отвращение. Иногда я просто поражался тому, как упорно она притворялась, что ей все это доставляет удовольствие, но радость быть рядом с Уинни вознаграждала ее за все. Однако в целом атмосфера постепенно становилась не только неприятной, но прямо гнетущей. Во всем этом не осталось и следа той красоты, ради которой мы сюда приехали. Поэтому теперь, видя, как переменился Уинни и как Рона от этого страдает, я решил уехать. Что толку оставаться? Жизнь здесь не приносит мне внутреннего удовлетворения. Не испытывают его и Уинни, и Рона. Да и работа наша не двигается с места. И вот, не слушая их возражений, я подыскал благовидный предлог и возвратился в Нью-Йорк. Но невеселые мысли одолевали меня. Разумеется, Уинни, у которого совсем нет денег, пока что не расстанется с Роной, как бы он ни был ею недоволен. А она, как бы ни была недовольна тем, что я с ним (когда думает о себе), или тем, что я уезжаю (когда думает об Уинни; притом, огорченный, он, пожалуй, станет хуже относиться к ней!), все равно сама ничего не предпримет, если Уинни этого не пожелает или своим поведением не вынудит ее решиться на какой-то шаг. Короче говоря, возникло совершенно ненормальное положение, и его нельзя было ни облегчить, ни разрешить с помощью доброй воли кого-либо из нас или всех вместе, как бы мы себя ни вели. И вот всему этому пришел конец. Уинни объявил, что он намерен вернуться в Нью-Йорк вместе с Роной. Наши планы остаются в силе, нас ждет совместная работа. И она должна быть выполнена. Но она так и осталась невыполненной. Правда, Уинни несколько раз давал о себе знать. Может быть, я вернусь? Он и Рона хотят повидать меня. Но я не вернулся. Мне нужно выехать из Нью-Йорка по заданию редакции — так я объяснил свой отказ. Уинни, должно быть, обиделся, хотя я в этом не уверен; но, решив, по-видимому, всецело посвятить себя Роне, он совсем перестал писать, и я ничего не знал о нем до поздней осени, когда он явился ко мне и сообщил, что они с Роной поженились. Он все обдумал и решил, что иначе поступить не может. Жена дала ему развод, — как я потом узнал, при посредничестве Роны, которая ездила на Запад, чтобы повидаться с нею. Была улажена и материальная сторона, конечно, с помощью той же Роны. Теперь они поселились в Джерси-Сити, в старом доме, где издавна жила семья Роны. Оба они будут рады видеть меня у себя (услышав это, я с трудом удержался от улыбки). И между нами все будет по-прежнему, — так я должен был понять его. Мы ведь собирались вместе работать над нашими романами: каждый над своим, но помогая друг другу. Кроме того, он больше не будет беспокоиться о деньгах. Он намекнул, что, если я только пожелаю, мне тоже не придется больше беспокоиться об этом, по крайней мере пока я буду писать свой роман. Но, будучи щепетилен в таких делах и вдобавок сомневаясь в том, насколько хорошо относится ко мне Рона, я отказался. Кстати, побывав несколько раз у них в доме, я убедился в своей правоте. Внешне Рона была по-прежнему дружелюбна и настойчиво поддерживала просьбы Уинни, но за ее веселой улыбкой скрывалась тревога: видимо, она считала, что мое возвращение не обещает ей ничего хорошего. Как бы Уинни не охладел к ней. И зачем это нужно, чтобы я бывал у них? Зачем Уинни настаивает на том, чтобы я был здесь третьим, разве ему недостаточно ее общества? Рона никак не обнаруживала свое настроение, я только ощущал его, но не подавал виду, напротив — притворялся, что во всем согласен с ними. И в то же время я думал — как странно, что именно недостаточно пылкое чувство Уинни к жене в конечном счете отдалило нас друг от друга: если не внутренне, то внешне мы стали почти как чужие. Навряд ли придется нам снова работать вместе. Ей это не нравится, и она постарается этого избежать. Все же еще некоторое время и Уинни, и я нет-нет да и пытались восстановить наше творческое содружество. Бывали дни, когда он приезжал ко мне или я к нему. Но снова и снова я чувствовал, что Рона относится к этому со страхом и враждебностью. Я хочу отнять его у нее. Только я один и омрачаю их супружеское счастье. Но в действительности все было гораздо хуже, и она сама это понимала. Дело было не во мне, а в Уинни или в самой жизни. И тут Рона не могла ничего изменить. Ибо, как я начинал понимать, таков уж был характер Уинни, что при всем своем обаянии, при умении ярко и красочно рассуждать он нуждался в какой-то кристаллизующей или движущей силе, которая помогла бы слить его многообразные порывы в законченное литературное произведение. И к тому же, чем больше я работал вместе с ним, тем больше убеждался, что гораздо лучше смогу работать один. Теперь я уже понимал, что он слишком большой фантазер, слишком рассеян и неустойчив. Он не мог, да и не хотел сосредоточиться на своей работе. И раз Рона все равно никогда не будет хорошо относиться ко мне, чего ради я стану беспокоиться? Он создал себе собственный мир. Рона уладила все его материальные затруднения, и я, в сущности, ему совершенно не нужен. И вот в конце концов, поняв мое настроение, он, видимо, решил идти своей дорогой. Затем последовало несколько месяцев молчания. Мне даже становилось грустно, когда я думал, что наша яркая дружба оборвалась навсегда. Хорошие были времена! Какой я был идеалист, каким значительным и важным казалось мне все, связанное с нашей дружбой! А потом я случайно встретил на одной из нью-йоркских улиц Лору Тренч — секретаршу и помощницу Роны, ту самую, что сопровождала нас в загородных поездках. Я с интересом выслушал ее рассказ о том, как изменилось отношение Роны к ее любимому делу, в котором она прежде проявляла столько энергии, находчивости и рвения. Рона и Уинни поженились, это верно, — рассказывала секретарша. И Рона очень довольна и счастлива, даже и теперь, наверно, будет счастлива и впредь, лишь бы Уинни вел себя разумно. Но вот в чем загвоздка: он слишком непрактичен, все время подбивает Рону на разные авантюры, которые, кроме вреда, ничего ей не приносят. Вот, например, несмотря на возражения ее матери, Рона уже потратила огромные деньги на переделку их старого дома в Джерси-Сити и на устройство рабочего кабинета для Уинни. Остров им тоже надоел, — впрочем, Роне там никогда не нравилось, — и теперь они обзавелись домиком в горах Кэтскил и по временам отправляются туда. Мало того, они еще задумали расширить и улучшить там свой участок, потому что он не вполне отвечает вкусам Уинни. — Но как же это они вдруг решили пожениться? — спросил я. — Я-то думал, что они просто добрые друзья. — Добрые друзья, как бы не так! — отвечала моя собеседница, подавляя вздох. — Он, может быть, и считал себя просто добрым другом. Но Рона смотрела на это иначе. Она с самого начала была влюблена в него, а теперь ее прямо не узнать. Никогда бы я не поверила, что женщина может так перемениться. Да еще такая самостоятельная и сильная женщина! Рона совсем помешалась на нем, и он помыкает ею, как рабыней. Она ни в чем не может ему отказать. Если бы только мать ей позволила, она продала бы дом в Джерси-Сити и уехала оттуда, потому что Уинни там не нравится. — Но… любовь… вы же понимаете, — вставил я. — Да, да, любовь. Конечно, любовь! — продолжала Лора. — Бывало, каждый день с самого утра и до позднего вечера Рона в бюро, а с тех пор как они поженились, она ни разу не приходила раньше десяти, да и то готова бросить все и бежать, едва он ее позовет. О себе-то я не беспокоюсь, у меня всегда будет работа. Но если бы не я и еще некоторые девушки, которые давно у нее работают, право, не знаю, что было бы теперь с бюро. Знаете, после того, как вы уехали с острова, она оставалась там еще целых полтора месяца, и все вопросы решались у нас по телеграфу, да я ездила туда на субботу и воскресенье, чтобы поговорить о делах. А теперь Уинни подбивает ее вложить деньги в ферму в Ньюарке, — он, видите ли, воображает, что разбирается в сельском хозяйстве. В словах моей собеседницы звучала обида, — наверно, Уинни держался с нею как хозяин, как диктатор. Но меня больше заинтересовала нарисованная ею картина теперешней жизни Роны. Прежде, до знакомства с Уинни, Рона была всецело погружена в деловые интересы и заботилась только о своем бюро. А теперь она почти все время занимается разными литературными делами. Когда-то бюро было для нее всем, а теперь, выйдя замуж, она мечтает отделаться от него, чтобы посвятить себя книгам. Каждый вечер, рассказывала Лора, с девяти часов и до полуночи, а иногда и позже, Рона слушает, как Уинни читает вслух, или же сама что-нибудь ему читает, или стенографирует, если ему вздумается диктовать ей свои рассказы, а чаще главы из романа, над которыми, объяснила Лора, он все еще пытается работать. И подумать только, что он работает над этим своим первым романом, может быть, заканчивает его, в то время как я со своим романом, попросту говоря, топчусь на месте! Эх! Из дальнейших объяснений Лоры я понял, что дела ее начальницы идут неважно: некоторые крупные заказы, прежде поступавшие к ней и сохранявшиеся за нею, потому что она сама об этом заботилась и тщательно следила за их выполнением, теперь попадают в руки конкурентов. Короче говоря, ее предприятие уже совсем не то, что было. Только за это лето пришлось уволить нескольких машинисток. И все-таки Рона ни на что не обращает внимания и говорит, что сейчас главное и основное — это роман Уинни, а остальные дела могут подождать. Все это меня изумляло. Больше я ничего не слышал об Уинни и Роне до конца февраля следующего года, когда сам Уинни приехал ко мне и привез рукопись своего незаконченного романа, — он написал примерно две трети. Он сказал, что всю зиму упорно работал, но так и не смог довести дело до конца. К тому же, напрямик заявил он (нельзя было не любить его за эту простоту и откровенность, за полное отсутствие литературных претензий), он боится, что отдельные места написаны без вдохновения. Не прочту ли я рукопись? Он хотел бы посоветоваться со мной. Потом, узнав, что я тоже все еще работаю над романом, он стал упрашивать меня показать ему написанное. Он прочтет и честно выскажет свое мнение. Мы могли бы, просто обязаны, как он выразился, поработать над этими вещами вместе. Почему бы и нет? Мы же всегда были самыми близкими друзьями. Но я вспомнил, как относилась Рона к моему предполагаемому влиянию на Уинни; это отношение, вероятно, не изменилось, вот почему я колебался и прямо сказал ему об этом. Тогда Уинни объявил, что раз этот узел все равно не распутать (Рона и в самом деле немного ревнует его ко мне, и наша привязанность друг к другу ей не очень нравится), то не лучше ли просто не обращать на это внимания? Разве наша работа не важнее всего? В эту минуту я понял — да и все время понимал, — что Уинни по-прежнему дорог мне и всегда будет дорог. В наших отношениях было что-то, стоявшее выше всех наших собственных и чужих ошибок, настроений и капризов. Мы могли и должны были работать вместе. Итак, еще одна попытка, благодаря которой появились в конце концов два романа: сперва мой, потом его. Но для этого потребовалось, чтобы он приезжал ко мне тайком, в дневные часы. И все же он по-прежнему старался доказать мне, что нет на свете женщины более отзывчивой и преданной, чем Рона: она исполнена добрых намерений, готова на все, лишь бы оказаться по-настоящему полезной ему в литературных трудах. Она обладает не только практическим опытом, но и воображением, только, к сожалению, недостаточно близка ему по духу. Печально, но факт. Рона не умеет по-настоящему вдохновлять его, она ни разу не подсказала ему те нюансы и оттенки, которые совершенно необходимы в его работе. Зато в менее важных вещах она прекрасная помощница: перепечатывает все, что надо, на машинке, пишет под диктовку и тому подобное. Помимо того, он слишком привязан к ней, слишком благодарен за все, что она сделала и делает для него, чтобы обращать внимание на отдельные ее недостатки. Она такая щедрая, любящая, милая… Разве я сам этого не знаю? Однако весной планы его переменились, еще ни одна из законченных книг не успела выйти в свет, а он отправился в горы, в домик, выстроенный для него Роной: какие-то новые переделки требовали его присутствия. Отчего бы и мне не поехать туда? Как будто он сам не знал отчего!.. Но в это время мои денежные и литературные дела изменились, и мне пришлось уехать на Запад, а потом на Юг. Более того, запрещение, наложенное на мой роман, и жестокая критика, которой он подвергся в печати, поставили меня в такие тяжелые моральные и материальные условия, что некоторое время я был не в состоянии взяться за какую-нибудь серьезную работу. А между тем Уинни, завязавший новые знакомства, понемногу совсем отдалился от меня. Довольно долго я не получал от него вестей и, угнетенный, почти больной, тосковал об ушедших светлых днях. Еще позже, когда он написал и напечатал несколько новых книг, мнедовелось слышать о Роне, как о жене писателя, подающего большие надежды, и о том, что она, тяготясь своим машинописным бюро, полностью передала его другому лицу. Этим лицом оказалась Лора, которая решила сохранить долю Роны в предприятии, оставив за ней несколько паев. Кроме того, мне сообщили, что после всех литературных успехов Уинни, он и Рона переселились в свой домик в горах если не навсегда, то по крайней мере на некоторое время и что Уинни уже работает над новой книгой — три книги одна за другой! А я что делаю? — спрашивал я себя. — Плыву по течению? Стало быть, я неудачник? Что касается книг Уинни, то первый роман был, по-моему, довольно интересный, написанный в реалистической манере, но, насколько я понимаю, совершенно не в его духе: чрезмерный, подчеркнутый реализм только разрушал целостность впечатления. Уинни не умел видеть жизнь такой, как она есть. Следующим его произведением было красочное (но для меня, хорошо знавшего Уинни, явно романтизированное) описание его самого в роли фермера, вернее, джентльмена-земледельца, причем удачливого и энергичного фермера и джентльмена-земледельца, которому его тридцать — сорок акров, расположенные в горах, приносят недурной доход. Но слишком много было здесь неопределенного, слишком часто автор, сам того не желая, намекал на ошибки и неудачи своего героя, и от этого вся книга становилась неискренней, неправдивой. Это заставило меня задуматься. Третьей книгой была яркая, но романтически приукрашенная повесть о самом себе, о его жизни в городе, в семье Роны; здесь было много подробностей, мне известных, но тон такой преувеличенно хвалебный и восторженный, что цена этой книге, как правдивому художественному произведению, была невелика. Только одно заинтересовало меня во всех книгах: восторженно и с большим изяществом написанный портрет Роны — жены и верной помощницы как в творческой работе, так и в практических делах; этот портрет, как я чувствовал, должен был очень польстить Роне. Уинни неизменно рисовал ее женщиной доброй, умной, терпеливой и нежной, вдумчивым критиком, умеющим дать дельный совет. Вполне возможно, что так оно и было. Но счастливы ли они по-настоящему? — думал я. Мне как-то не верилось. И все же я готов был поверить, что безграничная щедрость Роны могла в конце концов изменить его отношение к ней. Примерно через год я вернулся в Нью-Йорк и снова встретился с Роной, а потом и с Лорой Тренч. С Роной я говорил всего несколько минут; вид у нее, как всегда, был цветущий, но при этом она казалась неспокойной и озабоченной. Они с Уинни, торопливо рассказала Рона, по-прежнему проводят лето в горах, а зиму в Нью-Йорке. На остров они наведываются очень редко. Мать ее умерла, дом в Джерси-Сити продан, старая тетушка поселилась у дальних родственников. Они с Уинни задумали совершить поездку по Новой Англии. Но когда вернутся, я обязательно должен побывать у них. Она скажет Уинни, и он напишет мне — когда именно. Потом она ушла. Но во время этого разговора я почувствовал, что в Роне по-прежнему сильно беспокойное, напряженное недоверие, с которым она относилась ко мне с самого начала. Следующей осенью, так и не получив ни слова ни от Роны, ни от Уинни, я случайно встретился с Лорой и тут же узнал все новости. Рона и Уинни вернулись в свою городскую квартиру: Сентрал-Парк Уэст, ни больше, ни меньше! Лора довольно часто виделась с ними в связи с делами переданного ей бюро. Именно она помогала им устраиваться сперва в горах, а потом на новой городской квартире, она и до сих пор многое делает для них. Но роль доброго вестника плохо подходила Лоре, она все видела в самом черном свете. Уинни — джентльмен-фермер? О боже! Рона — счастливая жена? Ах, какая чушь! И что говорить о творческой индивидуальности Уинни! Это надо видеть и слышать!.. А как терпеливо и даже смиренно переносит Рона его претензии и капризы! Короче говоря, по словам Лоры, Уинни был наихудшим экземпляром фермера-джентльмена, какой она когда-либо встречала. Если верить ей (а эта молодая женщина всегда недолюбливала его, но была очень предана Роне), Уинни был самый «зеленый» и в то же время самый рьяный, упрямый, несговорчивый и самоуверенный фермер из всех фермеров-джентльменов! И вот, донельзя избалованный Роной, которая во всем ему потакает, он вздумал устроить свой собственный земной рай, который приносил бы доход, и хороший доход! Только дохода почему-то не было! А сколько нелепостей он при этом затевал, как командовал Роной! Прямо удивительно, что она еще жива и здорова. Во-первых, ферму или поместье — как хотите, так и зовите — нужно было привести в образцовый порядок, который обошелся очень дорого. Рона только и знала, что платить по счетам: инвентарь, скот, служебные постройки — то одно, то другое, и все это ради земельного участка довольно сомнительного качества, за который с самого начала заплатили дороже, чем следовало! А потом все эти соседи-фермеры, строители, поставщики! Поняв, что они имеют дело с простофилей, который ничего не смыслит в хозяйстве, они начали сбывать ему всякий хлам и давать вздорные советы. Коттедж, который в то время должен был стоить не больше двух тысяч долларов, тем более что все строительные материалы есть на месте, обошелся им в семь тысяч! Больше тысячи долларов Уинни потратил на орудия и машины, которые ему совершенно не нужны; купив их, он сразу терял к ним всякий интерес, не пытался использовать их по назначению и не проверял, как пользуются ими наемные работники; уйму денег он потратил на покупку скота и о нем тоже совсем не заботился. А все эти люди, которые работали или делали вид, что работают на него? Одни с помощью местных батраков выкопали колодец и погреб, другие построили теплицу, скотный двор, проложили дорогу, возвели всякие заборы и ограды — и все это было сделано плохо, а главное — все было ни к чему, так как сельским хозяйством он почти не занимался. Его свиней и кур косили болезни и растаскивали воры. Одну из коров покалечили: кто-то напустил на нее собаку. Сам Уинни, пытаясь свалить дерево, подрубил его не с той стороны, так что оно, падая, повредило угол крыши. Так шло четыре года, причем — особенно первое время — Уинни пытался еще и писать, но последние год или два стал жаловаться, что обязанности земледельца мешают ему заниматься литературой. И вперемежку со всем этим — поездки то в Нью-Йорк, то на остров, а однажды даже к брату Уинни; брат обосновался в штате Орегон и занялся там разведением яблоневых садов; глядя на него, Уинни тоже заинтересовался садоводством и, возможно, отправится туда, а ферму бросит на произвол судьбы. «Счастливица Рона! — подумал я. — По крайней мере у тебя есть кто-то, о ком надо постоянно тревожиться, так что некогда думать о тщете бытия!» Однако Лора была очень озабочена судьбой Роны. Ведь, помимо всего, о чем она рассказала, было ясно, что Рона нестерпимо надоела Уинни и что он если не прямо, то косвенно показывает это всеми возможными способами. — Если б я не знала, как она его любит, я бы просто не поверила, что она способна все это терпеть. Кто угодно, но не Рона! У нее самой был всегда слишком властный нрав. К тому же — Лора прекрасно видела это — Уинни заставлял Рону разделять с ним все его увлечения, а они постоянно менялись: то земледелие, то разведение молочного скота, то куроводство или огородничество. И всегда он заставлял ее делить с ним ответственность за неудачи, заранее требуя, чтобы она одобряла все его затеи. И чтобы все не пошло прахом, Роне самой приходилось работать не покладая рук — следить за людьми и делами, которые ее ничуть не интересовали, но которыми кто-то должен был заниматься, раз этого не делал Уинни. А стоило ей выразить недовольство или пожаловаться, как Уинни приходил в ярость, или погружался в угрюмое молчание, или уезжал в Нью-Йорк, а это, по словам Лоры, было для Роны всего мучительнее. Боязнь потерять его — вот что преследовало ее неотступно! Ведь какие ходят слухи! В том же доме, где они снимают квартиру в Нью-Йорке, живет какая-то литературная дама, и Рона ревнует к ней Уинни. Прежде она была актрисой и написала книгу. И вот с этой-то женщиной, ничуть не более интересной, чем Рона, Уинни танцует и ездит по ресторанам. А однажды — и это хуже всего — Рона нашла письмо, которое Уинни написал мне, но забыл отправить; в письме упоминалось о встрече со мной и о совместной работе, — раньше Рона об этом ничего не слышала. И это открытие оказалось для нее самым тяжким ударом. — Хотите — верьте, хотите — нет, — добавила Лора, — но вы больше всего отравляете ей жизнь. Она все еще думает, что вы каким-то образом настраиваете Уинни против нее. Я уверена, ей кажется, что, если б вас не было, он бы лучше относился к ней. Вы ее никогда не любили, говорит она, а всегда внушали ему, что она его недостойна. Я всплеснул руками. Ведь из всего, рассказанного мною, ясно, что я мог оказывать влияние на Уинни не более, чем на движение Сириуса или Нептуна по их орбите. Да я давно уже и не стремился влиять на него. Все это предано забвению. К тому же, объяснил я, надеясь, что это дойдет до Роны, в последний раз ведь не я его разыскал, а он искал встречи со мной. Лора согласилась, что это верно, но поскольку Уинни опять стал неспокоен и всем недоволен, а я снова в городе, Рона по-прежнему боится моего влияния. Тем более что, по словам Лоры, Уинни поговаривает о новой книге, и Рона боится, как бы он не вернулся ко мне или не уехал куда-нибудь с этой молодой актрисой. Надо сказать, что я уже порядком устал от Уинни и его выходок и очень жалел Рону, поэтому я тут же раз и навсегда решил больше не встречаться с Уинни. И я действительно не видел его несколько лет. Но за эти годы, как я понял по рассказам разных людей (в том числе Лоры, брата Уинни — Доналда, преуспевавшего организатора Общества садоводов на северо-западе, а также нескольких общих друзей), во взаимоотношениях Роны и Уинни наступил третий и, как впоследствии оказалось, последний этап. Видимо, в ту пору Уинни почувствовал, что сельскохозяйственные опыты его не удовлетворяют, и вдохновение слишком долго не приходит, и с Роной становится скучно, а как раз в это время на горизонте появился его брат и подал ему новую мысль. Чем Уинни, в сущности говоря, занят? — спросил он. Ничем! А ведь он всегда замечал, что Уинни обладает необычайным даром убеждать людей, может искусно и ловко внушить другому все, что хочет. Так почему бы ему не вступить в это Общество садоводов? Он станет крупным дельцом. (Это, должно быть, сразу воспламенило воображение Уинни.) Он мог бы помочь распродаже огромного количества земельных участков в Орегоне. Стать магнатом. Яблочным магнатом! Тут можно нажить миллионы! Верный себе, Уинни немедленно увлекся великолепием этой затеи и скрытыми в ней возможностями. А может быть, он увидел здесь путь к свободе, к новой, более интересной жизни. Во всяком случае, для них с Роной опять все изменилось. Ибо Уинни сразу решил, что в этом новом смелом предприятии она будет ему очень полезна. Она должна будет претворить в жизнь его финансовую мечту. А Рона, как легко угадать, охотно и даже с радостью согласилась. Ведь если Уинни уедет из Нью-Йорка, может быть, больше не надо будет опасаться всего того, что ей здесь угрожает. Да, конечно, так! И вот они стремительно снялись с места и переехали в Орегон; там построили бунгало и приобрели автомобиль, в котором для них соединялось приятное с полезным, так как разработка и продажа участков требовали постоянных разъездов. Но, как я услышал еще позже, именно Рона, а не Уинни, достигла здесь настоящего успеха. Доналд, брат Уинни, рассказал мне несколько лет спустя, что с самого начала именно Рона превосходно разбиралась в качествах каждого участка, в методах разработки и продажи и во всей технической стороне дела. Но следовало еще убедить некоторых деловых людей на Востоке вложить капиталы в яблоневые сады, и вот для этого нужны были таланты Уинни. Ибо, как однажды сказал мне Доналд, Уинни — это сама убедительность. Теперь ему приходилось часто ездить в Нью-Йорк, чтобы сбыть те или иные участки, в то время как Рона должна была оставаться на Западе, — и это больше всего ее тревожило. Снова ее стала терзать ревность. Ведь там, в Нью-Йорке, живет соперница — литературная дама. И мало ли еще соблазнов в большом городе? А их квартира, где Уинни останавливается, приезжая в Нью-Йорк? Но истина заключалась в том, что любовь, если она и существовала когда-нибудь, уже умерла. Или, во всяком случае, умерло то влияние, которое когда-то деньги Роны оказывали на юнца без гроша за душой. Теперь Уинни общался в Нью-Йорке с людьми более богатыми. Я хорошо знал это потому, что однажды случайно встретил его в кругу людей, обычно проводивших время в Глен-Ков и Ойстер-Бэй. Это был мир больших денег, его олицетворяли биржевики, банкиры и светские бездельники. Далее, как мне самому пришлось убедиться, потому что в те дни я бывал везде и всюду, Уинни уже волочился за молодой и обворожительной богатой вдовушкой, которая только что «открыла» его и считала «просто замечательным». Да он и был во многих отношениях замечателен, особенно когда судьба ему улыбалась. Вновь встретившись со мной, он тут же начал рассказывать о своем новом предприятии. Это превосходное, великолепное дело, вернейший путь к богатству. Может быть, я присоединюсь к нему? Для этого нужно только одно — деньги. Но их-то у меня и не было. «А как Рона?» — спросил я. О, Рона… превосходно… лучше некуда. Совершенно поглощена этим новым, великим начинанием, вкладывает в него всю душу. Все бросила, ради того чтобы поехать туда и действовать, а уж если Рона увлеклась практической стороной какого-нибудь дела, то… я ведь знаю Рону… (Да, я знал Рону. И его я тоже знал.) И не спрашивая, согласен я или нет, — а я и не думал соглашаться, — он заявил, что охотно уступит мне первый этаж своего бунгало, выделит мне десять или пятнадцать акров и постарается подольше не брать с меня арендной платы, а если и возьмет, то какие-нибудь гроши; все будет очень легко и просто, так как скоро доход с участка покроет все издержки. Однако, памятуя о Роне и об ее отношении ко мне, я отказался. Но вернемся к вдовушке. Она была такая молоденькая, подвижная, остроумная, и собою недурна, и характер легкий. Бедная Рона, — подумал я. — Не везет тебе в жизни! Либо я ничего не понимаю в людях, либо эта женщина отберет у тебя твоего Уинни и привяжет его к себе, потому что ее чары сильнее твоих: у нее больше денег, у нее твердое положение в свете, она вхожа в круги, куда Уинни счастлив будет получить доступ. И в самом деле, здесь, на верандах и теннисных кортах различных домов Лонг-Айленда, куда ради полезных связей и знакомств ввела Уинни его новая избранница, Уинни чувствовал себя как рыба в воде, — никогда еще я не видел его таким. В то лето я и сам принимал некоторое участие в его вылазках на Лонг-Айленд. Мне осталось рассказать то немногое, что я узнал впоследствии от брата Уинни. Ко времени моего разговора с Доналдом ни Уинни, ни Рона, видимо, уже никак не были связаны с орегонским предприятием. Точнее говоря, благодаря молодой и очаровательной вдовушке, Уинни давно бросил Рону, которая в конце концов согласилась дать ему развод, и теперь они с прекрасной вдовушкой обретаются то в Глен-Ков, то в Нью-Йорке или Лондоне. Но, как я узнал, из-за этой истории у Доналда с Уинни было немало споров и столкновений. Оказывается, после отъезда Уинни, Доналд решил поехать в Нью-Йорк повидать брата и постараться примирить его с Роной, потому что, как он рассказывал, состояние Роны тогда было ужасное. Она была просто раздавлена. Но Доналд быстро убедился, что юная леди, покорившая Уинни, чрезвычайно красива и симпатична. Кроме того, не без грусти говорил Доналд, может быть, Уинни и нельзя осуждать. Его так влечет к женщинам, и он так легко увлекается — конечно, не всякой, но по-настоящему умной женщиной он вполне может увлечься, так не расстрелять же его за это? Кроме того, хоть он, Доналд, сам и восхищается Роной и сочувствует ей, но, надо признать, не такая она женщина, которая могла бы удержать Уинни. Она и умная и дельная — все что угодно, — но у нее всегда не хватало светского такта, и с Уинни она встретилась, когда он был намного моложе и когда ее деньги значили для него гораздо больше, чем они могут значить теперь. К деньгам Уинни всегда проявлял такое же любопытство, как и к женщинам: ему всегда хотелось узнать, что нового они могут принести ему. И все же ясно, как дважды два, что деньги интересовали Уинни гораздо меньше, чем женщины. А так как сам он не обладал талантом ни «делать деньги», ни беречь их, то к умной и богатой женщине его, вероятнее всего, привлекала мысль о том, что эти деньги могут дать им обоим — ему и женщине, его увлекшей; он хотел быть свободным, ездить, куда захочется, жить и поступать, как хочется, но не один, а вдвоем с этой женщиной, пока они вместе. Ведь когда Уинни уходит от женщины, он не берет ее денег, и гонится он не за чужими деньгами, а за возможностью сделать лучше и радостней свою жизнь и жизнь какой-нибудь другой женщины, которая на этот раз увлекла его и заняла его мысли. Но расскажите же о Роне, пожалуйста! Что с нею? Ах да, Рона. Бедная Рона! Конечно, это печальная история. Ведь по натуре своей она женщина если и не высоконравственная, в строгом смысле этого слова, то все же придерживается общепринятых взглядов и правил поведения, и если не брак, то любовь в ее глазах — священна. И недаром она по происхождению ирландка: она умеет драться за то, что считает своей собственностью или на что, по ее мнению, дают ей право ее способности и сама судьба. Но по той же причине она не умеет переносить поражения. Да, да, ирландцы нередко бывают такими! Хуже того, она была чрезмерно привязана к Уинни, до безумия влюблена в него. Вспоминая все, что произошло, Доналд просто удивляется, как она не покончила с собой. Однажды он уже подумал, что она наложила на себя руки. Но об этом после. Во всяком случае я помню — не правда ли? — те дни, когда Уинни уехал на Восток и встретился с этой м-с… будем называть ее м-с Ангел. Я должен помнить, потому что немного погодя Уинни писал ему, что снова встречается со мной. Так вот, произошло это после того, как Уинни начал охотно и подолгу задерживаться в Нью-Йорке. Рона сразу помрачнела и захандрила, и по ее желанию Уинни ненадолго вернулся в Орегон. Но скоро он снова отпросился в Нью-Йорк, говоря, что он сумел заинтересовать там целый ряд лиц и ему предстоит продать немало участков. Да и сама Рона была в то время довольна его финансовыми успехами. Но потом, проведав о м-с Ангел или просто заподозрив о ее существовании, Рона начала настаивать, чтобы Уинни вернулся в Орегон. Или, если угодно, она бросит свою работу, пусть важную и выгодную, и приедет к нему. Это ее намерение шло вразрез с теми дополнительными обязательствами, которые она взяла на себя для того, чтобы обеспечить себе и Уинни определенные права и преимущества в Обществе садоводов. Но она добилась своего: Уинни вернулся на некоторое время. А потом, естественно, начались споры и ссоры. В частности, из-за какого-то пропавшего письма, которое должно было прибыть к нему на дом, а было доставлено в контору, — Доналд полагал, что письмо было от м-с Ангел. По словам Доналда, подействовало оно так, словно пришло от самого черта. Они были в ссоре целый месяц, Рона даже не показывалась в конторе, а Уинни ходил понурый и рассеянный. Работа валилась у него из рук; он заявил, что Рона хандрит, но как и почему — не стал объяснять. А потом в один прекрасный день он уложил свой чемодан и уехал в Нью-Йорк, видимо, и не думая о Роне, а она отправилась следом за ним. Здесь у них состоялось частичное или временное примирение, и они оба вернулись в Орегон, где и прожили вместе еще несколько месяцев среди яблоневых садов. Потом Уинни уехал в Сан-Франциско по делам Общества. Но это тоже продолжалось недолго. Как говорится, дело не клеилось. Вместо того чтобы в назначенное время вернуться из Сан-Франциско в Орегон, он укатил прямо в Нью-Йорк и уже оттуда отправил Роне письмо, которое, видимо, окончательно убедило ее, что она больше никакими силами не удержит его, и которое тем самым положило конец их жизни на Западе. Одновременно и Доналд получил письмо от Уинни, где тот признавался, что влюблен, что Рона его больше не интересует и что, хотя он согласен быть представителем Общества в Нью-Йорке, но на Запад не вернется и жить с Роной больше не будет. Все это бесполезно. Оба они только страдают. Еще задолго до встречи с м-с Ангел он мечтал о свободе, но он жалел Рону и благодарно помнил все, что она сделала для него, и потому терпел. Но теперь с этим кончено. Ему очень жаль. Может быть, Рона согласится дать ему развод. Она ничего не выиграет, если откажет. Тогда он обойдется без развода. С полгода Рона молчала, рассказывал Доналд, но в конце концов согласилась на развод. И все же какое крушение мечты — для Роны по крайней мере! Когда Уинни скрылся и потом прислал упомянутое письмо, она не заболела и не сошла с ума, но это было для нее тяжким ударом, душевной катастрофой. Ведь, по словам Доналда, съездив в Нью-Йорк и помирившись там с Уинни, Рона вернулась повеселевшая и работала усерднее, чем когда-либо. Но, получив письмо от Уинни, — письмо, о котором Доналд сперва ничего не знал, — она неожиданно и без всяких объяснений совсем забросила свою работу в Обществе и все свои обязанности. Ни слова не сказала даже своим стенографисткам, которым пришлось обратиться за указаниями к Доналду. Он решил навестить ее, но ему никто не открыл и не ответил, дом словно вымер. Пока Доналд сам не получил письмо от Уинни, он думал даже, что Рона уехала в Сан-Франциско. А получив письмо, решил, что она в Нью-Йорке. Но кассир на станции не смог подтвердить его предположений. Да и машина ее стояла по-прежнему в гараже. И только спустя неделю раздался телефонный звонок: Рона звонила из дому, там она и была все время. Да, она заболела. Может быть, он зайдет? Он зашел. Но увидел не прежнюю Рону, а какую-то бледную тень. Да, сказала она, Уинни бросил ее. Между ними все кончено. Теперь она это понимает и не собирается делать новых попыток. Сейчас у нее только одно желание — освободиться от всех дел и обязанностей, какие были у нее в Орегоне. Ее акции, дом и прочее — пусть все это продадут. Она уедет (она даже не хотела сказать — куда). Местный банк возьмет на себя ликвидацию ее имущества. Потом — не меньше, чем на неделю, если я правильно припоминаю рассказ Доналда, — она снова заперлась в своем бунгало, не обменявшись больше ни словом с Доналдом, ни с кем-либо другим, и, наконец, уехала, не простившись, так что Доналд узнал об этом от случайного человека. Но он хочет рассказать еще об одном многозначительном и трогательном случае. На третий или четвертый день ее вторичного затворничества он однажды вечером подошел к двери ее дома и несколько раз постучал; не получив никакого ответа, он некоторое время постоял в раздумье. И вот тут-то, сперва чуть слышно, а потом все более и более отчетливо, до него донесся звук шагов, раздававшихся, как он понял, в спальне на втором этаже. Там были книги Уинни, его письменный стол, бумаги и чемоданы. Стоя у двери, Доналд ясно слышал шаги Роны: так ходила она целыми часами взад и вперед, взад и вперед. Вдоль, а может быть, поперек этой комнаты, где больше не было Уинни. — Ах, эти шаги! — с искренним волнением закончил Доналд. — Никогда я не думал, что звук шагов может быть таким скорбным и полным значения. Точно шаги призрака. Я потом долго не мог простить Уинни, хотя хорошо знаю, что все мы рабы своих страстей, они управляют нами и в них — объяснение наших поступков. Вернемся еще раз к Уинни. Время от времени я встречал его с новой супругой то в одном фешенебельном месте, то в другом. Еще несколько лет кряду он был все так же весел и жизнерадостен. Потом опять что-то случилось, но это уж сюда не относится. Наконец-то, говорил он мне, у него такие условия, как надо, и теперь мы с ним можем многое сделать. Например, писать пьесы. Я улыбнулся про себя, хотя и знал, что одну книгу он мог бы написать. Небольшая часть ее заключена здесь, в этом рассказе. А теперь о Роне. Прошло три года с тех пор, как Уинни ее бросил, и однажды я услышал от Доналда, что она, по слухам, укрылась в каком-то теософском убежище в южной Калифорнии, — в этом своеобразном убежище иной раз ищут спасения от бед и треволнений суетного мира те, кто много претерпел и ищет одиночества (как вы понимаете, не без влияния католической церкви). Позже, спустя семь лет, мне как-то пришлось заглянуть в адресно-справочную книгу по Нью-Йорку. Разыскивая в разделе «Стенография и переписка на машинке» нужное мне имя, я натолкнулся на следующие строки (причем указан был адрес хорошо известного здания, где помещались учреждения и конторы, в районе Уоллстрита):
М-с УИНФИЛД ВЛАСТО. ПЕРЕПИСКА НА МАШИНКЕ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. СТЕНОГРАФИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ, СЪЕЗДОВ И СОВЕЩАНИЙ. ПЕРЕПИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БУМАГ. РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ НА РОТАТОРЕ.Я едва поверил своим глазам. Но сходить по указанному адресу и убедиться, правильно ли я понял объявление, у меня так и не хватило решимости. А почему же нет? В сущности, именно это занятие всегда было ей по душе. Но вернуться к этому через десять лет! И с какими воспоминаниями!
Эрнестина
По-моему, больше всего ее удручала и в конце концов толкнула на роковой шаг мысль о том, что она как-то прошла мимо представлявшихся ей возможностей и что жизнь сама по себе — непонятная игра, которая часто ведется краплеными картами и шулерскими костями. Я уверен, она была несколько смущена и разочарована, поняв, что в избранной ею профессии преуспевают люди, не обладающие ни настоящим талантом, ни умом, ни порядочностью, лишенные всяких моральных устоев, которые так нужны в решающие минуты. И мне кажется, что у нее самой не было тех нравственных сил, которые помогли бы ей устоять в жизни. Возможно также, ей слишком хотелось видеть хорошее в других, и она недостаточно заботилась о том, чтобы сохранить это в себе. Я твердо уверен в том, что жизнь — это просто игра, ведут и выигрывают ее алчные, наглые, развратные, бездушные люди, а пешками для них служат жалкие глупцы, бедняки и простофили, — если б не эта уверенность, я обрушился бы на ее собратий по беззаботной профессии. Поверьте, трудно найти слова, которые были бы для них слишком сильными или слишком оскорбительными — корыстные, жадные, льстивые, беспутные, развращенные, злобные, жестокие… Но стоит ли продолжать? Весь этот список вы найдете сами в словаре Трента и Уокера. А впрочем, разве они хуже тех представителей других профессий, которые благодаря стечению обстоятельств в конце концов достигли высокого положения? Если кого-нибудь или что-нибудь нужно винить в этом, то признаем, что виновата сама жизнь. Но перейдем к нашему рассказу. Впервые я увидел Эрнестину, когда она выходила из станции надземной железной дороги на углу Шестой авеню и Восьмой улицы. Она была молода, на вид не старше девятнадцати лет, и волнующе, неотразимо красива. Ее сопровождал знакомый мне подающий надежды режиссер, из тех, кто начинает с малых форм. Вероятно, он знакомил ее с Гринвич-Вилледжем и был похож на настоящего импресарио. Она казалась совсем юной и неопытной девушкой, которая, точно принцесса, едва удостаивает взглядом предлагаемые ей для осмотра владения. Он представил нас друг другу, и они сейчас же удалились. Но, как ни коротка была наша встреча, я сразу увидел, что это необыкновенная девушка. Уверенность в себе и непринужденность, чувствовавшиеся в каждом ее движении, казалось, не соответствовали томному выражению лица, поражающему с первой минуты. Она была воплощением молодости, радости жизни, поэзии и любви к красоте. Что-то в ней подсказало некоему писателю и издателю, одно время увлекавшемуся ею и посвятившему ей цикл стихов, такие строки:Я никогда не обольщаюсь
Безмерно сладостной мечтой,
Что вы могли бы полюбить
Меня, который вас не любит.
Последние комментарии
3 часов 29 минут назад
4 часов 36 минут назад
5 часов 34 минут назад
5 часов 49 минут назад
14 часов 59 минут назад
15 часов 48 секунд назад